Меридианы карты и души [Сильва Барунаковна Капутикян] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сильва Капутикян МЕРИДИАНЫ КАРТЫ И ДУШИ


 РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Председатель редакционного совета Сергей Баруздин
Первый заместитель председателя Леонид Теракопян Заместитель председателя Александр Руденко-Десняк Ответственный секретарь Елена Мовчан
Члены совета:
Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Юрий Калещук,
Алим Кешоков, Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко, Александр Овчаренко, Борис Панкин, Вардгес Петросян, Инна Сергеева, Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Игорь Штокман, Камиль Яшен
Художник Н. ЛАДЫГИН
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Председатель редакционного совета Сергей Баруздин
Первый заместитель председателя Леонид Теракопян Заместитель председателя Александр Руденко-Десняк Ответственный секретарь Елена Мовчан
Члены совета:
Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Юрий Калещук,
Алим Кешоков, Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко, Александр Овчаренко, Борис Панкин, Вардгес Петросян, Инна Сергеева, Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Игорь Штокман, Камиль Яшен
Художник Н. ЛАДЫГИН
Меридианы карты и души
 Авторизованный перевод
с армянского Т. Смолянской.
Авторизованный перевод
с армянского Т. Смолянской.
Говорят, что на корабле Колумба «Санта-Мария» был и мой дальний соплеменник по имени Мартирос и армянский был одним из тех языков, на котором сошедшие на берег мореплаватели через переводчика Тореса пытались объясниться с туземцами. Так это или не так, спорить не стану. Но неоспоримо то, что, начиная с восемнадцатого века, на кораблях, плывущих к Новому Свету, все больше и больше оказывалось армян из городов и сел Западной Армении. Ремесленники и крестьяне, они оставляли родные края, землю, которая не в силах была прокормить их детей, и держали путь туда, за океан, чтобы, денно и нощно трудясь на заводах Устра и Детройта, на фермах Калифорнии и Канады, экономя центы, посылать их домой, измученной ожиданием жене и малышам. Так крунку — журавлю, воспетому еще с давних веков в песнях скитальцев — пандухтов, пришлось перелететь океан и услышать слова, обращенные к нему не только под палящим солнцем Алеппо и Багдада, но и в небе, затуманенном сажей и копотью:
Крунк, куда летишь? Крик твой слов сильней! Крунк, из стран родных нет ли хоть вестей? Свой покинул сад я в родной стране. Чуть вздохну — душа вся горит в огне. Круик, постой, твой крик нежит сердце мне. Крунк, из стран родных нет ли хоть вестей?[1]
Но вот пробил и такой час, когда журавль, эта романтическая песенная птица, уже не смог взлететь под тяжким бременем черных вестей из тех самых благословенных «стран родных». Случилось это в начале двадцатого века, в 1915–1916 годах, когда тогдашние правители Турции учинили кровавую расправу над безоружным, беззащитным армянским населением, когда «стран родных» были лишены тысячи и тысячи людей, отторгнутых от нее силой ятагана, вышвырнутых в аравийские пустыни Тер-Зор и Мескене, ставшие огромной братской могилой. А те, что чудом уцелели, разбрелись по миру, осели в Египте, Ливане, Сирии, обосновались в Европе, добрались до Канады и Америки. В многовековом нашем словаре образовалось новое жесткое слово «спюрк», от корня «спрвел» — рассеяться, расстилаться, — слово, которое стало синонимом разбросанного по свету армянства. Горестное это словообразование звучало бы еще горше и безысходнее, если бы в те же двадцатые годы в тот же многовековый словарь не вошло еще одно слово — советская — и не соединилось, не слилось бы с названием древней страны — Армения. Советская Армения! Воспрянувшая из огня и пепла, она крепла, мужала из года в год, вселяя надежду в души своих сыновей во всем мире. За последние десятилетия все больше и больше расширяется радиус воздействия Советской Армении, охватывая все новые и новые пласты спюрка. Рассекают моря и океаны корабли, скоростным самолетам не терпится свести друг с другом материки, чуть сдвинешь в сторону черточку на радиоприемнике — и в комнату хлынут голоса необъятных далей, телефонные провода стягивают в прижатой ладонью трубке два полушария, и через все это соединяющее людей с людьми пролегает и трасса Армения — спюрк. Едут туда посланцы родины — писатели, ученые, артисты, художники, музыканты, едут ансамбли, фильмы, выставки, изданные для спюрка учебники, книги и газеты. Едут к нам в Армению сотни студентов, в наши институты и университеты, каждое лето в Ереван на двухмесячные курсы прибывают школьные учителя, «репатриируются» архивы и манускрипты, картины, завещанные их владельцами, умершими на чужбине, приезжают старики, мечтающие перед тем, как Закрыть глаза, взглянуть на возрожденную родину.
Крунк, куда летишь? Крик твой слов сильней! Крунк, из стран родных нет ли хоть вестей?
Все еще звучат эти грустные слова на всех меридианах спюрка. Но совсем другие вести приносит теперь крунк из «стран родных». Во время моих зарубежных поездок я была счастлива, что могла привезти с собой эти другие вести и каждый раз ощутить заново, что такое для нашего народа само наличие, само существование Советской Армении. Моя первая книга прозы, «Караваны еще в пути», была о путешествии по армянским колониям Ближнего Востока. Потом я побывала в Канаде и Америке, как и в прошлый раз — по приглашению прогрессивных армянских организаций. Об этой поездке и рассказывают дневники, которые я назвала «Меридианы карты и души». Писала все это я в селе Егвард, неподалеку от Еревана. Дневник этот — возврат к прошлому, где рассказ о поездке перемежается наблюдениями, эпизодами моей жизни в Армении за время работы над книгой.
1 марта, Егвард
Комната в Егварде встретила меня простодушным сельским гостеприимством. С утра из Еревана позвонила соседке, попросила отпереть мою уже долго пустующую квартиру и включить электрическую печку. К вечеру собираюсь приехать. И вот я в Егварде. Вошла, щелкнул выключатель — темнота наполнилась светом, включила стоящий в углу радиоприемник — свет наполнился звуками, и месяцами не открывавшая глаз комната сразу проснулась, ожила, распахнулись занавеси, мне навстречу шагнули книжные полки, приветливо кивнули картины, подозвал к себе изрядно соскучившийся письменный стол. Водитель помогает поднять на четвертый этаж коробки с книгами и папками, желает удачи и прощается. Один поворот ключа — и мир остается где-то там, за дверьми, улица остается на улице. Наконец-то я одна, сама с собою, со своими воспоминаниями, с записными книжками, с чистым листом бумаги. На папках названия городов: Монреаль, Торонто, Сен-Катрин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Фресно, Сан-Франциско, Детройт, Бостон, Устр, Вашингтон, Филадельфия, Чикаго, Флорида. И вдруг… Что это за голоса так внезапно ворвались в комнату?! Вначале ведь была какая-то легкая музыка, когда же она перешла в беседу? Два голоса — мужчина и женщина — мягко, словно улыбаясь, разговаривают по-турецки. Видно, идет передача из Стамбула. …Монреаль, Торонто, Сен-Катрин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Фресно, Сан-Франциско, Детройт, Бостон, Устр, Вашингтон, Филадельфия, Чикаго, Флорида и… откуда ни возьмись — Стамбул… А впрочем, может, это и не так уж случайно. Ведь не из Харберда и Битлиса, не из Гехи и не из Вана, не из Арбакира и Аджна, а потом уже не из Каира и Бейрута, не из Алеппо и Тегерана, не из Афин и Бухареста начался этот долгий путь скитаний. Взял свое начало он именно из Стамбула, из султанского дворца Ильдис-Йиошк, из затаенной тиши кабинетов, где тогдашние турецкие правители уточняли планы изгнания и истребления. Но как же, однако, красив турецкий, как легко и дружелюбно он звучит в моей комнате. Интересно, о чем это они говорят? В голосах какая-то особая теплота, доброснисходительная интонация взрослого, разговаривающего с ребенком. А вот и дети, они хором декламируют что-то смешливо, весело. И мне приходит на память совсем недавняя встреча с детьми из армянской субботней школы при церкви святого Акопа в Бостоне. Они сидели за партами, румяные, веселенькие, нарядные, и я говорила с ними. Говорила, но мне казалось, что слова, отрываясь от моих губ, натыкаются на какие-то невидимые надолбы и вновь возвращаются обратно, сникшие, обессиленные, немощные. Дети смотрели на меня, черноволосые, смуглые, с печальными, такими знакомыми глазенками, — кто с мучительным усилием понять, кто безразлично, думая совершенно о другом, а самые маленькие исподтишка пытались щипнуть друг друга, продолжая какую-то свою игру. Я стала их расспрашивать, старалась как-то растормошить, разговорить. Но все зря. Надолбы встали сплошняком, как стена. Пожилая учительница была смущена, словно оправдываясь, объясняла, что она делает все, чтобы уста и сердца этих малышей открылись навстречу родному языку, что она не виновата, так уж все сложилось… — Вот, взгляните, — и показала на прикрепленный к стене большой самодельный плакат, — здесь есть и ваши стихи — «Армянской речи не забудь…», и Шираза, и Севака. А вот слова Хачатура Абовяна. — И учительница прочла громко, возбужденно: — «Всякий народ сохраняет себя и обретает единство в языке. Материнское молоко для младенца слаще сахара и меда. Десять языков знайте, двадцать знайте, но за родной свой язык держитесь крепко». — Закончив, женщина повернулась к нам. В ее глазах, в голосе была отчаянная ярость души, вступившей в неравный бой с противником. …Уверенно, спокойно льется голос турецкой дикторши. Дети поют, декламируют, время от времени поощряемые ласковым: «Афарим, чочуглар, афарим!»[2] Не знаю, почему не выключаю приемник. Во мне какое-то инстинктивное упорство во что бы то ни стало разнять, расщепить, понять доносящиеся до меня слова, проникнуть по ту сторону слов. Может быть, вдруг откроется там, за ними, то, что объяснит мне необъяснимое, случившееся пять-шесть десятилетий назад, поможет спокойно слушать этот ясный, дружелюбный голос ни в чем не повинной женщины, и я, внимая беспечному детскому щебету, не так болезненно буду вспоминать о щемящей немоте детей из армянской школы в Бостоне. Тщетный пока труд мысли и слуха. Из плавного потока звучащих в моей комнате слов я снова вылавливаю: «Афарим, чочуглар, афарим…» Медленно поворачиваю ручку приемника. Чуть-чуть, лишь на одну черточку, правее Стамбула — и все вокруг заполняет голос Еревана. Только одна черточка, даже меньше того… Боже мой, всегда рядом, всегда друг с другом, впритык друг к другу… И так уже пять столетий. На земле, на карте, в мыслях, в воздухе и даже в приемнике. Неторопливо, по-домашнему, передает Ереван новости дня. Завод «Электрон» начал массовый выпуск электронно-вычислительных машин «Наири-3», созданных армянскими учеными.2 марта, Егвард
Второй день, как начала писать, и, по правде говоря, никак не удается пока войти в русло. Иное было с «Караванами», когда спюрк еще только открывался и мне, и читателю, когда о многом надо было рассказать впервые. Писать новые «Караваны» невозможно, да и ни к чему. Но как же быть? Вроде бы и задачи схожие, разве что география другая: на этот раз не Ближний Восток, а Канада и Америка. Но… это только на первый взгляд. Ведь первую книгу от второй отделяет не только океан, но и десять лет, в течение которых столько изменилось и в спюрке, и в самой Армении, и во взаимосвязях спюрк — родина. Что говорить, и меня время не миновало. Прибавились не только годы, но и опыт души, жизни, глаз стал трезвее и острее, — так, во всяком случае, мне кажется. Вот об этом-то, о новых встречах на других широтах, о движении времени в жизни и во мне, я и хочу рассказать в своей книге. Это не будет хроникально точное воспроизведение увиденного, это будет рассказ, написанный по неправильным правилам мозаики, где встретятся разные меридианы карты и души. Америка и Егвард, прошедшее и нынешнее, далекое и близкое, давнее и сейчасное. Хотя мозаика многочастна и пестра, в ней есть все же свой общий образ, своя внутренняя сосредоточенность, свое слово. Итак, в путь — уповая на право и закономерность такого рода искусства!4 марта, Егвард
Я прилетела в Монреаль 20 сентября, хотя собиралась быть там еще в начале месяца. Дело в том, что в эти дни в Ереване открылся Международный симпозиум поэтов Азии и Африки и я входила в состав советской делегации. Жителя Армении не удивишь теперь никакими международными собраниями, юбилеями и декадами. Года два назад, например, в Бюракан съехались ученые со всего мира, чтобы обсудить вопрос о том, как будет сообщаться человек-землянин с инопланетянами, если когда-нибудь удастся установить связь с ними. И выходит, что Армения, веками не находившая общего языка с самыми ближайшими соседями, ныне созывает симпозиум, чтобы отыскать общий язык не с кем иным… а с обитателями планеты, находящейся в миллионах миль от нее. А в этом сентябре поэты Азии и Африки устроили свою первую встречу не где-нибудь, а у подножия Арарата. И наши строголикий Эчмиадзин и Гегард впервые увидели такое пестрое множество черных, желтых и коричневых гостей в африканских, арабских, индийских и один бог знает каких заморских одеяниях, но с уже прочно найденным общим языком — поэзией. Что касается меня, то я продолжала общаться с людьми на этом языке и после симпозиума, в этот раз уже в самолете рейсом Москва — Монреаль. Вместе со мной в Канаду летела группа советских туристов из Новокузнецка. Светловолосая полноватая женщина, Лида, плановик крупного металлургического комбината, подсела ко мне и без всякого плана, а так, по наитию души, почти всю дорогу читала вслух стихи, в том числе и мои. Постепенно из соседнего отсека к нам перешли ее попутчики-директор завода, секретарь горкома, инженеры, рабочие. Завязалась беседа. Мои новые знакомые, как и бывает в таких случаях, расспрашивали об Армении, о том, к кому я еду, о моих друзьях — русских поэтах. Вдруг, не помню сейчас, кто из них первый извлек из портфеля и протянул мне открытку с видом Еревана, попросил автограф. Оказалось, что такие открытки есть почти у всех. — Откуда это тут у вас? — удивилась я. В ответ объясняют, что это сувениры, которые в числе других они собираются вручить на встрече с канадскими рабочими. И так здесь, в воздухе, на высоте более чем десять тысяч метров, вдруг возникают и рассказывают мне о своей новой судьбе мой Ереван, Севан, Звартноц, Ленинакан, Матенадаран. С удовольствием подписываю открытки и получаю взамен на память виды Новокузнецка, тоже с подписями и добрыми словами. «Очень надеюсь на встречу у нас в Новокузнецке. Как это чудесно, что мы познакомились», — написала на открытке с видом их завода Лида. Я не люблю, когда люди играют в скромность, и должна признаться, что никогда не играла в эти игры. Жила естественно, общалась с людьми, радовалась похвале, огорчалась, когда ругали. Но так как, к счастью, похвал было больше, старалась сохранить трезвость и отличать, какая из этих «ценных бумаг» — похвал — обеспечена настоящим золотом, а какая результат инфляции. И надо сказать, что инфляции я отводила очень большой процент. Особенно когда повзрослела, стала разборчивее. Но, признаюсь, каждый раз, когда в Москве ли, в дальней ли командировке, в сибирской «глубинке», вдруг услышу, что кто-то знает мои стихи, даже читает наизусть, — душа по-настоящему теплеет, и я приближаюсь к тому, что люди называют счастьем. Так было и тогда, в самолете Москва — Монреаль. Вспыхивает табло. Те же слова, но сейчас под небом Канады: «Пристегнуть ремни. Курить строго воспрещается». Самолет медленно снижается. Океан наконец отступает, виднеется земля, рыжеватая, обыкновенная. Через несколько минут на поверхности ее обозначаются дома, улицы, четко разлинованные, но сверху удивительно плоские, одинаковые. Неужели Монреаль?! Самолет, уставший, запыхавшийся, касается земли. Быстрый нервный бег его постепенно замедляется и наконец стихает. Двери распахиваются, и мы выходим, вернее, переходим из салона самолета в другой «салон». Здесь всюду после приземления из здания аэропорта, подобно гигантскому хоботу, протягивается огромная гофрированная резиновая труба, прилипает к дверям самолета. Вы вступаете прямо на этот «хобот», шагаете по устланному дорожками коридору и сразу оказываетесь в здании аэропорта. Итак, мы прошли по этому эластичному коридору-«хоботу» и достигли зала. Прибывших из Новокузнецка встречают представители «Интуриста», а меня никто. Растерянно двигаюсь вперед. У одной из дверей смугленькая девушка в синей униформе о чем-то спрашивает идущих рядом. С трудом догадываюсь, что произносит мою фамилию. — Это я, — откликаюсь обрадованно. — Пойдем, — она плохо говорит по-армянски, — там вас ожидают… Я работаю здесь, пойдем… Девушка помогает мне быстрее покончить с таможенными формальностями. Пожилой таможенник-канадец обращается ко мне. — Он хочет знать, имеется ли с собою алколь, — невнятно переводит его слова девушка. — Нет, не имеется, — со спокойной совестью говорю я. И только после того, как ответила, сообразила, что речь идет об алкоголе, однако не делаю никакой попытки исправить ошибку… Собственно говоря, это никакая не ошибка. Наш армянский коньяк можно назвать как угодно — сувениром, визитной карточкой, огненной водой, эликсиром жизни, — но только не алкоголем.6 марта, Егвард
Канада… Когда на школьной карте, — а она была очень большая и занимала почти всю классную доску, — я хотела показать Канаду, рука с трудом дотягивалась до нее. Она была высоко, почти прилепилась к полюсу, а я была ученицей третьего-четвертого класса. Потом мы выросли, карта постепенно уменьшилась, разноцветье ее для нас стало уже не просто коричневым, желтым, голубым, зеленым, а странами с их городами, с реками, морями, с горными хребтами и вершинами, с их историей и куль турой. Вот в этом кружочке на юге жил Гомер и поднялся к небу Парфенон. Рядом, на полуострове-сапожке, Юлий Цезарь перешел Рубикон и основал империю, по выше, на севере, явился миру великий Шекспир, на берегах Невы открыл окно в Европу Петр Великий, а чуточку слева разрушили Бастилию. Так обживалась карта мира, ее заселяли люди и события. Только один кусочек оставался почти таким, как и тогда, в школьные годы, но уроках географии: бескрайний, зимою — снега, льды, летом — неоглядные налитые пшеничные поля, неосвоенные пустоши, леса, а надо всем этим без устали грохочет, пенится, низвергается со своих немыслимых высот Ниагара, белая, взлохмаченная, необузданная Ниагара… Могла ли я знать, что выдастся такой день, когда я, за мотанная, в измятом платье, с дорожной сумкой и ереванскими гвоздиками в руках, ступлю на эту землю и далекая, необъятная, с трудом представляемая Канада в одну минуту станет обыкновенным вестибюлем в аэропорту, наполнится родным говором, привычной смугло той лиц, — одним словом, станет маленькой Арменией, только теперь не в Бейруте, не в Алеппо, не в Египте, Каире или Париже, а в Монреале… Толпа вовлекает меня в свою круговерть, и я, смятенная, растревоженная, протягиваю встречающим гвоздики, хоть и несколько привядшие, но все же из той, настоящей Армении. Среди встречающих и такие, кто, пожимая руку, спрашивает: — Не помните меня? Я из Каира… — Мы виделись в Бейруте, забыли? — Я слышал вас в Алеппо, в школе Гайказян… — А мы познакомились в Париже, в гостинице «Лютеция»… «Помню», «Да, да», «Возможно», «Вероятно», — произношу эти слова машинально, а в душе горечь. Значит, еще дальше теперь они от родной земли — на целый океан. К понятиям египетская, сирийская, ливанская, французская, иранская, американская прибавилась за последнее десятилетие канадская армянская колония. Моя первая встреча в этой колонии произошла в субботней школе. День был сумрачный, дождливый, и, быть может, от этого снятое внаймы здание школы — просторное, бетонно-стеклянное — показалось мне каким-то неуютным, угрюмым. Вместе с моими спутниками прошли через пустые коридоры и вошли в зал. В углу группа самых разновозрастных детей окружила учительницу. Ребята пели что-то. Я попросила не прерывать, и мы остались стоять у дверей. То был не марш, не грустные мелодии Комитаса — то была незатейливая народная песенка «Ой, Назан-яр…» («О моя любовь Назан…»), но поди-ка, я не смогла удержать слез. Первая встреча с армянскими детьми на американском материке. Холодный громадный зал, и в углу дети, скучившиеся, как цыплята, сбежавшиеся на горсточку зерна… Кто знает, где, в каком селе, в каких горах и на каких полях, пропитанных запахом трав и хлебов, родилась эта песня, переплыла океан, долетела, дошла сюда, в высокий белобетонный зал, и сейчас на устах этих одетых в джинсы и батники детей. Звучала эта идиллическая песенка как-то убыстренно, в каком-то ином, непривычном ритме, словно взвалив на себя новую, непредусмотренную задачу: заменить собою те дальние деревушки, те горы и поля, пропитанные запахом трав и хлебов, не дать погаснуть далеким, едва мерцающим огонькам. Встреча со школьниками началась с того, что от группы ребят отделился мальчуган лет двенадцати, коренастенький, светловолосый, и четко, звонкоголосо стал читать мое стихотворение:Армянская страна, родная сторона, Огромен белый свет, но я тебе верна. Ты стародавний храм над древнею скалой, А небо над тобой как купол голубой. Голубкою бы стать под куполом твоим, Чтоб тень его была мне кровом дорогим. Куда б ни улететь, к тебе вернуться вновь, Под купол голубой нести свою любовь[3].
Купол Армении, кровля ее сложена не только из бревен и соломы, камня и бетона, она сложена из первых жарких строк, пропетых язычниками-бардами о боге огня Ваагне, из строгой вязи наших древних письмен на жестких листах пергамента, из белого островерхого пламени снегов Арарата, из розового зарева Еревана, из радости и горечи, из тоски и мечтаний, из песни «Ой, Назан-яр…», из стихов, прочитанных детьми, — из всего этого сложена кровля Армении. Не знаю, куда, к каким берегам, в какой Ванкувер или Сидней, забросят этого коренастенького мальчугана житейские бури, как повернется его судьба, но пусть всегда будет над ним этот купол голубой, эта нерукотворная кровля…
7 марта, Ереван
В армянском обществе культурной связи с зарубежными странами сегодня встреча по поводу Международного дня женщин. Женская секция общества принимала зарубежных студенток, занимающихся в учебных заведениях Армении. Меня тоже пригласили, и я охотно приняла приглашение. Во время моих выступлений за границей мне не раз приходилось говорить о том, что Армения, посылавшая своих сынов в иностранные университеты, сегодня сама принимает студентов, приехавших из других стран, среди которых около четырехсот человек — армяне из спюрка. С армянскими ребятами мне часто доводилось общаться. Бывала у них на литературных вечерах, но со студентами других национальностей еще не встречалась. И вот нынче возможность такого общения. В зале вокруг низеньких столиков сидят студентки — монголки, вьетнамки, немки. После взаимных приветствий и поздравлений хозяева откупорили бутылки с шампанским, а затем потихоньку начали «откупориваться» и гости. Первыми задали тон монголки, питомицы ереванского музыкального училища имени Романоса Меликяна. Круглолицые, миниатюрные, в брюках и курточках, они спели монгольские песни, как объяснили сами, «любовного содержания». Пели непринужденно, без всякого смущения. Из узких, продолговатых глаз молодой задор высекал искры. Потом поднялись вьетнамки. Они столпились застенчивой кучкой и тоже стали петь. Но голоса их звучали неуверенно, тихо. Быть может, оттого, что они учились на математическом факультете университета и пение не было их специальностью. Мне показалось, что война, тянувшаяся долгие годы, оставила на них свой истощающий след. Девочки невысокие, бледные, с неизбывной грустью в глазах. Они сюда, к нам, донесли скорбь вьетнамских Тер-Зора и Герники. Не так ли пели и наши сироты, подобранные на дорогах беженства, привезенные в Порт-Саид, Египет, Алеппо, Афины, Париж и дальше — в Канаду, Америку? Я вспоминаю фотографию, вошедшую почти во все сборники стихов Туманяна. Она сделана в те самые годы, когда беспощадный ятаган уже был занесен над жизнью тысяч и тысяч жителей Западной Армении. …Эчмиадзин — древний центр армянской церкви. Во дворе храма сгрудившаяся толпа детей с голодными глазами, в лохмотьях. Посреди них Туманян, высокий, сухощавый, с трудом сохраняющий какое-то подобие улыбки на устах… Поэт народа, он оставил Тбилиси, где жил постоянно, и ринулся туда, в самое пекло, в сожженные, разоренные Ван и Муш, а затем вместе с беженцами пешком добрался до Еревана, Эчмиадзина, стараясь вселить в отчаявшихся людей хоть какую-то надежду. «Родина плача, родина сирот», — писал он в своем знаменитом стихотворении «Вместе с Родиной» и нашел в себе силы и прозорливость закончить его следующими строками:В одеждах пламенных придет заря грядущих дней, И будут сонмы светлых душ, как блеск ее лучей, И жизни радости лучи улыбкой озарят Верхи до неба вставших гор, священный Арарат. И вот поэт, что уст своих проклятьем не сквернил, В воскресшей песне воспоет расцвет воскресших сил.[4]
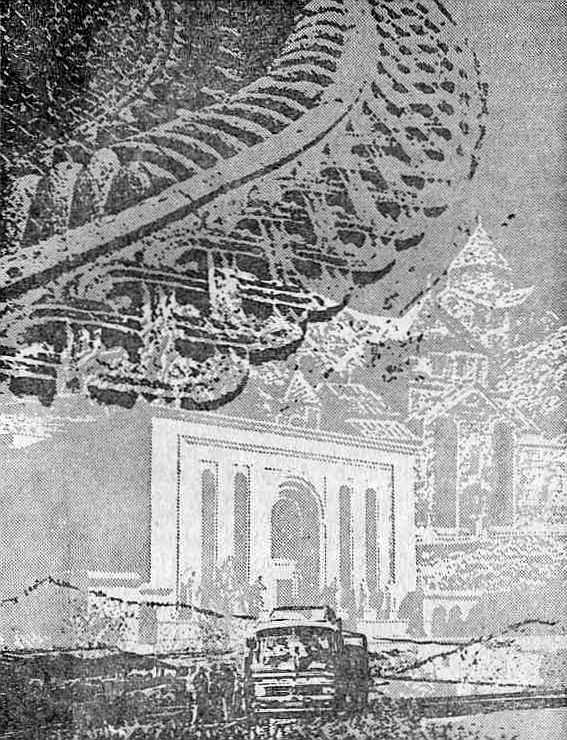 Жив был бы поэт, зашел хоть ненадолго в этот маленький зал, услышал, как рослые, светловолосые, подтянутые немки, студентки физического факультета Ереванского университета, с присущей им добросовестностью, стройно поют «Эребуни-Ереван», заменяя в конце припева армянские слова немецкими. Увидел бы все это Туманян, порадовался бы великому смыслу происходящего в этом маленьком зале…
Жив был бы поэт, зашел хоть ненадолго в этот маленький зал, услышал, как рослые, светловолосые, подтянутые немки, студентки физического факультета Ереванского университета, с присущей им добросовестностью, стройно поют «Эребуни-Ереван», заменяя в конце припева армянские слова немецкими. Увидел бы все это Туманян, порадовался бы великому смыслу происходящего в этом маленьком зале…
8 марта, Ереван
Международный женский праздник в нашей семье ознаменован одним весьма значительным событием. Восьмое марта — день рождения моей матери. По правде говоря, день этот установлен согласно лишь устному ее заявлению. Раньше, я припоминаю, мы отмечали эту дату в первых числах месяца. Но несколько лет назад мама объявила окончательно, что она родилась в 1895 году, в марте месяце, восьмого числа, в первую субботу великого поста. Каким образом каждый год эта «первая суббота» совпадает с восьмым марта, одной моей маме известно. Но факт остается фактом. Видать, она, уроженка Вана, который смело можно назвать побратимом Габрова, по знаменитой, мягко говоря, расчетливой бережливости их жителей, решила справлять оба события чохом, рассчитывая, что так будет и почетнее, и обойдется дешевле. Конечно, в этом году стоило как следует отметить эту «первую субботу». Мать мужественно выдержала мое почти пятимесячное отсутствие и, невзирая на нездоровье, отправила в Америку следующий наказ: «Сильва-джан, получили посланную тобой из Нью-Йорка почтовую открытку, она доставила нам всем большую радость. Здоровье мое хорошее, также и Араика… Оставайся сколько нужно… Новый год будь там. 10 января в Москве, 15-го в Ереване». Как видите, мама моя, и поныне крепко держащая в руках свой маршальский жезл, разрешила мне до 10 января оставаться в Америке, уверенная, что все зависит только от ее воли. Словом, что бы там ни было, я цела и невредима вернулась домой и застала маму также в полном здравии. И вот в очередное Восьмое марта собрались родные и друзья, чтобы отметить этот праздничный комплекс, правда, не с таким уж размахом, как полагалось бы. Среди гостей Вагэ и Лилиана Осканяны. Познакомились мы еще лет семь-восемь назад. В те годы я уезжала иногда работать в Бюракан, жила в гостинице при обсерватории. Слышала, что недавно в Армению переехал директор Белградской обсерватории Осканян и теперь трудится здесь, в Бюракане. Очень хотелось с ним повидаться, но сжатые сроки работы вынудили меня отложить знакомство до случая. И вот однажды утром в дверь мою кто-то с силой постучал. — Здравствуйте. Я Вагэ Осканян, узнал, что вы здесь, и явился. Как вам тут пишется? Неужто я спугнул музу?.. Ничего, пусть мир немного обождет, пусть помучается без ваших новых шедевров, — выпалил он и, не ожидая приглашения, плюхнулся на стул. — Значит, вы Осканян! — обрадовалась я. — Представляла вас иначе — сдержанным, элегантным европейцем… — Прежде всего в армянском есть свое слово: не элегантный, а изящный, с тонким вкусом. И затем, думаю, я не допустил никакой несдержанности, — сразу поставил меня на место Вагэ. — Да, но… Можно вам предложить коньяк? — Благодарю, не пью. — Кофе? — И кофе не пью. — Как же так?.. Что тогда?.. — Сладости, очень люблю сладости. Я обескуражена: громадный, басовитый и… сладости! — Ничего, — утешил меня Вагэ, — Лилиана любит и коньяк, и кофе. Лилиана — его жена, которую я вскоре увидела, так как Вагэ в тот лее день затащил меня к себе домой, познакомил с семьей. А семья у него действительно стоила того, чтобы прервать работу и пойти к ним. Глава семьи все еще отец, хотя ему уже за восемьдесят. Лицо у него такое, что попадись он вовремя Рембрандту, тот наверняка бы пополнил свою галерею портретом армянского старика. — О нас говорили в Белграде: это безумцы, они помешаны на Армении, — шутил Вагэ. — Лилиане я, как только начался у нас роман, с самого начала поставил условие: мы должны уехать в Армению, если согласна, женимся, а если нет… Лилиана, как и муж, высокая, ширококостная, с виду кажется еще крупнее его, В годы войны она партизанила в горах Сербии. Теперь врач-фтизиатр, работает под Ереваном в специальной лечебнице. Оба их сына — Армен и Ара — тоже статные, красивые, как и родители. Поскольку бабушка и дед еще в Белграде обеспечили им основной «капитал» для переезда в Армению — родной язык, они. сразу же включились в жизнь, поступили в армянскую школу, не потеряв ни дня. — Дед сегодня целый день сажал деревья, — говорит Лилиана почти на чистом армянском, тщательно выговаривая буквы «дж» и «дз». — Если бы мог, озеленил бы все эти голые горы, — старик смотрит вдаль, — жалко, опоздал я… Однако во дворе обсерватории посадил восемьдесят пять деревьев — в память восьмидесяти пяти погибших из нашего рода в те страшные годы. — Посадил деревья — это еще ничего, — озабоченно говорит невестка, — всю нашу ереванскую квартиру сам отремонтировал — покрасил стены, окна… — Тут молодые люди с ленцой, — сетует старик. — Есть и такие родители, что стучатся в тысячи дверей, мечтая освободить сыновей от военной службы. В свое время в Харберде тамошние власти не брали армян в солдаты, чтобы те не научились воевать. Но что это за народ, спрашивается, если не умеет держать в руках оружие, защищать себя? Начиная с этой бюраканской встречи, мы стали друзьями. Вот и сегодня Вагэ и Лилиана наши дорогие гости и сотрапезники. Лилиана уже заведует отделением. Когда в коридоре появляется ее грузная фигура, сестры и санитарки мечутся в смятении — как бы строгий Лилианин глаз не заметил какого-нибудь огреха. За эти годы она полностью «армянизировалась». Любит наших поэтов, бывает, соберет врачей, читает им наизусть стихи и как следует стыдит тех, кто не знает поэзии. — Что за несуразный концерт был на пятидесятилетии Паруйра Севака, — еще не садясь за стол, сетует Лилиана, — почти не читали ничего из «Несмолкающей колокольни», стыдно прямо… Мама моя заводит речь об Армене и Ара, которые после окончания университета должны работать вместе с отцом там же, в Бюракане, образуя свою, осканяновскую «астродинастию». — Почему не привели детей? — Какие дети?! Армен уже в армии, в Прибалтике. Окончил физический факультет и пошел, — отвечает Вагэ. — В армию? — удивляюсь я и хочу сказать: «Ведь собирался в аспирантуру», но замолкаю, вспомнив слога деда. Уловив сомнение в моем голосе, Вагэ объясняет с чуть заметным вызовом: — Выполнит свой долг и вернется, аспирантура никуда от него не денется. Ну, рассказывай, как там Америка. — Да, да, расскажите! — закричали гости. — Какие она у вас вызвала эмоции? — спрашивает одна из дам. — А нет ли армянского слова, соответствующего «эмоции»? — тут же одергивает ее Вагэ, в своей постоянной роли хранителя чистоты языка. — Есть, почему же? Но в этот момент… — Не в этот момент, а в эту минуту… Гостья окончательно сражена, а Вагэ продолжает: — В Америке и я бывал — не то, не то… Особенно Фресно. Как ты выдержала среди этих армян четыре месяца? — Что означает среди «этих»? Ты ведь, кажется, тоже из «этих». — Если бы я был из них, не приехал бы сюда… Я признаю одно — армянин должен жить в Армении, слово и дело человека должны быть едины… А их слезоточивая тоска по Армении — пустая трепотня. — Ты не прав, Вагэ. Есть тысячи обстоятельств… Нельзя так категорично: оторвал и бросил. — А я так считаю. Мы таковы! — отрубил Вагэ. Проводив гостей, продолжаю думать о словах Вагэ, о его семье. Отец, сын, невестка, внуки — будто отлиты все из одного сплава. «Мы таковы…» Да, таковы и такими рождены, наверное. Жизнь то и дело сталкивает человека со всяческими сложностями, кидает в такой водоворот, что трудно бывает выплыть, сохранить равновесие, не сдаться, не измельчать, не изменить себе. Особенно когда меняется привычный уклад, когда надо войти в новое русло и поплыть по нему. Не думаю, что жизнь расстилалась перед Вагэ ковровой дорожкой. Не уверена, что после приезда из Белграда так уж все было по нему. «Нам говорили, что мы безумцы, что просто помешаны на Армении…» Я много встречала таких «помешанных» и за границей, и уже здесь, у нас. Нередко именно они, эти «безумцы», при первом же несоответствии розовым представлениям, почерпнутым из «далекого далека», быстро опускают руки, а экзальтация, претерпев некие испытания, тут же переходит в свою противоположность. Иное «безумство» у Вагэ и его семьи. Зеленые веточки мечты пошли в рост от крепких корней, против них бессильны и град, и порывы ветра, они не сломают их. Значит, дереву нужен прочный грунт. Земная, реальная почва. «Мы таковы…» А что же делать другим, если они не «таковы», если их воли и душевных сил хватает только на то, чтобы прожить свою простую, обыкновенную человеческую жизнь? Если волны, каждая с океан, метнули их на совершенно другое судно и совершенно другой компас привел их к другим берегам? Что делать с ними. Поставить на них крест? Нет, Вагэ, нет, тут ты неправ. Мы должны трезво взглянуть в глаза правде. И если караваны еще в пути, если далеко еще от родной земли, надо сделать все, чтобы не затерялись они где-то в чужих песках, чтобы всюду, куда ни держали путь, расстилалось над ними розовое зарево Еревана, нерукотворная кровля Армении.11 марта, Егвард
С детства он ревел, грохотал в Ереване, в моей маленькой комнатке на улице Амиряна, уносил с собой на своих бурлящих, пенящихся крыльях, и назывался он — водопад Ниагара. Помню, когда я только-только начала рифмовать, еще не войдя в воду, искала броду, то есть подбирала себе псевдоним, какие только заморские имена я не заносила в свою синюю школьную тетрадку: Сьерра-Невада, Сьерра-Мадре, Амазонка и даже Ниагара. И хотя после всех рьяных поисков имя и фамилия мои остались такими, какими и были, Ниагара всю жизнь сопутствовала мне. В особенности когда ее далекий чужеземный облик так опоэтизировал в своем прекрасном стихотворении Ованес Шираз:Ниагара! Ты рвешься к желанной свободе. Воплощение гнева в бессмертной природе[5].
И вот я стою перед этой лавиной воды. Воистину прекрасно, но не то, что я представляла. Вместо дикого, ухабистого, вздыбившегося в вышину, как из кратера вулкана, а затем низвергнувшегося вниз стремительного потока — передо мной кажущееся не таким уж высоким гладкое полукружье скатывающейся вниз воды. Я смотрю на него не снизу вверх, как, мне казалось, это должно быть, а сверху вниз, словно с галерки. Но это только первые минуты свидания, когда реальность и воображение противостоят друг другу. Очень скоро моя Ниагара уступает место Ниагаре, принадлежащей миру, и на фотопленке моих глаз фиксируется новая, которую вокруг называют Ниагара-Фолс — водопад Ниагара. Эта новая небольшим островком разделена на две части — американскую и канадскую. Американская — напротив меня, падает отвесно с ровного, словно отсеченного края, свешивается многометровым белым полотном. А канадская — справа. Почти с геометрической точностью очерченный гигантским циркулем полукруг, с которого шестиметровой толщей медленно, величаво обрушивается многоэтажная пучина воды, обрушивается в бездну с такой силой, что внизу от этой мощи падения поднимается белая пена, клокочет и заполняет весь гигантский котел. Из громокипящей низины до нас, стоящих высоко над нею за ажурной металлической изгородью, долетают холодные брызги, будто святой водой кропит Ниагара пришедших взглянуть на ее чудо паломников двадцатого века. А паломники и впрямь ультрасовременные. Выскакивают, как из аквариума, из длиннющих, почти сплошь застекленных автобусов, из тысячецветных легковушек всех фирм мира и спешат к отелям и ресторанам, а то и прямо к водопаду. Подобно водам Ниагары, чист и сверкающ и сам город Ниагара-Фолс. Каждый метр земли ухожен и приглажен, словно после косметической маски. На берегу реки, давшей имя водопаду, возвышаются две башни, две разновидности бетонных колонн, завершенных какими-то сооружениями, похожими на шляпки грибов. «Гриб» имеет несколько этажей, внутри гостиница, ресторан, кафе, зрительные залы. С каждого этажа открывается вид на оба водопада, будто с самолета. Мой номер в гостинице «Шератон» был на десятом этаже, и балкон его, как наблюдательная точка, нацелен прямо на это чудо мира. Но конечный мой пункт в тот день не Ниагара. Я не знала раньше, что в десяти — пятнадцати километрах отсюда в маленьком городке Сен-Катрин живут впервые ступившие на землю Канады армяне, которые еще в начале века покинули свой малоземельный, полуголодный край Гехн и приехали на заработки на металлургические заводы города Гамильтон. Не знала, что в 1912 году в этом Сен-Катрине они построили первую в Канаде армянскую церковь, которая стоит и поныне и относится к Эчмиадзинской епархии. Сегодняшний вечер состоялся в притворе старой церкви. Пришли армяне из американской половины Ни-агара-Фолса, из близлежащих Гамильтона и Колда, и людей было битком набито. Вечер вел председатель приходского совета, человек лет пятидесяти. Улыбается гостеприимно, произносит несколько приветственных слов. Глаза и брови, улыбка, имя и фамилия — Карапет Саркисян — настолько обыденны и знакомы, что просто невозможно представить, что, кроме этих нескольких слов, все остальные слова из многотомного армянского словаря для него не существуют. (Это было в начале моего путешествия, а потом, особенно в Америке, я уже к этому привыкла…) Дочь председателя, совсем еще девочка, крупная, черноглазая, как и отец, в начале вечера преподносит букет роз и торжественно начинает: «Дорогая наша гостья…» Увы, едва начав, девочка останавливается, виновато смотрит на отца и, отчаявшись, переходит на английский. — Забыла, — еще больше, чем дочь, сокрушается отец. — Целую неделю моя мать учила-учила… И вот забыла… Рядом со мной сидит вардапет — глава сен-катринской церкви. Он объясняет, что здесь со своими «ребятами» Вазган — местный лидер дашнаков. Еще дня два назад эти «ребята» говорили вардапету: «Знаем, приехавшая из Армении будет бросать в нас камни, однако мы придем…» И вот они пришли, хотя обычно сюда не ходят. В конце слово предоставляется мне. Я не «бросаю камни». Я просто рассказываю, как народ Советской Армении, укладывая камень на камень, воздвигает свой отчий дом, двери которого распахнуты перед всеми его сынами, входящими с открытым сердцем. Рассказываю о Ереване и приютившихся под его сенью новых поселках— Нор-Гехи, Нор-Зейтун, Нор-Аджн, Нор-Арабкир, Нор-Себастия, Нор-Малатия, Нор-Харберт, Нор-Ерзынк, — носящих имена древних армянских городов. Рассказываю, что ежегодно 15 сентября уже тридцать лет как репатриировавшиеся в Армению мусадагцы отмечают очередную годовщину своей героической обороны в 1915 году, когда, не желая подчиниться приказу властей о переселении, шесть тысяч жителей армянских сел поднялись на гору Мусалер (Мусадаг) и сорок дней оборонялись от турецких войск. Спаслись они при помощи французского корабля, появившегося у берегов Средиземного моря. Рассказываю, как и этой осенью они отметили свою дату в новом поселке Муса-Лер, названном так в честь знаменитой горы. Собралось несколько тысяч человек, и казалось, по всей Араратской долине гремит их традиционная зурна и бубен — дап, земля сотрясается от круговых плясок, а чуть подальше в восьмидесяти пяти громадных котлах булькает янтарная ариса[6], которая вскормила и дала силу Давиду из Сасуна и бросила его в бой против Мсера-Мелика… Слова мои адресованы простым людям, сидящим в зале, большей частью старикам, которые хотя и давно уже здесь, но в этой канадской дали сохранили свою безыскусственность, свою крестьянскую тоску по родной земле, камню, дереву. В конце вечера они подходят ко мне, пожимают руку, обнимают, некоторые умиленно рассказывают о том, что побывали в Армении, в Нор-Гехи, в своем поселке, и, если бог даст, обязательно приедут еще. Ах, эти старики! Они всюду еще будут встречаться мне, на всей шири Канады и Америки. Будут сидеть в залах, как прикованные к скамьям, и, словно бьющую из кислородной подушки струю, вдыхать воздух Армении, ее речь. И повсюду, в дневном одиночестве и в стариковские бессонные ночи, они снова и снова вспомнят ту свою неказистую хижину и сад своего деда, из поношенного рукава которого высовывались узловатые, подобно сухой виноградной лозе, добрые руки. Эти старики! Они пришли сюда, на эти чужие берега, еще молодыми, жилистыми. В стальных зубьях Гамильтона, на плантациях Канады, на автомобильных заводах Форда состарились, ссохлись. Все надеялись: вот вырастут дети, выучатся, выйдут в люди, и никто больше не швырнет им в лицо презрительную кличку «старвинг арминиен» — «голодный армянин». Выросли дети, выучились в школах и колледжах и год за годом, класс за классом отходили от отцов. Отцы комьями земли стелились под ногами детей и внуков, стремясь напитать их теплом и влагой родины, дать возможность прорасти родным корням. Но иссохшими были уже эти корни, скудными их влага и тепло. Исыновья переступили через эти выветрившиеся комья и пошли шагать по просторам, по жирному чернозему. Они встречались мне повсюду, эти старики, и везде — в домах ли для престарелых или в полных достатка особняках, покинутые детьми или окруженные заботой сыновей и невесток — все равно они были одиноки. Бегущий из века в век горный ручеек обмелел и вот-вот должен был совсем уйти в песок. А где-то рядом уже взял свое начало другой ручей, звенящий на другом языке, о других берегах…
12 марта, Егвард
«Дорогая большая тото! Тетя! Мы очень соскучились по вас. В этом году у нас Сильва Капутикян, приезжайте, я вам покажу, если не можете приехать, напишите письмо, что не можете приехать. Если приедете, я вам покажу Сарухана тоже. Знаете, Шагик Агаронян то левой, то правой рукой играет на аккордеоне. Тетя, мы очень соскучились по вас. Моя любимая тетя». Ровно десять лет назад, когда я писала «Караваны» и приводила там это письмецо сынишки редактора бейрутской газеты «Зартонк» Шагика Агароняна, мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я встречусь с той самой «большой тото» здесь, в Сен-Катрине, и она, тикин Алексанян, положит передо мной мои «Караваны», откроет 498-ю страницу, попросит расписаться на полях возле этих строк. Для армянина земной шар, оказывается, уменьшился. Летят письма и посылки через поля и горы, моря и океаны, в письмах семейные фотографии, заснятый уголок нового дома или двора, ребенок в коляске; в посылках детские игрушки, подвенечное платье невесте, орехи в виноградном соке — суджух, алани — сушеные персики с начинкой из орехов, чеканки, сувенирные коньяки… Протянутые от полушария к полушарию телефонные провода — как бы протянутые со двора во двор веревки; на одном конце провода озабоченная бабушка кричит: «Не позволяй там Арпинэ выходить на улицу — простудится», а с другого конца дочь отвечает: «Не беспокойся, я надела ей шерстяной жакет…» Да, для армянина земной шар несказанно уменьшился или, напротив, расширилось местожительство армянина: вместо одного отечества — десятки вторых отечеств, вместо пяти-шести связанных между собой областей — пять частей света, вместо двух, Восточной и Западной, Армений — два, восточное и западное, полушария. И в результате вместо семьи, рода, живущих на одной земле, раскинутые по всему свету родственники — сестры, братья, сыновья, племянники. «Большая тото, мы очень соскучились по вас». Большая тото высокого роста, у нее круглое бледное лицо с седым венчиком гладких волос. За ней утвердилась слава человека строгих правил. Я почувствовала это сразу, когда на пороге ее дома, куда мы пришли после вечера, появились родственницы тото — сестры Нвард и Сиран, щебечущие по-английски. — Здесь говорят только по-армянски, — резко прервала она. И затем весь вечер в доме действительно звучал только армянский. Рядом со мной сидит дочь тикин Алексанян — Анаит, пианистка. Она рассказывает, что на будущий год собирается в Ереван, в консерваторию, продолжать музыкальное образование. Нвард и Сиран приехали сюда из ближайшего города Колд, где живут их родители. Работают же девушки в Нью-Йорке. Сиран служит в Организации Объединенных Наций. Веселая, разговорчивая девушка. Сегодня они здесь со всей родней — отец, мать, сестра отца. Приехали специально на вечер. Показывая на сидящую во главе стола тетку и подбирая все доступные ей армянские слова, Сиран рассказывает: — Этой весной тетя моя — вот она, рядом с отцом, — ездила в Армению, а оттуда по дороге домой остановилась у меня в Нью-Йорке. Я повела ее, показала Эм-пайр билдинг, Рокфеллер-центр, Линкольн-центр, вошли внутрь здания Унион Национ… А она все свое гнет: «Наберись ума в конце концов, девочка, наберись… Что это такое показываешь мне?.. Ереван смотреть надо! Ереван — это город. А тут что — торчат чудища какие-то вверх». В рассказе Сиран и юмор, и какое-то удовлетворение. Она смеется над тетушкой и тем не менее довольна, что обнаружился в мире человек, считающий Ереван лучшим городом, чем Нью-Йорк. А тетка, старая уже женщина с суховатым, решительным лицом, без всяких там околичностей на чистом гехинском диалекте подтверждает: — Да, и не отрекаюсь от своих слов… Ты еще ребенок, не понимаешь… Один камень Еревана не сменяю на твой Нью-Йорк… Нвард, певица, по-армянски говорит еще хуже. Но всем существом своим участвует в беседе, сгорая от желания высказать то, что у нее на сердце. Именно так и пела она на вечере песню композитора Эдгара Ованесяна «Эребуни-Ереван». А сейчас взяла бумагу, карандаш и хочет записать новую песню о Ереване. Я диктую, она пишет английскими буквами, потом, как ребенок, складывает слоги, с трудом соединяет их. Сопротивляющиеся слоги постепенно сдаются, смягчаются, становятся словами, стихами, строфами… Нвард ликует, песня раскачивается, клонится то в одну, то в другую сторону, делает первый уверенный шаг. Поем мы все — Нвард, Сиран, ее тетя, Анаит и я. Поем в Сен-Катрине, в доме, где живет большая тото. Черный огонь в глазах Нвард вдруг задымился, голос повлажнел. Поет все громче, с каким-то даже вызовом. Откуда она взялась там, в своем Колде? Как выросла такая, на первый взгляд, совсем ереванская, ни в чем не отличимая от ее темноглазых, гладковолосых тамошних сверстниц? Ни в чем, кроме речи. Отступницы речи. На дворе ясная, прозрачная ночь. Уснули дома, оставив у дверей сторожа — электрическую лампочку. Близко, очень близко, вижу длинную полосу воды, она блестит под луной. Это канал, один из тех, которые соединяют систему Великих озер Америки, связывают Канаду с Соединенными Штатами. Мы прощаемся, чтобы отправиться каждый к себе домой. Алексаняны остаются в Сен-Катрине, кто-то едет в Торонто, Нвард и Сиран — в Колд, кто-то — в Нью-Йорк, и я, только я, — в Ереван… По каналу проходит пароход. Плавно, медленно, сияя оконцами кают. Машина доставляет меня в мой сегодняшний однодневный дом — гостиницу «Шератон». Рог луны, подобно кривому ножу, прорезает ночную тьму. Я молчу, вся еще в плотном окружении сегодняшних встреч. И лишь постепенно нарастающий рев воды вдруг напоминает, что недалеко Ниагара. Рев чем ближе, тем оглушительнее. Ночь укрыла дневную Ниагару. Осталось только разрывающее мрак белое рычание. Это она. Я вижу теперь — это она, Ниагара моей юности. Бунтующая, яростная, освободившаяся от тысячеглазой туристской назойливости, от поденной обязанности быть диковинным зрелищем. Мы только вдвоем с нею, как тогда, в той моей комнатке на улице Амнрянэ.Ниагара! Ты рвешься к желанной свободе. Воплощение гнева в бессмертной природе. Как обвал, устремившись дорогой крутою, Ты навеки поссорилась с высотою. Пусть и рев, и стремленья твои бесполезны, Все равно не заполнишь ты каменной бездны, Но грозу твоей страсти и пены кипенье Я в груди ощущаю в часы вдохновенья.
14 марта, Егвард
Сен-Катрин, как было уже сказано, та первая пристань в Канаде, к которой причалили первые переселенцы из Западной Армении. Эта маленькая община, как бы микромодель всей канадской и даже американской колонии. Тут и история возникновения, и первая церквушка, и всяческие междоусобицы, перекочевавшие следом за океан, и старики, уходящие из жизни, и вместе с ними уходящий армянский язык, и пробивающиеся из-под льдов отчуждения зелененькие ростки интереса к своему изначалию, изо дня в день растущая тяга к далекой родине. В отличие от Сен-Катрина, в других городах Канады армянских общин не было. Жили просто отдельными семьями. После первой мировой войны привезенные сюда сто двадцать сирот с острова Корфу не изменили общий облик колонии. Изменился он лишь в последние пятнадцать — двадцать лет, когда началась эмиграция в Канаду из Стамбула, стран Ближнего Востока, из Греции и Румынии. Ныне численность колонии примерно 35–40 тысяч человек, рассеянных по всему неоглядному краю. Но главные центры скопления — Монреаль и Торонто. Со Старого Света сюда доплыли и старые партийные распри, и всевозможные общества и союзы, которые в конечном счете сконцентрировались вокруг двух основных направлений, двух центров. Один из них — дашнакская националистическая партия, другой — прогрессивные силы, где существенную роль играют рамкавары — партия демократического толка. Крепнущая день ото дня связь с Советской Арменией способствует оживлению национальной жизни колонии, сохранению родной культуры. Издаются газеты, журналы, открываются школы, в бюджете которых, правда, символически, присутствует и доля местных муниципалитетов. Надо сказать, что отношение Канады к переселенцам свидетельство не только ее расположенности. Бескрайние, далеко не освоенные, здешние земли все еще требуют приложения человеческих рук. Поэтому иммиграция поощряется здесь с давних пор. Создаются благоприятные условия, чтобы привлечь в страну трудовые ресурсы. Прежде чем получить канадское гражданство, приезжий проходит пятилетнюю «стажировку» — он должен вести себя «образцово», не нарушать законы, не выезжать в это время из страны, а под конец сдать нечто вроде экзамена по истории, географии и законодательству Канады. С этой целью при стамбульском землячестве в Монреале с помощью вновь прибывших армян организованы уроки французского языка и специальный курс, где первый пункт программы озаглавлен «Наша страна — Канада», а последний — «Как стать канадцем». Бедняги соплеменники мои, колесящие по миру, сколько еще стран должны вы назвать «нашей страной» и сколько норм поведения, нравов и законов должны вызубрить, чтобы получить балл на право гражданства? В Монреале широкую деятельность развернул мой знакомый еще по Бейруту, филолог Гезорк Айгуни. Он читал курс по армяноведению, в стамбульском землячестве консультировал «как стать канадцем», раз в неделю проводил получасовую телепередачу на армянском и, наконец, обучал желающих армянскому языку в Квебекском университете. Я присутствовала на одном из этих уроков. Человек восемнадцать — двадцать, в большинстве девушки. Парней было трое: один — молодой армянин из Малатии, из глубин Турции, второй — канадский армянин, третий — канадец, преподаватель греческого языка, который возжелал выучить и армянский. Из девушек только две, можно сказать, «бескорыстно» хотели знать армянский; одна из них канадка, врач, а другая армянка. Остальные пятнадцать были невестками в армянских семьях — канадские француженки, которые после того, как их мужья полностью капитулировали перед французским шармом, решили разоружить еще своих свекров и свекрух с помощью армянского. Не знаю как, но Геворк Айгуни на втором же уроке, где я присутствовала, скоростным методом дошел до слова «пач» — «поцелуй». Когда на доске крупными буквами он перевел «пач» на французский, наши пергидрольные невестушки хором воскликнули: «А, пачик!..» Это название самого меткого оружия из своего арсенала плутовки уже знали давно. Другое слово было «карал»— «лебедь», которое веселые школярки поспешили отождествить со знаменитым «карапетом», искренне радуясь своим лингвистическим способностям. Как ни старается община, все же пришельцам на эту землю нелегко адаптироваться. Эгоистические нравы частнособственнического общества, атмосфера тотальной конкуренции особенно ощутимы для тех, кто должен сразу включаться в бег, где все подчинено жесткой логике: отстанешь — затопчут. В Торонто я побывала в армянской церкви. Она находится на одной из самых тихих улочек огромного шумного города, в бельэтаже большого дома, где внизу, на первом этаже, клуб общины. Зажатая среди других зданий, эта церковь, белая, многооконная, так не походила на привычные, строгие наши храмы, чернокаменные, одиноко возносящиеся среди пустынности гор. Но знакомая до боли вязь древних букв тут же приблизила меня к белизне этих стен, к широким просветам окон, к людям, сидящим в ряд на длинных скамьях. Над сводами алтаря была начертана знакомая строка: «Боже, храни армян». У каждого народа есть свои заветные песни, свой гимн, свои ставшие изречениями присловья. В них как бы сгусток примет народного опыта, характера, биографии народа, его истории. В английском гимне, например, есть такое обращение к всевышнему: «Боже, храни Британию, королеву морей», «Марсельеза» призывает восстать против тирании. Строки норвежского гимна славят свой «край лесистых круч, море, ветер нелюдимый, небо в клочьях туч». Армянская, два столетия назад родившаяся песня звучала почти как заклинание. Начиналась она мольбой: «Боже, храни армян». Здесь речь шла просто о том, чтобы сберечь жизнь, спасти от физического уничтожения, от нашествий и насилий. Совершенно иной, подсказанный временем смысл обрела эта строка, когда я внезапно увидела ее в церкви, в Торонто. Сегодня здесь, возле входа в эту церковь, толпились дети из субботней школы имени Месропа Маштоца — участники традиционного кросса-пробега. Выяснилось, что такие кроссы очень распространены в Канаде. Вот и армянские ребята, как потенциальные приверженцы местных нравов, включились в этот «бег по жизни». Заранее маленькие бегуны заручились обещанием ряда имущих людей, письменным или телефонным, выдать энное количество долларов тем, кто быстрым шагом пройдет или пробежит условленное расстояние. В данном случае доллары эти предназначены для нужд их школы. Мне было все в новинку, все странно. И сам характер этого филантропического спорта, маленького бизнеса, задуманного пусть и не в личных целях. В этой капельной отраженности таилась неотвратимая опасность не устоять перед большим кроссом жизни, за ленточкой финиша которого — он, тот же всезаглатывающий доллар. И вот дан сигнал. Ребята заполнили узкую улицу и быстро свернут к центру города. В заранее назначенных пунктах родители поджидают, когда, наконец, появятся в толпе, снующей по тротуарам и мостовым, их отпрыски. Маршрут длинный — через весь город. Бет весть что подстерегает детей на этих грохочущих улицах, в бесконечной сутолоке машин… Вечером все участники кросса должны снова собраться у церкви. Мне сдается, что каждый из родителей, так тревожно ожидающий возвращения детей, мысленно продолжает высеченную над алтарем мольбу: «Боже, храни наших детей. Не дай оторваться им от родных устоев, от первоосновы своей. Дай силу их ногам, чтобы твердо ступали они по зыбкой земле чужбины, чтобы в честном труде вкушали хлеб свой насущный. Боже, не дай им заблудиться в хаосе этих улиц, в тщете и суете мира. Сотвори так, чтобы куда бы днем ни уводили их житейские нужды, как бы ни искушали соблазны, к вечеру снова возвращались они сюда, в свое пристанище. Боже, храни человека…» В Торонто я пробыла всего неделю и снова возвратилась в Монреаль, канадскую мою обитель. Для меня, выступавшей в Бейруте и Алеппо по пять-шесть раз в день, поездка по Канаде была сравнительно легкой, потому что колония немногочисленная, школ — увы! — маловато и визитеры не так уж одолевали. Самый большой вечер состоялся в Плато-холле, где собралось восемьсот человек. С него, собственно, и началась моя монреальская жизнь, которая продолжалась в Торонто и перекинулась затем в Америку. Таким образом, когда я через четыре месяца покинула Западное полушарие, мой блокнот зафиксировал более ста вечеров, выступлений по радио и телевидению, обращенных к сшорку, не говоря уже о множестве личных встреч и разговоров. Запомнилось и несколько прямо-таки семейных вечеров — в нашем консульстве в Монреале после приема в честь советской поэтессы, встречи в советском посольстве в Вашингтоне или в клубе Советской миссии в ООН. Помню и «чашку русского чая», на которую меня неизменно приглашали после этих вечеров, уже в более узком кругу. Снова читали стихи, вспоминали родные места, рассказывали о родных, от которых и они, и я сейчас так далеко, говорили об общих радостях и заботах нашего большого дома, по которому так тоскуешь, когда оказываешься вдали от него.16 марта, Егвард
За последние два десятилетия так много приехало в Канаду армян из Стамбула, что организовано землячество. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошла в их клуб, — это плакат, очень характерный для той психологии осторожности и боязливости, которая годами впитывалась ими. Плакат сей оповещал о том, что стамбульское землячество ни к какой партии не относится и никаких политических целей не преследует. Но нетрудно было убедиться, что симпатии большинства из этого землячества давно определились. Так, секретарь его Жирайр Айватян рассказывал: — Был я солдатом в турецкой армии, служил на границе возле Ленинакана… Вечером зажигались огни в Армении, и я, как зачарованный, стоя на другом берегу на посту, не мог оторвать глаз от этих огней. Сколько раз подумывал бросить все к черту и перебраться через реку… Но в Стамбуле у меня оставались мать, невеста. Словом… Однажды белая лошадь с вашей стороны перебежала к нам. Поймали ее, повели сдавать обратно. Мы стояли посреди моста. Мы и они, ваши. Среди них парень, явно армянин. Одному богу известно, что я пережил в эти минуты, боялся, что вот-вот сорвусь с места и брошусь к нему. В Торонто мне представился случай встретиться с другим переселенцем из Стамбула, зубным врачом Норайром Джейланли. Разболелась десна, и пришлось прибегнуть к врачебной помощи. — Завтра с утра пойдем к моему дантисту, он из самых известных и самых дорогих, — предложила свои услуги одна здешняя дама. На следующее утро в назначенный час мы явились к врачу. — Какой счастливый случай! — пожал мне руку полный, круглолицый доктор в белом хрустящем халате. — Пожалуйте… Я вошла в его кабинет, где все — стены, пол, потолок, окна и инструменты — так сверкало, будто вся комната тоже накинула белый хрустящий халат. Дантист надел на меня такой же халат, усадил в кресло, нажал кнопку, и спинка откинулась так, что я приняла почти горизонтальное положение. Рот широко раскрылся, и перед моими глазами сверкнули электрический прожектор, металлические щипцы, круглое лицо господина Норайра. Пока я ждала врачебного заключения, а самое главное — мечтала занять свою первоначальную позицию, доктор вышел. «Наверно, за лекарством», — подумала я. Но когда он вернулся, в его руках был фотоаппарат. — Не каждый раз можно соединить приятное с полезным, — сияет доктор и направляет на меня объектив. — Но, доктор, выясним прежде состояние моих зубов, — лежа вздыхаю я. — Все тут ясно. Воспаление десны… Прошу смотреть в эту сторону, улыбнитесь чуточку, так, так… Очень хорошо! — наконец он щелкнул и вновь приступил к своим прямым обязанностям. — Необходимо основательно подлечиться. А пока вот капсула. Так по-армянски можно сказать? — Можно, можно, — отмахиваюсь я. — Нет, нет… Очень люблю чистый армянский язык. У вас есть другое хорошее слово, не капсула. — Наверно, пилюля? — Да, да… Минутку! — Доктор ищет блокнот и карандаш, находит и записывает: «Капсула — это пилюля». — Итак, возьмите эту пилюлю, опустите в полстакана воды и каждое утро обрызгивайте десны… Правильно я употребил слово, да? Я вынуждена перейти к этимологии: — Точнее было бы сказать «полощите». «Обрызгивать»— это от слова «брызги»: морские брызги, брызги дождя, можно брызнуть краской, чернилами. Солнце может брызнуть лучом. — Как-как?.. Минутку! — Доктор хватается за блокнот. — Брызги, какое интересное слово! И какое многообразие в применении! — Он записал все мои варианты. — Язык — это моя слабость. Решил еще два изучить — русский и китайский… «Как бы он, оставив меня в этой горизонтали, не перешел к изучению русского и тем более китайского», — уже отчаиваюсь я. Но, слава богу, доктор опустил капсулу-пилюлю в воду, сбрызнул, ополоснул мои злополучные десны и наконец поставил меня на ноги. Прощаясь, я решила ему на память оставить маленький сувенир — медаль с Комитасом. Доктор был в восторге: еще бы, из самой Армении! — Для таких штучек у вас хорошее слово найдено… Минутку! — С моим пальто в руках он хочет вернуться к блокноту. — Памятка? — Да, да, у меня в тетради так и записано… У двери телефонный аппарат напоминает мне, что в этот день утром я должна обязательно позвонить в Оттаву, в советское посольство. — Можно минуты две-три поговорить с Оттавой? — Прошу, прошу, вот телефон, пожалуйста! — Нужно выяснить насчет моего отъезда в Америку, — объясняю я и подхожу к телефону. — Вы хотите звонить в советское посольство? — смутился доктор. — Да. — И тут же догадываюсь, что к чему. — Здесь как-то шумно, позвоню из другого места… — Да, лучше из автомата… Наступило неловкое молчание, я поспешно взяла сумочку и, поблагодарив, вышла. Доктор, погрустневший, стоял в дверях… На следующее утро вместе с моим здешним приятелем Грачем Пояджяном мы зашли в офис, чтобы продлить мою канадскую визу. Сидим в приемной, ждем своей очереди. На скамье крупный мешковатый парень, навострив уши, вслушивается в наш разговор. — Армяне? — спрашивает он. — Армяне, — отвечаем. Обменявшись этим почти международным кодом и выяснив нашу принадлежность к армянству, парень, с трудом подыскивая слова, объясняет Грачу: — Братец, я армянин, из Стамбула… Нурхан Манукян… Уже одиннадцать месяцев здесь. Хочу остаться — не разрешают. Говорят: «Принеси бумагу, что где-то работаешь», Пошел к здешним армянам, говорю: «Дайте бумагу». А они: «Ты дашнак? Если так, получишь». — «Никаких я этих вещей не знаю, братец! Какой я дашнак-машнак?! Я армянин». — «Иди тогда, из церкви проси бумагу». Пошел туда, дали мне двадцать долларов — и прости-прощай… А здесь, в офисе, говорят: «Ты из Турции, — значит, возвращайся в свою страну…» Я не турок, братец, я армянин… — А что это за парень? С тобой рядом? — вступаю и я в разговор. — Это мой дружок, грек. Я не знаю языка, и в таких местах он говорит за меня… Одиннадцать месяцев уже здесь, мамаша, — на этот раз обращается он ко мне, — все деньги, что были, утекли, как вода… Что я должен теперь делать, мамаша?.. Крупный мешковатый парень, жалкий и растерянный. Я подсказываю Пояджяну адрес землячества стамбульских армян в Монреале Может, они помогут. Пояджян на той же бумажке записывает и свой телефон, дает парню. Но вот входит служащий офиса и выкликает: — Нурхан Манукян! Грек подает знак, и наш сородич, крупный и беспомощный, следует за ним. Во время своей поездки я бывала во многих городах, видела очень многих людей, со многими общалась подолгу, но эта минутная встреча с парнем по имени и фамилии Нурхан Манукян, его внешность, слова и голос прочно запали в мою память. Порой мне кажется, что два полушария, словно два гигантских корабля, заполнены людьми, разноязычными, разноцветными, разноплеменными, отыскивающими свое место на палубе. И вот Нурхана столкнули, сбросили с, палубы, а он, кое-как уцепившись за борт, еле удерживая в воздухе свое грузное тело, глядит на меня и в отчаянье повторяет: «Что я должен теперь делать, мамаша?..»17 марта, Егвард
Сегодня мне захотелось рассказать о сестре моей мастери, о тете Арус, а если точнее — о мадам Аракси, которая приехала к нам в гости из Стамбула. За несколько лет до этого, когда приходилось заполнять анкету, на вопрос: «Есть ли родственники за границей?»— я неизменно отвечала: «Брат матери Хачик Саркисян, в 1912 году уехал из Вана в Стамбул учиться, впоследствии коммерсант. Сестра матери Аракси Чубукчян, в 1921 году уехала из Еревана в Стамбул, к брату, домохозяйка. Муж тети Гайк Чубукчян, родился в Стамбуле, служит в страховой компании…» Писала все это, буквы от строки к строке становились мельче и мельче, так как трудно было уместить своих родичей в одну графу. Я никого из них не знала, разве что тетю Арус, которая неизвестно почему в Стамбуле стала Аракси. Помнить ее тоже не помнила. Она уехала пз Еревана, когда мне едва исполнилось два года. Но поскольку моя мать и бабушка часто вспоминали, что именно она нянчила меня, я мысленно воссоздавала образ тети Арус: вот склонилась над моей колыбелью, напевает песенку, вот вывела меня на прогулку, вот вышивает воротничок. В моем представлении она была светлолицей, полной, с большими зеленоватыми, как у мамы, глазами — такой ее описывали бабушка, соседка, а присылаемые тетей фотографии подтверждали это. Иногда на снимках было двое — дядя Каджер и тетя Арус. Бабушка глядела на них и качала головой: — Почему эти оболтусы не обзаведутся семьями, чего еще дожидаются?.. Шли годы, и от фотографии к фотографии тетя Арус худела, исчезала округлость щек, глаза казались меньше. — Слушай, агадуду, с чего это такую красотку никто замуж не берет? — растравляла рану Марна-хатум. Они с бабушкой были замужем за двумя братьями и, как водится, недолюбливали друг друга. Моя бабушка была старшей невесткой в доме, и поэтому величали ее «агадуду», что означает «жена аги». На подковырку Марна-хатум она грустно, но с достоинством отвечала: — Судьба придет — руки свяжет. Говорят, в этом чертовом Стамбуле без приданого девушку никто не возьмет… Однажды, когда мы вскрыли конверт, из него выпала фотография. На ней в длинном подвенечном платье Арус, а рядом высокий, сухопарый мужчина в летах в черном парадном костюме. На фотографии подпись: «Господин и госпожа Чубукчяны». — Слушай, агадуду, такая девушка, кровь с молоком, и такому хрычу долговязому досталась, — не то жалела, не то радовалась Марна-хатум. — Не урод, так и красавец. Ах, Марна, — бабушка вздохнула, — сжалился бы господь над нами, оставил в живых отца ее, — бабушка кивнула в мою сторону, — была бы опора рядом. А этот что? Мы в Ереване, они в Стамбуле. Какой он там, нам от этого ни холодно, ни жарко… Затем грянула война. Письма перестали приходить, застревали в колючей пограничной проволоке. И так несколько лет. В сорок пятом уже пришла наконец долгожданная весть. Ликуя, открыли мы письмо и наткнулись на незнакомый почерк. — Господи, да это же Каджер! — воскликнула бабушка, и все мы всполошились. Каджер, который в Стамбуле также стал Хачиком Саркисяном, был братом моей матери. Впервые мы получили от него такое длинное письмо. Дядя писал, что наконец-то наступил мир и Красная Армия вошла в Берлин, что советский министр иностранных дел произнес прекрасную речь в ООН, что… — Этот малый не женился еще? — прервала чтение бабушка. Мама быстро пробежала глазами остальные строки. — Нет еще… — Чего это он волынит? — покачала головой бабушка. Первое длинное письмо дяди оказалось последним. За ним наступило долгое молчание, на этот раз непонятное. Все дороги были открыты, люди находили друг друга, возвращались домой солдаты, а Стамбул все молчал и молчал. Затем изредка стали приходить открытки от Арус, которая коротко сообщала о себе, муже, о сыне Хоренике, и лишь время от времени где-то в уголке еле заметно было нацарапано: «Братец жив-здоров, шлет вам привет». А почему не писал сам, ума не могли приложить. Бабушка давно уже перестала спрашивать: «Этот малый не женился еще?» Свыклась, молчала, утешалась тем, что «братец жив-здоров». Так и ушла она из жизни. Еще один раз объявился дядя Каджер, еще раз высказался. Это было позже, в 1963 году. Из бейрутских газет он узнал, что я там, и на адрес газеты «Зартонк» прислал мне письмо, опять длинное, полное любви к родине. А почему не писал по ереванскому адресу и почему так и не выбрался в Ереван, узнала намного позже. То первое послевоенное письмо в Советский Союз дорого обошлось ему, да так дорого, что потом Хачик Саркисян боялся даже взглянуть в сторону Армении… Лет семь тому назад пришло сообщение о смерти его. «Хоть он уходил из дому рано утром и приходил поздно вечером, все же была родная душа в доме, — сетовала тетя. — Сколько говорила ему: давай поедем в Армению, увидим своих, — все откладывал». Затем тетя Арус писала, что они с мужем решили осенью побывать в Ереване, «пока не отправились вслед за братом…». Мы написали приглашение, отнесли в ОВИР и стали ждать. Ждали долго, потом пришло следующее письмо: «Родные мои, беда не приходит одна… Гайк тоже ушел вслед за братом… Остались я да Хорен… Я как будто не в себе: и года не прошло, как вторая утрата… Дом мой превратился в покойницкую…» Скоро получен был ответ из ОВИРа: «Разрешается Гайку и Аракси Чубукчянам…» Прошло еще несколько месяцев, и принесли телеграмму. В первый момент смысл ее не дошел до нас: «Буду с туристской группой пятого сентября, встречайте…» Пошла в «Интурист» навести справки. Там мне сказали, что действительно в этот день ожидается группа из Стамбула, которая летит через Москву. Почему же Арус едет с этой группой, ведь у нее приглашение на три месяца? После пятидесяти лет разлуки — и всего на пятнадцать дней? С таким вот недоумением мы и отправились в аэропорт встречать ее. Поехали всем родом, даже с соседями из нашего старого двора по улице Амиряна, 20,— ведь оттуда и отбыла Арус в Стамбул. Вспотевший, притомившийся самолет опустился, коснулся наконец лапами земли, пробежал немного, фыркнул и успокоился. Туристы, сойдя с трапа, группой приближались к нам. — Где Арус? Которая? — суетятся родственники. Я молчу, изо всех сил стараюсь собрать воедино сложившийся из рассказов, писем и фотографий образ тети Арус, отыскать ее среди идущих к нам людей. В памяти упорно встает прежняя светлолицая полная женщина с большими зеленоватыми, как у мамы, глазами. Разумеется, она постарела, но в моем представлении все равно такая. Мне разрешают пройти за барьер, навстречу туристам. Подхожу ближе и слышу: — Вот она, ваша племянница. С вас презент теперь, мадам Аракси… — Где? Где? Не вижу ее. — Голос тревожный, прерывистый, и маленькая женщина в очках кидается мне навстречу… Маленькая, в очках, с короткими прямыми волосами, с худеньким потемневшим лицом, глаза тоже темные, движения резкие, нервные — такой явилась мне тетя Арус, с той минуты мадам Аракси… Отделив от группы, мы отвезли ее в гостиницу «Ани». Сидим в фойе в ожидании автобуса с остальными. Родственники смотрят на приезжую и переглядываются. Чувствую, что у них та же, что и у меня, смена впечатлений. Нет прежней Арус, не та, не она, какая-то другая… Подъезжает автобус. Арус сразу же оставляет нас, присоединяется к группе. Приносят багаж. Арус вся в поисках своего чемодана. — Тетя, пойдем к нашим, они ведь ради тебя здесь. — Проверь, здесь ли мой кофр. — Здесь, здесь, не тревожься. Покончив с формальностями и взяв кофр, мы отбываем к нам домой. Моя мать ждет ее там. Я не однажды представляла себе тысячи вариантов их встречи. Сестры расстались, когда одной было двадцать шесть, а другой двадцать лет. И вот сейчас встретятся, когда одной уже семьдесят шесть, а другой семьдесят… Как это все будет? «Гонимые, судьбой» — так придумывалось мне «заглавие» этой встречи. И вот они уже обнимаются и целуются, мать плачет, и сестра тоже, но отчего-то сердце мое не ноет от боли, которой я ожидала. Грешным делом, чувствую, что встреча в чем-то не состоялась. Нет того смятения души, той вспышки в крови, которая бы сразу соединила нас всех, размела годы и расстояния… Видимо, за пятьдесят лет изменился состав крови… — Давайте откроем кофр, — деловито предлагает гостья и, достав ключик, подходит к чемодану, открывает его. — Это тебе, Лиа, — обращается она к моей матери, — это для Астхик, а это Варсик и ее детям, — торжественно перечисляет она, извлекая из кофра и вручая сестрам подарки с приколотой заранее бумажкой, что кому. Здесь есть и надеванные платья и галстуки, есть джемперы, связанные ею самой из старых и новых ниток. — А это тебе, Сильва, — она протягивает цветастое полотно, которому наспех придана форма юбки, — я сшила это в виде миссо, чтоб не отобрали в таможне. Говорят, отрезы запрещено привозить. Наивная моя тетя! Она возвратилась в Армению такую, которую оставила в двадцать первом году, разутую, полуголодную, когда наивысшим счастьем считались выданные из американских тюков платьишко и банка сгущенки. Мать, быстро оценив ситуацию, потихоньку от сестры выговаривает девчонкам-племянницам: — Ну-ну, не очень-то воображайте! Что нос воротите, тоже мне, принцессы нашлись!.. Особенно Асмик, корчит из себя дочь министра. Что, в вашей деревне не сгодится такой жакет, да? — И, повернувшись ко мне, тихо говорит — Бедняжка, она очень сдала. Легко ли — за год потерять и мужа, и брата… То, что тетя действительно сдала после этих потерь, лежала в больнице, еле оправилась, рассказала мне приехавшая с ней соседка ее, которая тогда ухаживала за ней и уговорила поехать в Ереван. Что же касается нашего приглашения, то, когда соответствующее учреждение заинтересовалось подробностями, куда и зачем она едет, мадам Аракси струхнула и отказалась от приглашения. Вместе с тетей мы едем в село Джрашат Эчмиадзинского района, где уже около сорока лет живет и учительствует младшая сестра моей матери Варсик. — Молодчина Варсик, смотри, дом какой заимела! — восклицает Арус. Варсик, довольная, улыбается и приглашает гостей к столу. Гляжу на этих двух сестер: обе низенькие, обе уже в летах, обе вдовы. Написала это слово и вдруг почувствовала, что оно никак не вошло в обиход, не применимо к Варсик, которая уже семнадцать лет как потеряла мужа. Варсик — женщина на редкость спокойная, несуетливая. Муж ее умер, оставив четверых детей и камни, припасенные для будущего дома… Но все-таки дом этот построили, дети выросли, окончили вузы. Конечно, родня помогла, хотя и без этого они выстояли бы, дом все равно был бы построен. Под ногами Варсик земля, твердая родная земля, вокруг люди, которые всегда помогут встать на ноги. А у Арус… Есть у нее и дом, и деньги, и сын взрослый, но на ней лежит печать одиночества, какой-то обреченности. На краю села, километрах в двух от Аракса, покоится моя бабушка. Последние годы свои она жила в деревне у Варсик. «Бабушка, почему ты не хочешь к нам в Ереван?» — часто спрашивала я. «Сильва, дитя мое, я им здесь больше нужна, а вы уже давно на своих ногах стоите…» На могиле бабушки мы поставили надгробье — хачкар — из черного туфа, с орнаментом и надписью. И вот сегодня впервые все четыре сестры вместе с детьми, внуками и правнуками пришли к ее могиле. Постояли, разожгли огонек, и каждый бросил туда ладан, как положено это у нас в память усопшего. Помолчали. В нашем роду не принято плакать на людях, причитать, хотя много горького накопилось за годы. И тетя Арус не плакала. Энергично поправила очки в черной оправе на носу, твердо, мне даже показалось безучастно, прочитала строки, высеченные на камне. И зачем, зачем только моя ванская бабушка отправила свою дочь тогда в Стамбул?.. Осталась бы дома, жила с нами, как и моя мать, работала бы на ткацкой фабрике, а по вечерам бегала на рабфак, вышла бы замуж за здешнего парня, обзавелась кучей детей. Пусть, как и мы, получала бы хлеб по карточкам, росла, мечтая о новом ситцевом платье, пусть в годы войны простаивала бы с нами в очередях и ездила в деревни, оставшиеся без мужчин, собирать смерзшийся под снегом хлопок. Только бы жила рядом, возле нас, с матерью, с Варсик, с Астхик, изо дня в день, из года в год старилась бы на глазах, чтобы мы постепенно привыкали к ее увядающему лицу, к тускнеющим глазам, к очкам… Близился день разлуки. Мы хотели, чтобы она еще погостила у нас, но тетя отказалась: боялась оторваться от группы. Я собиралась послать ее сыну Хорену подарок— хорошие часы, фотоаппарат «Киев». — Не надо, не делай этого! Хватит с него того, что имеет, не заслужил… — внезапно сорвалась Арус и тут же смолкла. Кто знает, кроме утраты мужа и брата, какие еще беды обрушились на нее, какие обиды хранила она в душе своей, обиды, о которых в суете своего двухнедельного пребывания не успела или не захотела рассказать… И уехала, так и не поведав о своей пятидесятилетней жизни вдалеке, не стерев белых пятен в ее редких пугливых письмах, не посидев час-другой наедине с сестрами, не открыв им своего сердца и даже не оставив после себя боль разлуки. Уехала, возвратилась обратно к себе моя тетя Арус — нет, моя тетя Аракси, суетливая, маленькая, с короткими прямыми волосами, сухоньким, потемневшим лицом и темными глазами в очках. Пишу эти строки и ощущаю, что именно от всего этого, от невольной отчужденности, в которой не повинны ни она, ни мы, от нашего несостоявшегося сближения, во мне все больше и больше жалости к ней. И, оказывается, она дороже и ближе мне, чем та светлолицая, полноватая, с большими зеленоватыми, как у мамы, глазами тетя Арус. Когда я вернулась из Америки, в кипе писем обнаружила и ее письмо. Прислала вырезку из стамбульской газеты «Время» о моих вечерах в Монреале поздравляла с тем, что поездка прошла успешно. Прочла это письмо со щемящим чувством, но — вы! — так до сих пор и не собралась ответить. Завтра же, когда буду в Ереване, непременно ей напишу, непременно…18 марта, Ереван
Утром, приехав из Егварда в Ереван, позвонила в Комитет по спюрку, а если официально, то в Комитет по культурным связям с армянами за рубежом. Хотелось узнать, что у них нового, кто сейчас гостит в Ереване из знакомых. Комитет, созданный в 1964 году, стал в какой-то мере непосредственным преемником КПА — Комитета помощи Армении, возникшего в двадцатых годах, — но по сути своей в корне от него отличается. Нынешний Комитет по культурным связям предполагает совершенно иные маршруты своей деятельности — помощь не Армении, а из Армении. Вот и сегодня председатель Комитета Вардгес Ама-заспян созвал нас, членов правления, чтобы обсудить просьбу писателя Ваграма Мавьяна, прибывшего из Лиссабона. Это отнюдь не личная просьба, она исходит из фонда Гюльбекяна, где Мавьян работает. Этот фонд, основанный согласно завещанию Галу-ста Гюльбекяна, распределяет свои средства во многих странах мира. При нем существует и армянская секция, которая призвана помогать спюрку — его учебным заведениям, больницам, нуждающимся студентам, издавать труды по истории Армении, ее зодчества и прочее. Ваграм Мавьян рассказал нам, что эта секция снабдила почти все школы спюрка кинопроекторами, но нет слайдов по Армении. Он составил предварительный их перечень: история родины, ее литература, архитектура, а главное — современная Армения, ее столица, культура, наука, — и просил Комитет достать эти материалы. Участники заседания с готовностью предлагают свою помощь. Мы расходимся по домам с каким-то добрым чувством. Пусть мелочь — слайды, но что-то еще прибавится, что-то еще узнают они о нас, о нашей жизни, о Советской Армении. Расставаясь, мы с Ваграмом сговариваемся пойти вечером вместе в театр. Мавьян писатель одаренный, интересный, что называется, с изюминкой. И внешность незаурядная. Седина, которой становится с каждой встречей все больше и больше, прибавляет ему какую-то значительность. Два года назад Мавьян тоже приезжал в Ереван. Мы побывали с ним в селе Уджан, где он хотел увидеть памятник полководцу Андранику. Лет десять уже, как он воздвигнут на средства, собранные жителями Уджана. В селе еще живы многие из воинов армии Андраника— те самые ополченцы, которые в 1915 году встали на защиту своей обожженной земли, на защиту осиротевших жен и детей от злодейств, чинимых разъяренными аскерами. Сгорбленные, совсем уже старые, с четками в темных, сморщенных руках, сидят они под сенью молодых деревьев на скамейках у памятника. Поодаль с горделиво-независимым видом нас с Мавьяном разглядывают деревенские парни, по-модному с длинными волосами, в пестрых грубошерстных свитерах. Это они облекли в плоть мечту стариков: вырыли возле памятника котлован для озерца, закрепили дно и стены камнем и цементом, насадили вокруг деревья. На берегу этого озерца под ногами у дедов крутятся внуки, крепенькие, с горящим горным румянцем на налитых щеках, и хоть одежда у них и новая, но штанишки обвисли, скошенные ботинки в грязи, — одним словом, обыкновенные деревенские ребята… Я вспоминаю каменного всадника на кладбище Пер-Лашез в Париже. И сейчас там покоится прах Андраника. Отвергнув недальновидную, вредоносную политику дашнакских властей, в 1919 году, еще до образования Советской Армении, он покинул родину. Там, в Париже, Андраник всего лишь памятник-камень, здесь он живой, здесь его земля, его дом, его дух. Осмотрев памятник, идем к дому, где живут уджанские учителя Мисак и Алмаст Гаспаряны. Приехав в это село, невозможно обойти дом Алмаст, который стоит у самого въезда в Уджан. Словно о нем писал наш поэт Мисак Мецаренц еще в начале века: «Стать бы мне хижиной у края дороги, зазвать бы мне всех на мое тепло и свет». Это, конечно, не хижина, а новый двухэтажный дом, правда, еще не обставленный. Да и как тут успеть, если почти каждый день гости, по-сасунски щедро накрытый стол. Помню, когда впервые мы, группа писателей, пришли в этот дом, Алмаст, смуглая и сильная, лет под пятьдесят, с детской непосредственностью воскликнула: — Клянусь детьми, даже если бы сам господь сошел на землю, я бы так не обрадовалась… И сегодня так же радушно в этом доме. Собралась вся родня, приехали из Еревана, из талинских деревень, где Алмаст провела свою учительскую молодость и где у нее теперь что ни дом, то друзья. Талин. Пожалуй, во всей многокаменной Армении не сыскать такой скупой и бесплодной земли, как в этом покрытом серыми грудами валунов горном краю. Но, пожалуй, на всей нашей земле с ее древними пергаментами и священными руинами не сыскать и другого такого места, где так явственно ощущалась бы духовность, так жила в памяти народа его история. Оставив там, за чертой, синие хребты первозданных гор, где слагался эпос о могучем юноше Давиде, осев здесь, в отрогах Талина, сасунцы усыновили эту многотрудную, исхудалую землю, вложили в нее всю нежность и тоску по силой отторгнутому, покинутому краю. Так вот и сложилось, что с тех пор, как обосновались они здесь, вроде бы и не очень далеко от города, многое сохранилось в сасунцах от Сасуна — их упорное трудолюбие, исконное чувство человеческого достоинства, где так естественно уживаются рядом необоримая крутость горцев с врожденной возвышенностью, наивной мудростью бардов. Ярко-красный трактор новейшей марки, уверенно вгрызающийся в неподдающуюся твердь земли, почтительно соседствует со своеобразным сасунским «домостроем». Прочитав за хлебосольным столом только что сложенные им строки об Арарате, бригадир колхоза села Базмаберд — один из постоянных гостей Гаспарянов — сразуже переходит к делам житейским: — Был у нас в селе такой никудышный человек. Взял себе в жены учетчицу из Аштарака, привез к нам. Весь клуб под свадьбу заняли. А через год — нате рам! — этот дармоед-тунеядец прогнал ее. Не хочу, мол, больше жить, давай развод. Ну, я собрал сельский актив — и прямо к этому молокососу обсудить ситуацию. Словом, отдубасили мы его как полагается! «Слушай Ты, шкодливец, говорю, забыл, что ли? Жена не рукавица, с руки не скинешь да за забор не кинешь. Еще из чужой деревни привел. У тебя что, честь корова языком Слизнула?! Сасунец ты или подкидыш?!» Очухался он после нашего «обсуждения», пошел и как миленький водворил жену назад. Вот, значит, среди какого застолья оказался чинный, похожий на лорда сотрудник фонда Гюльбекяна Ваграм Мавьян. Но кому-кому, а мне было ясно, что творилось в эти минуты за кажущейся на первый взгляд чопорностью этого человека — автора книг «Обломки рода» и «Бессвязный дневник», книг, в которых живет неистребимая боль за судьбу тех самых «обломков», рассеянных по свету. Спустя несколько месяцев я прочла заметки Мавьяна о днях, проведенных им в Армении. В этих воспоминаниях, согретых дымом дружеских очагов, выше всех поднимались клубы дыма от очага, что находился возле дороги, у въезда в село Уджан… Из театра мы с Мавьяном возвращаемся пешком. Несмотря на то, что смотрели комедию, идем охваченные мягкой грустью весеннего вечера. — Ну как тебе наша колония в Америке? — интересуется Ваграм. — Караваны еще в пути? — Караваны все больше удаляются, — отвечаю я. — Да, удаляются… И я был в Америке, два раза, писал об этом… Не читала небось? — Нет, к сожалению… Но прочту, обязательно прочту. — А мы вас читаем от корки до корки. Правда, мы ведь «зарубежная армянская литература». Занесли в рубрику, но не читаете, — с легкой обидой подкалывает Мавьян. — Ну, ты-то не имеешь оснований жаловаться. Твои книги здесь издаются, получают высокую оценку, — отбиваюсь я, хотя где-то в душе смущена. Читать-то читаем, но не хватает той постоянной заинтересованности, которая так необходима им, одиноким воинам, отстаивающим родную культуру. — Эта зима в Лиссабоне прошла особенно туго, наверно, годы дают себя знать, — говорит Мавьян. — Казалось бы, такое дело делаю, тружусь в этом самом фонде, помогаю «обломкам» сохранить себя. И вдруг выпадают дни, когда так тошно становится, так пусто. Я ведь и сам «обломок», только, на свою беду, глубже, чем другие, ощущаю все это. Как-никак писатель, хотя и зарубежный, — горько усмехается он. Несмотря на то, что поздний час, улицы многолюдны, люди возвращаются из театров, концертов. Многие прохожие узнают меня. Но почему-то сейчас мне особенно неловко. — Все телевизор! И писатель, как преуспевающий футболист, словно на витрине, — оправдываюсь я. — И, как преуспевающий футболист, счастлив! — Ладно, не ехидничай. — Я не ехидничаю, я правду говорю… Помнишь, в «Бессвязном дневнике» я писал о смерти Степана Зорина? Вы счастливые, вы живете на родине. Я хочу превратить все в шутку: а кто, мол, тебе мешает стать счастливым, пожалуйста, приезжай, найдем подходящую невесту, женим, — но молчу. Эта легковатая шутка никак не вяжется с тональностью нашей беседы. — Доброй ночи, Ваграм. — Доброй ночи. Дома вновь перелистываю «Бессвязный дневник», нахожу страницы об Армении, перечитываю описание похорон Степана Зоряна. «Сегодня родной народ предал земле одного из своих талантливых сыновей — Степана Зоряна. Впервые я так ощутимо, до осязаемости, понял, какое это утешение — иметь возможность быть похороненным в своей родной земле. На мгновение мне даже почудилось, что не такая уж большая разница, над или под этой землей ты. Суть в том, что в обоих случаях эта земля — твоя… Мне было грустно, и это была другая грусть, чем у тех, кто стоял рядом со мной. Это была грусть человека, который хорошо знает, что такое быть армянским писателем, но прожить всю жизнь на чужбине и умереть, быть захороненным на чужом кладбище, в чужой земле». Но даже и после этих строк, всем сердцем и умом понимая, что такое не умереть, а родиться на этой земле, всем телом ощутить, всеми порами впитывать то древнее и юное, что есть в ней, как бы часто ни приезжал он сюда за глотком живой воды, все равно Мавьян завтра снова отправляется в путь. Чужие страны и дороги приучили его к другой жизни, к другому ее ритму и нравам, к повадкам вольной птицы без гнезда. Да и, кроме того, география его героев — спюрк, и рн следует за ними повсюду, от Португалии до Америки. Так и будет колесить Ваграм из города в город, от берега к берегу, как дорожную сумку, влача за собой от аэропорта к аэропорту эту свою из года в год все более и более отяжеляющую вольность. Как все относительно и как сложно в жизни.21 марта, Егвард
В дни моего пребывания в Торонто мне неоднократно расписывали замок «Армавир» и его владелицу мадам Пируз Бабаян. Мне тоже захотелось взглянуть на замок, хоть и чувствовала, что мои приятели из Торонто не так уж рвутся туда. На помощь пришла Ани, жена племянника мадам Бабаян, с которой она и договорилась о нашем приезде. Ехали мы туда в тетушкиной, как говорит Ани, громадной машине цвета слоновой кости, сверкающей изнутри и снаружи. Знаменитый замок не произвел особого впечатления — этакая западно-восточная двухэтажная эклектика. На фронтоне нечто вроде герба с одним словом «Армавир». Говорили, что и впрямь сюда можно написать просто по адресу: «Торонто, «Армавир» — и письмо дойдет. Не знаю, так ли это, лично я проверять не собираюсь, но то, что Бабаяны известны в канадской колонии, — факт. Добрым словом поминают умершего хозяина «Армавира», который был здешним старожилом, с участием относился к нуждам колонии, помогал людям. Дверь нам открыла смиренная немолодая женщина и, мягко улыбаясь, провела внутрь дома. У хозяйки больные ноги, ей трудно вставать. Поздоровались, и я собралась было уже присесть рядом, поинтересоваться ее здоровьем, выразить соболезнование по поводу того, что в этом огромном мире она осталась одна. Но не успела и слова вымолвить, как мадам распорядилась немедля бросить меня на осмотр замка. Я молча последовала за Ани, тут же раскусив, что на первом месте здесь вещи и стены, колонны, разукрашенные орнаментом, и тому подобное. А этого подобного оказалось такая уйма, что бедная Ани еле успевала пояснять, что привезено из Флоренции, а что из Вены. Вот это кресло — работа китайских мастеров, этот шкаф индийский, а этот сервиз принадлежал Людовику такому-то, эти два канделябра из Каира или Багдада, плиты бассейна из Венеции, ковры из Персии. Словом, когда после пробежки по этажам мы вернулись к хозяйке, мне показалось, что я совершила блицкруиз вокруг света, делая минутную остановку в каждой стране. Во время «путешествия» Ани, которая была иронична и соображала, что к чему, рассказывала мне попутно и о владелице всех этих заморских чудес… — Мадам не поощряет никаких намеков на ее возраст. Моим малышам запретила называть ее бабушкой. — А как же они ее называют? «Мадам»?! — Нашли выход, сократили фамилию до «баба». Мадам жаждет прослыть знатоком всех событий, свершающихся в мире, порассуждать о политике. — Она одна здесь живет? И ей не страшно? — Да, одна… Как-то в дом забрался вор, но она железякой стукнула его по голове так, что он еле ноги унес… Конечно, сейчас мадам очень сдала, нуждается в уходе, но характер у нее не сахар. Та женщина, что открыла нам, ее дальняя родственница, приходит время от времени, помогает… Ани лишнего не говорит, но за словами угадываются другие, подтверждающие молву о владелице замка, ее жесткости к людям, о ее феноменальной скупости. Несмотря на миллионы, жалеет денег даже на то, чтобы оплатить уход за собой. — Ну как вам «Армавир»? — спрашивает мадам Бабаян и, не дожидаясь ответа, сообщает: — Слышали, что передавали по радио? В какой-то стране арестовали премьера и в тюрьме убили. Назвали еще писателя, но я не расслышала… Тяжелое положение в мире, тяжелое… Я догадываюсь, что она «обозревает» события в Чили. — Интересный дом у вас, — прерываю я не слишком дипломатично. — Да, мы с мужем все это привозили из своих поездок. Раз в год я в Торонто объявляю День замка «Армавир». Приходят люди, осматривают все, а я раздаю деньги нуждающимся. — Свои раздаете? — встрепенулась я. — Нет, зачем свои? Посетители оплачивают право за вход, а я эти деньги жертвую на бедных. Придумано неплохо. Жертва, но без заклания. — Мадам Бабаян, когда необходимо, не поскупится, — вставляет Ани, — мы ей очень признательны, она помогла нам построить дом… О том, что взамен тетушка сверхаккуратно взимает вполне высокую квартплату за него, Ани тактично умолчала. Все-таки старушка «перспективная» — восьмой десяток на исходе. — Да, но только когда необходимо, — вносит ясность хозяйка. — Помилуйте, к чему эти щедроты нашего государства, пособия безработным? Приучают только к безделью. Вот они и не желают трудиться, эти рабочие. После краткого экскурса в социологию нас приглашают в гостиную. Сижу в разузоренном кресле черного дерева с таким чувством, словно в Эрмитаже на троне какого-нибудь из фараонов… Мадам восседает в таком же. Волосы покрашены в ярко-рыжий, губы подмазаны. В ушах жемчужные серьги, сама в легком шелковом платье с огромными цветами. Но из всех средств, призванных реставрировать владелицу замка, этой цели служат воистину лишь очки с толстыми стеклами. Как бы строго мадам ни запрещала называть себя бабушкой, она, увы, не в силах запретить глазам слабеть… Тихо, бочком, входит та самая дальняя родственница, вносит малюсенькие рюмочки с ликером, коробку с остатками шоколадных конфет. Ее приход как-то очеловечивает угнетающую музейным безучастием гостиную. — Ну, рассказывайте, как вы? — продолжает беседу хозяйка. — Благодарю, немного утомлена. Сами знаете, путешествия, встречи… — отвечаю я, на секунду забыв, что интересы моей собеседницы не могут ограничиться одной личностью. — Да нет, народ! Народ Армении как живет? — уточняет гостеприимная мадам. — Народ?.. Ничего. Живет. — Доволен? — Доволен. — Серьезно? — Серьезно, — отвечаю, уже ясно понимая, что серьезного разговора здесь и не жди. — А порядки ваши как, привыкли к ним? — Привыкли. — Ну конечно, куда же вам деваться?! Меня так и подмывает оборвать: дражайшая, занялись бы своими делами. Пора, как говорится, и о душе подумать. Ну что вам до наших «порядков», привыкли мы к ним или не привыкли? — А я была у вас в Ереване. И к вам приходила в гости. — Ко мне? — удивляюсь я. — Когда? С кем? — Не то в 67-м, не то в 68-м… нет, пожалуй, в 69-м, точно не помню… Приезжала с большой группой из Америки, с ними же была и у вас дома. Как это вы забыли? Хозяйка явно уязвлена, а я, что греха таить, довольна тем, что из памяти моей начисто вылетел визит этого феномена. В ту минуту сей факт показался мне не только свидетельством моей слабеющей памяти, а иной мерой человеческих ценностей, иным отсчетом. В Ереване бабаяновские миллионы «не сработали», не вызвали должного эффекта. От встречи в «Армавире» у меня остался неприятный осадок. Досадно, когда такие люди заводят речь о «порядках» в Армении. Люди, для которых прибыль в один цент дороже всей Армении, которые в своей торгашеской суете и не упомнят год первой встречи с нею, словно это одна из того множества стран, откуда они волоком волокли свой разномастный антиквариат. Эти порядки — наши, наши и радости, и боль. И чтобы разделить эту радость и болеть этой болью, нужно иметь право на это, нужно заслужить его…22 марта, Егвард
Я захватила с собой из Еревана в Егвард горшок с бегонией, порядком уже поникшей, пожухлой. Поставила здесь на окно, к солнышку, полила, и, гляжу, бегония потихоньку приходит в себя. Уже третий день слежу за каждым распрямляющимся листком, и этот оживающий с моей помощью, на моих глазах цветок доставляет большую радость, чем любой подаренный пышный букет. Все это не ново. Кто не знает, что нет для садовника ничего приятнее, чем раскрывающиеся весной первые почки, первый плод, снятый с посаженного им дерева. Ведь в этом дереве его труд, его старания, в нем обретает свою осязаемую форму, свою «материальность» прожитый вчера день. И если можно так привязаться к одному кустику, к одному деревцу потому, что ты выходил его, потому, что в нем частица тебя самого, то каким же множеством нитей ты должен быть связан с той землей, которая почти из небытия приоткрыла глаза и с твоей же помощью встала на ноги. В ее нынешней жизни, в ее преображенном «сегодня» — твой вчерашний день, вся твоя молодость, вся прожитая, выстраданная тобой жизнь. За границей я часто ловлю себя на том, что любое, даже подчас справедливое, замечание по нашему адресу как-то особенно задевает меня. Те пробелы и промашки, о которых я дома откровенно говорю сама, порою с резкостью, избыточной эмоциональностью поэта, там, за чертой, как-то отходят в сторону, и вступает в свои права всевластная, ревнивая любовь к своей земле, гордость за все то дорогое, что осталось на родине… Что же это такое? Инстинкт самозащиты от возможных нападок или иное, более сложное, многомерное чувство?.. Родина не только география, история, памятники и великие имена, но и живущие рядом люди, те, кто, неся в себе ее прошлое, в то же время растят будущее. Более того: родина — это время, тот отрезок многовековой биографии народа, который совпадает с твоей биографией. Именно с дозорной башни своего времени и глядишь ты на ушедшие века, на грядущее народа, на многовековую панораму его жизни. Каким бы ни рисовалось тебе ее прошлое и даже, более того, ее будущее, все равно ты крепче всего связан именно с этим отрезком — с родиной своего времени. Наверное, очень славны были времена Тиграна Великого, блистательны смотры войск и пиры в стенах Ани, столицы рода Багратуни, возможно, еще блистательнее дни будущего, но я слита с Арменией моего времени: именно она — моя реальная, живая, пульсирующая родина, мои именно эти ее пятьдесят пять лет с голодными и счастливыми днями, с юношеским восторгом от первого воздвигнутого здания, с наивным ликованием ребенка от подаренной ему первой игрушки — открытия крохотного Ширканала, с победным гарцеванием Давида Сасунского, вышедшего из древней пещеры на площадь Ленина в Ереване в дни своего тысячелетнего юбилея, с улицами, затемненными, ссутулившимися от войны и горя, с необузданным, языческим ликованием Девятого мая, с торжествами в честь 2750-летней годовщины Эребуни-Еревана, когда открылись погребенные под пылью века, а также с горечью беспримерных испытаний и лишений, со смятением и отчаянием и с вновь и вновь врачующей надеждой. Это мое время, Армения моего времени, и мне трудно отделить друг от друга эти понятия и любить родину вообще… Вот от этого сложного, объяснимого и необъяснимого чувства, наверное, я так чутка к каждому опрометчиво произнесенному слову, к каждой небрежно оброненной оценке моего времени…23 марта, Егвард
Вечером по «Маяку» передавали песни, победившие на радиоконкурсе. Среди исполнителей прозвучало имя Бюль-Бюля-оглы. И сразу вспомнилось наше забавное знакомство в Новосибирске. Я очутилась там после Декады советской литературы в Алтайском крае. Решила поехать на север, в Сибирь, увидеть Новосибирск, Иркутск, озеро Байкал, Братскую ГЭС. Приехала одна, и это имело свои преимущества после бурной алтайской жизни. Но все же каких-то мероприятий не миновать было. В Новосибирске, в городской библиотеке, что называется «экспромтом», состоялась не очень многолюдная встреча с читателями и вторая такая же в знаменитом Академическом городке. Обе встречи прошли, как говорится, «в теплой и дружественной обстановке». Никакого докладчика, никаких выступлений с трибуны, просто люди вставали и с места рассказывали о своих литературных привязанностях. Мне было приятно, что они знают армянскую поэзию, наших поэтов. Какой-то мужчина средних лет попросил рассказать об Аветике Исаакяне, сказал, что это самый его любимый поэт, и прочел наизусть отрывок из поэмы «Абул-Ала-Маари». Женщина-инженер, узнав о сегодняшнем вечере, не поленилась приехать сюда, в Академгородок, за тридцать километров. Как я и предполагала почему-то, она прочитала мое стихотворение «Ушел». Видимо, была из числа тех доверчивых, простодушных читательниц, которые слишком уж большое бремя взваливают на хрупкие плечи поэзии, надеясь, что стихотворная строка, как шлагбаум, может перекрыть путь, остановить, вернуть того, кто ушел. Этим, наверно, можно объяснить счастливую судьбу стихотворения «Ушел». Рожденное в ереванской маленькой комнатке, оно в переводе поэта Михаила Львова на крыльях русского языка улетело от меня неожиданно далеко. И надо сказать, что этот светловолосый, синеглазый поэтический близнец моего стихотворения принес, пожалуй, больше мне радости, чем его черноглазый братишка. В трудные мои минуты истинное утешение доставляют мне письма, пожелтевшие и новые, рассказывающие то о девушке-геологе, согнувшейся под тяжестью рюкзака и неразделенной любви, то о десятикласснице из волжского села, к которой впервые пришла горечь нежданной разлуки. И, растерянная, еще надеющаяся, она повторяет:Ушел… Но знаю всей душою: Нам друг от друга не уйти. Я знаю, я всегда с тобою. Я перекрою все пути.
Я — дом твой, я — твоя дорога, Ты ходишь с образом моим. В тебе меня настолько много. Что нету места там другим…
Что сказать, эти новосибирские встречи были радостью, но настоящий сюрприз ожидал меня на другой день, когда я пришла в Оперный театр со своей здешней приятельницей. Сначала решили посмотреть музей при театре. — Вот ваш Хачатурян, — говорит нам старый оперный актер, теперь заведующий этим музеем, показывая на большой портрет со знакомой размашистой подписью. — Он приезжал на премьеру «Гаянэ» и «Спартака»… Осенью у нас пойдет спендиаровская «Алмаст», дирижер приедет из Еревана. Может, и вы заедете, а? Старик произносит это так просто и обыденно, словно Новосибирск где-то в десяти — пятнадцати километрах от Еревана и в любую минуту я могу заскочить туда. Благодарю за приглашение, и, попрощавшись, мы идем в другое крыло здания, где находится местная филармония. Должен был выступать азербайджанский молодой певец Бюль-Бюль-оглы. Не только певец, но и композитор— он исполняет лишь песни, положенные на музыку им самим. Мягкая переливчатость интонации напомнила мне его знаменитого отца, с которым я познакомилась в юности, когда впервые в жизни «вышла в свет», была включена в армянскую делегацию, ехавшую в Баку на празднование столетия Мирзы Фатали Ахундова. Вот тогда-то в опере «Кер-оглы» я услышала этого звонкоголосого соловья — Бюль-Бюля. И, может, от давнего, милого сердцу воспоминания ощутила что-то родное в изящном, модно одетом, длинноволосом молодом человеке, в его песнях, где резкие современные ритмы смягчала жаркая сердечность Востока. Настроение у меня было отличное. Однако это блаженное состояние длилось недолго. — Сейчас я спою песню, которую написал на слова моего друга Расула Гамзатова. Мне бы очень хотелось написать музыку и к стихам поэтессы, которую я тоже очень люблю и которая сидит сейчас… Больше я уже ничего не слышала. Сердце заколотилось, я видела только, как зал, повернув головы к нашей ложе, хлопал. Бюль-Бюль-оглы, подавшись вперед и аплодируя, как бы дирижировал залом, и это длилось до тех пор, пока я не вынуждена была встать и поклониться. Не знала, радоваться мне или сердиться: что еще за выходка?! Но вижу — получилось вроде бы неплохо. Правда, большинство в зале, наверно, и не слыхали о моем существовании. Хлопали так, «за компанию». Но что там ни говори, озорство Бюль-Бюля-оглы обернулось рыцарским жестом — голом, забитым в ворота братской команды. Эти мысли кружатся в голове, а концерт уже подходит к концу, девушки одна за другой протягивают букеты герою дня, бросают цветы к его ногам. И — бах! — второй гол летит в те же ворота, в мою ложу. Бюль-Бюль-оглы подбирает цветы и громогласно объявляет, что дарит их дочери Армении, своей старшей сестре Сильве-ханум. Мне остается лишь на бис снова разделить аплодисменты, которые он так великодушно уделил мне из своей славы. После концерта иду за кулисы поздравить Бюль-Бюля-оглы. Увидев меня, он бросается навстречу. Я говорю, что знала его отца, что он был прекрасный певец. При упоминании об отце по мальчишески дерзкому лицу пробегает грустная тень, в глазах печальная нежность. И я чувствую все большую симпатию к моему юному соседу, внезапно оказавшемуся в далеком Новосибирске. Если бы всегда было так, если бы людей связывали друг с другом лишь песни и стихи, не было бы споров, недомолвок, если бы люди состязались в том, чтобы доставить радость друг другу, в том, чтобы превзойти друг друга в доброте… Наверное, в такую минуту и родилось мое стихотворение «Смятение», где есть следующие строки:
Я покоя хочу, И в гармонию жажду поверить, И бездонность вселенной Космической мерою мерить, И уже не глядеть, исстрадавшись, На землю, на карту, Где границы Режут, как говорят, по живому, Рассекая и нервы, и вены… Я хочу дерзновенно По следам космонавта пройти, Полной грудью вдохнуть Это самое звездное счастье Человека грядущего И не вспомнить при этом, Что, как звезды, по свету Рассеяны мы. И никакая межзвездная трасса Нас не соединит, Нас не может Собрать воедино…[7]
Что бы там ни было, человеческая душа всегда таит в себе тоску по умиротворению, по добру, по гармонии…
24 марта, Егвард
В Торонто я побывала у старого Седрака Татаряна. До этого слышала его голос только по телефону. В нем столько тепла и заинтересованности, что невозможно было не пойти и не услышать его прямо, без посредничества металла и пластмассы. Татаряна считают здесь старожилом. Приехал он сюда из Стамбула пятьдесят лет назад и стал работать на ферме. Через год-другой в Оттаве занялся было ковровым делом, но… — Во всем городе не оказалось ни одной знакомой души, ни одного родного слова не услышишь… Бросил все, переехал в Торонто… Здесь продолжал заниматься тем же, но так и не смог воздвигнуть свой «Армавир», не привез из Италии или Китая ни рюмки венецианского стекла, ни фарфоровой чашечки. Из другого теста вылеплен — из доброты, из любви к людям, из инстинктивного неприятия всевластного гнета денег. Маленький дом Седрака набит книгами. На стенах виды Армении — вырезаны из наших газет и журналов. В потертом кресле сидит сам хозяин, худощавый, с болезненным лицом. Недавно он вернулся домой после длительного лечения в больнице. У него нет ни жены, ни детей, но добрые люди всегда приходят на помощь старику, как бы стараясь не остаться в долгу за отданное им людям. Невольно задумываешься. Вот две старости, два одиночества. Одно — под разукрашенным сводом виллы «Армавир», в пестром разнобое натасканных со всего мира вещей и вещичек, в угнетающем безлюдье, которое расстилается не только по дому, но захватывает и двор, и улицу, все окрест. Другое — почти пустая комната, шкафы с книгами, вырезанные из газет и журналов фотографии зданий и площадей Еревана. Но от этой комнаты, этих стен и книг, от самого старика, бледного, больного, исходит тепло и падает свет. Слабый, словно от лучей зимнего солнца, но согревающий душу. И отсвет этого тепла несет в себе каждый, кто знает Седрака Татарина, кто слышал о нем. На столе Татарина лежат какие-то бумаги, карты. — Где вы живете? — спрашивает он меня. — В Ереване. — Знаю… На какой улице? — На улице Терьяна, Терьяна, 59. — А-а-а-а, значит, возле Оперы? — Вы были в Ереване? — Нет, не был… Но знаю… Видите эту карту Армении? Я начертил ее. А вот план Еревана, хочу увеличить… Достроили Дворец молодежи? — Скоро закончим. — А подземный трамвай? Обо всем знает этот старик, которому уже за восемьдесят и который живет один на окраине далекого Торонто в своем маленьком домике. С трепетом ждет он, когда придут из Армении газеты и журналы, огорчается, что так запаздывают, что шрифт ереванской газеты «Айреники дзайн»[8] очень уж мелок для его старческих глаз. Он перебирает бумаги, наконец находит листок из школьной тетрадки и протягивает мне. — От Гаянэ Манасян. Вы знаете ее? Живет в Ереване, на Кутузова, 38, неподалеку от проспекта Коми-таса. — Это ваша родственница? — Нет, переписываемся с ней. Учится в школе имени Варужана. Прочтите это письмо. Ей всего одиннадцать, но так хорошо пишет по-армянски, прямо диву даешься… Читаю. Обыкновенное письмо девочки, написанное ученическим ровным почерком, но в глазах человека, который видит вокруг детей, пишущих только по-английски, армянский язык одиннадцатилетней Гаянэ кажется просто каким-то чудом. Татарину очень хочется послать что-либо в подарок своей маленькой корреспондентке, он шарит глазами по комнате, — может, открытку какую или жвачку, самописку, — но под рукой ничего нет. Я обещаю одну из своих ручек подарить от него Гаянэ. Старик доволен. На прощанье мы целуемся, он шепчет слова, которые, как «Отче наш», повторяют все армяне спюрка, когда приходит пора расставания: — Передайте привет Армении.Встрече с Тиграном Меликяном в Монреале также предшествовал телефонный разговор. В трубке прерывистый, взволнованный голос, едва разбираю слова. Обещаю обязательно выкроить время и навестить, так как слышала, что он, один из уважаемых в колонии людей, сейчас парализован после инсульта. Две маленькие комнатки с побеленными стенами в большем многоэтажном доме, в новом, отдаленном районе города. Он недавно приехал сюда с Кипра, где жила уже очень давно его родня. В Канаду переехал потому, что там две его замужние дочери. Тесно связанный с Советской Арменией, Тигран Меликян был на Кипре председателем Комитета по репатриации, а в 1961 году Общество по культурным связям с заграницей пригласило его погостить в Армении. Судя по дрожащему в телефоне голосу, я думала, что увижу пригвожденного к постели старика. Оказалось не так. В металлическом кресле-коляске — красивый, одетый с иголочки пожилой человек, на лице которого почти нет морщин. В речи то и дело проскальзывает юмор. — Есть такая притча, — посмеиваясь, рассказывает он. — Один человек приходит в гости к другому. Угощают его на славу. Расставаясь, гость сокрушается: «Ох-ох, и зачем мы только повстречались, зачем подружились, зачем я пришел к вам в гости, зачем такое угощение выставили? Лучше было бы, если бы я вас не знал…» Ошарашенный хозяин на минуту столбенеет, пока до него не доходит, что это своеобразная форма восторженной благодарности. То же самое и с моим приездом в Армению. Я тоже мог бы сказать: зачем я поехал, зачем увидел Армению? Теперь без нее жить труднее. Все короткое время нашей встречи Тигран Меликян заполнил воспоминаниями тех дней. Когда же магнитофон воспроизвел его речь, произнесенную по ереванскому радио, мне показалось, что я дома и поздно вечером слушаю ежедневную передачу для спюрка. «Я приехал, чтобы собственными глазами увидеть родину, Советскую Армению, которую вы создали своими руками. Слава вам, родные мои! Когда колокол забил тревогу, когда мы были на краю гибели, именно тогда донесся к нам голос друга, голос спасения: «Нет, ты должен, ты будешь жить», — и дружеская рука бескорыстной помощи дотянулась до нас. Мы помним эту руку. Великодушный брат наш, русский народ, слава тебе…» Великие открытия двадцатого века, иначе говоря — НТР внесли в жизнь человека много сложного, непредвиденного, но и многое подарили ему. И один из этих даров — звукозапись, когда неодушевленная, сгибающаяся под рукой узкая пластмассовая полоска как живая вбирает в себя и хранит прозвучавший когда-то голос человека, затаенную в этом голосе улыбку, вздох, дыхание, сберегает все, и вот через много лет оживает перед тобой та давно уже канувшая минута, слово, произнесенное когда-то, и в нем, в этом слове, молодое биение твоего уже изношенного, старого сердца. К привычным вещественным доказательствам и следам, оставшимся от прожитой быстротечной жизни, — письмам, дневникам, альбомам, фотографиям — прибавились и эти волшебные шкатулочки-кассеты, где схвачены и остановлены несколько драгоценных секунд из стремительного полета времени. Вот о чем думала я, когда слушала записанные на пленку слова Тиграна Меликяна и видела блаженное выражение его лица, быстрое чередование самых различных чувств. Многого лишился бы этот старый человек, не будь вот тут у него, под рукой, этой маленькой пластмассовой катушки с намотанными на нее пятнадцатью днями счастья. Разматывается лента и каждый раз снова и снова синей жилкой связывает его, соединяет с той пульсирующей артерией, что называется народом, Родиной, жизнью. В Фресно, в гостях у писателя Вагэ Гайка, я почувствовала себя очень усталой, попросила хозяйку дать мне возможность на несколько минут остаться одной, передохнуть. Только голова коснулась подушки, как в комнату без стука вошел сутулый, седой человек. — Очень прошу, извините меня. — Говор у него густой, харбердский, так странно звучащий в этой калифорнийской дали. — Я из Харберда, зовут Наполеон Айачян. Здесь у меня виноградники. Я был в Армении, видел Ереван. — Глаза его повлажнели, голос тоже. — Нет у меня на свете никого из родных. Очень хочу пожить в Армении… нет, не как турист, а просто хотя бы три-четыре месяца. Хочу приехать и каждый день рано утром приходить к детскому саду, постоять в стороне, поглядеть на детей. Больше ничего мне не надо… Постоять и поглядеть. Я бездетный, но те дети — мои. Все. Здесь, когда я трачу на цент больше, мне кажется, что трачу их долю. Я уже сделал завещание. Не очень-то богат, но то, что имею, хочу, чтобы попало в Армению, в детские сады… Я молчу, не знаю, что сказать. Эта минута кажется мне священной присягой, которую я не вправе нарушить ни жестом, ни словом…
25 марта, Егвард
В Канаде армяне большей частью живут в Монреале и в Торонто. Поэтому в моей канадской программе целая неделя была отведена на Торонто. Из Монреаля я добиралась на машине Сурена Аккибритяна, скорняка, частого гостя в Ереване, моего давнего знакомого. Каждый, кто приезжает в Монреаль из Армении, немедленно попадает под опеку Сурена, который так радушен, так от всего сердца делает все, что может, для приезжего. Поэтому, когда Сурен появляется в Ереване, в гостинице «Армения» буквально образуется очередь желающих зазвать его к себе, отплатить ему за гостеприимство как можно щедрее. На протяжении всей дороги в Торонто Сурен включал свой вечно говорящий магнитофон, и поэтому всегда слышен был голос третьего пассажира; на ленте почти нет записей музыки и песен, а только одни речи. Эльда, жена Сурена, на два месяца приезжала в Армению на курсы переподготовки учителей — и вот, пожалуйста, лента «обессмертила» лекции, прочитанные на этих курсах. В Монреале гостили наши ученые и общественные деятели, лента тоже запечатлела их выступления здесь. Сколько бы ни приходилось мне ездить в машине Сурена, он неизменно потчевал этими записями. Таким образом, за время своего пребывания в Монреале я почти на «отлично» усвоила «грамматику армянского языка», узнала цифры «крутого подъема сельского хозяйства в Армении», выяснила роль «армянского зодчества в мировой архитектуре» и многое, многое другое. Сурен включал эти нескончаемые речи и лекции, сияя от удовольствия, восторженный и счастливый, ждал моего отклика. Попробуй-ка устоять перед таким детским восторгом от всего того, что связано с Арменией! В отличие от Монреаля, в Торонто бразды правления армянской колонией в руках молодежи. Среди них особенно активен Грач Пояджян, редактор еженедельной передачи для канадских армян «Текеяни дзайн» по радио и телевидению, необыкновенно энергичный и деловой. Из моего крайне перегруженного времени он буквально выдрал несколько часов и повел в студию, чтобы записать. До этого вместе с ним мы ходили в офис продлевать срок моего пребывания. В канцелярии было довольно многолюдно, мы встали в очередь, и когда подошли ближе, из окошечка прямо на нас взглянуло неприветливое, тусклое лицо пожилой женщины. — Боже упаси от дам-управительниц! — полушутя, полусерьезно шепнула я Пояджяну. — Попади только в их руки… Не то что продлят, а сократят… Я с пылу предложила даже перестроиться на ходу к окошку, за которым восседал мужчина, но Грач уже протянул мой паспорт. Женщина молча взяла его, и пока я с трепетом ждала, что вот-вот она возвратит с вежливым отказом, вдруг на ее суховатом лице мелькнуло некое подобие улыбки, которая быстро переросла в откровенную благожелательность. Женщина перекинулась несколькими словами с Грачем и, повернувшись к сидящей рядом сотруднице, показала мой паспорт, потом к ней подошли еще сослуживцы, брали паспорт в руки, разглядывали… Наконец Грач оторвался от окошка и в ответ на мое удивление объяснил, что их заинтересовал советский паспорт, поэтому-то он и переходил из рук в руки, и что они даже сказали, что он очень красив… Я тут же вспомнила Маяковского: «Берет — как бомбу, берет — как ежа, как бритву обоюдоострую…» Да, все течет, все меняется, и, как видим, к лучшему…
Юношеская энергия Грача Пояджяна не знает предела. Кроме армянских дел он живо участвует в здешней общественной жизни. Сейчас же изо всех сил старался расширить и сферу моих наблюдений.
— Завтра у вас встреча с мэром Торонто, это будет небесполезно и для нашей колонии, — объявляет мне Грач.
Я охотно согласилась, тем более что здание городской мэрии Торонто произвело на меня большое впечатление и мне было интересно увидеть его изнутри, так сказать, «в рабочем комбинезоне»…
Построено это здание по проекту финского архитектора Вильо Ревела, победителя в международном конкурсе, объявленном мэрией Торонто. Оно считается одним из шедевров современного зодчества. Две неравные полуокружности — одна двадцати, другая тридцатиэтажная. Они стоят друг против друга и частично входят одна в другую. В центре низкое круглое строение с выпуклой крышей. Словно высеченный белый колодец, дно которого на земле. Перед ним газоны, выложенные плитами площадки, водоемы с перекинутыми через них легкими мостиками, скульптуры. Все так ослепительно бело, такая точность отделки, что кажется, это не мощное строение из камня и бетона, а великанский белый макет. Слева от входа на постаменте некое металлическое многоствольное сооружение — работа знаменитого английского скульптора Генри Мура. Вспоминаю, что дома, у моего сына, я видела фотографию этой скульптуры. Что и говорить, занятно было повстречаться с оригиналом. Спешу увековечить себя возле этой скульптуры, хотя, признаюсь, мало что понимаю в подобного рода искусстве.
Прежде чем пойти в мэрию, заглядываем в парламент штата Онтарио.
У входа на высокой деревянной тумбе громадная корзина, где помимо цветов победные штыки колосьев пшеницы, литые ости которых словно изваяны из меди. На корзине надпись: «Береги природу Канады». Ну что ж, если даже Канада, так сверхобильно наделенная лесами и нивами, озабочена охраной своей природы, то как надо стараться нам, на нашем гористом пятачке…
Чтобы войти в зал заседаний, нужен был пропуск, Грач тут же его получил. Мы вошли в зал, вернее в ложу, которая предназначалась именно для таких любопытствующих. Сели. Внизу шло заседание одной из секций парламента — наверное, секции социального обеспечения. Председатель парламента за столом в центре. По одну сторону амфитеатра восседали министры, по другую— депутаты. Высокий мужчина горячо доказывал что-то. Мой спутник перевел: жалуется на недостаточность пособия,
— В семье четверо детей, а пособие получают ничтожное… Попробуйте вы прожить на эту сумму, господин министр социального обеспечения…
Господин министр, тщедушная флегматичная личность, откинувшись на спинку кресла, слушал и жевал жвачку…
Полным антиподом этому министру оказался мэр Торонто господин Крамби — невысокого роста, рыжеватый, подвижный и от этого кажущийся совсем молодым. Он, широко улыбаясь, вышел нам навстречу. Трудно было представить, что у такого огромного, внушительного здания такой веселый, непринужденный хозяин.
Нас было четверо — известный в Канаде художник-фотограф Арто Гавукян, глава приходской общины Торонто, инициатор этой встречи Грач Пояджян и я. Чтобы начать беседу, я сразу же завела речь о здании мэрии, его удивительной архитектуре. Желая доставить удовольствие «отцу города», рассказала, что мой сын, скульптор, увлечен Генри Муром, что фотография скульптуры у входа в мэрию украшение нашего дома и я рада встрече с оригиналом, этим шедевром современного искусства, за который мэрия Торонто не поскупилась уплатить семьдесят тысяч долларов.
— Это было до меня, — поспешил уточнить господин Крамби, — я лично привержен классическому искусству. Мне непонятны эти фокусы.
Что греха таить, я связывала большие надежды со скульптурой Мура в том смысле, что мэр, безусловно, оценит мою эрудицию и вкус, но…
Сообразив, что в области искусства мы не достигли взаимопонимания, мои спутники решили исправить положение и поднять наши шансы, сообщив, что я не только поэтесса, но и депутат ереванского парламента. Хочешь не хочешь, но, очутившись на этом пьедестале, я прониклась сознанием своего представительства и выразила благодарность мэру за то, что Торонто так радушен к армянской колонии, и пригласила господина Крамби посетить Ереван.
Наша беседа протекала в полушутливом тоне, соответственно с ее добросердечным и неофициальным характером.
Поскольку господин Крамби не владел русским языком и тем паче армянским, вместо книги своих стихов я протянула ему визитную карточку, где моя фамилия значилась и по-английски. Мэр внимательно изучил старательно оформленную визитку.
— У наших поэтов обычно нет визитных карточек, к этим карточкам очень расположены бизнесмены…
Что и говорить, мне стало совсем худо.
— И у наших нет… Это только когда ездим к вам, — отпарировала я.
Все рассмеялись, а господин Крамби сделал знак своему помощнику принести книгу почетных гостей и, открыв новую страницу, попросил, чтобы я расписалась.
В Канаде, в отличие от Америки, пытаются как-то сохранить самобытность не только национальных меньшинств, но и самой страны, ее лица «необщее выраженье», памятники ее истории, хоть и не такой уже древней. Но преобладает, конечно, ориентация на новизну, самоутверждение через свой вклад в современный мир — его культуру и экономику.
Если на Монреале, самом большом городе Французской Канады, лежит отпечаток традиционного французского лоска, артистичности, легкости, пристрастия к развлечениям, то, напротив, Торонто, подобно англичанину, серьезен, подтянут. Это промышленно-финансовый и административный центр. Очень органичен для Торонто, его деловито-собранного облика, созданный здесь Центр наук, который воистину превыше всех похвал, хоть и не является научным центром в прямом смысле слова, а скорее чем-то средним между музеем, грандиозной выставкой и витриной. Это недавно воздвигнутый комплекс, где отдельные здания соединяются друг с другом стеклянными переходами, эскалаторами и лифтами. Девиз Центра — «видеть то, что видели все, и придумать то, чего еще никто не придумал».
Чего только нет в этих бесчисленных павильонах и залах! Все, что имеет отношение к физике, химии, астрономии, естествознанию, всевозможные экспонаты, знакомящие с промышленностью, связью, дорогами, транспортом. Ко всему можно прикоснуться, попробовать, соорудить. По маленькому телефону дети набирают номер и связываются со своими товарищами в соседней кабине. Группа других ребят окружила телевизор и тут же, не сходя с места, видит себя на экране. В другом зале приводят в действие ветряную, затем водяную и, наконец, электрическую мельницу. В смежном электричество представлено осязаемо и ощутимо — можешь сам высечь искру и регулировать напряжение. В зале химии, если захочешь, ставь опыт и получай разные соединения. В павильоне астрономии от одного нажатия пальца над твоей головой разверзаются просторы автоматически «организованной» вселенной, зажигаются и гаснут любые звезды и планеты. Словом, весь путь науки— от кремня до атома и космического корабля — проходишь за несколько часов.
И сегодня, как всегда, Центр наук битком набит. И взрослые, и школьники с учителями, и дети с родителями. Они в азарте бегают от одного экспоната к другому, присаживаются к тому или иному станку или аппарату и экспериментируют. Таким образом, «сухая» наука становится «мягче», «приручается», превращается в игру, в удовольствие и незаметно проникает в сознание.
В зале физики — лекторий о лазере. В углу у маленьких кабин необычайное оживление. Это комната света и тени. Посетители входят туда и на миг останавливаются перед белым экраном, а после на экране остается их тень, которая исчезает лишь через несколько секунд… Я тоже постояла там и, отойдя, имела счастье лицезреть свой далеко не идеальный силуэт… Юноша и девушка решили более рационально использовать опыт — они нежно поцеловались. На экране несколько секунд оставалось легкое очертание тянущихся друг к другу губ. Наверное, их эксперимент преследовал цель перепроверить и утвердить извечные основы любви в условиях научно-технической революции…
Я с пылу предложила даже перестроиться на ходу к окошку, за которым восседал мужчина, но Грач уже протянул мой паспорт. Женщина молча взяла его, и пока я с трепетом ждала, что вот-вот она возвратит с вежливым отказом, вдруг на ее суховатом лице мелькнуло некое подобие улыбки, которая быстро переросла в откровенную благожелательность. Женщина перекинулась несколькими словами с Грачем и, повернувшись к сидящей рядом сотруднице, показала мой паспорт, потом к ней подошли еще сослуживцы, брали паспорт в руки, разглядывали… Наконец Грач оторвался от окошка и в ответ на мое удивление объяснил, что их заинтересовал советский паспорт, поэтому-то он и переходил из рук в руки, и что они даже сказали, что он очень красив… Я тут же вспомнила Маяковского: «Берет — как бомбу, берет — как ежа, как бритву обоюдоострую…» Да, все течет, все меняется, и, как видим, к лучшему…
Юношеская энергия Грача Пояджяна не знает предела. Кроме армянских дел он живо участвует в здешней общественной жизни. Сейчас же изо всех сил старался расширить и сферу моих наблюдений.
— Завтра у вас встреча с мэром Торонто, это будет небесполезно и для нашей колонии, — объявляет мне Грач.
Я охотно согласилась, тем более что здание городской мэрии Торонто произвело на меня большое впечатление и мне было интересно увидеть его изнутри, так сказать, «в рабочем комбинезоне»…
Построено это здание по проекту финского архитектора Вильо Ревела, победителя в международном конкурсе, объявленном мэрией Торонто. Оно считается одним из шедевров современного зодчества. Две неравные полуокружности — одна двадцати, другая тридцатиэтажная. Они стоят друг против друга и частично входят одна в другую. В центре низкое круглое строение с выпуклой крышей. Словно высеченный белый колодец, дно которого на земле. Перед ним газоны, выложенные плитами площадки, водоемы с перекинутыми через них легкими мостиками, скульптуры. Все так ослепительно бело, такая точность отделки, что кажется, это не мощное строение из камня и бетона, а великанский белый макет. Слева от входа на постаменте некое металлическое многоствольное сооружение — работа знаменитого английского скульптора Генри Мура. Вспоминаю, что дома, у моего сына, я видела фотографию этой скульптуры. Что и говорить, занятно было повстречаться с оригиналом. Спешу увековечить себя возле этой скульптуры, хотя, признаюсь, мало что понимаю в подобного рода искусстве.
Прежде чем пойти в мэрию, заглядываем в парламент штата Онтарио.
У входа на высокой деревянной тумбе громадная корзина, где помимо цветов победные штыки колосьев пшеницы, литые ости которых словно изваяны из меди. На корзине надпись: «Береги природу Канады». Ну что ж, если даже Канада, так сверхобильно наделенная лесами и нивами, озабочена охраной своей природы, то как надо стараться нам, на нашем гористом пятачке…
Чтобы войти в зал заседаний, нужен был пропуск, Грач тут же его получил. Мы вошли в зал, вернее в ложу, которая предназначалась именно для таких любопытствующих. Сели. Внизу шло заседание одной из секций парламента — наверное, секции социального обеспечения. Председатель парламента за столом в центре. По одну сторону амфитеатра восседали министры, по другую— депутаты. Высокий мужчина горячо доказывал что-то. Мой спутник перевел: жалуется на недостаточность пособия,
— В семье четверо детей, а пособие получают ничтожное… Попробуйте вы прожить на эту сумму, господин министр социального обеспечения…
Господин министр, тщедушная флегматичная личность, откинувшись на спинку кресла, слушал и жевал жвачку…
Полным антиподом этому министру оказался мэр Торонто господин Крамби — невысокого роста, рыжеватый, подвижный и от этого кажущийся совсем молодым. Он, широко улыбаясь, вышел нам навстречу. Трудно было представить, что у такого огромного, внушительного здания такой веселый, непринужденный хозяин.
Нас было четверо — известный в Канаде художник-фотограф Арто Гавукян, глава приходской общины Торонто, инициатор этой встречи Грач Пояджян и я. Чтобы начать беседу, я сразу же завела речь о здании мэрии, его удивительной архитектуре. Желая доставить удовольствие «отцу города», рассказала, что мой сын, скульптор, увлечен Генри Муром, что фотография скульптуры у входа в мэрию украшение нашего дома и я рада встрече с оригиналом, этим шедевром современного искусства, за который мэрия Торонто не поскупилась уплатить семьдесят тысяч долларов.
— Это было до меня, — поспешил уточнить господин Крамби, — я лично привержен классическому искусству. Мне непонятны эти фокусы.
Что греха таить, я связывала большие надежды со скульптурой Мура в том смысле, что мэр, безусловно, оценит мою эрудицию и вкус, но…
Сообразив, что в области искусства мы не достигли взаимопонимания, мои спутники решили исправить положение и поднять наши шансы, сообщив, что я не только поэтесса, но и депутат ереванского парламента. Хочешь не хочешь, но, очутившись на этом пьедестале, я прониклась сознанием своего представительства и выразила благодарность мэру за то, что Торонто так радушен к армянской колонии, и пригласила господина Крамби посетить Ереван.
Наша беседа протекала в полушутливом тоне, соответственно с ее добросердечным и неофициальным характером.
Поскольку господин Крамби не владел русским языком и тем паче армянским, вместо книги своих стихов я протянула ему визитную карточку, где моя фамилия значилась и по-английски. Мэр внимательно изучил старательно оформленную визитку.
— У наших поэтов обычно нет визитных карточек, к этим карточкам очень расположены бизнесмены…
Что и говорить, мне стало совсем худо.
— И у наших нет… Это только когда ездим к вам, — отпарировала я.
Все рассмеялись, а господин Крамби сделал знак своему помощнику принести книгу почетных гостей и, открыв новую страницу, попросил, чтобы я расписалась.
В Канаде, в отличие от Америки, пытаются как-то сохранить самобытность не только национальных меньшинств, но и самой страны, ее лица «необщее выраженье», памятники ее истории, хоть и не такой уже древней. Но преобладает, конечно, ориентация на новизну, самоутверждение через свой вклад в современный мир — его культуру и экономику.
Если на Монреале, самом большом городе Французской Канады, лежит отпечаток традиционного французского лоска, артистичности, легкости, пристрастия к развлечениям, то, напротив, Торонто, подобно англичанину, серьезен, подтянут. Это промышленно-финансовый и административный центр. Очень органичен для Торонто, его деловито-собранного облика, созданный здесь Центр наук, который воистину превыше всех похвал, хоть и не является научным центром в прямом смысле слова, а скорее чем-то средним между музеем, грандиозной выставкой и витриной. Это недавно воздвигнутый комплекс, где отдельные здания соединяются друг с другом стеклянными переходами, эскалаторами и лифтами. Девиз Центра — «видеть то, что видели все, и придумать то, чего еще никто не придумал».
Чего только нет в этих бесчисленных павильонах и залах! Все, что имеет отношение к физике, химии, астрономии, естествознанию, всевозможные экспонаты, знакомящие с промышленностью, связью, дорогами, транспортом. Ко всему можно прикоснуться, попробовать, соорудить. По маленькому телефону дети набирают номер и связываются со своими товарищами в соседней кабине. Группа других ребят окружила телевизор и тут же, не сходя с места, видит себя на экране. В другом зале приводят в действие ветряную, затем водяную и, наконец, электрическую мельницу. В смежном электричество представлено осязаемо и ощутимо — можешь сам высечь искру и регулировать напряжение. В зале химии, если захочешь, ставь опыт и получай разные соединения. В павильоне астрономии от одного нажатия пальца над твоей головой разверзаются просторы автоматически «организованной» вселенной, зажигаются и гаснут любые звезды и планеты. Словом, весь путь науки— от кремня до атома и космического корабля — проходишь за несколько часов.
И сегодня, как всегда, Центр наук битком набит. И взрослые, и школьники с учителями, и дети с родителями. Они в азарте бегают от одного экспоната к другому, присаживаются к тому или иному станку или аппарату и экспериментируют. Таким образом, «сухая» наука становится «мягче», «приручается», превращается в игру, в удовольствие и незаметно проникает в сознание.
В зале физики — лекторий о лазере. В углу у маленьких кабин необычайное оживление. Это комната света и тени. Посетители входят туда и на миг останавливаются перед белым экраном, а после на экране остается их тень, которая исчезает лишь через несколько секунд… Я тоже постояла там и, отойдя, имела счастье лицезреть свой далеко не идеальный силуэт… Юноша и девушка решили более рационально использовать опыт — они нежно поцеловались. На экране несколько секунд оставалось легкое очертание тянущихся друг к другу губ. Наверное, их эксперимент преследовал цель перепроверить и утвердить извечные основы любви в условиях научно-технической революции…
28 марта, Ереван
Вчера вечером была на концерте Государственной академической капеллы Армении, или, как у нас принято говорить, капеллы Чекиджяна. Много людей искусства перебралось из-за границы в Армению за прошедшее пятидесятилетие. Людей с одинаковой и все-таки в чем-то разной судьбой, но с одним и тем же желанием: обрести родину, жить на родине, трудиться для нее. Те, что приехали молодыми, легко пустили корни, прижились. У тех же, что постарше, «пересадка» на другую почву не всегда удавалась, «прививка» не давала побегов. Все случалось. И обидные промахи— дерево усыхало, — и чудо плодоношения. Воистину чудесной оказалась встреча дирижера стамбульской оперы Оганеса Чекиджяна с Арменией. Он принес с собой артистизм и горение таланта его могучих предшественников стамбульцев — композитора Чухаджяна, актера Адамяна, поэта Петроса Дурьяна. Принес боль и скрытую в душе бурю против той зловещей апрельской ночи, когда по улицам того же города тащили на лобное место великого Комитаса, Варужана, Зограба. Армения дала Оганесу Чекиджяну силу родной земли. Эта сила с дирижерского мостика поднялась, влилась в его нервные руки, одарила счастьем творить для этой земли. Мощь чекиджяновского таланта преобразила и саму капеллу. От магического взмаха его дирижерской палочки из восьмидесяти уст вырывались и волна за волной разливались по залу и древние мелодии, и оровелы, и реквием Берлиоза, и «Стабат матер» Россини, и многое, многое другое. Чекиджяна возвысила Армения, и он также возвысил ее. Капелла выступала в Москве и в Ленинграде, в Киеве и в Новосибирске, в городах Прибалтики — и каждый раз вызывала бурную благодарность взыскательных слушателей. В феврале этого года Чекиджян со своей капеллой побывал в Бейруте. Глубоко символичной была эта поездка. На его авиабилете могла быть обозначена совсем другая трасса. Поворот биографии, и мог быть просто Стамбул — Бейрут или Париж — Бейрут, Монреаль — Бейрут, даже Нью-Йорк — Бейрут… Как, с каким чувством, должен был тогда сойти с трапа в Бейрутском аэропорту этот человек, если он и достиг самой громкой славы? Был бы он охвачен тем великим, ни с чем не сравнимым чувством, которое овладело им, когда он на лайнере «Ту-134», вылетевшем из Еревана, приземлился в Бейруте? Это ощущение родины в себе — юной Советской Армении, гордость за то, что он привез сюда с собою эту свою родину и по-хозяйски уверенно одаривает ее теплом и светом… И мне сейчас хочется повторить строки из моих же «Караванов»: «Конечно, случается, что и за границей армянский художник ценой неимоверного напряжения сил может добиться признания… Но совсем иное, когда художник чувствует под ногами родную землю и за спиной — свой народ, когда он является миру не как бродяга без роду и племени, а как исконный наследник своих предков, гордый тем, что несет людям отсвет гения родного народа. Вдвойне верны слова большого писателя Костана Зарьяна, недавно вернувшегося в Армению: «Человек-одиночка незначителен, если он свое умственное и нравственное развитие, свою судьбу личности не связывает с той массой людей, к которой прикован физически и исторически». В этот вечер в Ереванской филармонии Чекиджяна и его капеллу встречали еще более бурно, чем обычно. Они только что вернулись из Бейрута. В конце концерта еле удалось пробиться к нему. Мы обнялись. Давно не видели друг друга. Сразу после моего возвращения из поездки капелла отбыла в Бейрут. А я привезла столько приветов из Монреаля, Торонто и Америки, где так много стамбульских армян. «Вы, конечно, знаете нашего Чекиджа? Он был моим другом»; «Как там наш Чекидж? Мы пели в одном хоре с Майтой»; «Говорят, что на родине Чекиджяна очень ценят, как это здорово, что он там…» Я вручила Чекиджяну маленькую коробочку с духами, которую меня попросили передать в Монреале, Его жена Майта прочитала обратный адрес: — А-а-а! Это Акопик, Акоп Цинцалян… — Акоп в Монреале? — удивился Чекиджян — Что он там делает? — Поет в церковном хоре, а при каком деле состоит, право, не знаю. — Наверно, торговлей занялся. А способный был парень, да застрял на полпути. Женился, открыл лавчонку… Для долгой беседы нет времени. Вокруг толпятся жаждущие пожать ему руку, поздравить. Французский журналист господин Жорж, приехавший в Ереван за материалом Для передачи об Армении по французскому радио, уславливается с Чекиджяном о встрече для интервью.29 марта, Ереван
Я знала, что в Армении сейчас находится корреспондент радиостанции «Франс культюр», приехавший в Ереван, чтобы взять интервью у армянских поэтов, записать на пленку их стихи и голоса. Случай свел нас на концерте Чекиджяна, в ложе филармонии. Мсье Жорж Годберг несколько дней разыскивал меня, что называется, «днем с огнем» — я была в Егварде, — а тут вдруг мы оказались стул к стулу, рядышком. Как истый парижанин, он вскочил, приложился к ручке и тут же выпустил длинную пулеметную очередь из неистощимого французского арсенала комплиментов. Мсье Жорж в Армении впервые, приехал после того, как прочитал вышедшую недавно в Париже «Антологию армянской поэзии», о которой добро отозвалась их пресса. Приехал, чтоб поглядеть места, где рождены эти стихи, а также подготовить часовую радиопередачу о современной Армении. Здесь он не один, а с большой группой журналистов, архитекторов, археологов, которые тоже в Ереване никогда не бывали. — Ну как вам наша Армения? — при всем старании не вытерпела я, вновь и вновь обнаружив свои «местнические» пристрастия. — Все необыкновенно. Вчера мы ездили в Гарни-Гегард. Сокрушались и удивлялись, как это столько лет прожили и не видели такого чуда. Да, не видели. Старшее поколение видело лишь армянских беженцев, бредущих по улицам французских городов, или в толпе у заводов Рено и Ситроен, мечущихся в поисках работы и куска хлеба. Слышали сострадательные голоса Анатоля Франса и многих других гуманистов Франции, взывающих к совести мира встать на защиту «сестры, умирающей на Востоке». Это было давно… А молодые — те попросту не знают о нас или очень мало знают. Пусть приезжают, узнают, увидят. Долгие века Армения и ее народ вытеснены были не только с географической карты, но и из того перечня духовных ценностей, той духовной карты мира, к которой поколениями приобщаются люди. Каждый более или менее образованный человек знает о египетских пирамидах, эллинских богах, Парфеноне, Колизее, площади Святого Петра, соборе Парижской богоматери, о Данте, Шекспире, о Гёте и Бетховене. А вот о храме Рипсимэ и Нарекаци можно, получается, и не знать. Несколько дней назад какая-то зарубежная радиостанция, сообщая о делах футбола, упомянула армянскую команду «Арарат» и разъяснила при этом: «Армяне живут по ту сторону Кавказских гор, на юге, имеют свою письменность, школы, говорят друг с другом по-армянски…» Одним словом, существует якобы и такое племя, у которого есть, оказывается, не только футбол, но и школы, алфавит… Не столь уж обширны оказались сведения об армянах, почерпнутые мной в Токио, в магазине фирмы «Сони», где я приглядывалась к магнитофону. Продавец, согласно существующему там правилу, мне как иностранке сделал скидку в цене на него. Я решила представиться пообстоятельнее: — Армянка… Армен, армен, — показав на себя и, как мне казалось, по-английски объяснила я. Продавцы недоуменно переглянулись, а затем: «А-а-а, Микоян!» — догадались они. Я воодушевленно продолжила: «Арам Хачатурян, Гоар Гаспарян, Тигран Петросян…» Однако это вдохновенное перечисление, увы, не возымело никаких последствий. Как-то в Армению на два дня приехал американский писатель Стейнбек. Мы повезли его в Гарни-Гегард. Когда проезжали по улицам Еревана, Стейнбек на полном серьезе осведомился: «А где дом армянского радио? Покажите, пожалуйста». В Хельсинки я вошла в универсальный книжный магазин, который, по словам финнов, самый крупный в Европе. Среди множества разноязычных книг не попалась мне на глаза ни одна имеющая хоть самое отдаленное отношение к многовековой армянской культуре. К той культуре, о которой Валерий Брюсов говорил: «Средневековая армянская лирика есть одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира». Вместо этого наткнулась на сборник анекдотов на английском, неизвестно почему приписываемых «армянскому радио». Ничего не скажешь, наконец-то добились вселенского признания! Да, в хранилищах мировой культуры все полочки, подобно земельным угодьям, давно уже распределены и заполнены. И трудно среди них найти местечко, чтобы втиснуть еще что-нибудь. Но не стоит так уж огорчаться. С возрождением Армении возрождается и ее прошлое, потому что оно, прошлое, оживает в настоящем, только новые ростки свидетельствуют о жизнеспособности корней. Только живые знают место, где хранится клад, и могут извлечь его из древних тайников. А настоящие сокровища не старятся. Придет время, они во что бы то ни стало займут свое место на полках тех же хранилищ мира, в разноцветий его духовной карты. И это время уже пришло. Оно началось с доброй руки Максима Горького и Валерия Брюсова, которые в шестнадцатом году, в тяжелейшие для нашего народа времена, поддержали его дух, открыли миру нашу литературу, с такой полнотой издав знаменитую антологию армянской поэзии и прозы. За советские годы опубликовано столько книг об Армении и армянских писателях, альбомов, монографий по искусству и научных трудов на русском и многих других языках, столько выставок открыто и у нас в стране, и. за рубежом, сколько не было на протяжении всей многовековой нашей истории. Столько людей побывало в Армении, чтобы причаститься к ее святыням, древним и новым, сколько не бывало за все минувшие века, если не считать бесчисленных орд, топтавших эти святыни. Армения выходит из своих теснин и ущелий, распрямившись, шагает по открытым просторам мира с песней и стихами, эхом разлетевшимися на разных языках, с круговым сасунским танцем, спустившимся по горным крутым тропинкам в бескрайние степи и равнины, с радугой сарьяновских красок, перекидывающейся от кремнистых оранжевых скал к синей глади дальних стран и материков… Несмотря на канувшие тысячелетия, наш народ еще молод. Молод не только потому, что многое еще предстоит ему сотворить, но и потому, что многое еще должен он представить на суд человечества из того, что сказано и сделано им за долгие века. Под затвердевшими, труднодоступными пластами армянского языка, под лавой и пеплом отбушевавших веков скрыты еще помпеи, которые ждут раскопок, чтобы явиться миру, тогда как сама Помпея уже состарилась и камни ее стерлись от бесчисленных взглядов, от следов миллионов ступавших по ним ног…1 апреля, Егвард
Сегодня, как говорится, день обманов — 1 апреля. В последние годы, с легкой руки «Клуба двенадцати стульев», это даже как-то узаконилось, только название изменилось — День смеха. Лучше бы, конечно, найти компромиссное решение, к примеру, назвать Днем смешного обмана — ведь не всякий обман смешон, чаще совсем наоборот… Ладно, примем эту «узаконенную» разновидность и посвятим сии страницы тем курьезам, смешным положениям, в которые я попадала из-за незнания иностранных языков во время этой моей поездки. В своей книге «Караваны» я писала, что на долю нашего поколения выпало много лишений и одно из существенных — это, пожалуй, то, что у нас мало было возможностей учиться языкам. Хорошо, что русский так непроизвольно вошел в нашу жизнь, что он с детства звучит в устах ребенка. А чтобы освоить английский, к примеру, нужны усилия. Я знала, конечно, что мой мозг уже несколько «очерствел» для подобных усилий, но то, что это «очерствение» достигло такой степени, безжалостно обнаружилось в моем путешествии. За четыре месяца я еле смогла усвоить четыре насущно необходимых мне английских выражения: «Сенк ю», «Плиз», «Мэри крис-мус», «Хеппи нью ир»; впрочем, два из них я с грехом пополам знала и раньше. Разумеется, поскольку я в Америке в основном общалась с армянами, моя лингвистическая бесталанность была не столь ощутима, но когда я оставалась одна… Однако расскажу по порядку. В Монреале меня поселили в гостинице «Лореншен». Она была в центре города, отнюдь не шикарная, но вполне удобная, поскольку, как поспешили обрадовать меня, среди обслуживающего персонала есть и мои соотечественники. При первом же удобном случае нас познакомили. Они недавно приехали из Египта. Бывали на моих вечерах и в Каире, и здесь, в Монреале. В равной мере довольны и своим переездом в Канаду, и моими возвышенными рассказами об Армении. — О, армяне!.. Весь «Лореншен» держится на армянах. Если бы не они, «Лореншен» не стал бы «Ло-реншеном». Это говорилось так, будто «Лореншен» если не ООН, то уж, во всяком случае, не меньше, чем ЮНЕСКО! Большую часть времени из моей поездки я провела под сводами этой гостиницы. Обширный вестибюль ее всегда бурлил. Все время то в том, то в другом углу, то посредине валялись кофры, сумки, рюкзаки, а владельцы их, вернее, владелицы… По моим расчетам, их возрастная диаграмма начиналась с цифры шестьдесят и затем кривая резко взлетала вверх. Вычертить диаграмму по признакам пола — значит рядом с двадцатидвухэтажным «Лореншеном» нарисовать стодвухэтажный Эмпайр билдинг и все сто два этажа заселить женщинами… Не то что ста двух — одного этажа с дамами такого типа достаточно, чтобы мужчины здесь и след простыл. Не считаясь ни с возрастом, ни с кривыми ногами и сутулыми спинами, они усердно наводили красоту и наряжались. Кожаные расклешенные брюки и меховые куртки, ситцевые мини и суконные макси, гирлянды бус, многоэтажные серьги и, главным образом, все возможные краски палитры на лицах. На мое неослабевающее удивление, кто эти беспрерывно появляющиеся и спустя несколько дней исчезающие неутомимые поклонницы покровителя бога дорог Гермеса, мне объяснили, что это американки, поженившие своих детей и даже имеющие внуков, но не желающие свыкнуться с мыслью, что они как-никак уже бабушки. Сначала я думала, что они путешествуют просто так, чтобы убить время. Оказалось, что очень многие бабушки и временами даже дедушки — из числа овдовевших и разведенных — включаются в это «переселение народов» с некоей «сверхзадачей» завязать знакомство, найти себе спутника жизни. В Америке прочно вошли в быт женитьбы пожилых людей. Дети, как только взрослеют, сразу покидают родителей, часто уезжают в другой город, а если даже живут в одном городе, то навещают «предков» лишь по праздникам. И бог Гермес по совместительству принял на себя обязанности Гименея. Ну что ж, пожелаем им, как говорится, успеха в личной жизни. На первом этаже «Лореншена» несколько магазинов, из которых мне больше всего приглянулся самый маленький, почти лоток, с фруктами. Я совершенно равнодушна к сладостям, но не могла спокойно проходить мимо выставленных в магазинчике огромных, прямо с детскую головку, яблок, крупного черного винограда и гроздьев спелейших бананов — кстати, все это было вполне по моим финансовым возможностям. Вот я и решила зайти в этот магазинчик и в мире «свободного предпринимательства» хоть раз что-нибудь предпринять самой. Кроме фруктов там можно было выпить и чашечку кофе. Владелец магазина с готовностью бросился мне навстречу, чтобы услышать, чего я желаю. Бедняга, он еще не знал, что вместо слуха ему понадобится в первую очередь зрение. Я ткнула пальцем в яблоки, кивнула в сторону бананов и винограда. Но мне еще предстояло пояснить, сколько чего я хочу. В ответ на вопрос единственное, что я могу, — это улыбаться. Хозяин с французского переходит на английский, но ничего не меняется. Переходит на итальянский — то же самое, прибегает к греческому — час от часу не легче. Несколько мужчин, оставив кофе, жаждут помочь, усердно спрашивают, кто я, персиянка или арабка. Из Эфиопии? На все вопросы твердо отвечаю: — Но… Но… Но. — А-а-а! Рашн (русская)! — наконец догадываются болельщики… Я удовлетворенно киваю головой. Конечно, надо было бы попытаться объяснить, что не столько «раши», сколько «арминиен», но тут уж я особенно не рвалась уточнять… После этого я стала завсегдатаем магазинчика. Ужа объяснила, что я «арминиен», владелец ответил, что он грек. И тут, забыв начисто о своих языковых возможностях, я поспешила провести историческую параллель, произнеся: «Grek», «Armen», «Antik», «Рiрl» (мол, греки и армяне — античные народы). Я, конечно, с удовольствием дошла бы до стен Трои, где, согласно преданию, воевал и армянин-полководец Зармайр Нахапет. но руки (вернее, язык) оказались коротки… Пришло время моего перелета из Канады в Америку, а точнее — из Монреаля в Нью-Йорк. Монреальские мои соотечественники после всех таможенных формальностей перепоручили меня работнику аэропорта. Он «пропустил» меня через всякого рода «рентгены», целью которых было установить, нет ли в «ридикюле» или в карманах бомбы, и затем в свою очередь передал девушке в униформе. Спустя десять — пятнадцать минут она знаком велела следовать за нею. Мы поднялись в самолет. Приветливая стюардесса проводила меня на место. Двигатели были уже запущены, когда появились летчики, радостно кивнули стюардессам — одной рыжей и смешливой, другой чернокожей и строгой. Рыженькая все время над чем-то подшучивала, поддразнивала, пилоты живо реагировали, острили в ответ и в то же время проверяли приборы. «Ума не приложу, как лететь с этими парнями, у которых на уме только девчонки», — скаламбурила я мысленно и вдруг очень захотела произнести это вслух. Надо же — и двух слов связать не могу, а тут игрой слов решила заняться. Летчики уже давно в кабине, а в салоне только я и еще один пассажир. Лишь перед самым вылетом, за две-три минуты, вошли остальные и заняли свои места. Рядом со мной пожилая дама, элегантно одетая и, видимо, словоохотливая. Еще не усевшись как следует, она, не теряя времени, приступила к беседе, но, наткнувшись на мои глухонемые улыбки, со вздохом умолкла. Так началась моя первая «воздушная немота» на американском материке, периодически повторявшаяся затем во время моих частых перелетов из города в город с разной продолжительностью. На это раз, согласно расписанию, она должна была длиться всего час, однако… Из Монреаля почти ежечасно поднимаются самолеты в Нью-Йорк. Случается, что в самолет входят без билета и покупают его уже там, как у нас в автобусах. Билет для меня, конечно, был взят заранее; через несколько минут после взлета чернокожая стюардесса собрала билеты, взяла мой, оставив красную обложку с корешком. Я сидела спокойно, пребывала в состоянии «вещи в себе», когда возле меня возникла фигура негритянки. Я со страхом почувствовала, что ее сердитый голос относится ко мне. Она что-то говорит и хмуро ждет ответа. Вот те и на! Женщина, сидящая рядом, вступает в разговор, к ним присоединяется рыженькая стюардесса. Все трое смотрят на меня, спрашивают о чем-то. Ничего не понимаю. Отчаявшись, гляжу по сторонам и, как утопающий, хватаюсь за соломинку. — Здесь никто не говорит по-русски? — и гляжу в дальние ряды. — Я говорю, — прямо возле меня раздается голос моей соседки. — Вы?! — захлебываюсь я от радости и удивления. Сразу же со своего «английского» перехожу на русский и наконец узнаю, о чем идет речь: мол, у меня нет билета, и я должна приобрести его. Боже мой, какое это, оказывается, блаженство — понимать то, что тебе говорят! Хоть говорящий и неправ, но и это я приняла с радостью, будто речь шла о каком-то подарке. Сразу повеселев, ответила, что уже предъявила свой билет, достала обложку с корешком, стюардесса посмотрела, убедилась и ушла, после чего мы с соседкой, словно долго не видевшиеся подруги, с жадностью кинулись друг к другу, всячески стараясь за двадцать минут наверстать упущенные нами сорок. Я успела узнать, что она из Польши. Муж, вернее, его родители, из России. Выйдя замуж, решила изучить язык мужа и довольно-таки преуспела в этом. А после переезда в Канаду освоила и язык своих детей. — Если б я не знала английского, мои дети смотрели бы на меня свысока, а я не хотела этого. Мой сын видный профессор-кардиолог, жена его из известной американской семьи. И что же вы думаете? Мой английский ни в чем не уступает их английскому. Сын говорит: «Я благодарен тебе, мама, ты не заставляешь меня краснеть». Мой сын был приглашен в Россию читать лекции, сейчас уже возвратился. По телефону сказал* «Приезжай, мама, я расскажу тебе о России», — и вот я еду. Сейчас они, наверное, ждут в аэропорту — сын, невестка, внуки. Любо посмотреть на них. Ну что говорить, сами увидите… Так моя «подруга» мгновенно разложила передо мной пасьянс на узеньком самолетном столике, и поскольку у меня не было с собой ответных карт — ни Профессора-сына, ни так заманчиво описанной невестки, ни отличного знания языка сына и мужа, — я вынуждена была извлечь из сумки и положить на столик изданный «Огоньком» маленький сборник стихов, чтобы доказать, что «и мы не лыком шиты». Соседка очень воодушевилась и сказала, что любит русскую литературу, особенно Достоевского. Мы обменялись визитными карточками и взаимными любезностями. Так душа в душу и прилетели в Нью-Йорк. Казалось, наша дружба будет длиться до конца дней. Но как только вышли из самолета, мы потеряли друг друга с такой же легкостью, с какой и обрели. Я не увидела ни профессора-сына, ни великосветской невестки, ни внуков. Увидела лишь неизвестно каким образом пробравшегося к трапу самолета своего давнего знакомого, восьмидесятилетнего Тачата Терлемезяна, крепко обнявшего меня, и с этого началось мое пребывание в Америке. Из вспомнившихся мне сегодня самый первоапрельский, кажется, казус произошел со мной опять-таки в самолете, по дороге из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. На сей раз моим соседом был мужчина лет пятидесяти, лощеный, с истинно голливудской внешностью и, видимо, очень общительный. С первой же минуты он создал такой доброжелательный микроклимат, что я, несмотря на свои языковые «микровозможности», настроилась на развитие армяно-американских контактов. Сказав «арминиен», я предприняла попытку объяснить, что я поэт. Была уверена, что если произнесу «ай эм поэт», мой артистичный собеседник непременно поймет меня. Но велико было мое разочарование, когда после многократного повторения слова «поэт» он так и не разобрал, с кем имеет дело. Что же мне оставалось? В сумке моей лежала книжка, которую накануне мне подарили в Сан-Франциско. То был сборник стихов, автором которого являлся Арташес Исраелян, имя, честно говоря, мне не известное. Я достала эту книжицу, показала на автора и, чтобы упростить задачу, представила все так, будто я и есть Исраелян и что стихи мои. Выдумка дала неожиданный результат. Сосед мой тут же воскликнул: «А, поэт!» (выходит, ошибка заключалась в ударении) — и с уважением взглянул на меня. Я была просто счастлива, особенно оттого, что попутчик так вдохновился моей профессией и немедля изъявил желание посмотреть книгу вблизи. Я, ликуя, передала ему сборник. Он стал листать и вдруг вижу — оторопев, он недоуменно разглядывает то меня, то страницы. Наконец не выдержал и протянул мне раскрытую книгу. Я взглянула— о ужас! — под стихами значатся даты 1904, 1911, 1912… Мне ничего не оставалось делать, как рассмеяться. Никаким искусством мима, даже если бы я была самим Марселем Марсо, невозможно было объяснить, какую шутку я сыграла сама с собой…
Из вспомнившихся мне сегодня самый первоапрельский, кажется, казус произошел со мной опять-таки в самолете, по дороге из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. На сей раз моим соседом был мужчина лет пятидесяти, лощеный, с истинно голливудской внешностью и, видимо, очень общительный. С первой же минуты он создал такой доброжелательный микроклимат, что я, несмотря на свои языковые «микровозможности», настроилась на развитие армяно-американских контактов. Сказав «арминиен», я предприняла попытку объяснить, что я поэт. Была уверена, что если произнесу «ай эм поэт», мой артистичный собеседник непременно поймет меня. Но велико было мое разочарование, когда после многократного повторения слова «поэт» он так и не разобрал, с кем имеет дело. Что же мне оставалось? В сумке моей лежала книжка, которую накануне мне подарили в Сан-Франциско. То был сборник стихов, автором которого являлся Арташес Исраелян, имя, честно говоря, мне не известное. Я достала эту книжицу, показала на автора и, чтобы упростить задачу, представила все так, будто я и есть Исраелян и что стихи мои. Выдумка дала неожиданный результат. Сосед мой тут же воскликнул: «А, поэт!» (выходит, ошибка заключалась в ударении) — и с уважением взглянул на меня. Я была просто счастлива, особенно оттого, что попутчик так вдохновился моей профессией и немедля изъявил желание посмотреть книгу вблизи. Я, ликуя, передала ему сборник. Он стал листать и вдруг вижу — оторопев, он недоуменно разглядывает то меня, то страницы. Наконец не выдержал и протянул мне раскрытую книгу. Я взглянула— о ужас! — под стихами значатся даты 1904, 1911, 1912… Мне ничего не оставалось делать, как рассмеяться. Никаким искусством мима, даже если бы я была самим Марселем Марсо, невозможно было объяснить, какую шутку я сыграла сама с собой…
2 апреля, Егвард
Из двадцати городов, в которых я побывала за время своей поездки, только два оказались не «армянскими»— то есть такими, где не было никаких официальных встреч и выступлений. Это Квебек и Лас-Вегас. Квебек — пожалуй, один из самых старых городов Канады. Французские пилигримы высадились здесь на берег в 1604 году, заложили город, а затем двинулись на юг и на север. Хотя потом этими краями и завладели англичане, тем не менее штат Канады, который по имени своей столицы называется Квебек, до сих пор сохранил не только внешний французский облик, но и язык, нравы и дух. Не зря в штате имеется партия независимости Квебека, существование которой помимо социальных причин продиктовано еще и этим французским духом, нравами, языком. Меня «угостил Квебеком» монреальский армянин Акоп Кестекян. Два десятилетия назад он оставил Египет, обосновался в этих хладных местах и с жаром принялся за дело. В здешних коммерческих кругах у него теперь прочное положение. Собственная его контора занимается продажей сельскохозяйственного инвентаря. — Очень люблю свое дело, случается, что по десять-двенадцать часов в день пропадаю в конторе. — А ваши служащие? — Они тоже… Нужно, чтобы работник лично был заинтересован, тогда он не считает часы… Когда моему служащему удается заключить контракт, один процент прибыли идет в его пользу. Порой этому проценту он рад больше, чем жалованью. — В Армении были, господин Акоп? — Да, был. Она лучше, чем я себе представлял. Народ весел, обеспечен… Но говорят, что сейчас против того, что у вас называют «папах», то есть против «левых» дел, пошли строгости. Я думаю, это ни к чему… — Подавление «личной инициативы»? Так по-вашему? — И это. А кстати, откуда это слово — «папах»? Я со смехом объясняю ему историю этого названия. Когда крестьяне в меховых шапках-папахах — «голосовали» на дороге, шоферы, еще издали приметив их, радостно восклицали в предвкушении подработки: «Ура, еще одна папаха!» Так и повелось с тех пор. Кестекян смеется, но, сразу посерьезнев, продолжает: — Я думаю, что «папах» нашей нации полезен, побуждает людей к солидарности, приучает поддерживать друг друга… Много я слышала в жизни всяческих доводов в защиту «папаха», но чтобы поднять это до таких высот обобщения — подобного еще не приходилось. Что и говорить, особый ракурс видения, в этом Кестекяну не откажешь. Удивил он меня и следующим заявлением: — Кеннеди был самым слабым президентом. Да, да, не смейтесь. Его называли «дамским президентом». Красивый был мужчина, женщины с ума сходили по нему, вот и отдавали свои голоса… На следующий день после выборов в штате Квебек, когда мои знакомые — сторонники партии независимости— переживали ее поражение, Кестекян был очень доволен. — Вчера французов, служащих в моем офисе, предупредил: «Если победит партия Квебека, с завтрашнего дня на работу не выходите. Свое дело из Монреаля я переведу в другой штат…» — Вы так против независимости Квебека? — Это гибель для него. Да они и сами понимают. Кричат, орут, но тоже боятся этой независимости. Оставив в свое время Египет, после социальных преобразований, начатых там, господин Кестекян отнюдь не намерен был подвергаться перипетиям еще одной независимости, которая вряд ли бы способствовала дальнейшему процветанию его офиса. Но тем не менее в столицу борющегося Квебека привез меня именно Акоп Кестекян. К сожалению, сам Квебек, словно инстинктивно, принял нас не очень радушно. Раскинутый на прибрежных холмах, он был окутан густым туманом, моросил дождик. Свободных номеров не оказалось и в прославленной гостинице «Шато Фронтенак», которая изображена во всех альбомах, почтовых открытках и является как бы гербом города. Но ужинали мы все-таки в ресторане «Шато Фронтенак». Построенная 100–150 лет назад, стилизованная под средневековую крепость, эта гостиница, расположенная в центре Квебека, на одном из самых высоких холмов, и поныне владычествует над городом. Официант в пиджаке из красного сукна с важностью подносит каждому из нас огромное, ярко расписанное меню. И через пять — десять минут официанты, теперь уже вдвоем, сосредоточенно, торжественно, словно жрецы во время священнодействия, подкатили объятый пламенем столик на колесах и, дождавшись, когда погаснет пламя, переставили сковородки на наш стол. На сковородках было не что иное, как обыкновенное, вполне реалистическое филе, а точнее, на жаргоне ереванских мясников, «чалагач». В Канаде и Америке оно называется «стейк», и так же, как английское слово в сравнении с нашим «чалагачем», звучит мягче и нежнее, так и само мясо было тоже и мягче и нежнее. Когда ужин близился к концу и господин Кестекян вытащил из кармана бумажник, я обнаружила, что в Америке для некоторых людей это слово обрело свой первоначальный смысл. В бумажнике господина Кестекяна были не деньги, а целая кипа каких-то бумажных талончиков. Из этой кипы Кестекян извлек один, величиной со спичечный коробок, и отдал официанту. — Это жетон компании «Америкен экспресс», — не без гордости пояснил мне Кестекян, — В какую бы страну мира я ни поехал (конечно, речь идет о капиталистических странах), взамен денег я могу пользоваться этими талонами, будь то отель, торговый дом или ресторан… Номер и фамилию переписывают с этого талона и посылают в компанию. Она учитывает и затем отправляет мне чек. Удобно и не боишься потерять деньги. На улице дождь стал меньше, и мы пешком спустились по старым и узким улочкам к центру города. После натужной торжественности ресторана на улице мне сразу стало проще и уютнее. Молодежь группками и, конечно, парами. На одной стороне тротуара стояли парни и девушки. Одна из них затянулась сигаретой и тут же передала ее соседу. — Это не сигарета, это наркотик, они любят так вот, дружно, за компанию, губить себя. Доходим до гостиницы «Виктория», тоже старой, но более демократически выглядевшей. Дождь вновь усилился, и мы решили войти внутрь. Там несколько баров и кафе. Вошли в один из них и сели. В зале полумрак и почти безлюдье. В углу на рояле кто-то тихо наигрывал. Официант принес заказанный Акопом «алкол», и мы постарались настроиться на приятное времяпрепровождение, но — увы! — и полумрак зала, и тихая музыка предполагали более «узкую» программу… Мы сидели, уверяя себя в том, что, мол, жизнь прекрасна, прекрасен мир, эта вот музыка, этот день, эта минута, но чувствовали, что все не совсем так и что нам просто-напросто скучно. Положение не изменилось и после того, как мы перешли в другой зал. Здесь шумная стереомузыка, но, к сожалению, та же скука. Нет, насильно такое «мероприятие», как радость души, не организуешь. Для этого требуется собственный внутренний настрой, подлинная созвучность… Выходим на улицу и, так как дождь продолжается, останавливаемся под козырьком у входа в гостиницу. Рядом с нами и другие прохожие. Французская веселая легкость была в этот дождливый вечер на улицах Квебека. То и дело попадались люди уже явно под градусом. Один из них, в рабочем комбинезоне, с крупным добрым лицом, стоял рядом с нами и явно жаждал общения. Оглядывался, искал себе собеседника и среди всех, укрывшихся от дождя, выбрал не кого иного, а именно меня. Я улыбаюсь в ответ на точность его выбора. Респектабельный господин Кестекян даже не глядит в нашу сторону, стоит, будто аршин проглотил. А пьяный, приняв мою улыбку как признак полной солидарности, разговорился вовсю. — Уйдем отсюда, — в сердцах требует Кестекян. — А что он говорит? — интересуюсь я. — Говорит: «Давай пойдем выпьем где-нибудь». Я смеюсь и, бросив своему новоиспеченному другу «оревуар», следую все же за господином Кестекяном. Кто знает, может, именно здесь были зарыты ключи счастья… Но мой строгий соплеменник не разрешил даже шевельнуть лопатой. Внимание наше привлекла толпа у двери, освещенной яркой рекламой. Подходим. Гастроли американского джаз-оркестра. У входа необычайное оживление. И мы решаем войти, надеясь, что авось тут-то и окажется гвоздь вечера. Оживление в зале неописуемое. Да и сам зал выглядел необычно. Скрепленные на скорую руку, как купол, белые полотнища делали его похожим на планетарий. Вопли и выкрики певцов, взрывы джаза, стрелы прожекторов будто сражались друг с другом. Зрители, исключительно молодежь, участвовали в этом бою, кто как и чем мог. Часть ребят танцевала, часть, сидя на месте, стучала ногами в ритм музыке, а остальные что-то орали. Господин Кестекян, который в других местах и особенно в филиалах всемирно известного великосветского клуба «The playboy club», членом которого он состоял, обычно присоединялся к танцующим и спокойно, без толкотни, взимал причитающуюся ему долю удовольствия, здесь не сделал даже попытки. После того, как минут десять — пятнадцать наши глаза и уши подвергались несказанному испытанию, мы вышли и, хотя не было еще двенадцати, сразу же двинулись к своему мирному отелю «Нептун», окончательно отказавшись от первоначальной программы вкусить все наслаждения ночного Квебека. На следующее утро в маленьком автобусе вместе с другими туристами поехали осматривать достопримечательности города. Самым интересным для меня были памятники, воздвигнутые в тех местах, где в 1756–1763 годах шли жестокие бои между французами, которые уже заселили Квебек, и англичанами, пытавшимися завладеть им. Битва закончилась победой англичан. Слово «памятник» подразумевает гранит, мрамор, базальт— в общем, сооружение из камня. Здесь же все создано из дерева. На полянках в парке беспорядочно свалены темные, обгоревшие стволы, будто прошел тут лесной пожар. Те стволы, которые, как объяснили мне, символизируют английскую армию, высятся вертикально, отчужденно, холодно-неприступно, чуть в отдалении от других. Стволы же, призванные увековечить память поверженных французских воинов, лежат вповалку, один на другом, перекрещиваясь, как в огромном костре, горевшем, но недогоревшем, где черные, печальные деревья словно еще дымятся.3 апреля, Егвард
В Монреале ко мне в гостиницу пришли познакомиться Акоп Карлозян со своей женой. Едва поздоровавшись, он вытащил из кармана фотографию. — Помните? Всмотрелась и вижу — группа детишек и среди них я. — Это в Бейруте. В школе Месропян. Ровно десять лет назад. А вот девочка рядом с вами, кто она, как вы думаете? — И, не дождавшись ответа, делает широкий жест в сторону жены: — Пожалуйста, перезнакомьтесь. Мадлен. Жму руку его жене и думаю: «Боже мой, неужто эта дородная женщина та самая девочка?» А мне казалось, что только вчера я вернулась из Бейрута. — Добрые вести привез вам из Армении. Я только что оттуда. «Арарат» после выигрыша кубка стал еще и чемпионом Советского Союза. Я счастливее вас — присутствовал в Москве на игре за кубок, и вся группа со мной была. Говорили: «Акоп, если бы мы ничего больше не увидели, одна эта игра стоит свеч. Не жалко денежек». Акоп работает в местном обществе по страхованию и заодно возит туристские группы в Армению. — Конечно, это мне выгодно. Без выгоды вообще ничего с места не сдвинется. Но этой работой я приношу и пользу. Чем больше армян посетит родину, тем лучше будет. Ряд дефектов вам надо обязательно исправить. Обязательно… — Ах, этот лифт, этот лифт в «Ани»! — вступает в разговор Мадлен. — Наверное, он сейчас уже в порядке, но когда мы были, никогда не работал. — Пришли в Дом художников, на выставку чешского стекла, — продолжает Акоп, — из объяснений, написанных под экспонатами, ничего не поняли… Зашел к директору, говорю: «Почему нет рядом по-армянски?» Отвечает: «Из Праги так получили». — «Ну, из Праги так прибыло, а здесь перевели бы по-армянски, трудно, что ли?» Акоп предлагает мне поехать с ним в так называемый армянский квартал. Уже не раз, проезжая по Монреалю, я видела вывеску над маленьким магазинчиком в полуподвале: на зеленой жести рядом с «Armenian» неумелой рукой было выведено по-армянски: «Хай». И вот сейчас наша машина остановилась у этой вывески. Разглядываем ее долго и входим в магазин. Полно всяких фруктов, овощей, круп, пряностей. Но нет того порядка, какой обычно здесь бывает. Хозяин — хилый, флегматичный человек. У входной двери, под вывеской, он сфотографировался с нами, а потом так же безучастно попрощался, ни о чем не спросив. На противоположной стороне тротуара другая вывеска, с надписью «Тамарина». Зашли. — Здесь на продуктах даже надписи по-армянски, — попытался обрадовать меня Акоп, — поглядите… Взглянула — в мясном отделе на висящем почти под потолком большом куске картона крупными буквами по-армянски выведено: «Покупайте вкусную ветчину «Тамарины»… Акоп представил мне сидящего за конторкой безулыбчивого господина Албера, лет пять-шесть тому назад он переехал сюда из Каира. — Мы, возможно, виделись там, — сказала я, чтобы что-нибудь выдавить из себя. — Я в армянские клубы не ходил, — холодно отрезал он, — больше бывал в иностранных кругах. — Каким же образом вы так обармянились? — показала я на картонку со вкусной ветчиной «Тамарины». — Да приехали сюда и обармянились, — в сердцах ответил хозяин и повернулся к Акопу: — Проводите лучше мадам туда, где ей наверняка будут рады… Рядом с «Тамариной» еще одна вывеска. Под английскими снова знакомые буквы: «Армянская мастерская». Это была химчистка. Мимо нас по улице проходят две молодые девушки. — Они армянки, — сказал Акоп и остановил их. Девушки были его знакомые, они обрадовались и стали щебетать С ним по-английски. Акоп познакомил нас, предложил вместе сняться. Они охотно откликнулись на это, а затем, бросив небрежное «гуд бай», удалились… Итак, «армянский квартал» в Монреале. Широкие, многолюдные улицы, невысокие, благоустроенные, но какие-то немые, неприветливые дома, девушки-армянки, рыжеволосые, чужеватые, с чужеватым английским, с чужеватой улыбкой. Магазины с их хмурыми хозяевами и армянскими вывесками. Да, армянскими, но всего лишь для рекламы, для привлечения армян-покупателей… Бедные наши месроповские буковки! Начавшие шестнадцать веков назад свой путь с призыва «познать мудрость и опыт», столько перенесшие, гонимые, на этих сытых, ублаготворенных берегах зажатые «Freshfruit’-ами», «Delicatassen’aми», ставшие «вкусной ветчиной «Тамарины», наши выхолощенные, ощипанные буковки… Я еще несколько раз встречалась с Карлозянами. Акоп принес множество фотографий, сделанных им в тот день в «армянском квартале», познакомил меня со своим братом, который жил в Торонто, но в этот день приехал в Монреаль. — Жили бы хоть в одном городе, — шутя упрекнула я. — Тикин Сильва, мы не хозяева себе. Как дела велят. Должны за делами следовать, — ответил Акоп. — Но скоро, если бог поможет, соединимся. — В Монреале или Торонто? — В Америке, — бодро уточнил Акоп, — мать живет в Нью-Джерси, добивается и для нас разрешения. Как не похож этот ухватистый, разворотливый Акоп на тех Акопов, которые встречались мне в Бейруте, Алеппо, Каире и о которых я писала в моих «Караванах». В нем нашли какое-то свое отражение самые разные социальные сдвиги и нюансы, возникшие за это время и внутри самого спюрка, и в отношении к Армении. Нет, за десять лет изменилась не только маленькая девочка из бейрутской школы Месропян…4 апреля, Егвард
Редко в моей егвардской комнате дает о себе знать дверной звонок. Однако сегодня он зазвенел, причем звенел долго, требовательно. Открыла. Пришли подключить плиту к магистральному газу. — Чья это квартира? — спросили и, когда ответила, удивились: — Как это случилось, что вы здесь? А случилось так. Лет пять назад в егвардском Доме культуры был мой вечер. Под конец председатель ни с того ни с сего оповестил, что «население Егварда избирает товарища Капутикян почетным гражданином села Егвард». — Ну что ж, если так, то гражданину полагается и жилплощадь, — пошутила я. — Пожалуйста, — с готовностью улыбнулся сидящий рядом в президиуме Размик Петросян, директор машиноиспытательной станции. — Мы строим много домов, у местных свои собственные, так что спрос у нас не столь уж велик. Так шутка неожиданно обернулась ордером на «однокомнатную квартиру со всеми удобствами на четвертом этаже новостройки МИС». Вот уже четвертый год эта небольшая комната стала моей обителью и спасительницей. Если мои ереванские душегубы-звонки, дверной и телефонный, сливаясь с уличным шумом, неотступно преследуют меня, не позволяя и полчаса провести у письменного стола, то здесь все наоборот: я сутками бываю наедине с собой и листом бумаги. Даже не выхожу на улицу — так жажду одиночества. С миром общаюсь лишь с балкона и через соседей, живущих на той же площадке, через семью Маркосян. С балкона видна гора Ара. Она так близко, такая маленькая, такая домашняя, что кажется, входит в комнату, вписывается в интерьер. Видна и старая церковь Егварда. Несколько лет она была в строительных лесах, а сейчас, сбросив их, стоит посветлевшая, обновленная. И, невзирая на свой почтенный тысячелетний возраст, обгоняет ростом юнцов — молоденькие новостройки села. Древний Егвард молодеет изо дня в день. Деревня, пятьдесят лет назад не отрывавшая глаза от неба, молящая о дожде, ныне приглядывается ко всему новому, что есть у соседей, с тем чтобы и самим иметь все это — и водопровод, и каналы, и сады, и добротные дома, и широкие улицы, а также больницу, школу, сыновей-студентов, а главное — побольше детишек. И все это в Егварде уже есть. Особенно дети. Они шумят у меня под балконом — все разные, всех возрастов, — но, как ни странно, совершенно мне не мешают. Иногда деревня затихает. На улице ни души. Догадываюсь, что все сидят по домам, у телевизоров. И как бы я ни была равнодушна к футболу, считая его просто упражнением для ног, все равно на сердце у меня теплеет, когда со всех балконов и окон, подобно птицам, взлетающим из гнезд, несутся возгласы, свистки, аплодисменты. «Еще один гол!» Я прерываю работу и считаю очки, забитые «Араратом». Но больше всего я радуюсь тому, что радуется Егвард. В деревне кроме местных старожилов есть и переселенцы, те, что, спасаясь в пятнадцатом году, бежали из Муша и Битлиса и обрели здесь приют. Есть и семьи, которые в последние годы переехали из Ахалкалаки, Ахалцихе, Карабаха, Кировабада. Скалистая земля Егварда нуждается в трудовых руках, в людях, которые освободят ее от камня, вырастят пшеницу и виноград. Я вижу с балкона, как холмы, не так еще давно изуродованные грудами труб для канала Арзни — Шамирам, избавились от своего временного груза и приняли на себя добрый, вечный груз плодоносных садов. Вижу, как деревня взбирается уже на соседние бугры, карабкается вверх, а впереди шагают стройные, подтянутые мачты электропередач. И как все это движение останавливается у четырехэтажного, не завершенного еще корпуса сельской больницы. Вижу спешащих в новую школу мальчиков и девочек в пончо и джинсах и, наконец, с балкона, как с галерки, вижу внизу, во дворе, Сируш. Ее дом прямо напротив нашего. Когда я приехала в Егвард, Сируш с семьей занимала половину одноэтажного домика. Во дворе были конура, курятник и, конечно, тондир под навесом. За эти три-четыре года рядом с домом у Сируш появилось семь «подсобок», и все они уже заселены: коровой, телятами, овцами, свиньями, курами, легковой машиной, которая попала к ним, правда, после не такой уж легкой жизни — вся она в свежевыкрашенных заплатах. Даже собак стало две вместо одной. Если к этому добавить, что младший сын Сируш, который в школе занимается в кружке аккордеонистов и своей игрой и пением — при полном отсутствии слуха — ежевечерне собирает оравудеревенских мальчишек, а также и то, что рядом, за моей стеной, недавно появившийся на свет малыш чрезвычайно бурно протестует против только ему ведомого неустройства мира, то, как бы ни была я преисполнена толстовского всепрощения, трудно все-таки счесть мою здешнюю обитель сейчас самым тихим уголком на свете… Не так давно пополнилась и семья Сируш. Старший сын, работающий, как и отец, шофером, «Похитил» из соседней деревни Ара девушку, правда, не без согласия «похищенной». Его отец и мать ринулись туда, чтобы утихомирить разгневанных родичей. И вот теперь, когда Сируш уходит на работу, вместо нее, прикрикивая на путающуюся под ногами свою двухлетнюю Гоар, хлопочет по хозяйству ее быстроногая невестка с короткой городской стрижкой… По воскресеньям у крыльца дома появляется пятнадцати-шестнадцатилетний паренек с ниспадающими на плечи волосами, в джинсах и сабо. Я догадываюсь, что это тот мальчик, о котором еще года два назад рассказывала Сируш: — Ну, а мой средний учится в аштаракской русской школе. Когда был маленький, он заболел, и совхоз послал его в Анапу, в санаторий. Там он и учился на русском. А выздоровел, привезли домой и решили: этот пускай учится в русской школе. Нам повезло — отдали в интернат в Аштараке… Все это Сируш поведала мне с победной улыбкой, и я понимала ее простодушную гордость. Но вот гляжу с балкона на сына, приехавшего погостить к родителям. Они копают огород, мать таскает тяжеленные ведра камней, извлеченных из земли, а сынок стоит тут же как посторонний. Родителям и в голову не придет поручить ему что-либо. Как можно, а вдруг увидит кто из аштаракских ребят?! Итак, растет, ширится Егвард, уже второй год он не деревня, а центр недавно созданного района Наири. Растет из месяца в месяц, но при этом иногда бывают промашки… Несколько дней назад арестовали какого-то продавца сельмага. — За что его взяли, Седа? — спрашиваю я соседку, жену учителя Маркосяна. — Видите ли, тикин Сильва, — охотно объясняет Седа, — и хапать тоже ведь надо в меру… Я вам так скажу, главное — это совесть и доброе имя. Ну, к примеру, директор совхоза «Зейтун» Ноемберянского района Баграт Варданян. Жаль, что умер человек… Весь район, кого ни спросишь, клянется его именем… Мои родители там живут, знают. Подруга у меня жена агронома совхоза «Зейтун». Говорит: «Седа-джан, такого человека не было и не будет. Он болел, и мы решили взять со склада два ящика персиков и пойти проведать его. Приходим, жена накрыла на стол, поставила коньяк, печенье. А мы боимся сказать, что привезли ему кое-что… Наконец муж решился: «Товарищ Варданян, ты болен, мы тут тебе малость персиков принесли». Не успел он это сказать, как Варданян вскочил — и прямо к ящикам, пронумеровал их и приказал: «Сейчас же отнесите обратно на склад, завтра проверю…» Вот, тикин Сильва, потому народ и чтит имя Варданяна. А этот наш продавец — ну, скажите, чего ему не хватало? Дом как дворец, участок приусадебный, машина «Волга»… Хапают и думают, что управы на них нет, в крайнем случае всучат взятку, отделаются… Так ведь и с Тем шофером было. Десять лет ему дали за две жизни… Бодрый голос Седы вдруг сник, она опять вспомнила о своем горе… Сама Седа из села Садахлу, а муж из села Чардахлу. Познакомились в Ереване, поженились. Оба и работали, и заочно учились — она на английском отделении Института имени Брюсова, а он в сельскохозяйственном. Вот уже много лет учительствуют в егвардской средней школе. Давно встали на ноги, жили счастливо со своими четырьмя детьми, как вдруг грянула беда. Старшая дочь Амест шла с подругой на репетицию школьного хора. И вдруг — грузовик. Говорят, водитель был пьян, ехал по деревне с недозволенной скоростью и наскочил на девушек, идущих по тротуару. Обе погибли. Маркосяны были надолго выбиты из жизни. Их вернуло к ней время. Как-то я заметила, что платье соседки тесно ей. Спросила. Седа покраснела, как девчонка. Сейчас в семье Маркосянов еще одна дочка. Новорожденную назвали Амест. В соседней квартире плачут, шумят, смеются, просят есть, ходят в ясли, детсад и школу снова четверо детей. Седа все больше и больше погружается в заботы о них, но и все больше и больше берет часов в школе. Муж жалуется: «Ох, эта женская ненасытность, интересно, придет ли ей конец?» — и потчует кашей Нунэ, укладывает спать Аместик, проверяет дневник Астхик, пока жена не вернется из вечерней школы… Четырнадцатилетний сын Маркосянов Гамлет, отличник, послушный и молчаливый паренек, летом подрабатывает в сельской пекарне и каждый вечер возвращается домой с румяным хлебом — матнакашем — под мышкой. — Есть люди, осуждают нас, — жалуется Седа, — мол, не хватает, что ли, у них денег, мальчишку заставляют работать? Дело не в нехватке. Пускай смолоду привыкает к труду, разве я неправа, тикин Сильва? Хватает, всего хватает Маркосянам. Четыре комнаты обставлены новой мебелью, только что куплено чешское пианино марки «Петроф», посуды и белья — навалом («Ах, эта женская ненасытность! Интересно, придет ли ей конец?»). Но, как говорит Седа, дело не в том, хватает или не хватает. В этой семье чувствуется какая-то извечная сила, почерпнутая из земли и укоренившаяся здесь, на четвертом этаже, какая-то вошедшая в кровь основательность, трудолюбие, ставшие неколебимой нормою жизни. И родители, получившие высшее образование, и дети сохранили тот удивительный сплав скромности и достоинства, тот врожденный такт и душевную культуру, которые вырабатываются веками и которыми наделены лишь подлинные люди из народа. За эти три-четыре года между мной и семьей Маркосянов установился тесный контакт. В мое отсутствие они хозяева моей квартиры, и я знаю, что она в верных руках. Когда я в Егварде, при всех больших и малых неполадках они тут как тут. После моего возвращения из Америки функции «скорой помощи» Маркосянов возросли. Когда мне необходимо для работы что-то срочно перевести — проспекты, подпись на плакате, — я уповаю на Седин английский. Правда, она не Даль, не Ачарян, но выручает. Начавшая с этой весны ходить Аместик тоже вовлечена в шефство надо мною и, выполняя наказ матери, приносит то мацони, то лаваш. А пока я писала книгу, платье Седы что-то опять стало ей тесновато… Как из раскаленного тондира, тянется из квартиры Маркосянов в мою комнату горячий запах хлеба, добрая теплота — и, пожалуй, именно это больше, чем усердно рекламируемое количество ученых степеней и премий, наполняет меня верой в душевное здоровье и постоянное обновление нашего народа, в его извечную силу.6 апреля, Егвард
Керовбе Птукяи тоже из здешних старожилов, из подобранных на острове Корфу и отправленных в Канаду на работу сирот-беженцев. Несмотря на преклонные годы, Птукян еще бодр и строен. — Не понимаю, почему поездки в Армению стали у нас тут мерилом патриотизма? Это несерьезно. Я, правда, не был еще в Армении, однако полагаю, что немало сделал для своих сородичей. Если хотите, поедемте в мой офис, я покажу вам досье примерно на три тысячи людей, всем нм я помог перебраться в Канаду… — С АНЧА[9] сотрудничаете, что ли? — Прежде — да, а потом рассорился. — Стало быть, против Армении действовали? — Нет, ни одного человека я из Армении не переманил. Помогал армянам из Греции, Турции. Что было им делать, если нет возможности уехать в Армению? Бедняки есть среди них! Пока куда-нибудь их пристроят, я из своего кармана деньги тратил. Не такой уж тут рай. У Канады тоже два лица… Если хотите, покажу вам второе ее лицо… И вот мы отправляемся смотреть «второе лицо» Канады. Конечно, звучат эти слова самонадеянно. Для такого дела нужны месяцы и даже годы. Во всяком случае я благодарна господину Птукяну, приотворившему мне форточку, из которой я кое-что могла разглядеть. Едем в зеленой новой машине Птукяна, но уже со вмятиной на крыле. Свободно, просторно раскинулся Монреаль. Небоскребы высятся только в центре, да и то лишь с недавнего времени. Остальное — выстроившиеся вдоль широких и длинных улиц, большей частью одно- и двухэтажные кирпичные дома, снаружи ничем не примечательные. Едем по этим кажущимся бесконечными улицам, и господин Птукян рассказывает мне о жизни монреальских армян. — Обычно новоприезжие, в особенности переселенцы с Ближнего Востока, адаптируются с трудом. Разница в образе жизни, в психологии очень уж велика. Часто случаются срывы, наступает душевный кризис… В одной такой семье, недавно осевшей здесь, дочь, молодая еще девушка, пыталась покончить с собой. Я стал ходить к ним, всячески старался завоевать ее доверие, помочь разобраться в жизни. Надеюсь, что это мне удастся. — Уж не миссионер ли вы? — спрашиваю я, вправду заинтересованная разносторонней деятельностю моего спутника. — Нет, не миссионер, — смеется он, — просто хочу помогать людям. Птукян рассказывает об учреждении, именуемом «Конторой социальной службы», с которой он поддерживает тесную связь. Задачи ее действительно обширны и необычны. И служащие, и такие, как Птукян, «внештатные», можно сказать, болельщики, участвуют в работе этой конторы, помогают, как могут, всевозможными способами нуждающимся в материальной и душевной поддержке — многодетным матерям, детям, оставшимся без помощи, больным, одиноким старикам. Бывают у них, подчас просто звонят, поддерживают дух. Мы останавливаемся у двухэтажного дома, в первом этаже которого вроде бы магазин. На стекле витрины написано по-английски:. «Ресторан «Стамбул». Поднимаемся по ступенькам, и перед нами нечто похожее на просторный коридор, забитый всяческим хламом. В одном углу коридора, за дощатой перегородкой, как бы кладовая. Входим туда. — Здравствуйте, господин Етерян, я привел вам гостью из Армении. С табуретки с трудом поднимается трясущийся старик, здоровается, пригашает сесть. Садимся, и я оглядываю «комнату». Маленькая, асимметричная, с кривыми углами, в ней едва умещаются кровать и стол. Но нет, есть и холодильник, и электроплитка. Какая-то странная эта нищета — «технизированная», что ли? Птукян хочет, чтобы хозяин сам рассказал мне свою историю. Старик делает это неохотно. И Птукян вынужден вмешаться в разговор. Аршавир Етерян был в Каире шофером, так и состарился на этой работе. Обе его дочери переехали в Канаду, а потом вызвали к себе родителей, заверили официально, что обеспечат их содержанием. Старики взяли да и приехали. Через какое-то время дочери повыходили замуж и, забрав с собой мать, отплыли в Америку… Отец остался один-одинешенек. Сын в Кувейте, присылает старику 50–60 долларов в месяц. Почти половина их идет на квартирную плату (за эту комнату еще и платить надо!)… Субсидии он не получает, потому что приехал по гарантии дочерей. — Хочешь, привлечем их к суду? Раз дали гарантию, обязаны заботиться о тебе. Таков закон, — пробует вызвать на разговор старика Птукян. — Нет, нет, не хочу злом отвечать на зло… На щеке у Етеряна красно-синий рубец — только что выписался из больницы, подозревали рак кожи, сделали операцию. При всей убогости его положения сохранились еще какие-то старые замашки. Он достает бутылку сока и, несмотря на мое сопротивление, открывает ее, угощает. Я дарю ему ереванские открытки, армянские сигареты. Он обрадован. — Врачи разрешают курить?.. — Запрещено, но это единственное, что мне осталось… Ничего не поделаешь. Обязан исполнить свой долг перед богом — обязан жить, пока жив… Птукян шепчет мне на ухо: — Скажите, что будете посредником и попросите благотворительное общество помочь ему… Скажите, скажите, я потом все объясню. — Господин Етерян, я поговорю в благотворительном обществе, вам помогут, — говорю я. Етерян выжидательно смотрит на Птукяна. — Конечно, гостю трудно отказать… Хотя ты сам знаешь, что виноват… Но все же надеюсь, что сможем выдавать ежемесячно по сорок долларов пособия. Обрадованная мгновенным результатом моей «благотворительной деятельности», я прощаюсь со стариком. Выходя, Птукян поясняет. Сын из Кувейта прислал старику несколько сот долларов, чтобы потом приехать самому и начать на эти деньги здесь «дело». Однако отец опередил сына. Самовольно вместе с живущим в том же коридоре соседом, армянином из Египта, арендовал внизу ресторан «Стамбул». — Но разве в этом волчьем мире две такие облысевшие овцы могут пастись?! Конечно же через несколько месяцев обанкротились в пух и прах… До этого я хотел помочь ему. Надо было хлопотать о пенсии, а он, видите ли, опередил. Ну, раз так, сказал я, умываю руки. Вот тебе бог, вот и порог. А увидел сейчас, сердце сжалось. Но чтобы виду не подать, к вам воззвал. У входной двери мы столкнулись со вторым «дельцом»— вторым арендатором ресторана. Это был крепкий, краснолицый, лет под шестьдесят человек, который, видимо, никак не реагировал на провал операции «Стамбул»… — Ничего, ничего, — ответил он на мой соболезнующий намек, — что-нибудь еще предпримем, придумаем. Сей оптимист пригласил нас к себе, поспешил сообщить, что работал в Каире наборщиком в дашнакской газете «Гусабер», видел меня в Каире, в клубе, где я выступала. — Прошу, оставьте здесь вашу подпись, — и протягивает вырванный из блокнота мятый листок. Я заменяю ереванской открыткой и подписываюсь. Комната его все-таки комната, а не «коридор в коридоре», но все равно выглядит жалко. Дети живут отдельно, предоставив отцу в одиночестве «ставить опыты», наслаждаться всеми прелестями «свободного предпринимательства». Вот папаша и экспериментирует. Не знаю, почему, увидев этих двух погоревших «предпринимателей», я в первый и последний раз за время своего путешествия по Америке сказала: — Почему не приехали в Армению? Не докатились бы до такого. Мой собеседник воспринял мои слова иначе и, словно делая мне одолжение, снисходительно утешил: — Приедем, приедем, бог даст, когда-нибудь навестим Армению… Я прощаюсь с ним, обнадеженная незадачливым арендатором «Стамбула», бывшим наборщиком газеты «Гусабер», что он когда-нибудь «удостоит» Армению своим визитом… Зеленая машина с покореженным крылом домчала нас на другой конец города. Новые однотипные пятиэтажные дома. В маленькой комнате на первом этаже на кровати полулежит старая женщина с выпуклыми черными глазами, бледная до белизны. Другая, помоложе, в блеклом платье, почтительно здоровается с Птукяном и робко спрашивает: — Господин Птукян, как с нашим делом?.. — Помню, помню, надеюсь, что скоро все уладится… — Да будет над вами благословение божье. Не забудут вас наши дети… Эта маленькая комната вмещала две грустные истории. У лежавшей в постели женщины то ли от старости, то ли в результате долгой болезни обнаружились психические отклонения. Ее нельзя было оставлять одну. Сын, который уходил на работу, оказался в безвыходном положении. Он обратился в «Контору социальной службы». Оттуда позвонили Птукяну, попросили помочь. Тот нашел сиделку, которая за двадцать пять долларов в неделю согласилась ухаживать за больной… — Семья этой сиделки еще более несчастна, — говорит мне Птукян. — Они недавно приехали из Стамбула. Муж тоже душевнобольной, зять туберкулезник. Трое внучат. Дочка вертится как белка в колесе. Я обратился в правительство, просил назначить пособие. Обещали. Вот она и спрашивает. Еще одна семья, в которой мы побывали, материально жила неплохо: трехкомнатная квартира, правда, в полуподвальном этаже, прилично обставленная, четверо ребятишек одеты, обуты, и мать молодая, хорошенькая, только уж больно намалеванная. Приехала Виктория из Бейрута. Муж тоже оттуда. По наущению матери он бросил семью и уехал. Виктория после этого потрясения попала в больницу, четверо ребят остались одни. Дело снова дошло до «Конторы социальной службы», а те опять к Птукяну. Тот уговорил какую-то знакомую армянку на филантропических началах позаботиться о детях, сам тоже часто навещал их. Детишки все маленькие, черноглазые, озорные, самому старшему едва восемь-девять лет; Птукяна они считают уже членом семьи, своим — дергают, взбираются на колени, шалят. И у Виктории настроение получше: муж как будто собирается вернуться. — Свекровь тоже шелковая стала, хочет дело добром кончить, и ясно, почему, — посмеивается Виктория. — Иммиграционные власти, узнав о его поведении, отказали им в гражданстве, хотя пять лет уже прошло. Виктория жалуется, что директор армянской школы тянет, не принимает ее старшего мальчика в школу для бесплатного обучения. Я, на этот раз уже по собственной инициативе, обещаю уладить дело. В той же машине с помятым крылом мы возвращаемся. Я пытаюсь как-то разрядить свою подавленность: — Господин Птукян, ваш автомобиль — это тоже два лица Монреаля. Одно крыло новое, блестящее, другое— мятое-перемятое… Птукян смеется. — Увидели кое-что из «второго лица» канадских армян, а теперь поедем посмотрим канадскую изнанку. Мы снова оказываемся в пестрой мешанине улиц, домов, мостов, бетона, металла, асфальта. Смотрю на все это и думаю, спорю с собой: «А что, разве в твоей Армении нет людей с несложившейся судьбой, нет нуждающихся, нет бегающих без присмотра детей, нет отцов, бросивших семью?» Есть, конечно, есть. Но сама не знаю, почему дома, сталкиваясь с подобным, хотя и очень огорчалась, но на сердце не ложилась такая гнетущая безысходность. Я нисколько не собираюсь «лакировать действительность», и все же… все же мне сдается, что дома, на своей земле, как бы тяжко ни было тебе сегодня, есть какая-то естественная прочность в надежде на завтра.7 апреля, Егвард
Жена Керовбе Птукяна канадка, по специальности психолог-социолог. Когда они познакомились, ей захотелось вникнуть в судьбу народа, к которому принадлежит муж, даже пыталась выучить его язык. Но это было в молодости. Потом жизнь потекла по разным руслам. Сейчас у каждого свой мир, и эти разные миры вот уже сколько десятилетий в согласии обитают под одним кровом. — Мы не мешаем друг другу. Напротив, жена часто помогает мне в моих «армянских делах». Хорошо знает все законы, юриспруденцию. Когда я рассказал ей о вас, она возмутилась: хватит водить ее только на шашлыки, пусть хоть что-нибудь увидит в канадской жизни с черного хода. Из слов Птукяна мне показалось, что жена его придерживается, как здесь говорят, «левых взглядов». — Раньше она работала в большой больнице психологом. Случалось, что сутками домой не являлась, проводила ночи с больными, утешала их, внушала, что все обойдется хорошо, но не поладила с врачами, обвинила их в равнодушии, в корысти и ушла оттуда… Теперь ее заработок вдвое меньше, но работу свою она любит… Сейчас госпожа Птукян работает в «Yorth clinic and centre», что в переводе означает «Молодежная клиника и центр», или, короче, — «Молодежный центр». В начале семидесятых годов, когда движение хиппи и бунт молодежи против «общества потребления» дошел до крайности, когда среди молодежи усилились наркомания, преступность, всяческая распущенность, тут-то и возникли «Молодежные центры», поощряемые государством и общественными организациями. Эти «центры» соединяют в себе одновременно и клубы, и поликлиники, и консультации по любому вопросу, они вызваны к жизни хаотическим умонастроением века, когда в общем сумбуре, как говорится, «собака хозяина не узнает». Однако у самого входа в «Молодежный центр», в холле, мы увидели «собаку с хозяином». Огромная лохматая дворняга разлеглась у ног юноши и спокойно взирала на нас. Вздумалось человеку прийти сюда со своей собакой — пожалуйста, приходи, слова тебе поперек никто не скажет. Стены, двери и лестницы двухэтажного дома окрашены невероятно ярко. Не краски, а вопли — зеленые, синие, желтые, красные. Молодежи нравится так? Отлично, пусть будет. Справа слышится смех, крики, грохот… Дверь распахнута настежь, подходим, смотрим. На низеньких скамьях, на подоконниках сидят юноши и девушки, кто полулежит, кто распластался прямо на полу — отдыхают. Те, кто пошустрее, кувыркаются, толкаются, пихают друг друга под общие аплодисменты и возгласы. Кто девушка, кто парень, разобрать трудно, почти все в потертых пропыленных джинсах, все длинноволосые. Поднимаемся на второй этаж. Здесь персонал «Молодежного центра» — психологи, врачи, воспитатели. Госпожа Маргарет Птукян — главное лицо «Молодежного центра». Все в ней строго, собрано — волосы, лицо, свитер, короткая суконная юбка, туго натянутые чулки. Эта общая собранность придает уже пожилой женщине молодой облик. На мою просьбу рассказать о «Молодежном центре» она достает толстый альбом-папку, где подклеены все газетные отклики еще со времен основания, с семидесятого года. На протяжении трех лет в «Молодежном центре» побывало три тысячи шестьсот человек по самому точному подсчету. — А результат? — спрашиваю я. Госпожа Маргарет неопределенно улыбается. Она вежлива, благожелательна, но сдержанна. Говорит мало, словно намечает пунктиром то, что хотела бы сказать. Этот пунктир должны расшифровывать мы: господин Птукян — своим переводом, а я — своими предположениями. Работать надо здесь осторожно, так, чтобы не спугнуть, не показать, что воспитываешь, что хочешь повлиять. Иначе больше не придут. Например, сегодня к госпоже Птукян пришли четыре человека. Один наркоман — пытался бросить курить и не смог. Другая, пятнадцатилетняя девочка, хочет знать, как избегнуть беременности. Третья — тринадцати лет. Родители разошлись, ссорятся из-за дочки, пришла посоветоваться, с кем же ей остаться. Четвертый — постоянный клиент госпожи Маргарет, девятнадцатилетний юноша, гомосексуалист. В этот день явился со своим «возлюбленным», но вообще приходит один и долго беседует. Ему нравится, что есть кто-то, кто выслушивает его, старается понять, не попрекает пороком. Он любит записывать свои сны и записи эти показывает госпоже Маргарет. По окончании университета мечтает стать писателем. «А зачем ждать окончания? Ты уже сейчас пишешь хорошо. Не лучше ли попробовать сейчас?» — советует она как бы походя, незаметно, чтобы не почувствовал, что его хотят направить. На стене комнаты картины — Иисус, Мартин Лютер Кинг, — произведения, принадлежащие кисти или перу завсегдатаев «Молодежного центра». Принесли, подарили. На двери объявления: «В такой-то день, в такой-то час лекция о йогах», «Обучаю игре на гитаре, обращаться по телефону…» Госпожа Птукян показывает книги, которые молодые люди могут взять почитать. Среди них есть и труды Маркса. Рядом с госпожой Маргарет юноша, который с любопытством следит за нашей беседой. — Почему вы приходите сюда? — спрашиваю юношу. — Публика здесь мне нравится, — отвечает он и добавляет, что хочет так же, как госпожа Птукян, стать психологом. — А что привлекает вас в ее работе? — И я хочу научиться любить человека… Пожимаю на прощанье руку госпоже Маргарет и прошу ее мужа перевести: — Скажите, что в ответе этого парня я вижу результаты ее трудов. Спасибо за такую благородную преданность идеалу. Птукян перевел, она едва заметно улыбнулась. Вероятно, это мое восточное славословие выглядело очень пышно в сравнении с ее будничной, напряженной, драматической работой и в особенности с ее сдержанностью. Мы вышли. Вместо хозяина с собакой в холле сидела другая пара. Они целовались, увидев нас, слава богу, перестали. Подходим к ним. Девушка — студентка, парень не учится, не работает, получает пособие, пока не найдет себе дело. — Почему вы приходите сюда? — повторяю я свой вопрос. Ответили так же: — Здесь нам публика нравится. Из комнат все еще доносились звуки песен, смех, шум и гомон. Так допоздна. «Молодежный центр» не закрывается и ночью. Дежурный телефон постоянно занят. Звонки по самым неотложным поводам: самоубийство, отравление наркотиками, чрезмерная доза снотворного, приступ безумия…8 апреля, Егвард
Интересно вам поглядеть на армянских хиппи? — спрашивает Птукян. — Армянских хиппи? Конечно, интересно. — Ну что же, тогда поехали… Впервые я увидела хиппи в Париже в 1968 году. Одна из таких встреч даже обернулась стихотворением. Мы оказались рядом почти на самой верхушке Эйфелевой башни, в решетчатой квадратной клетке размером с комнату. Они стояли группой, не то девушки, не то парни — неухоженные, с длинными лохмами, в джинсах, давно утерявших свой первоначальный цвет. Особенно запомнилась девушка — очень высокая, крепкотелая, литые бедра ее и грудь, казалось, вот-вот прорвут что есть силы натянутые, изрядно обветшавшие брюки и тельняшку. Мне захотелось вызвать ее на разговор. Выяснила, что она шведка. «А я армянка, из Армении». Не знает, даже понятия не имеет. Посмотрела холодно, пренебрежительно пожала плечами: «Это еще что за планета?» — и отвела в сторону пустые глаза. Во мне защемило что-то. Стало и обидно, и неловко как-то, и одиноко. И еще тысяча неуловимых оттенков… Однако что за удивительная штука поэзия! Порою ритм, рифма, цезура извлекают из глубин твоих барахтающиеся где-то там, в первоматерии, бесформенные еще мысли, ощущения и возвращают их тебе уже обретшими форму. Так случилось и с этой встречей. Через несколько лет и эта девушка, и многие такие же встречи и ощущения отозвались вдруг стихом:Париж, волшебный Париж, Зеркальный мрамор былого… А на прославленной башне, над множеством крыш, Я увидела хиппи… (Какое чуждое слово!) Средь чуждой толпы — одна. (Скорее всего — шведка.) Волос льняная копна Вразброс по одежде ветхой. Как будто — все под откос. Лохмотья куртки прикрыты Потоком жестких волос… (И вызов тут, и защита.) Нищеты подчеркнутый вид — Вызов роскоши и лицемерно. (Эту душу куда-то манит, Но ковчег и причал — безверье.) А глаза! Бездорожье глаз!.. Я в них будто в клетке железной, Будто свет навсегда угас, И кричать, и звать бесполезно.
Мне б добраться, добраться скорей До Армении, пасть на колени, Целовать бы обломки камней. Помня участь иных поколений, И глядеть на родные черты, Прикасаться к священным лохмотьям Вековечной заветной мечты, Для которой мы слов не находим. Лишь бы молвить: беру я, беру Многотрудный удел мой дочерний! Песней, сказкой, легендой чаруй, Мучь дорогами, полными терний; Чем захочешь зови и мани — Светом сердца и тяжкою долью; Простодушием — детство верни Иль состарь неизбывною болью, Лишь единства с тобой не лиши, Не оставь без корней, без причала, Чтоб опустошенья души Никогда, никогда я не знала.[10] Здесь отбойный молоток поэзии выдал на-гора ту руду, ту первооснову человеческой души, ее приверженность своей земле и ее устоям, — словом, все то, что защитной стеной встанет против налетевшего невесть откуда суховея, грозящего опустошить эту душу и опустошенную пустить гулять по свету…
…У него черные, как агат, усы и борода, черная, как агат, густая, длинная коса падает на сутуловатую спину. В этой сплошной черноте блестят глаза, большие, влажные, словно ночная гладь воды. В других случаях я бы написала: «Печальные глаза армянина», но сейчас?.. Он с трудом подыскивает армянские слова, речь его получается отрывистой, упрощенной. А когда хочет сказать о чем-то посерьезнее, прибегает к английскому, просит Птукяна перевести. Всего десять — двенадцать лет, как переселились сюда из Египта. Родители — ревностные хранители всего армянского, постоянные участники всех мероприятий в общине. — Моя мать читала мне ваши стихи… — Какие? «Армянской речи не забудь…»? — Да, кажется, это… Ничто не помогло — ни ревностные родители, ни старания общины, ни «армянской речи не забудь». Оторвался от берегов и поплыл по течению… Гаспар учился раньше в университете, на филологическом факультете. Но вот в кровь попала бацилла, носящаяся в воздухе. Бросил учиться и открыл магазин. С первого взгляда кажется — расстался с духовным и погнался за материальным, — но произошло иное. Учение, образование, согласно Гаспару, отделяет человека от собственного естества, втискивает в рамки, нацеливает на беготню за карьерой. Человек должен быть свободен от всякого напряжения, от внешних влияний, от подсказок. Магазин? Всего лишь возможность обрести материальную независимость от родителей, от кого бы то ни было и, следовательно, обрести независимость духовную. Магазин Гаспара в центре города. Вытянутый в длину, он забит «под завязку» мешаниной мелких-премелких, странных товаров. Репродукции картин от Леонардо да Винчи до Пикассо, пластинки классической и современной музыки, причудливые сувениры, статуэтки, керамика, табак, жевательная резинка и, больше всего, привезенные из Индии и Ирана благовония — ладан, розовое масло, тоненькие свечки-палочки, пропитанные всевозможными ароматическими веществами. Когда они зажигаются, воздух полон дурманящих запахов. — Это магазин хиппи, — объясняет Птукян, — все, что им необходимо, можно найти здесь. В магазине все время юноши, девушки. Молча стоят у пластинок и картин, разглядывают сувениры, свечи и, сделав маленькую покупку, выходят. Тесно. Гаспар уступает свою расшатанную табуретку мне, и мы продолжаем беседу. Он охотно отвечает на вопросы. По-видимому, удивлен и даже польщен, что приезжая с таким незлобивым любопытством хочет понять его, а не высокомерно, как, наверное, бывает обычно, воротит от него нос. — Нужно помочь человеку, — переводит слова Гаспара господин Птукян, — освободиться от власти материального, от его нейлоновых уз. Хиппи хотели дать пример этому, однако сейчас их движение видоизменяется, расчленяется. Многие с возрастом сдаются, становятся «материалистами», не могут устоять перед соблазном благополучия и комфорта. Иные кидаются в религию — буддизм, индуизм, увлекаются йогами… — Ты женат, Гаспар? — Разошелся… Да, она была канадкой… Вначале думала, как и я. Жили в маленькой комнатке. Потом она изменилась, захотела стать богатой… Что же! Валяй, становись богатой! Входит тоненькая девушка в платье до каблуков, с золотистыми волосами. Гаспар идет ей навстречу, они целуются. С девушкой пришел смуглый юноша с пышными бакенбардами, но без усов и бороды. На нем длинное, в талию пальто. Это брат Гаспара, учится на историческом факультете в университете. Ему едва восемнадцать-девятнадцать, но живет тоже отдельно от родителей. — Вы разделяете взгляды брата? — интересуюсь я. — Частично, — улыбается юноша. Девушка скромно стоит в сторонке. — А это кто? — обращаюсь я к Гаспару. — Это Николь, познакомьтесь, пожалуйста. Она тоже студентка, обучается психологии… Даже не обучаясь психологии, можно догадаться, что хорошенькая Николь, канадская француженка, поспешила заполнить вакуум после решившей «стать богатой» жены Гаспара. — Ты любишь Николь? — спрашиваю я по-армянски. Гаспар вопросительно смотрит на Птукяна. Видимо, восточноармянское спряжение сделало слово «любить» совершенно непонятным. Я повторяю. Птукян на этот раз переводит с армянского на армянский и переделывает на современный лад: — Она спрашивает, ты спишь с ней… — Нет, нет, совсем не об этом, — спешу уточнить я — все и без того ясно… — Нравится тебе Николь? Влюблен в нее? — Да, да, нравится, — с трудом догадывается Гаспар, — хорошая девушка, уже три-четыре месяца знакомы… — Ничего не скажешь, для хиппи это очень длинный срок! — Я не хиппи, я просто человек, который хочет быть самим собою… Хиппи — те забираются куда-нибудь подальше от городов, живут коллективно. — Почему косу отпустил себе? — Так красивее. — Неужели? — Николь так считает. — О, если так считает Николь, я пасую. Тут первое слово за ней… Гаспар смеется, в черноте бороды с трудом прорезается белая щелка зубов. Смеется, но во всем его облике проскальзывает что-то жалковатое, беспомощное. Мыслит занятно, в чем-то даже возвышенно, непринужденно и где-то верно. А вот, несмотря на высоченный рост, крепкое сложение, кажется мне ребенком, большим ребенком. — Кем ты себя чувствуешь, Гаспар?.. Чувствуешь, что армянин? — Конечно, что-то чувствую, однако… Национальность— это неважно, важно быть человеком, любить человека… Эта любовь поможет нам достичь бога… — А о Нарекаци ты слышал? — Нет. Кто это? — Поэт, жил в десятом веке… Он тоже стремился достичь бога, о котором ты говоришь. — Армянин? — Армянин. Если бы ты прочел его, Гаспар, полюбил бы. Он велик, очень велик, как Данте и Шекспир. В последнее время, когда его перевели на русский, французский, все читавшие просто поражены были. — Да? — засветилось на миг лицо Гаспара. Вероятно, сказанное им «что-то чувствую» высекло вдруг искру. Однако под какими же толщенными пластами таится это «что-то чувствую»! Как случилось, что для ищущей этой души не стала защитной броней та самая первооснова, ничего в ней не взрастила мучительная одухотворенность нашего народа, его история, его судьба, его боль, радости, надежды — все то, что до краев может наполнить тысячи ищущих сердец? — Как проводишь время, Гаспар? — Бываю здесь, в магазине, хожу к товарищам, фильмы смотрю. На будущей неделе должен пойти «Сатирикон» Феллини… От минуты к минуте протягиваются какие-то нити между мной и этим странноватым, но чем-то привлекающим к себе юношей. Вот еще одна ниточка — Феллини… Стало быть, и он неравнодушен к тому новому, что врывается в этот порядком одряхлевший мир, и он сопричастен подлинному искусству. Обычно на прощанье я оставляла своим новым знакомым какую-нибудь памятку — ереванскую открытку, значки с Араратом, с крунком, с Ани, с армянскими буковками. Несколько раз опускаю руку в сумку, но снова отказываюсь от этой мысли, боюсь… Боюсь, что не поймет, усмехнется, примет просто как кусочек металла… Но ведь дарила же я это в других случаях людям, порой совсем незнакомым, а тут… Тут я боюсь, что, если Гаспар останется безучастным, порвутся с трудом свитые нити между мною и этим странноватым юношей с печальными глазами армянина. Расставаясь, Гаспар хочет что-нибудь подарить мне из. заморского ассортимента своего магазинчика. Торопливо откладывает коробочки с благовониями, пузырьки с духами. Я отказываюсь: мол, еду не в гостиницу, не могу ничего брать с собой. — Тогда я пришлю вам в отель. — А что мне прислать тебе, Гаспар? Хочешь альбом? — Альбомов у меня много, я хочу книгу на армянском, если можно. — На армянском! — Кажется, между нами сразу же протянулось целое полотнище, сотканное из тончайших нитей. — Приезжай в Армению, Гаспар, ты полюбишь ее. — Да? — удивился так, словно бы ему предложили взлететь в космос. — А можно? — Почему же нет? Подкопи деньжат, свяжись с туристским бюро и приезжай… Знаешь, сколько иностранцев бывает у нас, как все им там интересно. — Да? — В лице снова мелькнула искра «что-то чувствую». Но все же Гаспар не обещает. И впрямь, кто же это вот так, сразу, решится лететь на Луну?.. Я еще несколько раз видела Гаспара. Один раз в кинотеатре «Фестиваль фестивалей», когда шел тот самый «Сатирикон». Огромный зал был набит молодежью. После фильма среди множества светлых и каштановых усов и бород мелькнула смоляная борода Гаспара, его высокая сутуловатая фигура. Хотела окликнуть, но он стоял далеко, в противоположном конце зала. Следующая встреча была в совершенно неожиданном месте — в монреальской церкви Григора Лусаворича, на вечере, посвященном восьмисотлетию поэта Нерсеса Шнорали. Гаспар пробрался через толпу ко мне и познакомил с матерью. — Славный он парень, ваш Гаспар, добрая душа у него, — сказала я. Мать с мягкими глазами, едва за сорок, грустно улыбнулась. — Не все это понимают, — А потом, совсем уже размягчившись, добавила: — Уже много лет Гаспар не ходил ни на какие наши вечера. А сегодня вдруг… Как-то вечером, войдя к себе в номер, почувствовала в комнате густой сладковатый запах. Вижу — на столе огромная коробка. Отправитель — Гаспар. Раскрыла. Оттуда, как брызги, разлетелись, обдали меня запахи, сладко-горькие, острые. Словно филиал магазина Гаспара, строем стояли флаконы и коробочки с индийскими и персидскими этикетками. Я была тронута: большой ребенок щедро поделился со мной своими игрушками. Дня через два я должна была уехать в Америку. Моей книги «Караваны» едва ли осталось у меня три-четыре экземпляра. Один я послала Гаспару. Знала, что не прочтет, не сумеет прочесть, но послала. На книге написала: «Дорогому Гаспару с надеждой в один из дней встретиться в Армении…» Приехал, посмотрел бы Гаспар Армению. Тут же, в аэропорту, навстречу ему из густой синевы, как из тумана в первый день творения, поднимет голову Арарат и, кивнув юноше, скажет: «Ты вернулся, сын мой?» Встретят его наши ребята — мой сын Араик, его друг, художник Сиравян, мой племянник Гевик, втиснутся в их «хиппиобразные», неприбранные «Жигули» и помчат прямо в Эчмиадзин: «Много слышал, наверное, о нем, взгляни!» Потом привезут Гаспара в Ереван и по дороге, перебивая друг друга, станут объяснять: «Это наш трест «Арарат», это наша площадь Ленина, это наша консерватория, а это наш Матенадаран, гляди вовсю». В Матена-даране парни притихнут, и один из тамошних ученых — Шаварш, поседевший еще совсем молодым, с юношеским пылом расскажет о перебиравшихся из монастыря в монастырь, из века в век пергаментах, и Гаспар изумленновосхищенно прошепчет: «Да!..» А потом парни погонят свои «Жигули» к Гарни-Гегарду. «Это наш дворец молодежи, это арка Чаренца, а это новонасаженные сады», — скажут ребята и продолжат свой зигзагообразный путь, пока перед ними не распахнутся, словно небесные врата, створы ущелья Гегард, открыв каменное чудо Армении.
Дай, боже, силу мне, изнеможенному, Дай духом мне воспрянуть, обделенному. …Не дай мне лишь стонать, а слез не лить. В мучениях рожать и не родить, Выть тучею, а влагой не пролиться, Не достигать, хоть и всегда стремиться, За помощью к бездушным приходить, Рыдать без утешенья, без ответа. Не дай мне у неслышащих просить. Не дай, господь, мне жертву приносить И знать, что неугодна эта жертва…[11]
Так прошепчет Сиравян эти строки Григора Нарека-ци, и высеченные в скалах купола Гегарда, перекликаясь друг с другом, отнесут его голос и взволнованное дыхание парней, присоединят к прошлым и будущим векам, и в это мгновение почудится, что и прошедшие, и будущие века вот здесь, совсем рядышком. И тогда под этим каменным сводом, в пещерной глубине, небо покажется ближе, чем на самой высокой горной вершине мира… А потом наступит миг, когда никто не проронит ни слова, ни Араик, ни Гевик, ни Сиравян, и Гаспар тоже не шепнет свое изумленно-восхищенное: «Да!» Все смолкнут. Будет говорить день и ночь алеющее, как кровь, вечное пламя, будут говорить склонившиеся в скорби серые гранитные плиты, будет говорить тишина… И только из раскинувшейся внизу армянской столицы долетит и смешается с быстрым биением молодых сердец ее ровный и юный гул… «Это наш Киевский мост». «Это наша академия». «Это наш стадион «Раздан», — опять станут перебивать друг друга парни на обратном пути, а Гевик-астроном предложит: «Ребята, поехали в Бюракан…» По дороге он расскажет о своей диссертации, Араик пожалуется, что литейщики опять задерживают его скульптуру Паруйр? Севака, Сиравян, излучая довольство, похвалится: «Какие детишки у меня — мечта! И жена — прямо мадонна, но во вкусе Рубенса. Гаспар, а тебя когда мы оженим?..» И пока доберутся они до Бюракана, опустятся уже сумерки. На склонах Арагаца, отражая последние лучи солнца, сверкнут, как шлемы богатырей, башни обсерватории. А когда подойдут к новой, из белого камня и стекла, башне, Гевик объяснит, что здесь самый большой телескоп в Европе и что Виктор Амбарцумян один из крупнейших астрофизиков мира. Гаспар снова изумленно-восхищенно прошепчет: «Да?!» А затем наступит вечер, на небе зазвенят звезды, и Сиравян покажет: «Гаспар, смотри, это гора Арагац, на ее вершине, между землей и небом, светится лампада Григора Лусаворича-Просветителя. Она видна только тем, кто умеет видеть, чья душа хочет увидеть… Я вижу эту лампаду, Араик, Гевик — мы все видим ее, а ты, Гаспар?..» И Гаспар с облегчением путника, долго плутавшего по дорогам и дошедшего наконец до места, скадает на этот раз не изумленно-восхищенно, а твердо: «Да!» Приехал, посмотрел бы Гаспар Армению!..
9 апреля, Егвард
Молодежь уже давно стала одной из наиболее серьезных проблем Запада. С быстротой, соответствующей лихорадочным скоростям двадцатого века, меняются взгляды и образ жизни молодежи, отвергается принятое год назад, принимается новое. «Сердитых молодых людей» сменяют хиппи, потом и это движение сходит на нет, то и дело дают о себе знать буддисты или там индуисты, последователи учения Рамакришна, йоги. Многие ударяются в мистику, возникают экстремистские, неофашистские группки, наркомания считается уже не пороком, а некоей формой «протеста», становится философией: «Если невозможно изменить действительный мир, то я в своем мозгу создам свой мир, туманный, бредовый, но зато мой и действительно свободный». Все сильнее и сильнее культ жестокости, а где-то рядом, еле шевеля распятыми руками, Христос вновь и вновь призывает своих заблудших сынов к добру, любви и терпимости… Из всего этого калейдоскопа разнобойной молодежи я, конечно, смогла увидеть очень немногое. Вечерами, когда приходилось проходить мимо городской ратуши в Монреале, я оказывалась, если можно так сказать, буквально в джинсовых джунглях. Только по бороде и можно было догадаться, что на свете еще не перевелись Адамы… Однажды мне захотелось поглядеть на них поближе, хоть на несколько минут заглянуть в один из баров, возле которых обычно кишели хиппи. Длинная очередь стояла на улице. Господин Кестекян, лысоватый, с брюшком, взялся провести меня в бар. Помимо желания надо было еще обладать ловкостью и суметь протолкнуть меня туда «зайцем», без очереди. Один из бородачей наблюдал за порядком. Просьба моего спутника впустить нас, объяснение, что я приезжая издалека, не возымели никакого действия. И так было не только в этом баре, но и в других. Критическиоглядывали нас, стариков, и объясняли: исключительно в порядке очереди. Не хватало мне еще здесь стоять в очереди! Двери в бар распахнуты, и оттуда, из полутьмы, как из кратера вулкана, низвергались тяжелые дымные клубы воздуха, пропитанные дыханием многолюдья, алкоголем, табаком, выталкивались на улицу грохот джаза, крики и топот. Чуть пройдешь дальше и остановишься у дверей, которые притягивают своей тишиной. И можно не без оснований предположить, что за этой завесой тишины странный, потусторонний мир, созданный героином и марихуаной. А днем в густой человеческой толпе, глядишь, вдруг мелькнет странная физиономия: пожелтевшее, костлявое лицо, голова вся обрита, и только с макушки свисает, как хвост, грязноватая прядь, сам в бесформенной хламиде из серого холста. Это из какой-то индуистской секты. Под медленный аккомпанемент бубна поет что-то, и не разберешь, чего ему надо — то ли денег собрать с прохожих, то ли просто так полагается по их правилам. С культом жестокости я лично, к счастью, не столкнулась. Ее наивысшим проявлением для меня остался фильм «Механический апельсин», который я видела в Хельсинки и который шел тогда в Монреале, в кинотеатре «Фестиваль фестивалей». Четверо молодых людей, — из них один, притом главный герой, любит Бетховена — черпают импульсы для своей жизни в философии жестокости и реализуют ее методично, с виртуозностью и упоением. Пафос фильма в том, что эра космических кораблей, «механизированное время», рождает бесчеловечность, разрушает вековые этические нормы, цивилизацию, и даже искусство, даже Бетховен не спасает, а наоборот, служит разрушению и безысходности… Не без умысла режиссер одел этих молодых людей в странные, напоминающие одежду космонавтов костюмы и скафандроподобные шляпы… А вот совершенно новое направление мысли. В Вашингтоне с певцом Тиграном Жамкочяиом и его братом, художником Левоном, мы бродили по городу. Перед зданием американского конгресса, на ведущих к входу ступенях, стояла группа молодых людей, человек двадцать — двадцать пять. Все в них обыкновенно, скромно, девушки без следа косметики. На груди у всех прикреплены наискосок ленты с их именами и фамилиями. Они стояли на ступенях рядами, как хор, и пели. В руках держали плакат, на котором крупными буквами значится: «Прощать, любить, объединяться». Эти три слова — девиз нововозникшего учения, основатель которого кореец Сун Нью Мун. «В борьбе ненавидящих нет победителей, нам остается любить друг друга», — так вещает корейский проповедник, который стремится распространить свое учение повсюду и на всех. Эти юнцы — последователи нового учения, именуемого «Всемирная объединенная церковь». Среди них были приехавшие из самых разных частей света — Италии, Франции, из разных штатов Америки. Мои спутники разговорились с ними. Выяснилось, что боголюбивый Сун Нью Мун по случаю «уотергейтского кризиса» объявил всенациональный сорокадневный молебен, на сей раз под девизом простить и возлюбить Никсона. Так вот молодые люди и взялись за это. Пели, улыбались и с готовностью отвечали на вопросы. Увидев мою горячую заинтересованность, уверенные в том, что я уже включилась в движение Сун Нью Муна, сунули мне какое-то воззвание, — дескать, подпишитесь. Мой отказ был неожидан. Парни недоумевали: как согласовать проявленный миссис интерес и категорическое нежелание поставить подпись? Должна сказать, что я все-таки не осталась в стороне от этого движения. Не знаю, почему, но молодые люди вдруг запели «Марсельезу». Увидев, что мои спутники подпевают, я тоже присоединилась к ним. И впрямь, кто мог бы предположить, что наступит день и я, знающая «Марсельезу», как говорится, с серединки на половинку, буду торжественно распевать ее на ступеньках Капитолия в Вашингтоне вместе с американскими, итальянскими, французскими юношами и девушками, а над головой моей будет красоваться плакат: «Любите, прощайте, объединяйтесь…» Вот, значит, среди западной молодежи есть и такая. Движения, проповедующие христианскую доброту, любовь, всепрощение, возникли, видимо, как противовес культу жестокости, духовного выхолащивания. Однако и то, и другое — крайности, болезненные полярности. Все в конечном счете сливается в одно общее настроение, свидетельствующее о том, что молодежь пытается противостоять действительности, власти материального над человеком, ищет выхода из духовного удушья.10 апреля, Егвард
Кинотеатр «Фестиваль фестивалей» на одной из окраинных улиц Монреаля. Здесь демонстрировались фильмы всех стран, получившие международные премии и одобрение знатоков киноискусства. В свои монреальские дни я стала там почти завсегдатаем и посмотрела много прославленных лент, таких, как «Сатирикон», «Рим» Феллини, «Вопли и шепоты» Бергмана, «На дне долин» Антониони. Если в залах кинотеатров, где показывали порнографические фильмы, едва набиралось четверть зала, и главным образом пожилые люди, то «Фестиваль фестивалей» всегда заполнен до отказа молодыми типа Гаспара. Входной билет туда стоит 99 центов вместо трех-четырех долларов в других местах. Поистине это был демократический кинотеатр, посещение которого представляло для меня двойной интерес: во-первых, фильмы и, во-вторых, не менее важное — зрители. Их напряженное внимание, сопереживание происходившему на экране говорило о многом… В «Фестивале фестивалей» я бывала с преподавателем Монреальского университета, доктором философии Карписом Кортяном и его молодым другом, преподавателем колледжа Арташесом Керогланяном. Мне приятно было общаться и беседовать с людьми, которых живо занимало все, что творилось в мире, и «армянский вопрос» они рассматривали именно с этой вышки. Интересно было разговаривать с ними, проверять на них свои ощущения от здешней жизни. — Вопрос номер один на Западе — вопрос молодежи… Несправедливая война во Вьетнаме невиданно ослабила моральные позиции Америки, нарушила душевное равновесие страны. Отсюда и смятение в сознании молодежи. — Вы спрашиваете, почему эта пара целуется на виду у всех в пивном баре? Почему не выйдут, не уединятся? Да просто потому, что вдвоем им скучно… Скука, пустота — вот одна из причин многих болезненных явлений. — Американская жизнь до удивления прямолинейна, в конце этой линии торчит доллар… Такая прямолинейность почти не оставляет времени и места для иных мыслей — поглубже, пошире. Может быть, поэтому многие из них так примитивно инфантильны. Всю неделю, как оглашенные, гоняются за деньгами, чтобы развлечься в уикэнд. А придет этот уикэнд — долгожданная суббота и воскресенье, — не знают, куда себя девать. — Вы видите, как молодые рвутся на эти фильмы сюда, в «Фестиваль», как следят за экраном, ищут ответа на собственные проблемы. Не находят, конечно, но ищут… — Молодой армянин не может стоять в стороне от этих проблем, вместе со всеми он учится в том же университете, служит в тех же учреждениях, слышит те же разговоры, его тревожат те же тревоги. В наш век держать армян в изоляции немыслимо… И главное — ни к чему. — Спюрк не должен существовать в прежнем своем виде. Часто межпартийная борьба превращается в межсемейные распри. Все сводится к тому, кто из какой семьи происходит, в каких кругах вырос. Спюрк сейчас перед угрозой полной ассимиляции, а партии все ворошат старое, все талдычат одно и то же. Если так будет продолжаться, то не пройдет и десяти — пятнадцати лет, как молодежь окончательно отвернется от всех общинных дел, от нации. — Опыт подсказывает, что спюрк должен искать иные пути деятельности. Хватит вариться в собственном соку. Надо издавать книги и газеты не только на армянском. Надо рассказать другим о нашем народе, о нашей культуре, нашей истории. С этой точки зрения мне очень по душе отношения, установленные у вас в Армении с другими народами. Вот примерно о чем поведали мне мои собеседники. Арташес моложе, проще и непосредственнее. Карпис несколько скептичен, сдержан, — словом, говоря философским языком, рационалист. Видимо, желая с ходу реализовать свое стремление всячески расширять связи, они привели ко мне в гостиницу профессора Монреальского университета Жоржа Мадью де Дюрана. Он родом из Англии, жил и учился в Лондоне, а потом в Оксфорде. Предмет его научных изысканий — греческий богослов пятого века Кирилл Александрийский, труды которого сохранились лишь на древнеармянском. И вот господин Дюран принялся за древнеармянский, стал заодно и армяноведом. Он хочет месяца на два приехать к нам и продолжить свою работу в Матенадаране. Я обещала поговорить об этом в Ереване. Господин де Дюран к тому же еще и католический монах, живет в одном из доминиканских монастырей Монреаля. Да и смахивал он на монаха — худой, высохший, говорит шепотком. Однако, несмотря на свое монашество, охотно подружился с армянским коньяком и, оживившись после двух рюмок, сообщил, что в шестидесятых годах, когда учился в Англии, армянская община присудила ему Нубаровскую[12] премию и на протяжении четырех лет он получал Нубаровскую стипендию. Карпис и Арташес слышали об этом впервые, несмотря на давнее знакомство. Дюран ранее им ни словом не обмолвился. Вот, выходит, какие секреты может выплеснуть наружу наш коньяк «Арарат»! Однако следующие потом одна за другой рюмки ничего нового не обнаружили в бытии монаха из доминиканского монастыря. Ровно в восемь Жорж де Дюран распрощался с нами, а мы решили пройтись, подышать свежим воздухом, а потом «заскочить» в какое-нибудь веселое местечко. Но вместо «злачного местечка» отправились на фильм Бергмана «Вопли и шепоты». С него-то и начались наши кинопутешествия, которые вошли в привычку. Четвертого ноября, в воскресенье, был день выборов в Квебеке. Как и другие провинции Канады, Квебек имеет свое правительство и наряду с общими свои партии, среди которых и «Квебек-партия», борющаяся за независимость Квебека. Выборам предшествовала бурная избирательная кампания. Шумели газеты, радио, телевидение со своими шестью каналами. Стены домов были залеплены плакатами. В почтовые ящики вместе с газетами опускали листовки, призывающие голосовать за «своих» кандидатов. По улицам мчались автомобили, на которых были начертаны фамилии депутатов и краткие призывы голосовать за них. Особенно бросались в глаза надписи на французском: «Мой милый Квебек», или другая: «Да умру я за душу твою, Квебек». Помню, как-то вечером я с друзьями зашла в «Старый Мюнхен» — знаменитый здесь пивной бар. Этот монреальский филиал всемирно известной фирмы «Старый Мюнхен» — одно из самых веселых, ребячливых мест, где мне довелось побывать. Огромный, как стадион, зал, украшенный забавными картинками на стенах и потолке, набитый взрослыми детьми, которые веселятся как хотят, без всякого удержу. Пляшут по-деревенски, хором распевают народные песни, в такт песне хлопают в ладоши, что-то выкрикивают. Тон этому веселью задает расположившийся в середине зала на высоких подмостках духовой оркестр. Музыканты — большей частью полнотелые здоровяки мужчины в коротких штанах, пестрых гольфах, в широкополых шляпах с перьями. Мюнхенские костюмы, мюнхенские танцы и песни, мюнхенское пиво. Как было бы хорошо, если бы это прилагательное «мюнхенский» никогда больше не вызывало ассоциаций с той самой пивнушкой, где почти пять десятилетий назад воспаленному воображению незадачливого ефрейтора мир показался глобусом, который он может зажать в своих руках и прочертить по нему кровавые стрелки-указатели… Сидим вокруг длинного стола, и так как в зале свободных мест нет, то у нас в результате «вынужденной посадки» оказались еще два соседа по застолью. Они подсели к нам уже «тепленькие». И вокруг, и за нашим столом такой микроклимат, что все чувствуют себя непринужденно и ведут себя раскованно, естественно, забыв о всякой чопорности. Молодые люди оказались специалистами по счетным машинам, один — английский канадец, другой — французский. Французский, вопреки установившемуся представлению, серьезен, сдержан, английский же совсем распустил вожжи. Узнав, что я поэтесса, сообщил, что тоже не чужд искусству, любит рисовать. «О чем вы пишете?» — заинтересовался он. И тут, не знаю почему, Арташес возьми да и ляпни: «О «Квебек-партии»…» Англо-канадец тут же отрезвел, — оказывается, это его больное место, — распетушился. Еще мгновение — и «Старый Мюнхен» чуть не утратил свой милый, ребячливый облик. Но мои спутники поднялись с места и начали прощаться с мгновенно ставшими по-прежнему добро расположенными соседями по столу… Арташес Керогланян также сторонник независимости Квебека, в оппозиции к общеканадской либеральной партии, самой влиятельной, поскольку премьер-министр Трюдо член этой партии. — А вы знаете, что кое-кто из местных армян почему-то настроен иначе? — говорю я Арташесу. — Думают, что это ограничит их торгово-экономические связи. — Знаю, — строго отозвался он, — но из-за того, что некоторым армянам это не по душе, я не могу не признавать право какого-либо народа на независимость. — Стало быть, вы отдадите свой голос партии независимости Квебека? — Безусловно. Я член этой партии. Арташес обещал повести меня на выборы, и вечером 4 ноября наша троица отправилась выбирать. Пяти-шестиэтажное здание, в первом этаже которого находился избирательный участок, было чем-то средним между пансионом и гостиницей. Сравнительно дешевая, она предназначена была для тех девушек, которые приезжали в Монреаль работать или по какому-либо другому делу. У дверей стоял дежурный, на доске, где вывешены правила, написано «вход мужчинам запрещен», но больше всего боялась, что встречу препоны именно я, как человек все же посторонний, иностранка. Однако все мы беспрепятственно вошли, спустились в зал, где стояли занавешенные кабинки, а в буфете продавались кофе и соки. Я и Карпис принялись за кофе, Арташес же пошел «сражаться» за независимость Квебека. Был уже поздний час, голосующих почти не видно, и девушки, работавшие на избирательном участке, изрядно соскучившись, взяли в оборот нашего красавчика Арташеса, завязалась бойкая беседа. Наконец Арташес получил бюллетень, вошел в кабину и отдал голос своему кандидату, которым была женщина, кажется, юрист. Дня через два, когда стали известны результаты, Арташес огорчился: его партия получила в парламенте всего 6 мест, тогда как либералы — 102… — Это были, полагаю, несправедливые выборы! — возмущался он и подробно объяснял, в чем заключалась несправедливость. Из этих объяснений я усвоила только одно: тем, кто написал на своих машинах: «Да умрем мы за душу твою, Квебек», предстояло намотать еще много километров, прежде чем они достигнут своей мечты о независимости. Безжалостно разнилось расстояние от шести до ста двух, точно на столько, сколько от действительности до мечты. Поздно вечером мы втроем возвратились в гостиницу. Я попросила моих спутников подняться. Давно не получала вестей из дома, хотела позвонить, но как ни развита в Америке автоматика, нельзя еще, вращая металлический диск, попасть прямо в Ереван. Требовалось посредничество слова. Поэтому-то Карпис и Арташес и поднялись ко мне в номер в качестве «языка» и тотчас стали устанавливать связь с междугородной, вернее, «межполушарной» телефонной станцией. Служащие телефонной станции на западном полушарии тоже девушки, следовательно, и здесь в телефонном вопросе мужчинам везет. Девушки обещали поскорей соединить их с Ереваном. И впрямь, не прошло и пяти минут, как нам сообщили, что самое позднее через полчаса заказ будет реализован. Усевшись на диване, мы стали беседовать. Наконец зазвонил телефон. Карпис снял трубку, с той же игривой улыбкой ответил той же девушке, потом торопливо сказал: «Сенк ю вери мач, мисс, сенк ю»— и тотчас повернулся к нам: — Сейчас, сейчас будет Ереван… Я и Арташес подошли к телефону. Молчим, кажется, сама тишина затаила дыхание. В голосе, в лице, во всем облике ироничного рационалиста Карписа что-то необъяснимое — нетерпение, смятенность. Хотя разговаривать должна я, он не передает мне трубку: сейчас, сейчас будет Ереван… Так молча стояли мы в эти минуты, единые в одном и том же чувстве, настроенные на одну и ту же волну, и перед этой маленькой волной, казалось, бессилен был и отделявший нас от Еревана океан, и оба эти полушария с их малыми и большими тревогами. И вдруг Карпис повторил: «Сенк ю, мисс», — на этот раз совсем другим, упавшим, бесцветным голосом. Разговор не получился, надо еще ждать. Мы снова сели, но возвращение к прежним спорам и спокойным обсуждениям оказалось невозможным. — Хотите увидеть Армению? — спросила я и вынула конверт. — Такую вы не знаете, смотрите же. В конверте были снимки, сделанные сыном знаменитого в Канаде фотографа Арто Гавункяна. Юноша гостил в Армении, а когда я приехала сюда, подарил их мне. На стол легли фотографии, заснятые прошлым летом в Талинском районе. Старые домики из выжженного солнцем камня, такие же ограды, кривые улочки, мальчишки, босоногие, замурзанные, в драных штанишках, с угольками искрящихся от любопытства глаз. Показываю, сама не знаю почему, именно все это, а не известный по альбомам розовый Ереван, его широкие улицы и площадь с фонтаном, не оперный театр, не стадион «Раздан». Почему, когда я оказываюсь далеко от дома, в каких-либо сверхблагоустроенных странах и городах, когда вижу бескрайние мягкие, сытые земли и беспечно плещущиеся воды, я невольно шепчу эти строки Чаренца:…И неприютный мрак лачуг, и копоть стен, и черный свод, Тысячелетних городов заветный камень я люблю. …Как раны родины больней ни ранят сердце каждый раз, Я — и в крови, и сироту — свой Айастан, как яр, Люблю…[13]
11—12 апреля, Тбилиси
Еще в конце марта я узнала, что грузинское телевидение организует в Тбилиси большой вечер армянской поэзии с участием наших поэтов. Хотя и дала себе зарок, пока не закончу книгу, не отрываться от письменного стола, сразу же решила этот обет нарушить. Мы выехали из Еревана 10 апреля после обеда на машинах. В нашей группе Рачия Ованесян, Геворг Эмин и еще несколько поэтов и артистов. В Ереване было солнечно, в машине тепло, а когда после перевала на дилижанских поворотах перед нами открылась самая настоящая зима с густо падающими снежными хлопьями, мне почудилось, что мы сидим в нагретом театральном зале и резко раздвинутый занавес вдруг открыл мастерски сделанную декорацию зимы. Наша «портативная» Армения умудрилась все в себе собрать: есть в ней свои Сахара и Чукотка, свои Кубань и Памир. Не беда, что все это только в размерах «пробы». Итак, немного «попробовав» зимы, мы проскочили Иджеван, Казах, мост через реку Храм и к полуночи добрались в Тбилиси. С самого утра в гостиницу пришли мои давние друзья — грузинские поэты Иосиф Нонешвили и Реваз Маргиани. Я знаю их уже чуть ли не три десятилетия. Познакомились в 1947 году в Москве, когда мы с Рачия Ованесяном были участниками Первого Всесоюзного совещания молодых писателей и наш семинар вел известный русский поэт Павел Антокольский. Это было вскоре после войны, воздух был наполнен радостью ожиданий, надеждой, открытостью сердец. Мы были молоды, и наша дружба была крепка. Конечно, в Москве мы встречаемся чаще, чем в Ереване или Тбилиси, и, как всегда, выручает нас русский язык. Но во всех наших встречах присутствуют Ереван и Тбилиси, наши акценты и характеры — у одного армянский, у другого грузинский. — Слушай, Силва, знаешь, что случилось? — Это в Москве, в Центральном Доме литераторов, навстречу мне идет Нонешвили, и громко, на все фойе, звучит его своеобразный русский без мягкого знака. — Я толко вчера прилетел из Чили… Из всего Советского Союза нас было там двое, и один из них я. И где бы ни оказался, твои армяне всюду находили меня… В Сантьяго был один по имени Жирайр и один наш, Мирабашвили, так вот они вдвоем организовали армяно-грузинское общество. Армянская колония устроила вечер Ованеса Туманяна. Слушай, я встал и такое сказал про Туманяна — все плакали. Сказал, что Туманяна породил Тифлис, что он и наш, грузинский писател. Наизуст прочитал «Старое благословение» в переводе Гришашвили, пять минут аплодировали, не отпускали… Я утолял их тоску по родине. Слушай, Силва… Вечер армянской поэзии начался приветственными словами Константина Гамсахурдиа. Нс много на земле народов, сказал он, которые были бы так связаны друг с другом, как армяне и грузины… Конечно, и среди грузин, и среди армян есть люди бездумные, не видящие, не понимающие этого многовекового общего пути. Но только неразумный человек может настроить против себя друга, а умный человек старается не потерять его. Затем полились песни, стихи, читали и пели артисты Грузии и Армении. Звучали, ликовали, наставляли и благословляли Саят-Нова — крестный отец высокого родства народов Закавказья, Туманян, Церетели, Гришашвили. Грузинские поэты читали свои переводы армянских стихов, гостям преподнесли только что изданный «Сборник армянской поэзии» на грузинском языке. Пришла и моя пора выступать. Первое выступление в такой широкой тбилисской аудитории у меня было в 1967 году, когда Грузия праздновала восьмисотую годовщину со дня рождения великого Шота Руставели. От армянской делегации предоставили слово мне. Кажется, получилось неплохо, грузинам понравилась особенно та часть, где я говорила об их прекрасном крае, об их высоком чувстве национального достоинства. Что греха таить, малочисленные народы всегда чутки к тому, когда воздают должное их истории. И это объяснимо. Англичанину, к примеру, нет нужды доказывать, что они дали миру Шекспира. Все это знают. Французу никому не надо напоминать о Великой французской революции. Мир и так не забыл этого. А Толстой и Достоевский? Отблеск их гения до сих пор озаряет дороги человечества. Малочисленные народы стремятся заявить о себе, самоутвердиться, чтобы чувствовать себя увереннее, ощутить свою нужность. Это, видимо, им жизненно необходимо. Торжество восьмисотлетия Руставели передавалось по телевидению, вошло в каждый грузинский дом, каждое село. На следующий день мой двоюродный брат, который живет в Тбилиси, приехал за мной. По пути он остановил машину у многоэтажного здания какого-то учреждения и зашел в магазин. Только успел отойти, как ко мне, тяжело ступая, приблизился пожилой грузин, наверное, комендант, грозно сказал, что посторонним машинам здесь останавливаться запрещено. Я ответила, что прошу прощения, но ничего не могу поделать, ибо водитель вернется только через несколько минут. Я еще продолжала оправдываться, как вдруг этот человек пристально взглянул на меня и спросил: — Это вы вчера выступали на Руставели? — Да, да, — обрадовалась я, — выступала, я из Армении. — Пожалуйста, генацвале, стой, где хочешь, — просветлел комендант и щедрым взмахом руки дополнил: — хоть в подъезде!.. В тот вечер армянской поэзии в Тбилиси я говорила о том, что в нашем двадцатом веке, когда случается, что по злой воле взрываются не только ядра атома, но и ядра образованных веками человеческих устоев, когда загрязняются не только воздух и вода, но и нравственный климат на земном шаре, Грузия мне представляется одним из тех мест, где стараются защитить от всего преходящего, наносного не только свои леса и реки, но и непреложные черты народного характера, такие, как верность другу, семье, рыцарское поклонение женщине, уважение к возрасту, к родителям и по-детски трогательную любовь к своей земле, к ее святыням. Вечер завершился выступлением Иосифа Нонешви-ли. Он прочел свои стихи:…Там, где Арагаца снежная гряда, Плыл журавль, что крунком братья называют. Он не улетает больше никуда, Рядом с вашим он гнездо свивает. Чудится мне, будто издали Масис Вторит нашим песням и беседе нашей. Слышит он, как дружно голоса слились В здравице веселой над армянской чашей…[14]
13 апреля, Егвард
К концу вечера в Тбилиси ко мне подошел прозаик Беник Сейранян, армянский писатель, живущий в Грузии, и спросил: — Ты познакомилась в Америке с человеком по фамилии Этян? — Овик Этян? Из Чикаго? Да, знаю… Дашнак. — Дашнак? — удивился Сейранян. — Прочитай, какое письмо он прислал Гамсахурдиа. Читаю: «Глубокоуважаемый академик, доктор Константин Гамсахурдиа, с удовольствием и радостью прочитал в «Айреники дзайн» Ваши новогодние пожелания и слова поздравления, адресованные армянскому народу, будь он на родине или на чужбине. С тех пор, как я прочел о Вас в наших отечественных газетах и журналах, убедился, что такие благородные люди, как Вы, всегда поддерживают огонь вечной дружбы наших двух народов-соседей. Если бы я мог написать Вам по-грузински! Во всяком случае, да здравствует Сакартвело — Грузия — и ее благородный народ! Недавно я с удовольствием прочитал статью Веника Сейраняна «Визит к мастеру мастеров» о Вас и о Вашем романе, посвященном Грузии периода владычества царицы Тамары. Желаю Вам здоровья, долгой жизни и счастья. С искренним уважением — Овик Этян». Меня не удивило это письмо, потому что я знала его автора, читала статьи Этяна о Советской Армении, о нашей жизни. Мне было приятно, что он написал замечательному писателю Грузии, понимая, как необходимы нашему народу дружеские связи и добрые отношения с братскими народами. Во время моей поездки по США и Канаде в своих выступлениях я рассказывала о духовной жизни наших народов, главным образом армянского. О ставших повседневностью конгрессах и симпозиумах, декадах, о том, с каким размахом отпраздновали мы юбилеи Саят-Новы, Туманяна, Комитаса, 2750-летие Еревана, пятидесятилетие Советской Армении, о переводах на русский и другие языки произведений наших классиков и современных писателей, об усилиях сделать их достоянием мировой культуры, — одним словом, о тесной дружбе советских народов, о многообразнейших формах их духовного общения, оставляющих заметный след в душевном складе людей, прибавляющих к высоким национальным чувствам новые многоцветные краски. Должна сказать, что слова мои принимались тепло, хотя это и не значило, что в аудиториях сидели только друзья. Как я уже говорила, спюрк многослоен и разнороден, кроме общин, землячеств, культурных союзов и обществ там активно действуют и несколько партий, среди них буржуазно-националистическая партия Дашнакцутюн. Основанная в 1889 году, дашнакская партия, хотя и претендовала на роль борца за национальное освобождение армян от ига тирании, не пошла в ногу со временем, не смогла повести национально-освободительное движение по верному пути, не увидела главную силу общественного развития. Несостоятельность ее политической линии наиболее ярко сказалась в годы Октябрьской революции. Не принимая характера этой революции, дашнаки, провозгласившие тогда Восточную Армению независимой республикой, отвернулись от России, лишили армянский народ его вековой опоры и, рассчитывая на помощь западных держав, оставили страну беззащитной перед натиском экспансионистских турецких войск, дошедших уже до подступов к Еревану… И эта пагубная политическая слепота навсегда выбросила их партию за борт жизни. Пути Дашнакцутюна и народа окончательно разошлись. Народ пошел за Советской Россией, установил в Армении советскую власть, приступил к строительству новой жизни, а дашнаки заняли позицию, активно враждебную нашему строю, развивая свою деятельность среди армянского зарубежья. В начале двадцатых годов, когда Советская Армения еще не окрепла и контуры ее были затуманены расстоянием и неясными представлениями о ней, дашнакам удавалось удерживать часть спюрка под своим влиянием. Но со временем это влияние ослабло и продолжает ослабевать, так как возмужание Советской Армении в братской семье социалистических республик, расцвет национальной культуры, небывалый духовный взлет древнего народа — все это из года в год опровергало доводы партии Дашнакцутюн, усиливало влияние родины. Во всем этом серьезную роль играл единый фронт сторонников Советской Армении, прежде всего левые, коммунистические круги, а также партия рамкаваров и гнчаковцев. Эти демократические силы с первых же дней советской власти в Армении стойко защищали ее от нападок дашнаков. Ныне изменилось не только отношение противоборствующих сторон внутри спюрка, но обнаружили себя новые процессы и в самой партии Дашнакцутюн. Это было заметно еще во время моей поездки по армянским колониям Ближнего Востока — Ливана, Сирии, Египта, а также и Франции. Это стало еще более очевидно в дни моего пребывания в Канаде и Соединенных Штатах. Культурное общество Дашнакцутюна «Амазгаин» («Всенациональное») имеет свои филиалы в Канаде и Америке. Первая моя встреча с этим обществом состоялась в Монреале, в зале «Аветис Агаронян». В связи с этим предстоящим вечером я была на весь день перепоручена амазгаинцам. В этот же день мне предстояло поехать в Оттаву, к советскому послу в Канаде Александру Николаевичу Яковлеву, и меня повез туда один из местных деятелей «Амазгаина» Завен Инчечикян. Так, «мирно сосуществуя», мы двинулись в Оттаву — Завен со своей женой, я и активистка «Прогрессивного союза» Эльда Аккибритян. Завен молод, энергичен, общителен. — Я урожденный дашнак, — самодовольно начал он. — Из Кесаба. А кесабец уже никем иным быть не может… — Что значит урожденный? — Дед мой был воином-освободителем — фидаем. Так и не спускался с гор, дрался там. Аскерам с ним не совладать было. Что и говорить, кесабец!.. — Я тоже знаю кесабцев-репатриантов. Сейчас ресторан «Армения», можно сказать, в их руках. — Верно, я бывал там. Два раза приезжал к вам. — По приглашению? — Нет, зачем? Дашнак по приглашению туда не едет. Он ездит на потом и кровью заработанные деньги. — Да, потом и кровью надо искупать вам свою вину… Так полусерьезно-полушутливо перекидывались мы словами на всем протяжении шоссе от Монреаля до Оттавы. Шоссе широкое, ровное, прямое, разговор наш узкий, шероховатый, извилистый. — В Ереване я встретил ребят из журнала «Гарун» («Весна»), С его редактором Вардгесом Петросяном познакомились в Канаде. Он тогда провел полезную беседу с дашнакской молодежью… Сказал: «Ребята, приезжайте в Армению, посмотрите, потом поговорим». Мы и приехали. — Ну как, понравилось? — Очень. В Армении настоящий народный дух. Люди сметливые, образованные. О культуре и говорить нечего-Только вот когда любезные вам гости отсюда едут в Армению, они частенько потом поднимают шум из-за харчей и туалета. Дашнак не обратит внимания на такую чепуху, дашнак едет в Армению, и его окрыляет ее взлет. — И возвращается в Монреаль, чтобы разъединить армянскую церковь? — Это не дашнак делает, тысяча лет уже как церковь разделена. Киликийский католикосат всегда был независим от Эчмиадзина. Уверенное течение слов Завена здесь споткнулось о порог. Он хорошо знает, что это злополучное разделение церкви имеет менее чем двадцатилетнюю историю и очень на руку дашнакам, помогает им укрепить свое влияние на верующих через Киликийскую епархию, противостоящую Эчмиадзину. — И, наконец, пусть будет и Антилиас, и Эчмиад-зин, — несколько сникший, вставляет Завен. — Эчмиад-зин несамостоятелен. У него нет нужной силы, — повторяет он постоянные доводы своих кругов. — Если вам действительно нужна сила Эчмиадзина, почему ослабляете его, почему отнимаете у него епархии? — Мы не отнимали… Так пожелали армяне Греции, Ирана… — Ну да! Это вы пожелали, чтобы они пожелали… Молчим. Видимо, разговор приобретает слишком большую нагрузку, чтобы вести его в этой легко мчащейся голубой машине… Зарубежные епархии армяно-апостольской церкви подчиняются эчмиадзинскому первопрестолу. В результате исторически сложившихся обстоятельств существовал также киликийский католикосат, который после 1921 года из киликийского города Сиса переселился и обосновался в Антилиасе, предместье Бейрута. Киликийские католикосы всегда признавали верховенство Эчмиадзина. Но, учитывая влияние церкви за рубежом, дашнаки в 1956 году откололи киликийский католикосат от Эчмиадзина. Цель этой скорее политической, чем церковной акции — оторвать народ спюрка от находящегося в Советской Армении Эчмиадзина и тем самым ослабить нити, связывающие армян с родной страной. Вот уже около двадцати лет во всех кругах спюрка обсуждается этот вопрос, и траншея, вместо того чтобы заполниться, все углубляется. В Америке даже было организовано что-то вроде комиссии для поисков путей сближения Эчмиадзина и Антилиаса. Но дело не сдвинулось с места. Деятельность этой комиссии была похожа на действия хирурга, который вскрывает язву и, увидев ее глубину, быстро зашивает. Глубоки корни этой язвы, и питают их не злые и добрые люди, а столкновение принципов. Но вот и Оттава. Это небольшой город, намного меньше Еревана, и тем не менее он голова на исполинском теле Канады. Советское посольство расположено недалеко от центра, на очень тихой улице, в саду. Завен ровно в час останавливает машину у посольства. Предполагалось, что я пробуду здесь тридцать — сорок минут, а потом мы посмотрим город. Но посол пригласил меня к себе домой на обед, и моим спутникам пришлось ждать меня несколько часов. Вечер в Монреале в семь, опаздывать нельзя. Поэтому после обеда мы в спешке проехали на машине по городу, посмотрели здание парламента, сфотографировались со стоящим у входа солдатом в красно-синей, отделанной позолотой форме, статным, ростом метра два, не меньше, похожим на раскрашенную восковую фигуру из музея мадам Тюссо. Пришлось довольствоваться лишь такой скудной закуской из «туристского меню» и снова «оседлать коней» для обратного похода… Почти не отдохнув, я отправилась в зал «Амазгаина». Вечер начался с небольшим опозданием. В зале, заполненном до отказа, звучали старинные песни Армении, произведения советских армянских поэтов и композиторов. Словом, все тщательно подготовлено, отточено. Наиболее «отточенной» была речь молодого архитектора Вреж-Армена. С ним я познакомилась еще десять лет назад в Каире. Он тогда был студентом архитектурного факультета, занимался также литературой. Мне сказали, что он из очень фанатичной дашнакской семьи, и отец и мать его активные деятели партии, да и сын не отстает от них. Еще тогда Вреж-Армен интересовался Арменией, ее зодчеством, хотел переписываться с кем-нибудь из молодых ереванских архитекторов. Во время нашей встречи на вечере каирского «Амазгаина» он дал мне несколько номеров местной газеты с его рассказами. В гостинице я просмотрела один из них — «Рождество в нашем доме». Описывает, как в их семье готовятся к Новому году, пекут гату, наряжают елку, подвешивают к вершине трехцветный дашнакский флаг и ждут вечера. «Куранты бьют двенадцать одновременно с нашими часами, и в эту минуту мы бросаем игры, гасим все огоньки и в темноте завершаем нашу первую молитву в новом году о том, чтобы следующий встретить у склона Арарата… Но увы, уже сколько и сколько лет мы повторяем ту же самую молитву! Доколе родина будет для нас лишь миражем, доколе мы будем питаться лишь снами о ней?!» — восклицал тогда молодой человек с чувством тоски и безысходности- Но вот через десять лет я слышу слова этого же человека — на сей раз на вечере «Амазгаина» в Монреале, — слова, которые уже имеют другой акцент, характерный ныне для значительной части дашнакской молодежи. — Спасибо от того поколения, которое чувствует себя связанным с родиной иначе, чем предыдущее, хотя с той же силой. Наша любовь к ней скорее более трезва и сознательна, чем эмоционально-инстинктивна- Мы гордимся ею — от крохотного электрона ее атомных ускорителей до последнего колоска пшеницы в Араратской долине. Хочется верить, что родине нужны все ее сыновья и всем ее сыновьям нужна родина. Хочется верить, что мы неотделимая часть нашей земли, хочется жить так, чтобы то, что мы на чужбине, не ощущалось. Наоборот! Во всех странах мира мы хотим нашу разбросанность обратить в силу. В постоянном общении с самыми разными культурами мы хотим со всех полей собрать нектар и суметь этот мед отдать родному улью. Живя среди разных народов, мы хотим стать полномочными послами доброй воли, ознакомить их с армянами и Арменией. Вот именно так мы любим родину, вот стержень всех наших усилий. Хочется верить, что к этим нашим усилиям родина не останется безразлична… Вряд ли двадцать пять — тридцать лет назад родители, назвавшие сына Вреж-Арменом («Вреж» означает месть), фанатики, яростно отрицавшие Советскую Армению и лелеявшие свои варианты мести, могли представить, что однажды их сын произнесет такие слова и во всеуслышание заявит о своей гордости именно той самой Арменией, с которой он «связан иначе, чем предыдущее поколение».14 апреля, Егвард
В общем, речь Вреж-Армена была построена так, что-бы никакое неуместное слово не задело гостью из Советской Армении. Правда, в другие дни в том же зале произносятся и другие речи, по-прежнему фанатичные, непримиримые. Однако как на этом вечере в Монреале, так и во время других моих встреч, организованных «Амазгаином», все было тактично — за одним исключением. Это вечер «Армянского центра» в Торонто. — Мы не рискнули здесь прочитать в нашем неумелом, дилетантском исполнении прелестнейшие стихи нашей гостьи, — слащаво-приторно изъяснялся со сцены открывавший вечер председатель здешнего филиала «Амазгаина» и стал затем дотошно перечислять все мероприятия, предпринятые ими за последние десятилетия- Потом выступила детская танцевальная группа. И хотя танцы не очень походили на армянские, все равно было трогательно само существование ее в этом городе. Затем пошли песни, декламация. Читались только классические вещи или произведения зарубежных армянских авторов. Ни одной песни Советской Армении, ни одного стихотворения армянских советских поэтов, кроме моего «Слова сыну». Такого «направленного» концерта я ни разу не слышала во время моих встреч с зарубежными армянами. «Чистопородность» этого центра стала еще более явной, когда я увидела, что на сцене слева от меня приторочен громадный дашнакский флаг, как принято у них называть, «трехцветный». Оранжево-сине-красный. Сюрприз, мягко говоря, малоприятный и никак не свидетельствующий о деликатности хозяев ни по отношению к гостье, ни к стране, из которой она приехала. Все это настроило меня соответственно, и, когда я получила слово, в голосе моем, наверное, была некоторая горячность, хотя я и говорила о том же, о чем обычно во всех такого рода аудиториях. Говорила, что мы никогда не забудем тех, кто, презрев все опасности, оставив дом и семью, посвятил себя освобождению народа от султанского ига. Но каждое время приносит свои веяния, свои идеи, диктует свои пути к их осуществлению. Нельзя уже сто лет подряд склонять те же слова, твердить те же лозунги, слепо уповать на тот же флаг. Меняются времена, и мы должны трезво рассматривать судьбу нашего народа во всей цепи исторического развития, а не вырывать ее из этой цепи, не превращать в брошенное в угол колечко, которое может заржаветь в своем одиночестве. Думать кичливо, что наша нация имеет свое особое место в мире и должна жить обособленно, значит не возвышать, а умалять народ, превращать его в племя, в род, а следовательно, мешать ему мериться со стоящими рядом, равняться на передовых, то есть лишать основного стимула движения вперед, прогресса. Сейчас в мире замечены две крайности. С одной стороны, шовинистическое стремление считать свою нацию привилегированной, лихорадочные попытки утвердить ее господство, с другой стороны — космополитизм, который проникает из-за океана и душит национальную культуру, лишает ее возможности иметь собственный цвет в радуге. Оба направления опустошают человека. Армянский народ благодаря новому, интернационалистскому умонастроению сейчас широко смотрит на мир, и мы радуемся такой черте, потому что она обогащает, делает ярче, многообразнее наш национальный характер. Вот почему, когда писатели и художники Армении отражают это в своих произведениях, надо понять, что это искреннее чувство, а никак не конъюнктура, как подчас склонны здесь считать некоторые. Я и люди, думающие как я, ищем реальный, верный путь, и этот путь к национальному расцвету проходит через Ереван, Матенадаран, университет, заводы-новостройки, Академию наук, проходит по дорогам, по которым идет наш народ вот уже более полувека и которые так естественно утверждают сущность нашего народного характера, нашей жизненной философии.Жизнью нужно отмстить за жестокость веков, Духом собственным — крепнущим и неустанным, Созиданьем — за тяжесть руин и оков, За развалины Вана — живым Ереваном, А за горечь изгнанья, поруганный кров — Из пустыни идущим домой караваном. Так и жить, — только в этом основа основ!..[15]
По залу прокатилась волна одобрения. И я тоже, хоть и взволнованная, была довольна, что удалось все-таки без особой остроты и резкости сказать то, что хотелось. Потом мне предложили посмотреть комнаты «Армянского центра», типографию, редакцию, библиотеку газеты «Ардзаганг» («Эхо»), Председатель местного отделения «Амазгаина» рассказывал мне о «Караване» — обществе или организации, которая каждый год устраивает нечто вроде фестивалей-выставок с целью представить культуру живущих в Канаде народов, их быт и т. д. — Написали в Ереван, в Комитет по спюрку, что в «Караване» каждый год «Амазгаин» представляет Армению, просили прислать что-нибудь, ну, хоть виды Еревана. Так и не прислали… У нас были этикетки коньяка «Арарат», наклеили их на бутылки… — А в бутылках что, чай? — Да вроде этого, — смутился мой собеседник. — Так и выставили в «Караване». — И долго еще будете обходиться суррогатами? — не без ехидства спросила я. — Хорошо сделали, что ничего вам не прислали. Вы бы выставили фотографии площадей и улиц Еревана, Матенадарана, наших заводов и водрузили над ними свой трехцветный флаг. Разве Армения трехцветного это все создала? Нервозность, возникшая у меня в этот вечер, не ослабевала. И тут под руку подвернулся литературовед Маркар Шарабханян, который поинтересовался, можно ли переведенную им книгу греческого философа Газандакиса«Отрешение» переиздать в Армении. — Нет, мы не издаем переводы на западноармянском, тем более если переводчик из «Амазгаина»… — Почему же вы так пристрастны? — Значит, есть причины, — отрезала я. В другой раз, пожалуй, я не ответила бы столь резко, тем более что дело обстояло именно так: до сих пор издательство «Айастан» действительно не публиковало переводов на западноармянском. Шарабханян собирался на следующее утро прийти в гостиницу побеседовать, но… не пришел, а в очередном номере ежемесячника «Ардзаганг» напечатал сообщение об этом вечере, которое я прочла уже по возвращении домой. Случалось, что то или иное мое выступление за рубежом встречало протест в дашнакской печати, однако нигде не было таких мелочных, неуважительных выпадов, как в той маленькой информации. «Армянский центр» в Торонто в этой заметке пытался подчеркнуть, что «мы сами с усами». Вот образчик такого самоутверждения: «В конце вечера выступила и сама гостья дня. Она рассказала присутствующим о запротоколированных успехах современной Армении и решила вдохнуть патриотические чувства в души слушателей. Капутикян, изящно обыгрывая уже хорошо знакомые нам уловки, в то же время метала стрелы, допуская то и дело неуместные сравнения. Но к ним мы вернемся в следующем номере. А пока хотелось бы произнести слова похвалы в адрес организаторов вечера, которые остались на высоте, не сочли нужным ответить поэтессе, создать повод для эксцессов и дали возможность гостье выйти из зала ликующей, самодовольно зафиксировать еще одну свою победу. Ей был вручен памятный подарок от «Амазгаина». Ого! Выходит, что моя вышеупомянутая речь, в общем-то, похожая па мои другие устные и печатные выступления, только, наверное, чуточку более горячо произнесенная, вдруг оказалась каким-то жупелом. Конечно, раздражение устроителей вечера мне более чем понятно, но к этому… «мы вернемся в следующем номере». Что же касается подарка, то первой моей реакцией по прочтении было — немедленно вернуть! Ведь подарок, а тем более «памятный», призван сохранить в человеке какие-то добрые воспоминания, дорогие связи. Так зачем же беречь мне это продолговатое металлическое, со штампованным орнаментом блюдо, раз оно… Решила отправить его с оказией, попросив об этой услуге приятеля из Канады, гостившего в те дни в Ереване. — Не делай этого, — посоветовал он. — Люди, те, кто сидели тогда в зале, огорчатся. Ведь они ни при чем. И «Ардзаганг» не продолжил ничего «в следующем номере». Наверно, образумили редакторов. И я не отправила блюдо обратно. Положила вместе с другими памятными подарками. Пройдут годы, я открою ящик, переберу подарки, и каждый из них, обретя язык, тихо поведает мне о связанной с ним истории. Годы сотрут лишнее, преходящее, мелочи, секундные вспышки, останется только главное. И тогда это блюдо с орнаментом расскажет, как после вечера в «Амазгаи-не» в Торонто маленький зал вышел из берегов, волны хлынули к столу на сцене, как снова смешались рукопожатия, бесхитростные слова приветствия, протянутые для автографа записные книжки и как одна пожилая женщина, Пируз Сарафян, прося передать привет Еревану, вручила мне свое незатейливое стихотворение, написанное после посещения Армении:
Хоть и земля твоя из камня и из скал, Благословенна ты своею жатвой, И перед миром всем гордиться ты должна Чудесным новым Ереваном.
И как другая старая женщина подарила ярко раскрашенную брошь, сделанную собственноручно из мякиша хлеба, с записочкой, на которой крупными буквами выведено: «Моей любимой сестре. Аракся Срапян». И еще как без конца ерзающий в первом ряду малыш, наверное, лет трех-четырех, глядел-глядел на сидящую на сцене незнакомую, по непонятным причинам чествуемую тетю и в недоумении обратился к матери: — Она мама деда-мороза, да?
15 апреля, Егвард
Да, «Ардзаганг» так и не осуществил свою угрозу. Но и без того мы назубок знаем все те антидоводы, которыми мог этот журнальчик начинить свои страницы. Достаточно раскрыть номер любой газеты или журнала, принадлежащего дашнакской партии, и напечатанное там заменит «возвращение в следующем номере». Пятьдесят с лишним лет одно и то же. Вот, пожалуйста, номер «Айреника» («Родина»): «На плечи сегодняшней молодежи ложится большая ответственность — не что иное, как продолжить освободительное и тяжелейшее дело наших предков: полностью достичь наших национальных идеалов, а именно — свободной, независимой и объединенной Армении. Это было вчера, и это же остается сегодня…» Я не хочу сейчас ворошить старое, еще и еще раз доказывать бесплодность этих заклинаний. Если глаза не видят, а уши не слышат, если более чем полувековое существование Советской Армении, ее сегодняшний облик ни в чем не убедили, ничего не опровергли, то любые доводы здесь излишни. Собственно говоря, и не следует ждать от них какого-либо отказа или приятия. От чего им отказываться? От лозунга «свободной, независимой и объединенной Армении», от основ своего существования? Что принять? Факт, низвергающий эти самые основы? Принять то, что единственный путь обрести родину, единственное средство и возможность — это Армения, выросшая и окрепшая в союзе с Россией, созданная советской властью? Ведь принять все это означает для дашнакской партии перестать быть партией, отказаться от своей программы, платформы, в тот же день распустить бюро, комитеты, клубы. Следовательно, о решительном повороте Дашнакцутюна как партии политической речи быть не может. Речь может идти лишь об оттенках ее деятельности, отдельных тактических шагах, которые объяснимы временем. Теперь, когда занавес раздвинут, когда человек из спюрка знакомится с Арменией не только из окошек-столбцов прочитанных им газет, а в живом общении с людьми оттуда, в многообразных связях и зачастую лично, положение изменилось. Армения со своими светом и тенью, со своими успехами и недостатками без всяких препон раскрывается перед приезжими. То, что недостатки, тени и отклонения есть, мы не скрываем. Но наряду с этим у нас такие свершения, в сравнении с которыми младенческим лепетом покажется не только «сон Хента»[16], но и все то, ради чего вступали тогда в борьбу славные сыны народа. Естественно, что существование такой Армении мощно отражается на жизни армянского зарубежья, перекраивает соотношение сил «за» и-«против», подрывает сплоченность дашнакских рядов. Я не однажды и в Ереване, и за рубежом встречалась с дашнакскими старожилами и молодежью. Как бы ни была натянута пружина их партийной дисциплины, стали явно заметны разброд и внутреннее расслоение, особенно среди молодых, таких, как Вреж-Армен. Свободные от груза прошлого, те, кто мыслит трезво и здраво, пробуют вырваться из-под слепого влияния отцов, хотят понять время, думать и действовать по-своему. Иные, особенно люди постарше, находятся на перепутье, и их состояние, тот поворот, который происходит в их душах, в какой-то мере можно пояснить на примере одной встречи во время моей поездки во Францию, в городке Жуан-ле-Пен, на берегу Средиземного моря. Хозяйка гостиницы «Де Франс», армянка, собрала в тот вечер под своим кровом почти всех живущих поблизости армян. Здесь же была вдова писателя Рубена Зардаряна, погибшего в 1915 году. Она вместе с сыновьями нашла прибежище в Ереване, а затем, как сама объясняла, «испугавшись большевиков», уехала за границу. В этот вечер я много рассказывала об Армении, Ереване, показывала альбомы, цветные открытки. Мадам Зардарян, добродушная женщина лет восьмидесяти, с волнением следила за нашей беседой, восхищалась видами Армении и то и дело восклицала: «Каким красивым городом стал Ереван!.. Что за прекрасные здания там построили!.. Ах, если бы не эти большевики! Не будь их, мы бы остались и любовались бы всем этим…» Чистосердечные восклицания этой живущей лишь впечатлениями прошлого пожилой женщины, до удивления наивные, все же отражают то сложное, противоречивое душевное состояние людей, которые не в силах зажмурить глаза и не видеть того, что есть, но которых, однако, преследует привычный комплекс: «Ах, если бы не эти большевики!..» Все это не может не сказаться на тактике дашнакских главарей, на формах их ежедневной борьбы. Дашнакская печать иногда публикует такие восторженные впечатления об Армении, что прямо хоть обвиняй газету в «лакировке действительности»… Несомненно, «Айреник» и другие органы печати не ради наших «красивых глаз» так поступают. Публикуют потому, что иначе не могут: читатель уже многое видел, знает, и абсолютное отрицание может только лишить доверия и оттолкнуть. Более того — один из корреспондентов «Айреника» эту конъюнктурную позицию опрокидывает и в прошлое: «Армянская революционная дашнакская партия с первых же дней, вот уже пятьдесят лет, всегда и издавна широко откликается на достижения Армении и армянского народа». Если бы воскрес бывший редактор газеты «Айреник», заклятый враг всего советского, Рубен Дарбинян, он бы хорошенько надрал уши автору этой статьи за примиренчество, приписываемое ему и его «боевой партии». Каи бы то ни было, истина в том, что наследники Дарбиняна, хотят они этого или не хотят, вынуждены констатировать очевидные факты, хотя и нашли им «спасительное» объяснение: советский строй, мол, тут ни при чем. «Напротив, — писала «Айреник», — более чем пятьдесят лет нерушимо и неуклонно советский коммунизм преследует цель задушить патриотическое чувство собранных под его эгидой наций, преследует цель вершить суд над понятиями родины, нации, патриотизма армянина». Только «мощь армянского таланта», считают они, «его неиссякаемый дух» вдохнули жизнь в эти гибнувшие, пустынные земли. Конечно, дух народа, его история имеют большое значение, но возникав вопрос: до Октябрьской революции на той же земле разве не было того же народа? Тогда почему в 1913 году в Ереване тот же талантливый народ не нашел ни одного инженера, чтобы пустить конку на улице Астафян, и этот единственный инженер был приглашен из Германии? Почему та же Восточная Армения, которая теперь стала культурным и научным центром мирового уровня, была лишь темной окраиной царской России, эталоном отсталости? Тогда чем объяснить, что за все эти годы огромную силу развития получил не только армянский народ, но и все другие народы Советского Союза, — скажем, народы Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, перемены в жизни которых, если иметь в виду уровень культуры и экономики этих краев в прошлом, пожалуй, еще более разительны, чем в Армении? Так что, все это «пропаганда»?! Пусть мои оппоненты хоть разок совершат туристский вояж в эти места, чтобы воочию, собственными глазами, увидеть, и, возможно, после этого они более добросовестно, непредвзято оценят национальную политику Советского Союза. Хотя кое-кому вряд ли поможет и такое путешествие. Уже давно эта партия, утратившая почву под ногами, соотносит реальную действительность со своими заданными моделями, трактует все по своему усмотрению, как ей удобнее. Если правда, что Советский Союз ликвидирует национальную самостоятельность, самобытность, что коммунизм и его идеология уничтожают нации, стирают их черты и особенности, то как же это маленькая Армения за пятьдесят лет так выросла не только в материальном отношении, но и раскрылась духовно, окрепла мыслью, утвердилась в познании себя! Когда читаешь дашнакскую прессу, следишь за высказываниями их вожаков, диву даешься степени их ограниченности и самоуверенного бахвальства одновременно. Если послушать их, то именно они и есть исконные хранители нации, отпрыски Вартана Мамиконяна[17], только через них доходит до современности непоколебимый дух предков, это они духовно «кормят и поят» не только спюрк, но и Армению. Пишут и внушают это, хотя наверняка знают, что, если не принимать в расчет появляющихся время от времени исторических исследований и статей наших публицистов, народ Армении, поглощенный своими буднями, многочисленными заботами строительства страны, даже не вспомнит о существовании такой партии. Но те, нимало не смущаясь, присваивают себе лавры победы и, как высшим комплиментом, награждают того или иного человека оценкой «мыслит, как дашнак». По меньшей мере несерьезно приписывать многовековой патриотизм народа партии, появившейся на исторической арене лет семьдесят — восемьдесят назад. Эта вековая любовь к своей земле, своим священным камням и письменам жила в народе еще со времен язычества, с легенды «Ара Прекрасный и Шамирам», со времен Маштоца и Хоре-наци, Абовяна и Комитаса и дошла до нас. И если какая-либо именующая себя национальной партия в тот или иной период брала на вооружение эти вечные чувства, сие вовсе не означает, что с этой партии начинается и кончается история народа. Когда еще тысяча пятьсот лет тому назад на Аварайрском поле воины Вартана яростно бились за свою веру и землю, они не состояли членами дашнакского клуба, а воспетые историком пятого века Егише «нежные жены армянской страны» не входили в женские комиссии при нью-йоркской церкви «Святой Вардан»… Когда современный поэт Паруйр Севак писал: «Нас мало, но нас армянами зовут», — это никак не дух «Амазгаина», который вдруг взыграл в Севаке, а, если хотите, дух нашего пятого, золотого века. В словах советского армянского поэта тоже есть отзвук бессмертных строк отца нашей историографии Мовсеса Хоренаци: «Хотя мы и грядка малая… но доблестны и богаты… не только умом, но и многими достославными деяниями…» Везде — и в самых разных кругах спюрка, и в Армении — есть люди, посвятившие себя служению родине. И если понадобится определить, кто из них более патриот, или, точнее, чей патриотизм плодотворнее, то справедливо на этот вопрос будет ответить так: тот, у кого наиболее точное чувство времени, чей корабль движется в согласии с попутным ветром времени, кто умеет реалистически мыслить и выбрать путь, единственно верный для своего народа путь. Французский философ М. Монтень сказал: «Выстрелить дальше цели тоже означает промахнуться». В этом смысле люди Армении, будь это коммунисты или не коммунисты, все те, кто действительно озабочен судьбой своей страны, признают две истины и будут их исповедовать, как бы ни заклинали некоторые оторванные от жизни политики: дескать, «армянин имеет лишь одну ориентацию — армянскую». Вот эти две истины. Первая: для нас, народа с такой историей, как наша, с такой географией, с таким складом души, самой надежной опорой и защитником всегда была и остается Россия. Это подтверждали и наши прозорливые деятели— от Исраэля Ори[18] и Ованеса Туманяна до трезво мыслящих современных политиков. Это подтверждают уроки истории. И вторая истина: для нас, народа с такой историей, как наша, с такой географией, с такими идеалами человеческого общежития, как, впрочем, и для других народов Союза, самым органическим и благотворным образом государственного устройства является советская власть, которая своими принципами национального содружества, своим надежным щитом обеспечивает мир и расцвет всем малым и большим нациям, входящим в Союз Социалистических Республик. Это подтверждает наше национальное возрождение, бурный расцвет наших веками накопленных духовных сил. Такова точка зрения реально мыслящего армянина, И если иногда — в отношении к нашим святыням, к нашим тревогам, к нашей старине — и возникает какая-то чисто внешняя схожесть, то отсюда и начинается водораздел во взглядах, возводится стена между, по их определению, «истинным дашнаком» и истинным советским армянином, между анахроничным миражепоклонником и реалистом. Отсюда каждый движется своим путем. Один продолжает распевать: «Наша отверженная, сиротливая родина»[19], другой — хозяин этой родины — продолжает отроить ее. Идеи — живые существа, они нуждаются в постоянном питании, и это питание не приходит само по себе, оно приходит от земли, от ощущения почвы под ногами. Без этого органического, живого питания идеи усыхают, увядают, обескровливаются. Когда слушаешь деятелей Дашнакцутюна или листаешь их газеты, в каждой фразе, в каждом номере одно и то же, та же самая триада прилагательных — «свободная, независимая, объединенная», тот же трехцветный флаг… Хотя бы пощадили свои истоки, свое прошлое, послали бы в музей отдохнуть на полках, стать историей, памятью… Нет, терзают без устали к месту и не к месту, вызывают к жизни призраки, превращают свой «трехцветный» флаг в трехгранный клинок, чтобы вонзить в сегодняшнюю Армению. Бесконечно склоняют слова, понятия, идеи, лишь бы не упустить случая, любой возможности напомнить о себе. Невольно приходит на память поп, который с амвона признался, что говорит не столько для того, чтобы что-либо сказать, а «дабы не умолчать»… Мне вспомнился званый обед в Марселе во время поездки по Франции, организованный землячеством ванских армян «Амаваспуракан». Под звон бокалов, ножей и вилок встал один из моих земляков-ванцев, пожилой дашнак, и начал: «Еще в пятнадцатом году, в самый роковой момент обороны Вана, писатель Габриэль Мелоян воскликнул: «Экипаж нашего корабля еще стоек!» Сейчас мы с той же решимостью заявляем: «Экипаж нашего корабля еще стоек». Однако здесь, вдали от родины, наш корабль деревянный. Когда мы доберемся до вод Севана, наш корабль станет стальным, и тогда…» Так с воодушевлением вещал этот «ветеран», хорошо усвоивший все ораторские приемы, нюансы, придыхания. Чувствовалось, что он точно рассчитал, после каких слов раздадутся аплодисменты, после каких — возгласы, после каких — вздохи… Подобные речи, видимо, стали чем-то вроде хорошо продуманного ежедневного рациона, который, однако, не мешает стареющему телу дряхлеть день ото дня. Возникла необходимость объяснить моему пылкому соотечественнику, что корабль, который будет бороздить воды Севана, строится на берегах Севана. Строит его народ, живущий на родной земле, кровью и потом давший жизнь камням и пустыням, народ, который создал эту жизнь, который в недрах горы рассекает твердую, как металл, породу и, сантиметр за сантиметром продвигаясь вперед, прокладывает туннель Арпа — Севан. Легко, конечно, там, на банкетах, после острых и пряных армянских блюд требовать себе на десерт «свободную и независимую Армению», а на досуге заниматься «кораблестроением», надеясь, что найдется у нас какой-то недальновидный парень и зажжет для этого несуществующего корабля маяк величиной со свечку… Тот, кто серьезно озабочен судьбой родины, не должен забывать, что недруг с радостью раздует слабый огонек того маяка, чтобы заманить плывущего не в ту гавань… Строить родину — это значит не только оглядываться назад, не только помнить Аварайр и Сардарапбат[20], а глядеть вокруг и вдаль, в сегодня и в завтра. Только так размышляя и действуя, народ Армении продолжает в наши дни строительство родины. Продолжает во времена нового пробуждения наций и новых форм их сближения, уверенный, что ему предназначено стать наследником высокой мечты предков, что в этой новой Армении, на этой горсти земли, решается судьба разбросанного по всему свету армянства. Вот этой убежденностью и силен советский армянин, с этой убежденностью он вступает в спор со своими идейными оппонентами, если они действительно оппоненты и действительно идейны. Вступать же в спор с «идейными» торгашами, которые свою совесть и основы существования родины нагло выносят на аукцион западных рынков в откровенной надежде на повышение барышей, полемизировать с ними бесплодно, да и ни к чему.16 апреля, Ереван
Сегодня я приехала в Ереван. В четыре часа встреча с работниками Министерства сельского хозяйства. А до этого привожу в порядок мою запущенную комнату, просматриваю полученные газеты, письма. Приходит их много, к старым долгам — неотвеченным письмам — прибавляются новые. Когда ж я справлюсь с этими долгами? Если бы только письма! Сколько раз давала себе слово: на все звонки и предложения отвечать твердо, что занята, что пишу книгу. Но… Звонят из газеты «Айреники дзайн», шестидесятилетие поэта Амо Сагияна, нужно откликнуться. Ну как тут быть?.. Звонит писатель Степан Куртикян: «В Доме литераторов вечер, посвященный девяностолетию Даниэла Варужана, за тобой вступительное слово». Как же не произнести это слово?.. Звонят из Ереванского медицинского института: «Мы организуем вечер Комитаса, просим вас выступить». — «А почему вы не говорите по-армянски?»— спрашиваю. «Я не армянка, я украинка, но очень люблю Комитаса…» Как ей отказать? Или письмо из Киева. Предлагают провести там творческий вечер. Благодарю, прошу отложить на осень, на сентябрь — октябрь, но сомневаюсь, что и к тому времени кончу книгу. Случается, что, собрав все свои внутренние отрицательные заряды, отказываю, а потом чувствую угрызения совести. Так случилось и в прошлый раз. Позвонили из телестудии. Девичий голос сообщил, что будет передача о строителях туннеля Арпа — Севан, просят, чтобы… Я перебила: «Не могу, дорогая, у меня мать больна. И потом я пишу книгу о своей поездке, не могу прервать…» И вот спустя две недели, 25 марта, эта передача состоялась, и я смотрела. Просторный зал телестудии был полон людей: строители, инженеры, проходчики, ученые, артисты, писатели. Рассказывали о проектах стройки, о неописуемых трудностях. Выступления перемежались кинохроникой, снятой в забое. Рабочие — армяне, русские, украинцы, молдаване — со строгими, напряженными лицами, в прорезиненных комбинезонах сражаются с камнем, до невероятности твердым, синеватым, как металл, неподдающимся. Сражаются с водой; грунтовые воды все прибывают и прибывают, доходят проходчикам до пояса. Вода горячая, воздух душный, но люди по щепотке выцарапывают, дробят камень, по сантиметру продвигаются вперед — и так сорок восемь километров… Легко сказать — сорок восемь километров… Передача длилась более двух часов, артисты пели в честь строителей, танцевали. Выступали ученые, читали стихи поэты, а я?.. Мне стало совестно, что не пошла. Единственное утешение то, что я была в той штольне в очень памятный день, когда должны были встретиться пятый и шестой участки туннеля, примерно по два километра длиной каждый. …В забое уже был взорван последний шпур, и после того, как упали на землю взметенные толом камни и пыль, в глухой скале показался долгожданный просвет… Мог и не показаться, в расчетах могли промахнуться, и два участка могли разминуться. Но вот встретились, и радость, взорвавшись в забое, исторгнулась вверх, на поверхность земли, на строительную площадку Егегис, бросила людей друг к другу, звала их на праздник первой победы. Когда мы, сидя в вагонетках, вонзились в глубь скалы и доехали до места стыковки, прошел уже час после взрыва. Пыль осела, раскромсанная на куски скала повержена на землю. Человек победил камень… Арифметика длится одну секунду: два плюс два равняется четырем; однако, чтобы получить эти четыре километра (вернее — 3882 метра), тысячи людей годами вели бой под землей, отвоевывая пядь за пядью каждый метр заминированной земли. С разных концов два подошло к двум. И вот в этот день наконец свершилось действие сложения. Горная шаловливая и строптивая река Арпа простится со своим детством и повернет налево, чтобы войти в новый дом — в туннель, посерьезнеть и заняться хозяйством — поить и кормить Севан, поить Армению. Туннель Арпа — Севан! Самый длинный туннель в мире. Это своеобразная пирамида Хеопса, построенная народом, оповестившим мир и грядущие века о своём упорстве — жить!.. На моем письменном столе две небольшие стеклянные колбы. В них земля, привезенная из пустыни Тер-Зор и города моих предков — Вана. Рядом камень, твёрдый, острый, в голубоватых прожилках. Память о дне соединения двух участков тоннеля. Все это рядом. Пепельный, как прах, песок пустыни, черная, пахнущая тоской, травами и полевыми цветами ванская земля и эта твердость камня, извлеченного с такими усилиями из глубин земли и души. Мудро сказал когда-то Анатоль Франс: «Народ, который не хочет умирать, убить невозможно». Маленькая стрелка часов близится к четырем. Надо отправляться в клуб министерства. Уже у дверей меня догоняет телефонный звонок. Из молодежного журнала «Гарун». Просят откликнуться на выступление в их журнале председателя горсовета: «Каким хочется видеть Ереван». Соглашаюсь. Нет, иначе я не могу. Бьющаяся во мне жилка должна сплестись, слиться с жилой моей земли.19 апреля, Егвард
За границей мне не раз выражали удивление нашим застольям: мол, очень уж много тостов и речей. Ну что ж, им тоже можно предъявить свои претензии. Если у нас, за столом кавказцев, бокал и тост с первых же минут трапезы сливаются и так, слитно, «действуют» до конца, до тоста за тамаду, то здесь речи — да какие основательные! — начинаются сразу после того, как закончен обед, словом, — проводится организованное, «полнометражное» собрание. Здесь, в Филадельфии, это собрание с его центром, правым и левым крылом прямо-таки не отставало от Конвента Великой французской революции. Я слушала все выступления с большим интересом, потому что в их разноречивости отражались именно те процессы, о которых говорилось раньше. Филадельфия была не только первой столицей Соединенных Штатов, но и одним из самых старых центров спюрка в Америке. Именно здесь энергично действовали все партии, и прежде всего «Прогрессивный союз американских армян», связанный тут с самыми левыми кругами. — Еще в черные маккартистские времена, — так начал свою речь в тот день старый деятель этого союза Лерон Казначян, — когда хоть одно сочувственное слово о Советской стране вызывало зловещее внимание «охотников за ведьмами», в то самое время наш союз твердо отстаивал свои политические позиции, продолжал издавать газету «Лрабер» («Вестник»), рассеивая муть и дымовую завесу, повисшую между Советами и Америкой, продолжал свое благородное дело сплочения вокруг Армении ее далеких сыновей. Едва окончил свое слово представитель «якобинцев», как справа от меня поднялся седой сухопарый старик и без всякого предисловия выпалил: — Как вы знаете, Филадельфия город провозглашения свободы. Пожелаем же, чтобы наша гостья увезла отсюда в Армению хоть немного свободы… Сказал и сел. Сказанное было настолько внезапным, настолько не связанным с мирным ходом этого обеда, что мне показалось, будто эти слова произнесены с юмором, нечто вроде малоудачной шутки. Но нет, оказалось, что оратор настроен вполне серьезно и представляет «жирондистское» крыло стола. После него встал зубной врач господин Махсуджян, представитель «центра», и в своей речи счел нужным вернуться к заявлению предыдущего оратора. — Свобода очень относительное понятие, — сказал он. — Для армянина это гарантия физического существования, гарантия того, что ночью никто не нападет на твой дом, не убьет твою мать, жену и детей. Вот в этом свобода армянина… Со стороны «жирондистов» снова «выступил» один из старейшин колоний, дашнак, господин Бозаджян. Я еще больше напрягла слух, ожидая, что «центру» будет нанесен контрудар. Однако насколько удивительным было решительное предложение экспортировать из Филадельфии свободу, настолько же удивительной показалась и речь господина Бозаджяна. — Я был в Армении, — сказал он, — своими глазами все повидал и должен сказать, что увидел больше, чем предполагал. Об экономическом и культурном подъеме мы уже знали. Меня больше всего порадовала спокойная жизнь народа, установленный там порядок дружелюбия, товарищества с другими народами. То, что многие из дашнаков после посещения Армении отмечают «экономический и культурный подъем», мне было известно. Что для меня было неожиданно, так это оценка и дальновидное приятие этим старым человеком новых начал нашей жизни. По-видимому, господин Бозаджян уже давно не читал редакционные колонки своего центрального органа «Айреника», а если и читает, то прошел мимо злобных издевок и нападок именно на это дружелюбие в самых разнообразных его проявлениях. И это тогда, когда сами они от мала до велика заискивают перед иностранцами, будь то американец или француз, сладко уповая на то, что авось тот обронит где-нибудь в «сферах» сочувственную фразу по поводу бедолаг армян. Уместно здесь привести слова писателя из спюрка Андраника Царукяна, давно уже порвавшего с «Айреником». «Когда мы нацеливаем «стрелу» в сердце большевизма, — пишет со свойственной ему едкостью Царукян, — надо помнить все же, что именно во времена этого большевизма родились и выросли армянские советские поэты, стали тем, кем они являются сегодня, — поэтами, переведенными на десятки и десятки языков, поэтами, которых знают десятки и десятки народов, книги которых выставлены повсюду — от Чехословакии до Узбекистана. Стоило французскому писателю перевести на свой язык какой-то клочок из Григора Нарекаци, как во всех наших колониях правили пиры, организованные теми же «стрелками»… Кричали об этом на все лады с восторгом, сопредельным унижению: «Чужестранцев знакомят с армянской культурой!» Манна с небес свалилась! А разве не эти злополучные большевики переводят на столько языков книги армянских писателей от Раффи до Чарен-ца и делают их достоянием миллионов?!»20 апреля, Егвард
…Говорит «Голос Америки». По вашингтонскому времени одиннадцать часов две минуты. У нас в Вашингтоне ясная, солнечная погода… После последних известий о положении на Голанских высотах сделает сообщение наш сотрудник Арсен Саян». И знакомый голос с западноармянским произношением рассказывает о столкновениях между Израилем и Сирией… Из далекой Америки, о таких далеких высотах, а голос со знакомыми интонациями звучит здесь, в моей егвардской комнате. Странно, невообразимо — и грустно, необъяснимо грустно… Арсен Саян — руководитель армянского хора «Кнар» («Лира») в Филадельфии. Пять-шесть лет назад он приезжал в Армению, учился в Ереванской консерватории, на хоровом отделении, у Фатула Алтуняна. За это время Арсен несколько раз бывал у меня, с жаром рассказывал о консерватории, о своих планах. Потом вернулся в Филадельфию, а в мой почтовый ящик частенько опускали длинные нарядные конверты. Саян периодически присылал печатные свидетельства деятельности своего хора: броские афиши, программки, разукрашенные фотографиями певцов и певиц «Кнара». Настал и тот долгожданный день, когда Саян привез свой хор в Армению. Для художника из спюрка что может сравниться с радостью встречи со зрителем, слушателем, читателем на родной земле? В Филадельфии именно об этом чувстве рассказала мне певица Тагуи, приезжавшая тогда с «Кнаром». На следующий день после приезда в этот город меня пригласил филадельфийский врач Тигран Микаэлян. Среди гостей был и Арсен Саян, с которым мы встретились как давние знакомцы. — Сколько дней я уже в Филадельфии, а ты не показываешься. — Я был в Вашингтоне. Прости, что на твой тамошний вечер не смог прийти. Но ребята наши были, рассказывали. «Какие ребята?» — хочу спросить, но к нам приближаются люди с бокалами в руках, с разговорами, и Саян, мне показалось, доволен тем, что беседа прервалась. — Выпьем, Сильва-джан, — предлагает он. А когда отошел к бару, чтобы снова наполнить бокал, Тагуи, стоящая рядом, тихо сказала: — Здесь, в Филадельфии, у него дела шли неважно. Работа хормейстера тут не кормит. Занялся было коммерцией— не получилось. Не тот характер. Предложили заведовать музыкальной частью «Голоса Америки» на армянском. Долго колебался, да и ехать не хотел в Вашингтон, однако… хлеб-то насущный требуется. — А «Кнар»?! — Он его не бросил. Вашингтон не так уж далеко отсюда, уедет — приедет… Завтра на вашем вечере будем петь. Саян снова подошел, и я не удержалась: — Значит, сотрудничаешь в «Голосе Америки»? — Да, заведую музыкальной частью, а что? — Ничего. — Решил, что и там могу быть полезен своему народу… Буду знакомить с армянской музыкой. — Рассчитываешь из Вашингтона знакомить Армению с армянской музыкой? — Почему только Армению? В спюрке тоже слушают. — Но основной адрес, кажется, Армения? Смеющиеся глаза Саяна тускнеют. — Выпьем, тикин Сильва… И опять наполняет опустевший бокал. Поблизости от меня сидит архимандрит Завен Арзуманян— глава филадельфийской армянской церкви. Одновременно он слушатель исторического факультета Колумбийского университета. Серьезный, собранный, он увлеченно рассказывает о последних изданиях Матена-дарана, недавно полученных им. Нашу беседу прерывает пьянеющий голос Арсена Саяна. Стоя в центре комнаты с бокалом в руке, Арсен громко возглашает какой-то тост. Лицо возбужденно пылает, он не может сосредоточиться, в его тосте все: и зарубежные армяне, и тяжкая судьба зарубежного армянского художника, и Армения, и гостья из Армении. Кое-как справившись со всем этим, Саян подходит ко мне. — За тебя, за Армению… Ты что, не хочешь пить со мной? — Почему не хочу? Пожалуйста. Уже поздно, около часа ночи. Нужно собираться домой, тем более что плавное течение вечера нарушено. Саян по-прежнему в центре комнаты и все время с бокалом в руке. Блестящие глаза его окончательно помутнели, в голосе какие-то грубовато-вызывающие интонации. Я понимаю, что сдружился он с бокалом не от добра, а чтобы потопить в вине тревожащие его голоса, и сейчас больше, чем с окружающими, он сражается с собой, со своей совестью, со своей слабостью…«…Говорит «Голос Америки». Сейчас наш сотрудник Гурген Асатрян сделает небольшой обзор внешней политики Америки…» С Гургеном Асатряном я познакомилась после литературного вечера в Вашингтоне. Он сказал, что видел меня в Ереване в дни американской выставки, и, значит, наше вашингтонское знакомство — перезнакомство, правда, на этот раз в «американской зоне». Ему около пятидесяти, подвижный, с хитроватыми глазами. Он уроженец Ирана, и говор у него протяжный, по-персидски мягкий. Вот так, между прочим, мягко, вкрадчиво он и пригласил меня посетить «Голос Америки». — Нет, — сказала я. — Почему? Видно, очень заняты? Но наш офис близко к тем местам, где вы завтра должны быть. — Не в этом дело, просто нет охоты наносить вам визит. — Наверно, вы нашу станцию путаете с другими, — Не путаю. — Мы теперь изменились, тикин Капутикян, Америка и Советский Союз теперь друзья. — Знаю. Но погожу, еще немножко изменитесь, тогда… — Ну как пришлась вам по душе Америка, Вашингтон? — после паузы интересуется Асатрян. — Я уже сегодня на вечере говорила, что нельзя не отдать дань взлету человеческой мысли, рукам человека, создавшим все это. — Значит, не так уж гнильцой попахивает? — раздается сбоку чей-то иронический голос. — Когда входишь с парадного подъезда, то ступаешь только по коврам, по мраморной лестнице. Но что касается меня, предложи мне все эти ковры и мраморы, эти небоскребы, ничего не получится. Я должна ступать по своей жесткой, каменистой земле, по ней, иначе задохнусь. — Кому что, конечно, — язвительно улыбается Асатрян. — Я, к примеру, задохнулся бы, если бы должен был жить, зажав себе рот, заглушив свой голос. «Тем более если это «Голос Америки», — вертится у меня на языке, но ни к чему тут, на ходу, в этой сутолоке, вступать в пререкания… У Акопа Карапетяна тоже акцент армянина из Ирана. Только говор попроще, что так не вяжется с его тонкой, фиксирующей каждое душевное движение прозой. С Акопом Карапетяном, по книгам — Акопом Карапенцем, я незнакома. В Вашингтоне говорили, что он уехал в Ереван сопровождать выставку «Отдых и туризм в Соединенных Штатах». Я жалела, что не встретилась с человеком, о котором знала больше, чем о тех, с кем мне пришлось провести там немало дней. Ведь он настоящий писатель, и, значит, он — в своих книгах. Их строки — кардиограмма биения его сердца, рентгеновский снимок самых сокровенных помыслов о последней станции скитаний — Ереване. …Вачик и чернокожий Джордж были друзьями. От деда, иранского армянина, Вачик без конца слышал рассказы о далекой Армении. Мальчиком завладела мечта— увидеть ее, от него она передалась и маленькому Джорджу. И вот ребята достали билет на пригородный поезд, прочли надпись «Final destination» («Последнее пристанище») и отправились в путь. Вачик родился в Нью-Йорке. «У него большие черные глаза, в которых Нью-Йорк не смог высушить ручейки печали. Чем дальше, тем больше он ощущал в себе свою изначальность: хотел смести все границы и заглянуть за эти небоскребы, дойти до Техаса, до Индии, до Арарата. Особенно до Арарата. Про Арарат и Араке он слышал постоянно и теперь решил на изумрудных крыльях жар-птицы долететь до Еревана». И вот, «освободившись от тесных пригородов Нью-Йорка, поезд повернул к заливу Лонг-Айленд, стремительно несясь среди густозеленых лесов. — Вон то море видишь? — сказал Вачик. — На другой его стороне — Ереван… Джордж испугался, он не умел плавать, но Вачик утешил друга: — Плыть не понадобится, через море есть мост. Он тянется до самого Еревана. На поезде и доберемся туда. — А если мост рухнет?.. — Не рухнет, он крепкий. — Ты уверен? — Уверен. — Клянешься? — Клянусь!..» Невозможно без волнения читать этот маленький рассказ и удержать слезы в конце, когда счастливые мальчики подъезжают к последней станции и с отчаянием обнаруживают, что это «Последнее пристанище» — всего-навсего маленький приморский городок Порт-Джефферсон, в нескольких часах езды от Нью-Йорка. «Незнакомые души» — так озаглавлен сборник рассказов Акопа Карапеица. В нем мне впервые приоткрылся сложный, исполненный противоречий внутренний мир родившегося и выросшего в Америке молодого человека, в душе которого противоборствуют Америка и Армения, английский и армянский, скрежещущая металлом улица и дом, рассказывающий старые сказки, реальность и мечта… Причем эти реальность и мечта сосуществуют и в самом понятии «Армения». Реальная, входящая в Советский Союз, состоящая из заводов, земли, туфа, зерна, электрокабелей, живая, из плоти и крови, Армения — и та, иная, оторванная от нее историей и пространством Армения мечты, которая манит тебя жар-птицей, огненным скакуном, деревянным конем, обыкновенным поездом… несущимся к Порт-Джефферсону. Вот такая постоянная многослойная борьба происходит в душах его героев и в нем самом. Сложные, едва уловимые движения души, тонкие сердечные нити, тянущиеся через океан к родной земле, родным горам и долинам, и эти сухие, безразличные слова, также через океан летящие из этих же уст, к той же земле, тем же горам и долинам… Я сама не слышала, но мне говорили, что, возвратясь из Армении, Карапенц по «Голосу Америки» систематически рассказывал о своих впечатлениях, причем весьма доброжелательно. Хотелось бы, чтобы каждая его новая встреча с реальной Арменией помогала талантливому писателю приблизиться к ней больше, чтобы с каждой встречей еще одна тяжелая волна откатывалась назад от его беспокойной души. «…Говорит «Голос Америки». А сейчас, дорогие слушатели, наш нью-йоркский корреспондент Норайр Степанян расскажет о событиях культурной жизни армян в Нью-Йорке…» Снова ирано-армянский говор, но какой-то еще более равнодушный, с ленцой. Будто сам говорящий витает где-то совсем в иных сферах. Норайра Степаняна я увидела на приеме в ресторане «Арарат» в Нью-Йорке. Он хотел договориться со мной об интервью. Были уже последние дни моего пребывания здесь, и единственный удобный час выкраивался в крайне неудобное время — в тот же день, после приема, около одиннадцати вечера. — Только пусть не будет никаких интервью, — сказала я. — Очень уж устала сегодня. Условие было принято, и мы на такси отправились в кафе «Сахара». Называлось оно «Сахара», но принадлежало иранцу и обставлено было в соответствующем стиле. Полумрак, восточная музыка. Наш столик на некотором возвышении, каком-то подобии балкона, прямо против оркестра. — Что будем пить? — осведомился Степанян. — Виски? Коньяк? — Коньяк, — не колеблясь отвечаю я, решив, что коньяк, пусть даже не армянский, во всяком случае, не подведет. Мой спутник оказался верен слову, и наша беседа протекала без особых «проблем», без напряжения. Какая-то восточная дремотность витала вокруг, и трудно было представить, что за окном — Нью-Йорк, вскипевшая бетоном и металлом пучина. Оркестр играл, молодой смуглолицый певец исполнял какую-то тягучую песенку. — Армянин, — сказал Норайр, — тоже из Ирана. Я его сюда пристроил. До него здесь пел другой мой земляк и тоже по моей рекомендации. Сейчас он вроде бы в Калифорнии. Что же ваша дашнакская партия, хочу спросить я, которая претендует на главную роль в сохранении нации и так кичится этим, особенно в Иране, оказалась бессильной сохранить там прочную колонию? Ведь в тех местах и школы, и печать, и даже церковь в ваших руках. Певца сменяет певица, в задачу которой входит воздействовать на зрителя совместными усилиями приятного голоска и до предела откровенного декольте. Во мне ее ультрабодрое пение вызывает обратную реакцию. — Когда я вижу таких, становится грустно. Жалко их. Кто знает, с какой мечтой начинали они жизнь — стать Марией Каллас или Эдит Пиаф… — Жалко, — подтверждает Норайр. — В конце концов, они несчастны. Несчастны, как и мы все… Легкая наша беседа уже давно незаметно перешла в изредка прерываемое молчание. Мой собеседник все больше и больше во власти коньячных паров. — Я только вернулся из Испании. Ездил по своим личным делам. Конечно, мог и не ехать, распорядиться отсюда, но… никак окончательно не привыкну к Америке. Наверное, Восток очень силен во мне… Если хоть раз в году не махну за океан, просто загнусь тут. — В Армении были? — Нет. — Почему? Минуту он колеблется и с улыбкой, обозначающей тысячу и один оттенок, произносит: — Меня тоже жалко. Поздно. Зал почти опустел. Певица, а за ней и оркестр уже сошли со сцены. Вдруг где-то в полутьме зазвучала песня. Женский голос, тихий, прозрачный. Оборачиваемся на голос — вокруг столика несколько парней и девушка. — По-персидски поет, — говорит Норайр, — наверное, персиянка. — Подойдем к ним, — прошу я. — В конце концов, мы тоже с Востока. Тихонько пристраиваемся у края их столика. Девушка поет, и кажется, все пространство вокруг заткано тоской. Когда она кончила,Норайр по-персидски благодарит ее. — Вы армяне? — вдруг по-армянски спрашивает она. — Я тоже армянка. По матери. А отец персиянин. Зовут ее Сабрина. Смуглая, крепкотелая, она похожа на деревенскую девушку. Глаза беспокойные, ищущие. Ребята вокруг персы. — Армянский знаете? — спрашиваю. — Знаю и даже петь могу, мать научила, она очень любит вашего ашуга Ашота. — И, не дожидаясь моей просьбы, девушка начинает:
Эх, ашуг, не знаешь ты, Где твоя любимая…
Смотрю на нее, на едва проступающее из сигаретного дыма лицо. Норайр уже весь в алкогольном тумане. Щепки, качающиеся на воде близ берега, не могут они ни пристать к нему, ни вернуться назад, на глубину… Как напоминают они — до сих пор! — тех бездомных и отверженных, о которых еще много лет назад писал болгарский поэт Пейо Яворов:
Изгнанники, жалкий обломок, ничтожный Народа, который все муки постиг, И дети отчизны, рабыни тревожной, Чей жертвенный подвиг безмерно велик, В краю, им чужом, от родного далеко, В землянке, худые и бледные, пьют, И сердце у каждого ноет жестоко: Поют они так, как сквозь слезы поют[21].
«…Говорит «Голос Америки». По вашингтонскому времени одиннадцать часов две минуты. У нас в Вашингтоне ясная и солнечная погода…» Странно, очень странно звучит по-армянски это «у нас в Вашингтоне». И еще притом «ясно и солнечно». Нет, не так уж ясно и солнечно для вас в Вашингтоне.
21 апреля, Егвард
Вечер в Чикаго был назначен прямо в день моего приезда, через два часа после посадки самолета. Так что я даже не успела ни с кем познакомиться. Собравшимся представлял гостью человек лет за пятьдесят, с тонким, мягким лицом. — Кто это? — просила я у сидящих рядом. — Этян, химик, но пишет тоже, дашнак… Я слушала его, ожидая, что вот-вот он начнет славословить исключительность «армянского племени и армянской души». Но смотрю — слова какие-то другие. — Началась вторая мировая война, и наши храбрецы, покинув свой семейный очаг, ринулись на поле битвы, хорошо понимая, как жизненно необходим победный исход для существования и будущего нашего народа. Я вслушиваюсь, и вдруг еще более неожиданные слова, — оказывается, вот за что он меня хвалит. — Один известный наш деятель, — говорит Этян, — поехав в Армению и поглядев на все, восторженно выступал в Ереване, но как только пересек границу в обратном направлении, тут же отрекся от всего сказанного, тогда наша гостья гневно ответила ему через газету, устыдила за двоедушие. А когда некие патриоты в кавычках репатриируются будто бы созидать отечество и спустя несколько лет, как настоящие дезертиры, удирают назад, в статье «Два письма в тот же адрес» она опять-таки публично воздала им по заслугам… В конце Овик Этян прочитал не что иное, как мое стихотворение, посвященное Советской Армении.Ты огонек над безлюдною степью зимой, Крик материнский, зовущий из плена домой, Имя твое прозвучало над полем сражения, Имя твое словно знамя победы — Армения! …Нет ничего для армянского сердца священнее Родины нежной, великой Советской Армении[22].
На следующий день, согласно программе, Этян должен был показать мне достопримечательности Чикаго. Гостиница, где я жила, находилась довольно далеко от центра. В часы «трафик», а по-нашему «пик», для поездки в город или возвращения на машине надо было потратить на дорогу полтора или даже два часа… О, эти расстояния и «трафики»! Они отняли у меня почти половину и без того ограниченного времени, не позволили увидеть то малое, что мне было предназначено… Так получилось и в Чикаго. Утром выходишь из гостиницы с обширными планами — музеи, библиотека, университет, — но пока доберешься до города, пока что-нибудь увидишь, смотришь, уже стемнело, а еще целых два часа на обратную дорогу. В Чикаго есть своего рода уникальное сооружение, так называемая церковь единоверцев. Я, честно говоря, не слышала о существовании такой религии. Выяснилось, что она не только существует, но и протянула свои ветви во все части света и, следуя учению своего пророка Баха-Уллы, явившегося миру в 1863 году в Иране, проповедует объединение всех верований: «Существует единый бог и единое человечество, потому есть и одна религия». Эта религия, которая называется Бахай, признает девять вероисповеданий, в том числе и Христа, и Будду, и Магомета, и для совершенства человеческой души предлагает что-то вроде их «коллегиального руководства». Пожалуй, по этой-то причине круглое здание церкви имеет девять дверей, купол состоит из девяти соединяющихся в центре секций. Все это сделано несколько эклектично, в основном в восточном стиле. Но изнутри храм красив — белый, легкий, приветливый. С оконных сводов, словно занавеси, опускается белая лепная узорчатая вышивка. Огромный купол весь тоже ажурный, будто затянутый белым кружевом. На круглой кайме купола начертаны заповеди — от каждого вероучителя по заповеди. Внизу нет алтаря, лишь небольшое возвышение и скамейки. Религия Бахай не допускает жрецов, священников, пастыря. Каждый бахайист должен сам знать учения Баха-Уллы, «своими силами» постигать бога… Вот в этот храм и привел меня Овик Этян, показал мне все закоулки, прочел заповеди, в том числе и цитаты на стене зала нижнего этажа. Мы долго стояли перед молитвой новоявленного пророка Баха-Уллы: «О ты, творец добра, объедини нас всех, сделай так, чтобы все религии стали единой и единственной. Объедини народы, сделай их одной общей семьей, а весь земной шар — одним общим домом. Сделай так, чтобы все жили вместе, в любви и согласии. Господи, развевай флаг человеческого единства. Господи, сплавь все сердца и сделай одним сердцем…» Если бы от господа зависело все это!.. Овик Этян из Греции, но уже лет пятнадцать — двадцать живет в Америке. На мое удивление по поводу его вчерашнего выступления он ответил с грустной улыбкой: — Ваше недоумение напоминает мне один случай в Ереване. Был прием в Комитете по связи, пришлось от имени нашей туристской группы поблагодарить. Я с волнением говорил о расцвете родины… В конце ко мне подошла пожилая женщина: «Брат мой, ты хорошо говорил, хоть бы здесь были дашнаки и слышали сказанное тобой…»— «Мать, — ответил я, — я и есть дашнак и уверен, что они сказали бы то же самое…» — Вы действительно уверены? — спрашиваю я. — Да, кто на самом деле любит родину, — а если дашнак не любит ее, то для меня он не дашнак, — его не может не воодушевить теперешняя Армения… — Советская Армения? — Другой Армении пока что нет… — Рядовых — может быть, а руководителей? — Я как раз из руководителей… По возвращении из Армении написал цикл статей и опубликовал в «Айренике». — И напечатали? — Да, но к концу душа у них не стерпела. Дали столбец от редакции, постарались все свести на нет. Я им сказал: «Тогда незачем было храбриться, раз без этого столбца вам не прожить». Этян предлагает пообедать у него дома, а потом пойти в музей. Я соглашаюсь. Однако дорога отнимает больше часа. Дом его за городом, в Барингтоне, где он и работает в каком-то центре химических исследований. Вокруг одиноко стоящего дома притихшие, все в снегу, леса. Ощущение одиночества рассеивается от тепла в доме, от радушия и улыбки хозяйки. В отличие от подавляющего большинства американских домов, здесь главенствуют книги. Со стеллажей, со стен, с полок меня окружает Армения, ее древние и новые реликвии, альбомы, картины, керамические тарелки и кувшины. На журнальном столике среди других и наши издания— «Советакан граканутюн», «Гракан терт», «Гарун»… — Я хотел бы показать вам тоже. — И Этян протягивает мне номера «Айреника» и выходит в соседнюю комнату. Около десятка очерков, заглавия которых сами говорят о себе: «Чудотворная земля родины», «Родина — центр армянской культуры», «Все это дышит Арменией». Один из очерков посвящен живущим у нас курдам и дружбе народов. Эпиграфом к нему строки Расула Гамзатова:
Как армянин, я Арарат люблю, Как армянин, с ним вместе я скорблю. Туман его, дыхание его Сгущаются у сердца моего[23].
На минуту возвращаюсь к действительности: пригород Чикаго, далекая, заморская зима, потонувший в снегах чужой, незнакомый дом, более чем чужая газета — и вдруг так неожиданно мой аварский друг Расул Гамзатов со всеми реалиями той, нашей жизни. Действительно странно и занятно. Но вот и слова самого Этяна: «За много лет наша бессмысленная борьба во всех кругах спюрка настолько углубилась, столько ржавчины скопилось в наших сердцах, что зачастую люди из одного рода, люди, проведшие детство в одном и том же селе, таят злобу и вражду друг к другу. И что более трагично — их умонастроение и нетерпимость они внушают и передают детям. Так создается скверная и удушливая атмосфера, в которой мы живем. Однако на чудотворной земле родины произошло что-то неописуемое. День ото дня мы стали лучше понимать друг друга, сдружились и в проявлениях нашего восторга старались превзойти друг друга. Сообразили вдруг, что самопроизвольно, без всякого нажима, здесь происходит то, о чем мы мечтали годами, — все вместе и каждый в отдельности». Я уже успела прочитать почти все, когда в комнату вошел Этян. Он вопросительно взглянул на меня. — Будь я на месте ваших вожаков, исключила бы вас из партии, — почти серьезно сказала я. Этян улыбнулся. — А меня исключали. На год, по аналогичному случаю… Всего несколько месяцев, как с меня сняли «наказание». — Почему же окончательно не порвете с ними? Этян ответил не сразу. Только потом, когда, простившись с миловидной хозяйкой, мы сели в машину, по дороге Этян поведал мне о своем смятении и сомнениях: — Те, кто стараются понять современное состояние Дашнакцутюна, порой не до конца осведомлены. Во-первых, у дашнаков сейчас нет единой тактики, единых форм деятельности. Все действуют вразброд. Каждая колония по-разному. Каждый деятель по-своему. Это уже признак слабости… Брожение происходит не только в массах. И среди ветеранов есть люди, которые мыслят теперь иначе. Один из них — герой ваших «Караванов», доктор… — Хатанасян?.. Знаю. Когда он приехал в Ереван, мы встретились в гостинице «Армения». Это было в дни 2750-летия Еревана. — Вы спрашиваете, почему я не рву окончательно?.. Тот же вопрос я задаю доктору, хотя лично по себе знаю, что на такой шаг решиться крайне трудно. С детства я вырос в этой атмосфере. Моя жизнь прошла с моими товарищами, с моими единомышленниками. И теперь, в эти годы… Не могу, сил, мужества не хватает… Влажная лента асфальта едва прочерчивается в сплошной снежной белизне. Мы молчим. Слышится лишь голос дороги, голос, который для каждого путника разный, потому что каждый слышит в нем свое. — Не будь у меня детей, взял бы жену и приехал в Армению… Не беда, если даже вместо этого дома у меня была бы лишь комната. Здесь мне все уже не по душе, все потеряло свой смысл… Перед нами в молочном тумане уже чернеют зубастые очертания небоскребов. Автомашины вокруг ткут металлическую паутину, и мы почти не двигаемся. Однако голос дороги все еще звучит, и каждый из нас слышит в нем свое…
24 апреля, Ереван
Пометила эту дату на чистой страничке, как и всегда перед началом работы, вот уже около двух месяцев. Но такая всколыхнулась во мне волна боли и смятения, которую я никак не могу унять, утишить, запрудить этот поток, чтобы затем по строчкам выплеснуть на бумагу. Почему так сложилось? Почему все другие люди вырывают из календаря этот листок — 24 апреля — спокойно, как и во все остальные дни, а мы?.. Почему этот весенний месяц, этот апрель жизни стал для нас символом смерти и смертью остался в наших летописях? Ответить на эти «почему» — значит написать историю Армении и после этого вновь спросить, почему на нашу долю выпала такая история… Я пытаюсь из этой запруды чувств извлечь и предать бумаге ощущение именно данной минуты, но из глубины потока упорно выплескиваются строки, написанные мною уже давно, и я чувствую, что сказать по-иному о том, что неотвязно тревожило меня все последние годы и побудило написать поэму «Раздумья на полпути», я не смогу.И когда же проснулась ты в венах моих, Вековая печаль нашей прошлой дороги? Может, с пылью пергаментов, нам дорогих, Ты осела в душе, возле темной тревоги? Или рухнула вдруг, сердце отяжелив Капители обломком и раненым камнем? Иль, сквозь песню пролившись, сквозь горький мотив, Стала морем во мне и дана на века мне? Или ты пролежала в глубинах души Долго-долго — кувшином, закопанным в Двине? Но тебя раскопали, укрытья лишив, И ты белому свету явилась отныне[24].
Да, существует собирательная память поколений, которая переходит из века в век, из крови в кровь. И чем народ древнее, тем сильнее века закаляют, тренируют его память, потому что именно памятью, этим цементным раствором, соединяются, скрепляются долгие разнобойные века, именно через нее, через память, созданное в одном столетии может быть донесено до следующего. Конечно, весьма существен и сам душевный склад народа, его судьба, его история — в данном случае армянского народа. Именно так уже полторы тысячи лет и даже более живет память о знаменитой Аварайрской битве, о ее воинах и полководце Вартане Мамиконяне. Так «Скорбные песнопения» Нарекаци уже десять веков благоговейно переписываются, переходят из поколения в поколение, а в деревнях и по сию пору их, как талисман, кладут под подушку больному в надежде на исцеление. Так талант архитектора Александра Таманяна возвел в Ереване на Доме правительства такие же колонны и капители, как и те, что погребены под пылью среди развалин храма Звартноц. Так в сердце Паруйра Севака, сына мирного пахаря из села Чанахчи, над которым не нависал кровавый ятаган, отозвались слезы и стоны, раздававшиеся в пустынях Тер-Зора, казалось, стихшие, растворившиеся в пространстве и времени, отозвались и прорвались памятью на страницы его поэмы «Несмолкающая колокольня». И сегодня, как и каждый год, эта память поднимает и ведет по крутой дорожке к горе Цицернакаберд, где вот уже десять лет как воздвигнут памятник жертвам пятнадцатого года. Это не просто памятник. Это каменное извержение многосложного, многослойного скопления чувств — траура, ярости, жизнеутверждения. Это материализованное воплощение обобщенного духовного мира народа, когда в каждой линии, в каждом камне ощущаешь мощь самообладания, сдержанность храма Рипсимэ, ощущаешь удивительную волю к жизни. Все это и на лицах тех, кто поднимается по дороге, что тянется вверх по склону Цицернакаберд. Поднимаются старики, молодые, дети, держащиеся за руки дедов, матери, опирающиеся на сынов. Идут, часто останавливаясь, переводя дух, и все же идут, поднимаются… Какая многовековая история безмолвно поднимается по этой дороге, какие имена воскресают из пепла гонений и беженства, какой зов эхом отдается в ушах и какие священные слова шаг за шагом отзываются в биении сердца, в неровных толчках крови… Студенты университета несут венок. В руках у девушек и парней цветы, портреты Варужана, Сиаманто, Зог-раба. Институт вычислительных машин несет чеканное изображение Комитаса. Зарубежные армянские студенты, учащиеся в Ереване, сосредоточенно, торжественно поют «Сурб-сурб»[25]. Я иду вместе с работниками Комитета по спюрку. Мы тоже несем венок. С одной стороны его поддерживают айастанцы — местные армяне, с другой — гости из спюрка. Подходим и кладем венок у изножия памятника. Двенадцать склоненных каменных плит, образуя кольцо, стали сами каменным венком над Вечным огнем. Огонь — словно огромная свеча, что зажег народ, память народа. Из пламени ладаном дымится мелодия Комитаса. Медленно спускаемся по ступеням к огню, на миг останавливаемся перед ним и по ступеням с другой стороны подымаемся наверх. Там свет, мягкий, целительный свет апрельского солнца, и в свете — Ереван. Он тоже образовал кольцо вокруг горы, вокруг Вечного огня, кольцо, которое напоминает изваянный на наших хачкарах[26] древний символ вечности, вечного круговорота жизни. Ереван! Он продолжение памятника, его постоянное живое завершение…
25 апреля, Егвард
Когда впервые по дороге из аэропорта я въезжала в Нью-Йорк, наша машина оказалась на несколько минут в туннеле. — Проезжаем под ООН, — сообщили мои спутники. Это было моим первым знакомством с этим зданием. На следующий день я увидела его «сверху», смотрела знаменитый комплекс Организации Объединенных Наций. Поднимаясь и спускаясь по лестницам, на лифте, на эскалаторе с этажа на этаж, из зала в зал, обошла офисы и комнаты, зашла в самый большой зал, где проходят заседания Генеральной Ассамблеи, в помещения, где работают всевозможные комиссии и подкомиссии. Словом, осмотр занял несколько часов. На улице вдоль всего здания развеваются многоцветные флаги, каждый флаг — страна — имеет в здании своих представителей, свои кабинеты, а зачастую и целые этажи. Это своеобразная новая карта мира, глобус, где страны расположены не на шаре, а в сорокаэтажном прямоугольном здании и примыкающих к нему крыльях. Если вдруг каждая страна заговорит на своем языке, то здание это превратится в Вавилонскую башню двадцатого века, которая, однако, призвана положить конец вавилонскому столпотворению наций, найти общий язык для государств с самыми различными языками, разным цветом кожи и разными принципами жизни. Корреспондент египетской газеты «Аль-Ахрам» Левон Кешишян, который показывал здание, в тот же день пригласил меня на обед ассоциации журналистов, работающих в ООН, в честь генерального секретаря Курта Вальдхайма и председателя 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бенитеса Хуана. — Есть у вас вечернее платье? — получив мое согласие, тотчас осведомился Кешишян и, заручившись уверением в том, что есть, без десяти восемь приехал за мной. Ровно в восемь министр иностранных дел Армении Камо Удумян, Левон Кешишян, его жена и я поднимались на лифте гостиницы «Балтимор», сравнительно старой, хранящей еще свою аристократическую утонченность. Состав присутствующих на обеде заранее утвержден и отпечатан на плотном листе бумаги. За каждой фамилией кроме права присутствовать числятся и уже внесенные двадцать пять долларов. Мое имя также в списке гостей, и служащая в вестибюле, «установив личность», сообщила, что наш столик тридцатый, и предложила войти в гостиную. Только там я поняла, почему Левон так интересовался моим туалетом. Все дамы были в ниспадающих до пола платьях из блестящего шелка, который по тем временам считался последним криком моды. Впервые за границей я оказалась на таком «международного масштаба» приеме. Колышущиеся у фасада ООН многоцветные флаги переместились сюда в виде своих представителей и корреспондентов, но в несколько ограниченной цветовой гамме. Левон Кешишян в своей стихии. Низкорослый, энергичный, он неожиданно возникал возле той или другой знаменитости и, как старый знакомый, протягивал руку, приятно улыбался, стремясь добиться взаимности, а достигнув, прямо-таки сиял от удовольствия. Случалось так, что Кешишян то или иное высокочтимое лицо подводил к нам, знакомил, не столько по необходимости, а главным образом, чтобы продемонстрировать широкий круг своих знакомств. — Знакомьтесь, это Роберт Томас из представительства США при ООН. Его жена армянка. — А это член делегации Египта Махмуд Касем. — Вице-секретарь ООН Пратфорд Морс. Больше, чем мы, привержен армянской кухне. И так, начав с членов делегаций и вице-секретарей, мы дошли до главы миссии Соединенных Штатов в ООН господина Джона Скалли и даже до самого Курта Вальдхайма. Высокий, поглощенный своими мыслями, он был занят делами поважнее, чем беседа о поэзии. Обменялся несколькими любезными фразами с «armenian роеte» и отошел. Честно говоря, я не стремлюсь к знакомствам, которые, как бы лестны они ни были, знаю наперед, не оставят следа ни в тебе, ни тем более в собеседнике. И поэтому не случайно, что в этот день из всех знакомств мне запомнилось главным образом одно… После гостиной, после того, как мы насладились многообразием всевозможных вин, джинов и джюсов, всех пригласили в банкетный зал. Мы расположились за столиком номер 30. Оглядевшись вокруг, Левон показал на соседний стол, за которым восседали мужчины в строгих темных костюмах и белых сорочках. — Это турецкая делегация в ООН и их корреспонденты. Я взглянула и затем в течение всего вечера ловила себя на том, что то и дело моя голова поворачивается в ту сторону. Посреди обеда к их столу подошел наш недавний знакомый, американец Роберт Томас вместе с молодой тоненькой женщиной. — Это его жена, армянка, — снова напомнил Кешишян. Томас и его жена уселись рядом с турецкими делегатами, и беседа за тем столом заметно оживилась. Жена, которая больше походила на девочку, смуглая, с обнаженными руками, живо реагировала на шутки своих кавалеров и сама о чем-то рассказывала, вызывая смех слушателей. — Приглашу ее к нам, — заметив мое любопытство, сказал Кешишян и, не дожидаясь согласия, встал с места. Через несколько минут молодая женщина уже сидела возле нас. Познакомились. Она уроженка Бейрута, училась в дашнакской семинарии «Паланджаян», затем познакомилась с американцем, уехала с ним в Саудовскую Аравию, а сейчас они живут здесь, в Ныо-Йорке. — В шестьдесят втором году вы были в Бейруте? — спрашиваю. — Я выступала у вас в семинарии. — Да, я была в Бейруте, но… — она запнулась, взглянула на мужа, — мысли мои были заняты другим… Господин Панян, наш директор, был очень строг, требователен, часто выговаривал мне, что не чисто говорю по-армянски, вставляю турецкие слова… Вот что запомнилось мне из того вечера, но… Это было в первые дни возвращения из Америки. Как-то на улице в Ереване остановил меня средних лет человек, по виду рабочий. — Я хочу тебя спросить: правда, что ты пригласила секретаря ООН в Армению? — Я?! — Да, ты… И он согласился, должен скоро приехать. Почему скрываешь? Это же написано в газетах спюрка. А два дня спустя ко мне опять же на улице подошел мой давний знакомец старик, уроженец Муша, и е надеждой спросил о том же. Я догадываюсь, что вопрос его — отзвук местных легенд о более чем мимолетной встрече тогда, на банкете в «Балтиморе». Ведь об этом Левон Кешишян написал свою «тысячу и одну ночь» и опубликовал в спюрке под самыми сенсационными заголовками и формулировками, вроде: «На традиционном годичном обеде ООН присутствовали Сильва Капутикян и Камо Удумян», «Армянская поэтесса представлена генеральному секретарю ООН» и прочее, и прочее. Вот эхо и долетело до ереванских улиц. До каких пор наша неисправимая фантазия рядом с однозначной цифрой будет ставить бесчисленное множество нулей? В Нью-Йорке, когда мы подошли к зданию ООН, мне бросилась в глаза величественная скульптура. На постаменте, устремленной ввысь каменной глыбе, посреди круглое, как зрачок, отверстие. Оно показалось мне символом Организации Объединенных Наций, которая недремлющим оком должна следить за тем, чтобы прочными были мир и справедливость на земле… Видит ли это око мушского старика — единственную уцелевшую ветвь большого родословного дерева, старика, в сердце которого вот уже столько лет тлеет боль и тоска по родным местам?..26 апреля, Егвард
Наша машина — в самой сердцевине Манхаттана, и хоть над ним и сереет полоской небо, все равно небоскребы, тянущиеся ввысь, создают впечатление, что это не улица, а туннель. Медленно, завязнув в пестром клубке машин, то останавливаясь, то чуть-чуть увеличивая скорость, мы наконец добрались до 33-й стрит, до гостиницы «Мэк Алпнн». Я собралась уже выйти из машины, но мои спутники решили подкатить прямо к входу. И что же? Этот переезд с одной стороны улицы на другую, который пешком можно было одолеть за одну минуту, длился около часа… Бедная Алис, сидящая за рулем, измучилась, кружа вокруг да около гостиницы. Время уже близилось к пяти, начался час «пик», и не то что яблоку — иголке в этой гуще машин упасть было некуда. Наконец я все же в гостинице. Семнадцатый этаж, уютный двухкомнатный номер с одним, правда, существенным «пятном». Подтвердить истину, что и на солнце бывают пятна, в данном случае я не могла бы, так как в моем номере солнца не было никогда. Окна выходили во двор, и прямо на носу у моего окна стена такого же высокого дома. Декабрьский и без того тусклый свет бессилен проникнуть в комнату. Как бы там ни было, в этом тихом номере я отдохнула до вечера. Потом с торжественного ужина, созванного в ресторане «Дарданеллы», началась моя американская жизнь. Я с умыслом употребила слово «созванный», ибо в Америке подобные обеды и ужины равнозначны собраниям, конференциям, съездам и прочим солидным мероприятиям. А прилагательное «равнозначны» здесь не совсем точно, потому что когда я сказала, что предпочитаю просто литературные вечера, без всяких церемоний, друзья мне совершенно серьезно объяснили: — Не будет банкета — никто не придет, ты еще не знаешь этих американцев. Сегодняшний ужин был просто ужином, первым, как говорится, знакомством. За столом люди из всех здешних армянских кругов. Среди них Ваган Казарян и Шушаник Шагинян. Казарян, редактор прогрессивной газеты «Лрабер» («Вестник»), приложил несказанные усилия, чтобы переправить гостью, то есть меня, из Канады в Америку. Я даже не представляла, что оказалась такой «нетранспортабельной». Приглашения «Армянского прогрессивного союза» было недостаточно. Требовалось еще кое-что другое. Среди прочих формальностей в Монреале для получения американской визы я заполнила анкету, в которой еще не успели стереть строку: «Коммунистам и инфекционным больным въезд в Америку запрещен». Было также необходимо, чтобы кто-нибудь из американцев принял на себя миссию попечителя и с этой целью положил в банк девять тысяч долларов на случай, если, боже упаси, с приезжим приключится что-нибудь непредвиденное — болезнь, авария и т. д., — словом, чтобы я в этом случае не пошла по миру. Вот эту-то задачу и решили братья Шагиняны по распоряжению матери семейства Шушаник Шагинян. Я знала их давно, познакомились мы в Ереване на ступеньках Матенадарана, когда их семья — отец, мать, двое сыновей, невестки, внуки — заполнила почти всю широкую лестницу. Это знакомство продолжилось, семья не раз приезжала в Ереван, с которым они связаны сердечными и родственными узами. Тикин Шушаник, уже седая, в летах, в свое время была одной из заметных деятельниц «Армянского прогрессивного союза». Неутомимая, энергичная — такой знали ее в те давние годы. Сейчас она остепенилась, хотя ее волевое лицо говорит о сильном характере. Алис, жена старшего сына, рыжая, с ясными, прозрачными глазами, представляет мне Андраника Шагиняна: — Пожалуйста, познакомьтесь, мой муж… — Перед тем, как стать твоим мужем, он был моим сыном, — мгновенно обрывает ее Шушаник, и я сразу вижу, из какого крутого материала скроена эта «свекруха». Андраник «перед тем, как стать мужем», во время второй мировой войны вместе с братом служил в авиации, а до этого учился в американском колледже. А еще до этого родился в Ереване. Его отец, уроженец Вана, в 1915 году вместе с беженцами добрался до Еревана, там и женился. А потом с группой западных армян переселился в Америку. Здесь стал переплетчиком, а затем открыл маленькую мастерскую — типографию с двумя-тремя машинами. Вечерами, после работы, их дом становился клубом. Приходили друзья, родственники. Сам глава семьи Вагаршак-ага, высокий, плечистый, был еще полон Ваном, песнями, сказаниями, красно-розовым кипением его персиковых садов. Сыновья-школьники Андраник и Геворг, один на скрипке, другой на ванском бубне — дапе, с Жаром подыгрывали песням отца. И стандартный широкооконный домик в штате Нью-Джерси превращался в дедовскую горницу, где в далекие годы гремела лихая пляска айгестанских парней и откуда разносились песни по ночным притихшим улицам Вана. Сейчас Андранику сильно за пятьдесят, он, как и отец, высокий, статный, похожий на него лицом, но уже другой, «цивилизовавшийся». За ужином он сидит чинный, официальный, однако немного погодя, когда застолье разгорелось, когда и гости, и все сидящие решили дать волю своему «исконно ванскому», к нам присоединился и Андраник. И как присоединился! Он знал все венские песни, шутки-прибаутки. Наша эрудиция была уже на излете, а Андраник с братом все еще пели, выкапывали, выуживая из памяти, все новые и новые строки и строфы. — Это все отец! — хвастает Андраник. Итак, мой первый вечер в Америке оказался таким армянским за все время пребывания там и таким привычным, что, когда мы вышли из ресторана и на меня навалилась громада города, я на миг опешила — только сейчас сообразила, где мы. Сели в машину, и, несмотря на усталость, я решила хоть чуточку «подегустировать» Нью-Йорк. Мы проехали по Бродвею, Рокфеллер-центру, Медисон-авеню, сделали остановку в Линкольн-центре, на площади Метрополитен-опера. Но даже эта легкая «дегустация» заняла около часа. Когда мы вернулись, я с удивлением обнаружила, что Шагиняны ждут меня в вестибюле гостиницы. Живя в пригороде, они должны были бы первыми отправиться домой. — Мы решили, что тебя не следует оставлять одну, хотим захватить с собой. — Почему? — недоумевала я. — Ваш дом за городом, а я хочу жить в центре. — Наши озабочены, — объясняет Шушаник, — как ты будешь здесь одна ночевать? — Да я всю жизнь ночую одна, что может случиться? — Да, но… — Опасаетесь за свои девять тысяч? — острю я, — Ну-ну, не сквалыжничайте! Потом только я узнала, на чем зиждились опасения Шагинянов. Гостиница «Мэк Алпин» в последние годы стала чем-то вроде пансионата, где в основном жили негры. Мне не сказали об этом, но если бы даже и сказали, вряд ли это внушило бы тревогу. Это чисто американский «комплекс», и мы, слава богу, далеки от него… Видя, что переубедить меня нельзя, Шагиняны распрощались, оставив свои номера телефонов. — Если нужно, — сказала Шушанйк, — позвони Андранику, место его работы близко от гостиницы. — Пусть тогда он приедет утром, позавтракаем вместе, — обрадовалась я. — Андраник, сможешь? — Что ты, мама! А кто за меня будет работать? Я смекнула, что мое предложение на какие-то полчаса оставить работу и позавтракать со мной для него так же невероятно, как если бы я вдруг пригласила его завтра утром отправиться в межпланетное путешествие. Что греха таить, мне, человеку из Армении, привыкшему к несколько иным нравам, странным показался в первую минуту этот категорический отказ. Ведь Андраник владелец типографии, вроде бы сам себе голова. И какие-то полчаса! Но… как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Правда, иногда, может быть, и стоило быть чуточку поменьше «службистом». Начиная с того дня, как дела перешли в руки сыновей, маленькая мастерская Вагаршака выросла в довольно крупное предприятие, которое имеет несколько этажей, ультрасовременное оборудование, около трехсот рабочих. Мы обошли все этажи. Андраник с превеликим удовольствием демонстрировал машины, новейшие способы печатания, показал свой кабинет и просторную гостиную-приемную — все должно быть в полном ажуре, и реклама, и сервировка на приемах, чтобы снискать уважение заказчиков к фирме. Был конец декабря, канун Нового года. Рабочий день кончился, люди собрались отметить праздник и выпить. Тут я впервые увидела американских рабочих: хорошие, приветливые парни в синих комбинезонах, веселые, уже чуточку под градусом. И нас пригласили принять участие в новогоднем празднестве. Андраник нехотя подошел, взял бокал, весьма сдержанно пожелал всем удачного Нового года и быстро отошел. Я же пустила в ход фразу, выученную мной в те дни по-английски: — Хеппи нью ир (счастливого Нового года)! — Хеппи нью ир, хеппи йью ир! — живо откликнулись в ответ мне. Мы еще не вышли из цеха, как я не удержалась! — Ай-ай-ай, что же сталось с вами, с такими прогрессистами? Где же ваш хваленый демократизм? — Тс-с-с! — резко одернул меня Андраник. — Среди них есть армяне, услышат. — Да, видимо, армяне армянам рознь, — поддела я своего респектабельного спутника. Уже стемнело, когда мы выехали в Нью-Джерси, домой к Шагинянам. Андраник сидел за рулем. Включил мотор, нажал кнопку, и в обтянутый мягкой кожей салон американской машины вдруг ворвались возгласы, смех, хоровые народные песни, ритмичный перестук каблуков и хоровода. Ванская дедовская горница словно перекочевала сюда. Заводилой в хороводе снова был отец, он вел всех за собой, подпевал, а другие вторили ему. Время от времени в пение включался и Андраник, сидящий за рулем, подтягивая в лад со всеми на чисто ванском диалекте. И я тоже включалась. Оба мы были уроженцами одного города — Еревана, родились в одном и том же году, оба были, как говорится, одного корня. Потом между нами простерся целый океан и разделил нас. И не только Атлантический. Целый океан различий: стран, жизненного уклада, цели и содержания жизни. Но сейчас, в эти минуты, нас внезапно сблизило далекое озеро, зеленеющий вдали покинутый город Ван — то, что было еще до нашего рождения, сблизили песни, строки, слова.Роза распустилась над Ваном в саду. Господи, дорогу как туда найду? Милая малютка, скажи мне: ты чья? Целый мир ответил: ты — моя, моя!
Вокруг нас век космических кораблей, а в ушах:
Сто снопов — тяжелый воз. Вол другой его б не свез. За тебя, мой вол рогатый, Жизни мне не жаль своей. Потрудись на поле брата, Не ленись, хэй-хэй!
Сворачиваем на Бродвей.
Баю-бай, идут овечки, С черных гор подходят к речке, Милый сон несут для нас, Для твоих, что море, глаз.
Выбрались на набережную Гудзона.
Сердце мое что разваленный дом, Груда камней под упавшим столбом, Дикие птицы устроятся в нем. Эх, брошусь в реку весенним я днем…
Странной, незабываемой была эта поездка. Вокруг сутолока непонятной жизни: разинувшие свои бетонные рычащие пасти улицы, красноглазое, желтоглазое буйство машин, Гудзон, широкий, густой, черный, еле вбирающий в себя мутные отблески электрических огней. Подъезжаем к мосту Джорджа Вашингтона и сворачиваем. Двухэтажный громадный мост втянул нас в свой зубчатый хобот и выпустил на другом берегу. А из нашей машины все неслись и неслись песни. Словно колесница опустилась с какой-то другой планеты и растерянно мечется с одной улицы на другую, никак не может оторваться от этого насыщенного металлом и электричеством магнитного поля… После того, как мы проехали мост, шум постепенно ослаб, обессилел, и свежая еще зелень Нью-Джерси поспешила стереть пот со стеклянного лба машины. — Эх, ты бы посмотрела раньше на моего отца! — вздыхает Андраник. — Сейчас он очень постарел. Склероз проклятый. Редко попадается теперь такой человек, как он. Нет сейчас таких. Машина остановилась перед освещенным домом. — Добрый вечер, Вагаршак-ага, — Андраник кладет руку на плечо отцу. — Как живем, старина? Есть еще порох в пороховнице? Отец, несмотря на свои восемьдесят лет, выглядит не дряхлым, улыбается сыну доброй улыбкой. — Здоров я, здоров! — Что скажешь, не опрокинуть ли нам по рюмочке? Андраник, по-видимому, чтобы скрыть тайную боль, избрал для разговора с отцом шутливый тон. Отец же только улыбается и молчит. Ребенок, огромный ребенок… Подлинный Вагаршак, задорный, горластый, остался лишь на ленте магнитофона да в памяти близких… Шушаник уважительно подводит отца семейства к его обычному месту — во главе стола. Сыновья и внуки, собравшиеся в отчем доме, рассаживаются вокруг, болтают, шутят, а дед молчит, и мысли его где-то далеко-далеко, он только благодушно, по-детски, улыбается, когда Андраник подшучивает: — Вагаршак-ага, ты опустошил весь стол, хоть одну лепешку нам оставь. Только раз отец принял участие в том, что происходило вокруг. Это было на следующий день в землячестве «Амаваспуракан». В уголке зала вместе с Шушаник и детьми сидел он безмолвный и безучастный. И лишь по окончании вечера, когда начались ванские круговые танцы и песни, я заметила: губы старика шевелились в ритм песне «Караван прошел, звеня». Лицо его преобразилось, словно откуда-то на него упал луч света. С горы ли Вараг струился этот свет, от зари ли, занявшейся над озером Ван, или из ердыка — оконца отцовской избы?.. Несколько дней спустя я была в гостях у Андраника. Двухэтажный особняк из десяти — двенадцати комнат по сравнению с домом Вагаршака выглядел так же, как нынешняя типография Шагинянов по сравнению с маленькой мастерской отца. Были приглашены «сливки» армянской колонии в Нью-Йорке. Андраник, импозантный, самоуверенный, встречал гостей. Он был доволен — доволен собой, своей судьбой, своим умением управлять этой судьбой, своим особняком, картинами Айвазовского, которыми были увешаны стены, своей семьей. Дети, встреченные мною когда-то на ступеньках Матенадарана, уже выросли, стали юношами. Старший учился в университете в другом городе, трое других — в Нью-Йорке. Знакомство с Матенадараном мало чему помогло. Передо мной были типичные молодые американцы. Но в конце вечера, когда отец взял старую скрипку, младший сын в потертых джинсах, с заплетенной косой на затылке, такой густой, что хватило бы на нескольких девочек, примостился у его ног и, уловив ритм мелодии «Васпуракан», вошел в раж и с упоением колотил в даг — бубен. Танцевали все — и гости, и хозяева. — Хороший дом у Андраника, — сказала я его матери. — Да, — удовлетворенно кивнула бывшая деятельница «Прогрессивного союза». Но, видимо, она не поняла меня или что-то другое вкладывала в мои слова. — Жаль, что ты не побывала у Геворга, его дом еще больше и богаче…
28 апреля, Егвард
Точные сведения о первых армянских переселенцах в Америку относятся к первой половине восемнадцатого века. Во второй же половине армяне стали приезжать уже группами, обосновались сначала в Нью-Йорке, а затем в городах Провиденсе и Устре, расположенных близ Бостона. Говорят, что именно они, эти переселенцы, прихватили с собой в Америку гусеницу шелкопряда и посему развитием шелководства Новый Свет якобы обязан им. Жили по десять — пятнадцать человек в одной комнате, работали по десять — двенадцать часов в сутки, зарабатывая при этом меньше доллара. Чтобы иметь хлеб насущный, соглашались на самую низкую оплату и этим порой настраивали против себя рабочих других национальностей. Но как только немного освоились, осмотрелись, стали подумывать о церквах, школах и газетах. Были вызваны к жизни землячества, начали свою деятельность партии. В 1886 году в Нью-Йорке создается первый Армянский союз, в этом же году вышла в свет первая газета «Арегак»[27]. В 1888 году в Нью-Йорке же основывается первая армянская школа. А еще через год в специально снятом здании на 17-й авеню в Нью-Йорке прозвучала первая армянская литургия. В тот же год в городе Устре была построена первая армянская церковь. И вот в этот город Устр я и направилась на закате дождливого декабрьского дня, почему-то ожидая увидеть все ту же маленькую церковку, все тех же только-только приткнувшихся к месту людей. Доехала до Устра уже вечером, и на мое желание посмотреть церковь мне ответили, что она расположена далеко, заперта и все равно в темноте ничего не разглядеть. Повели меня прямо в новую, недавно выстроенную церковь Святого Спасителя, вернее, в зал при ней, где должен был состояться банкет в честь пятидесятилетия союза прихожанок этой церкви. Мягко говоря, это была неожиданность: моя одежда абсолютно не соответствовала такому событию. Распорядители вечера, говорящие главным образом по-английски, оторвали меня от моих бостонских попутчиков и подвели к выстроившимся в ряд дамам-управительницам. Прозвучала команда, и дамская колонна двинулась в банкетный зал, торжественно прошествовала к столу для почетных гостей. Все дамы, не только руководящие, но и сидевшие в вале, пришли в вечерних длинных платьях, шелковых, кружевных, парчовых, я — в дорожном костюме, с дорожной сумкой в руках, на туфлях пыль и следы дождя, и все взгляды обращены на меня. Кое-как добралась до своего стула и села… После ужина началась церемония зажигания свечей. Из соседней комнаты к столу для почетных гостей подкатили коляску с гигантским тортом, в котором торчали свечи. Если на именинном пироге герой дня, то есть именинник, гасит свечи, то здесь, наоборот, их зажигали. Первая из дам, которая должна была задать тон церемониалу, вынула конверт с «кругленькой суммой» и первая зажгла свечу. Затем подошли другие, продолжая начатое дело… На всех столах в зале лежали конверты, которые немного погодя были собраны и водружены на блюдо рядом с пирогом. Распорядительница церемонии, распечатывая конверты, с кафедры оглашала: господин и госпожа такие-то — десять долларов, господин и госпожа такие-то — пять долларов, — и так двадцать — двадцать пять минут. Дама, сидевшая за столиком рядом с кафедрой, быстро стучала на счетной машинке, сразу же присчитывая к общей сумме каждый новый взнос. Американская автоматизация дошла, таким образом, до свечек. Только в одном конверте оказалось сто долларов, трое или четверо внесли по двадцать пять. Оглашение их имен вызвало аплодисменты. Когда на счетчике отпечаталась последняя сумма, церемониал был завершен, а «жертвенный» пирог нарезан и роздан всем. Затем слово предоставили мне. — Дорогие друзья, хоть я и не прихожанка вашей церкви, позвольте и мне внести скромную лепту и передать вашему союзу двадцать долларов… Наверное, это было для них сюрпризом. Поставленный под угрозу из-за неподходящего туалета, мой престиж восстановился с лихвой… В своей речи я вспомнила о тяжелом прошлом беженцев, нашедших приют в Устре и Провиденсе, говорила о землячествах и культурных союзах, особенно одеятельности прогрессивных организаций, которые наиболее активно функционировали в этих городах. Несмотря на то, что «Прогрессивный союз американских армян» основан в 1944 году, по сути своей он является преемником тех обществ, которые еще в первые дни становления Советской Армении старались вдохнуть любовь и веру в нашу возрожденную родину. Во время Великой Отечественной войны в американском спюрке по инициативе прогрессивных кругов был создан комитет «Виктория», с помощью которого патриоты-армяне отправили в Советский Союз танковую колонну «Давид Сасунский», чтобы внести свой вклад в борьбу с фашизмом. Счастливый исход войны вызвал новую волну уважения и веры в мощь Советской страны во всем мире. Но вот грянула «холодная война», и волны ликования застыли в этом холоде. В Америке настали пресловутые времена «охоты за ведьмами», и возглавить особый список опальных организаций, вызвавших немилость сенатора Маккарти, выпала честь той, которая начиналась с первой буквы алфавита, — «Armenian progressive League» («Армянский прогрессивный союз»), И все же союз продолжал работать. Через газету «Лрабер» он поднимал голос против реакции, включился в движение сторонников мира, боролся за прекращение вьетнамской войны, ратовал за духовную сплоченность спюрка вокруг Советской Армении, всячески противостоял стараниям партии Дашнакцутюн оторвать от нее армянское зарубежье. — Если б вы только знали, чего мы натерпелись в те годы, — рассказывал мне один из ветеранов «Прогрессивного союза» в Бостоне. — В те годы мой сын служил в американской армии, находился далеко от нас. Вдруг получаем известие, что его предали суду: мол, отец твой состоит в «Прогрессивном союзе»… Представляете себе наше состояние… Чего только мы не делали, чтобы выручить сына… Организаторы моего вечера в Бостоне были членами этого самого союза. Собралось семьсот человек. Это было воистину народное собрание, непринужденное, непосредственное, с далеко не профессиональными певцами и музыкантами. Особенно теплым был конец вечера. Началось чаепитие, и все семьсот человек остались в зале, подходили ко мне, пожимали руку. Некоторые дарили свои стихи, другие давали адреса, фотографии родственников, живущих в Армении, с тем чтобы я, вернувшись, отыскала их и передала привет… Что греха таить, не все приветы я смогла лично передать, но с нежностью храню эти реликвии. Клочки бумаги, оторванные от программы вечера, с характерными надписями: «Вардитер Карапетян, улица Айгестан, дядя Аветик», «Тигран Петикян, управляющий «Раздана», «Нежные поцелуи жене, детям и любимому Тиграну, тетя Аракси», «Гонтуралян Григор, улица Гаджегорцнери, 39, Нубар и Ненси Гюлесерян, дядя». Во многих городах, таких, как Фресно, Детройт, Нью-Йорк, я встречалась с членами «Прогрессивного союза». Почти все они пожилые люди, но продолжают активно работать: каждый год отмечают годовщину Советской Армении, принимают ее посланцев — артистов, писателей, ученых, организуют групповые поездки в Армению, приобретают и посылают на родину разбросанные по всей Америке архивы и старые армянские книги. Еще есть одна область, где работа «Прогрессивного союза американских армян» наиболее результативна. Это землячества. Они созданы еще в прошлом веке, чтобы помочь землякам освоиться, найти место в жизни. Затем эта помощь распространилась и на родные места, где они помогали открывать школы, библиотеки, куда посылали сельскохозяйственный инвентарь. Во время первой мировой войны неимоверно расширилась сфера действий землячеств. Прежде всего помощь тысячам бездомных и голодных людей, целым выселенным деревням, беженцам-землякам. Посылали добровольцев в помощь сражающимся за Армению русским войскам. Только землячество Малатии послало пятьсот молодых малатийцев, которые в августе 1915 года прибыли на кораблях в Архангельск, а оттуда отправились на Кабказ, чтобы вместе с русской армией помочь освобождению Западной Армении. Многие из этих землячеств стали горячими сторонниками новой, Советской родины, договорились с властями Армении относительно того, чтобы основать поселки для разбросанных в разных странах беженцев-земляков. Так, вокруг Еревана, подобно детям вокруг матери, собрались Нор-Арабкир, Нор-Харберт, Нор-Малатия, Нор-Се-бастия, Нор-Аджн, Нор-Гехи, Нор-Ерзнык и многие другие. И старинное армянское слово «майракахак»— «мать-город» — обрело свой прямой смысл. С помощью землячеств на родной земле были построены фабрика химической чистки «Арабкир», фабрика капроновых изделий, больница «Малатия», поставлены памятники погибшим землякам в Нор-Харберте, Нор-Аджне. Университету, институтам и больницам Армении посылали научную аппаратуру и уникальные установки. Все это имело не только материальное, но и в большей степени символическое значение и еще крепче сближало духовно спюрк с родиной. Советская Армения уже давно не нуждается в материальной поддержке «Комитета помощи». Но мы с волнением и благодарностью вспоминаем, как в 1922 году члены землячества «Арабкир», рабочий, трудовой люд, собрали деньги и послали нам небольшой трактор. Вместе с первыми тракторами, бороздившими нашу жесткую землю, шел в одном ряду и этот приезжий работяга.1 мая, Ереван
Сегодня весь день заполнен Первомаем. Утром с колонной писателей отправляюсь на праздничный парад. Соскучилась по ереванским улицам, по их розовости, по флагам, коврам и гирляндам цветов, свисающим с балконов, по людям, высунувшимся из окон, а больше всего просто по шумной, оживленной толпе на улицах. Шагаем по проспекту Ленина вниз. Ничего необычного. Это Ереван, майский, солнечный, молодеющий от песен и смеха Ереван. Но как-то особенно хорошо и мне, и вокруг, на улицах. Сегодня я все ощущаю как-то глубже, шире, и от этого моего состояния все окрест наполнено ассоциациями, символикой. Шагаем — Серо Хан-задян, Рачия Ованесян, Абик Авакян, Агаси Айвазян, Баграт Улубабян, Размик Давоян, Гегам Севан, Григор Кешишян. Один из Гориса, другие из Еревана, третий из Тегерана, из Тбилиси, Карабаха, села Парни, Стамбула, Бейрута… Не колонна, а шагающая география, живая карта, сконцентрированная история. Как хороша жизнь, звенящее солнце, эта весенняя легкость, позволяющая сбросить пальто, расстегнуть ворот, эти небрежно, по-домашнему, как по своему двору, проходящие людские ряды, сидящие на плечах отцов глазастые ребятишки и даже эти заносчивые вихрастые парни, расцветившие тротуар шелухой от подсолнухов… Привет тебе, праздник весны и человеческой дружбы, привет тебе, наша площадь, с которой по-родственному глядят на меня наши века, таманяновские капители и орнаменты, словно усыновившие те, что веками сиротливо брошены были среди руин Звартноца и Ани.О камни — Вы сама история! Мы жили в бедах, в нищете И зданья траурные строили, Как памятники темноте.
…А где-то праздничные, разные, Забившись тихо в уголки, В земле таились камни радости, Как бы под пеплом угольки… О камни, спавшие веками И время знавшие суровое! О камни, розовые камни, Сиреневые и лиловые! Но вы из мглы подземной выбились — Вам не пристало быть во мгле! Наверх, На землю, К людям, вырвались — И стало радостней земле! И новых стен цвета весенние, Под цвет весенних наших дней, И вся судьба моей Армении, Как и судьба ее камней![28]
3 мая, Егвард
Если наиболее характерное нововведение «американской цивилизации» то, что человечество пересело на колеса, иначе говоря, моторизация, то Генри Форд — пионер этой новой цивилизации. И следует сказать, что основатель «Форд мотор компани» и его наследники прекрасно понимают это. Именно поэтому и существует особая, организующая и регулирующая экскурсии на этот завод контора, многоэтажная, с залами ожидания, автобусами, машинами. В конторе я заполнила специальную анкету с пунктами, выясняющими личность, после чего в маленьком автобусе мы двинулись в близлежащий поселок Дирборн, где родился, вырос, а затем воздвиг свой завод будущий автомобильный король Генри Форд Первый. Завод этот — поистине целый город, в одни ворота которого въезжает бесформенная масса металла и, пропутешествовав по рельсам пресловутого фордовского конвейера, выезжает из других ворот уже в виде автомобиля. Созданные воображением моих детских лет представления об этой конвейерной «пятиминутке», безусловно, утратили свою первозданность. Смотрела я на все довольно спокойно, без такого уж изумления. Во-первых, на Урале и в Сибири повидала заводы подобного масштаба, ну, и к тому же, что ни говори, возраст не тот, когда так легко всему удивляешься… Интересно было в музее, который основал сам Форд, сам собирал для него экспонаты. Он поставил перед собой задачу добыть все «первое». Первый паровоз, первый вагон, первый телефон, первая сеялка, первый трактор, первый комбайн и, конечно, первый автомобиль. Не смог раздобыть Генри Форд только первые «крылья», изготовленные греком Дедалом, на которых летал Икар, но вместо них под куполом здания распластали свой крылья всевозможные аэропланы, дирижабли, воздушные шары, прапредки нынешних «Боингов» и «Аполлонов»… Трудно было поверить, что эти «гадкие утята» всего лишь за пятьдесят — шестьдесят лет смогли сменить «оперение» и превратиться в грозных орлов, способных за каких-нибудь несколько часов облететь земной шар. Основная часть музея — конечно, отдел автомобилей, плод самой сильной любви Генри Первого. Там расположились поротно 175 «антикварных», как сказано в путеводителе, образцов, до того странных и смешных, что трудно даже счесть их автомашиной. Но факт остается фактом, эти кареты, напоминающие экипаж гюмрийского извозчика «фаэтон-алека», сто лет назад сами по себе трогались с места и прогремели на весь свет. В мемориальной комнате Генри Форда на втором этаже значится, что он автор первого автомобиля в мире, хотя кое-кто из историков ставит это под сомнение… О Генри Форде ходит множество и других легенд, былей и небылиц. О его хваткости, демократичности, способности наладить добрые отношения с рабочими, об умении ловко прижать хвост конкурентам и т. д. Любопытен один факт. В январе 1914 года Форд громогласно объявил, что его завод переходит на трехсменный восьмичасовой рабочий день с одновременным повышением поденной оплаты до пяти долларов. Можно понять, какое впечатление произвело это заявление, если принять во внимание, что на других заводах рабочий день длился тогда десять — двенадцать часов и «стоил» два-три доллара. Один из американских историков, обращаясь к этому событию, пишет: «Трудно объяснить новым поколениям последствия этого шага. Они смогут себе представить все его значение, если узнают, что он вызвал большую сенсацию, чем сообщения, возвестившие о начале первой мировой войны». Не знаю, как для новых поколений американцев, но для нас, для поколений, испытавших на своей земле, на своей жизни кровопролитные войны, это сравнение звучит кощунственно. Рассказывают, что в ту ночь, когда Форд объявил о нововведениях, к воротам его завода стеклась десятитысячная толпа людей с других предприятий и из других городов. В последующие дни, несмотря на аншлаг «мест больше нет», люди продолжали стоять у проходных и на прилегающих к ним улицах. Дело дошло до штурма ворот. Форд несколько раз вызывал полицию, и лишь сильная струя воды, обрушившаяся на людей, принудила и без того мерзнувших на январском холоде безработных отступить. Разумеется, это не помешало тому, чтобы Генри Форд, все «преобразования» которого имели только один прицел — нажива и нажива, вошел в американскую историю как «благодетель, озабоченный судьбой своих рабочих». Сам Форд в своей книге «Моя жизнь и работа» пишет: «Переход на пятидолларовую оплату рабочего дня был одним из наивыгоднейших мероприятий, когда-либо осуществлявшихся нами». Форд был одним из тех, кто в двадцатые годы установил деловые связи с Советским Союзом. На его завод ездили учиться советские инженеры и рабочие, его инженеры принимали участие в строительстве автомобильного завода в Горьком. Деловые связи с Фордом обошлись Стране Советов в триста пятьдесят миллионов долларов. Это одно из свидетельств гибкости маневра многоопытного предпринимателя. Все эти качества и способности помогли сыну скромного фермера из Дирборна стать «автомобильным королем», который в тринадцати странах мира водрузил флаги своего королевства, основав филиалы своего концерна, стал владельцем железных рудников, металлургических заводов, лесов, пароходов, железных дорог, каучуковых плантаций, — словом, всего того, что необходимо для процветания автомобильной державы. Основной капитал «Генри Форд компании, достигший уже более двух миллиардов долларов, превратил его в одного из самых влиятельных людей западного мира, вложил в руки этому полуинтеллигентному человеку перо и дал смелость и дерзость выпускать одну за другой книги. В них Генри Первый хитроумно обвиняет Уолл-стрит, банки и компании в различных махинациях, в «культе денег», умудряется выступать в качестве «друга рабочих и фермеров» и доброго их советчика, осуждает автопромышленников за то, что они приноравливают автомобиль, подобно женской одежде, к быстро меняющейся моде, протестует против чрезмерно открытых платьев у «бесстыдных актрис» и преподает множество других уроков морали. Однако взгляды деда не препятствовали тому, чтобы его внук, Генри Второй, довел капитал «Генри Форд компани» до девяти миллиардов, получал ежегодно шестьсот миллионов прибыли и так же, как и все другие автопромышленники, менял модели автомобилей с быстротой, соответствующей изменениям моды той самой женской одежды. В Дирборне я оказалась свидетельницей создания одной из таких машин очередной модной марки, наблюдала за тем, как на ленте конвейера из минуты в минуту металлический скелет становится телом, обретает «плоть и кровь». — Хорошо бы одну из этих машин Форд подарил вам, — не знаю, из каких побуждений возжелал мой спутник, детройтский армянин. — Спасибо, — сказала я. — В Ереване у меня свой завод. Несколько «Еразов»[29] дарят мне ежедневно, так что с меня хватит… Сказала и почувствовала, что не только сострила. В это мгновение до стеснения в груди показался мне дорог наш неприхотливый «Ераз», еще только-только встающий на ноги, в рождении которого действительно есть наши общие усилия, а значит, и ощущение того, что он наш, мой. И мне вспомнилось, как однажды на старом ереванском стадионе шла футбольная игра. По склону Норка, пронзительно свистя, проходил поезд. И неожиданно стадион взорвался аплодисментами. Что такое? «Арарат» же не забил никакого гола. Оказывается, на платформах поезда стояли новехонькие «Еразы», и стадион дружно аплодировал этим направляющимся куда-то далеко питомцам Еревана, видимо приравняв их не меньше чем к голу «Арарата»…4 мая, Егвард
В Детройте я жила в гостинице, которая находилась в довольно-таки отдаленном пригороде. Мне показалось странным, что устроили меня так далеко от центра, где можно скорее ощутить нрав и дыхание города. Но оказалось, что это сделано, как говорится, в целях моей безопасности, поскольку мне объяснили, что «центр захвачен черными», а белые перебрались в окрестности. Несомненно, есть и свои преимущества в том, что живешь вдали от непрестанного городского шума, тем более если ты устал и жаждешь покоя. И так как я несколько месяцев в постоянных переездах, то тишина пригородной гостиницы хоть немного снимала утомление. Примерно в таком состоянии я и пребывала, когда телефонный звонок разбудил тишину. Звонил мой детройтский знакомый. Обменялись парой слов, после которых он сообщил, что из Еревана пришла печальная телеграмма — умер Татул Алтунян. Затем мой приятель пожелал мне спокойной ночи, никак не предполагая, что его звонок, это внезапное известие, все перевернул во мне и вокруг меня, вырвал из Детройта и унес далеко — в Армению, в Ереван… Всю ночь я провела в Ереване, знала, что сейчас там полдень и, кто знает, может, именно в эти минуты предают земле Татула Алтуняна, моего друга, человека, которому многим обязана армянская музыка. Маленькая, казавшаяся прежде уютной комната с укрощенным абажурами мягким светом вдруг почужела, отстранилась, и я в этом чужом городе, среди чужих людей, отделенная океаном, почувствовала себя безнадежно далеко, безнадежно оторванной от дома, от своих. И в то же время всем сердцем, всеми мыслями была там, среди движущейся по ереванским улицам толпы, вместе с родными и близкими Алтуняна. На следующий день в зале при новой армянской церкви состоялся литературный вечер. Я рассказала о неоценимом вкладе Татула Алтуняна в культуру нашего народа и попросила стоя почтить его память. Зал встал, хотя чувствовалось, что были люди, которые о нем и не знали. Не знали они еще и того, что если, преодолев десятки километров, приехали сюда, чтобы увидеть и услышать посланницу Армении, то в этом большая заслуга и Татула Алтуняна, созданных им песен, которые по радио, с пластинок, со сцены и с экрана уже несколько десятков лет звучали в их домах, по всей шири спюрка, и постоянно, незаметно, как свет, как вода, входили в их души, пропитывая их Арменией и любовью к ней. Ушел из жизни Татул Алтунян. И он ушел. Один из тех, из которых слагается родина, потому что родина это также и люди, которые носят ее в себе, одухотворяют ее, дарят новые краски и оттенки. С уходом таких людей уходит многое и от нас, из нашей жизни…5 мая, Егвард
«Дайте вашему ребенку возможность почувствовать себя счастливым своим происхождением. Дайте ему возможность учиться в школе Армянского благотворительного союза». «Печальная картина предстала бы нашим глазам, если б из-за отсутствия материальных средств прекратила свое существование «Школа армянских сестер». Воспитание в армянских детях армян — одно из самых важных национальных мероприятий». «Уважаемые родители и соотечественники! Наша цель — воспитание сознательных американцев и настоящих армян. Итак, запишите своих детей в школу имени Алека Манукяна, если вы их еще не записали». Читая подобные объявления, испытываешь неловкость за тот просительный тон, с которым попечители школы обращаются к родителям, уговаривая их отдать детей в армянскую школу. В жизни здешней колонии долго существовал серьезный пробел. Добравшимся сюда семьям, поначалу озабоченным лишь кровом и хлебом, затерянным среди необъятных просторов Америки, не под силу было заботиться о сохранении языка, об открытии школ. Появилось даже от беспомощности какое-то чувство ущемленности, неполноценности, а отсюда желание как можно скорее «американизироваться». Позднее, когда уже встали на ноги, обжились, главной заботой стала церковь. За последние двадцать лет в колонии произошли значительные перемены. Возмужание Советской Армении, связь с родиной, усиление национального самосознания в мире — все это поднимало патриотический дух, вызывало желание познать свое изначалие. Воскресные школы при церквах не могли утолить это чувство. Родители убеждались, что этот маленький оплот неспособен уберечь молодых от напора ассимиляции. На повестке дня неотложно встала необходимость открытия ежедневных школ. Впервые осуществилась эта идея в Лос-Анджелесе. Одна за другой открылись там школы имени Ферахяна, Месропяна, Алека Пилипоса. А затем в Детройте, Филадельфии, Бостоне. Сейчас их в Америке десять, и учится в них более тысячи ребят. Конечно, не ахти как много. Американские армяне с трудом преодолевают психологический барьер недоверия к национальным школам. В стране, где бизнес на первом плане, родители, как бы патриотически они ни были настроены, опасаются даже самую малость рисковать будущим своих детей, тем более что учеба в армянских школах связана с трудностями: дополнительной специальной платой, дополнительной нагрузкой для ребенка и, что немаловажно, отдаленностью. Сколько требуется усилий и времени, пока автобус соберет ребятишек из разных концов города и привезет на занятия! Отсюда и просительные интонации в объявлениях, отсюда и медлительность в организации школьного дела. Американская армянская интеллигенция, культурные организации и общества сейчас прилагают все усилия, чтобы ускорить темпы. Особенно активен Армянский всеобщий благотворительный союз. Основание его было продиктовано своеобразными условиями существования нашего народа. Организованный еще в 1906 году в Каире, этот союз был призван стать опорой беднякам, крестьянам, ремесленникам Западной Армении, с трудом влачившим существование. Трагедия пятнадцатого года вынудила союз расширить сферу своей деятельности, перенести ее в Сирию, Ливан, Египет, Грецию, Францию, в страны, где для беженцев открывались детские приюты, дома призрения, мастерские. С первых же дней создания Советской Армении Благотворительный союз протянул руку дружбы молодому государству. А когда в 1946–1947 годах проходила массовая репатриация, своим вкладом в полтора миллиона долларов он облегчил десяткам тысяч людей возвращение на родную землю. Сейчас, исходя из требований времени, все свое внимание союз сосредоточил на проблема сохранения нации: открывает культурные и молодежные центры, организует ансамбли песни и танца, театральные труппы и в первую очередь школы, строит для них специальные здания по всем требуемым кондициям. «Мы сейчас переживаем время, когда наше сознание нуждается в каждодневной пище, и кто лучше сумеет это обеспечить, чем армянская школа? Она призвана выпестовать мужественного, думающего человека, такого, у которого хватит сил и знаний, чтобы наследовать наши язык и культуру и понести их в завтра». Так пишет и так считает многолетний председатель союза Алек Манукян, сам, на свои средства, открывший в Детройте, где он постоянно живет, новую школу «Алек Манукян». Вместе с Алеком Манукяном я и была на встрече в той школе. По-видимому, учительница рисования рассказывала детям об Армении, Ереване, о гостье и предложила нарисовать, как они все это себе представляют. И дети нарисовали: один — просто цветы, другой — Эчмиадзин, кто-то — Севан, кто-то — остров Ахтамар, на нем легендарная Тамар с лампадой в руках и пловец, плывущий к острову. На всех почти рисунках — Арарат и детским почерком надписи, приветствующие гостью. Невозможно было без улыбки глядеть на одну картинку. Две вершины Арарата и между ними величиной в солнце круглая голова с топорщащимися кудряшками и большими глазами… Надпись «Добро пожаловать, Сильва Капутикян» не оставляла места сомнениям в прототипе. Поэтому я тут же предъявила свои права и рисунок вместе с другими привезла в гостиницу, упаковала в коробку с бумагами и книгами. В коробке был еще один дорогой мне альбом, перелистывая который я каждый раз вспоминаю Филадельфию, аэропорт, шестерых женщин в черном, идущих ко мне сквозь туман сонного рассвета… «Школа армянских сестер» основана в 1967 году и имела всего шестнадцать учеников. Теперь их число перевалило за двести, и — самое главное — родители поверили, что и армянская школа способна выпускать людей, получивших образование по программе и на уровне лучших современных учебных заведений, при этом отлично знающих родной язык и историю. Конечно, этому помогает и то, что сестры бывают в Армении на курсах, организованных для педагогов спюрка. Я убедилась в этом воочию. На встрече в школе увидела поющих и танцующих мальчиков и девочек в национальных костюмах, с родной речью на устах. В здешних условиях добиться такого можно лишь настоящей преданностью делу, полной отдачей души и мысли. В школьном ежегоднике крупными буквами написано: «Закладывай с верой, утверждай с надеждой, основывай с любовью». Эти слова, произнесенные Нерсесом Шнорали, поэтом-философом, около восьмисот лет назад, и поныне сохраняют свою силу, потому что и поныне каждое начинание приносит настоящие плоды, когда закладывается с верой, утверждается с надеждой, основывается на любви. История жизни шести сестер — словно подтверждение этого завета. Родившиеся на Ближнем Востоке, по стечению ли обстоятельств или по внутреннему побуждению, они избрали своим уделом монашество, получили специальное образование в Риме и, приехав в Филадельфию, основали армянскую школу. Сначала набрали всего шестнадцать учеников, отдавали им все свои знания, сердце и душу, благословляя судьбу, которая предоставила возможность отвлеченную приверженность небесам и богу воплотить в реальную, ощутимую помощь народу. Странно, что филадельфийская школа, в которой вот уже столько лет трудятся сестры, до сих пор не имеет своего здания. Все так затянулось, что какой-то шестилетний мальчик озабоченно спросил учительницу: «Если каждый из нашего класса отдаст все из своей копилки, сколько еще нужно, чтобы построить школу?» Но, как видно, если опорожнят копилки даже все двести ребят, дело, увы, не сдвинется. Нужно, чтобы взрослые поторопились опустить в эти копилки суммы повнушительнее. Об этом я и говорила на школьном утреннике. Сестры-воспитательницы в черных одеяниях, в черных, отороченных белым платках взволнованно слушали адресованные им слова. И я была взволнована. Встречаясь взглядом с печальными их глазами, чувствовала, как вместе с уважением поднимается во мне и просто человеческое сочувствие, какая-то жалость. А спустя два дня в предрассветной мгле в аэропорту Филадельфии, когда уже начиналась посадка, вдруг возникли шесть черных силуэтов. Торопясь, путаясь в длинной одежде, они спешили ко мне. Сестра Арусяк протянула тяжелый альбом в кожаном переплете, с фотографиями, сделанными во время встречи в их школе. — Как вы успели все это? — удивилась я. Вопрос был излишним. «Было бы желание, и звезду с неба достанешь», — говорят в народе. Именно это желание и подвигнуло сестер, у которых не было ни своего автомобиля, ни возможности заказать такси, пуститься ночью на случайной машине в путь и после двухчасовой дороги в последнюю минуту успеть на аэродром. Когда самолет поднялся в небо, я еще долго-долго удерживала в глазах их облик и думала: эти отказавшиеся от всего, приехавшие в далекие, незнакомые места женщины — сестра Арусяк, сестра Рипсимэ, сестра Мелинэ, сестра Лоренция, сестра Зепюр и сестра Луиз — не наследницы ли они тех двух сестер — Рипсимэ и Гаянэ, которые, по преданию, еще в третьем веке добрались в Армению, чтобы донести до людей свет новой веры? Разные, конечно, времена, разная жизнь, но одинакова окрыляющая сила веры, одинаково священно стремление служить людям.7 мая, Ленинакан
Сегодня здесь, в Ленинакане, в пединституте, мой вечер, на который я приехала со своими канадскими друзьями, гостящими в Ереване, — Суреном и Эльдой Аккибритян. Вместе с ними и Беатрис Давтян из Бейрута, безоговорочно влюбленная в Армению, й белое, и серое, и черное в ней видящая только как розовое, моя давняя приятельница. Привыкшие все обставлять чин чином, ленинаканцы прислали за нами две машины. В первой я, Сурен, Эль-да и Беатрис. — Что за люди эти ереванцы! С утра осаждают мой номер: «Сурен, пойдем к нам», «Сурен, вот тебе машина, катайся себе вволю», «Сурен, обедаете вы у нас»… Господи, у меня же всего один желудок! — с каким-то даже удовольствием жалуется Сурен. — Хоть поясница у меня и разболелась, — мягким, певучим голосом объясняет Беатрис, — но Ленинакан ни за что не пропущу. Говорят, это очень самобытный, артистичный город. Дорогу ремонтировали и в этот раз. Как ни лезли из кожи водители, пришлось изрядно попрыгать, потрястись на ухабах и щебенке. Так что, пока добрались до ровного Аштаракского шоссе, кости в пояснице Беатрис, как говорится, встали на свои места. — Какие отличные водители в Армении, умельцы! — тем не менее восторгалась Беатрис. — За границей, если попадешь на такую дорогу, машина разобьется в пух и прах. Свернули к Уджану, к памятнику полководцу Андранику, и поскольку дом Алмаст прямо у дороги, невозможно было его миновать. Давненько не была я здесь. За это время Алмаст женила сына, привела в дом невестку, теперь ждет внука. Обставила только комнату молодоженам, а в столовой по-прежнему одна тахта, старый стол и расшатанный книжный шкаф. Но на этот старый стол мгновенно ложится свежий хлеб — лаваш, пахнущий тондиром, овечий сыр, ставится мацун, ореховое варенье и, разумеется, коньяк. Все щедро, обильно. Так велики вазы, что, сдается, в них не редкостное ореховое варенье, а сливы только что из сада. — Тикин Сильва, ну как же так, — огорчается Алмаст, — почему не дала знать? Мисак, беги зарежь курицу! Еле удерживаю мужа Алмаст, объясняю, что в Ленинакане ждут, нужно спешить. Однако гости так уютно устроились, с таким аппетитом уписывают мацун и лаваш, как будто это и есть наш конечный пункт. Наконец удается выбраться из гостеприимного дома, снова сесть в машины и втиснуться в каменистые ущелья Талина. За Талином следуют Артик, Маралик с их большими и малыми селами. — Какие хорошие новые названия вы нашли для сел, — читает надписи на указателях Беатрис, хотя, наверное, уже больше тысячи лет называется это село Мастара… У въезда в Ленинакан на обочине машины и люди. — Что такое? Авария? — беспокоятся мои гости. — Да нет. Просто ваши паспорта должны проверить. Захватили с собой? Они растерянно смотрят на меня. — Что же ты не сказала? Ничего мы не взяли… — Как это так не взяли? Где ж это видано, чтобы без документов пускаться в путь? — повышаю я голос. — Да, но… Как же быть теперь?.. Наши машины останавливаются. От группы людей отделяются несколько молоденьких девушек, подбегают к нам и вручают гостям цветы. — Ну и Сильва, порядком напугала нас! — с облегчением вздыхают друзья. Студенты и преподаватели института приехали, чтобы встретить нас на полдороге. Тут же, «на подступах к Ленинакану», происходит перераспределение пассажиров, и наш кортеж, уже многомашинный, движется к Ленинакану. — Что за прекрасный город Ленинакан, — едва въехав, захлебывается Беатрис, — ничем не хуже Еревана! — Еще бы! Еревану ползти и ползти до нас, — устами водителя глаголет сам «город-отец», как величают его леиинаканцы, наперекор «городу-матери» Еревану. — Город — это Ленинакан и еще чуточку Ленинград, все остальное не в счет! — Вы родом отсюда? — вежливо интересуется Беатрис. — А откуда еще может быть человек?! Ты же ничего еще не видела! Останешься здесь на несколько дней — и привет-поклон твоему Бейруту… Дай свой адрес, мужу телеграмму отобью, а то жаль горемыку… Насколько леиинаканцы любят пошутить, прихвастнуть, любят острое словцо, настолько же умеют они грустить и мечтать, любить поэзию, песню, жить ими. В переполненном зале института, будто из горнила, доносится жаркое дыхание людей. Они выходили, читали стихи, пели, и в словах, и в голосе звучала такая любовь к прекрасному, к искусству! После вечера зашли посидеть в ресторан «Ван», и через несколько минут то с того, то с другого стола нам стали посылать вазы с фруктами, шампанское. Мы пригласили присоединиться к нам. — Добро пожаловать, дорогая сестренка! За твое здоровье. У тебя здесь всегда самое теплое место на печи… А этот бокал за наших импортных сестёр… Назови себя, брат, подари нам свое имя!.. Сурен? Смотри, как его зовут! Звенит прямо. Где живешь?.. Монреаль? Это еще что такое? Слушай, чего это вы забрались к черту на кулички, раз есть на свете Ленинакан?.. Ладно, ладно, не пускай слезу! Здесь тоже твой дом, братец Сурен. Видишь тех ребят за столами? Все горой встанут за тебя, в обиду не дадут… За твое драгоценное здоровье, брат Сурен! В гостинице мои гости допоздна не могли уснуть. — Какой потрясающий народ у нас на родине! Алмаст, ее семья, леиинаканцы… Какие красивые мужчины здесь, какие воспитанные! На наших бейрутских уже и глядеть не хочется. Приеду, так и объявлю, — все сгущает и сгущает свое «розовое» Беатрис. — Я думала, — подхватывает Эльда, — что ваших поэтов так чтят именно в спюрке, когда они гостят у нас. Оказывается, тут больше. Как ценят искусство! Как знают стихи! Как уважают!.. Ты счастливая, Сильва. Какое богатство у тебя! — Да, ты архимиллионер, — откуда ни возьмись вворачивает вдруг такое чужое слово Беатрис. Я желаю друзьям спокойной ночи и иду в свой номер. Впечатления дня, как маленькие разноцветные стекляшки, складываются словно в калейдоскопе, то и дело меняясь, образуя все новые и новые узоры. …Гостиница в Ленинакане уже старая, хорошо, что скоро подоспеет новая, многоэтажная. Только обставили бы как следует, без этих плюшей и бархатов… Алмаст осталась верна себе. Как согласно живут они с мужем, с ребятами и такую же невестку выискали себе… Ловко разыграла я своих гостей, чудаки, всерьез поверили, что документы у них потребуют. Молодцы ленинаканцы, здорово организовали встречу. И остроумны, черти! Одна из моих ленинаканских знакомых сегодня так представилась гостям: «Пятнадцать лет я на одном и том же посту, как долгоиграющая пластинка». За словом в карман не полезут, ничего не скажешь, и прямодушные, сердечные. Эльда действительно потрясена приемом. «Архимиллионер», то есть сверхбогач. Славная она, Беатрис. И как отлично выступила, не думала, что так складно скажет, — наверное, зал настроил. Какая великая вещь подъем, настроение… Фонтаны на площади уже смолкли, наверное, поздно, гаснут последние окна. Под крышами мирно спят дети. Дети, окна, город. Ленинакан. Второй город Армении. Редко я приезжаю сюда, раз в два-три года, но все равно он мой, и дома мои, и дети, и окна. Они мои, и я их. Мой этот город, эта Армения, эта жизнь. Я люблю все это, и какое счастье, что моя любовь взаимна! «Архимиллионер» — значит богатый, очень богатый, невероятно богатый…9 мая, Егвард
«Теперь я ожесточился. Запертый в маленьком городке, изо дня в день мужаю. Нервы, как стальные нити, напрягают душу мою и тело ради неизвестной, но, без сомнений, яростной битвы… Здесь иногда я хожу в зверинец, посмотреть на диких зверей… Это еще одна моя странная прихоть! Есть тут и тигры, и волки с впалыми боками и огромными лапами, чьи горящие кофейные и желтые в крапинку зрачки похожи на драгоценные камни. И я смотрю им прямо в глаза, чтобы испытать силу своих глаз. Что ты скажешь на это…» Так писал уехавший в двадцатые годы в Америку юноша, днем работавший мойщиком посуды в столовых и на свои заработанные гроши обучавшийся в аграрном институте, — Завен Сурмелян, один из тех сирот, чьих родителей убили на глазах детей, чьи братья и сестры затерялись в урагане на дорогах изгнания. Писал Вагану Текеяну, своему духовному отцу, который заметил в подростке-сироте недюжинный поэтический дар, распознал его тонкую натуру, сделал «сыном своего ума и сердца». Долгие годы эти обретшие друг друга одинокие души сокращали расстояние и обогревали океан теплом своих писем, каждый раз заново открываясь и открывая друг друга. Это редкостное духовное родство и — в данном случае благодетельный — океан оставили армянской литературе бесценное эпистолярное наследство, которое не уступает, пожалуй, лучшим образцам этого жанра в мировой литературе. Великое наслаждение души приобщиться к этим письмам, где размах чувств и непосредственность сочетаются с глубиной и широтой жизненных наблюдений. Невозможно не восхититься силой и утонченностью чувств и мысли знаменитого поэта Вагана Текеяна. «Дорогой Завен, получил твое письмо из Нью-Йорка, и если был бы даже по уши занят, все равно не смог бы не ответить тебе сегодня же… Как я понимаю тебя, когда ты, начиная новую жизнь, все вокруг себя видишь запутанным и хаотичным. И в себе тоже. Невероятно трудно будет при мягкости души твоей, не коверкая себя, противостоять Америке, ее железной и каменной громаде, ее обнаженной уродливой силе. Но ты, мой мальчик, ты ведь намерен — не так ли? — пройти через все это, проскользнув, не столкнувшись с ними, взяв от них только то, что требуется тебе, чтобы умножить свою духовную жизнь. Однако какой бы грубой и материальной ни была твоя повседневность, ты должен стараться, сынок, чтобы сердце твое осталось прежним, чтобы оно умело помнить, волноваться, умело привязываться к людям, к тому, что окружает тебя, чтобы имело свой тайник, свою маленькую часовню, где оно сможет очиститься, обрести вновь детскость, возвыситься, где сможет все увидеть великим и чистым…» «Мой дорогой Завен, не зря судьба сложилась так, что из сотен и тысяч других я выбрал именно тебя. Судьба, которая не всегда слепа, вовсе не слепа и страдание, как и утешение, раздает согласно тому, какое у кого сердце — какой оно мощи. Этой судьбе захотелось за выпавшие на мою долю редкостные страдания одарить меня редкостной радостью. Радостью — вместо того, о ком я так тщетно мечтал и к кому взывал, кого желал сотворить и растить, вместо того, нерожденного, увидеть рядом с собой уже взрослого, но, к счастью, еще взрослеющего сына». «Дорогой Зевен, знаешь ли, что эти твои слова «прошлое мое несчастно и темно» вызвали слезы на моих глазах. Несчастно — да, но почему темно? Желчи я не прощаю, потому что ты ведь тоже мог уже не быть. И если в свои беспризорные дни залезал ты в чужой карман или совершал что-либо еще такое, то душа твоя сама своим чистым быстротечным родником все это смыла, унесла прочь из твоей жизни. Горе тем, чья душа трясина, дурное остается в ней, сгнивает…» «Завен, дорогой мальчик… К сожалению, и я убедился, что твои друзья свернули и отодвинули в сторону понятие — родина, не ощущают ни связанности ее с собой, со своим будущим, ни красоты той боли и тех надежд, которые заключены в самом понятии — родина. Они просто желают спастись, жить, достигнуть — лишь для себя. Сообразив, что они потерпели из-за своей принадлежности к армянству, рассчитывают теперь, после того, как с его же помощью, его воздаянием окрепли, встали на ноги, что смогут, отделив свою судьбу от его судьбы, достичь благоденствия, избежать новых напастей. Но ты-то отлично знаешь, что это в основе своей неверно, что верно противоположное». Приведу еще два отрывка из писем Завена Сурмеляна: «Друзья-американцы здесь говорят мне, что я непременно изменюсь, непременно американизируюсь. Я им сказал, что даже три американца не смогут ни на йоту изменить меня, а я смогу их всех троих обратить в армян… Изо дня в день кристаллизуется моя душа, изо дня в день усиливается тоска по тому, чтобы взяться за плуг, за соху там, на землях Армении, сажать там деревья. Тоска, которая служит для меня чудесным стимулом изучить аграрное дело и прочие науки, чтобы выполнить свой долг перед родиной». «Я ненавижу большие города, где солнце кажется огромной птицей, задохнувшейся в пыли и саже, где запах гудрона обжигает ноздри. Я ненавижу жизнь, которая проходит вдали от земли наших отцов, ненавижу всех тех, кем бы они ни были — товарищами, друзьями или философами, — которые не ощущают в себе огня сожженной Армении. Храните эти мои письма, как векселя, и если жизнь моя окажется не такой, о которой я без конца твержу, уничтожьте мои бумаги вместе с памятью обо мне…» И вот автор этих пылких строк сидит сегодня на вечере в Лос-Анджелесе, сидит молчаливый, погруженный в себя и на все вокруг — на слова, на гомон разношерстной толпы — отвечает лишь слабой улыбкой. Ему уже под семьдесят, прежний худой и бледный юноша пополнел, волосы поседели, но, как и прежде, он красив. Глаза иногда вспыхивают давним огнем, и в эти минуты Сурмелян преображается, лицо светлеет, он становится ближе, доступнее. Вспоминаю слова из его письма много лет назад о диких зверях: «…Смотрю им прямо в глаза, чтобы испытать силу своих глаз». Сумели ли его глаза до конца прямо взглянуть в глаза дикой, всепоглощающей жизни и одолеть эту жизнь? Но разве так бывает, что все, о чем страстно мечтаешь в юности, осуществляется до конца! Особенно если этот юноша — поэт, чью крылатую мечту зачастую трудно впрячь в плуг или соху… Завен Сурмелян впервые приехал в Армению только в 1968 году, и приехал как гость. На встрече е писателями он рассказывал: — Наш поезд шел через Нахичевань. Я попросил не говорить мне, когда въедем в Армению, сам догадаюсь… И вот когда начались сады и виноградники, я закричал: «Вот она, вот Армения!» Мне ответили: «Правильно, это она». Сурмелян узнал Армению по предмету своей мечты— по деревьям, которые, подобно дорожным указателям, сопровождали его до всего в зелени Еревана, до ставшей былью мечты. Это он, Завен Сурмелян, еще в двадцать четвертом году написал прекрасное стихотворение «Сказание по поводу посадки деревьев»:Господи, благослови это деревце живое. В землю, что вобрала дедов, я сажал его весной. Я хозяин поля новый, внук их, чадо корневое. Я расту под этим солнцем — имена их все со мной… Своих дедов помянул я деревцем вместо креста.[30]
Трудно поверить, что автор этого стихотворения через несколько лет отошел от поэзии. — Почему? — спросили мы Сурмеляна. — Не хотел быть поэтом. Главным в те годы для меня было утверждение Армении, спокойная и уверенная жизнь народа. Я думал, что стихи для нас — это признак слабости, недомогания. Мы, армяне, должны были быть сильными и прежде всего нацией твердого порядка, труда и выдержки. Прежде всего нам нужны были заводы, дороги, школы, каналы… Я был молод и фанатичен. — А как случилось, что вы перешли на английский? — Этот вопрос мне задают многие. Некоторые осуждают, говорят, что из тщеславия стал писать на английском. Но для меня писать не на армянском — жертва, на которую я вынужден идти. Если и пишу на английском, то не перестаю быть армянским писателем, только считаю, что так приношу больше пользы своему народу. Так рассуждал Сурмелян, когда писал на английском свой роман «К вам обращаюсь, дамы и господа», который вместе с романом Франца Верфеля «Сорок дней Мусадага» поведал миру о событиях пятнадцатого года. Этим же высоким стремлением продиктовано и то, что крайне загруженный человек, преподаватель литературы в университете, он перевел на английский «Давида Сасунского», чтобы передать читателям подлинный дух и стихию народного эпоса. В Лос-Анджелесе я часто встречала Сурмеляна. Вдали от многолюдья, вкаком-нибудь тихом маленьком кафе он сиживал обычно за чашкой кофе или рюмкой коньяка и вел беседу. — Работаю над новым романом… Об армянах, о спюрке и родине… Нужно на несколько месяцев приехать в Армению вместе с героем моей книги. Следую-» щей осенью, наверное, и приеду. Ты будешь там? — Если вдруг и не буду, то ради вас постараюсь быть… — Говорят, часто ездишь в Москву и в другие города? — Да, часто… У нас свой способ представлять наш народ миру — с помощью русского языка… Только мы не перестаем писать по-армянски. Нас переводят. — Это ваше счастье. А тут… Армянин, который здесь посвящает себя литературе, попросту обречен на лишения, на одиночество. Это и великомученичество, и безумие… Но в таком безумии и сила наша. Если б не было подобных людей, за границей потухли бы огни нашей культуры. Я преклоняюсь перед теми, кто пишет тут по-армянски. Но это заранее проигранная битва, которую они ведут на здешней земле. — Говорят, что вы редко бываете в армянских кругах? — Редко, только когда есть необходимость… Думаю, что писать книги или переводить стихи полезнее, чем ходить на эти вечные общинные шашлыки. На общинных вечерах Сурмелян тоже вел себя отъединенно. Помалкивал, да и другие не очень-то были настроены вникать в его душу. От его характера или оттого, что сейчас его калифорнийские «сокровники», хотя и говорят большей частью по-английски, как-то перестали понимать пишущего на английском писателя Сурмеляна? «Я проиграл битву за армянский язык, чтобы выиграть битву за армянскую душу», — сказал он когда-то. Кто знает, в залитых электричеством гостиных Лос-Анджелеса, среди сверкающих дам и лощеных мужчин, не отступает ли, не проигрывает битву также и душа, исполненная «болью и надеждой», привыкшая к робкому мерцанию свечи, к глотку воды и обломку просфоры?
10 мая, Егвард
Душа народа. Чтобы постичь ее, почувствовать, нести в себе, нужен такой человеческий сплав, когда рядом с щедро бьющим родником ощущаешь неутоленную жажду по глотку воды, когда за гнущимся от яств столом тоскуешь по обломку просфоры… Рождается ли таким человек или приходит это к нему потом, со зрелостью сердца и ума, трудно сказать, но то, что присутствует все это лишь там, где есть судьба, личность, интеллект, спорить не приходится. Зависит ли личность, интеллект от образования? И да, и нет. Я знаю ученых, которые однозначны, как телеграфные столбы, и, кроме сноровки принять и передать по проводам сигнал, то есть, иначе говоря, кроме освоенных фактов и формул, ничего не таят в себе-ни страданий, ни внутренней борьбы, ни радостей, и не так уж умны, потому что быть умным — это не только суметь рассчитать по заданной горизонтали железнодорожный туннель и выйти по ту сторону горы, защитить диссертацию. Ум — это подобное корням разветвление вширь и вглубь, способность беспрерывно получать питание и питать, наливаться соком и поить им. Я знаю также стариков, которые по складам читают газету, но они личности, у них врожденный ум, природная интеллектуальность. Уже около десяти лет я дружу с восьмидесятипятилетним Миграном Гочяном. Мы познакомились в 1965 году» когда я ездила по тем районам Грузии, где много армян, побывала в Ахалкалаке, Ахалцихе, на берегу Черного моря. После вечера в Гагре последним ко мне подошел высокий, с резкими чертами лица старик крестьянин. — Спасибо, что вспомнила нас, — говор у старика местный, гамшенский, — но редко вы приезжаете, редко… Все больше по заграницам… Тон моего собеседника был строг, но он прав. Так началась наша дружба, и на мой стол после этого все чаше и чаще ложились конверты, где внизу неумело на русском значилось: «Гагра, Бзиби, 6-й километр, Мигран Гочян». Где эти Бзиби и 6-й километр, до сих пор не знаю. Старик говорит, что по дороге на озеро Рида. Там обосновался Мигран, потерявший в пятнадцатом году дом, жену и детей. В этих глухих горах и лесах обрел пристанище, снова женился, родились дети, посадил сад, завел пасеку и, хотя живет далеко в лесном ущелье, всегда прислушивается к голосам мира. Мысль его долетает то до Москвы, то до Буэнос-Айреса, то до Организации Объединенных Наций. Сердцем же он всегда в Ереване, вместе с каждым новым камнем, заложенным в фундамент, вместе с каждым всплеском фонтанчика на площади Шаумяна. Бесперебойно 6-й километр ущелья Бзиби посылает мне свои письма: «Сестра Сильва, в газете «Советакан Айастан» прочел, что вышла книга «Армения в документах второй мировой войны». Прошу тебя прислать мне ее и еще другие подобные книги. Здешние армяне приходят ко мне за книгами, я даю им читать». В следующий раз 6-й километр поручает: «Сестра Сильва, прошу тебя зайти в Армкнигу, сказать этим сотрудникам, почему сюда в армянские школы не шлют учебников… Скажи, что здешний народ жалуется на них…» Или: «Сестра Сильва, что стало с книгой об Андранике, здесь говорят, что печатается. Когда издадут, не забудь меня, пришли, пожалуйста, еще новую книгу Паруйра Севака…» Раза два в год Мигран приезжает в Ереван. Он был здесь и в дни 2750-летия Еревана, и на юбилее Туманяна, и на пятидесятилетии Советской Армении. Приезжает, звонит, и даже если у меня хлопот полон рот, я тут же приглашаю его к себе. Этой весной тоже приехал Мигран, обижен, что не отвечала ему. Объяснила, что была в Америке и после возвращения пишу книгу. — Знаю, понимаю… Но Миграну должна была ответить. Кто знает, сегодня он есть, а завтра нету. Зимой мне худо пришлось и сейчас не очень-то хорошо, но решил: как бы там ни было, еще разок съезжу в Ереван… Расскажи, как там наши, в Америке? То, что есть у них школы, газеты, я знаю. Но дух наш народный при них еще? Говорят они по-армянски?.. Некоторые наши земляки в Гагре не хотели своих детей отдавать в армянские школы… Я пошел, пристыдил их. Сказал, что когда-то у нас в селе мой дед дал турецким чинушам взятку в пятнадцать золотых, чтобы на школьных свидетельствах имена и фамилии его сыновей значились и на родном языке… Теперь же, слава богу, у нас все есть на этой земле- и хозяйство, и дома, — и почему же вы сами своих птенцов хотите оторвать от стаи? Вчера я в Эчмиадзин ездил, видел католикоса, он спрашивает: «Мигран, что нового?» Говорю: «Вегапар[31], это я должен у тебя узнать, все новости на свете к тебе приходят». Мигран был бледен, еще больше похудел, на его заострившемся лице с орлиным носом лихорадочно блестели глаза. Я, как могла, успокаивала старика, пыталась изменить тему: — Что там у вас, в Бзиби? Как твои дни текут? — Этой весной взял да и наладился в Тбилиси, к Гамсахурдиа. Приехал, говорю ему, спасибо сказать тебе за то, что любишь армян. Говорю: пиши о двух наших народах побольше, чтоб лучше понимать друг друга. — Где ты был в этот раз в Ереване? Видел памятник Вардану Мамиконяну? — Собираюсь пойти… Сегодня утром поднялся к дворцу молодежи, трудно было, но решил во что бы то ни стало добраться… Красивое здание, жаль, что медленно строят, очень медленно, наверно, я уже не дождусь… Армии Вегнер закончил свою книгу про армян?.. Когда напечатают?.. Всем интересуется этот человек из далекого лесного ущелья… Его сердце и мысли как радиоприемник, который, протянув антенну из своего 6-го километра в мир, ловит все, что настроено на ту волну, которая соответствует его естеству, биению его старого сердца. И сам он словно целый отдельный мир, оторвавшаяся от родной горы и упавшая сюда, на берег Черного моря, глыба, за которой его земляки гамшенцы чувствуют себя уверенно, обретают силу. Честно говоря, садясь сегодня за письменный стол, я не предполагала, что напишу о Мигране Гочяне. Но коли уж зашла речь о личности, о душевной цельности, о том, есть ли прямая связь между полнотой души и образованием, перед глазами сразу же возник образ моего давнего друга. И Мигран не исключение. Сколько раз мне встречались вот такие люди, без всякого образования, но с напряженной духовностью, с постоянной тревогой за судьбу народа. И еще такое же беспокойное горение души я находила у людей, наделенных высочайшим интеллектом, достигших самых высот культуры, владеющих сложными тайнами искусства. Если хотите, народ именно это. Прежде всего грунт, первооснова — пустившие корни в землю, превращающие эту землю, камень, дерево в хлеб, дома, машины труженики, которые несут в себе народное изначалие. А потом пошедшие в рост от этих корней, поднявшиеся из этой первоосновы избранники, вершины на горной гряде, которые создают рельеф и контуры, характер земли и которые видны издалека. Накипь же — те самые дельцы и деляги, лихорадочно выхватывающие у жизни все, что только удастся ухватить; как бы ни вылезали они на поверхность, все равно они преходящи, временны и не оставят никакого следа ни в характере, ни в исторической поступи народа.12 мая, Егвард
Случилось так, что в один из самых разгульных, самых легкомысленных городов в мире — Лас-Вегас, можно сказать, в город-тунеядец, я приехала вместе с одним из самых сдержанных, самых серьезных и самых трудолюбивых среди встретившихся мне в жизни людей— писателем и редактором прогрессивной газеты «Нор ор» («Новый день») Андраником Андреасяном. В отличие от многих прочих западноармянских деятелей, Андреасян умудряется хлеб свой зарабатывать только редакторским трудом. Если представить себе, что такое для редактора здешней армянской газеты существование лишь на зарплату, особенно если сей редактор еще дерзнул обзавестись пятью детьми, и при этом хоть чуточку вообразить, что такое Лас-Вегас, то сразу станет ясно, что пригласил меня в Лас-Вегас не мой уважаемый собрат по перу. Пригласил его друг, владелец магазина радиоприборов Нубар Костанян. Сам Андраник, прожив в Америке свыше сорока лет, а в Калифорнии последние два десятилетия, еще не бывал в Лас-Вегасе. Да и сейчас сомневался: — Очень хочется, но едва ли смогу… Кто выпустит завтрашний номер «Нор ора»? — Это сделает кто-нибудь другой, например, ваш заместитель, — уговариваю я. — Какой заместитель? Нас всего три человека, включая наборщика. Кое-как Андреасян «уладил» свои редакторские дела, и мы отправились в путь из Калифорнии в штат Невада, в знаменитый Лас-Вегас. Дорога длилась часа четыре. Она пролегала по неприглядной, скудной, серой земле Невады. И, видимо, чтобы хоть как-то возместить несправедливость природы, в Неваде придумали привилегии, с помощью которых ей можно было превзойти другие штаты. Так, прежде всего здесь облегчен развод. В эту своеобразную Мекку совершают паломничество из других штатов те, кому — нож к горлу — приспичило развестись. А потом на месте заросшего бурьяном пустыря воздвигли Лас-Вегас, город — игорный дом, куда слетаются не только из других штатов, но со всего мира, чтобы дать волю своим слабостям и расстаться на этот раз не с мужьями или женами, а с содержимым своих карманов. Хотя на самом-то деле все они надеются умножить здесь это содержимое. Использовать первую предоставляемую штатом Невада привилегию было для всех нас троих начисто исключено. У меня лично «нож к горлу» был приставлен еще тридцать лет назад, и без помощи Невады проблема эта в скромных условиях нашего Еревана хотя и не без сложностей, но вовремя была решена… Андраник Андреасян, как бы пылко он ни сражался на гражданской ниве, даже переходя подчас границы дозволенного, в семейных же делах не дозволял себе, как у нас говорят, даже ручеек перепрыгнуть… Нубар Костанян сравнительно недавно женился и боготворил жену. Следовательно, всем нам троим оставалось воспользоваться лишь вторым преимуществом Лас-Вегаса. Прибыли мы в это благословенное место к вечеру. Нубар еще за несколько дней вперед заказал нам два Номера в одной из самых комфортабельных гостиниц — «Хилтоне», один мне, другой ему с Андраником. Едва мы устроились, как Нубар, лысеющий, но вполне энергичный и сияющий молодой человек, деловито сказал: — Теперь мы спустимся. — Куда? — Вниз… И мы спустились в этот «низ». С этого момента вокруг забурлила иная жизнь — стремительный, затягивающий водоворот, который мог, словно щепку, закружить вас и не выпустить, если бы, конечно, в лапы ему попали не такие отрешенные от страстей Лас-Вегаса субъекты, как Андраник Андреасян, и такая «охотница до зрелищ», как я, в четыре глаза наблюдающая здесь этот потусторонний мир… но только наблюдающая. Трудно сохранить присутствие духа среди этих стоящих в ряд игорных столов, игорных ящиков — автоматов, игорных табло, игорных «колес счастья», среди пестрого жужжания вспыхивавших то и дело разноцветных электроглаз и больше всего нервного, натужного дыхания людей, толпившихся вокруг больших и малых игорных точек. Наш наставник Нубар немедля приступил к обучению. Начал с самого примитивного. Купил на несколько долларов похожие на металлические монеты кругляки — жетоны, высыпал их в два бумажных стакана и, как два стакана молока, протянул нам, новичкам, молокососам. Из его слов выяснилось, что это какой-то вариант виденной мною уже в Японии игры «пачинко». Нужно было бросить эти кругляки в дырку игрового автомата, затем нажать на рычаг. На стеклянном лице ящика — рядами клетки с различными картинками. Если после нажатия засветятся сразу в одном ряду четыре одинаковых картинки, значит, счастье вам улыбнулось: автомат «выстреливает» массу таких же кругляков, которые со звоном вылетают из нижнего отверстия. Игрок может начать все сначала, и, если повезет, он на целые часы останется прикованным к этому металлическому искусителю. В игру эту включались самые «неимущие» — студенты, а чаще всего пожилые дамы. Когда было исчерпано все наше «молоко», Нубар перевел нас во второй класс. Здесь научно-техническая революция ничего не изменила. «Колесо счастья» вращалось, как и в прошлые века. Мне повезло, и вместо одного доллара я стала обладательницей пяти. Напрасно наш «учитель» убеждал не «топтаться на месте», а неизменно «двигаться вперед». Только перспектива игры на рулетке смогла оторвать меня от «колеса». Рулетка улыбнулась мне, как старой знакомой. В Бейруте, в «Казино де Ливан», впервые в жизни я попала в игорный дом, и в первую же минуту рулетка обласкала меня. Вместо взятых у меня пяти ливанских лир я получила в тридцать пять раз больше… С той же надеждой на взаимность подхожу и к лас-вегасской рулетке, но… с сожалением вновь убеждаюсь, что первая любовь не повторяется… Вечером того же дня мы ужинали в гостинице «Стандус», в зале, напоминавшем знаменитое парижское «Лидо». На десерт здесь обычно «шоу» — концерт: пение, акробатика, танцы, юморески, — все на уровне высоких мировых стандартов. Когда «шоу» кончилось, было одиннадцать вечера. Весь первый этаж «Стандуса» был наполнен тем же азартом игры, что и в «Хилтоне». Я чувствовала, что Нубар мечтает избавиться от обязанностей опекуна: научил нас «летать» — и хватит, теперь сами машите крыльями. Он привел нас к «колесу счастья» и смылся. Я была очень довольна. Тут же пустила в ход свои однодолларовики, включилась в дело. Молчаливый крупье пришелся очень кстати моему «знанию» английского. Все шло как в немом кино. Андраник Андреасян попробовал заняться тем же. Но делал это он так нехотя, без всякого аппетита, что «колесо», почуяв это, воздало ему. У нас говорят: «Как слепец взирает на бога, так и бог взирает на слепца…» Было уже поздно, когда мы решили разыскать нашего «учителя»-дезертира и покинуть «Стандус». Нашли его у длинного стола, среди картежников. Игральные карты, словно магнитные плашки, приковали к себе их головы, не разрешая взглянуть вбок. Кое-как мы повернули голову Нубара в нашу сторону, дали понять, что пора и честь знать. Двинулись к выходу. Мимо стремительно прошел какой-то мужчина в летах, пузатый, с широкополой шляпой над круглым висломясым лицом. — Один из техасских миллионеров. Я его знаю. Завсегдатай Лас-Вегаса, — просвещал нас Нубар, — играет на пятьдесят, сто, тысячу долларов… Смотрите, смотрите, сейчас все начнется… Толстый техасец со взглядом, в котором было: если захочу, куплю и всю эту компашку, и крупье в придачу, — подошел, бросил на стол свои тысячи, взял карты и через минуту — как это вышло, не знаю, — словно фокусник, снял куш, собрал со стола все деньги и из кассы и стремительно продолжил свой путь. Я припустилась за ним. Сей пузан всем своим обликом был настолько выразителен, что знание языка здесь не требовалось. Он с мастерством истинного артиста-мима, казалось, воплотил в себе дух Лас-Вегаса, и я не стесняясь открыто разглядывала его, как не стесняешься рассматривать актера, вышедшего на сцену. Прежде чем он добрался до выхода, техасец еще раза два приближался к тому или иному столу, железно повторял ту же процедуру. И наконец с той же победоносной небрежностью вышел из гостиницы. На улице его ждали тележка с чемоданами, портье и швейцар. Ни одной минуты даже перед самым отъездом не хотел он потратить зря, упустить хоть малую толику «наслаждений». Мы тоже сели в машину и отправились смотреть ночной Лас-Вегас. Токио известен ночным освещением своей главной улицы Гиндза. Говорили, что весь Лас-Вегас — как Гиндза и даже больше. Но поди же, во время моего пребывания в Америке там начался энергетический кризис. На призыв президента экономить электроэнергию оперативнее всех откликнулся именно Лас-Вегас, явно стремясь утвердить свою крайнюю законопослушность. Огни зажигались лишь в строго определенной очередности. Таким образом, я насладилась вечерним Лас-Вегасом, как говорится, «только местами». Однако и эти «места» позволяли составить представление о целом. Лас-Вегас — это особый мир, не знающий себе подобного. Если классический Монте-Карло — огромный, но всего лишь один игорный дом, то Лас-Вегас — это игорный город, тянущийся километрами. Улицы, площади — все строилось и приспосабливалось именно к этой цели. «Игровые точки» не только в игорных домах, но повсюду — в гостиницах, ресторанах, кинотеатрах, парикмахерских, магазинах, на улицах, на стенах домов. Даже все сувениры символизируют игру и игорные дома. В качестве самого редкостного сувенира продаются «бывалые», прошедшие огонь и воду, истершиеся карты… А в одном магазине я увидела пирамидку, сложенную из золотящихся металлических центов. В другом с виду кучка долларов, а сверху настоящие долларовые ассигнации, и все это залито прозрачной пластмассой. Своего рода наглядные пособия, каждодневно вдохновляющие на «делание денег». — Как вам спалось? — спросил на следующее утро Нубар. — Спасибо… А вам? Нубар мнется. Бедняга, он, оказывается, вечером, наконец освободившись от нас, снова спустился «вниз». Сегодня Нубар и вовсе решил спровадить нас с Андраником подальше. В игорном доме «Циркус» название свое оправдывали лишь несколько колец и сетка, свисающие из-под купола. Все остальное — партер, и амфитеатр, и ложи, и ярусы — было заполнено тем же пестрым жужжанием разноцветных электроглаз, ненасытных автоматов и всеми остальными игорными аксессуарами. Здесь бывают цирковые представления, и Нубар повел нас в одну из лож, откуда удобнее смотреть на кольца. — Когда приезжаем сюда с женой и детишками, всегда сажаю их в эту ложу, — говорит Нубар… Он и нас усадил в ложу своих «детишек» и, успокоенный тем, что нам есть чем заняться, исчез. Мы с Андраником оказались точно в таком же положении, как герои рассказа О’Генри, где отец по блату устраивает на перекрестке пробку, чтобы у сына было время сделать предложение сидящей рядом в машине девушке. Мы познакомились лет десять — пятнадцать назад в Армении, издалека слыхали о делах и жизни друг друга, и вот когда снова встретились в Лос-Анджелесе, у нас не представилось времени спокойно посидеть и поговорить. И «пробка» в ложе этого «Циркуса» оказалась удобным случаем, чтобы объясниться в любви если не друг другу, то общему предмету нашего поклонения — Армении. Под куполом уже летали вверх и вниз артисты, играл оркестр, малыши вокруг блаженствовали, ликовали, визжали, а мы — все о том же. И только когда артисты в знак благодарности выпустили в зал для ребятишек разноцветные воздушные шары и один из этих шаров попал в нашу ложу, только тогда мы опомнились, сообразили, где находимся, и даже удивились: а зачем мы здесь? День уже кончался, вечером билеты в оперу в Лос-Анджелесе, а мы все еще в «Циркусе». Нашего «блудного отца» Нубара мы опять обнаружили у длинного стола, впившегося в карты. Он глядел на нас как лунатик, передвигающийся по карнизу крыши. Было жалко и даже опасно окликать его. Однако мы рискнули. Нубар пробормотал: «Еще немножко посмотрите цирк, я сейчас приду»— и снова пошел по карнизу… Но мы не вернулись в цирк. Слонялись по закоулкам игорного дома. Неожиданно в сутолоке перед нами остановился уже немолодой человек и с ним разодетая рыжая дама. На какое-то мгновение просветлев, он посмотрел на нас. — Вы армяне? — Да, армяне, — обрадовалась я. — Где родилась? — как истый американец, тотчас же перешел на «ты» наш новый знакомый, путая армянский деревенский диалект и американское произношение. Так же смешаны были в нем крестьянская внешность и суперамериканское его снаряжение. — Я из Армении, — похвалилась я. — Я тоже был там… По приглашению земляков из Гаджна. Родом оттуда. — Понравилось вам? — накинулась я на него. — Неплохо. Но пробыл я там только три дня. Много всяких дел, не мог остаться… — А чем вы занимаетесь? — постепенно гаснет мой порыв. — Я?.. Я — Магалян. Не слышали?! Во Флориде у меня большая фирма «Домашняя мебель». — А это Сильва Капутикян, поэтесса. — И, увидев, что тот не совсем точно представляет себе мою «фирму», Андреасян поясняет: — Книги, книги пишет. Об Армении, о спюрке… — A-а, очень рад, — покровительственно произносит господин Магалян и протягивает руку для прощанья. — Будь здорова. Спешу. Дело есть дело. Ничего не скажешь! Лас-Вегасу эта встреча двух «сокровников» вполне созвучна. Увидел нас — и мгновенно сработал автомат, одновременно зажглись в ряду четкие схожие картинки. Кругляки со звоном провалились вниз, обрадовав игрока. Понапрасну огород городили. Больше картинки одновременно не зажглись.13 мая, Егвард
Сколько армян в Америке, столько и биографий. Еще до первой мировой войны некий молодой гюмриец Антикян приехал в Америку в поисках работы и счастья. Работу нашел в шахте, в забое, который, однажды рухнув, оставил под обломками и его, и его счастье. Два других его брата приехали сюда, чтобы увидеть могилу погибшего, позаботиться о ней. И тут вспыхнула война, невозможно было вернуться назад. Гриш Антикян, а по-нашему Гриша, один из тех двух братьев, живет в Лос-Анджелесе, ему уже за семьдесят. Крупный, отяжелевший, но еще очень подвижный, деловитый, он активный деятель Прогрессивного союза. Сегодня он взялся показать мне Диснейленд. — До тебя приезжал Геворг Эмин. И его я возил туда. Геворг говорил: «Дядя Гриш, если бы не ты, что сталось бы с приезжими из Армении…» А я отвечаю: «Слушай, парень, пока я ол-райт, буду всегда полезен родине, а после уж как хотите…» В устах Гриши гюмрийско-ленинаканский диалект остался таким густым, первозданным, что кажется, никакому английскому не пробиться через эту густоту. Если бы не часто повторяющиеся «ол-райты» и соответственные этим «ол-райтам» некоторые изменения в характере, я подумала бы, что он не иначе, как «зав» какой-то ленинаканской столовой — хашханом — или один из игроков в нарды, просиживающих часы на узкой улочке Дзорибогаз. Наше пребывание в Диснейленде должно было занять целый день. Я попросила Гришу пригласить и моего друга, редактора Андраника Андреасяна, с которым мы были в Лас-Вегасе. Антикян охотно согласился. Приехали мы в Диснейленд через два часа. Автостоянку не охватить было глазом, казалось, это раскинувшиеся на десятки гектаров плантации, где вместо кустиков табака или чая рядами растут автомобили. Дядя Гриш «сажает» автомобиль в одну из щелочек в рядах. Еще у входа в Диснейленд Андреасян неожиданно отошел и поспешил к кассе. Дядя Гриш сделал попытку помешать ему, однако три книжки с билетами-абонементами, которые стоили довольно дорого, были уже в руках Андреасяна… Мысль моя сразу полетела в Ленинакан — на родину дяди Гриша. Ленинаканец, кто бы он ни был, с достатком или без такового, скорей перевернул бы весь мир вместе с Диснейлендом, чем допустил, чтобы его гость оказался в роли хозяина… Входим. «Все началось с одного мышонка», — сказано в проспекте Диснейленда. Этот мышонок — Микки-Маус, «суперзвезда» мультипликационного фильма, большеголовый, с круглыми, выпученными глазищами, со ртом, доходящим до ушей. Самый счастливый мышонок в мире, ставший «суперзвездой», и где — в Диснейленде… Режиссер Уолтер Элиас Дисней, создатель многочисленных мультфильмов для детей, создал и этот Диснейленд, вложив сюда все свое знание детской души, свой талант художника и фантазера. Диснейленд, что означает страна Диснея, — это как бы концентрат пространства и времени, в котором соединены, собраны вместе река Миссисипи и Большие Каньоны, первые, ступившие на берег Америки поселенцы и типичный для начала прошлого века город Новый Орлеан, африканские джунгли и стойбище индейцев-абори-генов, разукрашенная ладья пиратов и космический корабль. Все это создано руками человека, все искусственное. Но кажется несправедливым ко всему этому применить слово «искусственный». С такой яростью стреляют и сопротивляются напавшим на их след пираты, так гибко извиваются у берегов Нила резиновые крокодилы, что всё — и реки, и водопады, и растения, и животные, дома и улицы Нового Орлеана, и индейские поселения, вытянувшиеся вдоль берегов Миссисипи, — все это кажется подлинным, вернее, ошеломляет иллюзией подлинности, неуемностью фантазии. Часть территории здесь так и называют «Страна фантазии». Вот сооруженный то ли из пластмассы, то ли из дерева, легкий, почти невесомый, с несчетными башнями и куполами самой причудливой формы, белый замок из сказок о Спящей красавице, о фее-волшебнице, о Золушке. Вереница моторизованных экипажей везет вас туда, где куклы под музыку и пение разыгрывают почти все знаменитые сказочные сюжеты. Экипаж мчится по извилистым дорожкам— с обеих сторон тебя тянут к себе, хотят завлечь поющие, танцующие, читающие стихи куклы в костюмах всех племен и народов. Каждой сказке — свой колорит, свой антураж: если индийская, то храм Тадж-Махал, если египетская — пирамиды, арабская — пустыня и верблюды. Русские куклы поют и танцуют возле храма Василия Блаженного, у огромнейшего пузатого самовара. Самое занятное — конец этого удивительного путешествия. Глубокая, просторная пещера освещена с невероятной яркостью и пестротой. По обе стороны дорожки, сверху, справа, слева, спереди, — словом, отовсюду — голоса. Сто кукол в костюмах ста народов поют на ста языках. Песня называется «Малый мир». Уолтер Дисней так и пишет: «В конечном счете мир мал». В сказках всех народов — всегда мечта о прекрасном, поражение зла и победа добра. Дети всего мира одинаково любят сказку, жаждут добра, любят смеяться, танцевать, петь, и, следовательно, в «конечном счете мир мал…». Если маленькие куклы подводят тебя к столь широкому выводу, то «Страна завтрашнего дня» добавляет к этому, внушает, что «в конечном счете и вселенная мала». Здесь уже не сказочные купола и воздушные башни завершают здание, а многоступенчатая ракета и состыкованный с ней космический корабль вонзается в небо. От здания, которое кажется крылатым, начинаются и возвращаются, входят и выходят из него различные трассы, мосты, канатные дороги. Люди и машины вперемежку на земле и в воздухе, словно включились в «perpetuum mobile» — в вечное движение. По канатным дорогам, по бетонным мостам, рельсам, протянутым в воздухе, по железным дорогам, по асфальту, каналам, эскалаторам несутся, мчатся, летят, качаются, гремят, дребезжат поезда, вагоны, ракетные устройства, корабли, подводные лодки, однорельсовые электровозы, во всех окнах и окошечках мелькают тысячи человеческих лиц. Кажется, что идут съемки какого-то научно-фантастического фильма и ты сам участник этого представления. Входим внутрь крылатого здания. Усаживаемся в некое сооружение, напоминающее космический корабль. Внутри все окутано тьмой. Тишина, только скрип от движения кабин. Кабины эти, конечно, не отрываются от рельсов, но так как вокруг тьма, кажется, что мы в воздухе, над землей. Так движется этот эшелон, извивается, сворачивает то вправо, то влево, то поднимается, то стремглав скатывается вниз, а вокруг — Вселенная, планеты Луна, Венера, Марс, Сатурн со своими спутниками, кометы, вспыхивающие и гаснущие звезды, туманности, — словом, представьте себе гигантский планетарий, где зритель не снизу смотрит на небо, а «летит» в этом небе от звезды к звезде, от галактики к галактике. Описать Диснейленд выше моих возможностей. То, о чем я рассказала, лишь малая толика увиденного мною, а то, что я увидела, лишь частица того, что в нем есть. Видела же я только то, что преподнес мне дядя Гриш, что отвечало его вкусам. Крупный, круглолицый, уже отрастивший брюшко, он носился по аллеям и площадям Диснейленда с такой гордостью, с таким детским удовольствием показывал его нам, будто все здесь построил сам. — Зайдем сюда… Слышишь, как пищат птицы? Словно их живыми сюда впихнули… А это Жар-птица, видишь? — А вот где тебе чудо-юдо. Будто на дне морском стоим. Гляди, гляди на этих рыб — не чешуя, а радуга. Сейчас знаешь что будет? Мы встанем посередине, а радуга со всех четырех сторон. Нам покажут кино, всю Америку, точь-в-точь будто в машине проедешь по этим местам: Нью-Йорк, Вашингтон… Смотри не бойся, сейчас пираты стрельнут. Это их торги, пленниц продают… Жаль, что большая часть наших билетов-абонементов осталась неиспользованной, то есть очень большую часть Диснейленда я так и не могла увидеть. В Лос-Анджелесе вечером была назначена встреча, и мы вынуждены были пуститься в путь, хотя, говорят, вечерний Диснейленд еще более фантастичен. Но еще больше жаль, что не все дети мира могут увидеть и радоваться этому. Как бы ни был «в конечном счете мир мал», все еще неизмеримо далеки друг от друга не только голодающие провинции Индии и Диснейленд, ной ребенок, открывший глаза в трущобах Гарлема, и прилетевший в Диснейленд с отцом на собственном самолете отпрыск династии мультимиллионеров…16 мая, Егвард
Мягкая благодатная и благодарная земля в Калифорнии. Изначально это были дикие места, и сколько же пролилось пота, сколько потребовалось мускулов и сил, чтобы земля эта покрылась виноградниками, абрикосовыми и миндальными садами! В этих садах, особенно под Фресно, есть труд и армянских скитальцев — пандухтов, которые вынуждены были покинуть дедовские земли и приехать сюда в поисках заработка. Говорят, что именно армяне впервые привезли сюда абрикосовые косточки и вырастили в здешних краях абрикосы. Правда это или нет, не знаю, однако то, что армяне привезли с собой во Фресно и другие «семена» — жажду знаний, стремление жить сообществом, жить вместе, — видно хотя бы из того, что, начиная с 1892 года, в этой колонии, насчитывавшей всего четыре — пять тысяч человек, открывались школы, издавались газеты, было создано множество союзов и организаций. Одни названия этих союзов — «Армянское литературное объединение Фресно», «Чрагянская музыкальная школа», «Юношеский веселый клуб», «Дискуссионный клуб друзей», «Битлисское благотворительное общество», «Артистическая труппа «Евфрат», «Библиотека Акнуни» — свидетельство многообразной и поистине бурной национальной жизни. Надо полагать, что здесь разгорались дискуссии между разными партиями не только в «Дискуссионном клубе друзей», но и вне его стен, в том числе и в так живо описанном Уильямом Сарояном кафе «Араке». Я долго искала это кафе «Араке», мне вообще хотелось увидеть ту среду, которая вырастила Уильяма Сарояна, питала его великолепные рассказы. Но от того Фресно почти ничего не осталось. Не было тогда там — увы! — и самого Уильяма Сарояна. От старой колонии во Фресно остались несколько стариков, сухощавых, горбоносых, говорящих по-армянски на сугубо деревенском диалекте, стариков, которым так не подходило название «фермеры», хотя именно фермерами они и были. Во Фресно жили несколько армянских писателей, и, среди них хорошо известный мне Ваге-Гайк. Скромный и молчаливый, он жил довольно далеко от центра, в лесистом месте, в просторном, но, как и он сам, «сдержанном» и молчаливом доме. Самой «несдержанной» частью его дома была библиотека, заполненная армянскими изданиями разных лет и разных мест. Среди железобетонной, грохочущей Америки эта заставленная книгами комната напоминала мне тайник в монастыре, берегущем, защищающем наши древние письмена и пергаменты от чужеземных набегов. Вероятно, именно здесь, за письменным столом, маленьким боевым бастионом, написал Ваге-Гапк свои знаменитые книги о его родном крае, о Харберде — «Золотое поле Харберда», «Дым отечества», книги о том, как здесь, за океаном, рушатся привычные устои народной жизни, меняется ее уклад, как постепенно от ветра неотвратимой ассимиляции рассеивается «дым отечества», исчезает в беззвездном небе страны, на флаге которой рассыпано так много звезд. Боль и протестующий крик слышатся во внешне спокойном увещевании, с которым писатель обращается к старухе матери, отдающей последние центы сыну-бакалейщику за бутылку молока и кусок масла. «Мама, милая, покинутая мама, в следующий раз, когда придешь покупать молоко, не забудь напомнить этому твоему горе-сыну, чтобы сам он сперва уплатил за то давнее молоко, которое по каплям было выжато из твоего естества, из твоей плоти и вливалось в него. Вливалось бессонными ночами, колыбельными песнями, тихими сказками». Эти строки из рассказа «Не забудь деньги за молоко, мама» я все время вспоминала, придя в дом для престарелых армян во Фресно. В Америке дома для престарелых прочно вошли в обиход. Семья в классическом смысле этого слова, я бы сказала, перестраивается. Создаются нового типа семейные связи, складываются новые отношения между детьми и родителями, когда дети, едва переступив порог юности, стремятся к полной самостоятельности и независимости. После женитьбы эта независимость доходит до такой степени, что родителей покидают совсем, в лучшем случае сохраняются лишь внешние связи и денежные обязательства. И так как ослаблены нити, связующие сердца, то в старости, если мать и отец нуждаются в уходе и заботе, лучшим выходом из положения считается дом для престарелых. Там находят себе приют не только нуждающиеся старики, но зачастую и люди со средствами, которые, уплатив определенную, довольно высокую, сумму, обеспечивают себя жильем, уходом и питанием. В зависимости от вносимой суммы определяется и степень комфорта. Помню, года два назад мы получили из Америки, от нашей дальней родственницы, письмо. Конверт лопался от набитых в него цветных фотографий. На фоне новеньких современных вилл смеющиеся лица, модно одетые женщины и молодые люди, дети в пестрых платьицах и костюмчиках. Под каждой фотографией родственница старательно надписала: «Это моя дочь перед своим до-дом», «Это мой старший сын рядом со своим автомобилем», «Это мои внуки в своем саду», «Это моя невестка», «Это мой старший внучек»… После долгого описания обеспеченной жизни своих сыновей и дочерей в конце письма родственница сообщала: «Теперь я живу в доме для престарелых в Детройте»… В Америке я уже перестала удивляться, сталкиваясь с подобными случаями, однако все-таки с трудом приноравливалась к этой, быть может, и вполне разумной, но странно непривычной для нас форме решения вопроса. Всякий раз, приходя в дом для престарелых (здесь их называют «домом покоя для стариков»), как бы я ни была подготовлена к этому визиту, все равно что-то тревожно сживалось во мне. Тусклые глаза стариков, хоть и опрятно Одетых и живущих в чистых, прибранных комнатах, но все же таких одиноких, лишенных тепла семьи, детей и внуков, эти глаза то просяще смотрели на меня, то, словно ожидая чего-то, глядели в окно, будто искали, надеялись. В детройтском доме для престарелых был намечен обед вместе со стариками. Все тут было как полагается — И дом, и часовня, и гостиная, и обед, — но еда застревала у меня в горле, я с трудом могла проглотить кусок. После обеда состоялось нечто вроде встречи. Говорили опекуны «дома покоя», говорил директор, говорила я. Все мы были взволнованы. Это волнение перешло в гнетущее, давящее чувство, когда старая женщина с высохшим, острым лицом резким, дребезжащим голосом запела «Крунка». А потом поднялся трясущийся худой старик. — У меня вопрос, — сказал он. — В Армении есть яблоки? Я не знала, плакать мне или смеяться. — Есть, отец, конечно, есть. — У меня еще вопрос. Ты на чем прилетела в Америку? На «МИГе»? Это был один из тех случаев, когда ложь называют святой. — Да, отец, на «МИГе», на чем я еще могла прилететь? Старик сел, успокоенный тем, что в Армении есть яблоки и что я прилетела оттуда на «МИГе» — самолете, созданном армянином. Кто знает, в каких глубинах мозга сохранились эти «яблоки» и этот «МИГ», с каких времен, из каких источников информации… И вдруг теперь неожиданно всплыли, смешно соединенные, до слез смешно соединенные. В «доме покоя» Нью-Джерси я долго стояла в комнате № 23 на первом этаже. Стояла безмолвно, с тяжестью и душе: здесь провела последние годы своей жизни видная писательница Заруи Галамкерян. В маленькой, с бело-холодными стенами комнате высокая по-больничному кровать, рядом низенькая тумбочка, настольная лампа. Из окна видны замкнутый колодец двора и какое-то неприглядное строение. Ни неба, ни горизонта. На двери мемориальная доска, а рядом другая, поменьше, — упоминание о том, что комната эта обставлена на пожертвования дочери и зятя Заруи Галамкерян. Пока директор, захлебываясь, рассказывал о щедрости зятя-миллионера, я с болью думала: неужели здесь должна была кончать свою долгую жизнь эта талантливая женщина, «последняя из могикан» в блестящей плеяде западно-армянских писателей? «Когда пойдешь за молоком, мама, в следующий раз, не забудь деньги за то давнее молоко… Да, не забудь!..» Нет, даже казной всего мира не расплатится сын с матерью, не погасит свой долг за материнское молоко. Этот долг можно погасить только сыновней любовью, только взаимным человеческим теплом.17 мая, Егвард
В июле 1941 года в газете «Известия» был опубликован очерк «Сын Армении» писателя Геннадия Фиша, в те годы военного корреспондента этой газеты на Карельском фронте. Младший сержант артиллерист Саркис Казарьян, в мирное время артист ансамбля песни и пляски Армении, в те первые месяцы войны сражался в лесах Карелии, под Суистамо. Белофинны наседали на батарею со всех сторон, подошли уже совсем близко. Из всего расчета остался в живых только Казарьян. Он сам подносил, сам заряжал, сам наводил, сам давал команду «огонь». Враги были уже совсем рядом. Казарьян отлично видел их серовато-синие тужурки. Он зарядил орудие последним снарядом. Затем нагнулся и, вырвав вместе с черничными кустиками кусок дерна, бросил его в жерло орудия. Копнув саперной лопаткой, подбросил туда еще немного земли, затем дернул за шнур. Раздался последний выстрел. Ствол орудия был испорчен. И вдруг тут же, на площадке около орудия, Казарьян стал плясать, выкрикивая слова родной армянской песни, а когда враги были уже в нескольких шагах от него, метнул гранату, которая унесла с собой и жизнь Казарьяна, прервав песню на полуслове. История подвига Саркиса Казарьяна стала впоследствии темой поэмы выдающегося нашего поэта Наири Зарьяна. Рассказом о Саркисе Казарьяне я и начала свое выступление во Фресно. Вчера в переполненном зале я видела, как несколько тысяч зрителей бурно аплодировали танцевальному ансамблю «Сардарабат». Когда здесь изо дня в день отступают язык, письмена, книги, даже песни, этот танец, страстный и гневный, все еще сопротивляется, удерживает, сплачивает. И впрямь, на всех этих обедах, встречах армянский был лишь на устах забившихся в углы стариков, он был лишь трепетным огоньком свечи, еле мерцавшим, незаметным под мощным сверканием люстр, все вокруг было американским — и нравы, и повадки, и в тумане, в дыму от сигарет и виски люди переговаривались и даже смеялись по-английски. Но достаточно было охрипшему джазу вдруг сменить свою «поп-музыку» на армянскую, как изогнувшиеся в твисте руки непроизвольно распрямлялись, неумело сплетались с другими руками и начинался круговой танец, который, может, был и не таким уж армянским, но считался им, преображал лица, глаза, осанку. Люди словно кружились вокруг священного огня, отгоняя злых духов. Видимо, под давлением времени почти во всех городах, где живут армяне в Америке, возникли танцевальные группы, среди которых самая профессиональная «Сардарабат», действующая под эгидой Благотворительного союза. В дни моего пребывания в Калифорнии «Сардарабат» выступал вместе с местным хором «Комитас». Любопытно было увидеть этого близнеца нашего ереванского алтуняновского ансамбля, рожденного и выросшего на здешней почве. Задник сцены оформлен был по мотивам мемориала— памятника Сардарабатской битве, где в мае 1918 года на подступах к Еревану были остановлены войска экспансионистов. Два каменных быка и колокольня, по замыслу автора, талантливого архитектора Рафаэля Исраэляна, символизируют упорство, твердость ополченцев, созванных в час опасности тревожным звоном колоколов. Мне показалось, что здесь, на сцене, этот замысел обрел иное звучание, об иной опасности предостерегали колокола. Иной смысл получил и памятник Давиду Са-сунскому. Стремительный всадник, который, с трудом сдерживая коня, остановился на скаку прямо в центре Фресно, «обармянил» город. Хоть и поднабравшийся за последнее время высотных зданий, гостиниц, универмагов, Фресно в большей своей части одноэтажен, утопает в садах. Когда поздно вечером ребята из «Сардарабата» с зурной, бубном и песнями вышли из клуба на улицу, стали танцевать, мне почудилось, что вокруг старые, тихие переулки Канакера или Аштарака, которые в день крестин или свадеб становятся единым домом, двором, улицей. Это был один из самых «армянских» вечеров за все мое четырехмесячное путешествие, и, наверное, так и должно было быть. Ведь Фресно — самый «армянский» город Америки, который, правда, несколько преобразился, но хранит еще отсветвоспоминаний, хранит дыхание Уильяма Сарояна. До моего номера в гостинице «Хилтон» тоже донеслось это тепло памяти: на столе, на подоконнике виноград, яблоки, груши, сушеные абрикосы — все из своих садов — с наивными, простосердечными записочками — приветами. В моей душе и приятные, милые отзвуки дней во Фресно, и необъяснимая горечь. Хотя там и живут сорок или сорок пять тысяч армян, хотя и действуют там культурные союзы, хотя и откроется скоро ежедневная школа, но пульс бьется не так четко и наполненно. Молодежь, большей частью говорящая по-английски, уезжает в Лос-Анджелес, перебирается туда и много семей. Газеты «Нор ор» и «Аспарез», основанные во Фресно, теперь также издаются в Лос-Анджелесе. Свидетелем прошлой живой жизни остается, как это ни странно, кладбище, которое неизвестно почему называется «Арарат». Может, потому, что на этом кладбище лежат павшие за Арарат, павшие на пути к нему — Андраник, Согомон Тейлерян?.. Андраник, снова Андраник! Покинув Армению в девятнадцатом году, в дни правления дашнаков, не признав их бездумной позиции, он скитался по свету, оскорбленный, разгневанный. И вот после всех этих бурь — Калифорния, плоские равнины, пресное безмятежье устоявшейся изо дня в день жизни. Как чуждо было все это тому, чей мятежный дух более полувека восставал против бесправия, чья воля и дар полководца вели за собой вои-нов-освободителей, сражавшихся в горах Сасуна и на балканских хребтах за свободу народов, веками томившихся в тисках тирании. А там, за океаном, росла, мужала новая Армения, его духовная опора, детище его мечты. В 1923 году, уже тяжело больной, он послал в дар Ереванскому музею свой меч, инкрустированный драгоценными камнями, который преподнесли ему армяне Египта. И написал: «Мой низкий поклон правительству Армении, строящей свою жизнь под сенью Арарата, моему народу — творцу и труженику, моим милым армянским сиротам». Очевидец так рассказывает о последних днях Андраника: «Он много говорил о родине, с восторгом и тоской описывал ее горы и ущелья, безоговорочно верил в ее будущее, часто рисовал себе возвращение в Армению, представлял, в каком городе будет жить, на сколько дней съездит в Эчмиадзин. Бесконечные разговоры и мечты, но вдруг начинались боли, теснило в груди, и от этих страданий, теряя надежду, говорил: «Ах, колет у меня в сердце, сильно колет, боюсь, что конец. А как не хочется умирать здесь…» Умер Андраник вдали не только от Армении, но и от своего дома в Фресно, в санатории, 31 августа 1927 года, на руках у своей жены Нвард. Похороны его во Фресно были воистину всенародные. …По улицам тихо движется похоронная процессия. В гробу Андраник в военном мундире со всеми регалиями. За гробом медленно идет конь, к седлу привязаны оружие и сапоги. За ним идут солдаты Андраника, его боевые товарищи, идут армяне Фресно. Пришли все — старики и дети, фермеры и рабочие, писатели, крестьяне, ремесленники. А над кладбищем «Арарат», над гробом, перед тем как опустили его в открытую могилу, самолет сделал круг и, снижаясь, бросил сверху цветы… Словно грустящий журавль — крунк — пересек моря и океан и принес цветы от всех тех, в сердцах которых слезы и благодарность перед этой великой памятью… Спустя годы прах Андраника перевезли в Париж, чтобы переправить дальше в Армению, но началась вторая мировая война, и французские армяне похоронили его на кладбище Пер-Лашез, поставили памятник. …На зеленой глади кладбища «Арарат» рядами лежат надгробные плиты — все одинаковые, белые небольшие мраморные прямоугольники. И среди этого белого однообразия взмывает вверх белый мраморный обелиск. Он — словно побелевший от гнева голос всех этих немых плит. Я кладу цветы у подножия этого памятника, на мраморе которого высечено: «Согомон Тейлерян»…18 мая, Егвард
Я в Бостоне. Открываю двери домика на одной из самых тихих, отдаленных от центра улиц. Вхожу в комнату. Сидящий глубоко в кресле старик сразу меняется в лице, отбрасывает с колен в сторону пушистый в темную клетку плед, приподнимается, пытается встать, протягивает мне обе руки. Мы обнимаемся. Это Шаган Натали, мой давний знакомый, о котором я писала в своих «Караванах». Он совсем уже старый, больной, но с тем же остро проницательным взглядом. Морщины съежили его лицо, волосы спутаны, растрепаны, как и его жизнь, как и его биография. Его биография!.. Любой человек, если он принадлежит к народу, испытавшему много бурь, особенно если этот народ малочислен, разделяет его биографию. Когда мутнеет небольшое озерцо, трудно отыскать даже у самого его краешка прозрачную воду. Вот и этот худощавый старик в нервах своих, в крови своей несет эту помутневшую биографию армянина. Впервые я увидела его в Ереване. Мы разговаривали с ним, стоя у гостиницы «Армения». Приехал он из Америки, но многие прохожие узнавали его и шептали друг другу: — Согомон Тейлерян?.. — Нет, это Шаган Натали. Родился Шагай в Западной Армении, в маленькой благодатной деревеньке Гусейник, губернии Харберд. Едва ему исполнилось одиннадцать, как начались султангамидовские погромы, жертвой которых пал его отец, деревенский священник. Вместе с матерью они вырыли могилу, с трудом дотащив тело отца, предали его земле. Сжимались от ярости бессильные кулачки одиннадцатилетнего мальчонки, и в сердце своем он принял священный обет: «Когда вырасту…» Он вырос. С ним росло и ширилось чувство мести. Кровь трехсот тысяч жертв султана Гамида смешалась с кровью полутора миллионов, погибших в 1915 году. К последнему вздоху отца присоединились стоны двух сестер, похищенных аскерами, и четырех зверски убитых братьев. В Шагане, поэте, влюбленном в тончайшую изысканность слова, день ото дня, час от часу разгорался всепожирающий огонь, который в своем лютом горне переплавил такие пласты его души, как поэтичность, доброта, романтика, в один затвердевший сплав, имя которому — возмездие… Напрасно неисправимые оптимисты полагали, что «христианская» Европа протянет руку древнему цивилизованному народу, над которым безжалостно занесли нож. Напрасно великие гуманисты Ромен Роллан, Карл Либкнехт, Фритьоф Нансен, Анри Барбюс, Джон Рид и многие другие со страниц газет, с кафедр университетов и парламентов требовали немедленного вмешательства. Напрасно разгневанный старец Анатоль Франс взывал из Сорбонны: «На Востоке умирает наша сестра. Умирает только потому, что она — сестра наша, чье преступление заключается в том, что она разделяла наши чувства, любила то, что любим мы, думала так, как думаем мы, верила в то, во что верим мы, и, подобно нам, ценила мудрость, справедливость, поэзию и искусство. Таково было ее неискупимое преступление». Другие были времена, и «любовь к мудрости, поэзии и искусству», как оказалось, не тот капитал, владея которым какой-либо народ мог бы стать акционером банковского общества, именуемого «Право и Справедливость»… Хозяева этого общества — империалистические державы, не только кайзеровская Германия, ставшая оплотом султанской Турции в проведении геноцида, но и такие «покровители» армян, как правящие круги Англии, Франции и Америки, в критические минуты забыли о своих обещаниях и не пошли далее хладнокровных дипломатических демаршей… «Память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX и начала XX веков, — пишет Максим Горький, — резню в Константинополе, Сасунскую резню, гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с которым они отнеслись к истреблению их «братьев во Христе», ужасы турецких нашествий последних лет, — трудно перечислить все трагедии, пережитые этим энергичным народом». Но была и трагедия трагедий. Хотя прогрессивные элементы в Турции устами Мустафы Кемаля осудили младотурок, ведущих страну к гибели, а военный трибунал приговорил Талаата и его сообщников к смерти, верная их союзница Германия любезно приютила палачей, создала все условия, чтобы под чужими именами они открывали магазины, кафе и богатели. И все это вместо того, чтобы виновников геноцида поставить перед международным судом и во всеуслышание потребовать возмездия… Столпы, на которых держались «Право и Справедливость», рухнули окончательно, придавив своей тяжестью и молодого поэта Шагана Натали. Он восстал против мира и бога. Вот несколько строк из вопля, раздавшегося из-под обломков этого столпа:Всемогущий владыка, Вездесущий, всевидящий боже, Где же был ты, великий, Когда стал край армянский похожим На геенну, на бойню?.. …К мщенью призванный кровью, мольбою, И слезами, и болью, Я стою сейчас пред тобою, О судья справедливый, Пока память моя не остыла… Где ты был, молчаливый? От сирот, справедливости ждущих, Я взываю к тебе, О всевидящий, всемогущий. Я обязан понять: Ты — палач или жертва, о боже?.. Ставший молитвой, Народ мой почти уничтожен… Адом стала земля, Небо — пусто: где божья десница?.. Вера — в прахе моя: Как молиться? Кому мне молиться?[32]
И поэт, отвернувшийся от бога и людей, взывает к одной только богине — Немезиде… К его зову присоединяются и другие молодые, с той же судьбой, парни из Ерзинка, Карина, Багеша, из других опустошенных и разоренных губерний — сироты, чудом спасшиеся. Один из них, Согомон Тейлерян, застреливший Тала-ата на берлинской улице, был арестован. Второго и третьего июня 1921 года состоялся процесс над ним. Раздвинулись стены областного суда в Берлине, и со дна Евфрата, из пустынь Месопотамии, из-под камней и пепла восстали и заполонили зал тысячи и тысячи теней, заняли кафедру прокурора, и на скамью подсудимых усадили тех, которые три года убивали, терзали, сжигали. А исхудалый, со сжатыми губами юноша превратился в обвинителя. Глядя на него, старик адвокат сказал: «Перед вами мститель за миллион убитых, за целый народ, перед вами обвиняемый в убийстве убийцы этого народа. Это представитель духа справедливости против принципа насилия, человечности против нечеловечности. Он выступил от имени миллиона убитых, против одного, того, кто вместе с другими грешен в этом злодеянии. И сейчас вы, господа присяжные, должны решить, что произошло в его душе и сознании в момент свершения убийства. Имейте в виду — око человечества устремлено на вас… Это око Справедливости». Нет, это не был Нюрнбергский процесс, вызванный к жизни карающей десницей народов мира, а лишь приговор, вынесенный мстительной пулей юноши. Несмотря на сдержанное недоброжелательство германских официальных кругов на призывы прокурора защитить честь и права союзнической Турции, на инсинуации подкупленных журналистов, все же прорвалась, открылась людям неопровержимая истина. И шестнадцать присяжных — каменщик, слесарь, маляр, почтовый служащий — народным чутьем своим поняли, где правда, и, удалившись на час, вернулись в зал суда с приговором: «Виновен ли обвиняемый Согомон Тейлерян в преднамеренном убийстве Та-лаага-паши 15 марта 1921 года в Шарлоттенбурге? Нет». — Когда я приехал в Армению, — говорит мне Шаган Натали, — я словно увидел ее глазами всех тех, кто был когда-то рядом со мной… Я увидел Ереван, увидел воскресшую из пепла родину вместо развалин Ерзинка и Вана. С сердцем, омытым радостью, позабыв о грузе лет, я, как мальчик, взбежал вверх по улице Абовяна, дошел до университета — и ноги словно к земле приросли. Из дверей выходили юноши, девушки, говорили по-армянски и, смеясь, проходили мимо. А я не мог сдвинуться с места, мне казалось, что все это во сне, в сладостном сне. Я должен снова взяться за перо, отброшенное в ярости многие годы назад, чтобы пересказать миру эту эпопею воскрешения… Слушаю Шагана Натали, и мне кажется — с каждой минутой распутывается жёсткий клубок морщин на его лице, а закаленный в лютом горне, затвердевший сплав расслаивается, и в душе его оживают вновь поэтичность, романтика, доброта… Шагану Натали уже под девяносто. Ноги не подчиняются ему, подчиняются руки. Все еще пишет. Вокруг него кипы книг, бумаги, рукописи, письма — пожелтевшая, сухая солома от зеленого разнотравья минувших лет. А сколько еще осталось в душе под снегом, какие горести и разочарования… — С Дашнакцутюном у меня все порвано. С того самого дня, когда я узнал, что они вкупе с наследниками Талаата считают своим врагом Советскую Россию. Я восстал тогда против них, покончил с ними. Он показывает мне толстую рукопись, в которой удивительно четким, ровным почерком занесена его долгая, неровная, вся в ухабах, жизнь. При прощании глаза старика затуманились, голос прерывается. — Доброго пути тебе… А я уж больше не увижу Армению, Ереван, друзей… Как это случилось с Паруйром Севаком? Как рано, как бессмысленно рано ушел он от нас… Когда вернешься, поклонись от меня его могиле. На улице уже сумерки, дождливые сумерки. По булыжной, сбегающей вниз улочке текут ручейки, грустно и пустынно вокруг. Когда наша машина сорвалась с места, я последний раз оглянулась. на этот маленький домик. Там, в том домике, в глубоком кресле, с пушистым клетчатым пледом на коленях, остался дорогой мне человек, которого, я знаю, видела последний раз. В одном месте — дорогие люди, в другом — дорогие могилы, в третьем — дорогие воспоминания; все они разбросаны, рассеяны, все ждут тебя, входят в твое сердце, требуют от него свою частицу… До чего же разветвлены, до чего неохватны меридианы нашей души!
19 мая, Егвард
Во время своей поездки я почти во всех городах встречалась с васпураканцами — выходцами из трех мест, где жили мои родители, земляками из Вана, где родилась бы и я, если бы… В те годы самым густонаселенным городом Армении был Ван — первая столица древнего Урартского государства, называвшаяся тогда Тушпа — Тосп. В сентябре 1914 года по специальному указу из Стамбула праздновалось четырехсотлетие с того дня, как османская Турция захватила Ван. Но даже в те мрачные столетия османского господства Ван и его губерния — Васпураканский край — сумели сохранить свое национальное лицо. В Васпуракане прочнее, чем в других местах, армяне привязались к земле, сажали сады, сеяли пшеницу, разводили пчел. Слава знаменитых ювелиров Вана докатилась до Петербурга, Парижа, Лондона, доплыла до Америки. Еще в семидесятых годах прошлого столетия настоятель Варагского монастыря Хримян Айрик открыл школу, типографию и стал издавать журнал «Арцив Васпу-ракани» («Орел Васпуракана»), страницы которого были той первой бороздой, где пустило ростки зарождающееся национально-освободительное движение. Ван стал центром армянской общественной деятельности. Вот почему он находился под неусыпным надзором властей. Там строили тюрьмы и казармы, время от времени «профилактически» устраивали погромы. …Началась первая мировая война. Турция включилась в блок против России. И так как армянские земли находились под владычеством двух противоборствующих государств — Турции и России, на фронтах лицом к лицу столкнулись «русские» армяне и «турецкие». Это вдвойне осложнило ситуацию. Правительство Турции предъявило армянам требование: помимо общей мобилизации создать добровольные отряды и бросить их против русских. Армяне же, которые связывали с Россией надежду на свое освобождение, не пошли на это. Младотурки заклеймили их «предателями» и под этим предлогом начали осуществление своей давнишней программы геноцида. Хитро, тщательно продуманная механика уничтожения предотвращала любые попытки сопротивления. Однако, невзирая на все уловки, там, где была хоть малейшая возможность, люди вставали против врага, обороняя свою жизнь и достоинство. Так было в Муса-Даге, Шапин-Гараисаре, Шатахе, Урфе, Ачне и прежде всего в Ване, где события развернулись раньше, чем всюду, так как город находился невдалеке от русской границы. Кольцо крови и пламени постепенно сжималось вокруг Вана. С центром мятежного духа власти решили рассчитаться как можно быстрее, в течение суток: могут подоспеть русские. Губернатор Вана Джевдет, вероломный и жестокий, уже исподволь пополнил казармы солдатами, затребовав их с фронта. В те же дни, чтобы окончательно сломить сопротивление, он приказал всем мужчинам в городе от восемнадцати до пятидесяти лет явиться в губернаторство и как фортификационных рабочих призвал в армию. Вожаки ванцев хотя и догадывались о подоплеке этого приказа, но все же еще надеясь — авось удастся «кончить миром», — поставили Джевдету пять сотен молодых людей. Ясность наступила во всей ее безнадежности, когда Джевдет пригласил к себе двух виднейших общеизвестных деятелей Вана и со свойственным ему коварством повернул дело так, что домой они уже не вернулись… Те самые, кому за два дня до этого он же нанес «пасхальный» визит и заверил, что все конфликты уладятся… Скорбь, страх и ярость охватили людей. Город в те дни напоминал вулкан, который вот-вот извергнется, уже несколько дней, как прервана была связь между двумя районами Вана — Центром и Айгестаном. Турецкие кварталы, расположенные между ними, забиты были аскерами. Армяне тоже заняли оборонительные позиции. Седьмого апреля на рассвете несколько крестьянок из деревни Шушанц случайно проходили мимо укреплений. Аскеры бросились на них и поволокли к себе. Увидевшие это из своих окопов двое армян двинулись на выручку женщинам и тут же были скошены пулей. Так началась Ванская эпопея. Это столкновение на окраине города, среди проснувшихся апрельских садов, жаждущих солнца виноградников, как бы символизировало противостояние двух неравных сил — злой воли деспотизма и такого естественного человеческого стремления защитить свой очаг, свой клочок земли, свою честь, своих детей. О том, что эта отчаянная борьба за жизнь была лишь вынужденным ответом на угрозу истребления, что армяне изо всех сил пытались предотвратить бессмысленное кровопролитие между соседями, которых вскормила и вспоила одна и та же земля, красноречиво свидетельствует воззвание, направленное в те дни турецкому населению Вана. В нем сказано:
«Турецким соотечественникам!
Кровожадный властолюбец Джевдет, ввергнув нас в бедствия войны и пролив кровь почти десяти тысяч наших солдат, тщится сегодня это злодеяние залить кровью ванцев. Но, по его же словам, он здесь только гость и «владеет лишь одним конем». В роковую минуту, залив нашу землю кровью, он оседлает коня и ускачет прочь. Чтобы срубить ветку дерева, он подрубает его под корень. Одна из веток этого дерева — вы. Упадет дерево — упадут все ветки. Если вы примете участие в этой нечестной войне, вы поможете тому, чтобы между двумя нациями разверзлась пропасть. Скажите Джевдет-бею, что правительство может быть свергнуто, но народы, населяющие эту землю, останутся. Скажите, что он приезжий. А мы всегда жили и должны жить здесь. Требуйте, чтобы он покинул нашу губернию, снял оборону и немедленно приостановил действия. В противном случае будет поздно…»
Это воззвание всевозможными путями доставили в турецкие кварталы. Однако так велик был страх перед Джевдетом и так густ дурман гашиша магометанских проповедников, что робкие проявления сочувствия некоторых турецких семей не смогли изменить предопределенный ход событий.
Тридцать дней непрестанно громыхали орудия, рвались снаряды, обрушивая свою смертоносную начинку не только на окопы, но и на мирные дома и сады, на женщин и детей. Тридцать дней непрестанно сражался Ван, сражался всем, что имел под рукой, — винтовками, охотничьими ружьями, пистолетами, бомбами-самоделками, камнем, кирпичом, кулаками, спасительной смекалкой, — сражался школьным оркестром «Фанфар», гимном «Наша родина», круговым воинским танцем, преодолевающим страх.
Город, наполненный ранее жужжанием пчел и шелестом листьев, грохотал от взрывов бомб и треска пожаров. Плотные стены домов продырявились, хрупкие глиняные ограды садов закаменели, дом и сад хозяина-садовода стали боевыми бастионами. И бастионы эти носили имена своих хозяев — бастион штукатура Маргара, дубильщика Геро, кузнеца Мено, пекаря Хачика и многих других мастеров мирных, безобидных дел. Прославленные ювелиры Вана собрались под одной крышей и руками, привычными к изощренной тонкости своего ремесла, наполняли порохом пустые гильзы, собранные на поле боя. Женщины и девушки приносили бойцам воду и еду, а юноши стали «живыми телефонами» и, перебегая от позиции к позиции, от бастиона к бастиону, передавали сообщения военного штаба. Молчаливые жилистые крестьяне днем и ночью рыли сапы и дошли до вражеских позиций.
Один за другим от невидимой руки взлетали в воздух объятые пламенем английское консульство, битком набитое аскерами, жандармские участки, казармы, вражеские огневые точки. Четырнадцатилетний мальчонка, обмотавшись пропитанным в керосине одеялом, под градом пуль добежал до французского консульства, у дверей его поджег одеяло, а сам удрал. Застигнутые врасплох аскеры в панике бросились из окон последнего этажа. Оставшихся в живых догоняли пули ванцев. Бывалый солдат, участник балканских войн, известный под именем болгарина Григора, благодаря изобретательности которого были взорваны многие укрепления врага, изыскивал способы соорудить свою пушку. И вот однажды с оборонительных позиций повстанцев раздался долгожданный голос этого наконец-то рожденного детища, призванного соперничать со спесивыми питомцами Круппа.
Ярость Джевдета не знала пределов. Отовсюду ему подбрасывали войска и боеприпасы.
В конце апреля, чтобы сломить сопротивление Вана, противник прибег к неслыханному коварству. Повстанцы заметили, что аскеры вместо бомб посылают к их позициям армянских женщин, стариков и детей. Сотни и сотни привидений, отощавших, еле держащихся на ногах, приближались к окопам, приводя в отчаяние воинов-ван-цев. Это были жители соседних деревень, преданных огню и мечу, «пощаженные» Джевдетом для того, чтобы послать их в осажденный город и тем самым усилить там голод, исчерпать и без того скудные запасы еды. И ван-цы распахнули перед ними свои двери, поделились последним куском хлеба.
К концу апреля положение повстанцев еще более затруднилось. По нескольку раз в день заседал военный штаб. Единственным выходом была связь с русской армией. С первых же дней битвы на Кавказ отправили гонцов, но — ни звука, ни отклика.
И вдруг крестьянка, прибежавшая из соседней деревни, рассказала, что в турецких селах началась паника: «Русские идут! Русские!..»
Окрыленные этой вестью, ванны напрягли последние силы. Ожесточившийся враг всю ярость за поражение на фронте пытался обрушить на осажденный город. Но к вечеру третьего мая в Ване молниеносно распространилось: «Удирают!..»
Три дня подряд опьяненное счастьем население Вана праздновало победу. Это была победа народа, шестьсот лет страдающего от деспотии, взрыв мстительной ярости, накопленной веками. Словно из своего затворничества, из пещеры вблизи Вана, называемой воротами Мгера, вышел наконец мрачный сын Давида — Мгер Младший[33] — и дал волю сдерживаемому тысячелетием гневу. Но даже в те лихорадочные дни население Вана не подняло руки на безоружных пленных, стариков, женщин и детей, а передало их американским и немецким представительствам, где они и нашли приют до тех пор, пока не получен был приказ русским войскам покинуть Ван.
А до этой трагической минуты Вану суждено было испить полную чашу народного ликования. То были дни, когда русская армия вместе с армянскими добровольцами вошла в город.
Еще на подступах к нему все население, шестьдесят тысяч человек — бойцы, командиры, мастеровые, садоводы, женщины, дети, старики, — все до одного выстроились на дороге. А когда на ней показались солдаты, светловолосые, светлоглазые русские солдаты, которых тут ждали веками, к ним потянулись тысячи рук: «Керы екав! Керы!» — «Дядя пришел! Дядя!» — так в просторечье здесь издревле называли русских. Знакомые и незнакомые обнимали, целовали друг друга, шептали вслед идущим строем слова молитв и благословения. Незабудки, скромные голубенькие цветочки, первый привет ван-ской весны, устлали плотным слоем весь их путь в город. Ликовал неугомонный «Фанфар». На улицах, в садах, на дорогах звучали священные строки Налбандяна:
О том, что эта отчаянная борьба за жизнь была лишь вынужденным ответом на угрозу истребления, что армяне изо всех сил пытались предотвратить бессмысленное кровопролитие между соседями, которых вскормила и вспоила одна и та же земля, красноречиво свидетельствует воззвание, направленное в те дни турецкому населению Вана. В нем сказано:
«Турецким соотечественникам!
Кровожадный властолюбец Джевдет, ввергнув нас в бедствия войны и пролив кровь почти десяти тысяч наших солдат, тщится сегодня это злодеяние залить кровью ванцев. Но, по его же словам, он здесь только гость и «владеет лишь одним конем». В роковую минуту, залив нашу землю кровью, он оседлает коня и ускачет прочь. Чтобы срубить ветку дерева, он подрубает его под корень. Одна из веток этого дерева — вы. Упадет дерево — упадут все ветки. Если вы примете участие в этой нечестной войне, вы поможете тому, чтобы между двумя нациями разверзлась пропасть. Скажите Джевдет-бею, что правительство может быть свергнуто, но народы, населяющие эту землю, останутся. Скажите, что он приезжий. А мы всегда жили и должны жить здесь. Требуйте, чтобы он покинул нашу губернию, снял оборону и немедленно приостановил действия. В противном случае будет поздно…»
Это воззвание всевозможными путями доставили в турецкие кварталы. Однако так велик был страх перед Джевдетом и так густ дурман гашиша магометанских проповедников, что робкие проявления сочувствия некоторых турецких семей не смогли изменить предопределенный ход событий.
Тридцать дней непрестанно громыхали орудия, рвались снаряды, обрушивая свою смертоносную начинку не только на окопы, но и на мирные дома и сады, на женщин и детей. Тридцать дней непрестанно сражался Ван, сражался всем, что имел под рукой, — винтовками, охотничьими ружьями, пистолетами, бомбами-самоделками, камнем, кирпичом, кулаками, спасительной смекалкой, — сражался школьным оркестром «Фанфар», гимном «Наша родина», круговым воинским танцем, преодолевающим страх.
Город, наполненный ранее жужжанием пчел и шелестом листьев, грохотал от взрывов бомб и треска пожаров. Плотные стены домов продырявились, хрупкие глиняные ограды садов закаменели, дом и сад хозяина-садовода стали боевыми бастионами. И бастионы эти носили имена своих хозяев — бастион штукатура Маргара, дубильщика Геро, кузнеца Мено, пекаря Хачика и многих других мастеров мирных, безобидных дел. Прославленные ювелиры Вана собрались под одной крышей и руками, привычными к изощренной тонкости своего ремесла, наполняли порохом пустые гильзы, собранные на поле боя. Женщины и девушки приносили бойцам воду и еду, а юноши стали «живыми телефонами» и, перебегая от позиции к позиции, от бастиона к бастиону, передавали сообщения военного штаба. Молчаливые жилистые крестьяне днем и ночью рыли сапы и дошли до вражеских позиций.
Один за другим от невидимой руки взлетали в воздух объятые пламенем английское консульство, битком набитое аскерами, жандармские участки, казармы, вражеские огневые точки. Четырнадцатилетний мальчонка, обмотавшись пропитанным в керосине одеялом, под градом пуль добежал до французского консульства, у дверей его поджег одеяло, а сам удрал. Застигнутые врасплох аскеры в панике бросились из окон последнего этажа. Оставшихся в живых догоняли пули ванцев. Бывалый солдат, участник балканских войн, известный под именем болгарина Григора, благодаря изобретательности которого были взорваны многие укрепления врага, изыскивал способы соорудить свою пушку. И вот однажды с оборонительных позиций повстанцев раздался долгожданный голос этого наконец-то рожденного детища, призванного соперничать со спесивыми питомцами Круппа.
Ярость Джевдета не знала пределов. Отовсюду ему подбрасывали войска и боеприпасы.
В конце апреля, чтобы сломить сопротивление Вана, противник прибег к неслыханному коварству. Повстанцы заметили, что аскеры вместо бомб посылают к их позициям армянских женщин, стариков и детей. Сотни и сотни привидений, отощавших, еле держащихся на ногах, приближались к окопам, приводя в отчаяние воинов-ван-цев. Это были жители соседних деревень, преданных огню и мечу, «пощаженные» Джевдетом для того, чтобы послать их в осажденный город и тем самым усилить там голод, исчерпать и без того скудные запасы еды. И ван-цы распахнули перед ними свои двери, поделились последним куском хлеба.
К концу апреля положение повстанцев еще более затруднилось. По нескольку раз в день заседал военный штаб. Единственным выходом была связь с русской армией. С первых же дней битвы на Кавказ отправили гонцов, но — ни звука, ни отклика.
И вдруг крестьянка, прибежавшая из соседней деревни, рассказала, что в турецких селах началась паника: «Русские идут! Русские!..»
Окрыленные этой вестью, ванны напрягли последние силы. Ожесточившийся враг всю ярость за поражение на фронте пытался обрушить на осажденный город. Но к вечеру третьего мая в Ване молниеносно распространилось: «Удирают!..»
Три дня подряд опьяненное счастьем население Вана праздновало победу. Это была победа народа, шестьсот лет страдающего от деспотии, взрыв мстительной ярости, накопленной веками. Словно из своего затворничества, из пещеры вблизи Вана, называемой воротами Мгера, вышел наконец мрачный сын Давида — Мгер Младший[33] — и дал волю сдерживаемому тысячелетием гневу. Но даже в те лихорадочные дни население Вана не подняло руки на безоружных пленных, стариков, женщин и детей, а передало их американским и немецким представительствам, где они и нашли приют до тех пор, пока не получен был приказ русским войскам покинуть Ван.
А до этой трагической минуты Вану суждено было испить полную чашу народного ликования. То были дни, когда русская армия вместе с армянскими добровольцами вошла в город.
Еще на подступах к нему все население, шестьдесят тысяч человек — бойцы, командиры, мастеровые, садоводы, женщины, дети, старики, — все до одного выстроились на дороге. А когда на ней показались солдаты, светловолосые, светлоглазые русские солдаты, которых тут ждали веками, к ним потянулись тысячи рук: «Керы екав! Керы!» — «Дядя пришел! Дядя!» — так в просторечье здесь издревле называли русских. Знакомые и незнакомые обнимали, целовали друг друга, шептали вслед идущим строем слова молитв и благословения. Незабудки, скромные голубенькие цветочки, первый привет ван-ской весны, устлали плотным слоем весь их путь в город. Ликовал неугомонный «Фанфар». На улицах, в садах, на дорогах звучали священные строки Налбандяна:
Растоптана лихим врагом, Глумящимся над честью, Шлет родина сынов на бой Во имя гневной мести. Бездольная! Немало лет В окопах, как в темнице, Но волей смелых сыновей Она освободится[34].
Было это все в середине мая 1915 года, и счастливые ванцы еще не ведали, что совсем недалеко от них, из Битлиса, Муша, Эрзрума, Карина, уже двигались навстречу смерти караваны беженцев, не ведали, что очень скоро родина «освободится»… нет, не от оков, а от смелых сыновей своих, окропивших потом и кровью исконную каменистую землю. Не знали, что изменчивая фортуна войны лишь ненадолго улыбнулась им, что русские войска будут вынуждены отступить, уйти, а вместе с ними уйдет и народ Васпуракана, оставив свой Ван, свои сады и селения, свои угодья, свое синеглазое озеро и гордость веков — Ахтамарский монастырь. И вот сейчас, увы, так развеяны по миру ванцы! Если раньше соседям, чтобы встретиться друг с другом, достаточно было перепрыгнуть через тын или, неторопливо перебирая четки, дойти до околицы, а уж в крайнем случае на лошади доскакать до ближней деревушки, то теперь эти люди, чтобы повидаться, плывут на кораблях, на самолетах перелетают океан, с одного полушария добираются до другого…
20 мая, Егвард
Первого своего земляка из Вана на Западном полушарии я встретила в нью-йоркском аэропорту. Это был Тачат Терлемезян. Миновав неизвестно как все препоны в аэропорту, он бросился ко мне прямо почти у трапа, подхватил мои сумки, и мы двинулись к выходу. Трудно было поверить, что у этого бодро рассекающего аэровокзальную сутолоку человека за спиной восемьдесят пять долгих, трудно тянущихся лет. — Я обязательно тебя отвезу в Ван. Не удивляйся, именно в Ван. Вот увидишь, — В голосе старика и хвастливость, и какая-то горечь. На следующий день он заехал за мной, и мы отправились в путь. Проезжаем небольшой поселок Валдвиг в штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, и останавливаемся. Тачат Терлемезян в начале двадцатых годов эмигрировал в Америку, занялся там домостроительством, то есть покупал земельный участок, строил дом и продавал. Так, застроив целую улицу, он назвал ее «Ван». Строил главным образом сам: сам копал, сам укладывал кирпичи, штукатурил, плотничал. — Вот, не веришь — посмотри на табличку, — постепенно вдохновляется мой спутник, — муниципалитет разрешил мне так назвать. И в самом деле на углу по-английски табличка гласит: «Vanstreet». Улица широкая, с домиками американского типа. Перед аккуратно одинаковыми особнячками аккуратно одинаковые палисадники, ровно подстриженные кустики. День выдался, как назло, дождливый, какой-то неуютный, сиротливый день… До чего же все это далеко от настоящего Вана…Душу бедную печет горячей огня. Из очей ручей течет, братец, у меня. У тебя коль есть беда, слезы лей со мной. Оросят они поля наши в летний зной. Мы оставили детей возле стылых очагов. Жен оставили своих в волчьем логове врагов. А ведь детям дали солнце, сами дали свет. Быть с женой своей до смерти дали мы обет[35].
Это одна из старинных песен Вана, песня изгнанников, сто лет тому назад покинувших родину из-за куска хлеба… Где найти слова, чтобы описать дождь и странную печаль этой чистенькой улицы «Ван» с благоустроенными домами, ухоженными садиками в поселке Валдвиг американского штата Нью-Джерси?.. После того, как в самом начале двадцатых годов часть беженцев из Вана оказалась в Америке, там образовался «Васпураканский союз земляков», во главе которого стояли в основном продашнакски настроенные люди. Вскоре этот союз распался. Друзья Советкой Армении объединились в землячестве «Васпуракан», а дашнаки сохранили прежнее название «Васпураканский союз земляков», членом которого и был старик Терлемезян. Но проходят годы, наступают новые времена, меняются люди. И вот я вспоминаю первый приезд Тачата Терлемезяна в Армению. Он был в молодости другом моего отца и в первую же минуту нашего знакомства в Комитете связи с зарубежными армянами сказал, что обязательно хочет встретиться с моей матерью. Этот восьмидесятилетний тогда человек, казалось, от радости свидания с родиной снова стал юношей. Даже не нужно было задавать ему привычный вопрос: «Как вам у нас?» Однако моя мама, которая порой становится более католиком, чем сам римский папа, не вытерпела: — Ну что, понравилась тебе наша Армения или не по душе пришлась? — Даже не говори! Хожу по ереванским улицам, — ничего не узнаю… Только улица Абовяна похожа немного на ту, какой была… Кажется, дом, где жили вы с Барунаком, еще существует, так это? Как сегодня, помню рождение Сильвы. Бедный Барунак, не дожил, не увидел ни дочку, ни эту Армению… Терлемезян вернулся в Америку другим человеком. «С юности я посвятил себя своему народу. Очень горжусь, что наконец-то на карте мира есть Армения, — писал он мне вскоре. — Здесь невежды окрестили меня коммунистом. Пусть, я готов считаться кем угодно, лишь бы Армения жила и преуспевала. Я увидел у вас засеянные поля, трубы, проложенные по склонам гор для орошения; увидел машины, которые дробят камни, чтобы освободить землю, видел солончаки Араратской долины, превращенные в почву. Видел расцвет нашей родины, ее рабочих, ее людей, их радость. Всем этим охвачена моя душа, и я постоянно об этом говорю. Кое-кто сомневается в моей искренности: не привирает ли чего этот старый дашнак?» Здоровый народный инстинкт в строках письма. Инстинкт, который поборол, сокрушил «прокрустово ложе» партийных предрассудков и привел к иной убежденности. Более восьмидесяти лет шагающий по свету Тачат Терлемезян пешком пересек ухабы и кручи судьбы своего народа и, все уже познав в жизни, отчетливо понял, какая тропа куда ведет. Таким бурным было волнение старика, что после приезда из Армении оно стихийно передалось людям, разделявшим его судьбу, но, конечно, тем из них, кто был настроен подключиться к той же душевной волне. — После возвращения из Еревана, — говорит мне Тачат Терлемезян, когда мы медленно проходим вдоль домов на улице «Ван», — я сказал своим друзьям из «Васпуракана»: «Арабкирцы, мусалерцы, харбертцы — все они, их землячества, участвуют в жизни родины… А мы?.. Почему «Васпуракан» должен остаться не причастным к этому?» И вот мы создали уже комиссию по сооружению памятника в Ереване, посвященного героической Васпураканской битве. Конечно, отдельные лица противятся, но я надеюсь, что успех будет за нами. В первые годы эмиграции у меня была лишь одна мечта: вернуться в Ван. От большой мечты осталась лишь эта маленькая улочка… Когда я увидел Армению, я воспрянул, но мучает меня одно: вот этими руками строителя ни одного камня я не положил в здание родины. Мне уже за восемьдесят пять, уже поздно мечтать, и все же я, неугомонный, хочу увидеть этот наш памятник, а потом — пожалуйста, можно и помирать. Как ты думаешь, разрешат мне в день, когда будут закладывать его, быть там, в Ереване, и хоть разок лопатой копнуть землю?..
23 мая, Ереван
Вчера я приехала в Ереван. В Академии наук был вечер, где я рассказывала о своей поездке по Канаде и Америке. А сегодня встреча в 37-й школе. Уже с утра начались мои обычные ереванские будни. Позвонили и пришли Анджелла Кюркчян и Адринэ Ашчян. Обе репатриантки. Анджелла преподает в пединституте имени Хачатура Абовяна, вторая — школьная учительница. Степенно, преисполненные значительности порученного им дела, они рассказывают о том, что необходимо составить учебник для третьего класса зарубежных армянских школ и они хотят, чтоб учебник этот был самым лучшим из того, что уже есть, чтобы материалы соответствовали запросам школ в спюрке, не были прямыми, лобовыми, а высокохудожественными, чтоб язык был ясен, чист, доступен, чтобы… — Не слишком ли высоко замахнулись? — улыбаюсь я. — А почему же не замахнуться? — серьезно отвечают мои собеседницы — Посланный отсюда учебник должен быть именно таким. И более того — мы хотим, чтобы все материалы были опубликованы в нем впервые. — Но это уже невозможно. Все впервые? — усомнилась я. — Мы хотим невозможное сделать возможным… Ну, хотя бы вы, неужели откажетесь для этого учебника написать три-четыре стихотворения. — Три-четыре?.. Если смогу хотя бы одно, буду счастлива. — Должны написать, это же для детей спюрка… — Да, но… Никакие возражения в расчет не идут, столько непреклонной убежденности в голосе, такая «психическая атака», что я пообещала. Все, что смогу, сделаю. — Мы хотим, чтоб одно было об армянском языке, другое — о родине, третье — о… — Одним словом, «концерт по заявкам», — сказала я уже с легким раздражением и сразу пожалела. Хорошо ведь, когда люди так ревностно относятся к своему делу, которое, собственно говоря, не только их, а и наше общее. — Тикин Сильва, эти ваши стихи до выхода в свет нашего учебника не должны быть напечатаны ни в газете, ни в журнале, — прощаясь, предъявили мне последний параграф своего ультиматума мои «заказчицы»… Только закрыла за ними дверь — в телефонной трубке знакомый ленинаканский акцент. — А, товарищ Габриелян! — обрадовалась я. — Что это сегодня все словно сговорились? Только что приняла еще заказ. Ваш?.. Уже готов, но вот остался в Егварде. Если можете, поедем завтра вместе туда, и я вам торжественно вручу под взглядом горы Ара. Так, значит, завтра. Еще голос в трубке — западноармянский язык. — Я родственница доктора Амбарцума Келекяна, приехала из Буэнос-Айреса. Адринэ Безезян. Кроме того, невестка ванца… Должна вам вручить от доктора письмецо. Когда могу вас увидеть?.. Я растерялась. Через тридцать — сорок минут встреча в школе, а на завтра только что сговорилась ехать в Егвард. — Очень рада, что вы родственница доктора Келекяна и тем более что невестка ванца, — словом, землячка. Я тоже очень хотела бы вас увидеть, но… Сегодня у меня встреча в школе, не хотите ли со мной поехать? Думаю, что вам будет интересно. — Конечно, с удовольствием… Я была очень довольна, что нашла выход, что, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Вскоре выяснилось, однако, что с овцами не так уж все в порядке… Когда машина, выехав из города и поплутав по небольно приглядным окраинам, остановилась у обшарпанного одноэтажного здания и выяснилось, что именно это невзрачное помещение и есть школа № 37, я вспомнила поговорку: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Кто тянул меня за язык пригласить сюда эту даму из Буэнос-Айреса? Теперь она вообразит, что все школы у нас такие. Я объясняю гостье, что этот район возник на базе Канакерской гидроэлектростанции, что дома для ее строителей временные. И школа тоже… Но вот мы вошли в зал, утренник начался, и все пошло своим ходом. Маленький зал был таким бурным, слова приветствия такими теплыми и сердечными, чтение стихов, песни, танцы такими разнообразными и воодушевленными, что я, Понаторевшая на всевозможных встречах и вечерах, искренне растрогалась. А тикин Адринэ встала и сказала, что тоже хочет выступить. Из тщательно подкрашенных глаз женщины текли слезы. — Дети, дорогие, счастливые вы, что живете у себя дома, что родная земля у вас под ногами, что знаете вы Армянский… На что нам те наши особняки в Буэнос-Айресе, когда наши дети — не наши… Были бы мои сыновья тут, среди вас, росли бы здесь… Среди читавших стихи мне особенно приглянулась десятиклассница Сусанна, белокожая, светловолосая, с Какой-то уже женской мягкостью в лице. — Знаете, она репатриантка, — сказала нам директор школы, — вернее, отец у нее репатриант, а мать местная. К концу утренника к нам подошла смуглая женщина с удивительно веселыми глазами на худощавом лице. — Я мать Сусанны, — поспешила представиться она, — Пожалуйста, пройдите в учительскую, прошу вас. — Вы здесь работаете? — Я не сомневалась в этом, судя по уверенно-хозяйскому тону женщины. — Нет, я просто мать Сусанны. Пойдемте, в учительской вас ждут. В учительской нас ожидал длинный стол с угощением. Я обрадовалась, что наша аргентинская гостья столь случайно угодила к такому застолью. Едва мы уселись, трое ребят из кружка аккордеонистов дали волю своим рукам и глоткам. Воздух заполнился песней, музыкой, веселым общим хором. Постепенно к деятельности рук и глоток присоединились танцующие ноги, и возникла та атмосфера, которая по праву называется айастанской и которую искусственно никак не создать. Этому веселью особую живость придавала мать Сусанны Седа, чья тонкая фигура все время мелькала среди танцующих. А танцевала она легко, словно оторвавшись от земли, как совсем молоденькая девушка. Выяснилось, что у нее пятеро детей, все хорошо учатся, один одареннее другого. Муж из Ливана, а сама Седа из села под Ленинаканом, оба рабочие инструментального завода. — Если зайдешь к ним домой, — наперебой рассказывали учителя, — будто ансамбль песни и пляски. Вся семья — отец, мать, пятеро детей — играют, поют… Можете по Седе судить. Вы не слышали про них? Это семья Чироглянов, часто выступают на олимпиадах. Седа подходит к тикин Безезян и приглашает ее к танцу. Аргентинка без всякого ломания встает, сидящие за столом хлопают, подначивают, музыканты убыстряют темп. Впечатление такое, будто на свадьбе настал наконец тот самый час, когда выходит плясать невеста» Но эта «невеста», увы, в танцах была не мастак. Двигала руками и ногами, поворачивалась то вправо, то влево, тщетно стараясь попасть в ногу с Седой. Перевожу взгляд на Седу — маленькую, пружинистую. Как естественно она срослась с этим миром, она сама этот мир, а ней его сила, его первородность. Так ли непринужденно, естественно чувствует себя тикин Безезян в своем комфортабельном буэнос-айресском особняке? — Зайдемте к нам хоть на минуточку, — горячо уговаривает Седа, когда мы уже выходим из школы. — Совсем рядышком живем, прямо под носом. — В другой раз, Седа-джан, в другой раз, — пожимаем мы ее крепкую руку и садимся в машину. Нет, все-таки хорошо, что я «выпустила воробья», что пригласила гостью сюда, внутренне ликую я. Увиденное здесь расскажет ей о том, что она вряд ли смогла бы разглядеть даже из самого широкого окна в туристском автобусе.24 мая, Егвард
Только что окончивший десятилетку юноша уехал в Ленинград, чтобы поступить там в институт, и поступил. Как-то однажды, садясь в трамвай, он поскользнулся и упал. В больнице, когда пришел в себя, понял, что ноги его остались под колесами трамвая… Если бы не было этой тяжкой истории, наверное, не было бы и нашей с ним встречи. И вот почему… Неделю назад мой приятель, артист Театра имени Сундукяна Александр Адамян позвонил мне и сказал, что друг его детства, профессор Грачия Габриелян написал работу о Севане для московского издательства, Ему хотелось, чтобы эпиграфом к ней были несколько моих стихотворных строк. — Александр, дорогой, ты забываешь, что я уже не в том возрасте, когда пишут по заказу, — сухо ответила я. — Сейчас так занята, что не выбрать часа даже для того, чтобы собрать и отдать в редакцию уже готовые стихи… Пусть кто-нибудь другой напишет. Не обижайся, но не могу. — Если узнаешь, что это за человек, ответишь иначе. — И Адамян рассказал историю, случившуюся в Ленинграде. Рассказал о том, что, несмотря на все это, друг его окончил институт, стал географом и пешком, да, да, пешком, прошел по горам и ущельям Армении, по всем историческим ее местам, путешествовал по миру, участвовал во многих международных конгрессах и симпозиумах, у него десятки научных трудов, что… — А жена, дети есть? — прерываю я. — Есть, конечно, есть. Жена тоже из Ленинакана. Они еще со школьной скамьи влюблены были. Когда все это произошло, родня девушки уперлась, не хотели, чтобы она связала свою жизнь с ним, но девушка настояла на своем. «Выйду за него» — и никаких. Сейчас уже у них четверо детей, чудесная семья, увидишь, убедишься… — Да, действительно, стоит увидеть. — Ну, Сильва-джан, скажу ему, значит, чтобы позвонил, и вы сговоритесь… — Дай номер, я сама позвоню. …Машину вел он сам, высокий, стройный, седеющие волосы спокойно уживались с мягкой бледностью лица. Машину вел уверенно, без напряжения, ни разу не прервав ход беседы. — Знаете, — улыбаюсь я, — когда первый раз вы предложили отвезти меня в Егвард, я струсила… Давно за рулем? — Больше десяти лет… Вначале было трудновато. Вначале все было трудно. Тебе восемнадцать лет, все вроде бы по силам, — и вдруг… Я хотел покончить с собой, покончить со страданиями и своими, и своих близких. Но жизнь победила. — Это вы победили жизнь… Правда, что пешком обошли всю Армению? — Такова моя профессия. Кроме того, я люблю ходить, или, как вы говорите, побеждать! Представьте себе, теперь, когда компанией отправляемся в какой-нибудь поход, многие на полпути отстают, жалуются на усталость… А мне все как бы нипочем, карабкаюсь на вершину Акрополя, на Альпийские горы, куда придется… — Так рассказываете обо всем, что может показаться, будто вам больше под силу, чем… — Лучше не меряться такой силой. Когда обо мне написали в «Огоньке», со всех концов Союза полетели письма, особенно от тех, которых постигла такая же участь. Просили рассказать, как я одолел, как свыкся с деревянными ногами… — И вы отвечали? — А как же мог не ответить? Надеюсь, что некоторым сумел помочь, поддержать их… Приезжаем в Егвард. Габриелян берет мои довольно увесистые сумки и поднимает на четвертый этаж… Я роюсь в бумагах, нахожу листок со стихотворением. — Прочла первую главу вашей работы, и вот, как говорят, муза посетила меня… Слушайте:И представить только: Время откатило Миллионолетья — Бездной поглотило. А Севан Севаном и не назывался, Светом наших душ он не наполнялся. И сиянье наших глаз в нем не растворялось. Сердце дрожью за него, Нет, не обрывалось И не билось в берега. Шли века. Шли века. Синь жила безнашей боли, Нашей радости и доли: Сколько капель — столько лет. Но поверьте слову: Нет такого, нет и нет! Не было такого![36]
Удивительная вещь, когда я читаю свои стихи перед многолюдной аудиторией, то совсем спокойна, а вот когда одному или в узком кругу — волнуюсь, будто впервые. Мое волнение передается ему. — Не знаю отчего, но когда вы читали, я вспомнил одну историю. В Ленинакане был ванский армянин по имени Сион. Препорядочнейший, честнейший человек, и, видимо, именно потому наши ленинаканские остряки, проказники, разыгрывали его, называли нарочно «жулик Сион». Однажды я встретил его на улице, а накануне читал книгу Линча об Армении, о Ване, — вы, конечно, знаете этого немецкого историографа? Как мне в голову пришло, не знаю, но я сказал: «Дядя Сион, знаешь, я вчера из Вана вернулся». Старик не поверил. Я стал с жаром рассказывать, что повидал и то, и это, и Варагский монастырь, и канал Семирамиды, и пещеру Мгера, ходил в сады Айгестана, попробовал яблоки Артамеда, ловил ванскую рыбу «тарех», — словом, выложил все, что помнил из Линча. Бедняга, наивный человек поверил, из глаз его потекли слезы… Мне стало совестно, что обманываю старика, но он был так растроган, что я не посмел сказать: «Дядя Сион, ни в каком Ване я вовсе не был…» Когда Габриелян рассказывал об этом, глаза его тоже увлажнились. — Ах, эти мои негодники земляки, почему такого святого человека называют «жуликом Сионом», ума не приложу… Ну, я поеду, не буду вам досаждать. Кончайте, быстрее кончайте вашу книгу, приходите к нам в гости. Покажу вам мои фильмы — природу Армении, древности, до которых редко кто добирается. Вскоре Габриелян уехал, я принялась за работу. Вынула из ящика письменного стола папку, на которой написано «Флорида». По плану следующие мои записи должны быть об этом субтропическом полуострове, но никак не могу оторваться от мыслей о Габриеляне. Выкладываю на стол письма, записки, проспекты, гостиничные этикетки и альбом с видами Флориды, цветными, блестящими, напечатанными на отменной бумаге… Сможет ли Габриелян издать свою книгу так, как он хочет: на хорошей бумаге, с фотографиями, такими, которые передают всю игру красок Севана? Он сказал, что у него шесть тысяч фотографий, как это он ухитрился столько наснимать?.. Вода, вода, вода. В океане — вода, вокруг полуострова — вода, в искусственных каналах, прорытых у домов, — вода. Она раскинулась, синяя, покойная, такая синяя и покойно-неподвижная, что кажется пластмассовой… Почему такой сердитый наш Севан, такой нервный? Может, оттого, что мал, а забот хоть отбавляй? Не знает, за что хвататься, потому и бьется о камни, мечется от берега к берегу… На побережье вдоль полуострова пески, мягкие белые пески, на песках смуглые тела, женщины с точеными ножками, здоровые мускулистые мужчины… Интересно, умеет ли Габриелян плавать? Да, конечно, умеет, он рассказывал, что каждый год с женой ездит на море, в этом году собираются в Болгарию… По краю пляжа выстроились пальмы, в ряд, прямые, одинаковые, как электростолбы, лениво повторяющие друг друга, ублаготворенные, сытые деревья… Эти бессовестные ветры не дают саженцам вздохнуть на берегу Севана. Так и остаются тощими, хилыми… На следующей странице альбома надменные, задравшие нос дома, белоснежные гостиницы, пансионаты, особняки самые разные, в густой зелени, с красноватыми черепичными крышами, перед особняками вырыты каналы, где дремотно покачиваются цветные моторки, покачиваются точно так, как их хозяева в сетчатых гамаках… Совсем старенькая машина у Габриеляна. Он подал заявление с просьбой продать ему новую, но ответ что-то задерживается…В уголке страницы вытянутая в длину каменная пристань, вонзающаяся в океан, рядом аккуратное нагромождение голубоватых валунов. Интересно, на корабле привезли, что ли, их? Ведь в этих краях камней и в помине нет… Аветик Исаакян как-то с горечью сказал: «В Армении столько камней, что она может обеспечить надгробиями всех мертвецов мира». Почему надгробия? Отправили бы туда несколько кораблей камня, обменяли бы на воду, на землю, на везучую природу. А этот окружающий амфитеатром маленькую бухту, спускающийся к морю стадион, забитый людьми в пестрых купальниках… Здесь уже им с нами не равняться, наш «Раздан» куда лучше. А люди… Чьи это болельщики, из-за кого замирают их сердца, есть у них свой «Арарат» или свой Тигран Петросян?.. Не знаю о футбольной команде, но Фишер у них есть. А есть ли у них то чувство, которое вбирает в себя все: камни, землю, поля, Севан, стадион, автомашину «Ераз», Матенадаран, Гегардский монастырь, то обволакивающее душу чувство, когда дышать — это не только вдыхать и выдыхать, а впитывать в сердце, в легкие воздух в таком его соединении, где слилась любовь, тоска, гордость, величие, боль, отрада… Я откладываю в сторону «Флориду» и снова перечитываю свои строки о Севане. Невольно переполнившие меня чувства диктуют изменить, расширить смысл стихотворения:
И представить только: Время откатило Миллионнолетья — Бездной поглотило. Некрещеный Айастан Айастаном не был. Незачатый наш язык спал под этим небом. Арарат, не освещенный светом, льющимся из нас. И не пала пелена на Севан из наших глаз. Камень, речка, шепот, крик И земля, гора, родник — Все жило, не тосковало Без письмен и оровела[37], И за выжженную землю Наше сердце не болело И не билось в берега… Шли века. Шли века. Все — без нашей боли, Радости и доли. Сколько камня — столько лет, Но поверьте слову: Нет такого, нет и нет! Не было такого[38].
25 мая, Егвард
В конце пятнадцатого века, подплыв к неизвестным берегам, испанцы обнаружили, что они сплошь в густых зарослях диковинных цветов. Цветов было так много, что ошеломленные моряки назвали это место Флорида — Край цветов. Теплое течение Гольфстрим, берущее начало в Мексиканском заливе, проходит через пролив мимо Флориды в Атлантический океан, к Европе, Флориде, приникшей прямо к груди Гольфстрима, раньше и больше других достается «молока». Именно поэтому некогда дикий, безлюдный полуостров превратился, пожалуй, в самый ухоженный, самый набалованный уголок мира. Действительно, «рай земной», который деловые американцы избирают местом своего жительства и без «выбитой» у богов рекомендации, а прямо в порядке личной инициативы, то есть когда имеется уже порядочно на банковском счету и можно целиком перейти к пользованию «плодами трудов земных». И вот три пары, три американо-армянских Адама со своими тремя американо-армянскими Евами, и встретили меня во Флоридском аэропорту. Когда я в этом прелестном окружении, весело болтая, направлялась к машине, заметила, что все вокруг смотрят на меня. «С чего бы это?» — забеспокоилась я и вдруг сообразила, что в самообслуживающую себя теплом зону приехала в шубе, а вокруг почти все в купальниках, шортах, «мерзлячки» в коротких ситцевых платьицах. — Далеко до гостиницы? — спрашиваю я, мечтая побыстрее переодеться. — Мы не в гостиницу едем, — раздалось в ответ, — господин и госпожа Татосяны любезно предоставили вам комнату в своей квартире. Как ни любезны бывают хозяева, тем не менее я всегда предпочитаю гостиницу. Наверное, это было написано на моем лице, потому что спутники мои сочли нужным тут же добавить: — В Америке сейчас рождество. Со всех сторон осаждают Флориду, в отеле невозможно было получить номер. Когда машина остановилась у многоэтажного дома и мы поднялись в квартиру Татосянов, я не смогда удержаться от восклицания. И вызвано это было не пышностью обстановки, а совсем другим, неожиданным. Одна стена всего дома сплошь стеклянная, и комната, казалось, залита светлой синевой океана. Перед глазами ни берега, ни земли, словно это многоэтажное здание — корабль, который покачивается на зыбких волнах. — Нравится? — самодовольно спросила тикин Татосян с еле заметным укором в голосе. — Вот это моя половина — моя спальня, а теперь ваша, располагайтесь, как вам нравится. Не хуже, чем в отеле. Приветливой тикин Татосян за семьдесят, а может, и больше. У нее тяжелая походка — от полноты и одышки. Она скорее низенькая, но поскольку муж ее, господин Татосян, еще ниже, с кругленьким брюшком и кругленьким лицом, то жена рядом с ним кажется высокой. Зато он, родившийся лет на пятнадцать (а может, и больше) ранее своей жены, бодр и крепок, одет с иголочки. Господин Татосян своего рода армяно-американский Форд. Когда-то владелец самой заурядной пекарни, он то ли изобрел, то ли пустил в оборот изобретенное другим какое-то приспособление, с помощью которого выпекал тонкие сухие хлебцы — разновидность «тостов». Очень скоро его хлебцы стали популярны в Америке, как тот сорт хлеба, который и вкусен, и не полнит. Так это приспособление, не давая полнеть американцам, изрядно пополнило доход господина Татосяна, покрыло его тело жирком. Около двух лет, как Татосяны, продав свое предприятие и оставив Нью-Йорк, переехали во Флориду и поселились в этом уголке, называющемся Форт-Лодердейн. — Я не доверяю бумагам, акциям, никогда их не покупала и не буду, — с типично американской деловитостью, так не вяжущейся с домашностью ее облика, делится со мной тикин Татосян, — сегодня они в цене, а завтра, глядишь, упали до нуля… Вскоре дает о себе знать и американская непосредственность: — Когда возник вопрос о приглашении вас во Флориду, армянские семьи Форт-Лодердейна решили организовать это дело. Мы с мужем взяли на себя гостиничные расходы. А потом подумали, что лучше вам остановиться у нас. Деньги на отель — это деньги, пущенные на ветер. «Нет, на одних «тостиках» не выбьешься в миллионеры», — про себя улыбнулась я. Два дня мне выпало завтракать у Татосянов. Грузная тикин Татосян с трудом, тяжело дыша, суетилась на небольшой кухне. — Ахавни, дорогая, дай помогу тебе, — заботливо предложил муж и стал накрывать на стол. — Нет, милый, не беспокойся, я сама. Мне было трогательно смотреть на этих «старосветских помещиков» из Нового Света, на флоридских Пульхерию Ивановну и Афанасия Ивановича. Но увы, на столе не было ни рыжиков маринованных, ни солений никаких, ни печений, ни варенья домашнего. У господина Татосяна, как выяснилось, свое испытанное меню. Большой зеленый мясистый перец он разрезал пополам, окунал в мед и с аппетитом уничтожал, закусывая это грейпфрутом, нарезанным кружками. Только и всего. — Это самая здоровая пища, — объяснил господин Татосян, — видите, мне уже столько лет, и я совершенно здоров. Только благодаря перцу. Никогда не думала, что зеленый перец, который у нас в Армении на каждом шагу, в таком исключительном почете здесь, в роскошной Флориде. Татосяны щедро включили для меня в этот завтрак кроме перца поджаренный бекон и кофе. Зато обедать и ужинать в эти два дня флоридские армяне возили меня в самые дорогие рестораны, а днем «угощали» красотами Флориды. Незабываема морская прогулка на небольшом туристском теплоходе. Несколько часов мы плыли и не могли разобрать, где здесь озеро, где искусственно созданный канал. Радуга сияющей синевы, зелени, желтизны и еще тысяча и одной краски. Вдоль обоих берегов беспрерывно появлялись и исчезали особняки — все в зелени, в цветах. И микрофон гида также беспрерывно оповещал, что этот дом принадлежит такому-то известному врачу, тот — такой-то кинозвезде, этот — такому-то судье, и так далее. Гид старался свои сообщения разбавлять приправой из острот вроде: видите этот дом доктора, у него столько-то тысяч долларов, приданое его жены. А вот моя жена, сокрушался гид вслух, выйдя замуж за меня, ни цента не прибавила к моему состоянию, только детей… Теплоход подошел к маленькому островку, и пассажиры сошли на землю. Островок призван был создать иллюзию поселения американских аборигенов-индейцев. Я говорю — иллюзию, потому что ни соломенные хижины, ни экзотическая растительность и птицы, ни продавцы сувениров в национальных костюмах, ни индианки с голливудскими улыбками не были натуральными, взаправдашними, а были лишь экспонатами для любознательных туристов. Настоящих индейцев давно уже упекли в глубину страны, окрестив место их жительства словом «резервация», что свидетельствует о том, как быстро и прочно испанские и англо-саксонские пришельцы обжили западное полушарие, а от исконных его хозяев оставили в заповедниках лишь «образцы», сохранившиеся от вымирания. Следующий день — 25 декабря — первый день рождества. Здесь он отмечается с большим размахом, чем даже Новый год. Еще за несколько недель начинается подготовка к нему. Подарки изобретают всяческие. Я видела дома, где в углу были сложены разноцветные шкатулки и шкатулочки, которые ждали сочельника. «Подарки и обмен подарками сами по себе символизируют братство во Христе», — услышала я в передаче американского радио в тот день. С мистической торжественностью этой формулировки, наверное, больше всех были согласны торговые фирмы и хозяева магазинов. Американское рождество я провела в доме очередных флоридских Адама и Евы. Было застолье, по нашим ереванским меркам, более чем уравновешенное, без тостов, без песен, и только несколько раз щелкал неизменный «кодак», увековечивший моих сотрапезников. Около восьми часов я была уже у Татосянов в моей «половине», вернее, моей, как сказали бы у нас, однокомнатной квартире со всеми удобствами. Вообще эти «удобства», даже те, куда, как говорится, «царь пешком ходит», здесь, в Америке, в идеальном порядке. Но госпожа Татосян, по-моему, всех переплюнула. Скромные круглые крышки, которые по злосчастной прихоти судьбы призваны играть весьма прозаическую роль в истории цивилизации, здесь прямо-таки утопали в белых нейлоновых тюлевых оборках с красной нейлоновой розой посредине. Попробуй обойдись с этой самой крышкой так, как ей это судьбой предназначено… Я порядком устала от впечатлений дня. И все же, как бы ни манило меня мягкое ложе тикин Татосян, обидно было в этот праздничный день, когда во Флориду приезжают отовсюду, чтобы поэкзотичнее вкусить рождественские радости, в восемь вечера отойти ко сну. Но как бы ни подбадривал себя перцем и медом господин Татосян, вряд ли это был самый подходящий спутник для прогулок по ночным улицам. Мне оставалось лишь покорно откинуть покрывало и юркнуть в постель. Я легла, но долго не могла заснуть. Решила прибегнуть к самому испытанному средству от бессонницы в нашем добром Старом Свете — что-нибудь почитать. Зажгла лампу, огляделась — ни газеты, ни книги, ни журнала никакого не было видно во всем обозримом пространстве. Вошла в гостиную. Вокруг бесчисленное количество ваз с нейлоновыми цветами, безделушек, зеркал и прочее. Но ни Гутенберг, ни тем более армянский первопечатник Акоп Мегапарт никаких улик своей просветительской деятельности здесь не оставили… Несолоно хлебавши вернулась назад, выключила свет, приказала себе заснуть. Но именно в эту минуту зазвенел белый телефон на тумбочке рядом с кроватью. Машинально подняла трубку, никак не предполагая того, что могло за этим последовать. В трубке девичий голос, английский язык. Я твердо убеждена была, что не туда попали: кто мог в такой поздний час звонить Татосянам? Но как это мое твердое убеждение сформулировать по-английски? Хочу повесить трубку, но чувствую — что-то не то. Девушка твердит одно и то же: «Лос-Анджелес, Лос-Анджелес…» Я понимаю, что звонок из Лос-Анджелеса, и соображаю, что, наверное, это кто-то из их родственниц. Перехожу на армянский: «Вы Татосяна просите? Позвать Татосяна?» Девушка на минуту замолкает, а потом, как «SOS», повторяет по слогам: «А-лис, А-лис»… Вспоминаю вдруг, что днем госпожа Татосян говорила, что ее дочь живет в Нью-Йорке, а внучка Алис уехала от родителей в Лос-Анджелес. Эта внучка, которая завтра-послезавтра станет обладательницей всего накопленного дедом и бабкой, обладала бы хоть самым малым запасом слов на языке деда и бабки, думаю в сердцах я и спешу разбудить спящих на другой половине стариков. Из полумрака опочивальни господина Татосяна согласно раздается двухголосый храп — бас и контральто. — Господин Татосян, госпожа Татосян! — постепенно повышаю я голос. Никакого результата. Вынуждена войти в спальню и громко окликнуть. Наконец господин Татосян прерывает дуэт и открывает глаза. Говорю, что звонят из Лос-Анджелеса. Не успеваю закончить фразу, как старик мгновенно вскакивает. — Внучка моя, Алис!.. Он просто потерял голову от радости, включил свет и, держа в руках трубку параллельного телефона, то говорит с внучкой, то на армянском обращается к жене: — Ахавни, Ахавни, проснись, это Алис… Невольно продолжаю стоять в чужой спальне. По-английски я не понимаю, но при чем тут английский! Радость армянских дедушек и бабушек на лицах стариков, в их голосах, в их растерянности. Вырывают трубку друг у друга из рук, и среди чужих, незнакомых слов я слышу наши ласковые, такие привычные мне с детства: «Сладкий ты мой птенчик», «Ласточка ты моя», «Солнышко мое», — и, сдается, хрустальная люстра превращается в простенькую коптилку с тоненьким неровным язычком пламени, широкое белоснежное ложе — в тахту, покрытую карпетом-паласом, комната оживает от простого, естественного, человеческого счастья, по которому, наверное, так тоскуют эти «грандма» и «грандпа» в своем комфортабельном одиночестве… На следующий день после окончания встречи, или, точнее, вечеринки, в зале дома, где живут Татосяны, специально оборудованном для семейных празднеств и где на этот раз собрались армяне Форт-Лодердейна, меня повезли в Майами. Утром я проснулась в гостинице со странным названием «Четыре посла». Четыре высоченные башни — четыре корпуса были на первых этажах соединены просторными, переходящими из здания в здание галереями. Во всю длину их расположились магазины и кафе-закусочные. А двор — опоясанный бетоном пляж, у которого, кажется, на цепь посажен океан, такой ручной, смирненький, прямо-таки в наморднике. Вообще Майами— центр Флориды, мир гостиниц и развлечений. Если Лас-Вегас магией своих игорных домов захватывал и затем превращал человека в комок нервов, то здесь магия — сама природа, обволакивающие синевой воды, воздух, источающий тепло, расслабляющий, примиряющий. Вокруг на красных, зеленых, желтых топчанах сплошь один телесный цвет, только габариты разные. Широко раскинувшиеся, тоже цветные тенты, темные очки, благодатное тропическое солнце. На машине мы прокатились по Майами, проехали по длиннющему легкокрылому мосту, соединяющему маленькие островки, и въехали в ту часть города, что называлась Майам-Бич. Тут гостиниц и пансионатов еще больше. У нас был повод заглянуть в один из них. Здесь жил Назарет Парсамян, близкий к литературным кругам. Его однокомнатная квартира в пансионате своей потускневшей мебелью и обилием книг никак не соответствовала бьющей в глаза казенной гостиничной роскоши. Парсамян сам не говорил мне об этом, но другие рассказали, что имя его сына и еще два армянских имени были среди тех имен, которые, как мне объяснили, выгравированы на борту космического корабля «Аполлон». Видимо, за большие заслуги в развитии американской космонавтики. Сколько имен таких Парсамянов, таких сыновей значатся на всевозможных дипломах и лицензиях во всех уголках мира, утверждающих научные изобретения, открытия, но какая доля этой энергии мысли и ума возвращается отцам, родному народу, той земле, откуда взяли начало эти мысли и ум? В тот день в Майами был мой вечер. Честно говоря, днем, увидев воочию все это разгулье на пляже и на улицах Майами, я подумала: «Кто придет на наш вечер? Зря затеяли». Но удивление мое было велико, когда я обнаружила переполненный зал, и, как заметила, далеко не все из публики принадлежали «к сильным мира сего». Наоборот, неожиданно в этом зале преобладали голоса трудовых людей, исполненных любви к Советской Армении. Таково было и выступление вышедшего уже на пенсию Левона Гумджяна, который медленно, взволнованно читал свою речь, еле отрывая слова от бумаги. «Побыв в Армении, я убедился, что это наше прибежище, наша надежда и вера. Как хотелось бы, чтобы там можно было построить дом для престарелых, где мы, люди спюрка, могли бы провести свои последние дни. Мы не хотим быть обузой нашему государству, и без того у него много хлопот. Я об этом говорил уже в Ереване. Передайте, пожалуйста, что у нас есть страховые полисы и приличные пенсии. Если нам удастся все это перевести в Ереван, он получит и наши пенсии, и доллары, и нам тоже будет хорошо». Не знаю, чего больше было в этой речи — американской прямолинейной деловитости, пишущей доллар с большой буквы, или тоски, берущей с годами верх надо всем, исконной любви и тяги к земле родины…28 мая, Егвард
Новый год я встречала в Нью-Йорке. Странное это было ощущение! Случалось, конечно, что под Новый год я бывала далеко от Еревана. Моя жизнь прошла, можно сказать, на колесах, и эти странствия иногда совпадали с днями, когда каждый, кто застревал в пути, торопился домой — встретить Новый год с женой, мужем, детьми. Я не особенно спешила домой, дома меня не ждали ни муж, ни гурьба детей, а мать и сын свыклись с моими отлучками. Хороша или плоха эта свобода, но так уж оно сложилось. И все-таки этот Новый год особенный. В эту ночь я не только не под одной крышей со своими, но не в том же городе, не в той же стране, не на том же материке и даже — страшно подумать — не в том же полушарии. Только представить: наш двор, улица, наш Ереван уже восемь — десять часов назад прошли под этим околотком вселенной, чокнулись с этими звездами, поздравили друг друга С праздником и, вращаясь, отправились дальше, а я вот только сейчас отправляюсь встречать Новый год! Едем вместе со здешним армянским писателем Акопом Асатуряном и его женой. Около восьми часов вечера наша машина останавливается у дверей зала «Гавукчян». Однако стоящий у входа дородный мужчина в модном клетчатом костюме запрещающим жестом останавливает нас. Начинается диалог по-английски, но я все же кое-как догадываюсь, что мы, точнее — я не могу войти внутрь. Акоп Асатурян старательно объясняет, кто я и откуда, — не помогает. — Это армянин? — спрашиваю у госпожи Асатурян. — Конечно. — Неужели? Как я поняла, для новогоднего торжества нужно было заранее купить билет, но пригласившие меня, вероятно, рассчитывали на традиционное армянское гостеприимство… Асатурян пошел искать главного распорядителя, а я наблюдала за входящими. Это были большей частью люди средних лет. Лица ублаготворенные, безмятежные, на устах английский. Мужчины в официальных темных или в строгую клетку костюмах, женщины в длинных платьях, которые вверх от талии давали неисчислимые варианты: тугие стоячие воротники, длинные и короткие рукава, смелые декольте, более чем смелые вырезы от шеи до пояса… Словом, респектабельные гости зала «Гавукчян» ни в чем не отставали от приглашенных на дипломатический прием на самом высоком уровне. Асатурян вернулся, и мы все-таки вошли в зал. Как решился вопрос с моим билетом, я постеснялась спросить. Наш стол был довольно многолюдным: артисты, художники, писатели — неутомимые приверженцы родной культуры, чьи упорные усилия и стойкость воли ощущаешь в полную меру, когда сама, пусть хоть однажды, лично столкнешься с многоэтажной бетонной стеной, которая каждую минуту и на каждом шагу встает на их пути. Просторный зал «Гавукчян» в эту ночь был в праздничном убранстве: высоченная елка, свисающие с потолка бумажные, нейлоновые елочные игрушки. На столах поблескивали светлячками веселые огоньки новогодних свечей. На сцене два оркестра, один американский, другой назывался армянским, поскольку и исполнители, и песни были армянскими. Музыка, вдвойне, усиленная стереоустановками, оглушающая, хоть уши затыкай. «Массовые танцы» в поте лица. То твист, то кочари. По правде говоря, между твистом и нашим кочари была не большая разница. Время от времени кое у кого проскальзывает арабская «извивающаяся» манера танца. Значит, танцующий переселился сюда с Ближнего Востока. Наш стол походил на маленький островок, о чьи берега со всех четырех сторон ударяли грохочущие морские волны, — буйство звуков, топот танцующих ног и заполнивший все английский. И психологически все это тоже напоминало остров. Говорящий по-армянски стол, пишущие по-армянски писатели, уже немолодые, со своими никак не старящимися воспоминаниями об отчем крае, о скалистых кручах Сасуна, о Мушской долине, со своей постоянно горящей болью и тлеющей надеждой, а вокруг все совсем другое, далекое. Далекое не только по языку, но и по образу жизни, взглядам, нравам, по состоянию души. — Мы вообще не ходим на такие сборища, сегодня пришли из-за вас, — словно чувствуя мое настроение, объясняет Акоп Асатурян. А настроение у меня какое-то смутное. Провозглашаю тосты, пробую петь, уговариваю себя радоваться кочари, улыбаюсь подходящим к нашему столу, но в душе какая-то тяжесть. Почему так? Может, началось с неприятной истории у входа? Может, из-за незнания английского? Откуда это острое чувство расстояния, эта отчужденность, отдаленность?.. Вспомнила такой же новогодний вечер в Москве, в Доме литераторов. Так же тесно сдвинутые столы, такое же многолюдье. Мы, несколько армянских писателей, Акоп Салахян, Рачия Ованесян и другие, сидели за столиком. Это был, пожалуй, один из самых непринужденных, самых веселых вечеров в моей жизни, хотя я тоже была далеко от дома и вокруг столько самых разных людей, говорящих на самых разных языках. И наш стол тоже был своеобразным островком. Мы были армяне, пели, говорили по-армянски, кроме общих у нас были свои темы, свой Ереван, свои заботы, — словом, свой мир. Вокруг не знали нашего языка, не вникали в наши заботы, и все равно не было этого чувства островка. Мы были частью материка. Мы включались в беседу за соседним столом, подпевали русским песням, вовлекали соседей в армянские танцы, и все было естественно. Мы шли друг к другу через иные века и дороги. Здесь же, в этом зале, все вверх тормашками. Соотечественники, однако у каждого внутри свое отечество. Армяне, а по-армянски друг друга не понимаем. И вообще друг друга не понимаем, увы, не понимаем…Та часть Бродвея, где улица, подобно реке, расходится на два рукава, бушует, подобно реке. Красные, синие, желтые, зеленые куртки и шапки, картонные колпаки и короны, русые, рыжие, спадающие на плечи волосы, черные как смоль мелкокурчавые головы накатывают волной, наплывают, снуют туда-сюда, вперед и на-аад, останавливаются, вновь двигаются. Все молодые — парни, девушки, белые и чернокожие, маленькие и высокие, большей частью парами, группами, но есть и в одиночку. Над Бродвеем сеется мелкий дождь. Дождь и огни образовали тонкую дымку. Под ней крикливые краски рекламы обрели нежность акварели. Все вокруг — огни, лица — красное, синее, желтое, зеленое, все наполнено дождем, смехом, голосами. В ту часть Бродвея, где улица делится надвое, вклинивается старое многоэтажное здание — редакции газеты «Таймс», и хотя давно газета не здесь, название сохранилось, и площадь называется «Таймс-сквер». — Если хочешь встретить Новый год по-американски, нужно сходить в Таймс-сквер, — еще днем раньше сказал мне мой друг художник-фотограф Арутюн Чола-гян. — Ровно в одиннадцать я приду в зал Гавукчяна, чтобы свести тебя туда. Узнаешь еще одну интересную традицию Нью-Йорка. Каждый Новый год молодежь собирается там, а ровно в двенадцать с крыши Таймс-хауз раздается залп, будет фейерверк, а потом… Что было потом, я увидела сама. После праздничного залпа, многоцветного буйства разбежавшихся по краям старого здания огоньков сверху вниз и снизу вверх, над Бродвеем пролился ливень молодых ликующих голосов. Сотни маленьких пестрых рожков возвестили приход Нового года. Как молекулы инстинктивно притягиваются друг к другу, так инстинктивно тянулись друг к другу руки, глаза губы, голоса — красные, синие, желтые, зеленые голоса: — Хеппи нью ир… — Хеппи нью ир… — Хеппи нью ир… И у меня в руке рожок, и я возвещаю приход Нового года. И я, как и все в толпе, обнимаюсь, целуюсь, и я пью из протянутых мне маленьких фляжек. Какое мне дело, что под ногами хлюпает вода, что туфли мои и длинное платье промокли, что растрепались мои празднично уложенные волосы. Я иду, смешиваясь со всеми, с незнакомыми и такими близкими, этими ясноглазыми лохматыми девушками, длинноволосыми парнями в заплатанных джинсах, белозубыми чернокожими юношами, и в моей душе те же голоса — красные, синие, желтые, зеленые, и на устах моих то же, что у них: — Бахтовор! Нор тари! — С новым годом! — Хеппи нью ир! Рядом со мной Арутюн, он ликует, он рад моей радости. В эти минуты он и сценарист, и постановщик, и дирижер, он счастлив, что и фильм, и постановка, и партитура получились такими, как он задумал. — Вот видишь, я же тебе говорил! Он в своей стихии — находить прекрасное, дарить прекрасное, дарить праздник. Он покупает мне разноцветные рожки, блестящий бумажный колпак. Останавливает приглянувшихся мне людей, объясняет, кто я и откуда, бойко переводит. Возле нас сгрудились захмелевшие парни и девушки, они охотно вступают в разговор, смеются, острят. Вероятно, увидев это скопление, к нам прорывается сквозь толпу какой-то репортер. Не теряя времени, подносит к моим губам микрофон. — Что скажете в связи с Новым годом? Я отвечаю, и Арутюн синхронно переводит. — Пятьдесят четыре года Новый год встречала в восточном полушарии и вот пятьдесят пятый год моей жизни встречаю в западном, — начинаю я и по обычаям Старого Света нацеливаюсь обстоятельно изложить все нюансы моих новогодних ощущений. Но… репортер отрывает микрофон от моих губ и подносит его к чьим-то другим. Кто-то отходит от нашей группы, кто-то подходит, но ядро ее неизменно. Среди неизменных симпатичная пара: девушка с распущенными по плечам белокурыми волосами и ее спутник — юноша едва восемнадцати — двадцати лет в синей куртке, с по-детски открытым взглядом (жаль, не помню их имен). Он уже навеселе и со мной очень мил и предупредителен. Время от времени он поднимает флягу, в знак особого уважения уступает мне право вкусить драгоценный нектар и только потом прикладывается сам. Среди неизменных также одна негритянская пара. Высокий, с небольшими усами муж и низенькая, запеленатая в меховую шубку жена. И у них такое же настроение — сияют доброжелательством и охотно отвечают на мои вопросы. Макартур Девис работает в министерстве образования, жена его Лоретта Дейзен — в какой-то торговой компании, имеющей отношение к американскому экспорту. Арутюн сразу догадывается, что я хочу как-то закрепить этот неповторимый вечер, чтобы он не стерся из памяти. И вот откуда ни возьмись появляется фотограф. Мгновенная вспышка — и через одну-две минуты цветной снимок в моих руках. Я привезла домой, наверное, целый чемодан фотографий— заветные, дорогие памятки. Этот снимок мне особенно дорог, он сразу вызывает в душе голоса того вечера — красные, синие, желтые, зеленые, на всех языках понятные голоса… — Хеппи нью ир… — Хеппи нью ир… — Хеппи нью ир… По возвращении в гостиницу перебираю накопившиеся за долгий день впечатления: значит, случается, что «чужие» бывают тебе ближе, чем, казалось бы, «свои», но ставшие чужими, всеми делами, помыслами полностью укоренившиеся в чуждом мире. Однако это заключение лишь одна часть моего душевного опыта за эти сутки, самое простое умозаключение. Это я понимала и дома. Что же сегодня в сутолоке на Бродвее заговорило в моей душе? А вот что. Сложна человеческая душа. Иногда хочется выйти не только из себя, своей семьи, своего дома и города, но и из своей привычной оболочки, на миг сорваться со своего якоря и выйти на морские просторы, широко вдохнуть хлынувший издалека свежий, незнакомый воздух, почувствовать, что ты частица этого могучего целого, что твои и Бродвей, и Парфенон, и Чаплин, и Микеланджело, и Бетховен, и Толстой, что радиоприемник твоей души настроен на опоясывающую земной шар волну радостей и тревог, что и ты в ответе за все хорошее и плохое в мире, что и ты причастен усилиям созидающего и страдающего человечества хотя бы тем, что в эту минуту ты — со всеми, среди всех, что и твое сердце с его болью и радостью вносит в мир свою долю света и тепла, отчего миру становится чуточку светлее, чуточку теплее… Точно такое же чувство я испытала в другой день, в другом месте. Это было в Монреале, в концертном зале комплекса, именуемого «Площадь искусств». Громадный зал был наполнен до отказа. Выступал гастролировавший в Канаде греческий ансамбль. Все его участники — греки, покинувшие Грецию «черных полковников» и, вероятно, поэтому ставшие, если можно так сказать, еще более греками, еще крепче и еще больше любящие свою землю. Пел исполинского вида мужчина, усталый, с озабоченным лицом, сутуловатой спиной. На нем черная простая блуза с высоким воротником. Казалось, что он пришел сюда, в этот зал, не петь, а выполнять ежедневную трудную работу. Однако стоило ему начать, как и он сам, и его товарищи, и все вокруг преобразилось. Что бы они ни исполняли, будь это греческие народные мелодии, или песни на слова Гарсиа Лорки и Пабло Неруды, или баллада, посвященная убитому в те дни Альенде, или грустные напевы любви, все это как-то объединялось, различные оттенки сливались, становились одним цветом, одним голосом, служили од-ной-единственной цели — освобождению Греции. Концерт нельзя было назвать концертом в обычном смысле. Это был бунт и мятеж против тирании, десант мстителей, от действий которого взлетают в воздух не воинские склады и железные дороги, а рушатся устои вражеской морали, исчезает душевная леность тех, кто до поры до времени воздерживался от самоопределения, тех, кто был не против, но и не за, Воистину трудно было сохранить спокойствие перед этой взрывчатой силой искусства. Зал рукоплескал так, будто он от подземного толчка сам заколебался, загрохотал и в каких-то местах дал трещины. Вокруг низвергались возгласы на греческом, топот ног, восклицания: «Браво!», «Бис!», «Вива!». Один из таких «очагов извержения» находился рядом со мной. То были молодые греки, местные или приехавшие, не знаю, я видела лишь, как откликались их лица на каждое идущее со сцены слово, на каждый звук, как они вскакивали с мест, хлопали, выкрикивали какие-то слова, всем телом устремившись к сцене, словно хотели перепрыгнуть передние ряды, достичь подмостков, смешаться с артистами, пойти за ними на штурм… И я тоже почти не отставала от сидящих рядом. Я не понимала слов, но больше, чем перевод, во мне сработала интуиция. Помогло то, что здесь, в зале, звучали имена Лорки, Неруды, которые уже давно были для меня своими, а больше всего — то волнение, которое неслось со сцены, сгущалось в воздухе, заполняло зал, сплавляло всех воедино. И хотя справа от меня сидели мои спутники из армянского клуба, сдержанные и застегнутые на все пуговицы, я непроизвольно клонилась к сидящим слева молодым грекам, была с ними, со всеми «очагами извержения», со всем залом. Занавес опустился, но люди не уходили. В пространстве, в воздухе, на лицах еще жила песня, жила нетерпеливая жажда общения. Я стояла в многолюдье и понимала все, о чем говорили эти лица. А меж тем несколько дней назад, когда здесь же выступала известная французская певица Мирей Матье, я, выходя из зала, ощутила внезапное чувство одиночества, острое до страха. А сегодня — сегодня все, кажется, знают армянский, а я — греческий, английский, французский. К нам приближается высокий мужчина средних лет. На лице его та же нетерпеливая жажда обрести кого-то, к чему-то припасть, причаститься. Это наверняка армянин, и я уже готовлюсь Протянуть руку. Он подходит, взволнованно произносит какие-то слова, и выясняется, что нет, он канадец, ищет грека, чтобы обнять его, чтобы выразить свое сочувствие и признательность, а поскольку мы, как и греки, смуглые, чем-то смахиваем на них, он подошел к нам. Тем не менее мы пожимаем друг другу руки, и канадец идет дальше отыскивать грека. Идет, чтобы учащенным биением своего сердца с его болью и радостью внести в мир свою долю света и тепла, отчего миру станет чуточку светлее, чуточку теплее…
29 мая, Егвард
Наверное, это было самое спокойное новогоднее утро в моей жизни. Вышла я из гостиницы и, помня вчерашнюю суматоху на Бродвее, думала, что и сегодня будет что-нибудь в этом роде. Тем более что у нас дома первый день Нового года мало чем отличается от встречи его, даже может быть более бурным. Но широкие тротуары были пустынны, прохожие попадались редко, намного меньше обычного был поток машин. Мелкий, но с ветерком дождик, серый день, серые улицы. Ну что ж, пусть будет так. И таким притихшим увидеть Нью-Йорк интересно. Должен же был выдаться наконец час, когда я смогу одна спокойно пройти по этим улицам, медленно, как кинокамерой, обвести глазами снизу доверху те самые небоскребы, почувствовать их устремленный в небо порыв. Избавленная от постоянных спешек и суматох, обычных в другие дни, сегодня, пока приедут за мной друзья, я — наедине со всем, что меня окружает, наедине с этим городом. Улица, по которой я иду, Америкен-авеню. Пятьдесят флагов, развевающихся по всей ее длине, знаменуют пятьдесят американских штатов. И моя гостиница «Нью-Йорк Хилтон» на этой улице. Я остановилась здесь уже на пути домой, после Флориды. Прямо напротив — знаменитое Радио-сити. Весь этот огромный квартал, где я сейчас стою, называется Рокфеллер-центр. Бесчисленные конторы, концертные залы, радио- и телестудии, магазины, рестораны — все это в небоскребах, соединенных внутренними двориками, небольшими площадями, цветочными газонами. Почти все здания построены и эксплуатируются династией «нефтяных королей» Рокфеллеров еще с тридцатых годов и являются одним из тех ансамблей, которые определяют архитектурный облик нынешнего Нью-Йорка. Привлекает внимание сверкающий бронзовый Прометей у подножья небоскреба, на фоне красного гранита и мрамора. У как бы парящего в воздухе Прометея в руках огонь, похищенный у богов. Конечно же именно у Рокфеллеров наиболее веские основания выразить свою личную признательность этому, по их представлениям, первому носителю и воплощению «духа предприимчивости». Ведь никто в такой мере не воспользовался похищенным огнем, как нефтяная компания «Стандарт Ойл»!.. Я, наверное, напрасно взялась в таком замедленном темпе описывать улицы и районы Нью-Йорка. Все равно это мне не удастся, не только потому, что я многое не успела увидеть, но и потому, что это никак не входит в задачи моей книги, да и не выйдет это у меня. Общее же впечатление таково, что теперешний Нью-Йорк сего новыми сооружениями не похож на бесформенный бетонный хаос небоскребов конца прошлого и начала нового столетия, о котором так много слышала и читала. В те времена только-только встал у старта финансовый капитал, в центре города земля дорожала день ото дня, деятельность монополий все расширялась. А вот здания расширять было невозможно, пришлось «подниматься ввысь». Началась, так сказать, «торговля облаками». Быстро встали, поднялись этажи, взмыли друг над другом, жадно хватаясь за новоизобретенные бетонные и металлические конструкции. Нервно задыхаясь, охваченные лихорадкой, стремясь опередить, оставить внизу других, они до наглости небрежны были к своей внешности, к своей гармоничности с окружением. Теперь лицо Нью-Йорка меняется. Стодвухэтажное здание Эмпайр билдинг, построенное в 1931 году, уже свидетельствует о новой ступени «небоскребной» архитектуры. Оно, это здание, уже не давит на душу человека, а, наоборот, уносит его с собой ввысь. Эта стодвухэтажная громадина кажется легкой, стремительной и бестелесной, как металлическая Эйфелева башня. Таковы и другие знаменитые нью-йоркские новостройки последних десятилетий в центре города. Старые, тяжелые, однотипные небоскребы уступают место новым, где конструктивная целесообразность в ладу с эстетикой. Бесчисленные этажи облицовываются мрамором, гранитом, становятся изящными, пластичными, ласкают глаз. Стекло и металл, сплавленные, состыкованные так, будто их не касалась человеческая рука, превращают стену высотного здания в гигантское прямоугольное зеркало, в котором отражаются улицы и здания противоположной стороны. Таким мне показался теперь центр этого восьмимиллионного города, где, правда, с перерывами, я пробыла почти месяц. И все же мне чудится сейчас, что я увидела все это лишь на экране и не только по той причине, что отвлекали «армянские дела», что не знала языка, не могла окунуться всерьез в нью-йоркскую жизнь. Так неохватен Нью-Йорк для новичка, так огромен и «трудноперевариваем», что хотя я и старалась распознать его, побывала в «Метрополитенопере» и «Метрополитенму-зее», в «Империале» и театрах на Бродвее, в кино и многих других местах — все равно, с какого края ни подступись, только откусишь от этого огромного «каравая» то с одного, то с другого конца и все равно сыт не будешь. Я была и в других знаменитых городах мира — Париже, Токио, Каире, даже меньше времени провела, чем здесь, но почти нигде у меня не возникало такого чувства непостижимости города. Может, возраст уже такой, когда все сильнее ощущаешь, что видишь это, наверное, в последний раз, что никогда не вернешься сюда, не пройдешь по этим улицам, не увидишь этих людей. А может, потому, что Нью-Йорк — это не шеститысячелетняя пирамида или буддийский храм. В нем бьется, живет ритм твоего времени, и поэтому где-то он и твой город, в нем есть участие твоей мысли, твоих нервов. Вот таким и остался Нью-Йорк во мне. Что же касается окраин города, прокопченных и задымленных рабочих кварталов, бетонированного, но похожего на вырытую кротом нору метро, печально известного Гарлема, трагических перипетий его жизни, мне остается лишь повторить тысячи раз сказанное, и, как бы я ни стремилась избежать шаблона, не могу не признать, что Нью-Йорк — это город контрастов, резких противоречий и противоборств. И все это в нем, пожалуй, в такой же степени велико и многослойно, насколько велик и многослоен и сам Нью-Йорк, этот «стальной Вавилон». Почти перед самым моим отъездом из Америки я выбрала воскресный день, чтобы разглядеть получше статую Свободы, которую много раз видела издалека. …Корабль медленно отчалил от острова Манхаттан, и чем дальше мы от него отплывали, тем легче было взору объять оставшийся позади берег, тот, который впервые открылся европейцам триста пятьдесят лет назад и где был заложен Нью-Йорк. Сейчас этот берег показался мне похожим на гигантский орган с взметнувшимися в небо бетонными клавишами — небоскребами. Корабль удалялся в просторы Атлантического океана, и мы находились теперь примерно там, откуда приближаются к берегам Америки суда из Западного полушария. Справа вдалеке громоздилось кирпичное здание казарменного типа, знаменитое Кестер Гартен. В свое время оно приняло несметное число переселенцев, торопившихся в Новый Свет. Здесь, в этой красноватой громадине, с испугом и надеждой они робко протягивали таможенникам свои с трудом выправленные документы. День выдался погожий, солнечный. С каждой минутой все крупнела, вырастала перед нами каменная женщина, которая вот уже более ста лет притягивает к себе корабли из бесчисленных гаваней мира не столько огнями маяка свободы, сколько мечтой об огненном блеске золота. Статуя возвышается на маленьком, величиной со сквер, островке. Вместе с постаментом она представляет собой внушительное сооружение высотой в тридцать этажей. На лифте можно подняться до самого верха постамента — до ног статуи Свободы, — те же, кому охота добраться до головы, должен топать пешком. В этом, видимо, есть некий смысл. Техника — лифты и ракеты могут вас доставить на сто второй этаж Эмпайр бил-динг и даже на Луну, но к той свободе, мечтая о которой люди сооружают подобные монументы, нужно идти своими ногами, с трудом, с борением, преодолевая сопротивление вокруг и в самом себе, предчувствуя с каждым шагом радость преодоления.30 мая, Егвард
Отец мой небесный не дремлет, Меня неусыпно хранит И печется о благе моем, Путь великой любви Открывает он мне неустанно — Путь, который ведет в небеса. И даже орлиный полет Осенен той любовью… О, я знаю, я знаю, Отец мой небесный меня не оставит, Он хранит неусыпно меня И печется о благе моем[39].Эту духовную песнь спела одна из сестер в маленькой церкви в Атланте, во время литургии на панихиде по Мартину Лютеру Кингу. В траурной тишине встала она, стройная, темнолицая, и строго, без слез, спела любимую его песнь: «Отец мой небесный не дремлет, меня Неусыпно хранит…» Вчера вечером эта песнь прозвучала в Ереванской филармонии, и закаменевший зал внимал ее уносящимися ввысь переливам. Пела Одетта, знаменитая негритянская певица, приехавшая из Лос-Анджелеса, высокая, крупная, с гладкой оливковой кожей, с крутыми мелкими завитушками волос. Что-то грубоватое, сильное», будто вырубленное из скалы, было в ее широком лице, осанке, низком голосе. А потом пошли спиричуэле — знаменитые негритянские духовные песнопения, эти векам» сгущенные надежда и горечь, что мощными волнами выплеснулись из души народа и сейчас захлестнули зал. Но, наверное, и чернокожий бог так же глух и недосягаем, как и наш… Горе чернокожего человека впервые пришло ко мне из «Хижины дяди Тома» и слилось, смешалось с первыми моими детскими печалями, рожденными «Гико-ром», «Мужичком с ноготок», «Муму», «Тилем Уленшпигелем». А потом, в зрелости, это трепетное детское отношение к старому доброму дяде Тому сменилось холодным словом «проблема», превратилось в отвлеченный, где-то там существующий вопрос. Об этой проблеме напоминали плакаты, митинги, газеты, призывающие негров к борьбе. В Канаде, тем более в Америке, встречи с неграми на каждом шагу — обычное дело, но в памяти моей накрепко осталась одна, казалось бы, мимолетная встреча. Это было в городе Ниагара-Фолс. В тот день я была совсем одна. В незнакомом мире, среди незнакомых людей, предоставленная сама себе, я медленно прохаживалась по набережной у водопада. Навстречу шел чернокожий отец семейства с тремя детьми. Он держал за руки двоих, а тот, что постарше, бежал впереди. Отец был в темном костюме, в белой рубашке с галстуком. Лицо спокойное, обыкновенное лицо, и дети как дети — черненькие, с на редкость живыми мордашками. Держа за руку отца, они то и дело зыркали по сторонам глазенками, задавали ему какие-то вопросы. Мне показалось, что до сих пор я не видела такой благостной негритянской семьи, такой умиротворенности, без бунтующего взгляда, без напряженных мускулов. Они поравнялись, прошли мимо. Не знаю почему, я обернулась, взглянула им вслед. Вижу, у одного, самого маленького, кривые ножки, точь-в-точь как у мальчика моей деревенской соседки. Что-то стронулось во мне, какая-то ниточка протянулась между мной и ними, натягивалась и не рвалась. Кривые ножки, точь-в-точь как у мальчика моей деревенской соседки… Как похожи люди друг на друга. Отцы на отцов. Дети на детей. Я особенно ощутила это в тот миг. И «проблема» снова уступила место живому» трепетному чувству… Горничные в гостиницах большей частью были негритянки. Входили в номер почти всегда хмурые, замкнутые, делали свое дело и такие же хмурые уходили. Они не пытались перекинуться со мной словом, хотя едва ли догадывались, что я не говорю по-английски. Для них я была белой. А белое в их глазах не только цвет — отгораживающая стена, красный глаз светофора, настораживающий, предупреждающий. Целая система восприятия… Известный современный негритянский писатель Джеймс Болдуин говорит: «Нужно помнить, что когда я называю «белый человек», я не обязательно имею в виду цвет его кожи, я имею в виду тех, которые считают себя белыми, которые живут по определенным ценностям, точнее, при отсутствии ценностей…» И вот получается так, что для чернокожего эпитет «белый» так же многозначен, как и для белых «черный» — черная душа, черные дни, черная жизнь и бесчисленное множество такого черного. Иногда мне хотелось сказать молчаливой негритянке, вытирающей пыль в номере: «Не гляди на меня так неприязненно, ведь у меня душа не такая белая, как тебе кажется, я не виновата в ваших белых днях, и я тоже хочу, чтобы изменилась эта белая жизнь»… Но как, на каком языке все это сказать?.. Особенно мрачно смотрела на меня горничная в нью-йоркской гостинице «Хилтон». У нее было скуластое одутловатое лицо, толстые потрескавшиеся губы. Она входила сменить полотенце или мыло, но даже от такого короткого ее пребывания у меня захватывало дыхание. В то же время я злилась на себя за то, что так нетерпима к другому человеческому созданию. Решила перебороть себя и ее. Каждое ее хмурое появление встречала радушным приветствием и улыбкой, сама убирала постель, по каждому маленькому поводу благодарила. Жесткость лица негритянки смягчалась с истощающей медлительностью, однако все же заметно. Настолько заметно, что однажды я рискнула угостить ее армянским коньяком и сладостями. Вопреки ожиданию, она подошла к столу. Я налила в рюмку коньяк, протянула ей, она не взяла, поднесла руку к левой стороне груди, жестом показала, что у нее больное сердце, пить вредно. Но взяла ереванскую сигарету, виноградную чучхелу. Я кое-как объяснила, что из Армении, из Советского Союза. Льдинки в ее глазах стали таять. Вижу — у женщины красивые глаза, огромные, добрые глаза. Вижу — улыбка хорошая. Потом каждый раз, когда она приходила, во мне возникало то же чувство, что и при встрече с негритянской семьей в Ниагара-Фолс. Мы улыбались друг другу, но произошло нечто большее: мы обе, и она, и я, где-то в вековой глубине, внутри нас, одержали победу над «черным» и «белым». Я очень хотела, чтобы эта победа была всегда со мной, чтобы я ни на малую толику невольно не поддалась беспрерывно звучащему вокруг: «Черные», «Страх перед черными», «Из-за черных»… В Нью-Йорке я настояла, чтобы меня проводили в Гарлем, познакомили с его обитателями. Вызвалась помочь мне в этом Алис, Алис Шагинян. Мало сказать, вызвалась — сама подлила масло в огонь, радуясь тому, что гостья из Армении интересуется такими проблемами. — Знаешь, мне удивительно, — на своем ломаном армянском объяснила Алис, — что ты хочешь туда. Есть люди, спрашивают: «Алис, какое тебе дело, зачем ты лезешь в политику? Из-за Вьетнама ходишь на демонстрации». Как же?! Вьетнам может и моих сыновей слопать! Знаешь, мне удивительно! Занятная личность эта Алис, родившаяся в Америке. Она из семьи активных деятелей «Армянского прогрессивного союза». Сейчас — жена фабриканта, хозяйка большого двухэтажного дома. Постоянные гости, приемы — и при всем этом скромная одежда, без всяких там колье и колец, недорогая шуба, простые туфли. Было ли это вызовом своему кругу, своей семье и своей вилле или такой она родилась и такой вот и осталась? Алис. В моей памяти у нее особое место. Светловолосая, синеглазая, она оторвалась от американских армян и пришла, приникла к пуэрториканцам, Гарлему, негритянской поэтессе Лу Ла-Тур, художнице Валери Мейнард, но при этом осталась армянкой со своими мучительными усилиями прочесть и начертать наши трудно поддающиеся буковки, со своей детской любовью к далекой родине. В мои нью-йоркские дни мы подружились. Я чувствовала, что ее беспокойная душа искала во мне ответ на многие тревожащие ее вопросы. Алис мне очень помогла своими многочисленными знакомствами, никак не вяжущимися с положением ее нынешней семьи. — Я уже сказала о тебе. Моя подруга-пуэрториканка говорит на телевидении для своих, хочет, чтобы они развивались. Вечером в следующую пятницу мы должны к ней домой пойти. Там будет много-много людей, тебе у них понравится… В условленный день Алис оставила свою автомашину в паркинге у моей гостиницы и, взяв такси, повезла меня и Ваана Казаряна, редактора армянской прогрессивной газеты «Лрабер», в знаменитый негритянский квартал Нью-Йорка. Таксист нашел дом, и мы, поднявшись на несколько ступенек, вошли в нужную нам квартиру. Собственно, это трудно было назвать квартирой: нечто вроде длиннющего высоченного коридора, разделенного самодельными книжными полками. Не знаю, как днем, но при вечернем освещении все это было похоже на бетонированное дупло, колодец с маленьким, еле заметным оконцем. Несмотря на это, хозяйка дома, та, что, по словам Алис, «говорит на телевидении», была счастлива этим уголком, и сегодня собрались у нее по случаю новоселья. Нас ждали, встретили приветливо, особенно хозяйка, Дульсия Байкан. Тоненькая, коричнево-смуглая, с умными глазами, она сотрудничала в той редакции телевидения, что вела передачи для Пуэрто-Рико. В Соединенных Штатах около полутора миллионов пуэрториканцев, большинство из которых пребывает на самой нижней ступеньке социальной лестницы — чернорабочие. Их родина — Пуэрто-Рико, первый из островов Вест-Индии, куда ступила нога испанцев, но который, однако, с начала нашего века живет под эгидой Соединенных Штатов. На этом острове смешались пришельцы и аборигены, коренное население постепенно исчезло, видоизменились и испанцы, и привезенные из колоний рабы-африканцы. И сейчас жители острова называются пуэрториканцами, язык у них испанский, кожа — смесь черного, белого и красного, черты лица — тоже, а душа?.. Какая она, я ощутила явственно в квартире Дульсии Байкан, куда люди все приходили и приходили. Они стояли уже впритык друг к другу, сплошняком; это двущельное дупло с каждой минутой все больше и больше забивалось крепко сколоченными парнями и яркогубыми девушками с черными и коричневыми лицами, угольно-смоляными глазами, где белки как острие клинка. И с каждым входящим в воздухе что-то сгущалось, везде и во всем — в звуках, вылетающих из магнитофона, как из жерла пушки, в яростном топоте танцующих, в судорожных бросках рук и ног, в беседе стоявших по стенкам людей. И в том, как они стояли, и в том, как они молчали, во всем этом было нечто большее, чем то, что обозначается такими известными словами, как «ненависть», «вражда», «бунт», — всеми такого рода словами из словаря белых. В лексиконе чернокожих, наверное, есть особое слово, которое непереводимо и в котором заключено то, что было в этих глазах, душах, воздухе… Сказать, что с нами, «белыми воронами», не были любезны, было бы неправдой. Наоборот, нас окружили, на наши вопросы с готовностью отвечали, обменивались адресами. Кто-то снимал, предлагал обменную выставку с армянскими фотографами. Другой, который оказался поэтом, подарил мне свою книжку, третий прочел свои стихи: «Не продавай свой остров, даже если тебе дадут за него все сокровища мира. Знай: продашь свой остров— продашь свою жизнь, себя продашь… Не продавай свой остров». Молоденькая девушка с экзотическим именем Фигероа сказала: — Я не знаю испанского, в школе тех, кто говорил по-испански, наказывали. А мать моя не знает английского, мы с ней через сестру разговариваем. Я ненавижу английский, он разлучил меня с матерью. Хозяйка подарила мне маленькую глиняную маску работы народного мастера-гончара, пригласила в телестудию посмотреть документальные фильмы из жизни пуэрториканцев. Жаль, что это было накануне моего отъезда и я не смогла пойти. Но мне кажется, что бы я ни увидела на тех лентах — историю Пуэрто-Рико, памятники старины, тяжкие будни, смятение народа, потерявшего свою землю и независимость, — все равно в мою память сильнее всего впечатался бы этот вечер. Было два часа ночи, но гости все прибывали и прибывали, даже стоять уже было негде, и нам показалось вполне естественным, что не вмещающаяся в сосуд масса в первую очередь должна «вытеснить» то, что было лишь физическим соединением, а не растворилось «химически» в основном составе. По поручению хозяйки какой-то бородатый молодой человек, немногословный и сосредоточенный, проводил нас до такси. Вокруг притих опустевший ночной Гарлем, улицы были не такие, какими я их себе представляла, — широкие, прямые, четко спланированные. Обычные четырех-пятиэтажные дома, не лачуги, как мне виделось издалека. Освещен Гарлем был больше, чем некоторые улицы в центре, и это, наверное, не от хорошей жизни… Через два дня я увидела и дневной Гарлем. К прежнему впечатлению прибавилась подсвеченная солнцем дряхлость обветшавших домов, закопченные фасады с облупившейся штукатуркой, окна с разбитыми стеклами, кое-как заделанные фанерой и жестью. На тротуарах смешались снег и мусор. Сравнительно целым и крепким было здание школы, старое, добротное строение. Побывать в этой школе входило в мою программу того дня. — Туда приедет одна очень великая женщина, очень известная среди черных поэтесса. У нее много книг, она почетный профессор девяти университетов мира. И она сама покажет нам эту школу, — с утра оповестила Алис. Когда мы вошли в школу, нас встретила та самая, по словам Алис, «очень великая женщина» поэтесса Лу Ла-Тур. Она и впрямь была выдающейся общественной деятельницей, автором многих поэтических сборников, одним из создателей организации «Центр ресурсов поэтов мира» и, как написано на обратной стороне открытки с ее портретом, «посвятила жизнь истории Африки». Лу Ла-Тур, немолодая, худощавая, нервная, с первых же минут знакомства включила нас в свой ритм, невольно заражая его напряженностью. Школа носила имя Гарриет Табмен, рабыни-негритянки, родившейся в прошлом веке в городе Мэриленд и ставшей легендой. Вместе с повстанцами она сражалась против рабовладельцев, равно пуская в ход и немилосердное ружье, и сумку сестры милосердия. Дух этой легендарной женщины живет во всей атмосфере школы, в учителях и учениках, во всем этом старом здании с полутемными классами. Вместе с педагогами мы обошли учительскую и классы. Школа, по-видимому, усвоила методы преподавания известного итальянского педагога Монтессори. Всюду, какой бы класс мы ни вошли, малыши были поглощены своим делом: кто рисовал, кто был занят игрушками, кто лепил из пластилина фигурки под наблюдением, но не под командованием учителей. Госпожа Лу Ла-Тур что-то говорила, и десятки черных головок поворачивались ко мне. Многое хотелось мне им сказать, хотелось, чтобы эти ясные, широко открытые глаза всегда оставались такими, чтобы души их не заливали темные волны ярости, ненависти, чтобы… Говорят, дети инстинктивно чувствуют настроение человека. Может быть, поэтому они так тесно окружили меня, а какая-то девочка подарила нарисованную ею картинку. На ней две громадные, большеголовые ромашки, раскрашенные ярко-желтым и оранжевым. Обе без стеблей, как два солнца. Я привезла эту картинку с собой вместе с другими — подарками армянских детей Детройта, Филадельфии, Бостона. Правда, почти на всех тех картинах изображен Арарат, но как знать, может быть, девочка, выросшая в Гарлеме, в свои две ромашки вложила такую же тоску и мечту, как те в Арарат. В учительской со стены смотрит цветная фотография Мартина Лютера Кинга. Я видела много портретов Мартина Лютера Кинга, этого современного негритянского Христа, распятого расистами в Мемфисе. Здесь, в Гарлеме, в негритянской школе имени Гарриет Табмен, эта фотография приобретала особый смысл. Он был снят молодым, полным сил, но глаза у него были грустными, и в грусти его была та же удивительная сила, как и в спиричуэле, спетых Одеттой. Жизнь и смерть этого чернокожего мученика — вечное клеймо на лбу «белого мира». Белое клеймо… Выпущенная 4 апреля 1968 года в Мемфисе пуля была направлена не только в Мартина Лютера Кинга, а в веру чернокожих людей, что можно, взывая к чести и совести государств и сенаторов, добиться истинного равноправия. После этой пули в Америке еще неистовее стала черная ненависть, в ста пятидесяти трех городах вспыхнули негритянские мятежи, ничто не могло остановить ярость людей, бросившихся на баррикады… С того дня прошли годы. Теперь на улицах баррикад больше нет, но они остались в душе каждого негра, и эти баррикады разрушить труднее. Многовековое угнетение, безнаказанное унижение, белый «эмоциональный расизм» — все эти действия вызывали противодействие. Вели раньше слово «чернокожий» воспринималось как оскорбление, теперь, наоборот, черный цвет стал для черных своего рода девизом, вызовом, кличем. Они учат своих детей гордиться тем, что они черные. Тот же Джеймс Волдуин свою книгу «Имени его не будет на площади», это страстное обвинение Америке, начинает следующими словами: «В то время как черный гордится своим новообретенным цветом, который наконец-то стал его собственным, и утверждает (не всегда с чрезмерной деликатностью) значимость и силу своего «я»— даже на краю гибели, белый нередко чувствует себя оскорбленным и очень часто насмерть перепуганным… Рано или поздно черные и белые должны были достичь этих невероятных высот напряжения. И только когда мы проживем этот момент, нам станет ясно, что нас сделала наша история». Несомненно, что писатель пессимистично оценивает возможность человеческого разума, его способность противостоять хаосу и разрушению. Крайне пессимистично смотрит он и на существующие в Америке прогрессивные силы, на деятельность американских коммунистов, последовательно борющихся за окончательное и действенное осуществление гражданских свобод негров. Однако вышеприведенные слова Болдуина свидетельствуют и о том, что взгляды тех американских политиков, которые стараются уверить публику, что чем дальше, тем быстрее происходит интеграция негритянского населения, столь же безосновательно сверхоптимистичны. Когда я была в Америке, книгу Болдуина я еще не прочла. Я свободно, легко ходила в негритянские кварталы, и мне казалось, что я, воспитанная по-другому, чуждая этому злополучному расовому неприятию, смогу хоть и без языка, но своим откровенным дружелюбием проложить к ним дорогу, отпереть двери к веками не отпирающимся сердцам. Но американские века сделали свое: так долго скапливалась недоверчивость к белому человеку, что развеять ее дело долгое и трудное. Трудное, но не безнадежное. И я, как громоотвод тому напряжению, дошедшему, по словам Болдуина, до невероятных высот, вспоминаю улыбки детей в школе Гарриет Табмен, вспоминаю их учителя, высокого, по-детски яснолицего Френсиса, вспоминаю радушие пуэрториканки Дульсии Байкан, вспоминаю мою подругу по перу, поэтессу Лу Ла-Тур, которая твердо верит в то, что людей можно объединить вокруг идей добра, любви, мира. …Когда мы вышли из школы в Гарлеме, на улице было холодно. Шел снег. Замерзшие, мы втиснулись в машину. Я забыла перчатки дома и сразу же сунула застывшие руки в карманы. Вдруг вижу — Лу Ла-Тур снимает перчатки и протягивает мне. Говорю, что у меня есть, что эти мне велики. Не помогло. И теперь у меня на столе также и эти большие, из крепчайшей черной кожи перчатки. Кажется, что ничто другое не могло бы напомнить мне о наших встречах вещественнее и самоличнее, чем эти перчатки: словно две черные большие руки, протянутые для рукопожатия… «Руки, глаза, сердце, мысль» — эти четыре слова написаны на той желтоватой визитной карточке, которую дала мне художница Валери Мейнард. Я познакомилась с ней в двухэтажном кирпичном здании Дома культуры Гарлема, где была выставка негритянских художников, — Валери обучала там рисованию чернокудрых детей. Девушка рассказала мне о судьбе своего брата. В ночь на 3 апреля 1967 года в Нью-Йорке, районе Гринич-Вилледж, неизвестные люди убили некоего капитана, «героя» Вьетнама. Двести человек были допрошены по этому делу, и виновным был признан журналист Вильям Мейнард. Множество фактов, опровергающих обвинение, не было принято во внимание судом. Мейнарда приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Тогда был создан «Комитет по освобождению Мейнарда». Прошло уже семь лет, однако борьба не прекращалась, и теперь «Комитет» добился того, что дело обещали пересмотреть. Валери вручает мне плакат с портретом брата, с призывом: «Свободу Вильяму Мейнарду!», а также листок, где подписавшийся присоединяется к петиции протеста, направленной суду. Валери знала: та, что пришла в Гарлем вместе с Алис, не могла не сочувствовать юноше, глядящему с плаката. Чистое, вдумчивое лицо, горький взгляд глубоких глаз. Нет, этот не мог быть убийцей. Несколько дней назад в Ереване меня навестила одна из моих американских знакомых. Еще в коридоре она поспешила сообщить: — Алис велела передать тебе, что брата той черной девушки освободили! Кроме радости за Мейнарда я пережила и другое чувство. Мне показалось, что в этой победе над несправедливостью есть и моя, пусть крошечная, доля. Правда, будучи гостьей, я не могла подписать тогда воззвание «Комитета», но строки моих стихов, мое сострадание и боль — это тоже участие моих, белого человека, рук, глаз, сердца, мыслей…
2 июня, Ереван
Все газеты и журналы заполнены Пушкиным — стосемидесятипятилетие со дня его рождения. Всюду в пушкинских местах — Михайловском, Ленинграде, Москве, Одессе, Кишиневе — литературные вечера и празднества, на которые съезжаются поэты со всей нашей разноязычной огромной страны. Путь великого поэта пролегал и по Армении, поэтому и к нам приехали гости, и у нас тоже пушкинские дни. Началось все с Ленинакана. Когда-то по дороге в Эрзерум Пушкин на несколько дней остановился в старом городишке Гюмри. В маленьком чернокаменном домике хлебосольные гюмрийцы тепло приняли поэта, угощали лавашем, стеснительные девушки по дороге к роднику наливали ему воды из глиняных кувшинов. И вот Гюмри наших дней — Ленинакан — артистично воплотил все это в установленном на центральной площади обелиске. Когда на городском митинге объявили об открытии памятника и была разрезана ленточка, неожиданно для всех забил скрытый в постаменте родничок, и прибывшие на праздник гости пригубили воду — ту же, что текла и в пушкинские времена. Вода! Символ жизни, чистоты, справедливости, вечности. «Пусть жизнь твоя будет долгой, как вода», — говорят в Армении. Вот жизнь, которая вечна, как вода, как вода, насущна, — это Пушкин. Поэзия Пушкина. Я не знаю, есть ли в мире другой поэт, который был бы для своего народа тем, чем стал Пушкин для России. Приходят новые поэты, стареют, становятся историей. Пушкин же всегда молод, он на устах каждого ребенка, присутствует за семейным столом, в письмах влюбленных. В Москве у своих друзей я с удивлением и восхищением вижу, как любое новое слово о Пушкине, статья, публикация переходят из рук в руки, обсуждаются по телефону, становятся предметом беседы так живо, будто лишь вчера графиня Воронцова крадучись спешила на тайное свидание с влюбленным поэтом или только сегодня утром Дантес выпустил свою роковую пулю. Может, именно поэтому юбилейные даты Пушкина и не носят той академической торжественности, какой окрашены иные литературные годовщины, призванные всего лишь еще раз напомнить об авторе. Пушкин не нуждается в напоминаниях, потому что он никогда не забывается… После Ленинакана наш автобус двинулся к тому перевалу по дороге на Тифлис, где когда-то Пушкин встретил телегу с телом Грибоедова. Сейчас перевал остался наверху, под ним прорыли тоннель, и нет нужды больше подниматься над пропастью по крутым извилинам, а потом спускаться в Степанаван. Тоннель сократил не только дорогу, но и возможность аварий. У этого тоннеля в ущелье тоже собрался народ, там в память о трагической встрече поэтов открыт мемориальный камень — плита из черного мрамора. Хозяева и гости произносили речи, читали стихи Пушкина, дети из соседних сел пели, звучали зурна и дудук[40]. А сверху, усевшись в ряд на краю обрыва, крестьяне-лорийцы в папахах, чабаны, спустившиеся с альпийских лугов, внимали пророческим словам поэта. Пушкинские дни в Ереване закончились торжественным вечером в оперном театре. — Я не знал, что в Армении такие каменистые горы, такие бесплодные, пустынные земли, — изумляется кабардинский поэт Максим Геттуев, вспоминая наш путь от Аштарака до Ленинакана. — Вот, Сильва Барунаковна, наш подарок Армении, к этому празднику поэзии. — И сидящий напротив латвийский поэт Имант Аузинь протягивает только что изданный в Риге сборник произведений армянских поэтов на латышском. Меня провожает домой украинский поэт Иван Драч. Невысокий молчаливый Драч, по-видимому, лишь в тишине малолюдья может разговориться. — Прочел Нарекаци в русском переводе и во что бы то ни стало решил повидать Армению. И вот я сегодня здесь… Как это хорошо, что Пушкин стал посредником между нами… Удивительная страна у вас, какой-то концентрат земли, камня и духа. Нужно время, чтобы понять ее. Я непременно снова приеду сюда, поживу подольше… Возвращаюсь домой после двухдневной поездки, и во мне новый заряд бодрости не только от как бы заново увиденной родной стороны и ее людей, но и от общения с друзьями, такими разными, казалось бы, бог знает из каких мест, но ставших частицей и моей жизни. На протяжении веков человечество складывалось из пестрой мозаики больших и малых наций и рас. На протяжении веков в этих нациях и расах утверждались отношения покорителя и покоренного, угнетателя и угнетенного, в лучшем случае — спасителя и спасенного. Это все вызвало в душах людей, с одной стороны, национальный эгоизм, надменность, порочное чувство расового превосходства, с другой — рабство, страх, затаенную злобу угнетенного. Так было веками, и «великие мира сего» в великих книгах, полотнах, скульптурах, памятниках и симфониях пытались уравновесить полярность, умерить эти столкновения в человеческой душе, вселяя в нее чувства любви, понимания, братства. И сейчас за рубежом много таких людей, которые стремятся поставить культуру, литературу и искусство на службу духовному сближению людей, стиранию преград между нациями и расами. Но с кардинальным решением этих проблем мы все-таки, несмотря на все сложности, встречаемся у себя дома. Все эти наши декады, конференции, симпозиумы, встречи, огромный размах переводов и изданий — все это стало привычным, обиходным, введено в государственное русло. Это моральная позиция страны, ритм ее новой духовной жизни. Если каждый из нас попробует нарисовать карту своих дружб, то увидит, что невольно день ото дня на ней обозначаются все новые места, появляются все новые краски и рельефы, новые люди, новые языки. Это не только география, не простое прибавление людей. Это оказывает прямое воздействие на наш душевный мир, расширяет его меридианы, накладывает на него свои цвета, незаметно отливает новый духовный сплав. Я это особенно чувствую, когда и дома, и за границей встречаюсь со своими зарубежными «сокровниками», с людьми искусства. Разговариваем обо всем — вновь переживаем прошлые беды нашего народа, невзгоды спюрка, радость возрождения Армении. Но наступает момент — и я чувствую, как между нами образуется какой-то водораздел. Мои сородичи остаются на берегах Аракса, у подножия Арарата, у стен Эчмиадзина. А у меня в душе кромз этого еще другие, им непонятные, ими не воспринимаемые краски и оттенки. В моей душе живет Москва с ее исполинским дыханием и в то же время такая домашняя, привычная. Живет мой друг поэт Мария Петровых, которая для меня не только переводчик моих стихов, на и мерило честности, человечности; я радуюсь новой книге Кайсына Кулиева, его чудесным стихам об Армении, в которую он влюблен, как юноша; меня живо интересуют сроки окончания строительства преобразующей таджикскую землю Нурекской ГЭС, где я недавно была; я рада, что белорусские зодчие сумели создать такой поразительный памятник народной трагедии, как Хатынский мемориал; словом, кроме того, что я частица Армении, я — частица нашего могучего сообщества. Становится ли меньше от этого во мне «армянская доля»? Расчленяется ли моя душа, раздваивается? Нет, она становится еще более целостной. В то время как в спюрке констатация факта, что тот или иной человек «не скрывает, что он армянин», вменяется ему в заслугу, для советских армян наша национальная гордость — естественное состояние. С детства воспитываясь в постоянном общении с другими нациями и культурами, душа приучается воспринимать и другие культуры как родственные. И это создает такую крепость души, такую стойкость, которой не грозит напор стихии более мощной культуры, ничто не может оторвать эту душу от своих берегов. А именно такое как раз зачастую происходит в спюрке. Стремясь сохранить свое «армянство», родители стараются изолировать детей, оградить их от мира, где они живут, и когда эти дети в конце концов выходят из «норы» на свет, он слепит их непривыкшие глаза. Не от этого ли там такие крайности: либо скорлупа национальной ограниченности, либо полнейший отрыв от корней, забвение того, что кроме Пикассо есть средневековая армянская миниатюра, кроме небоскребов — храм Рипсимэ? Все эти мысли одолевали меня после новой встречи с друзьями в пушкинские дни. Когда я писала о Гарлеме, то привела распространенный там термин «эмоциональный расизм», а сейчас мне хочется сказать об «эмоциональном интернационализме». Правда, формулировка не очень научная, но окраска, думаю, точная. Так рушатся ограды, разделяющие людей, и создастся эмоциональная общность сердец. Создается… Еще долгий путь должен пройти человек, чтобы окончательно победить в себе века и полностью принадлежать новому веку.3 июня, Егвард
Наверное, как и всех приезжих, меня свезли подсмотреть главную достопримечательность Филадельфии, которая, собственно говоря, главная достопримечательность всех Соединенных Штатов Америки. Это находящийся в самом центре города мемориал, именуемый «Национальный парк». Вот уже два столетия, как стоит этот двухэтажный дом-крепыш, увенчанный невысокой башенкой, по залам которого я и прошла со своими спутниками. В истории Америки здание это известно как «Зал Независимости», поскольку именно здесь, в этом доме, 4 июля 1776 года была провозглашена Декларация независимости Америки — результат и завершение освободительной войны против Англии. Здесь была разработана и утверждена конституция Соединенных Штатов Америки. Здесь, в этом здании, приступил к исполнению своих обязанностей первый президент — Джордж Вашингтон. Декларация независимости на весь мир провозгласила: «Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью». Это был молодой голос молодой страны, раздавшийся с того берега океана. Голос страны, которая почти не имела истории, не была скована цепями привычек, закоснелых законов. Феодальные крепости и древние гербы не подавили ее революционного порыва, не обуздали экономической энергии. У нее, этой юной еще страны, имелись лишь бескрайние богатейшие земли, которые не были рассечены границами и разделены пошлинами, было множество перебравшегося сюда из Европы люда,? в ком бурлила неуемная жажда деятельности и кто восстал против колониальной зависимости, заявив, что она противоречит природе человека, что каждая нация имеет право на свое правительство, избранное ею по доброй воле. Энергия людей, сбросивших с себя ярмо, принесла щедрые плоды. Ожили пустынные земли, выросли города, страна обстроилась мастерскими, заводами, фабриками. И уже в конце девятнадцатого века Соединенные Штаты, этот не объезженный еще жеребец, сорвался с узды и понесся вскачь, оставив позади стареющего британского льва и всех тех, кто встал рядом с ним на старт беговой дорожки. Прошло, однако, не так уж много времени, как великий американский поэт Уолт Уитмен, могучий певец вольного расцвета человека и земли, забил тревогу: «…При беспримерном материальном прогрессе общество в Штатах искалечено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Таковы политики, таковы и частные лица. Во всех наших начинаниях совершенно отсутствует или недоразвит и серьезно ослаблен важнейший элемент всякой личности и всякого государства — совесть. Я полагаю, что настала пора взглянуть на нашу страну и на нашу эпоху испытующим взглядом, как смотрит врач, определяя глубоко скрытую болезнь. Никогда еще сердца не были так опустошены, как теперь здесь у нас, в Соединенных Штатах. Кажется, истинная вера совершенно покинула нас. Нет веры в основные принципы нашей страны (несмотря на весь лихорадочный пыл и мелодраматические визги), нет веры даже в человечество… Нажива — вот наш современный дракон, который проглотил всех других». Читаешь эти строки и удивляешься, как сумел поэт так рано предощутить все то, что ныне так явно расшатывает здание, заложенное два столетия тому назад. Ныне это опустошение сердец, предсказанное Уитменом, приняло еще более угрожающий характер. Америка занимает сейчас главенствующее место не только по количеству автомобилей, но и по числу пуль, направленных в душу и грудь американца. От этих пуль погибли или были тяжело ранены девять президентов, начиная с Авраама Линкольна и кончая Джоном Кеннеди. Америка, которой удалось в двух мировых войнах отделаться не такими уж тяжкими жертвами, эта самая Америка умудрилась за то же время, можно сказать, у себя дома, в «семейной обстановке», потерять восемьсот тысяч своих граждан, погибших от оружия, направленного из-за угла. Если, начиная с тысяча шестисотого года, Африка служила для американских плантаторов неистощимым источником, поставлявшим чернокожих рабов, то ныне гетто для чернокожих — неистощимый источник вечной ненависти, расовых столкновений и ярости, готовой взорваться каждую минуту. Преступность, наркомания, душевные заболевания, растление подростков, половая и всяческая прочая разнузданность, поощряемые кино и телевидением, — все это сплетается в такой клубок, в хаос, где трудно определить концы и начала. У Чикаго давно уже отнята «высокая честь» быть столицей гангстеров и поделена между всеми американскими городами. Вполне респектабельные чиновники всевозможных государственных учреждений — «белые воротнички» — занимаются всяческими махинациями, взяточничеством, нарушением законов, неуплатой государственных налогов… «Мы сильны и богаты оружием, но бедны душой», — благочестиво вещал еще не так давно Никсон. И не знал господин президент, обеспокоенный состоянием души американца, что через каких-нибудь два года небоскреб под названием «Уотер-гейт», приютившийся в центре Вашингтона, столь необычным образом помешает ему продолжать трудиться над тем, чтобы его нация стала богаче не только оружием, но и душой. В Вашингтоне меня опекал певец и дирижер Тигран Жамкочян. Я знала Тиграна по Бейруту. Потом он переселился в Вашингтон, у него тут свой хор «Жамкочян», который состоит большей частью из американцев и пропагандирует армянскую музыку. Есть у Жамкочяна и своя маленькая обитель, на дверях которой знакомыми буквами написано: «Гай Тун» — «Армянский дом». У него жена-американка Джинни и годовалый сынишка. Джинни по профессии преподавательница, она преподавала раньше в университете другого штата. Из любви к мужу оставила работу и переехала в Вашингтон, где учительствует в школе. Многое оставила Джинни из любви к мужу — свой край, родителей, обычаи родных мест — и привилась, как веточка к чужому дереву, к «Армянскому дому», к этому крохотному клочку земли. А он всего-навсего цветочный горшок по сравнению с необъятными плантациями. Но как эта женщина сумела прижиться на этом клочке земли! Светлый, нежный стебелек. На лице никакой косметики. Гладкая прическа, прозрачная синева глаз. Джинни с какой-то робкой влюбленностью воспринимает все армянское — песни, шараканы[41] храм Рипсимэ, боль и радости Армении. У меня даже сердце защемило, когда я услышала, как она перед обедом шепчет слова молитвы по-армянски. Эта пара и знакомила меня с Вашингтоном. Разумеется, бегло, так сказать, в порядке пробежки, поскольку в нашем распоряжении было только два дня. В самом начале машина Тиграна проехала мимо серого круглого строения. — Это и есть «Уотергейт», — сказал он. — Видите здание напротив него?.. Из его окон республиканцы следили за демократами. По правде говоря, хотя в Америке уже вовсю шли разговоры о событиях в «Уотергейте», я тогда не особенно задумывалась над этим, не воспринимала тогда эту проблему во всем ее объеме. Быстро посмотрела на этот комплекс с гостиницами, магазинами, конторами, на все это круговое строение и на прямоугольное здание напротив. И мы проехали. Тогда я, как и сам президент Никсон, не подозревала, что грядущее «уотергейтское дело» привлечет к этому тихому сероватому дому такое шумное внимание мира. Иначе- обязательно зашла бы внутрь, представила себе, что к чему. Уже позднее, когда я писала эту книгу, узнала, что «Уотергейт» — который можно перевести и как «дом, построенный на воде» — вывел кое-что и кое-кого на чистую воду и приоткрыл американцам глаза на многое. Спрятать концы в воду па этот раз не удалось. Вслед за «Уотергейтом» мы осмотрели Белый дом. Это скромное двухэтажное здание выглядело невзрачнее, чем на фотографиях. Внутри все так же скромно, сдержанно. В 1800 году сюда из Филадельфии переместилось правительство федеральной республики, оно, так сказать, еще переживало медовый месяц демократических увлечений и, строя для себя резиденцию, не желало перенимать роскошь европейских дворцов. Мы пришли в Белый дом рано утром, еще до начала работы, и потому имели возможность покружить не только по музейным, но и рабочим комнатам, кроме той части второго этажа, отделенной натянутым красным шнуром, где работали президент и его помощники. А в остальном мы видели все: жилые комнаты, гостиную, столовую, детскую, личные вещи Вашингтона, Линкольна, Рузвельта. Стены были увешаны портретами американских президентов и их жен. Рыжеволосый, смеющийся, в лице что-то мальчишеское, на лоб сползла прядь волос — смотрел на нас Джон Кеннеди. Чуть поодаль — Жаклин, Джекки, красивая, с четко очерченным крупным ртом, дерзким взглядом… Я не ханжа, не собираюсь судить никого за изменчивость чувств, однако мне не хотелось почему-то видеть ее рядом с Кеннеди. Когда в ноябре 1963 года в Далласе среди бела дня убили президента, я жила под Москвой, в Доме творчества «Переделкино». Работала над книгой «Караваны еще в пути». В течение нескольких дней все мы, кто находился тогда в Доме творчества, — писатели, их жены, уборщицы, повара — не могли прийти в себя. Не отрывались от телевизора, с болью и жалостью смотрели передачи из Америки — слушали речь, произнесенную Кеннеди несколько дней назад, видели Жаклин с двумя маленькими детьми у его гроба — и пытались понять: как все это произошло?.. И вот через какое-то время в печати появились фотографии: смеющаяся, сияющая, в подвенечном платье Джекки со своим новым мужем, греческим мультимиллионером, остроносым стариком Онассисом… Я восприняла это просто как вызов человеческой верности. С такими невеселыми думами подходила я к памятнику Линкольну. Мраморная колоннада окружала здание с четырех сторон. В нише размером с комнату сидел великий солдат свободы, одинокий и старый. В лице его были сила и гнев. На стенах ниши высечены слова Линкольна. Был ли там его знаменитый завет, произнесенный еще на заре революции: «Свобода выше собственности, человек выше доллара»? Наверное, был! Такие заветы для того и существуют, чтобы быть высеченными в камне и зачастую, увы, окаменеть вместе с камнем… Мы поднялись на окруженный зеленой стеной холм, где находилось Арлингтонское кладбище. Отсюда, с холма, видно поле, на котором тысячи одинаковых бетонных, в полметра, обелисков. Здесь спят вечным сном американские солдаты, в том числе и погибшие во Вьетнаме. В Америке словно не желают произносить это слово — Вьетнам. И отнюдь не потому, что все связанное с Вьетнамом забыто. Скорее наоборот. Эта страна, лежащая в тысячах километров отсюда, неизменно присутствовала, ощущалась в жизни, в делах огромной, могучей Америки и американцев. Выпестованная в Пентагоне, пятиугольном, гнетущего казарменного типа здании, благословенная Белым домом, эта самая черная и самая долгая из войн, которые вели Соединенные Штаты, обошлась американскому народу в четыреста миллиардов долларов. Однако громадный материальный урон несравним с теми неизмеримыми моральными потерями, которые понесли Соединенные Штаты, семь лет подряд без передышки с суши, с моря и с воздуха обрушивающие бомбы и беды на эту небольшую, непоколебимую в своей справедливости страну. Об этих же потерях и писал в газете «Нью-Йорк тайме» известный американский обозреватель Джеймс Рестон: «…В результате этой войны произошло резкое падение уважения к авторитетам в США — падение уважения не только кгражданскому авторитету правительства, но также к моральному авторитету школ, университетов, печати, церкви и даже семьи… Мало кто из американцев оспаривает мнение, что — на пользу ли это или во вред — с американской жизнью что-то произошло: что-то еще непонятное или невоспринятое, что-то новое, важное и, вероятно, долгосрочное по своему характеру». Да. каждый шаг, каждый поступок, будь он справедливый или несправедливый, сделанный даже за тысячи миль от самой страны, оставляет след и на внутренней ее жизни, обновляет или расшатывает не только ее экономику, но и ее авторитет, вес, моральную крепость людей, заставляет пересмотреть, переоценить понятия, казалось бы не находящиеся в прямой связи с тем самым, сделанным вовне шагом.4 июня, Егвард
Говорят, что в настоящее время по количеству преступлений Сан-Франциско шагает в первых рядах. Видимо, мастерам этого «бизнеса» надоел сумрачный Чикаго и такие же унылые города, они предпочитают Сан-Франциско, Лос-Анджелес и им подобные «райские» кущи. Тут и живут вольготней, и убивают с большей легкостью и артистизмом. Да и укрыться здесь легче — в дымке океана, в романтических горах… А Сан-Франциско, этот белоснежный красавец, растянувшийся на берегу синего океана, и в самом деле может вскружить голову. Никогда не скажешь, что в таком городе, где на зеленых холмах высятся богобоязненные церкви, где так по-домашнему уютно раскинулись еще с незапамятных времен китайские, русские, японские кварталы, где люди по старинке, с какой-то трогательной сентиментальностью, привязаны к своему столетнему трамваю и не дают городским властям убрать его, — не подумаешь, что именно этот город называют сейчас «городом дурных снов» и что на его улицах чаще чем где-либо попадаются хиппи, накурившиеся до одури гашишем, что именно здесь возникают одна за другой самые невероятные шайки. Такие, как «Ангелы смерти», «Черти Мэнсона», и среди них ультрасовременная «Освободительная армия симбионистов»… Эта «армия» через два месяца после моего отъезда из Сан-Франциско среди бела дня похитила дочь «короля печати» мультимиллионера Рандольфа Херста Патрицию, студентку университета Беркли. Последняя очень быстро не только примирилась с «симбионистами», но и стала бравым солдатом их «армии» — с пистолетом в руках она участвовала в ограблении банков, в убийствах и грабежах, объявив войну не только собственности, но и собственным родителям… В дни моего пребывания в Сан-Франциско там широко отмечался «День благодарения». Это исконно американский праздник, во время которого американцы благодарят господа за то, что четыреста лет назад он открыл перед ними далекие и плодородные земли и сделал пришельцев из Европы хозяевами этих земель… Когда я прилетела в Сан-Франциско, встречавшая меня Марго Оганисян тут же, в аэропорту, сообщила, что по случаю «Дня благодарения» армян в Сан-Франциско не сыскать, они почти все в разъездах, в гостях, а посему — передохните от них немножко. «Я обещаю вам, что скучать не будете». Последняя фраза была сказана по-русски. Я очень удивилась этому. А «ларчик просто открывался». Марго была ни больше ни меньше как китайской армянкой. В Сан-Франциско она переехала из Харбина, где много русских. Марго оказалась, как говорится, вполне свойской. И не только потому, что не раз была в Армении (возила туда туристов), но и всем своим обликом и нравом: жизнерадостная, чисто ереванских габаритов, с кавказской щедростью души и кармана. — Я сняла тебе отличную гостиницу, — тут же перешла она на «ты», — «Хилтон Тауэр». Это самое лучшее, что здесь есть. Во время оформления в гостинице выяснилось, что служащий, занимавшийся этим, тоже армянин. — А! Знаю вас по Бейруту. — Мой земляк оторвал свой крупный нос от бумаг и просиял в улыбке. — Поднимитесь пока наверх, я вам устрою номер получше… Вскоре он действительно появился, очень довольный, и переселил меня в один из лучших номеров гостиницы, на самом верхнем этаже, распахнул окно, и очам моим предстал Сан-Франциско во всей своей красе: самый длинный мост в мире, словно летящий над заливом, именуемым «Золотые ворота», и Его Величество Великий, или Тихий, океан. Все это новоявленный бейрутский знакомец «устроил» мне по той же скромной цене, что и за прежний номер. Так что не хватало Америке топливного кризиса, бушевавшего в те дни, а тут еще компания «Хилтон» должна понести убытки из-за армянской солидарности. Я была признательна «Дню благодарения», дня три армян на горизонте почти не появлялось, и по этой самой причине я смогла провести с Марго самые беззаботные, самые «разгрузочные» дни за все четыре месяца моего путешествия. Невзирая на угрозу встречи с «Ангелами смерти», на рискованность прогулок в поздний час, Марго дала мне возможность в эти несколько дней почувствовать, что такое «индустрия развлечений». Я, правда, не Патриция, наследница мультимиллионера Херста, и «Симбионистская армия освобождения» не имела особых оснований рассчитывать на крупный куш — выкуп с армянской колонии в Сан-Франциско. Но все-таки только сейчас, задним числом, до меня дошло, какому риску подвергались мы с Марго, когда поздно вечером бродили по безлюдным, плохо освещенным улочкам Сан-Франциско одни, без спутников, заглядывали в кафе, входили в сомнительные кинотеатры… Вечером Марго, выйдя из кафе, решительно остановила машину, и мы, два увесистых колобка, плюхнулись на сиденье. Моя китае-армянская подружка нацелилась в этот день сбить меня с ног одним нашумевшим фильмом, который даже для американского экрана считался «клубничкой». Водитель, плотный, средних лет американец, простой и улыбчивый, долго плутал по улицам в поисках этого кинотеатра. Марго все время над ним подтрунивала, а мне переводила то по-русски, то по-армянски: — Он говорит: «У меня жена, дети. Откуда мне знать такие места?» И в самом деле, то, что нам привелось увидеть… Но в общем подобных мест и впрямь лучше не знать. Я хоть и поверхностно, разумеется, но имела какое-то представление об американской «индустрии развлечений». Из всего, что я повидала такого в этой поездке, мне более или менее запомнилось чикагское кабаре «Шестиугольник». Танцовщица, исполнявшая «танец живота», — только это был не танец, а некое лишенное всяких эмоций моторизированное вибрирование, — двигалась по краю сцены, в самой непосредственной близости от уже порядком хвативших зрителей. Сцена была совсем низко, и сидящие за столиком мужчины, не стесняясь в выражениях, приподнимались и совали ей за переливающийся лифчик из парчи свои пропотевшие доллары. Зрелище было по-американски «конкретно» и без сантиментов. Восточные танцовщицы, которые довели «танец живота» до искусства, были бы оскорблены американскими «нововведениями»… Но та мерзость, на которую мы попали с Марго в том самом кинотеатре Сан-Франциско, за гранью всяких эпитетов. Это было вне любви, вне страсти, вне стыда, даже вне похоти и тому подобных, все-таки человеческих чувств. А если уж употреблять слова «стыд», «стыдиться», чтобы определить психологическое состояние человека, то их следует отнести прежде всего не к тому, что ты видишь на экране, а к самой мысли, что человек способен подобное, чему и имени нет, преподнести как «искусство», воплотить, заснять, выставить напоказ… Есть в Сан-Франциско еще одно прогремевшее варьете, которое там считается уникальным пристанищем искусств. В отличие от кинотеатра, где мы побывали накануне, где в огромном зале сидело всего человек восемьдесят, здесь зал был набит битком. Женщины, мужчины, молодые, старые — в общем все, как в обычном театре. А необычное было только на сцене. Полуобнаженные девицы из кордебалета исполняли и классические, и современные танцы. Певица в длинном платье, с обнаженными руками пела арии из опер и романсы. Полная, крупная женщина с копной рыжих волос рассказывала остроумные истории, зал смеялся, аплодировал. Все было честь по чести. И вдруг в конце представления танцовщицы скинули с себя лифчики вместе с бюстами, певица — свое длинное платье, толстуха юмористка — нежный тюль, прикрывающий глубокое декольте. Все сорвали с головы женские парики — из-под всего этого на свет божий предстали крепкие мужские, подтянутые тела, мускулистые руки и ноги. Одним словом, Евы вдруг заговорили низкими мужскими голосами, ухмыляясь во весь рот — то ли над зрителем, то ли над собой… Мы сидели прямо у сцены, и даже отсюда, из такой близи, невозможно было представить себе, что это были мужчины, настолько изящны и женственны их движения, так естественно по-женски они кокетливы. Но в конце концов все это зрелище вызвало смешанное чувство — в нем было и удивление, и жалость, и буквально физическое неприятие.6 июня, Ереван
Хотя Урартийская крепость царя Аргишти, находящаяся на юго-восточном холме города, и свидетельствует о том, что Еревану 2750 лет, тем не менее это один из самых молодых городов мира. Ведь Ереван стал Ереваном только в последние пятьдесят лет. Несмотря на это, в городе много памятников, обелисков, скульптур. Один приезжий журналист написал о Ереване, о городе, который насчитывает уже восемьсот тысяч жителей, что улицы его по-домашнему уютны, что они — как холл в огромной квартире, как интерьер. Среди ереванских памятников есть один, у которого своя особая биография. В саду, расположенном между улицами Теряна и Абовяна, словно растут из земли, поднимаются вверх две белые мраморные руки, тянутся друг к другу для пожатия… — Что это? — интересуется каждый, кто видит это впервые. И ереванцы с гордостью отвечают: — Это нам прислали из Каррары. Каррара и Ереван — города-побратимы. Мы им послали старинный хачкар — крест-камень, — а они нам эти руки… Вы, конечно, знаете, что из каррарского мрамора сам Микеланджело ваял свои статуи. Наверное, на свете много городов-побратимов, но в нас живет простодушное желание во всем видеть еще больше, чем есть. Тянущиеся друг к другу руки мы уже сливаем в крепком рукопожатии. Ведь земля наша веками тосковала по братскому рукопожатию, по искренности, по дружбе… Эту нашу склонность к преувеличению очень быстро раскусил известный итальянский писатель Альберто Моравиа. Он пробыл в Армении всего два-три дня, держался суховато, можно сказать, даже сурово, — словом не «по-итальянски». Однако, вернувшись в Италию, написал об Армении очень тепло. Все в этой стране воспринимается через ее внутреннюю суть, говорит Моравиа, все в ней имеет двоякий смысл, даже обычный коньяк, который для любой другой страны лишь напиток, полученный из винограда, для армянина свидетельство силы и энергии родной земли… В гостинице «Ани» Армянское общество по культурным связям с заграницей устроило прием в честь делегации губернаторов автономных областей Италии во главе с сенатором Джеразио Адамоли. Прием этот завершал проводившуюся в Армении «итальянскую неделю», в течение которой в кинотеатрах шли итальянские фильмы, в библиотеке имени Мясникяна была выставка итальянской литературы, в Доме художников можно было в эти дни ознакомиться с изобразительным искусством Италии, в детской картинной галерее — с выставкой «Италия в рисунках армянских детей». Словом, были самые разные встречи, выставки, приемы. Я вошла с опозданием, когда имеющий «двоякий смысл» армянский коньяк уже воспользовался своим прямым смыслом, подогрел и без того горячую итальянскую кровь, когда все смешалось, — музыканты и гости, танцующие и не танцующие, когда стерлись не только протокольные точки и двоеточия, но даже и запятые. Чопорные, казалось бы, дипломаты с упоением включились в буйный, запыхавшийся ритм твиста… Сказать, что подобные встречи редкость для нас, неверно. Каких только премьеров и королей, представителей дипломатического корпуса и государственных деятелей не принимала Советская Армения! А все-таки каждый раз заново радуешься… Вот и теперь, глядя на этих разгулявшихся итальянцев, я думала: добро пожаловать в Армению, друзья, вы все время повторяете, что чувствуете себя тут как дома. Да, мы вроде бы схожи и нравом, и историей. Вернее, началом истории. А потом века по-разному распорядились нашей судьбой. Но не стоит омрачать сегодняшнее веселье грустными воспоминаниями о давних временах. Лучше будем делиться радостью. Нам приятно, что ваши архитекторы колесят по Армении, чтобы заснять наши монастыри, хачкары, мосты, караван-сараи, и все эти фотографии, можно сказать даже с неким благоговением, издаются у вас. Итальянские архитекторы так же, как и мы, верят в то, что камни, будь они даже разбиты, изранены, все равно метрика народа, свидетельство его рода и племени. А то, что коньяк наш крепок и он «не просто коньяк», так же как здание нашей Оперы не просто здание, а Арам Хачатурян не просто композитор, и его «Танец с саблями» не только стремительность ритма, — все это стало ясно нашим итальянским гостям на премьере балета «Гаянэ», еще до этого приема. Балет был на диво праздничным. Вилен Галстян — и автор либретто, и постановщик — исполнял главную роль. Исполнял ее вдохновенно, с присущим ему даром соединять пластичность с силой и мужественностью. Классический сюжетный треугольник обрел новые краски. Любовь, ревность, ярое полыхание зла и в конечном счете победа добра и красоты. Новая постановка была и оформлена по-новому. Талантливый Минае Аветисян внес в двадцатый век ритм и краски старинных армянских миниатюр, сообщил им стремительность и напор этого века. А музыка была все той же — все те же летящие, искрометные звуки «Танца с саблями». И вдобавок ко всему в одном из кресел амфитеатра сидел сам Арам Хачатурян, поседевший, погрузневший под натиском лет. В конце спектакля все смешалось: сцена слилась с залом, по залу прокатилась волна оваций и на гребне своем подняла, понесла взволнованного Арама Хачатуряна. Сколько таких мгновений было в его жизни! Если сложить их, получатся дни, месяцы, годы. Одного из тысячи таких мгновений достаточно, чтобы осветить им всю биографию человека. И вот ведь — одному досталось столько. Так и бывает! Природа свои дары не делит поровну, поэтому и оценка этих даров тоже не бывает равной. Скажем и то, что в судьбе человека искусства огромную роль играет время. Можно явиться на этот свет с большим талантом, но явиться не в свое время — либо ранее, либо позже. В таком случае не состоится встреча таланта со временем — та чудотворная встреча двух зарядов, of которой рождается молния. «Искра божья» Хачатуряна сверкнула в доброе время, когда народ наш, оправившись от потерь, испытывал радость возрождения. И Хачатуряну выпало воплотить в звуки дух этого возрождения, высвободить из-под многослойных веков народного горя ждущую своего часа буйную радость, точно так же, как Мартиросу Сарьяну вызволить из этих веков зеленые и праздничные пурпурные краски, Чаренцу слить с движением «неистовых толп»[42] священное горение своего слова, А. Таманяну вновь водрузить на колонны рухнувшие капители Звартноца… На следующий день зритель увидел опять «Гаянэ» на сцене Оперного театра, опять гром аплодисментов, опять в зале воодушевление и восторг. И еще, пожалуй, в большей степени, чем накануне: по счастливому совпадению это был и день рождения Арама Хачатуряна. Такие дни рождения принадлежат не только семье именинника, не только его матери, отцу, жене, детям и даже не только залу, до отказа набитому людьми, — они принадлежат народу, стране. После балета большой компанией — тут были и композиторы, и художники, и артисты — мы пошли, чтобы рюмкой коньяка отметить тот день, когда в скромном домике в Авлабаре, одном из районов Тифлиса, родился Арам Хачатурян. Пошли в то самое кафе при гостинице, где вчера веселились итальянцы. Сегодняшнее застолье выглядело по-иному. Если итальянцы чувствовали себя «как дома», то мы были просто «дома». Разве важно, что, скажем, с Виленом Галстяном или Минасом Аветисяном я сиживала за столом не часто, — все мы были единой семьей, близки не только (и не столько) по крови, но и духовно, своими помыслами, призванием своим. Минас молча сидел в углу стола, сидел и говорил как бы сам с собой. Только раз встал, подошел ко мне, чокнулся и снова вернулся на свое место. Одет он был очень современно, элегантно: отлично сшитый костюм, яркая рубашка, яркий галстук. Длинные волосы, борода, усы, которые некоторым придают какой-то чужеватый, «западный» облик, Минаса делали похожим на средневековых наших летописцев. И внешность Минаса соответствовала его искусству. В нем не было ничего напускного: мол, «мы из народа», ничего «нарочито национального». И вместе с тем во всем его обличье жило строгое благородство селянина, его сила и спокойная уверенность. На полотнах Минаса встретишь не так много видов монастырей, армянских орнаментов, почти нет Арарата. Но сколько Армении в раскаленной красноте его домов, похожих на часовенки, в осанке его крестьянок, в том, как сидят они, скрестив на груди руки, в тяжелой согбенности мужских плеч. Минае не заезжий художник, которого привлекает в Армении экзотика — Севан, Звартноц, зангезурские одеяния, золотые и серебряные нити монет. Севан и Звартноц — в крови у Минаса, во всем его естестве. Диву даешься, откуда в пареньке родом из села Джаджур такой натиск новизны, такой органичный сплав ее со стариной, откуда в нем такая закваска. В каких только неожиданных местах не разверзается кратер народного гения, где только не выплескивается его лава. То в селе Джаджур, то в Чанахчи, то в Авла-баре, да мало ли где еще. И какое счастье, что Хачатуряна окружила молодежь, что она есть, что она грядет… Вышли на улицу толпой, в середине ее именинник. Было поздно. Не знаю, кому как, а мне в ночном безмолвии улицы говорят больше, чем днем. А в эту ночь улица Саят-Новы не только говорила, она пела, звучала, у нее были слова и строфы. Улица, улицы, весь город казался продолжением Оперного театра. Словно еще не умолкли аплодисменты, еще сверкали глаза, еще стояли в проходах люди… Какие только города не встречали Арама Хачатуряна, До каким только улицам он не проходил, и всюду следом за ним шла его трудно выговариваемая фамилия, которую он заставил произносить с почтительным восхищением. Но нигде в мире не пройдет он по такой улице, которая звенит, как трепетная струна каманчи Саят-Новы, нигде не будет такой ночи, когда каждый уголок на родном наречии нашептывает тебе бабушкины сказки. Нигде в другом месте, выйдя из зала, не почувствуешь город его продолжением, нигде он не дохнет тебе в душу тем единственным запахом молока, что называется материнским… Человек может жить где угодно, может странствовать по свету, но у него должен быть город, село, поселок, который был бы с ним всегда и всюду, на любых дорогах. Должен быть святой кусочек земли, чтобы человек ежеминутно мог чувствовать ее тепло под своей стопой. Только этот кусочек земли помогает ему твердо стоять на земле, где бы он ни находился…7 июня, Егвард
Нам было о чем поговорить с Виленом Галстяном, поскольку и он только что вернулся из Канады. Рядом с нами шумела речь, подогретая застольем, а нас все тянуло на узенькую, заметную нам одним стежку тихой беседы. — Как там Сона Варданян, вы ее видели? — спрашиваю. — Видел. Дом купили в рассрочку. А сама Сона, как вы знаете, в балете да еще дает частные уроки. Вилен недели две назад заехал ко мне в Егвард. Сказал, что новая постановка «Гаянэ» уже готова, ему хотелось бы, чтобы в театральной программке, которую тоже будет оформлять Минае, наряду с либретто было напечатано еще несколько поэтических строк. Собственно, это и привело его ко мне, и я не смогла отказать ему в его просьбе. Вилен пробыл в Егварде около часа, рассказал, как ему живется, вскользь признался, что тесновато им с женой и ребенком в однокомнатной квартире. Весь остальной его рассказ был заполнен балетом, гастролями в Большом театре, его «Гаянэ», Минасом, их общими поисками и находками, — одним словом, той широкой, захватывающей жизнью, в которой забываешь о тесной комнатенке. — Сона довольна? — прорываюсь я опять к прежней тропке нашей беседы. — Да как вам сказать… Вроде бы довольна… А мне вспоминается, как на второй день пребывания в Монреале меня пригласили вечером в армянскую семью. Среди гостей невысокая, с ладной фигуркой девушка в черном свитере. Она все время безучастно молчала. Где-то в конце вечера спросила: — Вы меня не знаете? Я из Еревана. Сона Варданян, танцевала в балете. Была солисткой в «Жизели», в «Лебедином озере». И я вспомнила: имя Соны Варданян часто мелькало на афишах, в программах балетных премьер. Поинтересовалась, каким ветром ее занесло сюда. Оказалось, вышла замуж за студента, который учился у нас и… — Что здесь будете делать? — Поступила в канадский «Гран бале». Какая-то тревожность на бледном лице Соны, светящемся над высоким глухим воротником черного свитера. На другой день в зале «Плато» она исполняла народный танец «Махмур ахчик»[43] И мелодия была близкой, и публика армянская, — казалось, все есть. Ан нет. Ноги Соны словно с трудом отрывались от сцены, в движениях не было легкости. На этом вечере после моего рассказа об Армении за кулисами ко мне подошла Сона. — Вы все во мне опять всколыхнули, — раздался в полумраке ее голос. — Я ничего не преувеличила? — Нет, все правда. — Голос ее дрожал. В Монреале на вечере Союза культуры имени Текея-на объявили о выступлении молодой пианистки Азнив Кананян. К роялю подошла крупная, полная девушка и начала исполнять «Токкату» Хачатуряна. Но вдруг где-то в середине сбилась, перепутала и, нервно хлопнув крышкой рояля, быстро вышла из зала. Многие недоуменно переглядывались. — Она из Армении. Видно, вас увидела, разволновалась. Говорят, всей семьей собираются обратно, — объясняют мне. В перерыве ко мне подошел невысокий, хрупкий паренек. Голос у него срывался, не разобрать было, что хочет сказать. Единственное, что я уловила, — это то, что желает поговорить со мной наедине. Заметив, что я колеблюсь, уточнил: — Я из Армении, я… Мы условились о встрече. В гостиницу он пришел не один, а с отцом. Парня звали Хачик, отца — Барунак, фамилия их Маджарян. Отец поведал мне невеселую историю. Он родом из Малатии. В 1915 году вся их семья погибла, осталось лишь двое братьев. Жили они в Египте. В сорок шестом решили ехать в Армению. Барунак с женой и ребятишками уехал раньше. А брат так и застрял. Несколько лет назад он написал: «Мы решили всей семьей податься в Канаду. И вы давайте с нами. Старость не радость, а вместе все же полегче». У Барунака была в Ереване хорошая работа — чертежник в Научно-исследовательском институте цветных металлов. Он оставил все и, забрав жену и двоих сыновей, отправился по приглашению брата в Монреаль… — Поверьте, из любви к брату, только из любви к брату… Больше никаких причин. — А он тебе свою любовь хорошо доказал… — вмешался Хачик. Но отец прервал его: — Это к делу не относится… Ну, короче говоря, назад хотим… Уже подавали прошение, нб получили отказ. Теперь второе подали… Смотрю на них — сидят, беспомощно сгорбившиеся, в уголке плюшевого гостиничного дивана, дважды осиротевшие, да какое там дважды — трижды! Потеряли Малатию, потеряли Ереван, а теперь вот совсем чужие в Канаде… — Вместе с братом живете? — Как же! — снова не сдержал обиды Хачик. — Через несколько месяцев пришлось квартиру снять. — Характерами не сошлись? — Еще как не сошлись! Они нас все не туда, не к тем тянули, на Армению взирали с высока… — Ну, это другой вопрос, это к делу не относится, — снова прервал Хачика отец. — Очень просим, тикин Капутикян, помогите… Поедете — объясните там, что ошиблись, что… В глазах пожилого человека блеснули слезы. И у меня в горле запершило. Моя непреклонность дрогнула. — А знаете, ведь может так быть, что вернетесь и вам квартиру не скоро дадут. Люди стыдить станут… Словом, нелегко придется… — Знаем… Многие бы вернулись, да сраму боятся. Другим не признаются, а между собой толкуют об этом. С того дня Хачик навещал меня почти ежедневно, говорил о том, о чем не осмеливался ни с кем говорить вот уже два года. — Да, мы виноваты, очень виноваты… Но ведь даже опасные преступники, отсидев пять — десять лет, выходят на волю, а мы… сколько нам еще здесь отсиживать… Пусть десять, пусть двадцать лет, но все равно вернусь… А за этими вспышками следовали воспоминания: — Мы жили на улице Щорса. Знаете дом Галенца? Художника. Так вот возле них. Мы с сыном Галенца, с Capo, вместе росли… Уж так мне не хотелось уезжать, но и без родителей жизнь не жизнь, уломали меня… Когда в Москве купили билеты в Канаду, я сбежать хотел, в Ереван вернуться… Никак мне здесь не прижиться. Вам-то этого не понять, вы тут всего несколько дней… — Может, оттого, что языка не знаешь… — Нет, не только в языке дело. Здесь люди другие, каждый как-то сам по себе. Замкнуто живут, тепла у них нет для других. Дом, работа, работа, дом — вот и все. Рестораны, заведения всякие, магазины — это все внешнее. Вернетесь в Ереван, расскажите, напишите, убеждайте— пусть не оставляют родину, никто, никогда. Как и отец, Хачик раньше работал чертежником в «Армсельхозпроекте». За эти два года его душа изболелась. Он с трудом подыскивает сейчас слова, чтобы выразить свое состояние. — Знаете, сам не понимаю, что со мной происходит. Ереван меня, как магнит, тянет. Хочу оторваться — и не могу. Не от меня это зависит, поверьте мне. Странное дело — и я привязалась к Хачику. Слушала, прикидывала и так и сяк, старалась понять, что стоит за его словами. Наверно, так же врач привязывается к больному, когда нападает на след болезни и каждое показание, описание самочувствия подтверждают поставленный врачом диагноз… Несмотря на то, что времени у меня в обрез, я выкроила все же несколько часов и по просьбе Хачика приехала к ним домой. Они жили далеко, на окраине города. Хачик своим косноязычным английским сбил водителя такси с толку, и мы колесили зря минут сорок — пятьдесят. Небольшая квартира с голыми белыми стенами. Стол, несколько стульев, диван. Объяснили так: раз мы ждем разрешения вернуться, новую, более удобную квартиру снимать незачем. Материально живется им неплохо. Всей семьей работают на обувной фабрике. Приняли меня с каким-то иным чувством, отличным от того, которое я обычно ощущала в других армянских здешних домах. Там тоже, разумеется, в госте из Армении видят Армению. Но у этой семьи была своя Армения! с узенькой улочкой Щорса, где находился их дом № 49, с небольшим садом, где играли, росли Хачик и Мигран, где каждый выходной собирались к ним друзья. Их Армения— это школа имени Агаяна и пионерский лагерь, Институт цветных металлов, сослуживцы, друзья, бесконечные мероприятия: проверка соцобязательств, доска Почета, квартальная премия, Октябрьские и Первомайские праздники. Их Армения — это прожитые там двадцать — двадцать пять лет, и я вот сейчас явилась оттуда, из этих прожитых ими лет, из их Армении. Ц все-таки я была их и уже не их, так же как Армения была их и уже не их… И все это по собственной вине… Мать плакала навзрыд. — Я перед детьми виновата, я их увезла. Там, дома, каждый выходной будто свадьбу справляли. Соберутся друзья — аккордеон, песни… А теперь у нас как траур… Гляжу на Хачика — сердце на части рвется… Помогите нам вернуться! Ради детей прошу… После кофе Хачик стал показывать семейный альбом, газету «Айастани физкультурник». — Почитайте. Это мне товарищ прислал. Тут про то, что «Арарат» стал чемпионом. Нам все газеты присылают… Открываю альбом: вот они в детстве, Хачик и Мигран, в пионерских галстуках, вот их дом, сад, родня, отец в институте, за рабочим столом. На последних страницах альбома открытки с видами Еревана: площадь Ленина, Матенадаран, детская железная дорога. А дальше вклеены вырезки из наших газет. Здесь, в Монреале, они тоже, эти открытки и вырезки, как фотографии родни. Листали альбом, и вспыхивали воспоминания. — Меня на работе уважали. Директор в последний день сказал: «Если плохо будет, товарищ Маджарян, возвращайтесь». Ведь я немало проработал там, двадцать лет. Сразу, как из Египта приехал, туда устроился… Хачик, воспользовавшись тем, что отец весь в воспоминаниях, снова возвращает меня к альбому: — Видите эту девушку? — Невеста? — Нет, но… Сами посудите, разве мог я такую девушку сюда, в эту пасть, затолкать? Смотрю — девушка как девушка, черноглазая, кудрявая, более чем обыкновенная ереванская девушка. — Говорят, вы отсюда в Америку собираетесь? — встревает мать. — На что вам эта Америка? Что вам там делать? Глубокий надрыв в душах этих людей. Они ненавидят «обещанный рай», сорвавший их с места и ставший причиной их бед и мытарств. И, решив вернуться в Армению, на сей раз видят здесь только темное, не позволяют себе заметить даже лучика светлого, чтобы — не приведи господи — вдруг не изменить решения… Что-то похожее происходит и с теми, кто оставляет Армению. Они яростно отшвыривают все доброе, чернят самое светлое, рубят сплеча, рвут узы, связывающие их с нею. И не подозревают, как однажды затоскуют по этим же узам, по тем дорогим нитям, что долгие годы тянулись от них же самих, сплетались в общую пряжу, которая была их жизнью, их биографией. — Мы из Египта приехали сразу после войны, — вспоминает отец. — Тяжелые были годы: хлеба нет, продуктов нет… Однажды смотрю — у нас на работе переполох. И меня зовут. «Пошли, говорят, товарищ Маджарян, на картошку записываться». Я обалдел: что это значит «на картошку записываться»? Потом, конечно, разобрался уже, что к чему… «Записываться на картошку» — в этих двух словах время, большой отрезок его, чередование и горького, и радостного вперемежку. Этого не поймет никто из тех, кто не «записывался на картошку», не получал ее по карточкам, не делил со страной всех горестей и радостей… А Маджаряны это понимают. И я это понимаю. И это нас как-то соединяет, сближает. И когда в дверь позвонили и вошел один из моих респектабельных монреальских знакомых, чтобы подвезти меня в гостиницу, мне вдруг показалось, что с приходом этого человека нарушилось нечто, что принадлежало нам, нам одним…9 июня, Ереван
Опять Хачик, Маджарян Хачик. Вот уже больше недели, как он здесь. Приехал в Ереван туристом. Мои попытки содействовать возвращению его семьи не дали пока результатов. — Уже не надо, — печально говорит Хачик. — У пас в семье перемены. Брат обручился. Родители потеряли надежду на приезд сюда, сняли новую квартиру. — А ты как? — Я… я вчера подал заявление в ОВИР, решил остаться. — А что будет с квартирой? — сразу спрашиваю я. — У Валиной семьи две комнаты. Пока там будем. Но не в этом дело. Тяжело мне, тикин Капутикян, очень тяжело. Семья у нас очень дружная. Мать, когда узнает, что я остался, с ума сойдет. Хачик рассказывает, что Валя встретила его в аэропорту, вместе приехали в город. — Сперва не верилось, что я тут. Как сон, один из тех, что в Монреале видел. А потом, как встретился с Capo и другими ребятами, заглянул в наш дом, показалось, что никакой Канады и не было, никуда я отсюда не уезжал… Пошел в свой институт. Говорят: «Иди к нам, работа найдется». Друзья так обрадовались, а уж я… Тут ведь все другое. Человек должен там пожить, чтоб узнать цену всему этому… Во время моей поездки, случалось, и в других городах подходили ко мне после встреч кое-кто из тех, кто Приехал сюда «по второму заходу». Не могу сказать, что все они вызывали во мне такое сочувствие, как Хачик. Чаще всего вспыхивал протест, и я с трудом себя сдерживала. В Лос-Анджелесе после моего вечера мы зашли в кафе поужинать. Напротив меня сидел человек, лицо которого показалось знакомым. Выяснилось, что он уехал из Армении, где работал корректором в издательстве. — А здесь что делаете? — спросила я, просто чтобы не молчать. — Здешняя колония выхлопотала время для передач по телевидению. Помогаю им в этом. Хотим попросить и вас дать интервью. Если вы не против, я буду вести передачу. Ну, а если против, найдут кого-нибудь другого… — Нет, нет, зачем же другого? — подал голос кто-то из сидевших рядом. — Он отличный ведущий, пусть будет он! — Нет уж, пусть будет не он, — выпалила я. — Почему? — удивились вокруг. — Он сам знает, почему. — И перевела разговор на другое, чтоб не залезать в эти дебри… Потом старалась не смотреть в сторону этого человека, но мысленно продолжала спор с ним: сам оставил Армению, а теперь собирается задавать мне вопросы о том, как живет и процветает Армения. Где же логика?.. Бывший корректор был растерян, жалок. Потом я узнала, что телевидение не основное его занятие. Продает где-то пончики. Еще мне запомнилась вечеринка с местными армянами во Флориде, в городе Форт-Лодердейн, в зале при том доме, где жили Татосяны. За небольшими столиками в зале сидело человек пятьдесят — шестьдесят, в основном люди пожилые. После «торжественной части» фотографировались. Я заметила, что у нескольких молодых ребят ереванский говор. Выяснилось, что они «из Армении», брат и сестра Татуряны. Во мне тут же сработал условный рефлекс. — Что так помрачнели? — спросил молодой человек. — А чему радоваться? Чем вам так плохо пришлось в Армении? Есть нечего было? — Нет, очень даже было. Фотографом работал. Зарабатывал как следует. Так вышло. Довели нас, тикнн Капутикян. Управдом так извел отца, что тот слег, бедняга. Ахпарами[44] называли нас, потому что репатрианты. — У каждого из нас могут найтись поводы для обиды. Всем, что ли, бросить все и разъехаться в разные Флориды? Несколько человек из Майями ждало конца вечера, чтобы отвезти меня в свой город. Татуряны больше не попались мне на глаза. Я поднялась к Татосянам, в свою комнату, собрать вещи, а когда через полчаса спустилась, смотрю, у подъезда стоят они, дожидаются. — Как? Вы еще не ушли? — удивилась я. — Чего здесь застряли?! — Вы на нас так не смотрите, тикин Капутикян, — насупился молодой человек. — Вам кажется, что эти местные, с которыми вы сейчас поедете, больше патриоты, чем мы? А ведь мы сегодня проделали путь длиной в два Севана, чтобы вас послушать, ваш рассказ об Армении. Что тут скажешь? Грустно кивнула бывшим соотечественникам и отошла… Еще больший повод для грусти был в Бостоне, в субботней школе при церкви Святой Троицы. И там меня охватило тягостное чувство, когда я говорила с ребятишками и видела, что слова мои оставались безответны, что огромных усилий стоит им припомнить то или иное слово, выговорить его. Только один мальчонка лет восьми-девяти с решительными синими глазами при каждом вопросе поднимал руку. — Ребята, кто может прочесть стихотворение? — Я! — И мальчик декламирует «Слово сыну». — Ребята, кто может назвать столицу Армении? — Я могу — Ереван… — Ребята, кто может спеть? — Я спою… — Как тебя зовут, детка? — обрадованно спрашиваю я. — Ашот. — Молодец, так хорошо выучил армянский. — А я из Еревана… И все встает на свое место. Вернее, все переворачивается с ног на голову. И мимолетная радость сменяется горестными раздумьями. А мальчик тем временем звонким голосом поет знакомую песню:Ереваном стал мой Эребуни. Ты мой новый Двин, новый мой Ани[45].
Мальчик сел, а я все не могу оторвать от него глаз. — Скучаешь по Еревану? — По товарищам скучаю, по школе… Ашот приехал из Еревана месяцев шесть-семь назад. Он ребенок, а у детей переломы заживают быстро, даже душевные переломы. Обзаведется новыми друзьями и в новой школе забудет песню «Ереваном стал мой Эребуни…» А те, кому уже пятнадцать-шестнадцать, чей характер уже почти сформировался, те с трудом приживаются и во Франции, и в Америке, и в Бейруте. Они восстают против родителей, пытаются в одиночку вернуться назад… ОВИР и Министерство внутренних дел Арменни частенько занимаются разбором заявлений, присланных из Аргентины, Франции, Бейрута. Бывает, приезжают в Армению туристами и решительно требуют: «Не уедем больше отсюда, что хотите с нами делайте». Но увы, в тот же ОВИР поступают и другие заявления — с просьбой о разрешении на выезд. — Нужно двери шире распахнуть. — У меня дома в Ереване сидят Хачик и Валя. Ее личико озабоченно, напряжено. — Чтоб можно было в любое время, когда и куда захочется, туристом съездить. Увидят, что заграница не то, что им кажется, — продолжает она. — Это мало поможет. Одно дело — проехаться туристом, а другое дело — жить, — вставляет Хачик. Его просьбу уважили, он остался, женился, однако… Валя давно лишилась отца, жила с бабушкой, дядей и его женой. Их старый дом снесли и дали на четверых двухкомнатную квартиру. Когда умерла бабушка, Валя поняла, что вконец осиротела, а еще глубже почувствовала это теперь. — Мне комната полагается, но они… — Да все бы ничего, работали бы, комнату снимали, а там, глядишь, и дали бы нам квартиру, — говорит Хачик. — Дело не в этом. Мать как узнала, что я остался, слегла… Отец пишет: если не вернусь, не выдержит… — И что же? — насторожилась я. — Снова заявление подал? — Не судите меня строго. Не в силах я убить мать… — А когда едете? — Не знаем. Да и потом… чем позже, тем лучше: подольше в Ереване поживем. Мое место здесь, когда бы ни было, а вернусь… Прямо как веревку на шею накинули и тащат туда, поверьте мне… В душе я сержусь на мать Хачика, которая вновь обрекает сына на мытарства. Не она ли причитала в Монреале: «Я, я грешна перед детьми!» Что же, и второй раз грех вершит?.. Я смотрю на них, на Хачика и Валю, — растерянные, совсем еще юные. И душа у них, видимо, не из кремня. Жизнь подхватила их, закрутила, как щепку, и несет. Но они-то ведь не щепки, а люди, хотят жить так, как им подсказывает сердце, а вот не выходит… И снова вспыхивает во мне протест и недоумение: во имя чего покинула родину семья Маджарянов? К чему эти напрасные терзания, эти изнуряющие душу усилия — сначала уехать, потом вернуться? Думаю обо всем этом, припоминаю свое открытое письмо, Опубликованное давно уже в газете «Айреники дзайн». Я писала о том болезненном состоянии души, которое должны будут испытать люди, сами присудившие себя к лишению родины. Ту горестную «историю болезни» и тот «диагноз» подтвердило время, подтвердило увиденное и услышанное мной воочию. Отсутствие государственности на протяжении многих веков отразилось и на психологии людей, особенно после 1915 года, когда западные армяне вынуждены были оставить свои исконные земли. А отторгнутому от родной земли человеку, в конце концов, безразлично, где жить: не вышло в Сирии — пусть будет в Ливане, не Греция — так Франция, не Франция — так Америка. К сожалению, кое у кого из репатриантов бытует до сих пор пагубная инерция: «Не Армения, так пусть будет…» Нет, коли вступили на землю Армении, не должно существовать больше «пусть будет». Мы не имеем права забывать, что такое для нас эта горсть земли — Советская Армения — и ценой каких лишений, каким горением души она создана. В ней есть и ваша доля: ваша любовь и тоска до приезда сюда, ваше усердие и труд, вложенные потом в нее. Уезжая из Армении, вы вычеркиваете из своей биографии эти годы, посылаете собственной рукой пулю в исполненную светлых стремлений юность, во всю свою прошлую жизнь. Слова мои не касаются армян, постоянно живущих за границей. Можно жить вдали от Армении, но душой, сердцем, помыслами быть с ней. Человек, покинувший родину, какого бы положения он ни добился за рубежом, не сможет заново обрести душевный покой. Как бы в своем отъезде он ни обвинял Армению, в каких-то тайниках души он будет себя ощущать виноватым не только перед родиной, но и перед своим народом. И тогда в порядке самозащиты станет отрицать, противиться, отрываться не только от Армении, но и от армянской культуры. Именно это смутное душевное состояние объясняет то, что вернувшиеся, к примеру, во Францию люди инстинктивно обособляются от местных армян, а местные чуждаются их… Оторваться сейчас от Армении — значит оторваться от живого потока ее истории, несущегося из глуби веков в будущие века, и, подобно еле заметному ручейку, пропасть, исчезнуть в прибрежных песках. А поток, какие бы рифы и пороги ни вставали на его пути, все равно продолжает и продолжит свой путь.
13 июня, Ереван
Зазвонил телефон. Слышу западноармянский язык. — Здравствуйте. Это говорит Бюзанд Гранян из Лос-Анджелеса… Когда бы мы могли повидаться? Итак, мне предстояло встретиться с одним из деятелей дашнакской партии, с которым я познакомилась во время своей недавней поездки в Канаду и Америку. Встреча в конечном счете не столь уж необычная. Начиная с того дня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, когда в Союзе писателей мы принимали Андраника Царукяна, редактора бейрутского еженедельника «Наири», и впервые удивленно таращились на «живого дашнака», немало перевидали мы их, и приезжавших в Армению, и за рубежом. На сей раз из Лос-Анджелеса прибыл руководитель тамошнего совета армянских школ, филолог Бюзанд Гранян. В Лос-Анджелесе на моем литературном вечере он был одним из выступавших. Парой, а точнее — господин, Гранян повел речь о поэзии издалека. Начал с Афин и Аристотеля, с Рима и Петрарки. Речь его была выразительна, витиевата, с испытанными ораторскими модуляциями. Словом, было все, кроме конкретного разговора о стихах советской поэтессы, суть которых, видимо, не так уж пришлась ему по душе. И вот сегодня мы снова должны встретиться, но уже у нас, в Ереване, и дойти до меня ему здесь проще, чем из Афин и Рима: всего-навсего пересечь площадь Ленина, окаймленную стройной колоннадой новых зданий, в архитектуре которых использованы мотивы древнеармянского зодчества, пройти мимо прозрачных, веселых стеблей фонтанов посреди площади, обогнуть белокаменный фасад Исторического музея, Государственную картинную галерею, старенькие, почти ставшие уже экспонатами домики на улице Абовяна — и у входа в Дом художника мы увидимся. — Какая неожиданность! — пожимаю я руку господину Гранину. — Для меня самого неожиданность. Был на Ближнем Востоке и решил заехать в Армению. Хочу сам увидеть ее, сам почувствовать и понять, без посредников… Заходим в Дом художника посмотреть выставку итальянского изобразительногоискусства, открытую в связи с «итальянской неделей» в Армении. В вестибюле сталкиваемся с группой молодых художников. Знакомлю с ними господина Граняна. После короткой оживленной беседы выходим и поднимаемся по улице Абовяна к Детской картинной галерее — там тоже выставка «Италия в рисунках армянских детей». Но галерея, увы, закрыта, и мы держим путь прямо к Матенадарану. Много в Армении древних монастырей и храмов, а этот построен уже в наши дни и тем не менее вызывает то же трепетное чувство, что и храм Рипсимэ или монастырь в Гегарде. Хранящиеся под куполом Матенадарана манускрипты вдохнули душу в это громадное здание, пропитали запахом свечей и ладана эти серые базальтовые стены, каменные скульптуры, тяжелые резные двери… В Торонто, в Бостоне я бывала в прославленных на весь мир музеях. Они полны чудес, сотворенных руками и умом человека. Но как бы ты всем этим ни восхищался, все равно помнишь, что это вот скульптуры из Египта, это греческие барельефы, это металлические ожерелья и броши с Ближнего Востока, китайский и японский фарфор, персидские миниатюры, мебель времени какого-то из Людовиков, то есть все или почти все привезено, приобретено. А эти древние рукописи если и привезены, то к себе домой — они вернулись с чужбины на родину… Когда входишь в Матенадаран, в тебе не может не всколыхнуться целая гамма чувств. И главное в ней — гордость за свой народ, за тех, кто «с кусочком просфоры и глотком воды» расписывали их пурпуром и лазурью, спасая от огня и меча, переносили из монастыря в монастырь, из века в век и вот донесли до наших дней. Гордость за народ, который в те сороковые военные годы, в холоде и голоде, строил и построил новый храм — Матенадаран, вечное пристанище священных страниц. Поймет ли все это господин Гранян? Если он действительно любит свой народ, если знает, что такое для нас Маштоц и Нарекаци, если захочет вернуться мыслью в то канувшее лихолетье, а потом снова возвратиться сюда, под эти светлые своды, он должен все это понять. Но преисполнится ли он тем же чувством, что и строители Матенадарана, его директор, научные сотрудники, эта вот молодежь, которая расположилась сейчас за маленькими столиками в уютном кафе возле озера, неподалеку от Матенадарана, — словом, все мы? Здесь актеры из драматического театра, сотрудники газет «Со-ветакан Айастан», «Ерекоян Ереван», журнала «Гарун», издательства «Айастан», из института «Ереванпроект», из консерватории имени Комитаса, музыкальной школы имени Саят-Новы. Они забежали сюда перекусить во время перерыва. Это озеро с каменными террасками вокруг, весь Ереван, вся Армения — их дом, их жизнь, нх любовь, хотя кое-кто из них порою и ворчит, что маловато развлечений, что в магазинах не купишь приличных джинсов, что не так-то просто съездить в Лос-Анджелес… Мы тоже заходим с Бюзандом Граняном в кафе, отыскиваем свободный столик, чтобы выпить чашку кофе. Однако «чашечка кофе» сразу же обернулась бутылкой коньяка: тут же навстречу поднялись и пригласили подсесть к ним ребята из драмтеатра. Гранин растроган. Коньяк, засветивший свои три звездочки, еще усилил его взволнованность. И ребят подогрел коньяк: задают гостю вопросы, рассказывают о своем театре, приглашают на премьеру в тот же вечер. Гость охотно соглашается. И все это сдобрено тостами за народ, за Армению, за неожиданное застолье. Один из молодых актеров поднял бокал. — Товарищ Гранин… — Господин Гранин, — шутливо поправляю я. — Да, господин Гранян… Вы видите сейчас нашу страну, видите, какой она стала. А знаете, есть такая картина: «Мать Армения слезы льет» на развалинах Ани… Я с усмешкой прерываю: — Знает, знает он эту картину. Сто лет уже его партия только на этой картине и держится, а ты вздумал объяснять… Господин Гранян ухмыляется: — Тикин Капутикян не упустит случая поддеть. Что же, говорят, правде рот не зажмешь… Конечно, то, что сорвалось у меня с языка, не было случайным острословием, хотя сорвалось и случайно. Мне показалось, что господин Гранин из тех, кто умеет думать. Прощаясь, он говорит, что по возвращении в Америку непременно повидается с Арутюном Газаряном и уговорит того подарить Матенадарану ценное собрание старинных рукописей. Не знаю, какие еще побуждение увез с собой господин Гранян, захотевший все увидеть «сам, почувствовать и понять без посредников». Но мне хотелось бы напомнить ему, что Арутюна Газаряна незачем убеждать. Большой друг Армении, этот старый известный коллекционер прислал уже в Матенадаран около шестисот ценнейших манускриптов. Лучше бы господин Гранян, которому доверено воспитание детей, направил свой пыл на это не менее важное дело. В Сан-Франциско я побывала в семье, перебравшейся сюда из Ирана. Дети в этой семье, в отличие от многих других, где мне довелось быть, свободно владели армянским. А пятнадцатилетний Тигран, ученик местной субботней школы, превратил свою комнату в маленький музей армянской истории. Не помню уж, висела ли там на стене та самая картина «Мать Армении слезы льет», но то, что в углу я увидела трехцветный дашнакский флаг, — это уж точно. У Тиграна объемистый альбом. В него вклеены иллюстрированные страницы из истории Армении. На них царствовавший в первом веке Тигран Великий, Месроп Маштоц, полководец Вардан Мамико-нян и портреты деятелей дашнакской партии. Из Советской Армении — только памятник Давиду Сасунскому и еще много пустых страниц. — А другого альбома у тебя нет? — спрашиваю паренька. — Нет. Родители, поняв смысл моего вопроса, тут же заверили, что в ближайшее время свозят Тиграна на родину. И задумываешься: почему это юноша, лишь побывав в Армении, должен узнать, что помимо Тиграна Великого и Вардана Мамиконяна есть и другие имена, другие, новые реликвии? До чего же субботняя школа четко усвоила это предвзятое отношение, если так последовательно лишает детей всяческого общения с их живой и здравствующей родиной. Ведь даже вести о ней, виды новых ее городов и сел, ереванских улиц и площадей, Оперного театра и университета, Бюраканской обсерватории и Академии наук, стадиона «Раздан», пионерских дворцов и многое, многое другое могли заполнить не только пустые страницы альбома, но в какой-то мере и ту пустоту, которая рано или поздно разверзнется в душе Тиграна, если перед этой душой не распахнутся двери живой Армении… Нельзя жить только прошлым и курить фимиам только музейным экспонатам. В музее можно простоять несколько часов, испытывая восторг и преклонение, но жить в музее нельзя. Чтобы дышать, помимо фимиама нужен простой свежий воздух, помимо пергаментов нужна снующая по лестнице Матенадарана, гомонящая, спорящая толпа, нужно кипение улиц, это кафе, звенящее молодыми голосами, это озеро в зеленоватой ряби мелких волн и дыхание, живое, клокочущее дыхание жизни. Вот почему хотелось бы, чтобы Бюзанд Гранян, в руках которого нелегкое дело просвещения, исправил невеселое положение вещей в подведомственных ему армянских школах.18 июня, Егвард
Шоссе, ведущее из Еревана в Аштарак и дальше, начинается довольно неприглядно. Какие-то хаотичные строения, заводы, ТЭЦ, и надо всем этим тяжелый воздух, пощипывающий ноздри. Не становится дорога краше и за городом. Только когда оторвешься от города и его окрестностей, когда горизонт высвободится от дымящих труб, как воздаяние за всю эту неприглядность встает, вырастает, яснеет с каждой минутой Арарат, и уже не оторвать от него взгляда. Машина несется на всех парах, и кажется, не двигатель вертит колеса, а белоснежный магнит Арарата притягивает, приближает к себе и машину, и тебя… Раньше этой дорогой мы ездили только в Арташат, в Хор-Вирап, Зангезур и Джермук. Но вот уже несколько лет как прибавилась в этих краях трасса Ереван — Советашен. Выезжаем из Еревана, заводской дым и гарь въедаются в душу, которой и без того больно, едем мимо пожелтевших, пыльных земель, мимо сел и поселков, и боль все нарастает. Когда же дорога вдруг сворачивает, юркнув в красно-каменное ущелье, здесь, среди скал, наступает мгновение, когда кажется, что колеса останавливаются сами. Из машины выходит водитель. Выходят все, от мала до велика, приехавшие из Еревана, из Москвы, отовсюду, Поворачивают направо и подходят к каменной глыбе. На ней высечено: «Да будет свет, но настала тьма». Несколько лет назад, 17 июня 1971 года, в этой точке земного шара был эпицентр толчка, который, подобно землетрясению, образовал трещины во всех уголках Армении: здесь, на этом самом месте, в автомобильной катастрофе погибли поэт Паруйр Севак и его жена. И вот теперь каждое семнадцатое июня по этой печальной трассе с утра допоздна приезжают сюда люди. Вчера, 17 июня, также множество народа приехало навестить Паруйра. Говорю просто — Паруйра, потому что кажется, что он есть, он жив, только давно не видать его, потому что он страшно занят: достает цемент и камень для своего не достроенного еще дома, рыхлит землю в саду и сажает розы, начал новую поэму или, наоборот, забросив все, закатился куда-нибудь с друзьями. Так нам кажется всегда, каждую минуту, потому что мы всегда, каждую минуту, помним его… Есть ушедшие, которые всегда присутствуют среди нас, живут в нас сильнее многих живых. Смерть сделала Паруйра еще неотделимее. К его крупности, к его таланту прибавилась еще боль утраты, трагичность обстоятельств этой утраты. Не дать погаснуть скорби в сердцах — это тоже ведь значит жить. На могиле Паруйра, где покоится и прах жены поэта Нелли, цветы соткали палас, такой же, что висит над тахтой в его доме. Вокруг могилы отец, мать, родня, все село — старики, женщины, дети. Не плачут, благоговейно внимают песнопению, звону колоколов, что исходит из магнитофона, лежащего на траве, словно из самой земли, и звон этот серебрит все вокруг — деревья, сад, поле, это сжимающее горло безмолвие. Я на сей раз принесла цветы не только от себя, но и от Шагана Натали. Не забыла последние слова старика при нашем прощании в Бостоне: «Приедешь в Армению, поклонись от меня могиле Паруйра…» Потом заходим в дом, который строил Паруйр своими руками, да так и не достроил, не успел. Комнату, в которой он работал, трудно назвать кабинетом. Маленький стол, купленный в сельмаге, на нем книги, книги вокруг. У стены широченная тахта, на которой он спал. Ножки у тахты толщиной с бревно, с возрастом они стали трухлявые, пористые, как пемза. Тахта скрипит, будто старинная люлька. Сколько ей, интересно, лет? От деда она осталась? От прадеда? А он, Паруйр, спал на этой тахте и писал о космических кораблях, о счетно-вычислительных машинах, читал Лорку и Сартра, обдумывал письмо в Будапешт, поэтессе Жуже Раб… Эта тахта, эта скорбящая мать, закрывшая по-деревенски рот платком, похожая на горсть опаленной земли, и эти старики крестьяне — словно иссушенная солнцем сучковатая лоза. Как из всего этого родился Паруйр Севак, самый современный из нас, самый созвучный космическому веку поэт? Каждый раз задаю себе этот вопрос с радостным удивлением и каждый раз сама отвечаю: деревья вырастают из земли, земля — единственное, что может удержать корни… Дом Паруйра на склоне горы. А внизу стоит дым от деревенских тондиров. Исстари повелся этот обычай: в памятные дни — в день поминовения, на пасху, в день Вартана Мамиконяна — во всех домах пекут хлеб. Вот и сегодня в память о своем сыне не сговариваясь все в селе разожгли тондиры, и над каждым домиком взвился дым. Пекут хлеб — святой, праведный хлеб. Наверное, так инстинктивно возник и тысяча шестьсот лет уже живет в нашем народе, что свято чтит книгу и письмена, и Праздник переводчика — в честь Месропа Маштоца, в честь тех, кто создал эти книги и письмена.19 июня, Егвард
В то время как день ото дня ослабевает воздействие армянского печатного и устного слова в Америке, когда закрываются газеты, начавшие свою жизнь еще в конце прошлого века, когда все чаще и чаще на стол к редакторам таких изданий ложатся коротенькие письма: «Просим больше не высылать вашу газету, наш отец скончался»— взамен этого набирает силу другое: все больше и больше появляется армянских газет и журналов на английском. К примеру: «The Armenian observer» в Лос-Анджелесе, «Armenian miror spector» и «Armenian revue» в Бостоне, «The Armenian Reparter» в Нью-Йорке, журнал благотворительного союза «Ararat» и так далее. С каждым днем возрастают тиражи этих изданий, расширяется сфера их влияния. Причина ясна: большая часть здешних армян читает и говорит на английском. Газеты же, которые продолжают выходить на армянском, зачастую на своих страницах пытаются поддеть «англоязычных», упрекнуть, что, мол, причина их популярности только в том, что они лишены своего лица, четкой направленности, легковесны, поверхностны. Так или иначе, эти англоязычные газеты в настоящее время больше всего отражают состояние колонии, ее образ жизни и образ мышления. На их страницах особо почетное место отведено «светской хронике», где расточительно-подробно, прямо взахлеб, описаны, точнее — во всех возможных ракурсах отсняты званые обеды, «коктейль-парти», новогодние балы, разные семейные торжества в домах у людей, карман которых способен выдержать накладные расходы подобных «мероприятий». По-своему отражал жизнь и прием, организованный в Нью-Йорке газетой «The Armenian Reparter», на который были приглашены армянские деятели науки и искусства, говорящие на английском, чтобы встретиться с гостьей из Армении. Армянская колония в Америке богата прославленными именами. Как Уильям Сароян в литературе, так и в мире кино знаменит Рубен Мамулян, один из известнейших режиссеров, чьи фильмы «Королева Кристина» с Гретой Гарбо в главной роли, «Люби меня этой ночью», «Песнь песен» входят в самый строгий перечень мировой киноклассики. Люси Амара и Лили Чукасизян, родители которых беженцы из Кесарии и Себастии, — звезды первой величины «Метрополитен-опера». Композитор Алан Ованес давно уже занимает видное место в музыкальном искусстве Америки. Он был среди тех немногочисленных мастеров, кого пригласили участвовать в создании новых произведений к двухсотлетию Соединенных Штатов. Очень многое внес в свои творения Алан Ованес из древиеармянских песнопений, из духовной музыки и сумел органически облечь в современные, казалось, никак не сочетаемые со всем этим формы. Его произведения «Ванское озеро», «Святой Вартан», «Ахтамар», «Таинственная гора», многие из которых звучали и у нас, когда он приезжал в Ереван, — ярчайший пример этого редкостного сплава. Но еще более удивительным показалось мне то, что Востаник Адоян родом из Вана, он же знаменитый Ар-шил Горький, стал основоположником целого направления мировой живописи, именуемого иммерисонистическим абстракционизмом. В Нью-йоркском музее современного искусства «Art modern» я долго стояла перед его картинами. Глядя на эти воистину абстрактные, алогичные полотна, на одержимость смещения линий и дуг, на мечущиеся сполохи света и тени, которые, возможно, и были воплощением окружающего его алогичного мира, я думала: откуда в юноше, выросшем среди мирных улочек Вана, под шелест тихих его садов, такая болезненная сумятица нервов, такая издерганность души? Не оттого ли, что все это так алогично обрушилось на мирные улочки, на тихие сады, обрушилось, замутило сердце и мозг осиротевшего мальчика, а потом через годы толкнуло наложить на себя руки?.. На девятом этаже знаменитого Карнеги-холла, где наряду с громадным концертным залом расположены и другие залы и студии, находится мастерская армянского художника Овсепа Пушмана. Двое убеленных сединами мужей неспешно и благоговейно, так, как открывали бы двери монастыря, открывают обитую железом дверь и предлагают мне войти. Включают свет, но свету тут тесно — все забито картинами, уложенными одна на другую, и антиквариатом. Это мастерская Овсепа Пушмана, а двое пожилых людей— его сыновья. Скоро исполнится сто лет со дня рождения их отца — он умер уже давно, — а сыновья, которым теперь уже за семьдесят, кажется, все еще те же школьники Армен и Арман, под строгим взглядом отца готовят уроки. В безмолвии, будто исполняя священный ритуал, дрожащими руками берут одну из картин, словно она фарфоровая и может разбиться, ставят на мольберт. Выключают верхний свет и зажигают лампочку сбоку, чтобы повыигрышнее осветить картину. Затем отходят в сторону, оставляя зрителя наедине с нею. И каждая из них будто обязывает к этому. Изображен ли на ней египетский кувшин, обрывок пергамента или статуэтка Будды — все это оттенено или подсвечено раздумьем, созерцательностью и предполагает такое же восприятие, такую же сосредоточенность. Жаль, что родина Пушмана мало знает о своем талантливом сыне. В Америке же он самый знаменитый армянский художник-классик. Пятьсот его работ находятся в американских музеях и у меценатов. И в этой мастерской хранятся бесценные полотна. Сыновья платят ежемесячно пятьсот долларов за мастерскую, чтобы все было, как и раньше. Много я перевидела любящих сыновей, но таких не встречала. Отец для них не только большой художник — он кумир, которому они самозабвенно служат. Армянским владеют слабо, но при этом твердо знают одно: их отец хотел бы видеть свои работы в Армении, под родным кровом, и ждут этого дня. Еще в одну обитель культуры я наведалась в Америке. Это дом-библиотека Арутюна Топаляна в Бостоне. Об огромном состоянии его я наслышалась в Ереване. Арутюн Топалян действительно очень состоятельный человек. Но то, чем он обладает, как бы ни исчислялось оно в тысячах долларов, трудно назвать состоянием. Всю свою жизнь Топалян собирал «бумаги», но такие бумаги, на которых начертаны строки рукою Гёте, Гюго, Достоевского, Толстого. У него хранятся письма Вольтера, Руссо, Дарвина, Горького, Ромена Роллана, Эйнштейна, редчайшие издания, газеты и журналы, возраст которых одно, два, а то и более столетий. Этот музей-библиотека широко известен и вызывает зависть многих книгохранилищ мира. Всю жизнь Топаляну сопутствовали великие люди, и теперь он страшится расстаться с ними, никак не решается отправить свою коллекцию в Армению, хотя давно собирался сделать это. В чьи руки попадут эти великие, если сердце их старого спутника вдруг остановится на полпути?.. Но вернемся все же в Нью-Йорк, в «Арарат», где прием армянских знаменитостей, не говорящих по-армянски, достиг, как говорится, своего девятого вала. У всех уже приподнятое настроение, прямо как в Ереване, — без конца тосты, танцуют, поют хором: «И стол наш богат, и напротив Арарат», хотя вместо одного длинного, как у нас принято, стола множество столиков, а вместо Арарата фреска с его изображением. И я в тот вечер, хотя это и было уже в конце моего пребывания здесь, и силы мои были на исходе, оказалась «в ударе». Собрались люди широкого кругозора, вольнолюбивые, с богатым жизненным опытом, и это подстегнуло меня. — Аветик Исаакян, — сказала я, когда пришел мой черед говорить, — любил повторять, что байроновскую «мировую скорбь» он воспринял еще глубже, лишь причастившись к скорби армян, потому что она частица мировой скорби. И в самом деле, тот, кто озабочен судьбами мира и человечества, кто ратует за добро и справедливость, того не может не тронуть судьба нашего народа, тем паче если он принадлежит к нему. Когда мне с почтением не раз здесь называли имя нашего сородича, который щедро облагодетельствовал американский университет, основав библиотеку при нем, я не могу поверить, что этот человек и впрямь книголюб, интеллигент, если он безразличен к народу, уже тысячу шестьсот лет имеющему письменность и книги, имеющему Матенадаран и Саят-Нову. Чтобы постичь Армению, чтобы чувствовать и носить в себе нелегкую армянскую кровь, чтобы, как сказал Ваган Текеян, «воспринять красоту ее боли и надежды», нужен глубокий внутренний мир. Илья Эренбург, побывав у нас, написал: «Я сожалею, что увидел Армению на закате жизни. А может быть, в этом есть и хорошая сторона. Говорят, первая любовь самая сильная, хотя и не самая разумная. А в конце жизни все и видишь, и понимаешь лучше. Трудно в нескольких словах рассказать о тех великих открытиях, которые распахнулись передо мной в Армении — в стране, куда нужно входить с непокрытой головой, как в японский храм, и сняв обувь, как в индийский храм». Да, чтобы войти в монастырь Гегард, нужно не только оставить у дверей обувь, но и оставить за дверью ту душевную сытость, что так мешает человеку быть человеком… Весь мир сейчас ищет тот кусочек просфоры, который утолит его духовный голод. А наш народ с его трудной судьбой, с его тяжкими столетьями, с его вечным стремлением достичь, найти, поделиться, протягивает нам эту просфору, и мне жаль того соплеменника моего, который ощущает духовный голод, но не в силах уже причаститься к протянутому ему хлебу. Меня переводят, но как, в какой мере доходят мои слова — не знаю. Знаю только, что слово, помимо фонетики, обладает еще неким излучением, некими живыми токами, которые могут запасть в сердце не только через орган слуха, но и через другие органы чувств. Слово обретает эти свойства только в соответствующей атмосфере — когда воздух насыщен встречными зарядами, исходящими из глаз, из сердец. На той встрече воздух был именно таким: царила незримая перекличка и в пространстве, и в лицах людей, и в глазах, и в красных шариках крови…22 июня, Егвард
Одно из характерных явлений в современном спюрке — это наличие писателей-армян, пишущих на иностранном языке. Это не единичный случай, как, скажем, Уильям Сароян или Майкл Арлен, их так много сейчас, что уже издаются целые антологии, сборники. Недавно в Монреале вышел в свет сборник «Армянские поэты Северной Америки, пишущие на английском», куда входят произведения двадцати девяти, большей частью молодых, поэтов. В Бостоне я познакомилась с двумя молодыми поэтами, пишущими на английском, — Даяной Тер-Оганесян и Гарольдом Бондом. Если девушка была похожа на армянку и по фамилии, и по внешности, то юноша полностью соответствовал своему иноязычному имени — светловолосый, белокожий, с серыми глазами. Даяна знала армянский с грехом пополам, но могла связать пару слов. Гарольд же лишь напрягал свои уши и внимание, чтобы как-то хоть понять, о чем идет речь. От этого отчаянного напряжения его и без того растерянная фигура еще более съеживалась, казалась жалкой… Однако было в них что-то общее. Это усилия цыпленка еще в яйце расколоть его, проклюнуть, вылупиться из скорлупы, которой в данном случае был для них чужой язык, чужая оболочка. В Лос-Анджелесе я встретилась с Алисией Киракосян, поэтессой, пишущей на испанском. Она родилась в Аргентине, в Буэнос-Айресе, вышла замуж за молодого биолога — армянина из Лос-Анджелеса и переехала сюда. С Алисией, с ее поэзией я была уже знакома давно, еще в Ереване. …Как-то на газетной странице мелькнули строки, коротенькие, как удары сердца, и аритмичные, такие, как эти удары, когда волнение нарушает спокойное биение.Немое таинство свершается во мне. Я, Айастан, Хочу издалека Познать твои святые камни И древний твой язык, В котором скрыта тайна; И прошлые века, что созерцали Каменное шествие Твоих хачкаров, — Но их, увы, колени подломились. Немое таинство Свершается во мне. Тоскую по тебе, Хоть о тебе И нет во мне воспоминаний.
Кто она, эта девушка, пишущая по-испански, Алисия Киракосян? Откуда она? Из каких веков, с какой планеты посылает нам сигналы о себе? Да, она из безвестных веков, с другой планеты, ибо иной язык — это другая планета, другое небесное тело, хоть и вращаются они вокруг одного и того же светила. Но так настойчивы были сигналы, посланные этой девушкой, так требовательны. Пусть услышат ее, пусть узнают, что она есть на свете, что вот-вот появится, приедет! И приехала. Эта девушка, отец и мать которой из Вана, родилась и выросла в Аргентине. Гибкая, тоненькая веточка, только глаза крупные, черные, как крыло птицы, парящие глаза. Пришла, и состоялась встреча со своей планетой:
Я узнала тебя. И ты отпечаток следов, Что веками Сама же на мне оставляла. И любовь моя встала Навстречу тебе Из глубинных моих, Потайных миров. Я узнала тебя, о мой Айастан. И, узнав тебя, Я узнала себя…[46]
Алисия вернулась в Буэнос-Айрес, как сама говорит, словно родившаяся заново. В ее стихотворениях, написанных после возвращения, — крик явившегося на свет младенца, его удивление от первой встречи с солнцем, восторг открытия. Кажется, присутствуешь при священнодействии, где не младенец, а душа получает крещение, крещение Арменией. Когда видишь Алисию, удивляешься, что у этой хрупкой, озорной девочки — такая зрелость и глубина. Удивляешься и веришь, что это сгусток чувств, переданный ей от того поколения, которое там называют «америкацын» — то есть родившиеся в Америке, — но которое чувствует «себя не по себе», ищет и хочет найти наконец себя, хочет прикоснуться к родной земле, соки которой — вакцина против обезличивания, одноликости.
…Знаешь, наше единство с тобой — Коренное. …Предначертано было Мне однажды вернуться К началу, Чтобы корни И сущность свою откопать[47].
23 июня, Егвард
В Бостоне находится учреждение, которое сокращенно именуется NASR, иначе говоря — National Association of Armenian Studiesand and Researhes — Национальный центр армяноведения. Мне было интересно побывать там. Это двухэтажное здание, где работают не более десяти человек. NASR ставит перед собой только научные и культурные цели. Организует лекции по армянской истории, литературе, искусству. Именно в эти дни моего пребывания в Бостоне была приглашена прочитать там лекцию по армянской истории профессор Колумбийского университета Нина Гарсоян, которая неоднократно приезжала в Армению и труды которой там высоко ценили. Однако самое важное в деятельности NASR то, что благодаря ему в четырех университетах Америки — Колумбийском, Калифорнийском, Гарвардском и Пенсильванском— основаны армяноведческие центры, существует штат преподавателей, читаются специальные курсы, изучается армянский язык. NASR начал издавать на английском серии памятников армянской культуры, научные исторические исследования. В их библиотеке я видела полки, заставленные уже вышедшими книгами. В Филадельфии, в одной из аудиторий Пенсильванского университета, я встретилась с несколькими преподавателями-гуманитариями. Инициатором этой встречи стал руководитель здешнего армяноведческого центра профессор Вардан Григорян. Он был из Ирана и соединял в себе жар Востока с вполне западной деловитостью. В таком же центре в Калифорнийском университете у меня тоже состоялась встреча, однако там присутствовали лишь профессора и десятка два студентов— все армяне. В Филадельфии дело было организовано поосновательнее, пошире. Собирались профессора и преподаватели с разных кафедр. Если не ошибаюсь, они впервые встретились с писателем из Советской Армении. Беседа, которая поначалу была довольно-таки пресной и вялой, потихоньку изменила температуру. Специалист по русской литературе, естественно, владел русским, и это помогло мне «выйти на орбиту» без ракетоносителя, то есть без переводчика. Мой собеседник, хотя и прекрасно знал язык, был все же не такой уж мастак в живой, разговорной речи, и это само по себе давало мне шансы для удачного «полета». Трудней было с европейской литературой, но тут на помощь мне пришел сам ' Шекспир. Когда я сказала профессору американцу, что у нас в Армении Шекспир отлично переведен уже сто лет назад и так вошел в обиход, что в деревнях полно Гамлетов, Ромео и Джульетт — пастухов, водителей, доярок, продавщиц, — мои академические собеседники несказанно оживились. И уже всерьез я прочла свое стихотворение «Быть или не быть», которое тут же, с ходу, перевели. Слушателям пришлась по душе мысль стихотворения, а преподаватель-араб, красивый, несколько позирующий человек, кажется из Египта, который тоже был поэтом и поначалу весьма скептически отнесся к своему армянскому собрату, точнее — «сосестре» по перу, вдруг воодушевился и захотел моего «Гамлета» из села Аштарак заставить говорить по-арабски. Я, конечно, обрадовалась, все вокруг поддержали энтузиазм арабского коллеги. Я тут же пообещала вручить ему стихотворение. Вардан Григорян пообещал немедля сделать подстрочный перевод, все мы друг другу что-то обещали, но ни одно из этих обещаний не было выполнено. Честно говоря, нередко и такое бывает: даже в ту самую минуту, когда мы обещаем, чувствуем, что не выполним, не сумеем, и все же верим в эти обещания. Но все равно остается радость той пролетевшей минуты, ее наполненность, которая сама по себе тоже, наверное, чего-то стоит… Только все-таки следует различать, где, как гоь^рится, бескорыстная, «святая ложь», а где просто злая, лживая ложь, обман. Однако независимо от стихов и переводов, выполненных и невыполненных обещаний, наши встречи, взаимное узнавание, связи, переводы, выход вширь насущно необходимы для такой, казалось бы, не имеющей к этому прямого отношения цели, как сохранение нации. Увы, сейчас в «западном» спюрке, то есть во Франции, Соединенных Штатах, в Южной Америке, особенно среди молодежи, где главенствует французский, английский, испанский, все армянское, как это ни парадоксально, большей частью сохраняется не в армянском. Но дело не только в языке. Разительно изменился и социальный состав спюрка, его психология, общий уровень. Достаточно сказать, что в 1700 колледжах Америки 2500 ученых и преподавателей армян, сотни врачей, инженеров, государственных чиновников, людей искусства. Завоевали они положение и в деловых кругах. Конечно, немало и таких, которые своей жизнью и делом подтверждают истину, что «капитал не имеет родины». Такие давно отошли от всего «национального». Но и те, которые еще тянутся к своим истокам, требуют нового, с поправками на время, подхода. Бывает в спюрке так, что молодой человек с детства привык к Месропу Маштоцу или монастырю Ахтамар, чьи изображения он видел висящими на стене еще у постели деда, а сейчас приобщается ко всему этому заново, когда вдруг у друзей, или в университете, или в английской газете прочтет и услышит невзначай о нашей тысячешестисотлетней письменности и литературе, о самобытности армянского зодчества, когда в зале Карнеги-холл или в Мюзик-центре Лос-Анджелеса местная публика нескончаемо аплодирует Араму Хачатуряну, ансамблю танца Армении, когда вдруг по телевидению покажут Ереван или Цахкадзор, где заседает международный симпозиум физиков. Все это вызывает новую волну интереса, пробуждает чувство национальной гордости, сопричастности. Еще в начале нашего века студент университета в Генте, в Бельгии, молодой поэт Даниэл Варужан, увидев сборник армянской поэзии, изданный Аршаком Чобаняном на французском, окрыленный этим, стал читать там лекции о родной культуре, заверяя, что «мы способны не только гибнуть от ножа, но и творить, да уже и сотворили прекрасное». Сейчас у нас гораздо больше оснований и возможностей показать миру, что мы не только «гибли от ножа», но способны создать и создаем храм Рипсимэ и кольцевой ускоритель, способны рождать Тороса Рослина и Мартироса Сарьяна и в вечных поисках света с той же истовостью вгрызаться в скалы Гегарда и твердь туннеля Арпа — Севан.24 июня, Егвард
Несколько лет назад в Будапеште мне показали армянскую церковь. Это небольшое помещение на четвертом или пятом этаже. Когда я вошла, служба уже закончилась, но прихожане еще не разошлись, стояли, беседовали. Я подошла и, уверенная, что раз церковь армянская, то и они армяне, бодро поздоровалась. Черноволосые, с темными глазами и бровями, крупноносые мужчины с типичной внешностью не смогли ответить мне на армянском даже на приветствие. Это были потомки переселенцев из нашей древней столицы Анн. Обосновались здесь после ее разрушения, постепенно забыли свой язык, обычаи, нравы, но вера инстинктивно продолжала жить в них и каждое воскресенье поднимала на четвертый этаж этого помещения, побуждала подойти и склониться перед армянским евангелием этих Иштванов и Шимонов, которые когда-то были Ованесами и Симонами. Пессимисты утверждают, что такая же участь ожидает всех зарубежных армян, тем более американских. Однако в смутном водовороте жизни американских армян хоть и не очень явно, но где-то в самых глубинах замечаешь еле уловимое движение, какой-то ручеек, который внушает надежду на то, что однажды он сольется с другими, станет ручьем, рекою. Это оживление здешней национальной жизни, когда в колониях кроме церквей стали энергичнее действовать и другие силы, когда один за другим возникают молодежные клубы, ансамбли песни, танцев, спортивные объединения, театральные труппы, когда кроме воскресных школ постепенно открываются ежедневные и давно забывший язык своих дедов, целиком поглощенный житейскими делами отец жадно заучивает первые слова из букваря сына, возвратившегося домой из армянской школы. Что же произошло, как случилось, что на засохшем, казалось, погибшем стволе пробиваются вновь зеленые ростки? Некоторые это считают лишь временным явлением, возникшим под влиянием армян, которые перебрались сюда из Ирана, Стамбула и Ближнего Востока. Конечно, это обстоятельство нельзя игнорировать, хотя оно и малоутешительно, поскольку свидетельствует об ослаблении старых, уже сложившихся колоний. Но кроме этого временного стимула есть еще ряд причин, которыми можно объяснить перемены в жизни американского спюрка. Мне думается, что имеет значение та атмосфера, которая сейчас существует в мире. Впервые в истории человек оторвался от земли, ее притяжения, пролетел по Вселенной к Луне, к неизвестным планетам, и все языки мира, казалось, давно уже сложившиеся, были вынуждены принять в себя новые слова, новые словосочетания и понятия, такие, как «спутник», «космонавт», «луноход», «прилуниться», и многое другое. Казалось, что этот отрыв от земли должен был укрепить в человеке лишь одно чувство — любовь и привязанность вообще к матери-земле, должен был всех людей мира сделать «всеземлянами», не оставив места для национальных чувств. Но произошло неожиданное. Может быть, оторвавшись вдруг от земли, держа путь к другим планетам, человек внезапно испугался: а не затеряется ли он в бездонности космоса? Не обезличится ли мир от натиска НТР, от масштабности ее открытий, от всеохватывающей информации? Инстинктивный этот страх продиктовал ему еще крепче прильнуть к своим основам: к своей земле, к месту своего рождения, к своему роду и племени, заставил его отыскивать свои корни, чтобы ухватиться за них, противостоять любой невесомости, в прямом и переносном смысле слова. Важнейшую роль сыграло существование Советского Союза и социалистические преобразования в значительной части мира. Это, а также расцвет и развитие наций, входящих в социалистическое содружество, пробуждение народов Азии и Африки, сбросивших колониальное иго и встающих на собственные ноги, способствовало повсеместному росту национального самосознания. Этот процесс распространился и за океаном, активизировал там борьбу негров за гражданские права, способствовал тому, что в Америке оживились разные этнические группы, хотя это «оживление» вряд ли отразится на характере и общем облике страны, где нивелировано подлинное лицо населяющих ее наций и племен. Так или иначе, эти изменения пошли на пользу западному спюрку. Многие из тех, кто давно уже распрощался со своими истоками, теперь делают попытки вернуться к ним. Один из самых американизированных армян в Бостоне, Стив Мукар, который вложил много личных средств в библиотеку местного университета, теперь вдруг снова стал Степаном Мкртчяном. Свое «духовное преображение» он объясняет так: «Я до последнего времени был далек от всего армянского и нейтрален, однако потом понял, что быть нейтральным по крайней мере бессмысленно. В конце концов, нейтральный — это человек, который ничего не делает, и грош ему цена. Когда я оглядываюсь вокруг, то вижу, что каждая нация гордится своим прошлым и делает все возможное, даже невозможное, чтобы сохранить себя. Почему нам не поступить так же, когда за нами века, когда нам есть что сохранять? И вот я, духовно уже преображенный, теперь среди вас со всеми своими возможностями «делать невозможное».
Вот это «оглядывание вокруг» и способность видеть, что «каждая нация гордится своим прошлым», заставляет сегодня американского армянина обратиться к прошлому своего народа, его корням.
Эмигрировавшие когда-то в Новый Свет скитальцы, большей частью лишенные образования, тяжким трудом зарабатывали себе на хлеб насущный. Тоскуя по родному краю, они тем не менее считали «честью» получить американское гражданство, овладеть английским, «американизироваться». Людей с такой психологией, может, и огорчало нараставшее отчуждение их подрастающих детей от родного языка, от них самих. Но комплекс уничижения, который был у отцов в те годы, невольно толкал на содействие «перелицовке» сынов. Теперь, через столько лет, положение иное. Родившиеся в Америке и занявшие свое «место под солнцем» сыны больше не боятся, что их — не дай бог! — не сочтут американцами, что их английский смешон. Наоборот, теперь у них порою даже считается «изыском» знание родного языка, то, что печать предков все же лежит на их детях. Отсюда и стремление этих сынов вернуться «к себе», открывать школы, клубы, поддерживать связь с родиной.
Но, конечно, самая весомая причина оживления национальной жизни — это наличие Советской Армении, мечта, претворенная в действительность.
Маленькая эта страна на Армянском нагорье — источник духовной энергии для своих сынов, раскиданных по всему свету, своего рода кибернетическое устройство, которое издали направляет вышедший на орбиту космический корабль, упорядочивает его движение.
Так или иначе, эти изменения пошли на пользу западному спюрку. Многие из тех, кто давно уже распрощался со своими истоками, теперь делают попытки вернуться к ним. Один из самых американизированных армян в Бостоне, Стив Мукар, который вложил много личных средств в библиотеку местного университета, теперь вдруг снова стал Степаном Мкртчяном. Свое «духовное преображение» он объясняет так: «Я до последнего времени был далек от всего армянского и нейтрален, однако потом понял, что быть нейтральным по крайней мере бессмысленно. В конце концов, нейтральный — это человек, который ничего не делает, и грош ему цена. Когда я оглядываюсь вокруг, то вижу, что каждая нация гордится своим прошлым и делает все возможное, даже невозможное, чтобы сохранить себя. Почему нам не поступить так же, когда за нами века, когда нам есть что сохранять? И вот я, духовно уже преображенный, теперь среди вас со всеми своими возможностями «делать невозможное».
Вот это «оглядывание вокруг» и способность видеть, что «каждая нация гордится своим прошлым», заставляет сегодня американского армянина обратиться к прошлому своего народа, его корням.
Эмигрировавшие когда-то в Новый Свет скитальцы, большей частью лишенные образования, тяжким трудом зарабатывали себе на хлеб насущный. Тоскуя по родному краю, они тем не менее считали «честью» получить американское гражданство, овладеть английским, «американизироваться». Людей с такой психологией, может, и огорчало нараставшее отчуждение их подрастающих детей от родного языка, от них самих. Но комплекс уничижения, который был у отцов в те годы, невольно толкал на содействие «перелицовке» сынов. Теперь, через столько лет, положение иное. Родившиеся в Америке и занявшие свое «место под солнцем» сыны больше не боятся, что их — не дай бог! — не сочтут американцами, что их английский смешон. Наоборот, теперь у них порою даже считается «изыском» знание родного языка, то, что печать предков все же лежит на их детях. Отсюда и стремление этих сынов вернуться «к себе», открывать школы, клубы, поддерживать связь с родиной.
Но, конечно, самая весомая причина оживления национальной жизни — это наличие Советской Армении, мечта, претворенная в действительность.
Маленькая эта страна на Армянском нагорье — источник духовной энергии для своих сынов, раскиданных по всему свету, своего рода кибернетическое устройство, которое издали направляет вышедший на орбиту космический корабль, упорядочивает его движение.
25 июня, Егвард
Еще раз, но теперь в последний, вернемся в Америку, вернее в Нью-Йорк, а после этого уже домой, в Ереван. Вернемся на Америкен авеню, в гостиницу «Нью-Йорк Хилтон», поднимемся на ее тридцать седьмой этаж в 52-ю комнату на короткое, очень короткое время, потому что скоро уже придут люди, чтобы проводить меня, провести всем вместе этот последний, предотъездный вечер. Поехали в ресторан «Арарат». Были прощальные слова, взаимные благодарности, пожелания. Когда мы шли оттуда, был поздний вечер, но я поняла, что не смогу сейчас пойти в гостиницу складывать вещи, не смогу заснуть, пока не пройду хоть по самым ближайшим улицам, не попрощаюсь — пусть бегло — с Нью-Йорком. Конечно, хотелось бы пройти по улицам одной, побыть наедине с ними, но увы, это желание для меня— чистая фантастика после всего того, что я здесь наслышалась о ночной, подстерегающей опасностями жизни Нью-Йорка. Как обидно! Обидно, что эта красота, сотворенная человеком, что это парение камня, ливень огней, сверкание витрин и вывесок, стремительная гладь тротуаров — все это сейчас оставляет ощущение какой-то оцепенелости. Каждый уголок, каждая щель, даже ярко освещенная, ощетинилась, напряглась в колючем ожидании внезапной беды. Почему это так? Неужели человек так несовершенен, если столь рекламируемая «свобода» может превратить его в игрушку в ее же тисках? Так, значит, не эта свобода нужна человеку, а свобода от самого себя, высвобождение от своих ненасытных инстинктов, от извечных искусов вещного?.. Несмотря на такую репутацию ночного Нью-Йорка, тем не менее мы шагаем по его улицам, мы, три женщины— Вава Хачатрян, Лусик Меликян и я, художница, писательница и поэтесса, идем медленно, останавливаясь, так, как ходили бы в Ереване. Прошли по Амери-кен-авеню, потом свернули направо, на 33-ю стрит, которая поуже и постарше. На изможденных лицах облупившихся зданий зевают арки, внутри виден дворик, лестницы, у подъездов сложены пластиковые мешки для мусороуборочных машин. Заходим в знаменитый книжный магазин Ризоли, торгующий до этого позднего часа. Два просторных этажа заполнены книгами, альбомами, пластинками. Преобладает классика. Тихо звучит Скрипка. Мне кажется, будто я зашла в какой-то очень знакомый дом, и книги, хоть все они и на английском, тоже мне знакомы. Чуть подальше от магазина две негритянки, молодые, длинноногие, в мини-юбках, стоят, ждут. Мимо проходит группа белых мужчин, один из них подошел к девушке; обменявшись с ней несколькими словами, он присоединился к товарищам и продолжил путь. Наверное, сделка не состоялась. Сворачиваем в Парк-авеню, на улицу старых, маленьких и самых аристократических гостиниц. Вошли в кафе «Сен-Мориц» при одной из таких гостиниц: обитая красным бархатом мебель, на стене овальные зеркала в рамках в стиле рококо. Сели, выпили чай, смакуя, не торопясь. Разговор шел об Исаакяне, о первом армянском переводчике Шекспира Хан-Масеяне, об армянской персидской колонии. Потом по тем же улицам вернулись домой… Так прошел мой последний вечер в Нью-Йорке — лениво, покойно, — и даже две ждущие негритянки на углу не вклинились в мягкую прощальную грусть этих часов. На следующее утро я улетела. На аэродром пришли человек десять — пятнадцать, самые близкие. Вместе с их последними словами и объятиями уношу с собой весь собранный мной за четыре месяца тяжелый груз встреч, лиц, событий, груз перевиденного, перечувствованного, и настолько тяжел он, что мне трудно не только подняться с ним по трапу в самолет, но и в продолжение почти двенадцатичасового перелета хоть на несколько минут взмахом ресниц сбросить его и вздремнуть. Нет, не удалось мне поспать над Атлантическим океаном ни по дороге туда, ни обратно… Приехав в Ереван и начав уже писать книгу (потому что все перевиденное и перечувствованное я не могла не выплеснуть на бумагу), все еще не представляла себе ясно, что станет тем стержнем, который будет держать «тело» книги, вынесет на себе все бремя моих мыслей и чувств. И вот один, казалось бы случайный, толчок помог мне во всей ясности увидеть этот хребет, отчетливо понять, что я хочу сказать своей книгой. Третьего марта по телевидению должна была быть передача, посвященная пятидесятилетию со дня рождения Паруйра Севака. Я попросила мою егвардскую соседку Седу, когда начнется, позвать меня. У нее собрались соседи по подъезду, у которых еще нет телевизора. Это простые люди, крестьяне, и среди них семьяпастуха— он сам, его жена, мать и дети. Передача началась. Целых два часа звучали слова— воспоминания, речи, стихи. Целых два часа эти люди — пастух, безмолвная маленькая старуха мать с натянутым по старинке на рот платком, детишки-школьники с пытливыми глазками — сидели как пригвожденные к месту, не отводили глаза от экрана: не дай бог что-нибудь упустить! Я видела, что не все из услышанного они полностью воспринимают — Севак одновременно и прост, и очень сложен, — но я чувствовала, что здесь кроме сознания действовал еще инстинкт, какая-то добрая радиация, которая, казалось, растворяет, делает доступной сложную мысль, понятным непонятное слово. И одновременно я чувствовала, что от присутствия этих людей, от токов, идущих от их сердец, слова поэта как-то еще больше одухотворяются, словно прорастают, созревают, создается та животворная взаимосвязанность, которая извечно существует между народом и его великими сыновьями, землей и парящим над ней кислородом. Народ — это не просто определенное количество людей с общей историей и географией. Вот сейчас более миллиона людей, сидящих у экрана, слушают одни и те же слова, причащаются к одному и тому же чувству, живут одной и той же радостью и печалью. В этот миг нет ни домов, ни улиц, рушатся стены и перегородки, сравниваются этажи, стираются расстояния. В эти минуты есть лишь одно дыхание, жар его, который сплавляет людей в единый слиток. Это и есть народ, этот единый слиток, сотворенный духом, историей, веками, сегодняшним и завтрашним днем. Случилось так, что судьба разметала наш народ по свету, что только часть его осязаемо, непосредственно включена в эту живительную взаимосвязь. Мы должны объединить, собрать вместе духовную энергию народа и, как бы ни был разбросан спюрк — в Азии или в Европе, в Америке или в Австралии, — должны сделать так, чтобы его дыхание сливалось с дыханием людей, приникших в тот самый вечер к телевизору, сливалось с духовной атмосферой, исходящей от Арарата, от озера Ван и Сасунских гор, от развалин Ани и строк Нарекаци, из монастырей Гандзасара и Гегарда, от Вечного огня Цицернакаберда, от смеющегося Еревана, от всей новорожденной Армении. Мы должны сделать так, чтобы энергия, которая подымается с расстелившейся по свету шири спюрка, чтобы она не рассеялась, не пролилась дождем над чужими океанами, а вошла в общий созидательный потенциал народа, из которого набирают силу его великие сыны, его культура, его вклад в общечеловеческое… Так вот раздумывая, продолжала я свой путь на страницах книги, уже твердо зная, куда и зачем иду. Я попыталась рассказать о том, как и в какой мере спюрк вовлечен в эту духовную атмосферу и как Армения, Советская Армения насыщает ее постоянными излучениями света и надежды. Я буду счастлива, если моя книга хоть немножко да уплотнит силу этих излучений и поможет еще больше поверить в возрождение древней страны Наири. …Была далекая осень в очень далекой стране. В этот сентябрьский день состоялась моя первая встреча с канадскими армянами, первая на западном полушарии. Зал «Плато» в Монреале был переполнен. И вот в конце вечера, когда я кончила говорить и со сцены сошла в зал, из затихающей волны аплодисментов стихийно возникла другая волна — песня «Эребуни-Ереван». Пели все съехавшиеся сюда с разных концов огромного канадского города. Волна набегала, ширилась, захватила весь зал. И вот воздух с минуты на минуту сгущался, наполнялся какими-то непостижимыми мельчайшими частицами— трепетом, тоской, болью, радостью, надеждой, затаенными в сердце, в легких, в крови, долетевшими сюда из далеких веков и земель, долетевшими и одухотворившими все вокруг. И если случится так, что из недр нашего народа снова явится миру еще один Хачатурян или Сарьян, я знаю, что и те частицы, сгустившиеся в воздухе зала «Плато», пересекшие океан, смешались, влились в дыхание гор и долин Армении, из которого, как из пламени и дыма, родились и будут рождаться наши легендарные и подлинные Ваагны[48], чтобы продолжить слово, обращенное к человечеству, — о свете, добре и справедли-вости…26 июня, Ереван
Старое ущелье, все изрезанное, изборожденное… Утром от края утеса отвалился огромный кусок скалы, сорвался и грохнулся на дорогу. Моя бабушка то ли пешком, то ли на тележке добиралась сюда помолиться и поставить свечу, чтобы отогнать беды. Когда я попала сюда впервые, не помню, только помню, что дорога была каменистой и голой. И сама дорога, и все вокруг было цвета глины, и называлось это место Гарни-Гегард. И как на киноэкране, когда едва заметная вдали точка постепенно приближается и, увеличиваясь с каждой следующей секундой, становится наконец зданием с колоннадой и встает перед тобой, так и Гарни и Гегард где-то в глубине прожитых мною лет шли и шли вместе и, чем дальше, тем больше, наполнялись мыслями, чувствами, воспоминаниями. Гарни и Гегард. Два храма совсем близко друг от друга. Гарни — еще языческий, двухтысячелетний, весь в желтовато-дымчатой пыли развалин. Из них мачтами тонущего корабля тянулись ввысь полуразрушенные колонны, словно взывая о спасении. Гегард — христианский, лет на тысячу помоложе, высеченный в ущелье, в скале, в жестком, обожженном ее склоне, уходящий весь вглубь, но как будто все выше и выше вздымающийся к небу. Сегодня, как, впрочем, и всегда, у храма Гегард многолюдно. На просторной площадке, на подступах к ней автобусы, разномастные легковые машины. Люди приходят, приезжают изо всех уголков Армении, со всего света, приезжают причаститься к таинству Гегарда, к его древнему величию. И само ущелье с его каменными, стремящимися ввысь склонами — тоже словно рукотворный храм, еще не войдя внутрь, ты охвачен молчанием благоговения. Гегард — скальные врата в Армению, в душу Армении. Построен он в тринадцатом веке, хотя слово «построен» тут явно не подходит. Здесь не закладывали фундамент, не воздвигали колонн, не возводили стен и не брали их «под крышу». Все высечено из одного камня, вернее, в одном камне, а еще точнее — на одном дыхании. Иначе невозможно представить, как люди в те незапамятные времена пробили, высекли сбоку в горе отверстие величиной с окошко и стали вгрызаться вглубь и вглубь, стали расширять его и руками в течение многих лет превратили в конце концов скалу в огромный монастырь, вернее, в несколько монастырей с высокими круглыми сводами, стройно-гладкими колоннами, с нишами и ризницами, с венчающей все филигранной резьбой на карнизах и капителях. Стоим под этими величавыми сводами и молчим. Но, кажется, у молчания здесь есть эхо, исполненное звуков, шепота. У подножия закопченных хачкаров дрожащие желтоватые язычки горящих свечей. Я приехала сюда сегодня с молодым поэтом Кари-ком Памачяном. Карик с Ближнего Востока, учился в Ереване, окончил филологический факультет нашего университета, а сейчас живет в Париже. Мы выходим из ворот Гегарда, чтобы ехать дальше, в Гарни, и вдруг откуда ни возьмись перед нами возникает деревенского вида человек, предлагающий пакетики американской жвачки. — Удивительный мы народ, — в сердцах говорю я, — так просто соединяем жвачку и ладан… — Ладана все-таки больше, — задумчиво говорит Карик и, отойдя на несколько шагов, уже у машины продолжает: — Недавно был в Нью-Йорке. Ездил гостить к брату, но еле вынес эти несколько недель. А впрочем, я благодарен этому городу, он помог мне еще больше полюбить Париж. Первые два-три года после Еревана я ведь места себе не находил. Когда сейчас снова приехал сюда, показалось, что никуда и не отлучался. Опять студент, опять живу в общежитии в Зейтуне. Знаете, что меня особенно радует? Встречаю знакомых ребят, девушек, здороваются и между прочим спрашивают: «Слушай, где это ты пропадал? Почему это тебя не видно было?» Удивительно, — когда учился здесь, никак не предполагал, что настанет день — и я буду радоваться тому, что я частичка этой вот обычной уличной толпы, всех этих куда-то спешащих, простых, даже грубоватых людей. Нет. не предполагал… По узким улочкам села Гарни, затененным разросшимся старым орешником, приближаемся к полуразрушенным воротам. Я подхожу к фанерке, воткнутой в землю слева уже внутри крепости. «Работы по восстановлению храма Гарни производятся специальной научно-производственной мастерской по реставрации памятников при Госстрое Арм. ССР». За последние годы я много раз проходила мимо этой таблички, но даже не читала ее. Лишь теперь сообразила, что потускневшая фанерка с на скорую руку, простыми белилами написанными словами, наверное, должна храниться в местном музее. По сути, она возвещала о событии века, о том, что армянская земля, которая тысячелетиями привыкла к тому, что ее разрушали, к тому, что все воздвигнутое рушится, а порушенное ровняется с землей, стала свидетелем иного, до неверия собственным глазам необычайного явления. Античный языческий храм, который во всех книгах по истории искусства, во всех альбомах и справочниках был изображен в своем, казалось, присущем ему от века полуразрушенном виде, вдруг является миру первозданным, по-юношески стройным, сияющим. В первую минуту кажется, что здесь что-то не так. В моем воображении первоначальный образ храма был грандиознее и мощнее. Казалось, что в те давние времена колонны упирались прямо в небо. Казалось, что храм всей своей каменной громадой царил над ущельями и горами, подчинял их своей языческой стихии. Сейчас же удивительно маленьким, почти умещающимся на ладони выглядит это воссозданное сооружение и удивительно живым, зовущим, приветливым. И ущелья, и скалы вокруг тоже посветлели, смягчились, будто вместе с ним помолодели на две тысячи лет, вернулись к своей юности. Ведь на склонах этих ущелий и скал резвилась детская тень тогдашнего новорожденного храма, лишь они видели его изначальный облик. Минуты, действительно исполненные величия. Я вхожу в те двери, куда двадцать веков назад входили наши длиннобородые прапраотцы, где всевластные жрецы зажигали огни на алтаре, поклоняясь богине любви и плодородия. — Видел бы это Варужан[49] — тихо говорит Карик, — какие песни написал бы он. — Ничего, напишет мой друг Ваагн Давтян, он у нас тоже язычник, — посмеиваюсь я. И все же в эти минуты я не в прошедших веках. Я гляжу на карнизы и потолок, ищу знакомые мне камни. Вот капитель в ионийском стиле, а вот камень с орнаментом — гроздью винограда, а эти куски карниза с высеченными на нем гранатами. Я знала место, где эти обломки всегда лежали. Все годы моего детства, юности, зрелости они были на земле и вот теперь вознеслись наверх. Я знала также одного паренька, который жил в низеньком, покосившемся домике на окраине Еревана. Вместе с родителями приехал он сюда из Лори, из села Вардаблур. Был, как и мы, студентом, окончил институт, стал архитектором. У него были большие карие глаза, волнистые волосы. Девушки засматривались на него, а он не поднимал головы, не замечал их. Глаза его прикованы были к страницам книг Стрижковского и Тораманяна, к репродукциям базилики Касаха и полуразрушенного храма Гарни. Не с тех ли дней возникла в нем дерзкая мечта поднять валявшиеся на земле капители и снова водрузить на колонны? Он подходит к нам в рабочем комбинезоне, весь в пыли от обтесываемых камней, с уже совсем седыми, но по-прежнему густыми, волнистыми волосами. Друг нашей трудной молодости, выросший с нами, застенчивый и немногословный Алекси, Александр Саинян, руководитель восстановительных работ в храме Гарни. Вот уже сколько лет он живет здесь, неподалеку от своего «объекта». С рассвета он на строительной площадке вместе с надежными друзьями — мастерами-каменотесами Саргисом, Цолаком, Богдасаром. Идея восстановления Гарни возникла еще сто лет назад, в восьмидесятые годы прошлого столетия. Известный археолог граф Алексей Уваров, председатель Кавказского археологического общества, предложил перевезти обломки храма в Тбилиси и восстановить его возле дворца царского наместника. Затем в последующие годы было разработано несколько проектов реставрации, но подлинную реальность эта идея обрела лишь в 1966 году, когда правительство Армении государственной гербовой печатью скрепило и утвердило последний проект и выделило для работ необходимые средства. Академик Бабкен Аракелян возглавил раскопки в Гарни. Археологи и мастера-каменщики два года отыскивали в ущелье поблизости от храма рухнувшие туда после землетрясения обломки стен и колонн, чтобы потом, подняв их наверх, восемь лет подряд тщательно, со скрупулезностью ювелира, соединять с новыми кусками базальта, добытого в том же ущелье, из того же двухтысячелетнего карьера. Искали и собирали остатки древних камней и пионеры села Гарни, обшарившие буквально все окрестности. Удивительный покой в лице Саиняна, во всем его облике. Покой землепашца, который, невзирая на все тревоги мира, бушующие вокруг, упорно пашет и засевает свою землю, и упорство это не только его личное, оно в нем от этой земли, от этих гор и ущелий, от народа. В то время, когда скопившихся в арсеналах мира бомб хватит на то, чтобы вдребезги разрушить земной шар, превратить его в дым и пепел, когда достаточно одного нажатия кнопки, чтобы укрытые в засаде бомбы выскочили из своих тайников, — маленький, выстрадавший свою нынешнюю жизнь народ поднимает из руин, вызывает почти из небытия свои храмы и продолжает свой путь в века. Сколько еще тысячелетий собирается жить этот народ, земля этого языческого Гарни, этого чуда человеческих рук — Гегарда, земля космической обсерватории «Орион»… Словно по какому-то велению свыше все это находится рядом, на одном пятачке, на каменной кромке ущелья над рекой Азат. И мне чудится, что астрофизик Григор Гурзадян, пятидесятилетний человек, голубоглазый, со взъерошенными огненными волосами и порывистыми движениями, нетерпеливо принимает из рук Александра Саиняна факел, передающуюся из века в век эстафету, эту современную Лампаду Григора Просветителя, лампаду легендарного Лусаворича, и уносит в свои владения. Мы во владениях Гурзадяна. Здесь неподалеку его лаборатория. — Взгляните, взгляните, какая красота, какая игра красок на этой горе, — говорит хозяин, — будто она только затем и явилась на свет, чтобы позировать художнику. Наверное, раз сто я ее писал. И хотя наш с Кариком собеседник не профессиональный художник, а исследователь космоса, живописи он отдает много времени и на всех его полотнах — Армения и ее горы. — На этом камне над обрывом, где вы сидите, — улыбается Гурзадян, — сидела Терешкова. Сюда приезжали наши космонавты. Я оглядываюсь по сторонам: эта краснокаменная, вся в извечной виноградной лозе гора, эта кувыркающаяся вниз речушка, болтающая на гарнийском диалекте, эти ржаво-пергаментные холмы, где, подобно полустершейся строке, еще прочерчивается старая-престарая стежка, ведущая из древней столицы Арташата в Гарни, и космонавты! — Значит, они бывали здесь, в Армении? — спрашиваю я. — Да, почти все. Перед полетом приезжают, чтобы свыкнуться с повадками нашего «Ориона». В семьдесят первом году тут был Волков. Он впервые должен был взять в космос «Орион-1». Прощаясь, сказал: «Григор Арамович, до чего же здорово у вас! После полета приеду сюда работать, примете?» Я был потом на полигоне в Казахстане. Снизу, из Центра, мы, прямо не дыша, следили за полетом. После официальных сообщений Волков оттуда, с космического корабля, обещал: «Первый полет «Ориона» отметим армянским коньяком. Готовьте свои звездочки, а мы прихватим вам небесные. Звездочка за звездочку! Словом, Григор, за ваше здоровье!» А спустя минуту крикнул: «Ребята, какая там погода?» Был сильный дождь с ветром, так ударял в стекла, что казалось, они сейчас разлетятся. «Льет как из ведра», — пожаловались мы. «Эх, — застонал из космической пустоты Волков, — как бы мне хотелось под дождь!» Через несколько дней его не стало. С того дня всегда, когда идет дождь, в Ереване или в Москве, где бы я ни был, хоть минуту да постою под дождем. — А «Орион»? — Все приборы «Ориона» отлично работали, все записанные ленты в целости и сохранности вернулись на землю… На полигоне, — помолчав, продолжает он, — я целыми днями не говорю по-армянски, да, впрочем, и по-русски разговаривать некогда. Но тогда, когда из огня и грохота вдруг вырвался корабль, я, сам не знаю, почему, крикнул по-армянски: «Аствац им! — Боже мой!» С таким жаром произносит он это «по-армянски», что я невольно вырываю эти два слова из общего потока и думаю: вот ведь человек. Все время общается с бездонностью Вселенной и так привязан к этой горсти своей земли, к ее горам, ущельям, к ее языку! Мать Григора из села Манджелах в Себастии, Западной Армении. В 1915 году она с толпой таких же изгнанников дошла до сирийской пустыни, до Тер-Зора. Тот же стон: «аствац им!» стоял в воздухе. Позже, в Багдаде, курдская семья удочерила осиротевшую девочку. Там она потом встретила Арама, единственного оставшегося в живых юношу из села Деврик. В Багдаде же родился Григор. В 1924 году до Багдада дошли добрые вести об Армении, и шесть семей решили во что бы то ни стало уйти туда. Шли всю дальнюю дорогу пешком и добрели до Еревана. Саргис, теперь известный архитектор, появился на свет уже здесь, в Ереване. Отец Григора и Саргиса был бетонщиком. В стенах Ереванского политехнического института есть и замешанный им цементный раствор. «Ах, Мариам, одного я хочу, — говорил он, придя с работы, — увидеть своих сынов среди студентов этого института». Жаль, не пришлось ему порадоваться славе сыновей. Все это рассказывает нам с Кариком мать Григора, еще бодрая, с ясными глазами, и я словно вижу корни этой семьи, которые тянутся то назад по дорогам беженства, к Багдаду и Тер-Зору, то проникают вглубь, в толщу времени, и доходят до Гарни-Гегарда, то, подобно лозе винограда, закручиваются, карабкаются по горным кручам вверх, обвиваясь вокруг каждого камня, цепляясь за каждый кустик. Эти корни и в Григоре, и сила этих корней тянет его сюда из бездонности Вселенной, питает и снова устремляет ввысь. Карик Пасмачян молчит. В эти минуты он совсем по-иному приобщается к Армении, ее истокам, которые уже не только прошлое, но и прорыв в будущее. Да, изменился классический облик нашей родины. И теперь человек, приехавший сюда, вместе с островерхими куполами Эчмиадзина и Рипсимэ уносит с собой и строгие контуры Бюраканской обсерватории с ее самым большим в Европе телескопом, и непривычный силуэт армянской атомной станции. После спуска в скальный храм Гегард он опускается в подземные залы кольцевого ускорителя, после Матенадарана идет в лаборатории электронных машин. И теперь для него Армения не только воспетый в старинных напевах, тоскующий в небе крунк, но и космическая обсерватория «Орион», несущая вести из неведомых пространств мироздания. Входим в столовую. Не дожидаясь обеда, Григор берет с блюда кусок хрустящего лаваша. — До чего же вкусная вещь лаваш! Когда еду на полигон, мать уже знает, кладет мне в сумку четыре лепешки. Хватает на неделю, обрызгиваю водой и ем. Могли ли представить наши предки, что традиционный армянский хлеб — лаваш, тонкий, похожий на лист древнего пергамента, придуманный ими для долгой, глухой средневековой зимы, для осажденных врагами сел и крепостей, для длинной дороги скитальцев в далекие края в поисках заработка, — что вот этот хлеб, хрупкий, но выносливый, как и руки, что пекли его, когда-нибудь пригодится их далекому правнуку, отправляющемуся в командировку по делам космоса… Наша машина несется вниз по извилистой дороге. Мелькают новые, добротные крестьянские дома, прозрачная зелень молодых саженцев. Возвращаемся в Ереван в сумерках. Кажется, будто возвращаемся не из окрестностей его, а из самых разных времен и мест. Из первого века, из тринадцатого, двадцатого, двадцать первого. Из монастыря, вонзившегося в скалу, с горных вершин, беседующих с небом, из далей Вселенной, из Тер-Зора, Вана, из Бейрута, Парижа, Нью-Йорка — из перепутья мыслей и чувств, из концов и начал… И вдруг он — Арарат. Белый, сверкающий. Словно только что выпростал свои вершины из отбушевавших здесь библейских вод. Смотрим долго, в безмолвии, и, кажется, никогда еще наша душа не приобщалась так к его вечности, к его неустанному бдению над этой беспокойной землей.Вместо послесловия
Итак, мои «Меридианы карты и души» подошли к концу. Я хотела рассказать о четырехмесячной своей поездке по Канаде и Америке, перемежая этот рассказ событиями моей жизни в Армении за такой же отрезок времени, за такие же четыре месяца. Думаю, что читатель не столь уж простодушен и поймет, что написать книгу за такой срок не так уж просто. Четыре месяца всего лишь, как говорится, «художественный прием». Но отнюдь не художественный вымысел те причины, из-за которых я прерывала работу над книгой и уезжала из Егварда. Не сохраняя буквальную хроникальность путешествия, я дала себе слово сохранить дневниковую точность моих здешних будней, не сдвигать дни, не включать ничего, что случалось до марта и после июня. Единственное нарушение — это запись о Гарни-Гегарде, где я была не в июне, а позднее. Но я прощаю себе это «клятвоотступничество», потому что более прочной опоры, иного перекрещения для своих меридианов я найти не могла.«Умей ее беречь!..» Два этюда к творческому портрету Сильвы Капутикян
1
Иные строки поэта сопровождают тебя годы и годы.Ушел… Но знаю всей душою — Нам друг от друга не уйти. Я знаю, я всегда с тобою, — Я перекрою все пути! Я — дом твой, я — твоя дорога, Ты ходишь с образом моим, В тебе меня настолько много, Что нету места там другим.
Признаюсь: стихотворение это, датированное 1948 годом, я знал давно, едва ли не сразу после его публикации в русском переводе. А заворожило, покорило оно меня много позже, когда впервые услышал, как читала его сама Сильва Капутикян. Это случилось в Дни советской литературы в Тюменской области, на площади древнего тобольского кремля, которую запрудила многотысячная толпа людей, пришедших на праздник поэзии. Сильва Капутикян стояла на краю дощатого помоста импровизированной сцены, и энергичные ее слова звучали с таким внутренним напряжением, непоказным драматизмом, что не могли не вызвать ответного отклика. По тишине, наступившей в один миг, легко было понять, что отныне им суждено стать дорогим достоянием той благодарной, признательной памяти сердца, которая, как известно, всегда сильней рассудка памяти печальной.
…Когда домой вернешься поздно, Ты снова вспомнишь обо мне. Я стану дымом папиросным, Я стану звездами в окне, Через любые километры До сердца сердцем дотянусь. В окно влечу я нежным ветром, Закроешь — бурею ворвусь. Есть у любви своя отвага! Влетев в твой дом, в твой мир, в твой быт, Смешаю все твои бумаги, Всю жизнь смешаю, может быть…
Перевод М. Львова
Влетать ветром, врываться бурей — в природе поэтического слова Сильвы Капутикян, которое органично ее натуре поэта, сильной и стойкой, цельной и устремленной. Если искать поэтому какое-то всеобъемлющее определение, способное охватить и соотнести мир творчества и мир души, то более всего кстати будет слово «гармония». Сильва Капутикян из тех поэтов, которым неведомы разночтения между жизнью и искусством. Слово для нее — точнейший сейсмограф лирического переживания, в котором испытывается чувство, вынашивается мысль, совершается прорыв от быта к бытию. Оттого эмоциональная насыщенность стихотворной интонации, мелодии, ритма всегда отвечает высокому накалу раздумий о себе ли во времени или о времени в себе.
Сердцу земли мое сердце сродни, Если ты грудь мою плугом рассек — В рану свои семена зарони, И соберешь урожай, человек.
Перевод В. Потаповой
Если сердце — земля, то ему и пристало вбирать в себя все земное. Чутко отзываться на «тоску взрыхленной нивы, вздыхающей под тяжестью зерна, когда весной, тревожна, молчалива, с надеждой первых ливней ждет она». Знать тоску «бесчисленных разлук, боль всех разлук на девяти вокзалах». Терзаться и страдать, прощаясь с любимым или угадывая «призрак разлада» во взгляде сына. Но при всем том не допустить ни единой жалобы, не издать ни одного стона, не унизиться до малодушных сетований на превратности женской доли. «Я слабой была, но я сильной была…» Похоже, и впрямь судьба намеренно обделила счастьем в любви, чтобы не смолкала трепетная струна в беспокойном сердце, чтобы несбывшимися тревогами жгли его закаты и рассветы,
Чтоб все у мира брать и не бояться, Сокровища души ему нести, Чтоб щедрость и была моим богатством, Чтоб все отдать — и, значит, обрести. Чтоб не была глухой к чужой беде я И узнавать могла, пока жива, Непролитые слезы и смятенье И слышать затаенные слова. Чтоб всех моих разбросанных по свету, Неведомых, мятущихся сестер Огни сердец, которым счета нету, В моих стихах слились в один костер…
Перевод Б. Окуджавы
«Право на откровенность» — так, определяя доминанту душевного строя поэта, назвал Станислав Рассадин свою вступительную статью к недавнему двухтомнику «Избранного» Сильвы Капутикян (М., «Художественная литература», 1978). Принимая такое определение, думаю, что с равным правом ключевым понятием к ее творчеству могла бы стать и «отзывчивость на боль». Свою и чужую. Впрочем, «чужую» — слово явно неточное. В том и суть, что все чужое, чего касается взгляд или слух поэта, тут же становится своим — собственным, глубоко личным, интимным переживанием. Даже нескрываемая литературная реминисценция отрывается при этом от своего первоисточника, получает новую, вторую жизнь как реальный факт, действительный случай.
Шуршит толстовский лес, как книжные листы. О, как он величав, как тих и необъятен… Прочь, грохот городской, меня замучил ты, Лишь этот шорох мне и близок и понятен.
О Анна, по твоим следам сейчас бреду, Но тяжек шаг, — боюсь, еще труднее станет. Твоя ль тоска песком лежит, как на беду, Мое ли сердце вниз меня, как гиря, тянет?
Перевод Е. Николаевской
Кто она, эта молчаливая спутница на глухом полустанке? В самом ли деле Анна Каренина, «не защищенная в своей любви-неволе», или мелькнувшая в вокзальной сутолоке незнакомка, чей скорбный силуэт приближен щемящим стихотворением «Остановись, человек!»?
Та женщина, неведомая мне, И по причине, не известной мне, Так плакала, припав лицом к стене, Беду свою всем телом понимая. Внимала плачу женщины стена. Я торопилась — чуждая страна Меня ждала. Мой поезд был — «стрела». Шла в даль свою толпа глухонемая.
Этот «огромный безутешный плач» настигнет потом в пути, «средь мчащегося леса», и «печальный поезд» начнет сострадать ему всеми «колесами, считающими тьму». А под стук колес придет и горькое осознание своей вины «в беде чужого плача», охватит неудержимое желание не только «рвануть стоп-кран», но остановить вращенье самой Земли.
Повремени, мой непреклонный век, С движением твоим — вперед и вверх. Стой, человек! Там брат твой — человек Рыдает перед каменной стеною…
Перевод Б. Ахмадулиной
Отзывчивость на боль — не она ли питает и неослабную память войны, вот уже столько лет звучащую в лирике Сильвы Капутикян одним из ведущих мотивов? Верная себе, она и к воплощению этой темы идет через постижение чужих судеб, ставших частью ее духовной биографии.
Твердь земную пропитала кровь, Не смолкает гул артиллерийский… Здесь узнали первую любовь Лейтенант и девушка-связистка.
Все замолкло в грохоте свинца, Но в громах, что ударяют близко, Четко слышат, как стучат сердца, Лейтенант и девушка-связистка.
Перевод М. Светлова
След войны на земле — это не только ржавое железо: оно истлевает со временем. И не темная воронка — благо, что и она «чуть видна» в дремучей лесной чаще. Земля остается изувеченной войной потому, что не успели проторить по ней свои пути-дороги ни Мисак Машунян, герой французского Сопротивления, «чье монологическое «Слово перед казнью» завершает признание:
Я мечтал быть поэтом. Я грезил в свой срок Нянчить сына в построенном мною дому. …А оставил тетрадь незаконченных строк Да пропахшее порохом имя в дыму.
Перевод М. Дудина
Ни безымянный солдат с черной повязкой на глазах, уподобленной черной плотине.
Он не вздыхал, он не стонал от боли, Не звал тебя в свою глухую тьму — Нет, ты сама, сама по доброй воле, Без колебаний подошла к нему. Он, жертвовавший всем, не ждал ни жертвы, Ни жалости к лихой своей судьбе, Сама, самоотверженно — по-женски — Ввела его за локоть в дом к себе.
Иной стихотворец и оборвал бы на этом посвящение «Жене солдата». Но мысль и чувство Сильвы Капутикян достаточно зорки и проницательны, достаточно умудрены трудным опытом жизни, чтобы не довольствоваться одним лишь выражением сострадания в беде. Чутко угадывая приближение драмы, поэт не останавливается на ее пороге, отважно переступает черту, за которой чаще всего третий лишний. Не желая учить, а тем более наставлять или, того хуже, назидать, она не боится разбередить душу, страстно взывая к тому, что должно быть свято:
О, если вдруг тебя другие руки Зовут — его, его не обмани! Коль взгляд чужой зовет — ты в смертной муке Закрой глаза: пусть не глядят они! Себя не выдай ни единым жестом, Себя стеной безмолвья окружи, Неси свой крест! О, поступи по-женски! Свяжи себя и сердце удержи…
Перевод Е. Николаевской
У Ольги Берггольц, поэта, во многом, пожалуй, близкого Сильве Капутикян по темпераменту и строю души, характеру дарования, есть пронзительные строки, выстраданные «в послевоенной тишине» — в первые дни после Победы. «Неженский ямб в черствеющих стихах» звучит как заклятие:
…И даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной, робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей.
Свое «не дам забыть» знает и Сильва Капутикян. Она тоже могла бы сказать о себе, что «вмерзла в… неповторимый лед» — многотрудный и многострадальный след народной истории, который тянется через не годы и даже не десятилетия, а века. Доверительная исповедь в сокровенном то и дело выливается под ее пером в громогласную проповедь самозабвенной любви к отчему краю, чьи «камни, спавшие веками и время знавшие суровое», безмолвно свидетельствуют о ранах, кровоточащих в сердце народа и его поэта.
Армения! Могу ли я измерить Любовь к тебе?.. Так любят, не таясь, Того, кого сама спасла от смерти И кто тебя от верной смерти спас. Люблю тебя, земля, с такою силой, Из всех краев душой к тебе летя, Как мать свою, что жизнь мне подарила, Как в муках мной рожденное дитя…
Перевод Е. Николаевской
От постоянства чувства идет и неизменность интонации — открыто пафосной, ораторски проповеднической. Тяготея к лирическому исповеданию, Сильва Капутикян, как правило, предпочитает не напрягать голос. Но только не в тех стихах, которые посвящены Армении, ее многовековой истории, не поскупившейся на страдания и беды, потребовавшей от многих и многих поколений готовности к подвигу самоотречения и самопожертвования. В таких стихах она не избегает и самых высоких регистров патетики, в которой настоятельно нуждается монологическая форма обращений к родине и народу. Вот повод сказать, что патетика патетике рознь. И если она проникнута неподдельным гражданским пафосом, то и сбивы на декламацию и риторику ей не угрожают. Чтобы убедиться в этом, вчитаемся хотя бы в такое короткое стихотворение:
Где ни встречу его: на лице ль малыша, У крестьянки, морщинистой и седоглавой, — Узнаю этот взор: в нем сияет душа. О армянские очи, прекрасны всегда вы! Отразившие древних времен маету, Сквозь беду и бесправье, сквозь боль вековую, Как смогли пронести вы свою красоту, Задушевность такую и ясность такую?..
Перевод Эм. Александровой
Прочесть историю народа во взгляде ребенка — все равно, что увидеть солнце в капле росы. С этого начинаются художественные открытия. В творчестве Сильвы Капутикян они тем масштабнее, что ее чувство патриота родной земли неотрывно от интернационального «чувства семьи единой», которое выводит художественную мысль на широкие просторы современного мира, как и самого поэта ведет по многим и разным дорогам. В равной мере пролегли они в Севанских горах и через «проспект над спокойным теченьем реки» в Ленинграде, привели под киевские каштаны и в московский весенний говор, чтобы «давним, дальним откровеньем» прозвучал в нем акцент армянской речи. Под стать этой широте географического мира, открывшегося поэту, плотная населенность мира духовного, в котором как бы подают руки друг другу Саят-Нова и Джамбул, Микаел Налбандян и Ян Райнис, Аветик Исаакян и Кайсын Кулиев. Так раздвигает Сильва Капутикян границы родины, в самом этом слове сливая, если говорить названиями ее стихотворений, и «голос Еревана» и «песню дорог», что протянулись от армянских нагорий в самые дальние дали Советской страны. Здесь снова уместно вспомнить Ольгу Берггольц. В одном из ранних ее стихотворений в один нечленимый синонимический ряд встали «Республика, работа и любовь». Не так ли и Сильва Капутикян спустя годы сблизила Родину и Любовь?
Любовь — как Родина! Умей ее беречь!..
2
Но почему — может удивиться читатель — так много о стихах в послесловии к книге, которую составляет проза? Отвечу на вопрос вопросом: а как отделить поэзию ли от прозы, прозу ли от поэзии, если то и другое написано одним пером? Не случайно сама Сильва Капутикян называет свою прозу не иначе как «книгой жизни», к которой она не могла не прийти за почти сорок лет литературной работы. А это значит, что и «Караваны еще в пути», и «Меридианы карты и души» были не просто подготовлены поэтическим творчеством, но выросли на его прочном фундаменте. Оттого так много прямых, непрерывных нитей тянется к обеим прозаическим книгам от отдельных стихотворений, которые им предшествовали. Одно из них — «Наш пантеон» — хотелось бы привести полностью.Наш пантеон не пышен, не просторен: Всего лишь несколько простых могил. О мой народ, богатый смертью, горем, Где ж ты других великих схоронил?
Веками в горьких думах об отчизне Они трудились от нее вдали: Родного крова не нашли при жизни, По смерти не нашли родной земли.
Теперь на старых кладбищах чужбины Покоятся они меж трав и мхов, Одни — под небом дальней Аргентины, Другие — возле Сены берегов.
А сколько их под острым ятаганом В немой пустыне обрело конец! Могилы их — сухой песок с бурьяном Да боль живущих, раны их сердец.
Наш пантеон… В безмолвии, в забвенье Разбросан он по всем краям чужим. Лишь слезы, слезы и благословенье Наш дар могилам дальним дорогим!..
Перевод В. Звягинцевой
Да, это случилось на памяти ныне живущих поколений. На добрую четверть века предвосхитив изуверства фашизма, правители тогдашней Турции занесли «беспощадный ятаган… над жизнью тысяч и тысяч жителей Западной Армении», на уровне государственной политики учинили в 1915–1916 гг. первый в человеческой истории геноцид. Жертвой кровавого истребления нации стало до миллиона людей. И столько же было отторгнуто от родных жилищ, насильно вышвырнуто в аравийские пустыни, «ставшие огромной братской могилой. А те, что чудом уцелели, разбрелись по миру, осели в Египте, Ливане, Сирии, обосновались в Европе, добрались до Канады и Америки». Так пришло в многовековый словарь народа «новое жесткое слово «спюрк», от корня «спрвел» — рассеяться, расстилаться, — слово, которое стало синонимом разбросанного по свету армянства». Впервые об армянах сшорка Сильва Капутикян рассказала в книге «Караваны еще в пути», написанной по следам поездки на Ближний Восток. «Книга эта, — писал, обращаясь к читателю, Мартирос Сарьян, — не обычные путевые заметки. И хотя перед тобой раскинется Восток, с его солнцем и пальмами, пустынями и пирамидами, чаще всего на твоем пути будут вставать армянские глаза. Ты увидишь и познакомишься с людьми, которые чудом уцелели из караванов смерти, разбрелись по всему свету, имеют разное гражданство, но сверхчеловеческими усилиями стараются остаться жителями одной и той же «духовной территории» — остаться верными своему происхождению, своей истории, языку, культуре, своему опаленному Беками духу и справедливым чаяниям. Ты увидишь также отражение той истины, что никогда, ни в какие века нельзя умертвить народ, когда он не хочет умирать. И, значит, тщетны старания всех тех насильников, которые хотели или хотят неволить свободу и права, пойти против человека, против естества и разума. Все равно рано или поздно побеждает человек, естество и разум, побеждают лиловые горы, пурпурный рассвет, стремительные зеленые тополя и Арарат, вечно чистый и величавый». В «Меридианах карты и души» продолжен этот рассказ о разбросанных по свету соплеменниках, но только на поверхностный, приблизительный взгляд может показаться, будто книгу от книги отличает лишь география: там — Сирия, Ливан, Египет, здесь — Канада и США. «Ведь первую книгу от второй, — напоминает писательница, — отделяет не только океан, но и десять лет, в течение которых столько изменилось и в спюрке, и в самой Армении, и во взаимосвязях спюрк — родина. Что говорить, и меня время не миновало. Прибавились не только годы, но и опыт души, жизни, глаз стал трезвее и острее…» О том и проза Сильвы Капутикян. Не просто о встречах на дальних широтах, но о движении времени, как в жизни вокруг, так и в самой душе. Не путевой дневник, предполагающий хроникально точное воспроизведение впечатлений, но проза поэта, как и стихи, исполненная сокровенного лирического исповедания и открытой публицистической проповеди в их лучших и высших образцах, созданных «по неправильным правилам мозаики», сопрягающих «разные меридианы карты и души». Наблюдения дня, когда в Егварде, селе под Ереваном, пишется та или иная страница, и оживающие в памяти впечатления от поездки сливаются в обостренном эмоциональном переживании одного чувства. Еще раз назовем его высоким национальным, глубинным патриотическим чувством. Содержательное и емкое, оно одинаково просторно для исторического знания и современного мироощущения, для выражения трепетной любви к родной земле и понимания кровной причастности к народу, в многовековые судьбы которого вплетена и сегодняшняя судьба писателя. Многогранное, как жизнь, это чувство полнозвучно утверждает себя в многоразличных душевных проявлениях. И знает не только радость, но и печаль, не только просветленный настрой, но и драматическое напряжение. Ничего не поделаешь: драматичны пути и судьбы многих зарубежных соплеменников, хотя не все из них понимают свою драму. Но ее видит, осознает автор. За те годы, что разделяют обе книги, в мире происходили перемены, которые не всегда были к лучшему. Людям доброй воли прибавилось и забот, и тревог. Поэтому во второй книге куда меньше солнца, чем в первой: дело тут в климате не столько географическом, сколько политическом и нравственном. «Необъяснимая горечь» неотступно сопровождает даже «приятные, милые отзвуки дней», проведенных, например, во Фресно, этом самом «армянском» городе Америки, который «хранит еще отсвет воспоминаний, хранит дыхание Уильяма Сарояна». Сорок — сорок пять тысяч армян живут здесь, есть в городе культурные союзы, открывается ежедневная школа, но «пульс бьется не так четко и наполнение. Молодежь, большей частью говорящая по-английски, уезжает в Лос-Анджелес, перебирается туда и много семей. Газеты «Нор ор» и «Аспарез», основанные во Фресно, теперь также издаются в Лос-Анджелесе»… Добро еще — издаются. Ведь, как свидетельствует Сильва Капутикян, воздействие армянского печатного и устного слова в Америке ослабевает день ото дня. «Просим больше не высылать вашу газету, наш отец скончался», — такие письма все чаще приходят к редакторам изданий, основанных еще в конце прошлого века. И «на всей шири Канады и Америки» совсем мало остается этих старых отцов, хранителей национального самосознания, исторической памяти народа. «Отцы комьями земли стелились под ногами детей и внуков, стремясь напитать их теплом и влагой родины, дать возможность прорасти родным корням. Но иссохшими были уже эти корни, скудными их влага и тепло. И сыновья переступили через эти выветрившиеся комья». Так обмелел горный ручеек, бегущий из века в век, и «вот-вот должен был совсем уйти в песок. А где-то рядом уже взял свое начало другой ручей», который звенит на другом языке и торит себе русло в других берегах… «Я проиграл битву за армянский язык, чтобы выиграть битву за армянскую душу», — приводит Сильва Капутикян слова одного из собеседников. И тревожно задумывается: разве не отступает, не проигрывает битву и душа, томясь в том мире, в котором сбывается давнее пророчество Уолта Уитмена об опустошении сердец, пожираемых драконом наживы? Слишком часто прямолинейная деловитость американца, пишущая доллар с большой буквы, сопутствует тоске армянина по далекой земле родины и любви к ней. Но для того, чтобы бескорыстно постичь, почувствовать, нести в себе душу народа, «нужен такой человеческий сплав, когда рядом с щедро бьющим родником ощущаешь неутоленную жажду по глотку воды, когда за гнущимся от яств столом тоскуешь по обломку просфоры…» Как замечает однажды Сильва Капутикян, «сколько армян в Америке, столько и биографий». Среди множества людей,встреченных ею на поэтических вечерах и литературных собраниях, на концертах, спектаклях, выставках, официальных приемах и товарищеских застольях, были писатели и издатели, художники и актеры, журналисты, учителя, врачи, инженеры, ученые, предприниматели-бизнесмены, религиозные проповедники, государственные чиновники, политические деятели. Колоритные фигуры схвачены в «калейдоскопе разнобойной молодежи», привносящей свою самостоятельную тему «крайностей, болезненных полярностей» умонастроений, где всего вдосталь — расхристанной бездуховности и сумбурных поисков выхода из ее тупиков, слепого бунта против действительности, безрассудного бегства от нее и компромиссного примирения с ней. Среди соотечественников, которые, пережив трагедию геноцида, «вынуждены были оставить свои исконные земли», среди их детей и внуков, выросших на чужбине, находились и люди, уже в наши дни «присудившие себя к лишению родины». Разные, таким образом, лица и характеры населяют прозу Сильвы Капутикян, разные судьбы вторгаются в сюжет повествования. Одни удачливы и благополучны, другие не очень, одним в чужих краях «повезло» больше, другим меньше, с одними легко устанавливались открытые, доверительные отношения, достигалось взаимопонимание, в общении с другими «надолбы вставали сплошняком, как стена». Но сквозная, напряженная, беспокойная мысль автора становится как бы магнитом, притягивающим к себе многоразличные биографии-судьбы, образующим то силовое поле, в котором сливаются все наблюдения и впечатления, вынесенные из поездок. Эта мысль — о современном нам мире, в котором «взрываются не только ядра атомов, но и ядра образованных веками человеческих устоев…загрязняются не только воздух и вода, но и нравственный климат на земном шаре». Тем выше непреходящая ценность, созидательная сила национального, патриотического чувства, для полноты которого совсем недостаточно «жить только прошлым и курить фимиам только музейным экспонатам. В музее можно простоять несколько часов, испытывая восторг и преклонение, но жить в музее нельзя». И нельзя довольствоваться всего лишь признанием своей родословной, что в условиях спюрка нередко ставится в заслугу и доблесть человеку, который «не скрывает, что он армянин». Национальная гордость, утверждает писательница, естественное состояние человека, нравственная опора его души. Лишись душа своей опоры — ей тут же будут грозить те самые крайности, между которыми зачастую разрываются, не находя выхода, армяне спюрка: «либо скорлупа национальной ограниченности, либо полнейший отрыв от корней, забвение того, что кроме Пикассо есть средневековая армянская миниатюра, кроме небоскребов — храм Рипсимэ». Этот поэтический мотив родных берегов — почвы, которая питает национальное самосознание, корней и истоков духовного бытия народа, нации в их историческом прошлом и в современности, обретает под пером Сильвы Капутикян актуальное и острое звучание, наступательно направленное против идеологии буржуазного национализма. Не забудем: «спюрк многослоен и разнороден», наряду с общинами, землячествами, культурными союзами и обществами в нем активно действуют и несколько партий, в том числе буржуазнонационалистическая партия Дашнакцутюн. Иные из ее членов — и таких немало встречалось писательнице— прозревают до осознания идейного кризиса партии, которая, давно утратив «почву под ногами, соотносит реальную действительность со своими заданными моделями, трактует все по своему усмотрению, как ей удобнее». Другие самоослепленно отстаивают прежние позиции антисоветизма. «Если глаза не видят, а уши не слышат, — говорится о них, — если более чем полувековое существование Советской Армении, ее сегодняшний облик ни в чем не убедили, ничего не опровергли, то любые доводы здесь излишни», броня крайней «ограниченности и самоуверенного бахвальства» останется непроницаемой. Не удивительно: идеи, как живые существа, нуждаются «в постоянном питании, и это питание не приходит само по себе, оно приходит от земли, от ощущения почвы под ногами». Выше говорилось уже о том, что дневник своего путешествия по Канаде и США Сильва Капутикян писала в Егварде под Ереваном и строила так, что в него то и дело включались события жизни в Армении «за такой же отрезок времени, за такие же четыре месяца». Конечно, как разъясняет она сама, есть в этом условность художественного приема, но «отнюдь не художественный вымысел те причины, из-за которых я прерывала работу над книгой и уезжала из Егварда». В одном случае это были Пушкинские дни в Ереване, в другом — поездка с зарубежными друзьями в Ленинакан, в третьем — вечер армянской поэзии в Тбилиси. И еще шире раздвигаются границы повествования, когда в рассказ писательницы о событиях нынешнего дня вклиниваются ее воспоминания о строительстве туннеля Арпа — Севан, о Нурекской ГЭС в Таджикистане или Хатынском мемориале в Белоруссии. Поистине «Армения выходит из своих теснин и ущелий, распрямившись, шагает по открытым просторам мира с песней и стихами, эхом разлетевшимися на разных языках, с круговым сасунским танцем, спустившимся по горным крутым тропинкам в бескрайние степи и равнины, с радугой сарьяновских красок, перекидывающейся от кремнистых оранжевых скал к синей глади дальних стран и материков…» И все это проходит через сердце поэта, нераздельно живет в нем, переплавляясь в идеи и образы стихотворных строк. Как важно и как дорого, восклицает Сильва Капутикян, «почувствовать, что ты частица этого могучего целого…что радиоприемник твоей души настроен на опоясывающую земной шар волну радостей и тревог». Больше или меньше становится национальное чувство от этой кровной сродненности с огромным миром общенародной советской жизни? Для автора книги нет в этом вопроса. «Думать кичливо, что наша нация имеет свое особое место в мире и должна жить обособленно, значит не возвышать, а умалять народ, превращать его в племя, в род, а следовательно, мешать ему меряться со стоящими рядом, равняться на передовых, то есть лишать основного стимула движения вперед, прогресса». Если с детства растешь и воспитываешься в постоянном общении с другими нациями и культурами, то воспринимаешь их как родственные. «И это создает такую крепость души, такую стойкость, которой не грозит напор стихии более мощной культуры, ничто не может оторвать эту душу от своих берегов». Как ничто не может и удержать ее в одних лишь этих берегах. Предлагая читателям прочертить карту их дружб, Сильва Капутикян непоколебимо убеждена, что «день ото дня на ней обозначаются все новые места, появляются все новые краски и рельефы, новые люди, новые языки. Это не только география, не простое прибавление людей. Это оказывает прямое воздействие на наш душевный мир, расширяет его меридианы, накладывает на него свои цвета, незаметно отливает новый духовный сплав». Так преломляется в повседневном бытии современного человека многонациональный уклад советской жизни, так входит в его сознание интернациональное единство советской культуры. Дух и пафос интернационализма питаются обостренным чувством нового, в апофеоз которого выливается эмоционально взволнованный, лирически одухотворенный рассказ Сильвы Капутикян о сегодняшней Армении. Не только островерхие купола Эчмиадзина и Рипсимэ, желтовато-дымчатая пыль развалин двухтысячелетнего языческого Гарии и тысячу лет спустя высеченный в скале христианский Гегард поэтически воплощают ныне облик древней и возрожденной страны Напри. Советская Армения — это и самый большой в Европе телескоп Бюраканской обсерватории, и подземные залы кольцевого ускорителя на атомной станции, и лаборатории электронных машин. «Не только воспетый в старинных напевах, тоскующий в небе журавль — крунк, но и космическая обсерватория «Орион», несущая вести из неведомых пространств мироздания». Тем сильнее и ярче «излучения света и надежды», которыми Советская Армения насыщает духовную атмосферу спюрка. Его караваны еще в пути. Но как бы далеко от родной земли ни завело их, «надо сделать все, чтобы не затерялись они где-то в чужих песках, чтобы всюду, куда ни держали путь, расстилалось над ними розовое зарево Еревана, нерукотворная кровля Армении». Этой благородной гуманистической цели духовного сближения, единения разбросанных по свету соплеменников служат прозаические книги Сильвы Капутикян, увлеченно и убежденно написанные беспокойным пером поэта, для которого — стоит повторить снова — нет Родины без Любви и Любви без Родины. «Умей ее беречь» — такой призыв обращает она к современникам. И такой завет оставляет потомкам.
Б. Оскоцкий
Последние комментарии
3 часов 42 минут назад
3 часов 50 минут назад
3 часов 59 минут назад
4 часов 5 минут назад
5 часов 34 минут назад
5 часов 37 минут назад