По женевским адресам Ленина
 Жизнь Ленина — подвиг. Это жизнь, прошедшая в творческой работе мысли и неустанном революционном действии, в идейных и политических битвах.
(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина»)
Жизнь Ленина — подвиг. Это жизнь, прошедшая в творческой работе мысли и неустанном революционном действии, в идейных и политических битвах.
(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина»)
Это был период, когда под руководством В. И. Ленина закладывались организационные основы партии большевиков — пролетарской партии нового типа.
«Мы сидели по своим углам, изучали документы, готовились к докладам, строили свою новую организацию... Вдруг звонок. Входит Владимир Ильич, оживленный, веселый.
— Что это мы все сидим за книгами угрюмые серьезные? Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски... Идемте гулять!.. Все важные вопросы отложим до завтра...
Нам так было приятно видеть Владимира Ильича таким веселым, бодрым... Мы шумной толпой вышли на улицу... зашли к товарищам, всех увлекая с собой на улицу. Шуму и смеху не было конца, и Владимир Ильич — впереди всех... Серпантин летел от нас во все стороны… Надо было видеть, с какой неподдельной радостью, с каким огромным увлечением и заражавшим всех подъемом веселился Владимир Ильич... На другой день по нашей русской колонии разнеслась весть о том, как большевики с самим Лениным во главе веселились на улице...»
Этот эпизод, о котором пишет в своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич, относится к декабрю 1903 года и связан с традиционным праздником женевцев — «Эскаладой». Вот уже более трех столетий ежегодно 12 декабря в Женеве устраиваются большие празднества, посвященные победе над войсками герцога Савойского, который в 1602 году попытался покорить этот вольнолюбивый город. В этот день чинную, спокойную Женеву не узнать: на улицах не протолкнешься. Народные гулянья, карнавалы, пантомимы, разыгрываемые на площадях Старого города, герольды в средневековых одеждах, озаряемые колеблющимися отсветами факелов, — все напоминает о давних подвигах женевцев. Прилавки кондитерских и булочных ломятся от шоколадных и бисквитных горшочков, ибо, по преданию, некая женщина выплеснула ночью из горшочка кипяток в окно как раз тогда, когда под ним крались вражеские солдаты. Один из них закричал, савойцев обнаружили, поднялась тревога — и нападение было отбито. Так горшочки стали символом победы.

Женева... В характере этого города, оседлавшего своими мостами Рону и Арву, охватившего в широкие объятия красивейшее озеро (кстати, в Швейцарии оно зовется вовсе не Женевским, а озером Леман — ведь на него с равным правом претендуют еще три кантона этой страны), — в характере этого города есть одна своеобразная черта: с самых давних времен он был прибежищем изгнанникам. Кого только не повидали его старинные улицы, кто только не находил приют под черепичными крышами его домов! Итальянские протестанты и французские гугеноты, аристократы, бежавшие от трибуналов Парижской коммуны, и коммунары, спасавшиеся от террора версальцев. Не миновали Женеву и русские революционеры, скрывавшиеся от преследования царского самодержавия. Более двух лет издавали здесь «Колокол» Герцен и Огарев. Здесь вели жаркие споры народовольцы; хранит Женева память и об основателе первой марксистской группы в России Плеханове.
На левом берегу Роны, в самом центре швейцарской столицы, высится средневековая башня Молар, служившая некогда городскими воротами. Муниципалитет, чтобы подчеркнуть своеобразие Женевы, решил установить на древнем камне барельеф: женщина, одной рукой опирающаяся на герб города, другую протягивает мужчине. Над барельефом высечено: «Женева — город изгнанников». Гид, приведший вас к башне Молар, непременно объяснит, что в образе женщины скульптор Поль Бо изобразил саму Женеву, а в образе мужчины — Ленина, самого выдающегося из побывавших в этом городе людей. Действительно, в профиле, в лепке огромного лба, клинышке бороды можно угадать ленинские черты. Барельеф этот был высечен в 1921 году, еще при жизни Ленина.
Впервые Владимир Ильич приехал в Женеву в мае 1895 года, чтобы установить связи с группой «Освобождение труда», поближе ознакомиться с рабочим движением в Западной Европе. Тогда он первый раз встретился с Плехановым. Затем Ленин побывал в Женеве в 1900 году, приезжал и выступил с рефератом в 1902-м, находился в эмиграции в 1903—1905 годах и снова — в 1908-м. В общей сложности Ленин провел в Женеве почти четыре года. Десятки адресов этого далекого от России города неразрывно связаны с историей русской революции...
Рона кажется спокойной, недвижной. На зеркальной глади ее белые льдинки — лебеди, у набережных — частокол мачт. В Рону глядятся уверенные в своей импозантной внешности монументальные здания бесчисленных банков, кокетливые лепные фасады отелей и молодцеватые дюралево-пластиковые оффисы.
Над домами, над деревьями из любой точки города виден белый факел фонтана. Этот фонтан, бросающий полтонны воды в секунду на высоту в сто тридцать метров, — достопримечательность Женевы XX века. Его видно действительно отовсюду — даже из лабиринта улочек Старого города, который тянется от Роны до другой реки — Арвы, пенистой, шумной, несущей свои мутные воды по порогам, выбрасывающей на отмели гальку. Продравшись сквозь кустарник, можно спуститься к воде, отыскать омут и забросить удочку... Улицы по берегам Арвы с давних пор — рабочий район. Сюда, к одному из мостов, выходит и улица Каруж.
«В Женеве большевистский центр гнездился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами Каружки... и набережной реки Арвы. Тут помещалась редакция «Вперед», экспедиция, большевистская столовка Лепешинских...» — вспоминала Надежда Константиновна Крупская.
Минуло без малого семь десятилетий, а все здесь как и прежде. Если идти от Арвы к центру, то по правую руку увидишь массивный дом, над подъездом которого врезана в камень цифра 93. Как раз сюда нужно было войти, чтобы оказаться в гостеприимной столовой «Олиных» — Лепешинских, служившей и местом собраний партийного клуба большевиков. В этом же здании размещались «Издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина», типография, в которой печатались газеты «Вперед» и «Пролетарий». А рядом, в доме № 91, — библиотека и архив РСДРП. Стоит ли говорить, как часто бывал здесь Владимир Ильич.
Жил он в то время, в 1904—1905 годах, тут же рядом с Каружкой, на улице Давид Дюфур, 3. Старая большевичка Лидия Алексеевна Фотиева, не раз посещавшая квартиру Ленина, вспоминает о тех днях: «В скромной квартире из двух комнат (каждая в одно окно) и кухни жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна, очень симпатичная старушка... Быт семьи Владимира Ильича был самый скромный... В одной комнате жили Надежда Константиновна с матерью, в другой — Владимир Ильич. Обставлены обе комнаты были очень скромно, как квартира простого рабочего. В комнате Владимира Ильича стояли железная кровать с мочальным матрацем, небольшой стол и два или три стула. Здесь Владимир Ильич принимал товарищей, приезжавших из России, беседовал с ними, а работал он в общественной библиотеке...»
Общественная библиотека — неподалеку, на узкой Гранд-рю — Большой улице. За аркой ворот в глубине двора по сей день находится «Общество любителей чтения». В этом обществе Ленин состоял в 1904—1905 годах, а затем в 1908-м, когда вновь приехал в Женеву в начале своей второй эмиграции.
«Служащий «Общества любителей чтения», — пишет Надежда Константиновна, — был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революционер в подвернутых от грязи на швейцарский манер дешевеньких брюках, которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение. Иногда только вставал, чтобы взять с полки большой словарь и отыскать там объяснение незнакомого термина, а потом ходил все взад и вперед и, сев к столу, что-то быстро, сосредоточенно писал мелким почерком на четвертушках бумаги...» О некоторых интересных деталях, относящихся к этому периоду жизни Ленина, рассказал ученый-библиотекарь Жак Пико, сопровождавший нас по залам «Общества»:
— Это самая старая, самая богатая и, убежден, самая удобная библиотека Женевы. «Общество любителей чтения» создал в начале прошлого века знаменитый ботаник Кандоль. Мы входим в зал комитета «Общества».
— Тринадцатого декабря 1904 года в этом зале председатель объявил кандидатуру мсье Владимира Ульянова, желающего вступить в «Общество», — продолжал ученый-библиотекарь. — Это было в шесть часов вечера. Чтобы стать членом «Общества», нужно иметь двух поручителей. Вот, сохранилось заявление мсье Ульянова. На нем, как видите, рекомендации Поля Бирюкова, биографа Льва Толстого, и женевского профессора Армана Рюссо. В ту пору, когда Ульянов-Ленин был принят в «Общество», членами его состояли мои дед и прадед, профессора университета. Они тоже голосовали за кандидатуру русского революционера.
Жак Пико приносит внушительный альбом.
— С момента создания «Общества» ведется этот альбом знаменитых его членов.
Пико открывает его и показывает фотографию Владимира Ильича, занимающую всю страницу.
— Ежегодно составляются доклады о деятельности «Общества». В докладе за 1905 год вы можете видеть на странице тридцать третьей в списке членов «Общества»: «Oulianoff Vladimir».
Библиотекарь приглашает нас в зал истории.
— Особенно часто мсье Ульянов обращался к этой богатой коллекции книг по истории Франции и Парижской коммуны, — плавно проводит рукой Пико, показывая на тесно заставленные тиснеными переплетами полки, поднимающиеся к самому потолку. — В этом зале все сохранилось точно таким, как было тогда. И книги стоят на тех же местах. Некоторые, с пометками мсье Ульянова, мы храним особо и никому не выдаем. Только показываем. Из собственных рук.
Так же, как полстолетия назад, струится рассеянный верхний свет, так же поскрипывают вытертые половицы. Да и воздух, особенный, настоянный на старой бумаге, коже и клее, такой же, как и прежде. Именно здесь, в академической тишине женевского «Общества любителей чтения», Владимир Ильич готовил злободневные, боевые статьи, адресованные российскому пролетариату...
Надежда Константиновна, вспоминая о том периоде работы Ленина, отмечала:
«Ильич не только перечитал и самым тщательным образом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании, — он прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания, организацию его. Он занимался этим делом гораздо больше, чем это знают, и его разговоры об ударных группах во время партизанской войны, «о пятках и десятках» были не болтовней профана, а обдуманным всесторонне планом...»
В «Обществе любителей чтения» библиотекарь Пико показал нам и толстый том мемуаров видного деятеля Парижской коммуны Клюзэрэ, и «Записки» декабриста И. Д. Якушкина, изданные на русском языке в «Вольной русской типографии» в Лондоне, и другие книги, хранящие пометки Ленина. Сбережена и читательская карточка, заполненная Владимиром Ильичем в феврале 1908 года. А 14 декабря того же года, уезжая в Париж, Ленин написал председателю «Общества»: «Разрешите мне, г-н председатель, поблагодарить в Вашем лице «Общество любителей чтения», которое оказало мне столько услуг благодаря своей великолепной организации и работе...»
В библиотеку Ленин обычно ездил на велосипеде. А иногда, отрываясь на час-другой от работы, на велосипеде же совершал недалекие прогулки по окрестностям Женевы. Один из близких помощников Ленина в период эмиграции — Вячеслав Алексеевич Карпинский — рассказывал автору этого очерка:
— Близ Женевы, в трех-четырех километрах, находится гора Салев. Владимир Ильич ездил на велосипеде к этой горе. Однажды я, тоже любитель велосипеда, встретил его на прогулке. Поехали вместе. Я предложил съездить куда-нибудь подальше. Например, посмотреть интереснейшее явление природы — «пропажу Роны». Он согласился, и мы как-то поехали. Удалились от города на несколько километров — и вот вдоль берегов Роны начинают появляться в воде огромные камни. Все больше и больше камней и все дальше от берега. Река как бы мелеет, вся загромождается камнями. И вот уже нет Роны, она вся ушла в землю. «Действительно, — воскликнул Владимир Ильич, — пропала Рона!» Мы поехали дальше — и через некоторое время увидели, как там и сям стала появляться вода меж камнями, и постепенно могучая Рона снова вступила в свои берега...
Естественно, возникло желание побывать в тех местах, которые открывались взору Ленина во время его прогулок по окрестностям, увидеть хотя бы ту же «пропажу Роны». Однако наш добровольный гид Инна Дьякова смущенно сказала:
— Мы слышали об этом, но, видите ли, дело в том, что Рона уходит под землю... уже на территории Франции.
Таким образом, Владимир Ильич вместе с Карпинским оказались во время описанной прогулки на велосипедах невольными «нарушителями границы». Попасть в такое положение, впрочем, здесь не мудрено и по сей день. От центра Женевы до границы не более двух часов ходьбы, а на троллейбусе можно доехать до сопредельного государства за каких-то двадцать минут: конечная остановка троллейбуса — во французской деревеньке...
Впрочем, далеко не столь уж мирной и гостеприимной была Женева — «город изгнанников» для «этих беспокойных русских», боровшихся с самодержавием.
В одном из писем Ленина Карпинскому есть такие строки:
«Есть все основания ждать, что швейцарская полиция и военные власти (по первому жесту послов русского или французского и т. п.) учинят военный суд или высылку за нарушение нейтралитета и т. п. Посему не пишите прямо в письмах ничего. Если надо что-либо сообщить, пишите химией (Знак химии — подчеркнутая дата в письме.)...»
Письмо датировано октябрем 1914 года, то есть временем, когда уже шла первая мировая война, и речь в нем идет о выпуске большевиками знаменитого манифеста ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Но и в мирное время, буквально с первого дня пребывания Ленина в Швейцарии, он и все остальные русские политэмигранты находились под пристальным наблюдением и департамента полиции Российской империи, и местных полицейских властей. Вот любопытный документ — письмо директора департамента полиции А. Лопухина директору департамента юстиции и полиции в Женеве от 6 ноября 1903 года:
«Вследствие письма от 24 октября с. г. за № 28836, имею честь уведомить вас, г. директор, что Владимир Ильин Ульянов, в бытность свою студентом Казанского университета, принимал деятельное участие в студенческих беспорядках, происходивших в 1887 году, за что был уволен из названного учебного заведения. В 1896 году, проживая в Петербурге, Ульянов занимался преступной пропагандой среди местного фабричного населения, был привлечен к ответственности, содержался некоторое время под стражей, а затем выслан под надзор полиции в Восточную Сибирь сроком на 2 года.
По паспорту, выданному псковским губернатором 5 мая 1900 г. за № 34, он выбыл за границу, где вошел в состав действующих за границей русских эмигрантских кружков, причем принял, под псевдонимом Ленина, наиболее видное участие в преступной деятельности русских революционеров.
Принимая во внимание, что названный Ульянов является опытным революционным деятелем, имею честь покорнейше просить вас, г. директор, не позволите ли признать возможным обратить внимание на его деятельность и сношения и в случае проявления им своей преступной деятельности не отказать уведомить меня...»
Ну, а Женева? В таких случаях она умела забывать и о своем традиционном «гостеприимстве», и о прославленной «терпимости». Швейцарская полиция, ее агенты не только «обращали внимание», но перлюстрировали почту, поступавшую на имя Ленина и его товарищей.
Даже в далекой Женеве находившиеся в эмиграции русские социал-демократы каждодневно сталкивались с гигантской машиной царского полицейского сыска. В их среду, выражаясь языком охранки, усиленно «внедрялись» опытнейшие провокаторы. Они следили буквально за каждым шагом революционеров. Вот, к примеру, донесение заведующего заграничной агентурой Гартинга от 9 апреля 1904 года:
«Ленин-Ульянов и его жена едут в деревню на 1 1/2—2 месяца, представителем ЦК в Женеве будет в течение этого времени Мартин Мандельштам. Жена Мандельштама состоит секретарем в Центральной экспедиции, кассиром ЦК и заведующим экспедицией является Бонч-Бруевич». Или донесение от 19 августа того же года: «В дополнение к моей телеграмме 5/18 сего августа... имею честь доложить, что Обухов (кличка одного из опаснейших провокаторов. — В. П.), переговаривавшийся недавно в Женеве с Лениным-Ульяновым и его женою, едет завтра по их поручениям на некоторое время в Россию... Ленин-Ульянов находится все время в Швейцарии и в Россию не ездил в последнее время...» На приведенном документе имеется резолюция директора департамента полиции: «Уже предложено начальнику Моск. охр. отд. командировать двух филеров в Смоленск». Это для встречи провокатора и получения от него из рук в руки сведений о Ленине.
Уже по возвращении в Москву, разбирая в архиве пухлые досье департамента полиции, столкнулся я с этими любопытными документами, которые относятся к годам, проведенным Лениным в Женеве.
Вновь я мысленно прошел по набережной Арвы, свернул на улицу Каруж, а оттуда на улицу Давид Дюфур, 3, где на стене дома установлена мемориальная доска с надписью по-французски: «Владимир Ильич Ульянов-Ленин, основатель Советского государства, жил в этом доме в 1904—1905 годах».
Отсюда, из этого дома, в ноябре 1905 года, получив известие о начавшейся на родине революции, Владимир Ильич, презрев опасности, устремился в Петербург, чтобы принять участие в первом сражении великой битвы.
Владимир Понизовский
(обратно)
Выхожу на цель...
 Из книги воспоминаний
1
Из книги воспоминаний
1
Безвестная деревушка Щитня на берегу Днепра, приютившая наш полк на длинном пути войны, сохранилась в памяти навсегда.
Много могил осталось на нашем пути от Москвы до Берлина... Мы, живые, вспоминаем по ним свой путь, свято чтя тех, кто отдал жизнь, кто незримо присутствует в нашей борьбе за справедливость, за человеческое счастье. В этом естественная правда человеческой души, нерушимая связь поколений и бессмертие народа, его духа, его жизни.
В Щитне могила Бориса. Борис был моим другом.
...1944 год. Наша армия, как громадное живое существо, замерла у Днепра. Над линией фронта повисла тишина. Но эта тишина обманчива. С наступлением темноты мерным топотом солдатских сапог вздыхают дороги, приглушенно урчат моторы, лязгают танковые траки. Фронт подтягивает резервы, сосредоточивает силы для удара.
А в ночной тишине растворился запах весны, запах полевых цветов.
Полк отдыхает. Но на аэродроме техники готовят самолеты, подвешивают бомбы и набивают патронами металлические звенья пулеметных лент. В землянке КП, под накатом из неошкуренных бревен, выстроились шесть экипажей. Проверенных, опытных, опаленных пороховым дымом и спаянных боевой дружбой. Лейтенанты Обещенко, Зотов, за ними капитан Семаго и капитан Швецов, старший лейтенант Мартынов и лейтенант Шамаев, дальше лейтенанты Казюра и Краснолобов, Таврило и Кисляков и я со своим неизменным штурманом лейтенантом Николаем Пивнем.
Командир полка вполголоса зачитывает боевой приказ. Маршрут, по которому все время ходил Борис Обещенко, на сегодня снят. Сегодня Борис проводит меня к самолету, поможет натянуть лямки парашюта, а сам будет нетерпеливо поглядывать в сторону землянки, где дежурит Тося.
— Ладно уж... Иди. Ждет.
— Угу. Ни пуха... Встречу!
— Поверил. Катись уж... Ромео!
Борис не обижается.
Пришел Обещенко к нам в полк больше года назад вместе с Иваном Казюрой. Оба они окончили истребительное училище, летали на И-15 и на «Чайке», и на первых порах во всем их поведении чувствовалось нескрываемое пренебрежение к нашим «тихоходам» — ПО-2. Как же — летчики-истребители! Но первые полеты на бомбежку показали, что и на «тихоходах» надо уметь воевать. Ночная бомбежка ПО-2 имеет свои особенности и некоторые выгодные стороны. И недаром скромные ПО-2 воевали до победного конца вместе со всей советской авиацией и вписали немало славных страниц в ее историю.
...Сейчас позади опыт сотен боевых вылетов, сотен боев. Между нами искренняя дружба, ненавязчивая, спокойная, постоянная, настоящая мужская дружба, в которой нет места недомолвкам.
Борис проводит ладонью по крылу, и непонятно, кому адресованы его слова — мне или самолету:
— Поскорей возвращайся, старик...
Из-за леса, под всхлипыванье расстроенного баяна доносится обрывок полковой песни:
Взлетишь ты в ночку
темную,
весеннюю,
безлунную...
Я защелкиваю карабин парашюта и переваливаюсь через борт кабины.
— От винта!
— Есть!
Над линией фронта привычный фейерверк — вспышки ракет. Мерцание огоньков выстрелов. Сквозь огненные трассы, сквозь вспышки разрывов зенитных снарядов входим в зону противника, чтобы узнать его тайное из тайных — передвижение и дислокацию войск. Наверное, в эфире и по проводам полевых телефонов врага несутся тревожные сигналы:
— Achtung! Achtung! PO-2 in Luft!
— Внимание! Русские в воздухе!
Наверное, сворачивают на обочины автоколонны, прячутся в укрытия танки. А мы до боли в глазах всматриваемся в очертания знакомых перелесков, в дороги, в деревни.
В редколесье у проселочной дороги виднеются какие-то бесформенные пятна. Вчера их здесь не было.
— Проверим?
Николай перебрасывает на борт турель пулемета. К земле несется голубой пунктир короткой очереди. Пули отскакивают рикошетом от темных предметов.
— Танки! Коля, танки!
— Заходи для фотографирования, — коротко бросает Николай.
Пока я разворачиваю самолет для нового захода, Николай успевает произвести расчеты. Небо полыхает огнями фотобомб. В их ослепительном свете успеваю заметить торчащие из-под наваленных ветвей длинные стволы пушек. Фашисты поняли, что обнаружены, и ощерились огнем зениток. За хвостом, впереди, по сторонам хлопают разрывы.
Мы уклоняемся от выстрелов и идем дальше вдоль намеченного маршрута, не сбросив бомб: рисковать мы не имеем права — добытые сведения дороже одного подбитого или уничтоженного танка.
Опять всматриваемся в черноту ночи.
Поворот, еще поворот — и мы ложимся на обратный курс. Николая беспокоит неиспользованный груз.
— Если ничего не обнаружим, отбомбимся по огневым точкам на переднем крае, поможем пехоте, — успокаиваю я себя.
Наш маршрут проходит недалеко от Бобруйска. Где-то рядом, скрытый темнотой, затаился город на моей земле, город, занятый врагом... Где-то там, на его северной окраине, замер вражеский аэродром, на аэродроме должно быть много бомбардировщиков и истребителей. Этот аэродром нам хорошо известен. Знает о нем и командование. Но до сих пор еще не было приказа об его уничтожении. Поэтому лучше обойти его стороной. Но что там происходит?!
Темнота вдруг раскалывается острыми ножами прожекторов, они шарят по небу. В воздухе вспыхивают осветительные бомбы. Тут же лучи вражеских прожекторов скрещиваются и ведут светлую точку какого-то самолета. Включается вся зенитная оборона аэродрома. Снаряды, кажется, прошивают насквозь светлячок самолета. Решение приходит само собой. Увеличиваю обороты двигателя. Самолет послушно набирает высоту.
— К атаке, Николай!
— Есть!
Фашисты, увлеченные боем, не замечают нашего приближения. Тем лучше!
Одновременно с разрывами наших бомб на земле огонь обрушивается и на нас. Лучи прожекторов режут глаза, слепят, давят... Все внимание приборам! Только бы сохранить ориентировку в пространстве. Иначе конец...
Беспрерывно маневрирую, стараюсь вырваться из гремящего огня, из ослепительного света. Но он повсюду. И вдруг тишина. Остался только свет. Разворачиваю самолет к востоку, но тут вновь проносятся огненные трассы, только теперь они идут не с земли, а откуда-то сверху. Неужели потерял пространственное положение и не заметил, как самолет перевернулся вверх колесами?!
— Справа в хвосте истребитель! — кричит Николай.
Все становится на свои места. Добыто еще одно сведение о противнике — на этом участке фронта появились ночные истребители. Раньше их не было. Значит, наша ночная авиация здорово досаждает противнику!
Николай посылает пристрелочную очередь. Нет, они не свернут. Они не упустят легкую победу. Наши летчики знают приказ Геринга: за каждый сбитый ПО-2 — рыцарский крест! Нет, они не свернут.
Штурман отстреливается от истребителя, но ослепительный свет мешает ему вести прицельный огонь.
Уже почти теряя надежду вырваться из огненного плена, тяну штурвал на себя и одновременно нажимаю правую педаль. В какой-то замысловатой фигуре кувыркается наш самолет. Из фюзеляжа в лицо летит мусор, забытый техником гаечный ключ больно ударяет по голове...
Лучи прожекторов шарят уже выше нас. Чтобы вновь не попасть в их коварный свет, продолжаю резко снижаться. На какой-то миг замечаю выше впереди темный силуэт, задираю нос самолета и нажимаю гашетки РСов (1 PC — реактивный снаряд.). Истребитель шарахается в сторону и пропадает в ночи...
В эту ночь погиб Борис Обещенко. Это его самолет серебряным светлячком метался в лучах прожекторов, это к нему мы спешили на помощь.
...Проводив нас, Борис вернулся в землянку КП, где пахло дымком и свежескошенным сеном, где у полевых телефонов сидела Тося.
Сюда, на КП, пришла шифрограмма с приказанием заснять вражеский аэродром у Бобруйска. Командир полка прочел ее и молча передал Борису.
Он мог не лететь. На сегодня его экипажу предоставили отдых. Но в полку не было лучших мастеров фоторазведки, чем экипаж Обещенко — Зотов. И на вопросительный взгляд командира Борис лишь молча наклонил голову, надвинул шлем...
— Я — Луна. Слушаю вас, я — Луна, — улыбается Тося. — Двадцать первый, вас просит тринадцатый. Соединяю. Я — Луна...
Самолет, загруженный только фотобомбами, легко набирает высоту, подминая под крылья темноту ночи. Ровно гудит движок. Голубые веселые зайчики выхлопа заглядывают в кабину и временами освещают склоненное лицо штурмана.
— Считаешь? — интересуется Борис.
— Уже рассчитал, — отвечает Зотов. — Боевая высота — тысяча пятьсот метров. Курс — триста градусов. Пройдем под углом к посадочной полосе.
Медленно текут минуты полета. Медленно «скребет» самолет высоту.
Внизу едва заметный свинцовый блеск. По нему угадывается река. Борис поворачивает к реке. Где-то на другом берегу Бобруйск. За ним вражеский аэродром — цель. Борис прибирает обороты двигателя. Теперь его рев сменяется негромким бормотанием. Николай Зотов приник к прицелу.
— Десяток градусов влево! Так держать!
Борис смотрит только на приборы. Внизу, в чернильной темноте, растворен город. На звук мотора поворачиваются «уши» звукоуловителей, и расчеты фашистских зенитчиков лихорадочно высчитывают скорость, высоту, дистанцию... Надо успеть.
Вспышки фотобомб следуют одна за другой — серией. Борису даже кажется, что он ощущает щелчки затвора фотоаппарата — так натянуты нервы.
А земля уже изрыгает огонь зениток, вспыхивают лучи прожекторов. Борис увеличивает скорость и со снижением уходит на запад, во вражеский тыл, чтобы сбить с толку противника. Маневр удался. Прожекторные лучи шарят на востоке в пустынном небе. Туда же направлен заградительный огонь.
— Повторим заход с обратным курсом, — предлагает Борис. — Для гарантии.
— Снимки должны получиться, Борис, — отвечает Зотов,.
— И все же надо повторить! Завтра пойдут сюда штурмовики и истребители. И эти снимки спасут не одну жизнь!
Вновь огненные хлысты пулеметных очередей хлещут небо. Прожекторы мечутся из стороны в сторону — и вдруг один натыкается на самолет, к нему присоединяются другие...
В ослепительном свете прожекторов Борис теряет чувство самолета — то особое чувство, когда летчик ощущает самолет как продолжение своего тела. Даже перед нацеленным объективом фотоаппарата каждый человек чувствует себя скованным и будто деревенеет. В мертвящем свете прожектора к этому, но значительно усиленному, ощущению прибавляется еще одно — летчик чувствует себя будто обнаженным, выставленным всей земле на обозрение. Считанные секунды полета превращаются тогда в часы. В такие минуты, чтобы вернуться в реальный мир, необходим контакт с человеком. Любое слово восстанавливает утерянное равновесие.
— Вот гады! — кричит Борис. — Засветят нам пленку!
— Не засветят! — смеется Зотов. — Зато вся оборона как на ладошке! Снимаю, Борис!
— Давай!
— Порядок! Можешь отворачивать!
Борис молчит. Самолет идет по прямой, медленно теряя высоту.
Остаются позади лучи прожекторов, стихает огонь зениток...
На какие-то секунды запоздала наша случайная атака. Плексигласовый козырек кабины штурмана покрывается темными пятнами...
— Борис!
Самолет идет со снижением. Николай Зотов берется за штурвал в своей кабине, чтобы вести самолет, и ощущает на нем непомерную тяжесть...
— Борис!
Встречный поток воздуха размазывает по козырьку темные пятна в полосы. Они струятся к краям козырька, и ветер забрасывает капли в кабину Зотова. Штурман ощущает на губах солоноватый вкус крови...
Он мог не лететь...
2
День и ночь идет подготовка к наступлению. Каждую ночь полк получает боевое задание. Через Днепр — единственный железнодорожный мост, занятый фашистами. По нему подвозят войска, технику, боеприпасы. Узкий плацдарм на левом берегу Днепра острым клином вошел в линию фронта на стыке двух наших армий и не на шутку беспокоит командующего фронтом генерала Рокоссовского: ударят фашисты в тыл нашим войскам — и сорвут намеченное наступление. Для ликвидации плацдарма необходимо уничтожить мост.
От моста поднимается стена заградительного огня. Самолеты прорываются сквозь нее, сбрасывают бомбы, а мост стоит нерушим, и по нему идут эшелоны.
Полк теряет экипажи, самолеты, а мост цел. Бомбы лихо проходят в просветы между металлическими фермами, либо вырывают небольшие куски балок; саперы противника тут же наваривают новые фермы — и по мосту вновь идут эшелоны.
Уничтожить мост во что бы то ни стало! Это приказ фронта.
...Неизвестно у кого, у Николая Нетужилова или у штурмана эскадрильи Владимира Семаго, с которым он сегодня летит, родился этот простой и донельзя дерзкий план. До выполнения его необходимо держать в тайне. Командир полка, хоть он не менее других заинтересован в уничтожении моста (к тому же его поминутно теребят из штаба дивизии), узнав о замысле летчиков, наверняка запретит операцию — она слишком рискованна для экипажа. Поэтому лишь после того, как оружейники, подвесив бомбы к самолету, ушли, Семаго сам переставляет взрыватели на замедленное действие, а Нетужилов скрепляет бомбы между собой припасенным стальным тросом.
От КП в небо взвивается зеленая ракета — сигнал к вылету. Самолеты один за другим уходят к злополучному мосту.
Для выполнения задуманной операции Нетужилову надо снизиться до предела и пройти точно над полотном дороги. Тогда бомбы, связанные тросом, не проскользнут в просвет между фермами — и общий взрыв разрушит мост.
Самолет подходит к цели.
— Готов, Володя?
— Готов!
— За Бориса?
— За Бориса!
Нетужилов отваливает в сторону от боевого курса и начинает круто планировать, направляя нос самолета вдоль железной дороги. Навстречу желтыми брызгами летят светлячки. Встреча с одним из них достаточна для того, чтобы самолет превратился в обломки. Но до крови закушена губа, до предела натянуты нервы, а глаза видят только мост. Только мост!
Владимир отвернулся от бесполезного на такой высоте прицела и вслух отсчитывает высоту:
— Пятьсот метров. Четыреста! Двести!
Ниже, еще ниже. Мост плывет навстречу, вырисовываются ажурные полудужья ферм.
Нетужилов включает бортовые огни — пусть видят штурманы самолетов, что летят выше, пусть, задержат руку на сбрасывателе бомб! А враги? Пусть тоже видят! Пусть... Все равно не скрыться от света прожекторов, не отвернуть от выстрелов. Самолет вышел на боевой курс.
Наверное, фашистские зенитчики озадачены видом самолета, идущего на мост с зажженными огнями. На секунды стихает огонь, но тут же обрушивается с новой силой. Теперь большинство зениток нацелено на самолет Нетужилова.
А мост горбатится, выгибается навстречу. Опадают водяные столбы разрывов, и слабеет огонь противника. Голубые пунктиры гулеметных трасс и яркие полосы реактивных снарядов исчерчивают небо над зенитными батареями врага — друзья-однополчане поняли маневр товарищей и прикрывают их своим огнем.
За хвостом глухо лопаются разрывы бомб. Взрывная волна догоняет самолет, и он подпрыгивает на ее упругом теле. Страшная боль в ноге. Глаза Николая затягиваются багровым туманом...
— Бери управление, Володя, — едва выдавливает короткую фразу Нетужилов. — Бери...
На КП настойчиво пищат зуммеры полевых телефонов.
— Венера, Венера, я — Ястреб! — вызывает Тося штаб дивизии. — Товарищ гвардии подполковник, Венера на проводе.
Командир берет трубку.
— Венера? Товарищ тридцать первый? Докладывает
Ястреб-один. Цель накрыта! Так точно. Все на базе. Тяжело ранен лейтенант Нетужилов. Есть! Приступаем! Хорошо. Передам. Служу Советскому Союзу!
Командир осторожно, будто очень хрупкую вещь, кладет трубку на стол рядом с Тосей и легким движением пальцев касается ее волос.
— Вот так, дочка... Война. И спрячь слезы! Еще много людей не дойдет до победы. И нелегок к ней путь...
Командир поворачивается к летчикам.
— Товарищи! Командир дивизии за мост объявляет благодарность. Сегодня утром войска Белорусского фронта переходят в наступление! Приказано ударить по переднему краю противника, проложить путь пехоте. По самолетам!
3
Сегодняшней ночью опять предстоят боевые вылеты. Где-то скопились танки противника, где-то концентрируется пехота врага, и полку поставлена задача нанести по ним удар. Недавно село за горизонт солнце, в небе разлит лимонно-желтый свет луны, и поэтому кажется, что еще не окончился день. Почему-то болят глаза, будто в них насыпан песок. Так уже было. Под Сталинградом, когда не было времени выспаться. Та же резь в глазах, то же ощущение песка... И вроде стало темнее. Я смотрю на луну. Нет, небо не подернулось облаками. Значит, испарения с земли начинают сгущаться, и образуется дымка.
— Как находишь видимость? — спрашиваю Ивана Шамаева; сегодня он идет со мной на задание.
— Отличная! И луна в полную морду! Как днем.
М-м-да!.. Откуда взялась эта дымка перед глазами? Наверно, надо отоспаться.
— А сам ты что, не видишь? — спрашивает Иван.
— Вижу, но... при полной луне, если появятся перистые облака... Будем заметны на фоне облаков.
...Туман. Туман перед глазами. Самолет нацелен носом в туманное небо. Почему в туманное? Луна... Наверное, в ее свете растворились огни старта?
— Иван, как видимость?
— Далась тебе сегодня эта видимость! Лучше не бывает!
— Не нравится мне эта дымка... Как бы в туман не перешла.
— Какая дымка? Протри глаза. Что-то не узнаю тебя сегодня.
— Я сам себя не узнаю...
— Дрожь в коленях?
— Поди ты...
— Смотри, Бекишев зеленым фонарем, наверно, уже десятый раз машет! Взлетай!
Я даю полный газ.
А все-таки дымка сгущается. Она мягко смазала линию горизонта и начинает растворять очертания плывущих внизу ориентиров. Что-то уж очень быстро сгущается дымка.
Ослеп?! Стоп!.. Погоди, погоди. Главное — не волнуйся.
Я снимаю перчатку и опять — в который раз! — осторожно протираю глаза. Нет, видимость от этого не улучшается. Пожалуй, наоборот. Туман... Туман обволакивает самолет.
Что ж, надо переходить на пилотирование только по приборам.
Я включаю кабинный свет. Так вроде лучше.
— Зачем иллюминацию включил? — интересуется Иван.
— Тренируюсь в пилотировании по приборам.
— Цирк! Нашел время... Скоро к линии фронта подойдем. А там всего десяток минут до цели. Кончай тренировки!
Я отрываю взгляд от приборов и осматриваюсь. Туман из серо-голубого превратился в багровый. Сгущается, темнеет... Переношу взгляд в кабину. Туман пробрался и сюда.
— Иван, сколько до линии фронта?
Только бы не выдал голос. Совсем пересохло горло.
— Минут десять, пятнадцать.
— Как пройдем, скажешь.
— Сам увидишь. Смотри, смотри! Вон какой фейерверк! Наверное, наши подходят к цели! Да выключай, наконец, свет!
— Я хочу выйти на цель «вслепую».
— Цирк! — Иван сердится. А туман все гуще. Уже заволакивает приборы... Сколько я еще буду их видеть? Успеть бы пройти линию фронта и освободиться от бомб... Что делать? Сказать Ивану? Сказать прямо: «Я ослеп!» А потом? Нет! Сначала освободиться от бомб. Оставить самолет?! Нельзя! Он может упасть на людей. На наших людей!.. Что же делать, что делать?!.
Липкие струйки пота стекают по лицу. Я слизываю их языком. Рубашка прилипла к телу. Страшно хочется пить. Я уже не различаю стрелки приборов. Лишь багровые круги...
— Иван, возьми управление, потренируйся в пилотировании.
— Откуда у тебя сегодня такие фантазии? — слышу недовольный голос штурмана.
— Ваня, ты должен уметь летать... Вдруг что-то случилось со мной и тебе надо довести самолет. Бери управление!
Я демонстративно поднимаю руки на борт кабины.
— Костя, ты знаешь последний приказ — штурманам запретили лезть не в свое дело!
— Лейтенант Шамаев! Приказываю взять управление!
Я не могу сдержать крик. В этом крике все — и желание спасти самолет, и боязнь за тех, в кого он может врезаться неуправляемый, и за наши с Иваном жизни. Я ослеп... Я уже не вижу ничего. И об этом я не могу сказать товарищу. Он может испугаться, его могут подвести нервы. Пусть лучше он сердится на меня, на мое «самодурство», но как-то приведет самолет на аэродром. А там... Но до аэродрома еще надо долететь.
— Лейтенант Шамаев, доложите, где линия фронта!
— Минуты две назад прошли, — недовольно отвечает Шамаев.
— Сбрасывай бомбы, Иван.
— Ты что?! Не дойдя до цели?! Не буду.
— Приказываю сбросить бомбы, лейтенант Шамаев!
Иван молчит. Я не ощущаю обычного толчка в момент отделения бомб. Левой рукой ощупываю секторы управления двигателем. Так, второй снизу — сектор высотного корректора. Если его двинуть вперед... Двигатель начинает хлопать, стрелять, ему не хочется работать на явно обедненной смеси!
— Ваня, сбрасывай бомбы. Мотор барахлит...
Самолет чуть подпрыгивает вверх. Бомбы сброшены.
— Хорошо, Ваня. Теперь разворачивайся и бери курс на аэродром.
— Слушай, командир! Я уже устал от твоих тренировочек! По прямой вести еще куда ни шло, а вот развороты!.. Я не умею!
— Ты должен, Ваня...
Это входит в боевую подготовку. Командир убит, штурман обязан привести самолет на аэродром.
— Помнишь, был убит Обещенко, и Зотов привел и посадил самолет!
Я прислоняю голову к борту, пусть знает Иван, что мое лицо отвернуто от приборов, что я ничего не вижу. Я и так ничего не вижу.
— Не слышу доклада, Шамаев! Как высота, курс полета?
— Высота тысяча метров. Курс нормально.
— Хорошо. Докладывай через минуту!
— Чего докладывать — вон перед носом аэродром! Пожалуйста, бери управление и заходи на посадку!
— Лейтенант Шамаев! На посадку будете заходить вы!
— Но я... правда, я никогда не заходил на посадку!
— Ваня! Будем заходить вместе. Ты только докладывай все, а я подскажу, что делать. Убирай газ. Снижайся.
— Снижаюсь.
— Входи в круг, как обычно вхожу я. Левым разворотом. Иди параллельно старту.
— Так и делаю.
— Хорошо. Вижу, что так. Дай красную ракету.
— Но... это сигнал бедствия!
— Дай. Такое у нас тренировочное задание... Давай!
Что-то долго копошится в своей кабине Иван... Выстрел!
— Где проектируется крыло?
— Кончик подходит к «Т». Ого! Они нам весь старт зажгли!
— Хорошо. Где крыло?
— Отошли от «Т».
— На сколько?
— Примерно на ширину крыла.
— Начинай третий разворот!
— Выполнил.
— Высота?
— Триста метров.
— Снижайся до двухсот. Где проектируется «Т»?
— Градусов двадцать до посадочной линии огней. Ее отлично видно! Смотри, прожектор посадочный врубили! Как днем видно!
— Хорошо. Начинай четвертый разворот. Выходи на линию посадки!
— Вышел.
— Где проектируется нос самолета?
— Ниже «Т».
— Высота?!
— Сто пятьдесят.
— Чуть подтяни. Так. Где «Т»?
— На носу.
— Убирай газ. Не полностью. Пологое снижение. Еще по ложе!
Я закрыл лицо перчатками и сбросил на затылок очки, чтобы осколки стекла не врезались в глаза.
Удар... Самолет подпрыгивает. Придерживаю рукой штурвал. Еще удар. Катится. Останавливается.
— Сели! Сели! — радостно вопит Иван. — Зачем выключил двигатель?! Или он сам остановился?
— Ваня, иди на старт. Проси кого-либо отрулить. Я ослеп...
Вой «санитарки» глохнет у самолета.
— Что тут у вас произошло? — голос командира полка.
— Товарищ командир! Он... он ослеп! — это говорит Иван.
Кто-то взбирается на самолет, мне слышно, как машина вздрагивает, кто-то сильными руками поворачивает мою голову и проводит по лицу ладонью, стирая пот...
— Видишь?
Багровый туман и резь в глазах.
— Помогите его в «санитарку»!
— Я сам. Я сам...
Выбираюсь ощупью на крыло. Спускаюсь ниже, придерживаясь за борт руками. Конец крыла. Останавливаюсь. Меня подхватывает несколько рук...
Скрипучий, неприятный голос — это главный врач госпиталя Яков Борисович; мягкий, воркующий — старшей сестры Вари. Какие-то уколы, микстуры, повязка на глазах с какой-то примочкой. Самые элементарные потребности — проблема... И обо всем надо кого-то просить. Слепец...
Утренние обходы врачей. Шарканье многих ног по полу в палате. Приглушенный шепот. Жаль, что мне не пришлось изучать глазные болезни и я не разбираюсь в этих фразах по-латыни. Что за ними?.. Приговор или надежда?

Опять на утреннем обходе приглушенный шепот. Теперь я узнаю лишь одно слово — «снотворное». Сплю... Не знаю сколько. Но во сне вижу! Прошлое, настоящее, но все в каких-то кошмарах, все неестественно, искажено и страшно.
— Не надо мне. снотворного! Варя, не надо!
— Буйствует! — скрипучий голос главврача. — Нехорошо, молодой человек! Нехорошо.
Снотворное больше не давать. Завтра снимем повязку.
— Доктор! Яков Борисович! А я... буду видеть?
— Конечно.
— Доктор! Варя!
— Доктор ушел. Чего тебе, миленький?
— Варя!.. Скажи, какая ты?
— Завтра сам увидишь. ...Завтра.
Снята повязка.
— Откройте глаза, больной.
— Яков Борисович... боюсь...
— А еще летчик! Ну, смелей!
— Яков Борисович, а я смогу еще летать?!
— Через два дня выпишу из госпиталя! Ну, открывайте же глаза!
Страшно... А вдруг... вдруг все по-прежнему? Ну, решайся!
Затемненная плотными шторами комната. Седенький человечек в белом халате со смешной, как у д"Артаньяна, бородкой.
— Яков Борисович!
Он радостно щурит глаза. Рядом из-под белого колпака седые букли и воркующий, мягкий голос:
— Вы видите, миленький?
— Варя... Варвара... Простите, как вас по отчеству?
— А так и зови Варей, миленький.
У меня нет слов. Я молча шагаю к ним обоим, прижимаюсь лицом к колючей щеке Якова Борисовича, целую руки Варе... Почему на ее глазах слезы? Их вид вызывает у меня рыдание. Реву, как в детстве, взахлеб. Яков Борисович пофыркивает носом:
— Эмоции!
4
Сегодня наша группа перенацелена на площадное бомбометание в районе окруженной группировки войск противника у Бобруйска. Площадная бомбардировка — расчет на случайное попадание, на случайное уничтожение техники и живой силы противника — Василю претит. Подай ему видимую цель!
А если ее нет? Если вся земля затянута дымом пожарищ и сквозь дым лишь тут и там вспыхивают светлые языки бомбовых разрывов?
Сегодня Василий Вильчевский летает с Иваном Казанцевым. Они проходят над массивом леса, где затаился враг, куда сбрасывает бомбы вся дивизия, и упорно ищут «видимую» цель. Под космами дыма трудно что-либо различить. Они пересекают «котел» в разных направлениях.
— Когда-нибудь сбросим бомбы?! — нервничает Казанцев. — Или повезем их обратно на аэродром?!
— Пидожди. Не бачу, дэ противник!
— А ты смотри, где рвутся бомбы других! — в сердцах восклицает Казанцев.
— Другие нам не указ... Ось щось бачу!
— Що? — невольно в тон Вильчевскому спрашивает Казанцев.
— Бачишь, немцы переправу налаживают! Мабуть рвутся до Бобруйска.
— Где?
— Ось тамочки, на рички! — Василь вытягивает руку в темноту.
— Не вижу. Наводи сам.
— Девяносто градусов ули во. Ще трохи! Так держать!
Внизу вздымаются водяные столбы. Вспыхивает пламя. Расползается по воде, лижет берег.
— Молодец, Василий!
— А ты казав — повезем бомбы на аэродром! Включай, командир, АНО (АНО — аэронавигационные огни.). Хай хлопцы бачуть — переправа! А я ще САБом (2 САБ — осветительная бомба на парашюте.) пидсвечу!
На взрывы, на свет САБа и на огонь необычного пожара на воде подтягиваются и другие наши самолеты. Вода вскипает от взрывов.
В приказе войскам Первого Белорусского фронта отмечалось: за мужество, находчивость и инициативу, проявленные в боях под городом Бобруйск, старшего лейтенанта Казанцева И. С. и лейтенанта Вильчевского В. К. наградить орденом Красное Знамя.
5
Варшава пылает. По всему городу — очаги пожаров. Фашисты методически выжигают и разрушают город, выбивая из домов варшавян. Уже разорвано основное кольцо обороны повстанцев, и из одного большого района, занятого ими, образовалось три очага сопротивления. У наших летчиков эти очаги получили свои названия: «Южный», «Центральный», «Северный».
Вчера в нашей дивизии отменили вылеты на бомбардировку, и все самолеты были брошены на помощь повстанцам. Эта задача была возложена именно на нашу «малую авиацию», потому что ее небольшая скорость и способность летать на малой высоте
обеспечивали наибольшую надежность доставки грузов
.
Наш полк летал в «Центральный» повстанческий район, сбрасывал продовольствие, медикаменты и оружие. Перед самым рассветом мы перевезли повстанцам сорокапятимиллиметровую пушку. Поднять ее целиком оказалось не под силу нашим самолетам, поэтому пришлось пушку разобрать на три части. Сегодня пришло сообщение, что пушка собрана и уже громит вражеские танки. Это сообщение меня радует особенно. Весь день не могу согнать с лица улыбку именинника: капитан-артиллерист, который собрал ее, — мой «крестник».
Вот как это случилось.

Еще перед тем как начать полеты над городом, мы засели за изучение крупномасштабного плана Варшавы. Признаюсь, даже родной город в то время я не знал так совершенно, как улицы и переулки столицы Польши.
После первого вылета в «Центральный» повстанческий район мы со штурманом Николаем Ждановским вернулись на свой аэродром за новым грузом. Машины для заправки подъехали тут же.
— Отставить подвеску! — послышался голос командира полка.
Командир появился из темноты в сопровождении незнакомых людей. Разложил на крыле карту.
— Площадь Вилькицкого знаешь? — спросил он.
— Знаю.
— На всякий случай взгляни еще раз. — Фонарик тонким лучом скользнул по карте. — Вот она, видишь?
— Вижу.
— На площади будет сигнал — зеленые огни в виде стрелы. Если горит — можно сбрасывать. Нет огней — не бросать.
— Понятно.
— Учти, площадь мала, не промахнись. Будешь сбрасывать человека. Максимум осторожности!
— Анатолий Александрович!
— Ну-ну, понимаю. И не обижайся. Это полет не с грузовым парашютом. Пойми это и ты...
— Понимаю. А где человек?
— Вот он. Знакомьтесь, капитан.
Из-за спины командира появился рослый человек и протянул мне руку. Пробормотал что-то непонятное, представляясь, и тут же облапил за плечи.
— Значит, с тобой лететь? Не промажешь, к фрицам не угожу?!
— Когда-нибудь прыгали с парашютом, капитан?
— Спрашиваешь!
— Высота будет не больше двухсот метров.
— М-м-да, высотенка маловата...
— Залезайте в кабину. Так. Хорошо. Осталось пристегнуть фалу автомата...
— Не нужен автомат! Я сам! Не новичок, справлюсь!
— Слыхали, что говорил командир полка? Осторожность. Вот так. С фалой парашют откроется через двадцать пять метров. Независимо от вашего умения.
— Готов!
— От винта!
Вот и весь разговор, все знакомство и весь инструктаж перед прыжком в пылающий город.
Кто этот капитан, сидящий позади меня в кабине штурмана, что он будет делать среди повстанцев? Какие мысли роятся у него в голове под конфедераткой польского офицера? Суждено ли мне узнать их? И попросту, будет ли он жив, не отнесет ли его к врагам, не собьет ли его шальная пуля?
Багровое зарево зловещим отблеском плавит гладь Вислы. Черные клубы едкого дыма вытеснили воздух. Удушливый смрад затрудняет дыхание, ухудшает видимость. Видно только под собой. Под крылом пламя. Пылают коробки многоэтажных домов. Огонь, кругом огонь и дым. Дым как туман. Вот в сером месиве дыма вроде мелькнуло темное пятно. Площадь? Вот стрела зеленых огней! Она! Мы над целью. Пора!
— Приготовьтесь, капитан! Захожу!
Капитан вылезает из кабины на крыло, прижимается телом к фюзеляжу, руки накрепко впаялись в борт, голова у него в кабине.
— Скоро?
— Держись, захожу!
Дым, дым и огонь... Резь в глазах, слезы. Где же эта чертова стрела?! Дым, дым...
— Залезай в кабину! Ничего не вижу. Буду заходить снова.
— Н-нет. Буду стоять на крыле. Только не промажь!
Курс на восток. Дальше от пожарищ, дальше от дыма. Снова Висла.
Вспоминаю план Варшавы: от этого моста — улица Маршалковская. По ней — к площади Вилькицкого. Не потерять бы улицу! Высота двести метров, сто пятьдесят, сто. Еще ниже! Иду почти над крышами домов, слева под крылом — Маршалковская.
— Без команды не прыгать! Высота пятьдесят метров. Не успеть!
— Понятно! Только бы найти!
— Надо найти!

Если бы не дым... Бегут под крылом коробки домов, обрываются трещинами — улицами, переулками. Второй, четвертый, пятый. Еще два переулка, и должна быть площадь... Она! И огни! Зеленая стрела! Дым заволакивает площадь... Расплывается зеленая стрела... Прохожу немного вперед, разворачиваюсь назад, опять на Маршалковскую. Второй переулок и площадь. Набираю высоту. Сто пятьдесят метров. Едва виднеется улица, площадь... Стрела!
— Пошел!
Капитан на секунду прижимается щекой к моему шлему. Большие темные глаза распахиваются настежь. В глазах огненные точки — отблеск пожарищ.
— Будь здоров, летчик!
Я не успеваю ответить. Крыло прошивает длинная очередь трассирующих пуль. Там, где стоял капитан... Круто разворачиваю самолет. Теперь мне виден парашют. Большая белая медуза в прибое дыма. Фрицы уже не стреляют по самолету. Все пунктиры очередей тянутся к парашюту, прозрачному и неподвижному... Почему не делают парашюты из черной ткани?! Желтые цепочки прошивают не только купол. Кажется, они обрываются в темном пятне под ним... Парашют опускается все ниже и растворяется в темноте над площадью. Огненные трассы тянутся к самолету. Я разворачиваюсь на восток. И не могу прогнать от себя видение бело-розового купола, пронизываемого светляками пуль. Все ли я сделал правильно? Не по моей ли вине погиб капитан? То, что он погиб, уже не предположение, это почти уверенность. Почти? Да, я видел своими глазами — пули гасли под куполом...
Когда приходит сообщение, что капитан вышел на связь, я сразу не могу осмыслить этого, но когда приходит другое сообщение — о том, что заговорила его пушка, что подбит один танк, второй, третий... Жив!! Это он, МОЙ КАПИТАН! А я даже не знаю его имени. Я помню только его глаза и отраженное в них пламя. Пламя Варшавы.
Оформление Г. Филипповского и А. Гусева
К. Михаленко, летчик, Герой Советского Союза
(обратно)
Мыслию поля мерит…

Путивль, когда въезжаешь в него с Глуховского шоссе, когда ходишь по его регулярно спланированным улицам, мимо белых хаток и садов, обнаруживается как город, стоящий в общем-то на плоском месте. Нет тут такого взгорка, откуда бы он хоть наполовину проглядывался, подставлял взгляду шиферную мозаику своих крыш.
В полдень на дремотных улицах редко где скрипнет калитка или оконная рама. Помалкивают во дворах псы, утомленные бездельем. Пылят золою куры, устраивая себе в кучах пепла удобные лежанки. На центральной улице и площади, где стоит павильон автобусной станции, заметно оживленнее. Хлопают двери магазинов. Тетки и бабки с пустыми корзинами, отторговав с утра на базаре, терпеливо дожидаются своих автобусов. Щебеча звонками, проносятся велосипедной стайкой ребята. Женщина наклеивает на доску от руки написанную кинорекламу.
Но приглохнут за спиной житейские шумы, дорожка выведет к деревьям и кустарникам городского парка. И вдруг они, подобием занавеса, медленно распахнутся на обе стороны — и, ни больше ни меньше, половина земли откроется взгляду.
Это как с борта корабля, когда видишь полукруглую спину моря и вогнутый объем неба и когда начинаешь ощущать себя жителем планеты, обитателем вселенной...
Внизу, у подножья стометрового обрыва, бесконечной строкой скорописных завитушек посверкивает Сейм, и многократно отпрыгивает от его поверхности небо. А дальше — изжелта-светлые обкошенные луга спорят в цвете с пасмурным лесом. Разбегаются по лугам тропы, как дети, увлеченные игрой. Еще дальше — глаз уже с трудом различает детали — темнеют деревеньки, угадываются стада. На горизонте подернутая дымкой земля сгибается в могучую дугу, насупленную, как бровь воина. Чем-то поистине эпическим веет с тех рубежей.
Во многих наших древних городах есть такие вот кручи — венцы, городки, площадки, валы, откуда открываются дух захватывающие виды. Двадцатый век редко где не заявил о себе с вездесущей деловитостью. В одном месте низина по самый горизонт рассечена прямой линией шоссе, в другом — целый город вырос за рекой, заслонил собою окоемы, в третьем — горят над бывшими выпасами газовые факелы.
Тут же... Полчаса стоишь и час, а там, внизу, все так же невозмутимо дремлет земля, только комком серой шерсти сдвинулось вбок одно из стад да девочка с женщиной далеко отошли по тропе над речкой — еле различаешь их теперь. Вон что-то замелькало между кустами — не заяц ли? Нет, то чайка стелется низко над землей. То кигитка, как зовут ее на Украине.
И в одну из таких минут начинаешь понимать, почему эта вот круча стала когда-то «избранницей», почему отсюда именно героиня «Слова о полку Игореве» прокричала свой плач. Так много и так далеко видно отсюда, что, кажется, не может человеческий голос затеряться. Если уж прозвучал — то на всю Киевскую Русь. И отозвалась земля, взволнованным земным морем подкатила сюда, чтобы навсегда застыть под обрывами Путивля.
Однажды, много веков назад, будто при вспышке молнии, на миг озарился этот город среди грозового пространства русской истории. Вспышка вырвала из тьмы оживленную неразбериху путевых сборов — древки копий, платы женщин, зачарованные взгляды детей.
Шелестели хоругви на апрельском ветру, собирались в поход русские князья. «Кони ржут за Сулой — звенит слава в Киеве; трубы трубят в Новгороде — стоят стяги в Путивле» (Новгород, который упомянут здесь автором «Слова о полку Игореве», — это не тот северный богатырь, что утвердил свои храмы и звонницы по берегам Волхова. Это Новгород-Северский — его младший и меньший тезка, центр удельного княжества. Здесь, на холмистом берегу Десны, — стол Игоря Святославича. Отсюда в конце апреля отправился он походом на половцев).
Паводковые воды к тому времени уже шли на попятную, вжимались в берега, но в речных долинах мреющей бирюзой светлели старицы, сливаясь к горизонту в сплошные ослепительные моря. Многие из прошлогодних бродов стали негодны теперь для переправы, льдом и напором вешнего течения тут нарыло ямин. Выискивали новые места. Вода была коричневой, как отвар дубовой коры, но уже без мути. Конным ничего, а пешее воинство сходило в реку, как на пытку: она крутила и ломила кости. И когда выбирались на берег, от голых икр шел пар.
Сырая почва с бурой прошлогодней травой чавкала под копытами.
А вокруг расшевеливалась весна. Нежной зелени туман млел в рощах. Невидимые жаворонки отзывались с высоты звону сбруй. Звуки волнами восходили от нагреваемой земли, и в седле дремалось, как в зыбке.
С весны, как обычно, начиналась воинская страда — время предутренних побудок, изнурительных переходов. Весна давала отсчет году, а сражения — жизни. Воин подрастал, мужал и старился в седле.
А в Путивле уже колыхались стяги. Игорев юный сын Владимир поджидал с отрядом, чтобы присоединиться к отцовой дружине. Здесь, в стенах хорошо укрепленного города, Игорь простился с женой своей, Ефросиньей Ярославной, которая провожала его от Новгорода, простился со всеми родными. По обычаю, расставаясь, осеняли друг друга крестным знамением, говорили напутственные слова.
...Однажды среди дня странный какой-то отсвет появился на придорожных кустарниках, на лицах воинов. Как будто видишь все сквозь синеватую слюду. Даже пыль из-под копыт сделалась иссиня-серебристой. В передних рядах стали, порядок нарушился, отовсюду недоуменные голоса. Пока из бывалых людей кто-то не догадался глянуть вверх. А там — солнце тускнело, шло на глазах в ущерб, будто прикрывалось ладонью от просьб и жалоб. Оцепенели листья, приглохли звуки, только в ушах звон. Из красных темными сделались щиты, и на деревья будто пал седой пепел. И такая потусторонняя тень сошла на лица людей, на скошенные лошадиные глаза, что показалось: сейчас все в мире кончится, оборвется на общем вопле ужаса.
Под невыносимым этим безмолвным гнетом словно минула бесконечность. Когда же еле заметно солнце дрогнуло, стало с медленностью улитки выползать, выдох прошел по рядам. Похоже, отпустило.
Но долго еще потом топтались на месте. Кто хмуро помалкивал, кто вслух радовался: теперь до дому повернем.
Время стояло молодое, тяжело шевелился в крови языческий страх перед вещим знамением. А лицо Спаса с хоругвей ничего не подсказывало.
Все же поехали вперед. Путь незаметно менялся. Вот и степь зазвенела кузнечиками.
Наше знакомство с землей в большинстве случаев бывает опосредовано картой, расписанием поездов или самолетов — мы движемся от условного к конкретному.

У человека Древней Руси взаимоотношения с пространством строились не так. Они были суровее, эти взаимоотношения, потому что человек мог надеяться только на себя, на свою память. Чаще сидящий в седле, чем на лавке в доме своем, он приучал себя хранить в сознании тысячи сведений, примет, знаков и образов, касающихся пространства. Собираясь в неближнюю дорогу, он должен был прикинуть в уме, сколько суток перехода отделяют его от того или иного рубежа, какие лежат впереди поселения, в каких местах нужно переходить реки, чтобы не пришлось входить в одну и ту же воду дважды или трижды. А когда оказывался в пути, он теперь не только то и дело рассчитывал свое местоположение относительно дома и цели, относительно городов, лежащих по левое и правое плечо, но приглядывался буквально к каждой мелочи: вот сухая черная сосна, что стояла тут и пять лет назад, вот развилка, от которой, как он помнит, нужно забирать вправо...
Если же вынуждали обстоятельства, он без колебаний мог пренебречь знакомой дорогой и день-другой шел нетореными путями, ориентируясь только по небу, чтобы потом выйти точно там, где и надо было ему быть.
Так что в познавании родной земли он шел от конкретностей, от опыта ходьбы и езды, и, только в достаточной мере насытив память многоразличными сведениями, мог построить в своем сознании ни на что не похожую «мысленную картину», на которой умещались не только названия княжеств, городов, военных и караванных дорог, но — на равных с ними правах — обгорелое дерево, гранитный валун, куст цветущего шиповника.
А как чувствовал себя в походе воин молодой, губы которого еще ни разу не бледнели от смертного испуга? Все было ему внове — и удивление перед разнообразием и громадностью пути, и томительное предчувствие первой встречи с врагом. Дорога разматывалась и разматывалась, конца-края ей не было видно, и оторопь брала: если суждено будет возвратиться, один домой не доберешься — заблудишься.
И вот, вчитываясь в «Слово», мы находим в нем сразу оба эти настроения — и трезвую целеустремленность опытного бойца, и волнение юноши, оказавшегося в «земле незнаеме». Мы обнаруживаем, что о безымянном творце «Слова» можно говорить не только как о великом поэте, незаурядном политике, историке, филологе, но еще и как о великолепном знатоке земли. Земли с ее реками и городами, дорогами и рубежами, холмами и болотами. Вчувствуемся в поэзию пространств, овевающую нас со страниц «Слова». Присмотримся к тому, как на этих страницах обретает контуры особый предмет — лирическая география. И вдруг откроем для себя — рядом с князьями и дружинниками живут здесь другие герои — города, реки и вся целиком Русь, земля-героиня.

«Географию» современной ему Руси автор «Слова» действительно знал превосходно. И такое знание для человека его времени, как уже говорилось выше, не могло быть знанием книжным. Чтобы написать «Кони ржут за Сулой...» — чтобы написать этот период целиком так легко, удачливо, нужно было знать хотя бы, как далеко река Сула от Киева, а Новгород-Северский от Путивля. Ведь не будь они достаточно далеки друг от друга, не получилось бы во фразе образа всеобщих воинских приготовлений, хлопотливой взбудораженности, охватившей чуть не полстраны. А расстояния между ними на деле как раз таковы, что предпоходная перекличка воспринимается читателем не буквально, а как гипербола.
Вспомним, что по такому же принципу строятся в «Слове» и другие «географические» гиперболы. Когда Олег Святославич вступал в «золотое стремя в городе Тмуторокане, тот же звон уже слышал давний великий Ярослав, а сын Всеволода, Владимир, каждое утро уши закладывал в Чернигове». Или про Всеслава-князя читаем: «Для него в Полоцке позвонили к заутрене рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал».
«Слово», в котором так ярко поведано о Баяновой игре и которое само настроено, как чудесный музыкальный инструмент, то и дело резонирует словами-названиями, позванивает ими. Вот походным приготовлениям в тон, как колокольное «дон-дон», разносится:
...и посмотрим на синий Дон...
...отведать Дону Великого...
...шеломом испить из Дона...
...несутся к Дону Великому...
...Игорь к Дону войско ведет...
...на реке на Каяле, у Дона Великого...
Монотонный набатный гул плывет над землей, сопровождая русскую рать. И неожиданным экзотическим контрастом этому гулу — целым созвеньем названий — звучит клич таинственного Дива, обращенный к земле неведомой, «Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканский идол!». Еще же диковинней, заклинательней эта строка в оригинале: «...Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутороканьскый блъван!». Прочитать это — прикоснуться к дремучей дымчатой шерсти неприлизанного словаря. Слова будто отпочковываются друг от друга: из Помория вырастает Посулие, из Посулия — Сурож, из Сурожа— Корсунь. Сколько пространств связано узелком одной лишь звуковой метафоры!
И совсем уж загадочными инкрустациями в «Слове» кажутся нам сегодня названия, принадлежащие к разряду архаической топонимики, названия, которым ничто не соответствует больше на земле. Где она ныне, быстрая и каменистая Каяла? Где горемычная Немига? Где поселения русские — Римов, Плесеньск, Дудутки? Где земля Трояня и где легендарная Трояня тропа?..
Эти поневоле таинственные имена привлекли внимание уже первых исследователей «Слова». Вовсе не праздные вопросы возникали в связи с ними, и особенно при попытке воспроизвести на современных картах точный маршрут Игорева похода. Все ученые сходились в одном: из Путивля Игорь движется на юго-восток, к верховьям Северного Донца. Преодолев реку, дружины сворачивают почти на юг, к месту слияния Донца с Осколом. А дальше? «Слово» говорит нам о битве «на реке Каяле, у Дона Великого». В двух летописных повестях о походе Игоря упоминаются при описании сражений еще реки Сальница и Суюрлий. Но вот незадача: в бассейне большого Дона не существует ныне рек с такими названиями.
Много выдвигалось вариантов, предположений. Наиболее близкой к истине представляется схема, построенная на учете средней величины суточных переходов войска и... на доверии к «мысленной карте» древнерусского воина. Вспомним — дважды звучит в «Слове» прощальное «О Русская земля! уже ты за холмом!».
Это двойное упоминание легко можно отнести к чисто литературным приемам. Но можно увидеть здесь и вполне конкретный путевой знак, «зарубку» на память. По мнению некоторых исследователей, автор «Слова» говорит о порубежном холме, хорошо известном всем воинам и летописцам, — об Изюмском холме, и ныне возвышающемся у слияния Северного Донца с Осколом. Миновав Изюмский холм, дружины спустились к слиянию двух других речек — Тора и Сухого Торца. Тут и была одержана — и довольно легко — победа над передовыми отрядами степняков. А немного севернее, у реки Макотихи (Каяла?), отрезанные от пресной воды, прижатые к соляным озерам, русские задохнулись от жары и пыли...
Обычно между дружинами, ушедшими летовать в половецкую степь, и между оставшимися в тылу княжествами связи не обрывались. Русь то и дело через гонцов, через сторожей-разведчиков и торговых людей получала сведения о своих воинах.
А тут нависла над городами тяжелая тишина предгрозья. И о том, что с Игоревой ратью случилось несчастье, узнали не от своих, а от половцев, шишаки которых вдруг замелькали у частоколов Переяславля и Путивля. Значит, за тылы кочевники спокойны. Значит — беда!..
Ярославна плачет по мужу на городском забрале, плачет до того, как половцы сожгли путивльский острог. Она плачет тогда, когда еще ничего не известно точно. Но это плач предчувствия, и — увы! — безошибочного.
Для того чтобы прочувствовать хоть немного ее состояние, нужно увидеть, как жестоко контрастирует с горем женщины природа, погруженная в сладкий дурман цветения. Сверкая росой под первыми лучами солнца, лежит внизу половина земли. Сады и кустарники в клочьях теплого тумана, бугры и отдаленные урочища — все оцепенело, оглушенное за ночь безумным соловьиным щекотом.
Ярославне, с ее языческим трепетом перед силами природы, земля открывается с путивльской кручи как вместилище необузданных, своенравных стихий — ветра, воды, солнечного огня. И она поочередно обращается с мольбой к каждой из этих стихий.
«Ярославна рано плачет в Путивле на забрале...» Но о каком Путивле идет речь в «Слове»? Казалось бы, все просто: это тот самый город, что известен нам и сегодня. Но почему тогда древние летописцы нигде не упоминают, что он стоит на Сейме? И зачем Ярославна сопровождала мужа к югу, к городу, где ее пребывание становилось бы более опасным, а не осталась дома, в Новгороде-Северском?
В науке о «Слове» возникло даже допущение: был другой Путивль — хорошо укрепленное княжье село под Новгородом-Северским, а ныне его пригород — Путивск. Не там ли тосковала Ярославна, не оттуда ли хотела полететь «зегзицею по Дунаеви»?
Но вспомним еще раз: «Кони ржут за Сулой — звенит слава в Киеве; трубы трубят в Новгороде — стоят стяги в Путивле». Богатырской этой перекличке нужен разбег, нужна эпическая дистанция. Ведь не простой звук служит тут мерой и не простая видимость. Автор «Слова», как и его герой, «мыслию поля мерит». Маленький Путивск, конечно же, не подходит для таких промеров. И потому он скромно остается в стороне от громадных прыжков гиперболической переклички.
«На Дунае Ярославнин голос слышится...» И здесь тоже гипербола, мысленное преодоление пространства. Простой голос от Сейма до Дуная не долетит. Казалось бы, все должно быть ясно и с этим образом. Но почему в тексте упоминается именно Дунай? Ведь помыслы Ярославны устремлены совсем в иную сторону, к горемычной Каяле.
Некоторые исследователи считали, что в данном контексте «Дунай» — символическое обозначение реки вообще, вовсе не имеющее отношения к конкретному Дунаю.
Но верно ли такое объяснение? Ярославна, как известно, дочь галицкого князя Ярослава, называемого в «Слове» Осмомыслом. Вот как говорит о нем автор: «Высоко сидишь ты на своем златокованном престоле, подпер горы Венгерские своими железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота, меча тяжести через облака, суды рядя до Дуная».
И если автор обращается к могущественному князю с призывом к единению, то не естественно ли, что и Ярославова дочь шлет свои жалобы на Дунай, к «отню столу». И не естественно ли, что, когда Игорь благополучно возвращается домой, приветственные клики долетают и с Карпат: «Девицы поют на Дунае, — вьются голоса их через море до Киева».

Все пространство, на котором происходит действие «Слова», пересечено такими вот связующими «силовыми линиями». Голос ли трубный раздался — он тут же услышан на другом краю Русской земли. Прозвенело ли где стремя — тревожным возбуждением охвачены соседние княжества. Перекатываются над лесами тугие набатные волны. Печальным воплем птицы несется вслед за ними женский плач. Крикнет в поле одинокий оратай — по всей опустошенной стране разольется тоскливое эхо.
А как мгновенно меняются места действия! То мы на берегу Каялы под дождем стрел, то на киевских горах, то на Волге, то на Дунае... Полоцк, Белгород, Чернигов, Курск, Переяславль, Римов, Путивль, Тмутаракань, оба Новгорода, и снова Путивль, снова Киев...
А рядом с именами русских городов и рек — названия соседних языков: могуты, татраны, шельбиры, ревуги, хинова, литва, ятвяги, дремела. И далее — готы, немцы, венгры, греки, венецианцы. Можно сказать, что вся Европа с вниманием следит за тем, что происходит в степи у Дона Великого. Мы замечаем, что автор «Слова» создает перед нами какое-то совершенно особого рода пространство, настолько открытое, тесное, компактное и удобообозримое, что на нем, к удивлению своему, видишь все разом: и встречу двух враждующих станов, и беспокойство остальных русских князей, и горе Ярославны, и тяжелую работу пахаря на запущенном, одичалом поле.
На таком вот просторе никакой исторический поступок не может быть спрятан, замаскирован. Здесь все и отовсюду просматривается. Здесь нет второстепенных действий, нет малозначащих ситуаций.
Автор «Слова» поровну делит со своим героем беду и радость. И вот не только мыслью, но и горюющим сердцем своим он растекается по всей русской земле. Он страстно желает видеть ее единой, целокупной. Он присутствует везде сразу, в любой ее точке, как носитель вечевого соборного слова.
И потому, когда Игорь бежит из плена, вся Русь и все соседние земли в прямом смысле слова видят его, слышат каждый его шаг. Только преследователям он не виден на этом абсолютно просматриваемом пространстве.
Возвращение Игоря на родину сопровождается нарастающим звуком общего ликования: «Страны рады, грады веселы...» Вместе с князем эта радость поднимается с киевского Подола вверх по Боричеву взвозу, на горы. С киевских гор виден Днепр, луга, леса, строгие дали — половина земли видна отсюда.
Для плача поднималась жена Игоря на путивльскую кручу. И он теперь поднялся на гору — для веселья. Так на Руси издавна и для горя и для радости нужен простор, нужно высокое место, чтобы и сама земля делалась причастной людскому чувству.
Звонят с киевских гор, «звон же тот» слышат на других холмах и кручах — в Чернигове слышат и в Галиче, в Полоцке и Владимире, в Новгороде и Путивле. «Страны рады, грады веселы...» Только в Путивле радость на слезах замешана, потому что еще не остыли после недавнего налета степняков обугленные тыны.
И недаром на таких вот холмах чувствуешь себя по-особому: слишком много помнит их почва и тревожного и торжественного...
Ю. Лощиц
(обратно)
Соборов каменные струны
 — Что делаете? — обратился к мастерам незнакомец.
— Обтесываю камень, будь он неладен, — сказал первый.
— Не видишь, глину лопачу, — буркнул второй.
— Я строю Шартрский собор, — ответил третий.
(Старая притча)
Какого цвета Нотр-Дам?
— Что делаете? — обратился к мастерам незнакомец.
— Обтесываю камень, будь он неладен, — сказал первый.
— Не видишь, глину лопачу, — буркнул второй.
— Я строю Шартрский собор, — ответил третий.
(Старая притча)
Какого цвета Нотр-Дам?
— Пепельный до черноты зимой, синий солнечным летом, табачно-бурый осенью. А вообще это зависит от вашего настроения, — скажут, припоминая, знатоки и очевидцы. — Временами — мрачный, временами — праздничный...
И вдруг, это случилось чуть более года назад, собор Парижской богоматери оказался белым! Это было поистине откровением.
Как представляем мы себе исторические открытия? Полуистлевшие пергаменты в заброшенных пещерах, археологический раскоп где-нибудь в степи или пустыне. Но Нотр-Дам! Сколько сотен лет он в центре внимания архитекторов и историков, живописцев и кинооператоров, парижан и туристов со всего света! Его знал всякий. И вот оказалось, не знал никто.

Архитектор Бернар Витри, которому поручили реставрировать собор, перебрал десятки составов и эмульсий, чтобы сделать заключение — пригодна лишь обычная вода. Только брызги чистой воды под слабым давлением могут безвредно снять полусантиметровый слой копоти и грязи со старых камней. Вторая проблема — как возвести леса — решилась неожиданно просто. Каменщики средневековья будто позаботились об этом: они предусмотрительно оставили отверстия между камнями в стенах, и сегодняшние монтажники с благодарностью крепили в них трубы, из которых свинчивали затем строительные помосты. А потом много дней стоял Нотр-Дам, задернутый темными полотнищами, скрытый от глаз, словно памятник перед открытием.
Туристы тех дней расстроенно опускали камеры и жаловались друг другу на невезучесть.
— Немного позже. Он умывается, мсье, — разводили руками гиды.
А там, за кулисами, реставраторы смешались с толпами святых и дьяволов. В многолюдной истории человека Теофила (он умер еще в 190 году нашей эры), продавшего якобы душу сатане и спасенного в конце концов Святой Девой (ей и посвящен собор), оказались непредусмотренные персонажи. Молодые парни в кепках и спецовках исправляли кладку по всем правилам готического искусства и крепили над каменными фигурами водяные шланги; тысячи статуй, и на каждую — по десять часов душа. Капли стекали по щекам королей; апокалипсические демоны и химеры, выкатив бельмы, смотрели, как движется дело...
Пал занавес. И все увидели собор белого камня. Белого и немного золотистого, теплого, как человеческое тело. По-другому прочлась тогда старинная запись монаха из Бургундии Рауля Глобера: «Скинув рубище, мир оделся в белые покровы соборов». А стандартные, бывшие веками в ходу метафоры о «мрачных стенах» средневековья оказались по меньшей мере неточными.
Знакомые всем старые стены готических соборов, до сих пор определяющие силуэт Западной Европы, обернулись загадкой.
Бывает такое детское желание: забраться в картину — ну, хотя бы в эту миниатюру Жана Фоке, — чтобы очутиться вдруг в синеющем вдалеке средневековом городе. Осколки строительного камня последним снегом лежат на траве, отчего кажется, будто весна. Если пойти по корявой булыжной дороге за громыхающими повозками, груженными камнем, то подойдешь к самой стройке.
Смотрите — в самом центре миниатюры седобородый Карл Великий расслабленным царственным жестом указывает на растущие стены. Красивыми складками спадает мантия короля, а свита в бархатных камзолах позади него, неподвижная и слитная, будто продолжение мантии, ее шлейф.
Зато каменщики, хотя ни одежды их, ни позы красотой не блещут, — каждый нарисован отдельно.
— Простите, мессир, то, что вы строите, — это будет ранняя или зрелая готика, «лучистая» или «пламенеющая»? — могли бы спросить мы у мастера наподобие незнакомца из притчи.
Ответа бы не дождались. Четкие деления по направлениям и стилям, поучительные объяснения, что следует за чем и почему, — все это приходит много позднее, и зачастую как подгонка под теорию комментатора. «Готика»? Это слово было неведомо тем людям, чьи времена мы уверенно зовем готическими. Зовем, не подозревая, что в определении этом первоначально слышалась неприязнь и осуждение. Нет, с готами — «полудикими разбойными племенами» — готика не имеет ничего общего. Но для законодателей вкусов высокого итальянского Возрождения сооружения раннего средневековья рисовались нелепицей, безвкусной и грубой — «готической» («варварской») выдумкой.
Самым вероятным ответом каменщика на наш вопрос, пойми он, в чем дело, было бы:
— Собор будет красивый и большой. Больше и красивее прежнего.
 Город под крышей
Город под крышей
Размеры кафедрального собора — вот что являлось предметом престижа и соперничества городов. Великие храмы греков уступают по величине даже средним сооружениям средневековья. Парфенон в принципе можно разместить под соборными сводами, как экспонат в выставочном зале. И это не случайно.
Собор готических времен полагался домом не только господа, но и верующих. Собор в Амьене покрывает семь тысяч квадратных метров площади и был способен укрыть при надобности за стенами все население города.
Возводить такие сооружения стало возможным после изобретения стрельчатой арки, каменных нервюрных сводов. Опробованное на строительстве английского собора в Дергеме (XI век) нововведение очень скоро разнеслось по Западной Европе. Стена складывалась, как ствол дерева, — со множеством отходящих ветвей, одна арка опиралась на другую, вторая на третью, свод становился на плечи своду. Промежуточные опоры, тяжелые перекрытия, ограничивающие объем построек, более не требовались; могучие контрфорсы выносились теперь наружу зданий.
В колоссальных соборных залах звук мог гулять, не встречая препятствий. Слабый, старческий голосок епископа гудел под зонтичными сводами, как глас божий. Детский хор пел тысячью ангелов, а мощное дыхание органа поражало воображение богомольцев, заставляло дрожать толстенные плиты.
Но не только техническому достижению обязаны мы появлением этой архитектуры. И уж не только нужды католической церкви вызвали ее к жизни. Ее породило то трудно определяемое настроение, тот самый «дух времени», под действием которого человечество — как живое существо — то дремлет, то ужасается собственной тени, то тянется ввысь. «Та же летопись мира», — писал об архитектуре Герцен.
Страницы готики — свидетельства пробуждающейся веры в логику и силу ума. Человек увидел свои возможности, он упивался ими в молодом азарте, совмещая одновременно и свежую энергию и трезвый рационализм.
Отчаянное желание каждого города иметь у себя самый-самый собор вызывалось и неутолимым тщеславием и практической потребностью. Собор был не только и не столько церковным, сколько светским центром. В нем заседали отцы города, устраивали представления, заключали торговые сделки. Витражи с изображением строителей или камнерезов историки относят к типичной наглядной энциклопедии. Дошедшие до нас предписания тех лет: «Не толпиться в залах Дома» — дают основание думать, что церковные залы временами походили на дискуссионный клуб.
Появлялась формация энергичных предков буржуа, уже предчувствовавших, что настает их время. Соображения престижа оправдывали любые затраты, коль скоро речь шла о своем соборе.
Вот короткая запись больших гонок средневековых небоскребов:
Шпиль парижского собора Нотр-Дам, заложенного в 1163 году, вознесся на 35 метров.
В 1194 году Шартрский собор обошел его: 36,45 метра.
1212 год, Реймс — 39 метров.
Амьен, 1221 год, сильный рывок — 42 метра!
Но прошло четыре года, и Бове затмевает все рекорды — 49 метров!
Деньги, камень и святое прощение
Можно бесконечно поражаться возведенным громадам, сравнивать их со скалами, уходящими в облака, однако время спуститься с облаков на грешную землю: сегодня ведь люди тоже строят и знают, что это такое. К примеру, такие вопросы: как и из чего строить, на какие, наконец, средства? — современные строители вряд ли обойдут вниманием. Тут стоит припомнить реакцию поэта Поля
Валери на комментарии гида во время осмотра средневекового крепостного городка Каркассон. Валери не проронил ни слова, пока гид обрушивал на него шквал эпитетов и сравнений по адресу фантастических строений вокруг.
— Ну и деньги! — только и сказал, в свою очередь, поэт, не чуждый изысканной восторженности. И все-таки — деньги!
В самом деле, кто субсидировал строительство, не сам же всевышний! Не идет в расчет и королевская казна, где денег было не густо.
Львиную долю средств, судя по всему, доставляли пожертвования. Прежде чем собор собирал прихожан, прихожане собирали его. По специальным спискам. В деньгах, драгоценностях. И в натуре. У церковных дверей открывалась шумная распродажа даров: башмаки и бочки вина, холстины и круги сыра обращали в звонкую монету.
Частенько собранных денег не хватало. И наполовину возведенные голые стены стояли годами, сквозь камни прорастала трава. До нового прилива энтузиазма. По осени сборщики прихватывали с собой церковные реликвии и отправлялись бродить по деревням, обещая верующим чудесные исцеления по сходной цене.
Ранней весной они возвращались к оставленным соборным стенам, и, если казна все-таки была еще скудновата, церковь обещала духовное прощение каждому, кто принесет с собой глыбу камня, мешок песка или щебня. Так было при постройке собора св. Иакова в испанском городе Компостелло. Тысячи верующих, прежде чем войти в город, доставляли блок камня в соседнюю Кастенду, где работали обжиговые печи.

Отпущение грехов в те времена было самым ходким товаром. Бойкие «деловые» люди, видимо, нуждались в нем особенно и закупали святое прощение оптом. Не потому ли поговаривают, что соборы выросли на нечистой совести буржуа?..
До поздней ночи гремели по дорогам колеса. Глубокие колеи пробивали они на пути от каменоломни к стройке. Сколько раз нужно было проделать этот путь, если одна повозка тянула не больше одного кубометра — полторы тонны камня!
Счастливой находкой почиталась возможность разобрать старое строение поблизости от стройки. «Собор, наполовину разрушенный — уже наполовину построенный», — учила поговорка.
Когда денег хватало, камень выбирали с разбором. Так, за стройматериалом для базилики св. Петра Венеция отправляла корабли в Сицилию, Афины и даже в Африку.
Мастера
О людях, возводивших кафедральные соборы, известно немного. О них рассказывают не велеречивые летописи, не торжественные поэмы, а истлевшие листы расчетных ведомостей. Обрывки пергамента, на них цифры, даты, редко — имена.
Можно узнать бухгалтерию соборных строителей: дневной заработок землекопа или подносчика камней — семь денье, мастера кладки — двадцать два денье. В списках встречаются и женские имена. Вот некой «Изабель-штукатурщице» причитается три су. Другой — «даме Марии» — вместе с двумя детьми выписано четыре ливра и два су. Это уже сумма. Возможно, за этой записью стоит не один, а целая группа работников, возглавляемых мужем этой самой «дамы».
Всего в своде 1292 года числится сто четыре человека. Египетские пирамиды сооружали тысячи, десятки тысяч людей. При постройке готических соборов работала сотня-другая одних и тех же мастеров. Не случайно на цветной миниатюре Жана Фоке каменщиков определенно меньше, чем придворных в королевской свите.

Стройка привлекала множество разного народа — кто искал подработать, кто надеялся поживиться за чей-нибудь счет, а бывало, приходили потрудиться на богоугодном деле, надеясь обрести прощение, и знатные господа. Правда, толку от них было немного. История об одном раскаявшемся грешнике, графе Рено де Монтабане, прозванном «слугой святого Петра», свидетельствует, кстати, о тогдашней плохой постановке техники безопасности:
«...Но был он так неосторожен, что чей-то молот пришелся ему по затылку, и тело его упало в Рейн».
С первыми ощутимыми заморозками работы вынужденно останавливались; верхушки недостроенных стен каменщики покрывали соломой. И уходили.
Ну, а беднота, кормившаяся подсобной работой? Им не прожить долгую зиму без
заработка. Они спускались в каменоломни и, если ноги держали, а руки поднимали кайло, могли рассчитывать на кусок хлеба.
Зимой город, строивший собор, замирал. Он привыкал жить в ритме громадной стройки и тихо ждал новой весны, когда снова все приходило в веселое движение. С рассвета звенели подковы и распевали каменщики, ковыляя на стройку в тяжелых своих башмаках.
В полдень звонил колокол. Мастера бросали работу и брели под дощатый навес, где были выгорожены деревянные «ложи». Там они сбрасывали с себя белые от каменной пыли фартуки, занемевшими пальцами разламывали хлеб и запивали его кислым вином. Там же они судачили о делах или дремали в жару.
Знаменитым этим «ложам», впервые сколоченным на строительстве Вальтером де Черфордом в 1277 году, было суждено войти в мировую историю.
Тайны франкмасонов и грубый камень графства Кент
Не мудрено догадаться, что разговоры в «ложах» строителей велись о всякой всячине: и о погоде, и о житейских неполадках, и, конечно, о работе. Как лучше тесать или укладывать камень, как вязать аркбутаны. Эти профессиональные секреты и приемы, именуемые теперь в патентном деле «ноу хау», «Книгой ремесел» — специальным уставом, составленным в 1268 году Этьеном Буало, предписывалось хранить в строжайшей тайне. Нарушившего устав строго карали, изгоняя из цеха строителей.
В музее Антверпена есть полотно Ван-Эйка «Святая Варвара». На нем против могучих соборных стен можно различить убогий сарайчик. Это и есть «ложа».
Трудно поверить, что это прямой прообраз знаменитых франкмасонских лож. Вы представляете их по-другому? Подчеркнуто аристократический салон, глубокие кресла, теплое дерево, свечи, избранная публика во фраках, беседы, тихие, немногословные, но многозначительные...
Потребуется всего лишь словарная справка. Иначе трудно догадаться о существовании связи между качеством камня в английском графстве Кент и франкмасонской ложей, скажем, св. Екатерины в городе Архангельске — «исключительно для лиц купеческого звания».
Но именно там, в графстве Кент, добывался твердый камень, гранильщики которого назывались «грубые камнерезы». А работавших по мягкому, «вольному» камню — известняку, идущему на барельефы, капители и скульптуры, звали «фри мэсонс». Во Франции имеющие дело с таким камнем стали зваться соответственно «франкмасонами», что в нестрогом переводе значило «вольные каменщики».
Возникшая через сотни лет легенда фантастично рассказывала о братствах вольных каменщиков, хранителях им только ведомых мистических тайн, неподвластных сильным мира сего; она была подхвачена и расцвечена франкмасонским движением, особо развившимся в XVII веке. Его участники, настроенные оппозиционно к правителям и пытавшиеся обрести независимость, восприняли легенду буквально. Закрытые салоны для избранных членов братства, знамена с цеховыми.гербами и изображениями строительных орудий — все оказалось прекрасной декорацией. А разработанные ритуалы своей мистикой поражали воображение — вспомним хотя бы у Льва Толстого сцену приема в члены братства Пьера Безухова.
Однако «таинственность» неведомых посторонним знаков у настоящих «вольных каменщиков» имела вполне практический смысл. Вплоть до Ренессанса, согласно требованиям устава Буало, работа строителей, скульпторов или художников не расценивалась как искусство. Результаты труда не принято было связывать с именами. Если и можно встретить на старых соборных камнях то стрелку, то крест, то какой-то зигзаг, не стоит думать, что это авторские подписи. Знаки эти вызваны совсем не тщеславием; они указывали укладчику положение камня. Кирпичей тогда не знали, и у каждого камня было лишь одно заготовленное ему место. По меткам укладчик узнавал камнетеса своей группы. Вставая на рабочее место отца, сын брал в наследство и его молот и его знак.
Жан из Шелля, архитектор
Мы ни словом еще не упоминали архитекторов — людей, с именами которых принято связывать любое значительное сооружение. Что известно о них? «...Ходят вокруг да руками показывают, а деньги получают как все», — с укоризною отзывается о них средневековый моралист Никола де Биар.
Можно догадываться, что положение архитекторов было и вправду не блестящим. Даже такая нехитрая новинка, как присуждение красивого титула «доктор», и та далась с превеликим трудом: законники отчаянно протестовали (это слово из их словаря). Пьер из Монтрейя, автор проекта и главный строитель богатейшего аббатства Сен-День в предместье Парижа, был первым в истории доктором архитектуры.
Радевшее о тщательном воплощении замысленного духовенство старалось удержать архитектора на весь срок работ. Ему отводили домик с куском земли, жаловали зимой шубу, снабжали дровами. Самой же высшей почестью было остаться в своем детище навсегда, последним сном уснуть под его сводами. Этой чести был удостоен Жан из Шелля — первый известный нам строитель собора Парижской богоматери. «Мэтр Жан из Шелля начал это сооружение второго числа месяца февраля 1258», — гласит надпись, гравированная в основании южного портала собора. Вероятно, и это имя кануло бы в века, как имена многих, если бы не преданность его последователя и ученика, упомянутого Пьера из Монтрейя.
Кстати, и Шелль и Монтрейя — это деревушки провинции Иль-де-Франс, родины многих архитекторов Франции, страны, где в полях «мечтают соборы».
Первый камень Нотр-Дам был заложен еще папой Александром III и королем Людовиком VII в 1163 году на месте епископской капеллы св. Стефана. Ко времени назначения Жана общий ансамбль собора был намечен, почти завершенные стояли башни, и главный колокол — «Гийом» — звонил на весь Париж.
Собор Парижской богоматери в сердце города, по левому «борту» острова Сите, был не первой работой Жана из Шелля. Но он чувствовал, что все сделанное прежде было лишь подготовкой, пробой сил. Первый из первых соборов Франции! Он должен быть несравненно хорош. Нет, Жан не станет поддаваться общему безумию и побивать рекорды высоты. «Его» собор будет сама гармония, равновесие.
Мы не знаем внешности мастера. Был он высок или мал ростом, смугл или бледен? Лишь приблизительно можно представить его одежду: длинное, со множеством складок платье; высокий стоячий ворот, тяжелый берет цветного велюра и остроносые туфли. В правой руке — указательный жезл, символ главного строителя, в левой — длинная линейка с делениями. Он держит ее вертикально, как скипетр.
Четкого плана постройки, подробных чертежей, без которых теперь не возводят и коровник, тогда не существовало. Сооружение вели по наброскам, общим моделям из гипса или глины. Работа шла частями, от башенки к башне, как строятся пчелиные соты.
Существует запись в Хронике времен создания Миланского собора. «Следует ли продолжать работы, пока никому не ясно, как строить?» — таков был смысл дискуссии. К моменту ее начала соборные стены уже стояли. Не удивительно, что путаницы и непредусмотренных погрешностей не избежала почти ни одна постройка. Собор Парижской богоматери — тоже. Фигуры-месяцы размещены на нем в обратном порядке. Мудрено ли, если сразу устанавливали тысячи скульптур, стоивших тогда чуть дороже необработанных глыб камня!
Одним из немногих образцов средневекового проектного документа, если только можно назвать его таковым, считается альбомчик некоего Виллара из Оннекура. В альбоме вперемежку — зарисовки капителей, фигур людей и животных; тут же наброски нехитрых приспособлений для того, чтобы связать балки, поднять камень, разные фокусы на всякий случай. Здесь же, конечно, и проекты «вечного двигателя»: эта проблема в готические времена очень волновала умы и «вот-вот» готова была разрешиться...
Готика, разумеется, — не одни лишь постройки. Это образ художественного мышления. И каждый собор синтетичен: он вмещает в себя все. В нем труд строителя, скульптора и художника. В нем театр и школа. Прихожане, как правило, не знали грамоты, но они могли брать уроки богословия и истории в скульптурных символах, демонах и химерах, в сюжетах из евангелия, уроки эстетики — в гармонии сводов, подобной музыке. Потому что соборы — те же многоголосые хоралы и инвенции, только застывшие в камне.
Как шлемы башен Новгорода говорят нам о спокойной простоте и уверенной в себе силе, так готика превозносит логику и рациональный расчет. Превозносит стремящимся ввысь острием каждого ее элемента — башни, оконной рамы или буквы, продуманным длинным изгибом фигур ее святых, изысканных и холодных.
И еще готика — это аккорды гимна мастерам, вознесшим до высокого искусства свое ремесло. За три столетия (1050—1350) они обратили миллионы тонн каменных глыб в восемьдесят кафедральных соборов, пятьсот больших церквей и тысячи других строений, коим несть числа...
В начале XIV века в Европе впервые заговорили пушки. Мир мог поздравить себя с их изобретением. И музы прекрасной готики замолчали. Дети «вольных каменщиков» утолщали стены фортификационных сооружений. Скульпторы отложили на время резцы и учились отливать ядра. А служители недостроенных и забытых соборов привыкли видеть пустые постаменты, глазницы порталов и надолго останавливались перед какой-нибудь брошенной глыбой камня, с которой загадочно улыбался чуть намеченный девичий лик.
Борис Письменный
(обратно)
Людоеды из Рамгара

Кесри Сингх, известный индийский охотовед, больше тридцати лет работал в управлении по охране животных в штатах Мадхья-Прадеш и Раджастхан. Свои наблюдения за повадками хищников он изложил в книге «Тигр Раджастхана», главу из которой мы предлагаем вниманию читателей.
Неведомое всегда страшит и влечет к себе одновременно. Но часто бывает, что и хорошо знакомое, испытанное не однажды продолжает волновать тебя, сколько бы раз ты ни встречался с ним. У меня так было с тиграми-людоедами. Милях в двадцати к северу от Джайпура, в местечке Рамгар, есть очаровательное озеро. В лесистой местности вокруг него водился зверь, в том числе множество тигров. Поскольку хищникам вполне хватало там пищи, обитатели соседних деревень, казалось бы, могли не опасаться за свои жизни. И тем не менее из всех ставших мне известными за четверть века случаев людоедства самые страшные произошли именно в этой выглядевшей райской долине.
Тигрица лежала в логове с новорожденными детенышами. С рассветом к этому месту пришли косари и начали косить траву. Тигрица могла бы уйти, но с ней были дети. Она затаилась, выжидая, покуда один бедняга не споткнулся о нее. Зверь ударом лапы убил человека и бросился с выводком в высокую траву.
Второй крестьянин помчался к находившейся неподалеку водопроводной станции и, задыхаясь, рассказал рабочим о том, что произошло. Вскоре в поселке собралась большая толпа; у кого-то нашлось ружье двенадцатого калибра и два заряда картечи. Это придало храбрости, и односельчане отправились к месту происшествия.

Тигрица до-прежнему оставалась вблизи — малыши не умели еще как следует ходить. Когда люди подошли ближе, она, выскочив из укрытия, бросилась в атаку. Но прежде чем хищница достигла толпы, владелец ружья выпалил из обоих стволов. Заряд тяжелой дроби заставил ее остановиться. Рыча, тигрица вернулась в заросли к своему потомству. Крестьяне отыскали тело убитого и вернулись в деревню.
К сожалению, рана тигрицы оказалась несмертельной. Испытав боль, зверь преисполнился ненависти к человеку.
Но этот выстрел хотя бы принес пользу — было отбито нападение хищника. А год спустя в тех же краях кто-то — я так и не мог установить, кто именно, — выстрелил из мушкета в тигра, пожиравшего на опушке свою добычу — домашнего буйвола. Пуля, летевшая с небольшой скоростью, ударила зверя в переднюю лапу, и он ушел, затаив злобу. По удивительному совпадению раненый тигр и убившая косаря тигрица была супругами! (Впрочем, я не исключаю, что они стали ими после ранений.) Раненая пара начала разбойничать в округе...
Наутро после рождества за мной прислали из деревни: накануне вечером в двух милях к северу от озера тигр убил человека. Взяв четырех следопытов, я отправился на место.
Оказалось, что жертвой был пуджари (священник) местного прихода. Он отправился за травой для своей коровы и не вернулся. Отсутствие было замечено довольно быстро: его недоеная корова начала жалобно мычать, а соседи, которым священник обычно продавал молоко, остались без своей утренней порции. А тут еще кто-то сказал, что видел свежие следы тигриных лап поблизости от луга, куда пуджари обычно ходил за травой.
Нам действительно не пришлось долго искать следы: почти сразу же мы увидели в густом кустарнике запутавшийся белый тюрбан. Рядом лежали серп и пара туфель.
Тщательное обследование местности показало, что зверь, вероятнее всего — тигрица, дважды менял позицию, готовя засаду. Схватив несчастного, тигрица понесла его прочь: здесь и там видны были пятна крови.
На следующее утро я осмотрел местность и после тщательных размышлений решил расставить в трех ключевых пунктах живые приманки. Одну — под деревом на охотничьей тропе, ведущей к югу. Другую — у начала дороги, шедшей на восток, а третью — к северу, неподалеку от места гибели пуджари. Я рассчитывал, что тигрица, каким бы широким ни был радиус ее действия, хоть на одну приманку да натолкнется. А уж когда она вернется на вторую ночь, чтобы продолжить трапезу, я буду ее ждать.
Пока крестьяне сооружали махан (1 Махан — помост для засады на деревьях. — Прим. пер.), я решил пройтись и попытаться определить наиболее вероятный путь зверя. То и дело мне попадались неглубокие русла пересохших ручьев. Я вышел к краю лощины и тут почувствовал на себе чей-то взгляд. Поднял голову — это была тигрица. Зверь явно подбирался к работавшим помощникам. Тигрица двигалась спокойно и расчетливо по противоположной стороне оврага. Мое ружье осталось под деревом, находившимся метрах в ста позади.
Мы одновременно увидели друг друга, и удивление наше было одинаковым. Тем не менее я постарался скрыть свои чувства. Я заставил себя небрежно отвести взгляд в сторону, словно ничего особенного не заметил. Тигрица замерла, как все хищники, боящиеся, что намеченная жертва может увидеть их раньше времени.
Но я надеялся избежать судьбы пуджари. Во-первых, тигрица считала, что осталась незамеченной. Во-вторых, она вряд ли могла перемахнуть одним прыжком через овраг. Но если бы я продолжал смотреть на нее или сделал резкое движение, она, без сомнения, кинулась бы на меня. Весь сжавшись, как можно более неторопливо я повернул назад. «Прогулка» заняла лишь минуту, но мне показалось, прошли часы.
Тигрица, вероятно, поняла разницу между тросточкой, которую я держал при первой встрече, и тяжелым ружьем, оказавшимся у меня в руках, когда я через несколько минут вернулся на свидание, и благоразумно ретировалась.
На следующий день под всеми тремя маханами были привязаны буйволы: началась охота на людоеда. Должен признать, что тигрица показала себя достойным противником.
Для начала она продемонстрировала поразительное безразличие к приманкам. Причину этого я понял, когда услышал от следопытов и крестьян, что у тигров началась пора любви. В это время они обычно проявляют небольшой интерес к еде. Для нас это было подлинным невезением. Кроме того, меня тяготило подозрение, что ее друг — тот самый раненый тигр, разделяющий ее антипатию к человеку. Сообщали также, что двое ее детенышей — первопричина всех бед — основательно подросли и болтаются поблизости. Перед нами открывалась, таким образом, угрожающая перспектива встречи с целой тигриной стаей.
Первое сообщение о том, что зверь напал на привязанного буйвола, поступило через две недели после того, как мы расставили приманки. К махану, сооруженному вблизи этого места, я отправился с сыном магараджи М. К. Джайсингом, весьма опытным стрелком. Мы прибыли около шести вечера. Мои спутники поднялись на махан, а я занял позицию в кустарнике, приблизительно в сотне ярдов поодаль.
Около полуночи тигры подошли к туше убитого накануне буйвола, оставаясь в тени. Было отчетливо слышно их супружеское «воркование». Но через некоторое время звуки затихли. Прошел еще час напряженного ожидания, но ни один из убийц так и не показался на освещенном луной месте.
Хазур Бабджи, смелый шикари (охотник), спросил, не буду ли я возражать, если он попробует следующей ночью в одиночку убить тигра. Я согласился. Чтобы помочь Бабджи, я привязал козу близ водопоя для скота, где видели недавно тигриные следы.
Хазур Бабджи применил необычный способ охоты. Он сидел в своем «джипе» с погашенными фарами на дороге, ведущей к водопою. Услышав отчаянное блеяние козы, водитель рванул «джип» вперед и включил дальний свет: в лучах фар показался крупный тигренок. Он торопливо удирал в джунгли...
Со временем бесчинства его родителей-людоедов не прекращались. Из разных мест поступали сообщения о новых жертвах. Каждый раз после этого в районе убийства выставлялась приманка, но все безуспешно. То ли тигры вообще не замечали ее, то ли они стали предельно подозрительны и осторожны. Множество людей пытали счастье, надеясь разделаться с хищниками. Но убийцам, казалось, сопутствовало исключительное везенье.
Месяц спустя после гибели пуджари я отправился с Джай-сингом к одному из постов, близ которого, как сообщили мне охотники — шикари, были вновь обнаружены следы ночного визита тигра. Шанс был, конечно, незначительный, но мы не имели права упустить ни одной возможности. Привязав буйвола к дереву, мы заняли места на махане.
На этот раз нас, наконец, ждала удача. Мы не просидели и часа, как из тени выполз тигр-самец и прыгнул на буйвола. Тот до отказа натянул свою привязь, пытаясь стряхнуть с загривка врага. Раздался выстрел — мой спутник наповал сразил зверя.
Когда утром освежевали самца, в его передней лапе нашли круглую свинцовую пулю от мушкета.
Его подруга, однако, продолжала пугать округу. Я установил несколько живых приманок в надежде привлечь зверя. Но тигрица не пожелала ими заняться. Решив, что она перекочевала в другие края, я вернулся в Джайпур, оставив на месте шикари и наказав им немедленно поставить меня в известность, если людоед снова объявится в Рамгаре.
Неделей позже я получил телеграмму, которая заставила меня бросить все и помчаться обратно.
В трех милях к востоку от озера есть деревушка под названием Джелло; на окраине ее жил с молодой женой владелец джутового поля. Боясь тигра, как и все крестьяне по соседству, супруги перед сном крепко запирали двери своего ветхого жилища.
Вскоре после полуночи тигрица подошла к хижине, ударом лапы сломала дверь и, схватив бедную женщину за ногу, уволокла в джунгли. Муж упал в обморок. Шок был настолько силен, что прошло немало времени, прежде чем крестьянин смог разбудить соседей и поднять тревогу.
Рано утром я прибыл в Джелло и сразу же направился к хижине. Мужчина все еще не пришел в себя. После трагедии, произошедшей 30 часов назад, в хижине ничего не трогали и не мыли. В дверном проеме болтались обломки разбитой двери, пол был в пятнах засохшей крови.
В сопровождении нескольких крестьян я пошел по тянувшемуся в пыли на полмили волоку. След привел к зарослям, откуда при нашем приближении поднялась пара стервятников... Мало что осталось от тела несчастной, но не трудно было опознать серебряные браслеты на ногах; еще два дня назад они были предметом гордости новобрачной. Рыдающий муж вместе с нами пошел по следу зверя. Я пытался убедить беднягу вернуться домой, но ничто не могло заставить его покинуть след.
Мы шли час с лишним, покуда следы вдруг не оборвались среди густых зарослей шиповника. О засаде в такой местности нечего было и думать. Деревьев, где можно было бы замаскировать махан, тут не было. Кроме того, весь предыдущий опыт подсказывал, что мы имели дело с людоедом, который, по всей вероятности, не «клюнет» на приманку. Я возвращался в Джелло основательно озадаченный. Однако когда я еще раз осмотрел хижину, в голову мне пришла идея. А что, если использовать поразительную смелость животного, дерзнувшего вломиться в дом? Я тут же послал за местным плотником, и по моим указаниям он с несколькими добровольными помощниками соорудил маленький домик. Строение имело три плотные деревянные стены и крышу. Спереди вместо четвертой стены крепилась загородка из нескольких толстых жердей, достаточно прочных, чтобы выдержать по крайней мере первое нападение тигрицы.
Сооруженную ловушку поставили на открытом поле, примыкавшем к деревне. От ближайшего дома мою «кабинку» отделяло ярдов пятьдесят.
Незадолго до заката, вооружившись тяжелым штуцером, я занял позицию в клетке-западне. Играть роль живой приманки оказалось даже приятнее, чем сидеть на махане: можно курить, можно с хрустом растянуться на соломе — чем больше я афишировал свое присутствие, тем лучше было для дела.
Ночь, однако, прошла без происшествий. Поиски следов тигриных лап вокруг дома результата не принесли. Мы начали опасаться, что тигрица снова исчезла. Тогда надо было ждать вестей об убийстве миль за пятнадцать-двадцать от нас. Но, с другой стороны, не мог же хищник каждый день резать по человеку! Скорей всего страшная самка отлеживается в зарослях шиповника. Я решил поэтому придерживаться избранного плана.
Ждать долго не пришлось. Приблизительно в одиннадцать часов вечера следующего дня я внезапно услышал тревожные крики чибисов. Они кричали на некотором расстоянии, но их непрерывное «чьи вы, чьи вы» звучало очень четко в тишине. В деревне позади моего домика залаяли собаки — сначала одна, потом другая.
Я встал на четвереньки и глянул сквозь загородку. Но луна была на ущербе и проку от нее было мало. Я задвигался, закашлял и, прижавшись лбом и подбородком к двум жердям, пристально вглядывался во мглу. Ничего! Кроме тявканья собак, ничто не свидетельствовало о близости зверя. И все-таки я понимал, что тигрица вполне могла быть на расстоянии шага от задней стенки домика — спереди запах тигра не чувствовался.
Такая неопределенность длилась около получаса. Затем огромный ком вылетел вдруг из тьмы и ужасающей силы удар обрушился на загородку. Жерди затряслись. Сомнений в том, что это тигрица, уже не было. Я разрядил в грудь зверю правый ствол. Ружье мое было заряжено разрывными пулями; эффект их чудовищный. Тигрицу отбросило от загородки. Я видел, как она отчаянно скребет землю. Выстрелом из второго ствола я прикончил людоеда.
Это действительно была она: в груди у тигрицы засело шесть картечин — результат первой встречи с деревенским охотником.
Случай с рамгарской парой людоедов — исключение. Молодые, сильные тигры редко становятся закоренелыми людоедами. Зверь, конечно, может в раздражении убить человека, но не станет есть его, будучи не в силах побороть врожденный страх перед запахом человека. Тем более тигр не станет охотиться за человеком.
Три года спустя, когда я выследил в Ганвари Ганешере еще одного тигра-убийцу, им оказался немолодой запаршивевший зверь, худой, с клыками, сточенными до корней. Он был в состоянии справиться только с такой легкой добычей, как люди. Даже домашнюю скотину и ту ему было нелегко зарезать.
В Рамгаре же людоедами стали матерые звери. Уверен, что толкнули их на это раны, нанесенные человеком. Движимые вначале просто ненавистью к обидчику, они соблазнились легкостью охоты на него. Возможно и другое: в результате огнестрельных ран звери лишились ловкости, необходимой для выживания в джунглях. И вот результат...
Несколько лет назад ко мне в Джайпур пришло трагическое сообщение из поселка, расположенного у подножья лесистой возвышенности Банско Хилл. Старуха и ее дети — сын двадцати лет и восемнадцатилетняя дочь — отправились в джунгли за хворостом. Люди в тех краях, опасаясь тигра, обычно ходят в джунгли только большими группами. Но это несчастное семейство зарабатывало себе на жизнь торговлей хворостом, и поэтому им приходилось ежедневно отправляться в рискованное путешествие втроем. Собирая валежник, мать и сын услышали вдруг отчаянный вопль девушки, находившейся от них в нескольких ярдах. Подняв головы, они увидели, что ее сбил наземь тигр. Затем на глазах матери и брата тигр схватил девушку, как кошка крысу, и потащил в кусты.
Невооруженный юноша повел себя с отчаянным героизмом. Он ринулся за тигром, крича и швыряя в него камнями. Зверь, двигавшийся сравнительно медленно, поскольку держал в пасти девушку, обернулся, выпустил свою ношу, прыгнул на юношу и убил его ударом передних лап. Затем он снова подобрал девушку и исчез в джунглях.
Обо всем этом позже рассказала потрясенная, почти лишившаяся рассудка мать. Узнав, что стряслось, крестьяне сколотили отряд и отправились к месту трагедии. Изуродованное тело юноши они нашли без труда и доставили его домой. Но след тигра с его ношей вел в дебри, и они не осмелились долго преследовать хищника. В ту же ночь старая мать умерла от горя...
Прибыв в этот район, я столкнулся с трудностями. В окрестностях Банско водилось довольно много тигров. Как определить людоеда?
После некоторых размышлений я разработал следующую схему операции. Двух буйволят привязали под деревьями в безлюдном месте у подножья холма и возле каждой приманки поставили куклу, похожую на человека, натянув на нее изношенную одежду. За обеими приманками, стоявшими на расстоянии мили друг от друга, еженощно внимательно наблюдали шикари.
Через две ночи я получил сообщение: тигр подходил к одной из приманок, но, побродив в сомнении вокруг, ушел, оставив ее нетронутой. На следующий день пришло сообщение от другого наблюдателя: тигр прыгнул на манекен, сбил его наземь, а затем прикончил теленка. Сомнений не было — это он.
Из рассказов следопытов явствовало, что зверь все еще бродит вокруг деревни и наверняка вернется к добыче. Нужно было поторапливаться. Я раздобыл козу и в сопровождении трех шикари отправился через сады, окаймляющие деревню Банско. По дороге мы разговаривали и смеялись: для того, чтобы, если тигрица все еще залегает поблизости, создать у нее впечатление, будто мы группа безобидных крестьян, идущих по своим делам. Однако блеяние связанной козы произвело иное впечатление.
Едва мы сели в укрытие, как появилась тигрица и без колебаний набросилась на козу, привязанную поблизости от недоеденного буйволенка. Тигрица явно прихрамывала.
Раздался выстрел. К сожалению, промах. Пуля отбила кусок от большого камня прямо за тигрицей; та в испуге взвилась в воздух и исчезла.
Я считал, что большой беды не случилось. Тигрица вряд ли покинула бы такой богатый дичью район. Казалось, она не испытывает особого страха или ненависти к людям, а рассматривает их просто как легко доступную пищу. Я пришел к выводу, что, если постараться, ее можно будет еще раз заманить под дуло. Главное — действовать без промедления.
Мы срочно организовали облаву. На следующее утро цепочка людей осторожно двинулась вперед через густые заросли. Никто не сомневался, что тигрица все еще бродит среди полей и садов. И верно — вскоре она появилась перед загонщиками и преспокойно затрусила через открытое пространство, где уже стоял я.
Во время свежевания я тщательно обследовал ее. Никаких следов прежних пулевых ранений. Странно! Я продолжал искать и вскоре из мускулов нижней челюсти извлек острие иглы, а затем еще одну иглу из левой передней лапы — печальные результаты нападения на дикобраза. Игла в лапе весьма значительно снизила подвижность тигрицы, а обломок в челюсти лишил хищника железной хватки. Вне всяких сомнений, людоедом ее сделала крайняя нужда...
Мне хочется еще рассказать о нескольких схватках человека с тигром, которым я был свидетелем. Я хочу о них вспомнить главным образом потому, что эти случаи опровергают убеждение о том, что не вооруженный огнестрельным оружием человек совершенно беззащитен перед зверем.
В один из жарких дней я участвовал в Гвалиоре в большой облаве. Район изобиловал различным зверем, и вскоре мы наткнулись на следы целого выводка тигров: самца, самки и трех взрослых тигрят. Загон начался в одиннадцать часов, и уже через полчаса мы убили четырех тигров, остался лишь самый большой зверь — самец. Обычно, когда идет облава на семью тигров, самец отходит последним, пустив самку и тигрят вперед. Теперь же тигр-самец, заслышав выстрелы впереди, пришел, очевидно, к выводу, что следовать за своим семейством неразумно. Решив прорваться назад сквозь линию загонщиков, тигр кинулся на одного из них, опрокинул и вцепился ему клыками в плечо. Случилось так, что брат несчастного, тоже участвовавший в загоне, находился в это время поблизости. Увидев, что происходит, он подбежал и изо всей силы ударил тигра по голове обитой железом дубинкой. Нанеся зверю страшный удар, он без оглядки бросился бежать.
Я быстро побежал на шум и в изумлении увидел человека и тигра, лежащих бок о бок. Тигр был мертв. Как же так — ведь я не слышал выстрела! Осмотрев голову зверя, я увидел, что удар дубинкой проломил ему череп и тигр испустил дух.
Конечно, это был фантастически счастливый случай. У человека столько же шансов убить тигра дубинкой, сколько и мухобойкой. Не говоря уже о легкости, с которой зверь может сбить человека с ног, тигр способен достать своего противника на гораздо большем расстоянии, чем это кажется. Сам же тигр сумеет увернуться, если только его внимание не отвлечено. В приведенном случае внимание зверя было, естественно, приковано к несчастной жертве, сваленной наземь. Еще более невероятная история произошла с человеком по имени Калу Сингх, служившим надсмотрщиком у владельца конного завода в Колесаре, штат Раджастхан. В полумиле от Колесара у подножья холма стояло высокое дерево, окруженное земляным валом, образующим как бы круглый двор. Внутри двора хранились хворост и сухой навоз. В пятидесяти метрах от дерева пролегала тропинка, ведущая в деревню.
Рано утром крестьяне, проходя по тропинке, увидели за кучей валежника позади дерева полосатую шкуру. Не оставалось сомнений в том, что какой-то бродячий тигр, заметив людей, спрятался за земляным валом. Кто-то побежал в деревню сообщить новость, остальные рассыпались и установили наблюдение.
Вскоре собралась толпа человек в сто. Если бы тигра оставили в покое, он, несомненно, ушел бы; однако теперь, когда он был окружен, у него, по-видимому, не оставалось другого выбора, как выжидать среди ветвей.
Люди из-за излишней уверенности повели себя неразумно. Мало того, что толпа постепенно все ближе и ближе подходила к валу — один из крестьян в надежде увидеть больше, чем другие, вошел во двор с противоположной стороны. Тут нервы у тигра не выдержали, и он выскочил через вал прямо в толпу. Поднявшись на задние лапы, он схватил одного из любопытных, стоявшего рядом с Калу Сингхом, и бросил его на землю.
Калу Сингх был старый солдат, известный своей храбростью. Он не растерялся и изо всех сил рубанул тигра по спине лопатой. Зверь плюхнулся животом на свою жертву, царапая когтями землю. Толпа, изрядно напутанная, бросилась бежать в деревню. Лезвие лопаты повредило зверю нервный ствол спинного мозга, и у него парализовало лапы. Человек, на которого он свалился, остался жив. Эти случаи говорят о том, что самообладание даже в минуту мой отчаянной ситуации позволяет получить один-единственный шанс, который судьба всегда оставляет в запасе.
Кесри Сингх
Перевели с английского М. Виленский, В. Родин
(обратно)
Как находит дорогу летучая мышь?
img jpg="jpg"/
img_txt автора="" фото="фото"/
Около двух веков назад женевский врач Журине опубликовал результаты проделанных им любопытных экспериментов. Исследователь обнаружил, что летучие мыши, отлично ориентирующиеся в темноте (эта поразительная их способность была известна задолго до Журине), становились совершенно беспомощными, стоило только закрыть им ватой... уши. Журине предположил, что слух заменяет летучим мышам зрение. Чуть позже это предположение было подтверждено итальянцем Спалланцани, проделавшим серию сходных опытов. Но как этот зверек слушает предметы беззвучные? Кто-то из ученых, заинтересовавшихся, почему мышь в полете почти все время пищит, решил закрыть ей не уши, а рот. И что же? Зверек снова словно бы ослеп... Итак, оказывается, «путеводителем» для летучих мышей служит писк: воспринимая на слух отраженное от различных предметов эхо, зверек четко определяет их положение в пространстве и легко находит среди них, даже без помощи зрения, дорогу. Казалось бы, загадка, наконец, разрешена.
И все-таки... Ученые определили диапазон звуковых волн, какими «пользовались» летучие мыши. Минимальная длина волны «эхолота» летучих мышей составила около четырех миллиметров. Известно, что звуковые волны могут отражаться лишь от тех предметов, длина которых составляет не менее половины этих волн. Следовательно, теоретически летучие мыши могли замечать в пространстве лишь предметы размером не меньше двух миллиметров.
Но недавние исследования ученых ФРГ показали, что летучие мыши «замечали» куда более мелкие предметы. Исследователи приучили их на определенный звук, обозначающий время кормежки, влетать в затемненную комнату, где один из сотрудников лаборатории держал в вытянутой руке пинцетом миллиметрового червяка. Ни одна из летучих мышей не промахнулась ни разу...
Эксперимент был усложнен. В дверь, разделяющую два помещения, вставили нейлоновую сетку с тонкими, едва заметными нитями — до восьми сотых миллиметра. И что же? Пролетая сквозь ячейки этой почти невидимой сетки, ни одна из мышей ни разу не задела даже самую тонкую нить. Так был установлен интереснейший факт — способность «видеть» предметы с помощью ультразвука оказалась у летучих мышей в 25 раз выше «расчетной».
В чем тут дело? Как устроен ультразвуковой механизм ориентации летучих мышей?
...Один из ученых, участвующих в новой серии экспериментов с летучими мышами, сказал: «Еще не ясно, каким окажется точный ответ на эти вопросы. Но ясно одно — специалистам по бионике здесь есть чему поучиться...»
А. Соловьева
(обратно)
Четверо и полюс

На четыреста шестьдесят четвертый день путешественники увидели берег. Это не был остров Западный Шпицберген, к которому они стремились. Но все же это была суша, твердая земля, а не предательский лед. Сверившись с картами, выяснили, что у крохотного клочка суши есть и название: Смолл-Блэкборд — Грифельная Доска
(На советских картах остров этот носит норвежское название Весле-Тавлеё. — Прим. авт.)
. Меж льдиной, тихонько дрейфовавшей на северо-запад, и землей было около сотни метров раскрошенного льда, куда-то влекомого со скоростью в несколько узлов.
Начальник экспедиции Уолл Херберт мечтал об ином вступлении на сушу. И все же, поразмыслив, он дал указание Рою Кернеру и Кену Хеджесу, находившимся с собаками ближе к острову, попытаться выбраться на берег. В конце концов отчего не поставить точку здесь? До поселка Лонгйербиен, где их ждала финишная ленточка, по-видимому, уже не добраться: Ледовитый океан размывало с окраин великим паводком. Весна. Третий месяц путешественники бежали от весны, от солнечных лучей, растапливающих лед. Бежали от весны и навстречу ей. Четыре полярника бежали за четырьмя упряжками на юг от Северного полюса.
Кернер и Хеджес подобрались к островку уже на сорок метров, когда на них и на весь этот участок Арктического бассейна опустился плотный туман. Но и в тумане Херберт почувствовал, что льдину, на которой он остался с Алланом Джиллом, уносит все дальше от Грифельной Доски...
Когда два года назад мы беседовали с Хербертом о планах предстоящей трансарктической экспедиции, и ему и нам финал похода рисовался иначе. Уолли был переполнен оптимизмом, уверенностью в себе и друзьях. Создавалось впечатление, что самое трудное для него уже позади: удалось «пробить» идею пешего перехода через полюс, достать деньги, снаряжение, собак. На все эти хлопоты Херберт потратил без малого четыре года.
Мы беседовали с Уолли в кабинете директора Королевского географического общества профессора Кирвана. Хозяин наш — известный археолог, автор интереснейших книг о раскопках в Нубийской пустыне. Похоже, ему было чуть-чуть неловко перед иностранцами за повышенную экспансивность Уолли. А тому заметно не терпелось в путь. Херберт не мог усидеть на месте, поминутно вскакивал, мерял огромную комнату быстрыми шагами — разминался. Невысокий крепыш, темноглазый, курносый, бородатый. Борода окладистая, полярная.
Разговор наш с Уолли происходил на ходу — от карт, развешанных на стенах, кидались к картам, разложенным на столах. По непривычно темно-синей карте дрейфа льдов Полярного бассейна пролегла красная пунктирная черта — маршрут экспедиции. Херберт подробно объясняет, что курс проложен таким образом, чтобы на большей части пути льды сами несли их в нужном направлении. Из графика экспедиции видно, что Уолли твердо верит в незыблемость ледового расписания. Первая декада февраля 1968 года — старт с мыса Бэрроу на Аляске, 1 октября — остановка на Северном полюсе, первая декада июня 1968 года — финиш в поселке Лонгйербиен (Шпицберген).
Уолли с энтузиазмом описывает нам научную программу экспедиции. Четыре раза в день должны проводиться синоптические наблюдения. Во время зимней и летней стоянок намечено исследование солнечной радиации и динамики движения ледового покрова. Изучение характера дрейфа льдов, гляциологические измерения, геофизический «траверс» подводного хребта Ломоносова... Уолли надеется найти ответ и на вопрос, давно интересующий зоологов: «Чем все-таки питается белый медведь во время долгой полярной ночи, если, — замечает он, — исключить из его рациона зимовщиков?»
Но, пожалуй, самым важным пунктом научной программы должна стать проблема выживания. Как известно, вот уже несколько лет, как в небе над Арктикой пролегли регулярные трассы пассажирских авиалиний. Значит, могут произойти и вынужденные посадки во льдах? Какое снаряжение лучше иметь на борту, как организовать спасательные партии?
— Арктика неплохо изучена стационарно, — говорит Херберт. — Но на некоторые вопросы ответ может быть найден только «на ходу».
История освоения полярных бассейнов знает немало случаев, когда люди гибли только оттого, что не смогли ужиться друг с другом, от одиночества, нервной нагрузки, от страха перед «ледяным безмолвием».
— Конечно, — говорит Херберт, — нам будет легче. Постоянная радиосвязь с домом. Я, кстати, и буду сидеть на рации. Но представьте: нас четверо, и в течение почти полутора лет мы будем предоставлены только самим себе. Как сложатся наши отношения? Будет ли нас угнетать постоянное ограничение во всем, к чему привыкли? Мы опытные зимовщики. Но все-таки на зимовках есть известный комфорт. И народу больше. В общем на заре межпланетных путешествий мы проделаем полезный психологический эксперимент.
— Не видите ли вы некоторого элемента риска во всем этом предприятии? — осторожно спрашиваем мы.
Херберт слегка косится на профессора Кирвана. Тот улыбается.
— Риск? Ну, конечно же, риск! — говорит Херберт. — А как же иначе? Иначе и не стоило бы браться. Возможно, это одно из последних путешествий, которое еще можно совершить первыми. А первые всегда рискуют. Во всяком случае, это будет настоящее приключение.
В этих словах, произнесенных с редким для англичанина пылом и, как нам показалось, даже немного сердито, весь Уолли Херберт. Через несколько месяцев, уже с пути, он пришлет в Лондон предисловие к своей книге «Страна мужчин». В нем сказано: «В этой книге (она посвящена годам, проведенным Хербертом в Антарктиде) человек науки не найдет для себя ничего. Ее автор принадлежит к еще немногим оставшимся на свете искателям приключений». И чуть дальше Херберт вдохновенно излагает свое жизненное кредо:
«Могут утверждать, что путешествие через Арктический бассейн больше не является необходимостью, а связанный с ним риск не оправдан. Но я верю, что одной из черт развитой цивилизации является дух приключения — потребность человека ответить на вызов. Презирать или принижать это качество — значит игнорировать врожденное чувство любознательности, которое заряжает человека энергией».
Мы просим у Херберта разрешения опубликовать после завершения экспедиции его дневники в журнале «Вокруг света». Он разводит руками:
— Вот это не в моих силах. Каждое слово, которое я напишу, принадлежит газете «Таймс». Вам придется подождать, пока она не напечатает первой эти дневники.
Газетный синдикат лорда Томпсона, владельца «Таймс» и «Санди таймс», приобрел монопольное право на публикацию материалов об экспедиции, внеся в экспедиционный фонд солидный вклад. Королевское географическое общество не могло найти 54 тысяч фунтов для финансирования трансарктического похода. Некоторая часть этой суммы составилась из «добровольных пожертвований» фирм, рассчитывавших, что экспедиция будет прекрасной рекламой их товаров. Главным же пайщиком и в известном смысле хозяином путешествия стала «Таймс».
Покровительство путешествиям — традиционная особенность английской прессы. Можно вспомнить участие Флит-стрит
(Флит-стрит — улица в Лондоне, на которой расположены редакции крупнейших газет. — Прим. ред.)
в подготовке антарктических походов Шеклтона, Скотта, Фукса. В последние же два-три года финансирование различных экспедиций приобрело очень широкий размах. Каждая солидная лондонская газета, чтобы не отстать от других в погоне за читателем, сочла за благо взять под свою опеку какое-нибудь странствование или плавание. Разумеется, газетчиков и рекламодателей привлекали не столько серьезные научные экспедиции, сколько те, что носили характер состязания. «Обсервер» финансирует традиционную регату для яхтсменов-одиночек через Атлантику. «Санди таймс» назначила огромные призы участникам гонок под парусом вокруг света. «Дейли экспресс» опекает многодневные авторалли. «Дейли мейл» — воздушные гонки между телевизионной башней в Лондоне и Эмпайр стейт билдинг в Нью-Йорке. «Пипл» угощает читателей репортажами о плавании по Амазонке на «ховеркрафте»
(судно на воздушной подушке)
и т. д.
Чем больше риска, тем лучше. А потому организаторы иных плаваний или гонок сквозь пальцы смотрят на участие в них малоискушенных или плохо подготовленных
путешественников. Если что и случится — а случалось уже не раз, — есть возможность организовать поиски с привлечением военно-воздушных и военно-морских сил. Какой удачный материал для сенсации!
«Вторжение прессы, рекламы, бизнеса искажает сам дух плавания под парусом. Моряки-яхтсмены превращаются в платных жокеев, — сетовал в разговоре с нами Алек Роуз, один из немногих английских путешественников, который решительно отказался от услуг торговых фирм и газетных концернов при подготовке своего плавания вокруг света. — Я не завидую тем, кто погонится за призами «Санди таймс».
Роуз был прав. Через несколько месяцев после нашей беседы с ним в Портсмуте тогдашний лидер безостановочных гонок вокруг планеты Бернар Муатесье отказался от перспективы получения приза и повернул свою яхту на второй виток в океан
(О плавании Бернара Муатесье можно было прочесть в «Вокруг света» № 9 за 1969 год. — Прим. ред.)
. Другой участник этого соревнования решил обмануть всех и вся, спрятавшись на южноамериканском берегу и выжидая удобного момента для возвращения.
И поплатился в конце концов жизнью...
«Таймс», конечно же, предпочла бы не просто трансарктический поход, а, скажем, бега собачьих упряжек через полюс. Но Херберт и его спутники могли соревноваться только со временем. Поэтому предстартовый ажиотаж «Таймс» разжигала, забрасывая читателей вопросами: «Успеют ли путешественники пересечь Ледовитый океан к назначенному сроку? Что будет с ними, если не успеют, если их догонит весна?» — и т. п.
Мы не раз беседовали с английскими газетчиками о «географическом буме» на страницах лондонских изданий. Их суждения на этот счет можно резюмировать в двух ниболее категорических подходах к теме. «Англичане очень азартны, — говорили они. — Но мало кому из них по карману собственное настоящее приключение. Большинство удовлетворяется тем, что щекочет себе нервы, заключая пари. Знаете, ведь далеко не все играющие на скачках знают толк в лошадях или хотя бы любят их. Путешествие — та же скачка с препятствиями. Для многих весь интерес сводится к возможности поставить на победителя. Истинный смысл приключения — борьбу с силами природы — газета привычно подгоняет под эрзац-азарт тотализатора».
«Такое объяснение слишком упрощает проблему, — возражали их коллеги. — Увлечение спортивной стороной научных путешествий — это, если хотите, определенная дань национальному тщеславию. Не случайно к каждому путешествию мы норовим приспособить слово «первое». Эпоха первооткрывателей прошла, теперь мы создаем первопересекателей».
Нужно признать, что в обоих приведенных выше воззрениях на причины ажиотажа вокруг путешествий соотечественников есть немалая доля истины. Действительно, в организации различных путешествий-соревнований в Англии нельзя не увидеть черт, как бы взятых напрокат из профессионального спорта. Но в то же время нельзя не увидеть и того, что такие понятия, как «приключение», «путешествие», нередко оказываются в прямом соединении как с наукой, так и со спортом.
Вообще говоря, тема «путешествия вперегонки», привнесения спортивных критериев в мир науки могла бы быть предметом интересной дискуссии. Разрушает ли спортивный азарт, погоня за метрами и секундами романтику дальних странствий? Не было ли элементов спортивного соревнования уже в трагическом соперничестве Амундсена и Скотта за вступление на Южный полюс? И если профессиональный автогонщик, ведя борьбу на трассе, переступает ради победы грань оправданного риска, то вправе ли переступать эту грань участник географической экспедиции?
Вполне очевидно, что черты истинного спортсмена и настоящего ученого могут сочетаться в одном человеческом характере. Но могут ли сосуществовать, не мешая друг другу, спортивные и научные цели в одном путешествии? И поскольку поведение человека в момент опасности, крайнего напряжения духовных и физических сил само по себе является предметом научного исследования, не представляют ли дальние путешествия на скорость свой особый интерес для науки XX века — в частности, для психологии?
На собаках... Через полюс... Зачем это им нужно? Таковы были основные вопросы корреспондентов перед стартом.
— Мы сами относимся к нашему предприятию прежде всего как к хорошему приключению, — сказал нам Херберт, прощаясь.
— Мы хотим проверить теорию американского ученого доктора Раймонда Бернарда о том, что на Северном полюсе есть отверстие в центр Земли, откуда и вылетают «летающие тарелочки», — отшутился он несколько дней спустя в Лондонском аэропорту.
С типичным английским юмором ответил корреспондентам и Аллан Джилл: «Я лично иду, чтобы избавиться от глупых людей, которые спрашивают: «Зачем ты идешь?»
Кстати, в конкурсе на самый глупый вопрос победила, как нам кажется, одна канадская журналистка, о которой рассказал Херберт. Она спросила: не считает ли он, что, пройдя пешком через Ледовитый океан, он станет вторым Иисусом Христом?
«Второй Иисус Христос» родился за тридцать три года до этой беседы.
В 1954 году двадцатилетний Уолл завербовался в свою первую антарктическую экспедицию. Проработав два с половиной года геодезистом на Земле Грэма, он пускается в обратный путь домой через Южную Америку, пользуясь для передвижения исключительно большим пальцем, которым останавливал попутные машины. Часть пути он проделал пешком по горным тропам Анд, а 1300 километров одолел в каноэ, спускаясь по реке Магдалена. 1960 год застает его на Шпицбергене, а следующий — снова в Антарктиде, в составе новозеландской экспедиции на Земле Королевы Мод. В честь 50-летия открытия Южного полюса Амундсеном он осуществляет восхождение на ледник Акселя Хейберта. Вернувшись в 1963 году в Англию, он приступает к подготовке трансарктического похода на собаках и следующие два сезона проводит в тренировочно-разведывательных экспедициях в Гренландии и на Аляске.
«Уолли — романтик, но тщательно скрывает этот дефект, — говорят о Херберте друзья. — Свою книгу об Антарктиде он написал сначала белым стихом, а потом переписал прозой».
Доктор географических наук, гляциолог Рой Кернер провел около пяти лет в Антарктиде, причем последний раз — на Полюсе недоступности. Он самый высокий и самый рыжий из членов экспедиции и единственный из них, успевший в перерывах между зимовками завести семью. Семья должна была увеличиться в числе, когда экспедиция собиралась в путь. Рой упросил Херберта на несколько дней отсрочить старт. И пока его упряжку натаскивали в Бэрроу, научный руководитель экспедиции провел в американском городе Колумбусе несколько дней с новорожденной дочкой.
Десять лет работы в полярных районах не показались Аллану Джиллу слишком долгим сроком. Самый старший из четверки, 37-летний Аллан к тому же единственный обладал опытом жизни на дрейфующей льдине и длительных поездок на собачьих упряжках. Весной 1967 года он проделал вылазку длиною 1200 миль в глубь Ледовитого океана, повторив часть пути несчастливого претендента на открытие Северного полюса Фредерика Кука. Аллан — отличный кинооператор. В его активе поразительные цветные снимки дна Ледовитого океана.
— Джилл никогда бы не расставался с Арктикой, — говорит о нем Херберт, — если бы его, как и других людей, не влекли приключения. Поэтому он время от времени покидает полярные районы и совершает прогулки по Лондону.
В отличие от трех остальных членов экспедиции, военврач Кен Хеджес в Арктике, как и в Антарктике, вообще не был. Оно и понятно: Кен — специалист в области тропической медицины. К этому надо добавить хорошее знание джиу-джитсу, уменье плавать с аквалангом, прыгать с парашютом и ориентироваться в джунглях. Все это могло лишь ограниченно пригодиться на полюсе. В высокие широты он попал впервые за месяц до старта — Аллан взял его с собой в Гренландию покупать лаек.
Обучение шло быстро. Возвращаясь с 40 собаками из поселка Куанак, Кен и Джилл заблудились в пурге. Их эскимосские проводники потеряли дорогу. За эти несколько дней блужданий в «белой пустыне» Кен узнал и какие сны видит человек, спящий в снеговой яме, и с каким аппетитом набрасывается он на куски мороженой моржатины.
Хеджес был не только врачом, но и психологом экспедиции. Свою деятельность по охране морального духа участников похода он начал с того, что роздал им накануне старта анкету, состоящую из 1016 вопросов. Сам же Кен регулярно звонил с Аляски домой, в город Борнемут, и слышал от мамы один и тот же вопрос: «Послушай, тебе действительно не холодно? Может быть, прислать еще одну пару теплого белья?»
Груз, который 40 гренландских лаек должны были протащить на четырех санях через 3800 километров льда и снега, разумеется, включал и теплое белье, и песцовые кухлянки, и волчьи парки, и много других приятных вещей для защиты от стужи, в том числе 50 комплектов меховых тапочек для лаек. Но все это составляло лишь ничтожную часть 70 тысяч фунтов снаряжения, завезенного в январе 1968 года на мыс Бэрроу. Много весили сами сани, изготовленные по специальному заказу, — при необходимости их можно было превратить в средство передвижения по воде. Существенное место занимали и две походные рации, сборные собачьи загоны и ящики с продовольствием для собак и людей. Рацион был разработан из расчета 5500 калорий на человеко-день. Продовольственная разверстка включала 6200 сигарет и 60 фунтов трубочного табака. Духовная пища — несколько сот метров магнитофонной пленки с записями симфонических произведений и библия, которую читал на ночь психолог экспедиции. Почетное место занимал в экипировке потертый карманный хронометр с нацарапанным на серебряной крышке словом «Sudpolen-l». Его нацарапал Амундсен на Южном полюсе в 1911 году. Нынешний владелец хронометра, состоятельный норвежский фермер, попросил теперь Херберта нацарапать что-нибудь от себя на Северном полюсе.
Что не взяли с собой? Не взяли писем. Несколько килограммов писем — вернее, конвертов с адресами было прислано в адрес экспедиции филателистами, которые просили поставить штемпель на почте в Бэрроу и взять проштемпелеванные конверты на Северный полюс. «Непрактичная идея», — высказался Уолл Херберт.
Пока ожидали погоды и Кернера, решали вопрос, как запрягать собак: цугом или попарно в хвост. Цугом красивее и драк меньше. Но местные эскимосы отсоветовали — торосы легче преодолевать попарно.
Лайки были куплены без родословной. Имен их никто не знал. Называли заново. Аллан Джилл использовал весь свой запас жаргонных выражений. Херберт пошел по другому пути, называя лаек в честь своих знакомых. Вожак упряжки откликается теперь на имя Сэр Майлс Клиффорд. Его лондонский тезка — не кто иной, как председатель Комитета по организации трансарктической экспедиции. Не забыты были и другие члены Комитета — полковник Эндрю Крофт, начальник полицейского училища, мистер Аллан Триттон, директор банка «Барклай», и сэр Вивьен Фукс — первопересекатель Антарктиды...
— Самое трудное? — переспросил нас Херберт. — На мой взгляд, пройти первые сто миль.
Так и оказалось.
Начиная с 23 января, когда впервые из-за горизонта высунулось солнце, Херберт ежедневно вылетал на рекогносцировку. Возвращался угрюмый. Давно прошли все сроки старта, график похода был непоправимо поломан, а ледовая обстановка оставалась беспросветной.
По вечерам в кафе «У Фреда» (так прозвали хижину Фреда Чёрча, радиста, который будет поддерживать связь с экспедицией во время всего похода) собирались эскимосы, пили чай. Спорили: на какой миле англичане повернут назад, если вообще выберутся на лед, успеют ли, нет встретить ужасного десятиногого медведя. Вспоминали местного охотника, который лет сто назад ходил пешком в Ледовитый океан. Вернулся, истоптав четыре пары камиков — эскимосских снегоступов. Рассказал о дружелюбном племени, которое живет «там». В доказательство оголял спину: на спине был мастерски вытатуирован кит.
Четверых англичан занимала та же проблема: как преодолеть сотню миль, отделяющую берег Аляски от панциря крепкого пакового льда? Эти сто миль представляли собой месиво из взгроможденных друг на друга льдин, крошеного льда и черных разводий. Менялся ветер, менялась температура. Не менялась только общая картина взбудораженного льда. Ждали одного: когда слабый северо-восточный ветер совпадет с крепким морозом. Ветер соберет расходящиеся ледяные поля, а мороз скует оставшиеся разводья.
«Ни, один задолжавший жилец, — писал в те дни Херберт, — не крадется так осторожно мимо двери своей квартирной хозяйки, как мы должны красться по свежему льду. В отличие от пресноводного морской лед не трескается, как стекло, а прогибается под тяжестью тела. Никогда не знаешь, в какой момент он лопнет».
19 февраля с самолета была обнаружена «ледовая дорога» — узкая полоска гладкого льда, уходящая от берега. Правда, вела она не на север, а на восток.
— Все едино, — сказал Херберт, — ждать больше нельзя.
На восходе солнца 21 февраля 1968 года четверо путешественников отправились в дорогу.
С собой у них был провиант на 14 дней. В течение трех часов, пока стояло солнце, видимость была приличной. Ветер достигал примерно 15 узлов, температура держалась около 25 градусов ниже нуля по Фаренгейту.
Вечером состоялся первый радиосеанс. Путники одолели
15 миль, но «ледовой дороги» не нашли. В лабиринте торосов все видится иначе, чем с воздуха. «Я смертельно устал, Фредди, — сказал радисту Уолл. — Давай сегодня покороче».
ИЗ ДНЕВНИКА:
«26 февраля, понедельник. Мы проделали адское количество тяжелейшей дорожной работы за эти последние дни. Она изматывает, но приносит удовлетворение. Этот мягкий лед весь перемолот. Он грязного цвета. Как куча строительного мусора. Дьявольская картина. Кернер и Хеджес расшибли колени об острые куски льда».
В среду, 28 февраля, летчик Боб Мэрфи на самолете «чессна-180» обследовал район движения экспедиции и, обнаружив проход в торосах, сбросил опознавательный знак. Знак путешественники не нашли.
В четверг, пролетая над лагерем, Мэрфи обнаружил, что путешественники находились на небольшой ледовой площадке, со всех сторон окруженной водой. Сверху было видно, как площадку прорезывали темные молнии трещин.
Лишь 5 марта четверо ступили на прочный лед.
В тот же день Херберт вернулся к своему дневнику:
«К югу, востоку и западу от нас — открытая вода. На севере, за десятиметровой ледяной стеной — хаос торосов. Мы все еще в зоне столкновения ледяных полей. Наши беды начались четыре ночи назад. Тревогу поднял Кернер. Лежа в своей палатке, он обратил внимание на то, что гул и скрежет сталкивающихся льдин стали как будто громче. Он вышел и, пройдя каких-нибудь полсотни метров, увидел при слабом свете северного сияния движущуюся на юг ледяную гору. Кернер поднял нас на ноги, и мы стали запрягать собак... Мы неслись среди льда, ощущая, что все вокруг даже не движется, а тоже летит. Сквозь гул канонады раздавались отдельные взрывы. Это огромные глыбы падали в разверзшиеся воды. Я чувствовал
резкий запах моря. Мы бежали от преследовавшего нас шума часов пять, но он не утихал. Не в силах двигаться дальше, мы устроили привал, но вскоре новые опасности погнали нас дальше. Я не знаю, как долго еще нам предстоит двигаться среди этого предательского льда и как долго каждый из нас сможет выдержать это напряжение».
Четыре упряжки снова пустились в бега. В эти дни вся надежда была на самолетик «чессна-180». Мэрфи ежедневно разыскивал отряд и руководил с воздуха его передвижением. Контакт воздух — лед не всегда оказывался прочным. Четверка жаловалась, что представление Мэрфи о длине сухопутной мили намного отличается от общепринятого. Кроме информации о состоянии льда, авиация доставляла путешественникам продовольствие по индивидуальным заказам и журналистов из «Санди таймс».
17 марта журналист Питер Данн передал в газету:
«Сегодня мы вылетели с аэродрома мыса Бэрроу и совершили посадку в 55 милях к северо-востоку, около экспедиционного лагеря. Лагерь находится в 350 милях южнее того места, где экспедиция должна быть по графику. Херберт выглядит чрезвычайно усталым. Он смотрит на окружающие лагерь барьеры вздыбленного льда, как на тюремные стены. «Пора бы нам, наконец, начать двигаться», — говорит он. Аллан Джилл выглядит так же бодро, как на старте. Хеджес, отрастивший бороду, пожаловался мне, что чуть не застрелил свою лайку Бабблз, приняв ее ночью за волка. Кернер, также небритый, писал письмо жене. Все вокруг было белоснежным. И только эти четверо были черны, как шахтеры».
ИЗ ДНЕВНИКА:
«29 марта. 73°8"N, 156°5" W. Я начинаю верить, что при разумной доле везения мы сумеем добраться к лету до Полюса недоступности. Каждый волен помещать этот полюс по своему разумению... Мое предложение — 82° 30" N и 172°30"W.
...Мы встаем рано и ложимся поздно, измотавшись вконец. Наши сани перенесли изрядную тряску, и мы не устаем удивляться, что они еще не рассыпались. Мы сами тоже живы-здоровы, если не считать синяков, обмороженных мест и ладони Кернера, прокушенной собакой. Собаку пришлось пристрелить. Еще одна погибла в драке. Осталось 38.
...Паковый лед в нашем районе пришел в движение. Мы не можем позволить себе дальнейших задержек, если хотим разбить летний лагерь на Полюсе недоступности. По теории, дрейф льдов этого бассейна должен приближать нас к намеченной цели со скоростью полмили в день. Но пока нам не удалось обнаружить ничего похожего.
...Всю неделю двигались медленно и осторожно по молодому льду. От мыса Вэрроу теперь 400 миль. Во вторник нам сбросили продовольствие еще на полмесяца. Но больше всего мы радовались, получив смену шерстяного белья. Хотя солнце и начинает пригревать, все еще очень холодно. То и дело обнаруживаем в районе наших стоянок следы белых медведей. Но самих животных не видно...
27 апреля. 77° 32" N, 162° 40" W. Пройдено 450 миль. Кажется, вчера мы, наконец, выбрались на настоящий паковый лед. До этого несколько дней обходили разводья. Теперь — прямо к цели...
25 мая. 80°42"N, 165° 30" W. Пройдено 660 миль. Собак осталось 36.
Аллан Джилл упал и повредил колено. Боялись, что треснула кость. Но Хеджес разрешил двигаться дальше. Сани совсем разваливаются.
...Мы преодолели полпути до Северного полюса, и позади осталось 660 миль трассы. Но на самом деле мы прошли за упряжками около тысячи миль. Дрейф льдов опять относит нас к югу. Последние дни мы буквально топчемся на месте. Разводья все медленнее затягиваются ледком. И мы уже не идем и не тащимся, а буквально ползем. В упряжках осталось по восемь-девять собак, и даже полтонны, (вес саней с грузом) даются им с трудом. На днях мы с Алланом чуть не утонули, когда наши сани, превращенные в плот, стали тонуть под тяжестью намерзшего на них льда. К счастью, дело окончилось купанием в ледяной воде. Научились мы двигаться и по глубокому снегу. Во всяком случае, во время разведок. Делается это так. Становимся на лыжи, в одной руке держим на длинных поводках трех собак, в другой — кнут. Впечатление от прогулки ни с чем не сравнимое.
За 80 дней пути мы больше узнали об окружающем нас мире, чем если бы прочли множество книг...
27 мая. 80°50"N, 165°40"V. Пройдено 670 миль.
Перед нами целое море открытой воды. Вокруг весь лед в движении. Обстановка как в худшие дни начала нашего путешествия. Двигаться можно только назад. Но какой смысл? Мы все еще в 170 милях от места, где рассчитывали разбить лагерь к 14 июня. Если бы мы были хоть чуть-чуть севернее, стоило бы заняться поисками надежного ледяного острова для стоянки. Но мы слишком отстали. Надо пройти еще немало миль, прежде чем иметь право расслабиться».
Херберт не скоро вернулся к дневнику. 3 июня он радировал Черчу: «Мы блуждали целый день, но не продвинулись ни на йоту. Сначала пошли на северо-восток, потом попытались пройти на северо-запад, но попадали в непроходимые районы. Повернули назад и снова уперлись в тупик». На помощь полярникам с мыса Бэрроу вылетел самолет. Но летчик лишь обнаружил, что экспедиция находится в сплошном кольце битого льда. В этом районе Арктики сталкиваются два мощных спиральных течения, и на сотни миль в окружности ледяной панцирь превратился в ледоворот.
ИЗ ДНЕВНИКА:
«6 июля. 81° 37" N, 165° 15" W.
Последняя неделя была в физическом смысле самой трудной. Временами собаки так глубоко проваливались в мокрый снег, что приходилось вытаскивать их оттуда поодиночке. Нам пришлось спарить упряжки и попеременно толкать сани метр за метром. На каждой остановке мы выжимаем носки и выливаем из ботинок холодную воду. Но как только продолжаем путь, оказываемся вновь по колено в ледяной каше. А на ночлегах, определив свое местонахождение, мы с горечью убеждаемся, что все наши усилия оказались тщетными, так как дрейф относит нас на юг!»
12 июля два транспортных самолета канадских ВВС сбросили путешественникам необходимое снаряжение для устройства летнего лагеря — в том числе ласты и маску для подводного плавания. Пока занимались хозяйственными делами — строили город «Мелтвилль» (от английского глагола — melt — таять), путешественники, к своей великой радости, обнаружили, что их льдина как бы развернулась и начала дрейфовать к северу. Это случилось 22 июля, в день торжественного открытия «Растай-города». Казалось, тучи над экспедицией начали расходиться.
Летний отпуск продолжался восемь недель. В первых числах сентября путешественники стали вновь собираться в дорогу. На этот раз недолгую — приближалась полярная ночь.
От точки предполагаемой остановки Большое Полярное течение должно было доставить их на Северный полюс. Однако торопиться не следовало. Первый снег запорошил ледяные поля, но озера летней талой воды еще не промерзли.
В путь отправились в понедельник 9 сентября. Прошли около семи миль, когда случилась беда. В глубокую трещину, скрытую предательским снегом, провалился шедший с тяжелым рюкзаком Аллан Джилл.
Доктор Хеджес немедленно поставил диагноз: тяжелое повреждение спины, возможно смещение позвонка. Джилла положили на перевернутую байдарку. На руках отнесли назад, в только что оставленный «Мелтвилль». В Лондон была отправлена радиограмма с медицинским заключением Хеджеса, который настаивал на немедленной эвакуации пострадавшего.
Между тем в «Растай-городе» два члена экспедиции решительно восстали против мнения врача. С трудом превозмогая мучительную боль в спине, едва разжимая зубы, Аллан пробормотал, что ни за что не покинет лагерь. Его поддержал начальник экспедиции Уолли Херберт — человек, в первую очередь ответственный за жизнь и здоровье своих товарищей. Сначала он отправил в Лондон просьбу прислать замену. Но затем, поговорив с Джиллом, он изменил мнение.
Херберту нелегко далось такое решение. Он понимал, что творится в душе Аллана, когда тот повторял сквозь зубы: «Мне легче умереть, чем покинуть вас. Ради всего святого, не предавайте меня».
Доктор Хеджес считал невозможным изменить своему профессиональному долгу; он знал: человек с таким серьезным повреждением не может оставаться на зимовку, его место — в больнице.
Херберт радировал в Лондон: «Джилл неоценим для экспедиции, он способен принести огромную пользу, даже будучи прикован к постели. Он сознает весь риск и возможные последствия и просит оставить его на зимовку».
Из Лондона пришли в ответ две радиограммы. Одна — от патрона экспедиции герцога Эдинбургского. Муж королевы писал: «С сожалением узнал о несчастье с Джиллом в довершение ко всем прочим трудностям и разочарованиям. С наилучшими пожеланиями. Филипп». Вторая радиограмма подписана председателем Комитета экспедиции сэром Майлсом Клиффордом: «Комитет обсудил все известные факторы и, сознавая большое желание Аллана остаться на зимовку, постановил, что по причинам медицинского характера, а также для обеспечения возможного старта экспедиции весной он должен — повторяем, должен — быть эвакуирован».
Аллан между тем мужественно боролся с несчастьем. Пролежав две недели неподвижно на твердых досках, ой начал делать попытки приподниматься.
«Будь я на месте Аллана, им пришлось бы пристрелить меня, чтобы взять отсюда», — заметил Херберт и отправил в Лондон гневную реляцию, выдержанную в издевательски канцелярских выражениях:
«С чувством совершенного почтения я вынужден обратиться к Комитету с настоятельным пожеланием, чтобы впредь в ответ на мои обращения к нему за моральной поддержкой в отношении каких-либо изменений планов, касающихся прохождения 3800 километров по дрейфующему паковому льду, Комитет, сообразуясь с моей ответственностью и с уважением к моему опыту и суждению, посылал мне рекомендации, а не директивы».
На общечеловеческом языке это послание означало одно: «Джилла я вам не отдам».
Во время очередного радиосеанса с корреспондентом «Таймс» Херберт использовал для характеристики действий Комитета несколько весьма сильных английских выражений, которые газета не постеснялась тут же опубликовать. Ознакомившись с этой оценкой своей деятельности, Комитет распространил в прессе следующее заявление:
«Полярным исследователям хорошо известно, что у некоторых людей напряжение, создаваемое длительным и трудным путешествием, накапливается и оседает в организме, особенно зимой. Это состояние, известное под названием «винтеритис» (от английского winter — зима), затемняет рассудок и может представлять опасность. Вероятно, участники экспедиции после восьми месяцев отчаянного и опасного пути уже находятся в известной степени в состоянии винтеритиса. Остается надеяться, что эта степень еще не столь велика, чтобы ставить под сомнение безопасность людей и исход экспедиции».
Для непонятливых сэр Клиффорд растолковал это заявление так: «Мы считаем, что у Херберта не все дома».
Комитет решительно отверг предложенный Хербертом план: оставить Джилла вместе с Хеджесом в «Мелтвилле», куда должна будет прибыть группа ученых, а самому в паре с Кернером завершить маршрут через полюс до Шпицбергена.
29 сентября на американскую дрейфующую станцию Т-3, находящуюся в 150 милях от «Мелтвилля», сел двухмоторный «оттер» канадской полярной авиации. Летчику Фиппсу был дан наказ во что бы то ни стало забрать Джилла из лагеря. Сесть в «Мелтвилле», однако, было не просто. У «оттера» не было лыж, и опуститься он мог лишь на гладкую ледяную площадку.
И тут летчики, сбросившие в лагерь очередную партию груза, стали свидетелями своеобразной демонстрации — Аллан Джилл встретил их, стоя на лыжах! Кроме того, они приняли следующее послание Херберта: «Бросайте ящики осторожнее. Поблизости бродят медведи, а нам не нравится вкус давленой медвежатины ».
В день, назначенный для эвакуации, разыгралась пурга, и Херберт счастливым голосом сообщил, что расчистить полосу нет никакой возможности. На следующее утро установилась идеальная, насколько это возможно в условиях Арктики, летная погода. Но напрасно летчик Фиппс ждал у рации известий из «Мелтвилля». Херберт не откликался на позывные. Рация «Мелтвилля» заработала только через три дня, когда погода испортилась уже окончательно и бесповоротно. «Что же вы не прилетали? — удивлялся Херберт. — Теперь о посадке и думать нечего».
«Оттер» улетел на базу. А Джилл остался зимовать в лагере. Четырем спутникам предстояло вместе провести полярную ночь и залечить все раны — телесные и душевные, — вызванные сентябрьскими событиями.
ИЗ ДНЕВНИКА:
«4 ноября. 85°44" 7" N, 163° W.
Мы живем в хижине, наполненной ароматом свежевыпеченного хлеба и менее приятным запахом сохнущих над печкой фуфаек, аппаратов, варежек и волчьих парок. Хижина невелика — 25 квадратных метров, но у каждого из нас есть свой угол, обставленный по личному вкусу и в соответствии с профессиональными обязанностями. Научные работы, в разгаре. Доктор Кернер возится со своими микрометеорологическими приборами и защищает от собак участок свежего, невытоптанного снега. Джилл приступил к своей программе геофизического траверса, включающего замеры магнитного и гравитационного полей, а также прощупывание эхолотом профиля морского дна. Он ходит легко, но все еще не может согнуть спину. Эта несгибаемая спина напоминает старую военную выправку. Кен Хеджес проводит опыты над нами, выявляя лучшую форму арктической одежды. Очевидно, наш энергичный бег на месте во время очередного эксперимента послужил импульсом к сотрясению льда, в результате которого 20 октября наш, лагерь треснул пополам. Два из пяти наших складов оказались отрезанными. Через несколько дней вторая трещина еще сильнее сократила наше жизненное пространство. Пришлось искать новое место для лагеря. Перетаскивание и переноска отняли добрых десять дней. Теперь новую и старую стоянки соединяет отлично обкатанная дорога».
24 февраля 1969 года, год спустя после старта, четверо англичан покинули «Мелтвилль» и взяли курс на Северный полюс. Перед этим состоялась новая серия радиопереговоров с Лондоном. Комитет сделал еще одну попытку настоять на эвакуации Джилла. Он уже утвердил кандидатуру нового члена экспедиции. Осуществлению замыслов Комитета мешало одно — невозможность посадки в районе лагеря.
Март выдался исключительно морозным. К тому же путешественники взяли с собой минимальный запас продовольствия. С тяжелыми нартами нечего было и рассчитывать наверстать в сжатые сроки те 200 миль, что «не дошли» в прошлом году. В довершение ко всему плохие метеоусловия нарушили на много дней контакт с экспедицией с воздуха. Пришлось резко урезать рацион.
ИЗ ДНЕВНИКА:
«Эти дни мы никогда не забудем. Холод, усталость, голод... Десять часов в сутки мы пробиваемся сквозь торосы на север, не думая ни о чем другом, кроме порции «Кембела» на привале и шестичасового забытья в холодном спальном мешке, влажном и липком от испарений наших усталых тел».
Продовольствие и припасы были сброшены полярникам, когда они приближались к 89-й широте. «Собаки, — сказал по радио Херберт, — выдохлись окончательно от недостатка пищи и долгого мороза. Им нужен по крайней мере недельный отдых, чтобы восстановить силы».
Но этой недели в запасе у Херберта и его спутников не было. Их ждал полюс.
ИЗ ДНЕВНИКА:
«С каким чувством мы достигнем этой точки после сорока дней мучительного труда, сказать не берусь... Возможно, мы будем ощущать гордость. Возможно, только голод и усталость. В любом случае мы не можем позволить себе расслабиться, пока наша задача далека от завершения и Шпицберген все еще впереди».
Он, конечно, не мог предполагать, что именно там, на полюсе, их поджидает одно из самых страшных бедствий, какие могут выпасть на долю полярных исследователей. От грядущей беды четверых англичан там будет отделять всего тридцать шесть часов.
Окончание следует
А. Ефремов, соб. корр. «Комсомольской правды», М. Кондратьева, соб. корр. «Вокруг света» в Лондоне
(обратно)
Люди «второго сорта»

Его зовут и Джузеппе Мартинелли, и Аджан Сингх, и Рамон Гонсалес, и Надир Фейзиоглу, и Георгиос Илиопулос, и Фернандо Лопес, и бог знает как еще. Черты лица, цвет кожи, обычаи, язык — все у него разное. Да и живет он чуть ли не по всему свету: в Соединенных Штатах и Англии, в Швейцарии и Франции, в Австралии и Западной Германии. А судьба его повсюду одинакова. Ведь он эмигрант, человек, которого нужда загнала на чужбину.
В сегодняшнем капиталистическом мире, где господство монополий ведет к воспроизводству социальных антагонизмов в еще больших, чем раньше, масштабах и с еще большей остротой, сотни тысяч бедняков вынуждены покидать родину, близких и уезжать за границу в поисках лучшей доли. В Основном документе международного Совещания коммунистических и рабочих партий в Москве подчеркивается, что даже в наиболее развитых странах капитала миллионы людей испытывают муки безработицы и нужды, неуверенность в завтрашнем дне. Причем сама западная пресса не скрывает, что особенно тяжелым оказывается положение эмигрантов, тщетно надеявшихся найти на чужбине хоть крохи счастья.
Взять хотя бы ту же «добрую, старую Англию», кичащуюся своей «демократичностью». С чем ежедневно сталкиваются 800—900 тысяч выходцев из Индии, Пакистана, Африки, Вест-Индии, проживающие на Британских островах? С самой настоящей дискриминацией — только потому, что они не являются коренными англичанами. Практически им доступна лишь наиболее грязная и низкооплачиваемая работа. В отличие от США в Англии нет официально узаконенных гетто. Но даже специальной комиссии лейбористского правительства, занимавшейся этим вопросом, пришлось констатировать, что свыше двух третей домовладельцев, помещающих в газетах объявления о сдаче комнат и квартир, категорически отвергают эмигрантов из стран Азии и Африки. В Голландии, например, куда ежегодно приезжает около 60 тысяч марокканцев, турок, греков, итальянцев, домовладельцы также отказываются сдавать им комнаты в «приличных кварталах», считая их людьми «второго сорта». Поскольку же на иностранных рабочих не распространяется местное трудовое законодательство, они целиком зависят от произвола предпринимателей. Как правило, за свой труд эмигранты получают гораздо меньше официально установленного минимума, ютятся в не приспособленных для жилья помещениях или переполненных ночлежках, систематически недоедают.
В любой стране капиталистического мира бедняков-эмигрантов окружает стена пренебрежения, окрашенного откровенным расизмом. Он специально насаждается реакционными силами для политической дезориентации масс, которым стараются внушить, что многие их беды вызваны наплывом иностранцев, перебивающих-де у них кусок хлеба. Между тем эмигранты — это парии, вытесненные на задворки капиталистического общества, которое равнодушно перемалывает их своими жерновами. Эта трагическая судьба постигает и героев рассказов «Украденная душа» итальянского фантаста Серджо Туроне и «Я никогда вас не увижу» Рэя Бредбери. Первый — итальянец Винченцо Лагана, мечтающий попасть в Швейцарию. Второй — мексиканец Рамирес, приехавший на заработки в Штаты. Ситуации — разные. Трагедия — общая.
(обратно)
Великая спираль жизни

На протяжении тысячелетий люди не подозревали, что наступит момент, когда им придется охранять природу земного шара... от самих себя.
Не задумывались также и над тем, что придется скрупулезно подсчитывать даже ресурсы воды и воздуха, постоянно уменьшаемые самой же деятельностью человека. В США, например, некоторым промышленным районам и многомиллионным городам уже не хватает пресной воды. С тем же сталкиваются и некоторые другие страны. В свою очередь, общемировой сток испорченных, загрязненных вод мог бы сейчас составить реку более мощную, чем Амазонка. И этот все более растущий сток сплошь и рядом портит те самые источники, которых местами и так едва хватает для удовлетворения первоочередных нужд. На ум невольно приходит образ свечи, подожженной с обоих концов...
Еще хуже обстоит дело с растительным и животным миром. Иногда в западной прессе даже проскальзывают мысли, суть которых можно свести к следующему: «Мы — последнее поколение, еще заставшее неистребленную природу».
Выдающиеся мыслители и раньше задумывались над теневыми сторонами научно-технического прогресса. Достаточно вспомнить вывод, сделанный К. Марксом: «...Культура, если она развивается стихийно, а не
направляется сознательно...
оставляет после себя пустыню...»
Диагноз поставлен точно. Сейчас уже миллионы людей задают себе вопрос: готова ли, наконец, современная наука вооружить людей дальновидной стратегией сознательного регулирования наших взаимоотношений с природой?
Попробуем найти ответ.
Чтобы управлять природой, надо, естественно, знать важнейшие ее закономерности. Выясним поэтому, что же нам известно о земной биосфере и как эти знания могут нам помочь.
Разомкнутый круг
Пространство земного шара конечно. Конечны и запасы воды, воздуха, минеральных солей, которые жизнь может использовать. Поэтому на Земле, как и на любой другой планете, жизнь возможна лишь на основе вечного круговорота жизни и смерти, постоянного возникновения и разрушения. Все животные дышат воздухом, который уже бессчетное число раз побывал в легких, все минеральные соли, сегодня потребляемые растениями, тоже неоднократно были составной частью живой ткани. Так цикл за циклом.
Можно пофантазировать и вообразить некую форму жизни, которая возникла в бесконечном, допустим, космическом пространстве, где запасы вещества и энергии также безграничны. Возможно, такие формы жизни не ведали бы разрушения и смерти... Они бесконечно распространялись бы в пространстве. Но эволюционировали бы они? Неизвестно.
В замкнутом пространстве Земли никогда не затухает противоречие, которое заставляет жизнь восходить по лестнице эволюции. Вот это противоречие: способность живого к самовоспроизведению безгранична, а запасы пищи, энергии, строительного материала конечны. Потомки одной-единственной тли при отсутствии хищников за считанные недели могли бы покрыть толстым слоем весь земной шар... Но чем бы они питались, эти мириады тлей?
Способность к безграничному самовоспроизведению создает то, что наш выдающийся соотечественник В. И. Вернадский назвал «давлением жизни». В результате «давления жизни» на протяжении всей геологической истории Земли шел непрерывный захват новых, еще не обжитых пространств. Возникнув в водной приповерхностной зоне, жизнь затем овладела глубинами океана, сушей, воздухом; на это ушли миллиарды лет.
Завоевывая новые пространства, жизнь овладевала новыми источниками пищи и энергии. Круговорот жизни ширился, рос.
Он менялся и качественно, так как новая среда путем естественного отбора, на основе генетической изменчивости выковывала новые формы жизни, часто более многочисленные, чем исходные. Например, число наземных, то есть исторически более молодых видов превышает численность морских, вероятно, более чем в десять раз.
Так замкнутый цикл жизни неизбежно превращался в восходящую спираль. Так усложнялась биосфера, так она росла и крепла, так обстояло дело, пока не возник человек.
Продукт слепой эволюции, сам человек благодаря разуму не слеп. Он может осознать и осознает законы, движущие жизнью.
Овладевая принципиально новыми источниками энергии (ядерная энергия, например), человек, однако, целиком и полностью зависит от устойчивости всей цикличной структуры жизни.
Каждый вид организмов выполняет роль звена в цепи биотического круговорота. Используя средства существования, поставляемые «соседями», он, в свою очередь, должен отдавать в среду то, что могут усвоить другие. Эта сложная, порой многоступенчатая взаимозависимость была прекрасно известна еще древним земледельцам и скотоводам: хочешь иметь высокий урожай зерновых, содержи скот не только для молока и мяса, но и для навоза.
Особенно значительна в этой цепи роль одноклеточных. Минерализуя мертвые останки животных и растений, они превращают их в единую «валюту» — минеральные соли и простейшие органические соединения, вновь и вновь используемые растениями для синтеза нового органического вещества. На разрушающей деятельности микроорганизмов основана вся саморегуляция биосферы. Не будь одноклеточных, на Земле очень скоро иссякли бы доступные высшим организмам источники питания, и она покрылась бы трупами. Одноклеточные составляют основу цикличной структуры жизни, и от того, успевают ли они справляться со своими «обязанностями», зависит ее прочность.
Этот вывод, как мы дальше увидим, представляет отнюдь не только теоретический интерес...
Природа мстит...
Естественные сообщества живых организмов (биоценозы) устойчивы благодаря разнообразию и богатству видов, которые входят в их состав. Они, пользуясь научной терминологией, многокомпонентны. Например, биоценоз, именуемый «сосновым бором», процветает лишь благодаря совместной деятельности тысяч видов растений и животных. Каждый из этих видов что-то значит в биоценозе, чем-то ему полезен. Мы разобрались здесь далеко не во всех причинных связях, но ясно уже и теперь, что если уничтожить в лесу, допустим, муравьев, то лес начнет хиреть. Настолько все отлажено и притерто в «биологических машинах», что порой изъятие одного-трех, казалось бы, крошечных «винтиков» способно разладить всю структуру.
В эволюции стихийно «испытывались», конечно, самые разные варианты, и если стойкими оказались многокомпонентные биоценозы, то это не случайно: они-то и есть самые жизнеспособные.
Мы, люди, убедились в этом еще на заре цивилизации. Наши культурные биоценозы малокомпонентны. И потому неустойчивы (всем известно, сколько усилий приходится прилагать для защиты полей и садов от сорняков, насекомых, вредных грибков и микроорганизмов; всем известно, что происходит с запущенным полем или садом, оставленным без присмотра). Естественные биоценозы, как более стойкие, жизнеспособные, стремятся поглотить культурные, и последние могут существовать лишь благодаря неустанной поддержке человека.
Так возникает противоречие между «дикой» и «культурной» природой. Люди вынуждены вести энергичную борьбу с теми естественными биоценозами, которые окружают искусственные. Иногда это борьба оборонительная, но часто и наступательная. Для расширения искусственных биоценозов приходилось уничтожать естественные (леса, степи). К чему порой приводило такое безудержное наступление — известно: к эрозии почвы, уходу воды, пылевым бурям и так далее. Междуречье Тигра и Евфрата называли когда-то «райским садом». Сейчас это полупустыня.
Создается парадоксальное положение: стараясь изменить в своих интересах природные процессы, человек вступает в конфликт с силами естественной саморегуляции, нарушает равновесие биосферы, что в конечном итоге нередко обращается ему во вред.
Естественная саморегуляция биосферы дает перебои и по другой причине. В круговорот вводится все больше искусственных материалов и веществ, которые микроорганизмы «не умеют» перерабатывать. Или в таких количествах, что они не успевают справиться с ними. А некоторые из этих веществ ядовиты для организмов. Так биотический круговорот, очевидно, впервые за миллиарды лет становится в каких-то «нитях» незамкнутым. Происходит нарушение уже не отдельных биоценозов, а в некоторых случаях и самой структуры биосферы.
И природа, по выражению Энгельса, мстит. При
этом надо иметь в виду, что у одноклеточных поколения сменяются чрезвычайно быстро, и поэтому они успевают приспособиться к меняющимся условиям среды (отчасти это удается и насекомым). У наиболее высокоорганизованных многоклеточных поколения, наоборот, сменяются медленно. И у них возможности приспособиться к быстро меняющимся условиям соответственно гораздо ниже. Они первыми сходят со сцены.
Можно ли заменить биосферу?
Теперь уже ясно, что взаимоотношения с природой надо совершенствовать основательно. Но как?
Еще десятилетия назад в принципе некоторым казалось теоретически возможным вообще полное выключение человека из биосферы — создание искусственной «среды жизни», целиком поддерживаемой техникой.
Заманчиво? Возможно. Исполнимо ли? Давайте обсудим.
Недавно было открыто, что и люди и животные используют для дыхания не только кислород. За один лишь год и лишь растения выделяют в атмосферу 490 миллионов тонн летучих соединений, что составляет 0,001 процента веса атмосферного воздуха. Всего же в атмосфере постоянно присутствуют миллиарды тонн органических соединений. Некоторые из них — атмовитамины, судя по всему, выполняют в организме важные физиологические функции. Мы дышим, таким образом, не только кислородом!
Повторяю: этот факт колоссальной важности мы выяснили совсем недавно. А сколько фактов мы еще не знаем? Можно ли на таком уровне знаний надеяться, что комплекс технических сооружений окажется равноценным биосфере?
Но это не главное возражение. Допустим, мы узнали все, что надо. Допустим (оговариваемся еще раз, что рассуждаем мы сугубо теоретически), во власти человека уничтожить биосферу и заменить ее равноценной техносферой. Допустим, работа уже осуществлена. Хорошо ли нам будет? Нет, очень плохо.
Даже владея сверхсверхтехникой, вряд ли удастся уничтожить всех без исключения микроскопических обитателей планеты, которые обосновались и в морях, и в воздухе, и в почве, и в самом человеке и которые обладают исключительными приспособительными способностями. Итак, человек остается наедине с микроорганизмами. Это ужасная ситуация. На человека — теперь уже единственную «кладовую» органического вещества — немедленно обрушиваются неисчислимые полчища простейших и вирусов. Масштабы возникающих в этой ситуации последствий даже трудно представить.
Столь же малореальна и модель техносферы, которая существует параллельно с биосферой, но от нее совершенно независима. Выбора, собственно, не остается! Надо примирить техносферу и биосферу, точнее — включить ее в биосферу так, чтобы возник единый сознательно управляемый человеком природный организм.
Необходимо усилие, чтобы принять эту мысль. До сих пор техника казалась нам чем-то противостоящим живой природе, чем-то несовместимым с ней. Тем не менее диалектический синтез того и другого возможен. Техника должна стать неотъемлемой частью биосферы — это магистральная линия дальнейшего хода событий. На этом узловом моменте надо остановиться особо.
«Сфера разума»
Эволюцию органического мира можно подразделить на несколько этапов. Первый этап — возникновение биотического круговорота, биосферы. Второй этап — усложнение цикличной структуры жизни, появление надстройки из многоклеточных, увенчанной человеком.
Все это периоды биогенеза, когда развитие шло под влиянием биологических факторов.
Третий этап начался с появления и развития человеческого общества. Здесь разумная по своим намерениям деятельность людей в большинстве случаев, как отмечал еще Энгельс, оказывалась в масштабе биосферы малоразумной, более того — разрушительной.
Но не будем забывать, что этот стихийный, основанный на конкуренции, частной собственности и угнетении этап развития человечества всего лишь, по выражению Маркса, его «предыстория». Подлинная история развернется лишь на уровне совершенной материально-технической базы, высокоразвитого сознания и гармоничных общественных отношений, что найдет свое высшее воплощение в коммунизме.
От этого зависит и судьба природы. В свое время В. И. Вернадский назвал грядущий четвертый этап развития биосферы ноосферой — этапом разумного («ноос» по гречески «разум») регулирования отношений человека и природы. Эта мысль по своему содержанию совпадает с мыслями Маркса и Энгельса, которые рассматривали коммунистическое переустройство общества в качестве залога гармоничных взаимоотношений между человеком и природой.
Замена стихийного сознательным и планомерным в сфере общества неизбежно влечет за собой торжество дальновидного, научного подхода к управлению биосферой. Следовательно, управление природой, ее разумное переустройство и сохранение не есть благая мечта: все это лежит на магистрали социально-технического прогресса.
Да, и технического тоже. До поры до времени техника могла развиваться без учета закономерностей естественной саморегуляции биосферы. Главной задачей технологии было производство — возможно более эффективное, массовое, дешевое — все новых и новых веществ и изделий. Забота об их полном уничтожении после использования была чем-то третьестепенным (это относится даже не столько к самим изделиям, сколько к отходам производства). Велико было убеждение, что природа сама «переварит» любые отходы. И до поры до времени так оно и было. Теперь, как видим, положение меняется.
Поэтому технология неизбежно должна перестроиться. И она постепенно перестраивается. Появляется все больше заводов с замкнутым циклом водоснабжения и водоочистки. В лабораториях все интенсивней идет разработка элементов безотходной технологии, при которой сырье перерабатывается целиком, без остатков. Так, например, в Армении уже разработана безотходная технология производства алюминия. В качестве сырья здесь берется богатая алюминием порода — нефелиновый сиенит; из нее получают и окись алюминия, и хрусталь, и разнообразные химикаты, так что отбросов совершенно не остается. Для Ленинграда спроектирован центр полной переработки всех без исключения отходов городского хозяйства. Таких примеров немало, но они лишь первые проблески эры безотходной технологии. Промышленность должна не только производить, но и «переваривать» произведенное. Таким образом, чтобы отходы производства не разрушали биосферу, а были фактором ее развития.
С этим не просто свыкнуться — мешают психологические навыки прошлого, — и тем не менее это единственный путь.
В создании замкнутого производства нам сильно может помочь все та же живая природа. В очистительных установках уже давно пользуются услугами микроорганизмов. Современной биологии под силу выведение куда более активных форм «разрушителей»; она способна увеличить их «набор», расширить спектр их действия. Так уже было с пенициллином: его естественные производители вскоре были заменены «окультуренными» формами, и это позволило сделать лекарство широкодоступным и более действенным. Путь, таким образом, разведан. И на этом пути, между прочим, происходит обогащение биосферы. Выводя новые формы одноклеточных «разрушителей», мы тем самым увеличиваем регулирующие возможности биосферы и укрепляем ее «фундамент». Так интересы техники сливаются с интересами живой природы.
Точно такой же синтез возможен не только в микробиологической промышленности. Очень интенсивно ведутся сейчас работы по совершенствованию биологических методов защиты искусственных биоценозов. Ученые и практики стремятся увеличить многокомпонентность этих биоценозов таким образом, чтобы новые виды растений и животных, вписанные в структуру полей, садов и огородов, ограждали их от нашествия вредителей. Этот путь, конечно, не нов — он известен еще древним земледельцам. Но сейчас подобные работы приобретают все более массовый, осмысленный, научный характер. Очевидно, в перспективе искусственным биоценозам можно будет придать стойкость естественных. Произойдет новое обогащение биосферы, которое одновременно снимет тягостное противоречие между культурными и естественными сообществами — биоценозами.
Пока возможности наши еще не столь велики, как хотелось бы, и тогда, когда мы пытаемся улучшить первозданную природу, и тогда, когда мы стремимся усовершенствовать культурный ландшафт. Положение, однако, радикально изменится, очевидно, уже в недалеком будущем.
В общих чертах мы уже поняли, например, как работает механизм наследственности. Не фантастика, а перспектива завтрашнего дня — управление генетическим механизмом растений и животных. То, что сейчас делается поневоле медленно, иногда на ощупь, — создание новых форм растений и животных путем селекции, — будет делаться быстро, целенаправленно. В принципе существует возможность создания бесконечного разнообразия форм жизни, наделенных заранее заданными свойствами.
И вот тогда сознательное обогащение биосферы, укрепление ее структуры станет всецело инженерно-биологической задачей. Возможности тут поистине беспредельны. Мы сможем сообщить живой природе такое разнообразие и великолепие, которое превзойдет творчество эволюции. Мы будем создавать биоценозы по плану на основе глубоких теоретических знаний, предварительного моделирования и точных программ осуществления.
Вот чем будет характерен новый этап развития земной природы.
Человек преобразует биосферу, выведет ее за пределы Земли, может быть, перебросит на другие планеты. Уже сейчас возникает потребность в такой отрасли науки, которая бы занялась общетеоретическими проблемами управления природой, а практически разрабатывала бы дальновидную стратегию и тактику работ по урегулированию обострившихся сейчас противоречий между человеком и биосферой. Потребность в такой науке огромна, потому что столь сложное дело требует глубочайших теоретических исследований, точных прогнозов и научно обоснованных рекомендаций. Прекрасная Земля не страница из утопии, это закономерная реальность будущего. Но для претворения ее в жизнь нужны огромные, массовые усилия, вдохновенный творческий труд.
М. Камшилов, доктор биологических наук, П. Базаров
(обратно)
Атака с ходу

Балтика. Ночь. По палубе, по стеклам ходовой рубки десантного корабля бегут холодные струи — осенний дождь. На корме парит неостывшая походная кухня морских пехотинцев.
В трюме сумрак, синий свет ночников. Ряды бронированных машин, запах горелого масла, крашеного железа. Два механика копаются в моторе бронетранспортера. Их негромкие голоса рождают под сводами огромной металлической пещеры шелестящее эхо. В кубриках по соседству спит морская пехота. Завтра трудный день: штурм побережья.
Караван десантных судов идет в ночи кильватерным строем...
Из интервью с генерал-майором петром егоровичем мельниковым:
— Сколько лет нашей морской пехоте! Это как считать. В день 50-летия Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1967 года, в Москве на Красной площади состоялся грандиозный военный парад. В нем впервые принимало участие подразделение морской пехоты Военно-Морского Флота. Появление рослых парней в необычной черной форме среди участников парада было отмечено многочисленными комментариями в советских и зарубежных газетах и журналах. Но это не значит, что наша морская пехота только-только делает первые шаги.
В 1917 году для участия в Октябрьском вооруженном восстании и для отражения возможного наступления немецких войск на Петроград из моряков Балтфлота были сформированы батальоны морской пехоты. Около полумиллиона советских моряков сражались на суше в Великой Отечественной войне. Морская пехота била врага под Ленинградом, Москвой, Таллином, Сталинградом, Новороссийском... Форсировала Днепр, Дунай, Вислу, Одер, Шпрее. Участвовала в штурме Берлина и освобождении Праги.
В послевоенные годы морская пехота возрождена на новой основе, с учетом требований современной войны.
...Рассвет туманен и сер. Из дымки выплывают скалистые острова. Кое-где на них чахлые сосновые рощицы. Караван десантных судов рассредоточивается — «противник» может провести атомную атаку, и скученность кораблей окажется гибельной.
Уже несколько суток десантники в море. Позади бесчисленные тренировки, упражнения. И вот настает решающее утро — утро штурма. На полевых картах офицеров морской пехоты стремительные карандашные стрелы определили наиболее выигрышные направления ударов... Два молоденьких лейтенанта в тельняшках, поднявшись до побудки, толкутся у одного зеркала, поставленного на бронированный борт амфибии. Торопливо скребут бритвами щеки. Говорят: «Морская традиция. Бреемся перед боем...»

— Петр Егорович, как далеко могут уходить десантные корабли с морской пехотой от наших берегов! Или в основном это суда «каботажного плавания»)
— У многих морских пехотинцев на груди можно видеть специальные значки: «За дальнее плавание». Морская пехота много и долго плавает. На учениях «Север» морские пехотинцы прошли три моря и с ходу штурмовали берега. Нашим десантным кораблям довелось совершить плавание через четыре моря (включая Средиземное) и с учебной целью высаживать на побережье десанты морских пехотинцев. Корабли с нашей морской пехотой плавают не только по морям, но и по океанам...
Современная морская пехота — высокомобильный род сил Военно-Морского Флота СССР. Специальные десантные суда могут достаточно быстро доставить в любой район к побережьям противника плавающие танки и бронетранспортеры, зенитные установки, установки противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРСы) и другую военную технику.
...Наконец вдали возникает сплошная береговая полоса. Она быстро надвигается. И вот уже можно рассмотреть два мыса, ограничивающих бухту, башню маяка на одном из них, полосу прибоя.
Внешне ничего не изменилось на десантных кораблях. Они снаружи безлюдны. Палуба флагмана покрыта каплями росы, своей чистотой и пустынностью напоминает городскую площадь на рассвете. А внутри корабля кипит жизнь.
Поднятые по тревоге, морские пехотинцы натягивают черную форму, короткие сапоги, каски, спасжилеты. Звучит команда: «Греть моторы!» Водители бросаются к машинам. Танки и бронетранспортеры освобождаются от штормовых креплений. Натужно воют двигатели, и трюм постепенно наполняется лиловой мглой. Расчехляются орудийные стволы, пулеметы. На касках морских пехотинцев пляшут желтые блики — кто-то из водителей включил мощную подвижную фару. Ее луч бродит по танковой палубе, как дымный сияющий столб.
— В «Памятке морского пехотинца» есть строки, которые звучат приблизительно так: помни, у морской пехоты нет пути назад! Но это ведь, можно сказать, главная заповедь и воздушных десантников: только вперед! В действиях воздушных десантников и десантов морской пехоты много общего!
— Морские пехотинцы способны и сами высаживаться с вертолетов. Специфика воздушных десантов — действия в глубоком тылу противника, чисто сухопутные операции на материке. А мы, как правило, должны штурмовать морские побережья, передний край обороны с чрезвычайной концентрацией всех огневых средств противника. Конечно, атакуемый участок предварительно и по возможности внезапно «обработают» наша авиация, корабли. Взламывая оборону всеми возможными средствами, они расчистят путь морским пехотинцам.

...Тральщики, проверив и очистив подходы к бухте для десантных кораблей, уходят в стороны. Неожиданно из клубящихся туч к берегу устремляются немые тени — бомбардировщики! Они исчезают так же мгновенно, как и появились, и только потом над бухтой грохочет гром их двигателей. Берег опоясывается бомбовыми разрывами, над лесом растет грибовидное облако.
В трюме корабля, кажется, дышать уже нечем — все заволокло плотными выхлопными газами. Но ждать осталось секунды...
Параллельно берегу стремительно, на бешеной скорости идут катера. От них к укреплениям «противника» тянутся огненные полосы — снаряды пошли к цели. Катера делают еще один заход — теперь за ними вырастает стена молочной пелены — дымовая завеса. Расползаются в стороны створки огромных ворот в носу десантных кораблей. В воду опускаются аппарели — сходни. Первая броневая машина нависла над серыми волнами.
— Петр Егорович, что, кроме сокрушительной огневой подготовки, обеспечивает успешный штурм берегов морскими пехотинцами!
— Совершенствование техники, специальные тренировки личного состава, умение вступать в бой даже сразу после штормового перехода.
При выходе с десантного корабля на плав надо уметь так вывести технику, чтобы она сразу могла вступить в бой, вести огонь. Море ведь тоже готовит массу сюрпризов: волнение, ветер... Морские пехотинцы должны обладать и навыками спасательных операций на море.
На специальных полигонах, в учебных классах, на учениях морские пехотинцы проходят различные тренировки. Они учатся высаживаться и наступать сразу за разрывами снарядов, плавать в полной выкладке и с оружием, изучают подрывное дело под водой, проходят так называемую «обкатку» танками на полигонах... Все это вкупе плюс высокий морально-политический уровень нашего солдата и рождает боевые качества, которыми отличается наша славная морская пехота.
...На головной машине, зависшей на мгновение над водой, — офицер. Он еще раз оборачивается к сумраку трюма, где уже все готово, где в вое и грохоте, словно от нетерпения, вибрируют приземистые бронированные амфибии. Взмах руки: «Вперед!» Команда, о которой можно только догадаться, потому что человеческий голос сейчас ничто. «Вперед!»
Танк тяжело скатывается с аппарели в воду. Секунду кажется, что эта махина так и уйдет под воду пушкой вперед... Но нет, вот уже выпрямилась, ударили сзади две пенные струи — танк исчезает в дымовой завесе.
Морская пехота идет к берегу на бронетранспортерах строем фронта. Она выскакивает из белесой невидимости прямо под носом у «противника». Вот одна, две, три машины словно становятся выше ростом, поднимаются над водой — под колесами берег. Гремят автоматы, пулеметы, ухают танковые орудия... Пена прибоя сбегает с гвардейских знаков, начертанных на броне машин. Морская пехота ринулась на штурм берегов!
В. Демидов, Фото автора
(обратно)
Скульпторы моря

В таинственном шуме, доносящемся из глубин морской раковины, мне до сих пор слышится буйная симфония ветра и волн калифорнийского побережья Пойнт Арены. Мальчишкой я часами бродил по этому берегу, увлекаемый мечтой в незнакомый мир отливов и утренних туманов. Сколько чудес я видел там, в оставленных отливом лужах, которые, подобно темным зеркалам, отражали истоки жизни, — волнующую деятельность тех существ, чья родословная восходит к самым далеким началам эволюции!
В одной из таких луж я впервые увидел хитона — небольшое овальное существо, прикрепленное к нижней стороне камешка. Его спину закрывали восемь защитных пластинок. Я осторожно отковырнул ножом столь странное создание и посадил его на камень. Хитон тотчас свернулся, точно маленький армадилл. Надвигающийся прилив хлестнул пенной волной, и я заторопился назад на берег, унося свое сокровище. Это крошечное создание в латах разожгло мое любопытство, и с тех пор я часами просиживал над книгами по естественной истории.
Доспехи хитона — продукт особой складки плотной ткани, называемой мантией. Я узнал, что животное удерживается на камнях с помощью сильной брюшной мышцы — ноги. Хитоны питаются водорослями, отхватывая от них удобоперевариваемые куски с помощью радулы — похожего на напильник языка, покрытого острыми зубчиками, который выбрасывается изо рта, раскручиваясь при этом подобно серпантину.
Так скромный хитон ввел меня в многочисленный разнообразный мир моллюсков, представляющий собой одну из самых замечательных форм жизни.
Моллюски воздвигают свои дома при помощи мантии. Это складка мышечной ткани, покрывающая спину и бока моллюска. В развернутом виде она расходится как юбка, а у некоторых разновидностей даже оборачивается вокруг раковины.
Мантия испещрена множеством пор. Это открытые концы трубочек, через которые моллюск выделяет частицы известкового вещества. Оно откладывается тонким слоем и быстро затвердевает. На эту хрупкую стенку накладывается вторая, потом третья, и таким образом возводится все здание раковины.
Человек с восхищением относится к фантастическим творениям мантии моллюсков — застывшему звездному сиянию «гребня Венеры», сверкающим мраморным куполам каури, минаретам цвета слоновой кости, возводимым буравчиками, окаменевшим цветам колючей устрицы. Такие величественные сооружения может возвести только очень тонко устроенный и биологически удачный организм.
Обладая надежной раковиной, сильной ногой для передвижения и радулой для поиска и поедания пищи, одни из самых древних обитателей нашей планеты — моллюски пережили все геологические эпохи и обосновались на всей поверхности земного шара. Некоторые, самые отважные, обитают за снеговой линией Гималаев, в воде горячих источников, в толстом льду замерзших озер, в песчаных просторах пустынь и в самых темных морских глубинах. Однако большинство из пятидесяти тысяч видов моллюсков, обладающих раковинами, предпочитают жить на умеренных глубинах среди коралловых рифов и на дне континентальных шельфов.
Самые известные из них — это те, которые мы встречаем на своем обеденном столе, — сочные устрицы, гребешки и мидии, вкусовые качества которых человек оценил еще тысячи лет назад. Все они представители многочисленного класса двустворчатых моллюсков, имеющих две скрепленные вместе раковины.
Некоторые из двустворчатых вытворяют самые невероятные вещи. Гребешки, например, прыгают и плавают. Мидии могут висеть, как дирижабли. Корабельные черви буравят древесину. Некоторые моллюски прядут золотистую нить, из которой можно ткать тончайшие ткани. А гигантские двустворчатые работают как фермеры: в своих мантиях они умудряются выращивать целые плантации водорослей.
О знаменитой жемчужной устрице пинктаде и говорить не приходится: истории, связанные с добычей и судьбой жемчуга, известны.
Но едва ли меньший след в истории оставил гребешок, которого искусство древних изображало царем моллюсков.
При раскопках выжженных холмов Анатолии и руин Греции археологи находят статуэтки Афродиты, (которую римляне называли Венерой), выходящей из раковины гребешка. Этот символ пронизывает все античное искусство — его можно видеть на стенах садов Помпеи, в мозаиках Геркуланума, в нишах древних храмов. Особенно часто встречается гребешок в погребальных памятниках. Он украшает свинцовые гробы из римской Британии и мраморные саркофаги из Малой Азии. В византийских гробницах он чередуется в орнаменте с райскими пальмами. Может быть, гребешок символизирует воскрешение?
Позднее гребешок стал одним из символов западного христианства. Крестоносцы подбирали ракушки пектен якобазус на берегах Палестины и носили их на шлемах и шляпах. (Своего рода наклейка на бампере, говорящая: «Я там побывал».)
Кламис херициус — гребешок с тихоокеанского побережья США, аргопектен иррадианс — житель атлантических бухт и маленький пестрый обитатель вод Карибского моря и юго-восточных берегов США аргопектен гиббус — все они чемпионы по плаванию. Плавают они быстрыми, длиной в ярд рывками, используя принцип гидрореактивного движения. Но самое удивительное у гребешков — это двойной ряд глаз: сотня ярко-синих бусин, нанизанных между щупальцами, как украшения на рождественской елке. Они разные по размеру, но у всех имеются хрусталик, сетчатка и зрительный нерв. Случись тревога, гребешок захлопывает раковину, оставляя иногда узенькую щель, сквозь которую выглядывают ряды немигающих глаз.
В этих же водах можно обнаружить скопление крохотных воздушных змеев, чьи нити как бы запутались в кустах. Это молодые гребешки. Они прикрепились к водяным растениям с помощью биссуса — нити-паутины: гребешки плетут ее примерно так же, как пауки.
Повзрослевший гребешок в конце концов порывает со своим биссусом, но некоторые другие двустворчатые, в том числе всем известная синяя мидия, проводят зрелые годы своей жизни, прядя свои нити, подвязывая их к скалам и камням или скрепляя между собой.
Среди двустворчатых, прядущих нити, выделяется пинна нобилис — обитательница Средиземного моря. Ее шелковистые нити в древнем мире шли на изготовление так называемых «золотых тканей» — парчи. Ценились они высоко. Так, например, историк Прокопий писал, что император Юстиниан пожаловал сатрапам Армении одежды, вытканные из нитей биссуса.
Многие двустворчатые проникают в твердый камень. Литофага проделывает это, выделяя разъедающую известняк кислоту. Ее отдаленная родственница в Арктике хиателла может проделать отверстие глубиной в шесть дюймов!
Поистине одержимыми среди двустворчатых являются корабельные черви тередо навалис и их родственники, которые черт знает что вытворяют с деревянными судами и пристанями. В конце концов они заставили моряков обшивать днища кораблей медью, ибо никакое дерево не могло противостоять сверлящему усилию их створок (бревно толщиной едва ли не в метр для корабельных червей не препятствие). Даже в нашем столетии они умудрились испортить пристань в Бениссии (штат Калифорния).
Корабельный червь выстилает свой туннель известковым покрытием. Из этого «дота» связь с внешним миром он поддерживает благодаря двум трубкам — через одну он питается, а через другую выбрасывает отходы. Этот образ жизни может показаться вершиной отшельничества и независимости от превратностей внешнего мира. Но все же эта честь, по-моему, принадлежит скорей тридакне Большого барьерного рифа. Вид этих гигантов размером с солидный бочонок вызывает почтение. Ходят даже рассказы о неосторожных пловцах, попавших в их каменные объятия. Но это маловероятно, ибо профессия гигантских моллюсков самая что ни на есть мирная. При внимательном рассмотрении на мантии можно обнаружить яркие пятна: под ними имеются полости, в которых растут водоросли, — так сказать, оранжереи. Яркие пятна — это не что иное, как линзы, направляющие солнечный свет в оранжерею. Новейшие исследования позволяют думать, что водоросли поглощают из ткани моллюска ненужные ему вещества и используют их для своего роста. А моллюск живет за счет кислорода и, возможно, органических веществ, производимых растениями.
Из Средиземного моря, где мы с женой ловили диковинных морских животных в бурных водоворотах Мессинского пролива, мы привезли однажды раковину, причастную к величию античной знати. Это мурекс брандарис. За ней в свое время выходило в море великое множество кораблей.
Из этого моллюска длиной в три дюйма ремесленники финикийских городов Тира и Сидона изготовляли великолепную пурпурную краску, которая с тех пор стала цветом королей. Рыбаки вылавливали этих моллюсков с помощью плетеных корзин, куда для приманки клали разную морскую живность. Финикийцы разбивали раковины выловленных мурексов, вынимали мантии, солили их и раскладывали на солнце. Потом дня через два-три их клали в котел. Там мантии кипели на медленном огне десять дней. Получался прозрачный бульон, который под действием солнечного света становился желтым, потом зеленым, потом синим и, наконец, пурпурным.
Квадратный фут выкрашенной этим прекрасным и прочным красителем ткани стоил (в современных ценах) не менее десяти-двенадцати тысяч долларов. Их, естественно, могли носить только богатые и знатные. С тех пор и пошла фраза: «рожденный для пурпура».
Меккой для всех собирателей раковин является Филиппинский архипелаг, насчитывающий тысячи островов, рифов, каналов, заливов. Многие годы я мечтал поехать на Филиппины. И вот, наконец, я отправился в Замбоангу на острове Минданао.
Здесь можно найти редчайших и величественных представителей класса гастропод — самого многочисленного класса моллюсков. К тому же классу относятся и прекрасные каури тропических морей, и опасные конусы, и самые большие из всех гастропод — австралийский трубач и тихоокеанский тритон. Музыка, рожденная в спиральных камерах этих внушительных раковин, взывала к древним богам, собирала на битвы армии и оплакивала погибших героев.
Прожив несколько дней в Замбоанге, я нанял трех бывших ловцов жемчуга, согласившихся сопровождать меня не только из-за денег, но и просто из любопытства. (Их профессия теперь уже почти отошла в прошлое, уступив место искусственному выращиванию жемчужин.)
Мы отправились на острова Санта-Крус. Прибыв на место, мои помощники надели очки с оправой, вырезанной из дерева, и нырнули. Прошло немного времени, и один из них вернулся с первыми трофеями. Это были две оливы и колючая устрица.
Потом из мешочков на"Поясе он осторожно вынул трехдюймовую коническую раковину с желтыми и черными пятнами. Я узнал конус мармореус — представителя зловещего семейства конид. Мне была понятна осторожность моего помощника. Еще в Австралии мне рассказывали о любителе-коллекционере на острове Хейман, который нашел раковину с мраморной розовато-коричневой поверхностью и неосторожно положил ее к себе на ладонь. Он тут же потерял сознание и умер через пять часов. Посетители Квинслендского музея, где лежит теперь этот экземпляр, находят своего рода зловещую пикантность в сознании, что именно этот экспонат когда-то убил человека. Коварные хищники мира моллюсков — конусы убивают и парализуют своих собратьев, а также мелких рыбешек и червей (они снабжены ядовитой железой, которая открывается у основание, хоботка). Яд же конусов по своим свойствам напоминает кураре: он действует на нервную систему и парализует жертву.
Куда более симпатичны безобидные каури. В эту поездку мне удалось побывать там, где водятся эти замечательные представители гастропод. За короткое время мы набрали там десятки каури ципрея монета — бледно-желтые раковины, которые и по сей день используются в меновой торговле в некоторых районах юга Океании; кольцевых каури ципрея аннулус; сетчатых каури ципрея макулата; серых с коричневыми знаками, напоминающими арабскую вязь ципрея арабика и крупных тигровых каури ципрея тигрис, которых так много в магазинах сувениров во всем мире.
С древнейших времен человек использовал раковину каури как украшения и как талисман. Их дарили невесте как гарантию того, что у нее будут дети. Обитатели Океании верили, что в раковине каури живет дух богини плодородия, шепот которого можно услышать, приложив раковину к уху. На некоторых островах Тихого океана каури привязывают к рыболовным сетям, веря, что таким образом будет обеспечен хороший улов. Другие каури служат денежными единицами, особенно во внутренних районах Новой Гвинеи, где за связку раковин можно купить пищу, землю и невесту.
Коллекционеры также ценят каури, ибо хорошие экземпляры, такие, как ципрея беукоден и ципрея валентия, стоят несколько тысяч долларов.
Собирание раковин — одно из древнейших занятий в мире. Археологи находят морские раковины в погребениях всех континентов. Некоторым из находок 15 тысяч лет. По ним можно проследить древние торговые пути и доказать, что они были весьма протяженными; тихоокеанские раковины находят в развалинах индейской деревушки в штате Аризона; раковину из Северного моря — в Швейцарии; атлантическую раковину — в этрусских гробницах.
Светоний рассказывает нам об одном из первых крупных коллекционеров раковин — императоре Калигуле. Выйдя со своими легионами на берега Ла-Манша весной 40 года н. э., он решил, что лучше воевать с Нептуном, чем с бриттами. Исходя из этого, он отдал приказ своим войскам, построенным в боевом порядке, начать собирать раковины на морском берегу. Несомненно, это был один из самых странных приказов, который когда-либо получала армия за всю историю человечества. Трофеи, с которыми Калигула возвратился в Рим, он назвал «данью покоренного океана».

В XVII—XVIII веках в Европе стали модными «кабинеты» — большие комнаты, набитые всевозможными любопытными штуковинами: чучелами животных, раковинами, минералами, оружием, монетами, костями. Некоторые раковины разжигали страсти коллекционеров не только своей красотой, но и редкостью. Одна из таких раковин, о которой мечтают все коллекционеры и до сих пор, хотя за нее уже и не платят астрономические суммы,— это «Драгоценная винтовая лестница», как называли ее голландцы. В свое время ею обладали только царственные дома, но в последние годы собиратели проникли в логовище этих раковин у берегов Суматры и Австралии. Цена на них резко упала. Но не померкла их красота.
Более двух столетий самой редкой и дорогой считалась конус глориамарус — «Слава морей» — поистине королевского вида раковина с тончайшим, как бы вытканным узором. До 1837 года в мире было известно только полдюжины таких раковин. В тот год знаменитый английский коллекционер Хью Каминг посетил один риф вблизи Филиппин. Он повернул небольшой камень и нашел под ним две сидящие рядом раковины. Он вспоминает, что от восторга чуть не упал в обморок. Потом этот риф исчез после землетрясения, и мир решил, что погибло единственное место обитания «Славы морей». Эта раковина стала столь знаменитой, что писатель Фенни Стиль построил сюжет своего романа вокруг ее кражи. Много лет спустя, в 1951 году, мир снова вспомнил о непреходящей ее ценности, когда какой-то неизвестный разбил витрину в американском Музее национальной истории и унес прекрасный экземпляр «Славы морей».

Все же легендарная «Слава морей» не самая большая редкость — теперь в коллекциях насчитывается до семидесяти экземпляров этого моллюска Подлинный уникум — это каури ципрея беукоден. Их всего три. Одна раковина хранится в Британском музее, вторая — в Гарвардском университете и третья находится в частной коллекции.
Однако самая сенсационная находка была сделана, пожалуй, в 1952 году, когда датское исследовательское судно «Галатея» выудило у берегов Коста-Рики горсть живых ископаемых. Десять небольших, похожих на пуговицы существ оказались представителями примитивных моллюсков, которых считали вымершими 350 миллионов лет назад.
В 1958 году американское судно «Вема» подняло у берегов Перу еще четырех представителей того же вида. К настоящему времени известно уже пятнадцать новых видов этих моллюсков, обнаруженных в последние годы у берегов Японии, Индонезии, Южной Африки и в Карибском море.
Есть что-то неописуемо волнующее в неумолчном рокоте, который доносится из глубин приложенной к уху морской раковины. Он сулит тайны, и, как видим, это обещание не остается напрасным. Но для многих и многих мальчишек это еще и просто зов моря, который звучит для них так же, как он звучал для меня в дни далекого детства. Он никогда не смолкнет, потому что каждый год все новые и новые подростки вслушиваются в смутный гул раковин, и с ними происходит то же, что некогда было со мной, — море и его обитатели очаровывают их.
Поль Зал, доктор биологии
Перевела с английского А. Резникова
(обратно)
Облака сверху и снизу

В этом ущелье смена дня и ночи представляется театрализованной борьбой сказочных персонажей — Добра и Зла. Весь день нежарко греет солнце, прохладный ветерок приятно свежит лицо. Но вот солнце зацепилось краем за вершину. Его слабость тотчас замечена — по ущелью проносится холодный ветер, явно враждебный тебе. Солнце бежит за спины гор, ты уже накрыт тенью — ив ущелье, торжествующий, врывается ледяной вихрь. Горы, только что приветливые, становятся враждебны: тропинка норовит свернуть в сторону, ветка — хлестнуть по лицу и оцарапать колючкой, камешек под ногой — скатиться и увлечь тебя в пропасть. Всюду холодный мрак, и только большие звезды висят над самой головой. А взойдет луна — все смещается, что освещено, теряет свое место в пространстве, а тени кажутся черными провалами. Но сейчас рассвет. Тьма стала совсем синей, скоро ей конец. Светлеет небо, и вот горы за спиной мазнуло оранжевым. От реки идет туман, застилая противоположный берег. Оттуда слышны звуки пробуждающегося человеческого жилья: гортанные вскрики, пенье петухов, стуки, скрипы...
Выглянуло солнце, туман — остаток ночи — взлетел, как занавес, и перед нами на том берегу, еще в сиреневой тени, золотисто-охристыми мазками встает Шатили — древняя столица Хевсуретии.
Самый яркий кадр моей памяти об этой стране.
Подходим к стенам города. Город! Невольно прибегаешь к меркам многовековой давности. Да, ты, путник, чужеземец, стоишь у стен неведомого города. Над нами нависли башни, покосившиеся и покривившиеся, прихотливо расставленные в каком-то застывшем танце. Но бродишь по улочкам — и танец оживает, башни движутся, открываются неожиданные ракурсы, скрытые раньше объемы, затейливые пространственные ходы. И каждая фигура этого танца пластически совершенна...
По преданию, Шатили заложен царицей Грузии Тамарой, правда, не этот, «новый», а «старый», развалины которого различимы на высокой скале. Мы взбираемся по крутым улочкам. «Гамарджобат», — здороваемся. Улыбаемся молодой хевсурке с кувшином на плече. Она улыбается в ответ. Старушка, цветом совершенно слившаяся со стеной, подслеповато щурясь, жестом приглашает присесть рядом. Я благодарю — «гмадлобт», — мы смотрим друг на друга, что-то говорим, не понимая. Сбегаются ребятишки. Некоторые совсем белые, голубоглазые, пухлогубые, как где-нибудь под Вологдой. Другие — смуглые, с огромными черными глазами.
Да, эффектно выглядел Котэ! Ему и самому приятно покрасоваться в одежде своих предков.
На нем темно-синяя рубаха грубой шерсти до колен — талавари. Она расшита на груди цветной шерстью. Плотный и дробный геометрический орнамент. И отделана бисером. И перехвачена в талии наборным ремешком — на нем висит, конечно, «хевсура яростный кинжал», преогромный; но для Котэ это не грозное оружие — скорее лишь элемент наряда (он тек и относится к нему) и необходимый инструмент в быту: что-нибудь построгать, разрезать... Штаны заправлены в высокие шерстяные носки, тоже расшитые цветом. На ногах прямоугольники кожи. Передние уголки ушиты, а подошвы прострочены кожаным ремнем. Чтобы в горах не скользили. Сложное переплетение ремешков крепит их к ногам.
Да, эффектен Котэ Кетелаури! Может, перед нами потомок легендарного Алуды Кетелаури, героя поэм Важа Пшавелы:
Жил там муж Кетелаури —
Мудрый, доблестный, правдивый...
Скоро Котэ наскучило нам позировать. Он повернулся и пошел в дом. И на его спине мы увидели вышитые белой шерстью четыре креста...
Хевсуры, как и все грузины, приняли христианство (православие) давно. Правда, христианские, миссионеры не смогли вытравить древних языческих верований. Хевсуры продолжали поклоняться священным камням, священной роще, некоторым животным, перелетным птицам. В своих молельнях «хати» (главная из них называлась «Гуданский крест») они приносили жертвы: быков, баранов — своим богам, не забывая богородицу и Георгия Победоносца.
Но вот кресты, вышитые на спине у Котэ, не православные. С расширяющимися и раздвоенными концами. Это так называемый мальтийский крест воинствующего ордена иоаннитов, или госпитальеров.
А в языке хевсуров, в общем близком грузинскому, есть слова из старофранцузского языка — в названиях оружия. И старинное западноевропейское вооружение встречается. Например, мечи испанской стали XII—XIII веков со знаменитым клеймом, изображающим волка. Еще Сервантес писал об этих мечах как об очень редких и дорогих. Дон-Кихот мечтал о таком мече.
Здесь, в труднодоступном районе гор Восточного Кавказа, в прошлом находил убежище самый разнообразный люд — и спасающиеся от гнева властителя, и преступившие законы, и бежавшие от рабства, от войн, от кровной мести. Их не останавливал суровый климат этой страны, где пахотной земли мало, растут только ячмень и просо, а перевалы много месяцев закрыты снегом, зима снежная и холодная, и солнце зимой почти не заглядывает в ущелье.
Валит снег. Лютует ветер.
Загорожены ущелья.
Падают обвалы с гулом
С голых, сумрачных крутизн.
Лед стянул ручьев подолы.
Долы замело метелью.
Мы попали сюда, в Пирикитскую (Внутреннюю) Хевсуретию из Хевсуретии Пиракетской (Внешней) через перевал. Нас провожал Котэ. Он решил сходить в гости к другу. Своей роскошной одежды не снял: зачем, в гости не пойдешь кое в чем! Для хевсуров национальная одежда не пыльная реликвия, спрятанная на дно сундука. Это наряд для всех мало-мальски значимых случаев; лишь на работу хевсур ходит в современном пиджаке. Удобнее.
Был последний день августа, на перевале кое-где уже лежал снег. Навстречу нам на лошадях, мулах и ослах ехали люди. Приторочены мешки с шерстью, кувшины с маслом — сдать государству. Вся Пирикитская Хевсуретия — это один колхоз.
Красиво сидит хевсур на коне — в высоком седле, немного боком, слегка отставив в сторону руку с поводом. Почти у всех за спиной, часто прямо на крупе лошади, пристроились мальчишка или девчонка — только глазенки из-за папы постреливают. Пора в школу. В интернат. На весь учебный год — через перевал можно перейти только летом. Скоро, правда, будет закончена дорога в Шатили и средством передвижения в этом крае станут автобусы.
Все дети Пирикитской Хевсуретии учатся и живут в большом современном доме на склоне горы — Борисахойской средней школе-интернате. Только самые маленькие могут учиться дома: начальные школы есть в Шатили, в Ардоти. Кстати, образование здесь один из признаков доблести, поэтому дети учатся старательно.

По узким, в ладонь, тропинкам, по горным кручам лошадь идет легко, задние ноги точно в передний след ставит. Там, где тропинка проходит по скале, за много веков копыта лошадей выбили глубокие выемки. Как стаканы. Лошади стараются идти по краю тропки — привыкли, иначе вьюком цепляются. Одна лошадь заскользила задними ногами, зависла немного над пропастью, но напружилась и выскочила на тропу. Мальчишка, сидящий сзади, только пнул ее сердито пяткой, а папа своей
величавой позы не изменил.
Мы идем по ущелью. Река Аргун шумит где-то далеко внизу, тропа то вверх забирает, то спускается к самой воде. Иногда идем вброд. Вода норовит свалить с ног — один раз чуть не унесла нашего храброго проводника, грузинского художника Резо Тархан-Моурави. Отовсюду несутся по камням, падают водопадами ручьи и ручейки. Там, где они пересекают тропу, устроены источники. Источники выложены камнем, вставлена тростниковая трубочка, рог или ковшичек из коры лежит. Пей, путник! Вода вкусная, холодная. Зубы ломит.
Встречаем стада коров, маленьких, но, говорят, очень удойных. «Хевсурки» считаются отменной породой в Закавказье. Коровы и овцы, отары которых можно разглядеть где-то в вышине, — главное богатство в хозяйстве Хевсуретии. Встречи со стадом всегда сопровождаются неприятной процедурой. Завидев нас, мчатся навстречу сторожевые собаки. Огромные псы, похожие на белых медведей. На них широкие ошейники, чтобы волк не мог схватить за горло. Псы остервенело лают, лай переходит в визг, стон, хрип. Они изнемогают от желания разорвать нас в клочья. Мы знаем, что надо спокойно сесть на землю, тогда собаки не тронут. Но всегда мучит мысль, все ли собаки знакомы с этими правилами. Так и сидим, пока не подойдет пастух в огромной бурке. Тогда псы теряют к нам всякий интерес.
На нашем пути селения: Лебайскари, Кистани, Ардоти...
Хевсуры всегда славились храбростью, воинственным нравом и свободолюбием. У них никогда не было княжеской власти. Высшим органом власти был совет старейшин.
В полном боевом облачении хевсур был похож на средневекового воина: на голове шлем, кольчуга с нашитыми металлическими бляхами и налокотниками, круглый маленький щит на руке, кинжал, прямой меч, ружье. На большом пальце правой руки — зубчатое боевое кольцо — сацерули.
Умение сражаться холодным оружием всегда почиталось главным достоинством мужчины. До тяжелых ран, а тем более до убийства в сельских стычках дело доходило редко — ранить тяжело считалось неумением и даже трусостью. Высшее мастерство — лишь слегка оцарапать лицо. Существовал своеобразный прейскурант цен за нанесенные раны. Мерилом были ячменные зерна, которые укладывались в порез. Каждое зерно — баран.
И обычно в разгар боя подходила женщина и бросала свою черную мандили — головную шаль. Бой прекращался: ослушаться женщину было нельзя.
Сейчас хевсурские праздники обходятся без кровавых поединков. Но показать свое умение владеть оружием предков хотят многие, сражаются настоящими мечами, но бойцы искусны, и ран не бывает. А если слишком увлекутся — к их ногам летит мандили...
Очень любят хевсуры скачки. Во Внутренней Хевсуретии есть только одно ровное место. Оно величиной с футбольное поле. Проезжая площадку, хевсур всегда летит во весь опор, потом бросается на коне в реку и переплывает на другую сторону. Фантастическое зрелище — скачки в горах. Это гвоздь программы всех праздников. Скачут до соседнего селения и обратно по таким кручам, где и пройти, кажется, нельзя.

Сакли лепятся на горе лесенкой, сакля над саклей; крыша одной служит двором для другой. Хевсурские селения невелики — 10—20 домов. А то и меньше. Около каждой сакли высится башня. В башне были запасы еды, питья; и пока мужчины выясняли отношения с соседями, старики, женщины и дети отсиживались в башнях. На верху башни — небольшой балкон.
Башни сложены из плит шиферного сланца. Без всякого связующего раствора — гладкие сколы плит накрепко соединяются друг с другом. Башни не оштукатурены. Из таких же плит сложены и сакли. И маленькие водяные мельницы — их много встречаешь на пути. Отводится от реки канальчик: ведь надо создать резкий перепад высот, устроить искусственный водопад. Река бежит вниз, а канал, кажется, лезет в гору, аккуратно огибает горные увалы, кругом скал течет по деревянным желобам, непонятным образом там приделанным, поднимается как бы выше и выше. Вот и мельница. Отсюда вода скатывается вниз, в реку. Заглянешь внутрь мельницы — там отлаженный механизм: жернова, бункер, какие-то палочки, ремешки, сообщающие бункеру от жернова необходимую вибрацию. На лепешки, которые выпекают хевсурские хозяйки, ставится печатка — у каждой семьи своя. Плитняком выстилают полы, улочки в селениях, мосты.
Плитняк не только строительный материал. Можно отколоть такую тонкую плитку, что на ней удобно печь лепешки. У пастуха такая сковородка всегда под рукой. На плитках можно писать, царапая ножом. Мы видели плитку, на которой была вычерчена шахматная доска.
Хевсурские селения постепенно меняют свой облик. Рядом с древними городками вырастают поселки, в которых строятся современные дома, а не башни, такие же дома, как и в любом грузинском селении. В доме жить удобнее. Но бережно сохраняются хевсурами и традиционные постройки, превращающиеся со временем в своеобразные музеи.
Часто встречаем сакли, раскиданные в горах поодиночке. Чуть место поровней, небольшая примятость в зеленом теле гор — и видишь, прилепился где-то в вышине домишко. Как в ладошке. Студеный ручей журчит возле сакли, низвергаясь тут же в пропасть водопадом. Стоит маленькая мельница. На крошечном поле растут ячмень, кукуруза, картошка.
Молодой хевсур и его красавица жена с коротко постриженными бронзовыми волосами встречают нас как родных: гостеприимство — закон хевсуров. Угощают ячменной водкой «джипитаури» (бр-р!..) и пивом. Закусываем твердым как булыжник хевсурским сыром, кукурузными лепешками с топленым маслом.
Уютно здесь, в ложбинке. Сзади гора, сверху близкое небо. Облака проплывают вокруг — и снизу и сверху. Перед тобой — противоположный склон стеной. Крошечные желтые заплатки полей раскиданы повсюду. Отчетливо видны все изгибы поверхности, весь пластический строй горных увалов. Вон еще сакля, — если громко крикнуть, может, услышат. Еще одна. Тропинка вьется, кто-то идет по ней. Удивительное ощущение покоя, гармонии в мягких струящихся линиях горных склонов, кое-где покрытых темной зеленью лесов, прорезанных лиловатыми скалами. Хевсуры очень любят свои горы, несмотря на явное недружелюбие здешнего климата. Вано, учитель в Шатили, рассказывал, что хевсурам построили дома в теплой, плодородной Алазанской долине, хорошие современные дома; они пожили там, но потом многие вернулись обратно. Хевсурские дети кончают школы, техникумы — и возвращаются в свои края.
Внизу, на высокой крутой скале, — развалины замка Торгва. А еще ниже — мертвый город Муцо.
Здесь не живут уже давно. Еще в прошлом веке жителей его и соседнего селения Анатори унесла эпидемия «шавичири» — черной оспы. В Анатори мы видели склепы, куда добровольно уходили умирать пораженные этой страшной болезнью...
Вниз идет тропка, возвращаться которой не хочется. Там есть место, где, чтобы обойти выступ скалы, отшлифованный животами многих путников, надо чуточку повисеть над пропастью. Другой дороги нет, радушные хозяева не замечают такой безделицы на своем пути.
Хевсурские ребята скачут по горам с поразительной беззаботностью. Если камень под ногой срывается, мальчишка успевает перепрыгнуть на другой, рушится и этот — он уже оттолкнулся, перескочил на третий, поскользил по осыпи, пробежал на цыпочках по склону, стоять на котором совершенно невозможно.
Однажды, когда мы, стараясь не глядеть в бездну, осторожно переставляли ноги по осыпающейся узенькой тропинке, нас обогнала старушка лет ста на вид. Она безостановочно вязала на спицах чулок и мурлыкала что-то веселое себе под нос. И вот она уже далеко, перескочила какую-то загородку и скрылась.
Последнее хевсурское селение на нашем пути. Теперь надо перелезть через хребет в другую страну — Верхнюю Тушетию. Там летние пастбища тушин — жителей Алазанской долины.
Пастух Шакро вызвался нас проводить. Взял двух ослов, нам хоть поклажу не нести. Идем по густому зеленому лугу. Сочная, высокая трава. Только этот луг дыбится стеной. Ослики на своих тоненьких ножках мелко семенят зигзагами, мы из последних сил уже на четвереньках ползем по склону, потом по каменистой осыпи. Тут уж и ослы не пошли. А дальше карабкаемся по скале. Похоже, что по этажерке с книгами лезешь — камень лежит вертикальными слоями. За какой ни возьмешься, вынимается книгой.
Но вот и край хребта, узкий как нож. Через этот хребет можно заглянуть в Тушетию. Такой же лабиринт горных хребтов. Течет речка, ручьи в нее скатываются, дробя горы складками. Еще одна полка — и я сажусь верхом на хребтину... Делаю шаг вниз, и хребтина разом скрывает от меня Хевсуретию.
Вл. Перцов
(обратно)
«Жду стою»
Если путник собирается в дальнюю дорогу, то норовит выехать пораньше, с солнцем. И я никак не мог понять, почему селькупы делают наоборот. Еще вчера оленевод Владимир Сайготин уверял, что очень спешит в стадо, что ехать ему полета километров, а дел еще много.
— Магазин ходить нада... Председатель говорить нада. Много всего нада...
На другое утро я встретил Владимира у нарт. Он сказал, что все сделал, только что поговорил с председателем колхоза.
— Уезжаешь?
— Едем потихоньку...
Но днем он опять попался мне на улице Красноселькупска.
— Еще не уехал?
— Нет пока.
— Дела?
— Ага, дела...
Может, думаю, пурги боится, да говорить об этом не хочет? Как раз похоже было, что завьюжит, да и похолодало к вечеру. Осторожно так поспрашивал Владимира, чтоб не обидеть его, — нет, ничего-то он не боится. Морозы покидают эти края всего-то месяца на три. Стужа — дело привычное. От нее можно спрятаться в оленьи шкуры, а заночевать в пути можно хоть в куропаткином чуме.
Куропаткин чум — никакого чума. Просто нора в снегу. Так прячется от пурги белая птица. И человек научился этому. Застала в пути пурга — останавливает селькуп оленей, слезает с нарт, закапывается в снег. Мети сколько хочешь! Кончится белая пляска — можно вылезать. Снова на нарты, снова трогает хореем оленей. Поехали!..
Так чего же не едет Сайготин? Ведь и правда торопится.
Потом председатель райисполкома Иван Сергеевич Хайдошкин рассказал:
— Как ни торопится ненец или селькуп, а засветло не поедет. Хоть в шесть утра проснется, целый день прособирается. Постоит, подумает, нарту поправит... Глядишь, опять стоит! А к вечеру тронется, погонит оленей, будто страшно опаздывает. Но отъедет всего полкилометра — и вдруг остановится. Достанет сигарету, закурит, посидит минут десять-пятнадцать. Потом опять взмахнет хореем и сорвется с места. Теперь уж мчит без передыху. Я спросил одного, зачем такая остановка.
— Думаю, — говорит.
— О чем?
— Забыть чего мог. Или кто со мной забыл поехать, бежать будет. Жду стою.
И предпочтение ночи дню для дальних поездок имеет свое объяснение. Жители тундры ориентируются по звездам — других указателей в белой пустыне нет. Так что звезды они знают не хуже любого капитана дальнего плавания. Потому, наверно, у каждого в этом крае есть своя звезда, путеводная.
И. Цыганов
Селькупы — народность Западной Сибири. Живут в Томской, Тюменской областях и в Красноярском крае. Прежде основным занятием селькупов были охота и рыболовство. Переселившись на северную окраину таежной зоны, на реки Таз и Турухан, селькупы переняли у местных жителей оленеводство, однако продолжали вести кочевую жизнь. Зимой жили в полуземлянках, летом — в берестяных чумах.
Сейчас селькупы объединились в колхозы. Живут в рубленых деревянных домах. Развиваются огородничество, звероводство. Всего селькупов около трех тысяч восьмисот человек.
(обратно)
Рэй Бредбери. Я никогда вас не увижу

Послышался тихий стук в кухонную дверь, и когда миссис О"Брайен отворила, то увидела на крыльце своего лучшего жильца мистера Рамнреса и двух полицейских, по одному с каждой стороны. Зажатый между ними, мистер Рамирес казался таким маленьким.
— Мистер Рамирес! — озадаченно воскликнула миссис О"Брайен.
Мистер Рамирес был совершенно уничтожен. Он явно не мог найти слов, чтобы объясниться.
Он пришел в пансионат миссис О"Брайен больше двух лет назад и с тех пор постоянно жил тут. Приехал на автобусе из Мехико-Сити в Сан-Диего, а затем сюда, в Лос-Анджелес. Здесь он нашел себе маленькую чистую комнатку с лоснящимся голубым линолеумом на полу, с картинами и календарями на цветастых обоях и узнал миссис О"Брайен — требовательную, но приветливую хозяйку. В войну работал на авиазаводе, делал части для самолетов, которые куда-то улетали; ему и после войны удалось сохранить свое место. С самого начала он зарабатывал хорошо. Мистер Рамирес понемногу откладывал на сберегательную книжку и только раз в неделю напивался — право, которое миссис О"Брайен признавала за каждым честным тружеником, не докучая человеку расспросами и укорами.
В печи на кухне миссис О"Брайен пеклись пироги. Скоро они лягут на стол, чем-то похожие на мистера Рамиреса: блестящая, хрусткая коричневая корочка и надрезы, чтобы выходил воздух, сильно смахивающие на узкие щелочки, сквозь которые смотрели его черные глаза. На кухне вкусно пахло. Полицейские чуть наклонились вперед, соблазненные заманчивым ароматом. Мистер Рамирес упорно глядел на свои ноги, точно это они завели его в беду.
— Что произошло, мистер Рамирес? — спросила миссис О"Брайен.
Подняв глаза, мистер Рамирес за спиной миссис О"Брайен увидел знакомый длинный стол с чистой белой скатертью, и на нем большое блюдо, холодно поблескивающие бокалы, кувшин с водой и кубиками льда, миску свежего картофельного салата и миску фруктового салата из бананов и апельсинов, нарезанных кубиками и посыпанных сахаром. За столом сидели дети миссис О"Брайен. Три взрослых сына были увлечены едой и разговором, две дочери помоложе ели, не сводя глаз с полицейских.
— Я здесь уже тридцать месяцев, — тихо сказал мистер Рамирес, глядя на пухлые руки миссис О"Брайен.
— На шесть больше, чем положено, — добавил один из полицейских. — У него ведь временная виза. Мы уже начали его разыскивать.
Вскоре после того, как мистер Рамирес поселился в пансионате, он купил для своей комнатушки радиоприемник; придя с работы, он с неподдельным удовольствием включал его на полную мощность. Кроме того, он купил часы на руку, которые тоже носил с удовольствием. Вечерами он часто гулял по примолкшим улицам, разглядывал в витринах красивые рубашки и некоторые из них покупал, любовался брошками и некоторые покупал своим немногочисленным приятельницам. Одно время он по пяти раз в неделю ходил в кино. Еще он катался на трамвае, иногда целую ночь напролет, вдыхая электричество, скользя черными глазами по объявлениям, чувствуя, как вращаются колеса под ним, глядя, как проплывают мимо маленькие спящие дома и большие отели. Кроме того, он ходил в роскошные рестораны, где заказывал себе обед из многих блюд, посещал оперу и театр. И он приобрел автомобиль, но потом забыл про взносы, и сердитый агент из магазина увел машину со стоянки перед пансионатом.
— Понимаете, миссис О"Брайен, — продолжал мистер Рамирес, — придется мне выехать из моей комнаты. Я пришел только забрать свой чемодан и одежду, чтобы последовать за этими господами.
— Обратно в Мексику?
— Да. В Лагос. Это маленький городок севернее Мехико-Сити.
— Мне очень жаль, мистер Рамирес.
— Я уже собрал свои вещи, — глухо произнес мистер Рамирес, часто моргая черными глазами и растерянно шевеля руками.
Полицейские не трогали его. В этом не было нужды.
— Вот ключ, миссис О"Брайен, — сказал мистер Рамирес. — Я уже взял чемодан.
Только теперь миссис О"Брайен заметила стоящий у его ног чемодан.
Мистер Рамирес снова обвел взглядом просторную кухню, блестящее серебро приборов, обедающих молодых людей, сверкающий воском пол. Он повернулся и долго глядел на соседний дом, высокое и красивое трехэтажное здание. Глядел на балконы и пожарные лестницы, на ступеньки крылец, на веревки с хлопающим на ветру бельем.
— Вы были хорошим жильцом, — сказала миссис О"Брайен.
— Спасибо, спасибо, миссис О"Брайен, — тихо ответил он. И закрыл глаза.
Миссис О"Брайен правой рукой придерживала наполовину открытую дверь. Один из сыновей за ее спиной напомнил, что ее обед стынет, но она только кивнула ему и снова повернулась к мистеру Рамиресу. Когда-то ей довелось гостить в нескольких мексиканских пограничных городках, и вот теперь вспомнились ей знойные дни и несчетные цикады — они прыгали, падали, лежали мертвые, хрупкие, словно маленькие сигары в витринах табачных лавок, — вспомнились каналы, разносящие по фермам воду из реки, пыльные дороги, иссушенные пригорки. И тихие города, и теплое пиво, и непременные обжигающие рот сытные блюда. Вспомнились вяло бредущие лошади и тощие зайцы на шоссе. Вспомнились ржавые горы, запорошенные пылью долины и океанский берег, сотни километров океанского берега — и никаких звуков, кроме прибоя.
— Мне искренне жаль, мистер Рамирес, — сказала она.
— Я не хочу уезжать обратно, миссис О"Брайен, — тихо промолвил он. — Мне здесь нравится, я хочу остаться. Я работал, у меня есть деньги. Я выгляжу вполне прилично, ведь правда? Нет, я не хочу уезжать!
— Мне очень жаль, мистер Рамирес,— ответила она.— Если бы я могла что-то сделать.
— Миссис О"Брайен! — вдруг крикнул он, и по щекам его покатились слезы. Он протянул вперед обе руки, пылко схватил ее руку и тряс ее, сжимал, цеплялся за нее. — Миссис О"Брайен, я никогда вас не увижу больше, никогда не увижу!..
Полицейские улыбнулись, но мистер Рамирес не видел их улыбок, и они перестали улыбаться.
— Прощайте, миссис О"Брайен. Вы были очень добры ко мне. Прощайте! Я никогда вас не увижу больше!
Полицейские ждали, когда мистер Рамирес повернется, возьмет свой чемодан и пойдет. Он сделал это, и они последовали за ним, вежливо козырнув на прощание миссис О"Брайен. Она смотрела, как они спускаются вниз по ступенькам. Потом тихо затворила дверь и медленно вернулась к своему стулу. Она выдвинула его и села. Взяла блестящий нож и вилку и вновь принялась за свою котлету.
— Поторопись, мам, — сказал один из сыновей. — Все остыло.
Миссис О"Брайен отрезала кусок и долго, медленно жевала его, потом поглядела на закрытую дверь. И положила на стол нож и вилку.
— Что случилось, мама?
— Ничего, — сказала миссис О"Брайен, поднося руку к лицу. — Просто я подумала, что никогда больше не увижу мистера Рамиреса...
Перевел с английского Л. Жданов
(обратно)
Серджо Туроне. Украденная душа
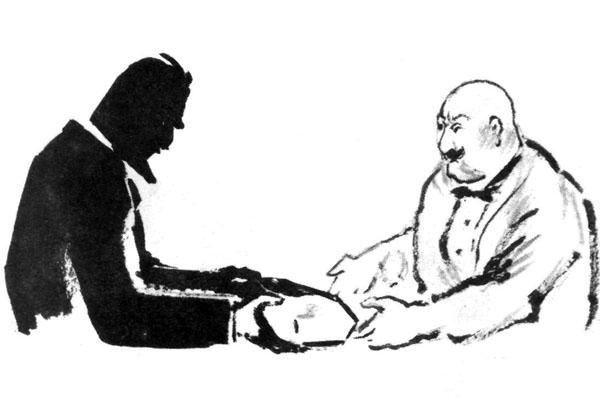 Рассказ взят из сборника «Бандагал», который будет выпущен издательством «Мир» в 1970 году.
Рассказ взят из сборника «Бандагал», который будет выпущен издательством «Мир» в 1970 году.
Внезапно врач задал ему странный вопрос: «Вы дорожите своей душой?» До этого визит протекал как обычно, и Зигфрид Моргентойфель ясно дал понять, что весьма сомневается в успехе. Долгие месяцы бесплодных хождений по врачебным кабинетам основательно подорвали его веру в медицину. Впрочем, к этому врачу он попал на прием впервые. Обратиться к нему посоветовал Моргентойфелю знакомый психолог. Но он почему-то сказал, что никому не следует называть имени этого врача. И теперь Зигфрид Моргентойфель подумал, что, видимо, предприимчивый эскулап, стремясь сильнее подействовать на пациента, умышленно окружил себя ореолом таинственности. Очевидно, и этот, казалось бы, неожиданный вопрос был отрепетирован заранее.
— Разумеется, я дорожу своей душой, хотя и не слишком, — ответил он.
Врач улыбнулся.
— Надеюсь, вы не приняли меня за Мефистофеля? Речь идет о научном открытии. Правда, аппарат еще проходит экспериментальную проверку, и его применение в лечебных целях пока запрещено законом. У меня могут быть неприятности. К тому же аппарат чрезвычайно дорогой.
— Что до цены, — сухо ответил Зигфрид Моргентойфель, — то, как вам уже известно, это беспокоит меня меньше всего.
Врач выдержал эффектную паузу и затем продолжал:
— Аппарат называется «экстрактор дельта», изобретен он совсем недавно и предназначен для извлечения души без какого бы то ни было ущерба для пациента. Но, повторяю, он еще не прошел окончательные испытания.
— Значит, чтобы избавиться от кошмаров, я должен пожертвовать своей душой?
— Совершенно справедливо, ведь больна именно ваша душа.
Зигфрид Моргентойфель растерянно потер глаза и сказал, что подумает. Он никогда не был особенно ревностным католиком, но мысль о том, что придется навсегда лишиться души, привела его в смятение.
Вообще-то рассказывать эту историю нелегко, ибо, в сущности, это две истории, в какой-то миг слившиеся в одну. Если прибегнуть к классической геометрии, то это равносильно тому, что две параллельные прямые пересекаются в некой точке А. Нелепость, абсурд? Да, но и сама эта история абсурдна.
Итак, наступил момент, когда параллельные прямые вот-вот должны были пересечься. Два главных действующих лица, незнакомых друг с другом, едут в одном купе первого класса. У окошка сидит Зигфрид Моргентойфель, шестидесятичетырехлетний владелец предприятия в Цюрихе. Напротив устроился Винченцо Лагана, двадцативосьмилетний калабриец из селения Корильяно Калабро. Сиденья обиты желтым бархатом. У Моргентойфеля на коленях лежит газета, но он не читает. Он дремлет, прислонившись головой к спинке сиденья, его одутловатое лицо нервно подергивается. Винченцо Лагана не спит, он смотрит в окно на поля и деревья. Время от времени он начинает разглядывать свои руки. Одет он с претенциозной элегантностью, свойственной богатым южанам.
Конечно, путешествовать в вагоне первого класса — это вам не шутка. Винченцо Лагане нравится чувствовать себя важным синьором. Он с удовлетворением потянулся. В купе первого класса сиденья удобные, мягкие, не то что в тот раз. Да, в тот раз... А ведь прошло каких-нибудь десять дней.
Тот вагон заполнили молодые калабрийцы, одетые так же плохо, как и он сам. Сиденья были жесткие, деревянные. Стоило на минуту отлучиться в коридор, пусть даже в уборную, как по возвращении тебя обдавало застоявшимся запахом дешевого сыра, вина и пота. Во сне ты прислонялся головой к плечу соседа, а он к тебе.
Скорый прибыл на пограничную станцию Кьяссо. Слабый толчок при торможении разорвал непрочную нить сна Зигфрида Моргентойфеля. Он выпрямился и кончиком указательного пальца быстро снял желтую пленку в уголках глаз. Началась проверка паспортов. Таможенный чиновник вежливо обратился сначала к пожилому господину, затем к молодому человеку. Протягивая зеленую книжицу, Винченцо сумел притвориться уверенным и равнодушным. Чиновник небрежно перелистал листы и возвратил паспорт, даже не поставив печати.
Маневровый паровоз оттащил состав на несколько сот метров, и Винченцо вновь увидел бетонную ленту вокзала, где их выгрузили десятью днями раньше, чтобы отправить назад. Некоторые громко протестовали и ругались, рискуя угодить в тюрьму. А Винченцо сразу понял, что спорить бесполезно. Путь закрыт — Швейцарии больше не нужны итальянские эмигранты.
Каким мучительным было возвращение в переполненном вагоне! Милан. А что дальше? Одни поехали на юг, в родные места, другие, у кого не было денег, но было много надежд, остались в Милане. Остался и Винченцо Лагана. Прежде всего, решил он, надо хорошенько обдумать положение. Он пересек привокзальную площадь и зашел в большой, ярко освещенный бар. Возле стойки пять-шесть человек спорили о футболе. Один из них обругал защитников команды «Турин». Лагана хотел было сказать несколько теплых слов этому болвану, но потом решил не вмешиваться — хватит с него своих неприятностей. В углу стоял музыкальный ящик. Сесть за столик — значит непременно заказать что-либо. Так не лучше ли послушать песню? Он подошел к ящику со сверкающими клавишами, выбрал песню Челентано и сунул в прорезь монету. Нажал на клавиши и тут же негромко выругался. Ну и кретин! Нажал В-15, а надо было В-14. Теперь слушай бог весть кого. С ума можно сойти, это же сказка — он по ошибке выбрал детскую пластинку. Счастье еще, что другие клиенты продолжали громко спорить о футбольном чемпионате, не то бы они посмеялись над ним от души. Но раз уж он потратил пятьдесят лир, стоит послушать сказочку. В ней рассказывалось о коте в сапогах, который помог разбогатеть своему хозяину, жалкому бедняку, нарядив его в шикарное платье. Король принял бедняка за настоящего принца и отдал ему в жены свою дочь — принцессу. Говорящий кот — ерунда какая-то! Один из болельщиков сказал, что игроки туринского «Ювентуса» — живые мертвецы. В другое время горячая калабрийская кровь Винченцо Лаганы вскипела бы — и не миновать бы ссоры. Ведь южане болеют не столько за Турин, сколько против Милана, города богачей, которые имеют все, чего нет у них, нищих калабрийцев. Но сейчас Винченцо лишь окинул этого глупца презрительным взглядом, его мысли были заняты котом, который помог хозяину стать богатым, нарядив его в богатые одежды.

А ведь это неплохая идея. Швейцария не хочет итальянских эмигрантов. Ну что ж — значит, нужно пересечь границу под видом богатого синьора. И Винченцо решил рискнуть всеми своими сбережениями, довольно-таки скудными, но достаточными, чтобы купить отличный костюм и билет в вагоне первого класса.
Приобрести костюм оказалось делом совсем не легким, потому что продавец магазина заподозрил неладное: обычно клиент в рваной одежде не покупает костюм за сорок тысяч лир. Винченцо пришлось вначале показать ему деньги. Помимо костюма, он купил рубашку и платок для верхнего кармашка пиджака, галстук, носки, ботинки. Когда он вышел из магазина одетый с иголочки, его остановили двое полицейских и потребовали документы. Продавец тут же позвонил в полицию: он твердо знал, когда оборванец вдруг одевается как синьер — это означает, что он совершил одно ограбление и теперь готовит другое. Полицейские тщательно обыскали Винченцо, но даже это не испортило его хорошего настроения. Спасло его рекомендательное письмо приходского священника бывшему односельчанину, который теперь жил и работал в Цюрихе. Больше того — встреча с полицейскими оказалась даже полезной, она позволила Винченцо усовершенствовать свой план. Один из полицейских, схватив его за руку, презрительно посмотрел на грязные ногти и мозолистую ладонь. Кот в сапогах никогда бы не допустил подобной оплошности. С такими ногтями самый роскошный костюм не поможет ему пересечь границу. Маникюрша изрядно потрудилась, но когда Винченцо вышел из парикмахерской, его пальцы нельзя было узнать.
И вот теперь скорый, миновав границу, мчится вдоль Луганского озера. Мерное покачивание вагона таит в себе опасность — оно навевает сон и одновременно не дает заснуть. Когда поезд въехал в туннель и стук колес сменился грохотом, проснулся и Зигфрид Моргентойфель. Он посмотрел на часы и попытался снова забыться сном. Но это ему не удалось. Тогда он взял лежавшую на коленях газету и стал рассеянно просматривать первую страницу. Читать не хотелось. С минуту он разглядывал своего соседа по купе. Наверняка итальянец. Одет довольно безвкусно, но если бы все итальянцы были такими же аккуратными и презентабельными, не существовало бы и его проблемы.
А его проблема — итальянские эмигранты, которых он принял на работу в пекарню. Тогда-то и начались ночные кошмары, нервное истощение и бесконечные визиты к врачам. Первое время он испытывал лишь смутное чувство неприязни. Ему было противно смотреть на этих черных волосатых оборванцев. Его раздражала их манера тараторить на своем тарабарском наречии и эта их привычка вечно собираться в круг. Не говоря уж о варварском обычае носить в кармане нож.
Он всячески пытался избавиться от этой напасти, но его неприязнь к итальянцам все усиливалась.
В газетах писали, что наплыв итальянских эмигрантов с юга грозит нарушить этническую структуру Швейцарии, и это очень беспокоило Зигфрида Моргентойфеля. Его мучили угрызения совести — ведь он один из тех, кто невольно помогает создавать- подобную диспропорцию.
У них и слуха-то нет. А еще говорят, что все итальянцы музыкальны от природы. Сплошное вранье — когда они поют хором, то это похоже на рев пьяных ослов. И все-таки хуже всех Риччапулли, иссиня-черный, словно бедуин, грязный, вульгарный, охочий до женщин, к тому же наглец, каких мало.
Всех их уволить? Легко сказать. А кто будет работать в пекарне? С некоторых пор швейцарцы предпочитают не заниматься тяжелым физическим трудом. Нет, он не мог их уволить. Они это прекрасно знали. А он, Моргентойфель, знал, что они это знают, и оттого ненавидел их еще сильнее.
Однажды ему приснилось, что Риччапулли ущипнул за бок белокурую работницу, и тогда он хорошенько отлупил нахального итальянца. Утром он проснулся в превосходном настроении — его лишь разочаровало, что это был сон. Потом, быть может, от переутомления, а возможно, от чрезмерного нервного напряжения, его сны стали все более беспокойными и тревожными. К Риччапулли прибавились другие итальянцы, и теперь он не только избивал их, но и бросал живыми в печь и со сладострастием глядел, как в огне они, наконец, из черных становились черно-красными. Впрочем, эти ночи еще нельзя было назвать кошмарными. Больше того — они были своего рода отдушиной, выхлопным клапаном, благодаря которому находили выход (и притом безболезненный) переполнявшие Моргентойфеля чувства.
Но внезапно канва сновидений изменилась. Случилось это однажды вечером, когда на ужин он поел жареного перца с рисом. Едва он заснул, как очутился в зале суда. На нем был серо-зеленый арестантский костюм. Судья, толстый, безликий человек в штатском, не говорил, а кричал: «Вы обвиняетесь в умерщвлении тысячи итальянцев! Что вы можете сказать в свое оправдание?» Присутствовавшие в зале негодовали. Кто-то крикнул: «Убийца!» Судья повторил вопрос, стукнув деревянным молотком по столику: «Что вы можете сказать в свое оправдание?» Его адвокат, сухой, морщинистый старик, подошел к нему и, брызгая слюной, прохрипел: «Скажите, что вы действовали согласно приказу вышестоящих властей». Судья громовым голосом рявкнул: «Отвечайте же!» — «Я выполнял приказание». Жирный судья покрутил в воздухе молотком и вновь с яростью стукнул им по столу: «Ах, приказ! Все убийцы так говорят».
Зигфрид Моргентойфель подскочил в постели, словно его ударили электрическим током. Какое-то время он тешил себя надеждой, что виною всему жареный перец, но, увы, он ошибался. На четвертую ночь сон повторился и уже больше не оставлял его, всегда один и тот же, безмерно страшный. Менялось лишь число убитых — с каждым разом оно все возрастало: две тысячи, пять, двадцать тысяч... И в конце неизменно: «Все убийцы так говорят».
За несколько месяцев Зигфрид Моргентойфель катастрофически похудел. Врачи выписывали ему какие-то дурацкие лекарства, советовали отдохнуть, ничего лучшего они придумать не могли. Теперь приближение ночи приводило Зигфрида Моргентойфеля в содрогание. Он пробовал обращаться к другим врачам — никакого эффекта! Лишь доктор Гольдентойфель единственный из всех предложил нечто конкретное: экстрактор дельта. Но слишком уж подозрительный тип, этот Гольдентойфель. И потом, где гарантия, что он сможет жить без души, не испытывая неприятных ощущений?
С каждым новым сном росло число убитых итальянцев: сорок тысяч, пятьдесят, сто тысяч... Кошмары стали преследовать Моргентойфеля и днем. Если взгляд его случайно падал на молоток, он тут же вспоминал деревянный молоток грозного судьи. Однажды он буквально опозорился на официальном приеме в муниципалитете — в момент, когда произносились тосты, он заметил, что пожилой асессор похож на сухого, морщинистого адвоката. Ему стало нехорошо, пришлось уйти с приема.
Не помогли ни специальный курс лечения, ни рентгенотерапия, ни таблетки. Искушение вновь сходить на прием к Гольдентойфелю было очень велико, но он решительно отверг саму мысль об этом. Как-то в газете ему бросилась в глаза заметка о знаменитом шведском специалисте по психоанализу, творившем чудеса в лечении невроза. Он отправился в Стокгольм. Лекарство, которое ему прописал шведский профессор, принесло облегчение всего на одну ночь. Затем снова начались кошмары. Теперь число убитых достигло пятисот тысяч. Оставался один выход — экстрактор дельта. Когда искушение доводит вас почти до исступления, всегда находится уловка, чтобы сдаться, притворяясь, будто вы сопротивляетесь. Уловка эта изящно именуется компромиссом. Механизм предельно прост — он ничем не отличается от автомата с прорезью, только вместо жетона вводится словечко «если»: я твердо решил отказаться, поищу-ка другие возможности, лишь в том случае, если и эти попытки окажутся безрезультатными, я отвечу «да». Но это будет «да» с весьма серьезной оговоркой, ибо оно обусловлено целым рядом «если».
Он снова отправился к Гольдентойфелю. В этот раз кабинет врача не произвел на него такого мрачного впечатления, как прежде. И все-таки ему подействовала на нервы самодовольная улыбка Гольдентойфеля, встретившего его словами:
— Я знал, что вы решитесь.
— Я еще ничего окончательно не решил, — сказал Зигфрид Моргентойфель. — Вначале я хотел бы кое-что уточнить.
— Всегда к вашим услугам. — Врач почтительно склонил голову.
— Я хочу хорошенько отдохнуть, месяца два, не меньше. Быть может, длительный отдых поможет мне избавиться от кошмаров.
— Превосходная идея.
— Если уж и отдых не принесет мне облегчения, я прибегну к экстрактору дельта. Однако я намерен сам выбрать место и время. Могу ли я купить аппарат и затем в случае нужды сам, без вашей помощи, воспользоваться им?
— Прошу вас, вот инструкция, аппарат очень прост и удобен в обращении.
И врач вынул экстрактор из белого пластмассового футляра.
— Одну минуту, — остановил его Зигфрид Моргентойфель. — Мне требуется еще одна гарантия. Видите ли, у меня нет ни малейшего желания остаться без души. Позволяет ли ваш аппарат обменять мою душу на душу другого человека?
— Конечно, конечно, — заверил его Гольдентойфель. И тут же убедительно посоветовал никому не показывать экстрактор, ибо это может вызвать серьезные осложнения.
Наконец он назвал цену. Цифра была совершенно фантастической, но больной вручил требуемую сумму без малейших возражений.
От врача он ушел в превосходном настроении. Так или иначе, но его мучения прекратятся. Местом отдыха он выбрал Италию. И не случайно — путешествие по этой стране позволит ему познакомиться с итальянцами из высшего общества, и тогда он, возможно, сумеет преодолеть отвращение к итальянским рабочим из пекарни.
Он посетил Капри, Таормину, Гаргано и другие знаменитые курорты, где отдыхают и развлекаются приличные, состоятельные люди. Правда, на улицах встречались и нищие, но здесь они были живописной деталью пейзажа, элементом фольклора. Тут все помогало забыть о горестях и бедах. Однако исчезнут ли кошмарные сновидения? Первое время ему снилось все то же убийство итальянских эмигрантов, но постепенно сны становились более расплывчатыми, туманными. Однажды ночью безликий судья предстал пред ним в купальном костюме, вместо молотка он держал в руке резиновую надувную утку. А затем ему и вовсе перестали сниться рабочие-итальянцы; два месяца полного спокойствия. И теперь Зигфрид Моргентойфель, довольный, умиротворенный, возвращался в скором поезде в родной Цюрих. В багажной сетке в чемодане из крокодиловой кожи покоился экстрактор дельта. Он так и не вынул его из футляра. Выброшенные на ветер деньги, и все-таки это лучше, чем ночные кошмары.
До прибытия в город оставалось еще несколько часов. Зеленый однообразный пейзаж навевал сон. Солнце зашло, и стук колес стал более размеренным. Контролер бесшумно открыл дверь. С минуту он подождал, не проснутся ли оба пассажира, но те не просыпались. «Эти хорошо одетые господа не из тех, кто ездит зайцем», — подумал контролер и, решив не будить их, осторожно закрыл дверь.
Зигфрид Моргентойфель проснулся внезапно, негромко вскрикнув от испуга. Но Винченцо Лагана спал так крепко, что ничего не услышал. Старый предприниматель закрыл лицо руками. Кошмарное видение, снова кошмарное видение! И на этот раз отчетливое до ужаса.

Среди свидетелей обвинения Моргентойфель сразу же узнал Риччапулли. Он сидел рядом с белокурой работницей-швейцаркой, и та тоже крикнула ему: «Убийца!» Нет, от этого кошмара никуда не спрячешься. Мирные сны на отдыхе были всего лишь кратковременной иллюзией. Зигфрид Моргентойфель мгновенно взмок, словно только что пробежал стометровку. Задыхаясь, он поднял голову и с завистью посмотрел на своего попутчика, спавшего сном праведника.
Решение пришло мгновенно, и с этой минуты он действовал автоматически. Он встал, дотянулся до чемодана, открыл замок и ощупью отыскал среди вещей пластмассовый футляр. Вынув экстрактор дельта, он снял колпачок и ослабил винт. Он столько раз читал инструкцию, что теперь делал все механически. Два шнура заканчивались маленькими присосками. Один из них Моргентойфель закрепил на запястье своей левой руки, другой — на запястье правой руки Винченцо Лаганы. Затем опустил рычаг и нажал белую кнопку. Он не ощутил ничего, кроме легкого покалывания. В инструкции было сказано, что в короткие минуты извлечения души у него возникнет такое же чувство усталости, какое обычно испытывает донор. Зигфрид Моргентойфель терпеливо ждал, когда загорится зеленый глазок — знак того, что взаимный обмен душами закончен. В его затуманенном мозгу вяло шевелились мысли: «Интересно, что я почувствую в этот миг?» Но что это? Молодой человек проснулся, вскочил и сунул руку в карман. Молниеносный взмах руки, блеск лезвия, и Зигфрид Моргентойфель вдруг увидел на груди кровь, свою собственную кровь. А затем пустота, холод смерти — душа Моргентойфеля и нож Винченцо Лаганы совершили убийство.
Полиция, разумеется, верила лишь документам. Молодой человек по имени Винченцо Лагана, уроженец селения Корильяно Калабро, был арестован.
Наутро швейцарские газеты сообщили, что трагический эпизод — новое доказательство роста преступности, вызванной наплывом итальянских эмигрантов. Некоторые ультраправые организации предложили ввести смертную казнь, но для одних иностранцев.
Убийца знал, что он не Винченцо Лагана, а Зигфрид Моргентойфель, но и не подумал заявить об этом. Отчасти потому, что не сомневался — ему все равно не поверят, отчасти же потому, что был даже рад, что это убийство вновь привлекло внимание общественности к тяжким последствиям все возрастающей эмиграции итальянцев. Этих варваров, принесших ему столько бед...
Перевел с итальянского Л. Вершинин
(обратно)
Пять уроков заклинания

Честное слово, различить их мог только искушенный взгляд. Факиры все были одинаково одеты в широкие дхоти, одинаково усаты. Садились они все на одном и том же месте — в углу сада отеля «Кларке». В этой самой дорогой гостинице Бенареса селились богатые туристы, преимущественно американцы, приезжающие смотреть диковины священного города Индии. Факиры-заклинатели ловко раскладывали инвентарь и за десять рупий извлекали флейту, чтобы выманить из круглых плетеных корзин своих грозных питомцев. Тут были все — от королевской кобры, чей укус влечет почти мгновенную смерть, до удава, чьи объятия тоже гарантируют смертельный исход — разве что чуть позже.
Я стал самым прилежным зрителем факирского номера. Через два дня у меня завязались приятельские отношения почти со всеми заклинателями. Как большинство индийцев, они были очень внимательны к чужестранцам. Однако сразу же напрочь забывали английский, едва я переходил к обстоятельным вопросам, касающимся секретов их ремесла.
В ответ на мою тираду: «Я знаю, что флейта не играет никакой роли в заклинании, потому что змеи лишены слухового аппарата», — я получал лишь вежливую улыбку.
Тем не менее эта научная истина, почерпнутая из статей в популярных изданиях, отступала перед лицом фактов. Факты же были следующие: едва факир открывал корзину, оттуда стрелой вылетала кобра, чья раскрытая пасть не оставляла ни малейших сомнений по поводу ее намерений. И тут происходило чудо. Факир начинал играть на флейте, вернее, исторгать из нее тонкий пронзительный звук, качая при этом головой сверху вниз. Рептилия тут же успокаивалась и, не отрывая ледяного взора от инструмента, начинала покачиваться, причем именно в такт мелодии, которую она, по дружному мнению зоологов, была неспособна услышать.
Здесь крылся какой-то трюк. Но какой? Просмотрев с дюжину сеансов, я так и не смог его обнаружить. Пронзительный визг дудки и лукавые улыбки факиров начинали уже действовать мне на нервы.
Тогда я решил тоже прибегнуть к обычному журналистскому трюку.
— Я хотел бы научиться заклинать змей, — сказал я собравшимся факирам.
Мое предложение, похоже, озадачило их, и они довольно долго обсуждали его между собой на урду. Наконец старший из заклинателей, Рам Дасс, дал ответ:
— Мы возьмем тебя в учение. Но это будет стоить дорого.
— Сколько?
— Четыреста рупий.
Я бы кровно обидел их, если бы пренебрег традицией Востока и не начал бы торговаться. В результате получасовых дебатов было уговорено, что я пройду полный курс «змеезаклинательства» в пяти уроках по 25 рупий за урок. Рам Дасс самолично будет преподавать мне.
Внеся задаток, я счел возможным приступить к вводной части.
Кстати, она изрядно беспокоила меня.
— Вы удаляете у своих кобр ядовитые зубы?
— Нет. Все равно они очень быстро отрастают... Вот увидишь, сахиб, это вовсе не обязательно.
— А если она укусит меня?
— Боги этого не допустят. Но даже если это случится, у нас есть свои лекарства. Скорей всего ты не умрешь.
Я подумал, что ни одно страховое общество не дало бы и ломаного гроша за мою жизнь. Мне оставалось уповать на сыворотку Пастеровского института, но больше на собственное везение.
Первый мой урок начался назавтра в десять утра во дворе храма Сарнат. Рам Дасс явился в сопровождении двух ассистентов. Мы сели напротив друг друга. Факир приказал:
— Протяни мне руки ладонями кверху и ничего не бойся.
Я повиновался. Рам Дасс положил мне на ладони двух змеек светло-коричневого цвета, внимательно следя за моим лицом. Метр ожидал, наверное, что я инстинктивно отдерну руку. Я сдержался. Рам Дасс удовлетворенно кивнул.
— Это цветочные змейки, — важно сказал он. — Они не кусают. Разверни их и обмотай вокруг запястий.
Гады вели себя спокойно, словно были веревочками.
Учитель забрал их и положил мне на колени змею подлиннее и потолще.
— Двухголовая змея, — сказал он, продолжая наблюдать за мной.
Я постарался самым непринужденным образом вернуть ему назад питомца. То, что в Индии называют двухголовой змеей, не что иное, как развившийся родственник земляного червя. Тело его покрыто тонкими чешуйками, оба конца неотличимы на глаз. Это бесхвосто-безголовое существо самое безобидное из воспитанников Рам Дасса.
Округлым жестом циркового фокусника учитель извлек из корзины и сунул мне под нос следующую длинную тоненькую змейку ярко-изумрудного цвета. Та широко раскрыла пасть, дабы я мог убедиться, что все четыре ее загнутых зуба длиной не меньше двух сантиметров в целости и сохранности. Я узнал ее: это была банановая змейка, самая быстрая из рептилий. Когда она мелькает между ветвей, за ней невозможно проследить взглядом. К счастью, это ядовитое создание никогда (или очень редко) не кусает человека, ее агрессивность — простой рефлекс страха.
Факир удовлетворился демонстрацией, опустил змейку в корзину, тщательно прикрыл крышкой и достал из соседней плетенки трехметрового удава. На весах он потянул бы не меньше восьми кило. Как все змеи его вида — боа-констрикторы, анаконды и т. д., — питон в общем не агрессивен, особенно в период пищеварения (эти периоды иногда растягиваются до нескольких недель). Рам Дасс обвил питона вокруг моей шеи, и я тут же понял, что данный экземпляр уже очень давно работает на голодный желудок. Кольца змеи начали сжиматься — сначала медленно, постепенно, но потом все быстрее, быстрее. Лицо мое налилось кровью, в висках нещадно молотило, глаза должны были вот-вот выскочить из орбит. Чтобы взять себя в руки, я стал рассуждать: «Рам Дасс не может дать своему питону спокойно удавить меня... ведь ему придется за это отвечать... в уголовном порядке!» — хотелось кричать мне. Когда лицо мое стало лиловым (метр потом подтвердил это), заклинатель взял дудочку и заиграл хорошо мне знакомую мелодию.
Змея мгновенно разжала объятия, и я глотнул толику воздуха. Хотя «мгновенно» не совсем верное определение: кольца питона стали разжиматься за секунду до того, как флейта издала первый звук.
...Однако не будем предвосхищать событий.
Первый урок имел единственной целью приучить меня к прикосновению рептилий. Я не верю в теорию, гласящую, что животные «чувствуют» у человека страх. Думается, все проще: страх парализует человека, и тот становится добычей хищника. Чтобы победить врага, надо вначале побороть самого себя.
Я был непререкаемо убежден, что дрессировка змей и крокодилов невозможна. Действительно, вот уже сколько лет выступают на арене дрессировщики львов, тигров, пантер и белых медведей, но до сих пор еще не появился никто, кто бы заставил аллигатора сделать что-либо более содержательное, чем сожрать на глазах у публики дрессировщика. Ласка не имеет действия на пресмыкающихся, на змей в частности. И все же и к этим упрямцам подобрать ключи можно. Я в этом убедился следующим утром.
На сей раз я был просто зрителем. Рам Дасс опустил на газон корзину, прикрытую тряпкой. Затем развязал веревку, стягивающую горловину большого кожаного мешка, и вытряхнул оттуда великолепную кобру больше двух метров в длину. Та встрепенулась, распустила капюшон с явно видимым рисунком очков и кинулась на дрессировщика. Но тот был настороже и встретил ее во всеоружии.
Этим оружием, как уже догадался проницательный читатель, была флейта. Получив по зубам, кобра упала, но тут же вновь бросилась в нападение. Нет нужды говорить, что и оно закончилось для нее плачевно.
Раз за разом кобра выказывала свой злобный нрав, пока совсем не выбилась из сил и не обратилась в бегство. Не тут-то было! Рам Дасс вновь оказался у нее на пути, грозя своей музыкальной дубиной. Опасная игра длилась уже с четверть часа. Змея, получая при каждой попытке нападения жестокий удар, теряла драчливость и под конец, обессилев, юркнула в приготовленную для нее корзину. Укротитель закрыл ее плетеной крышкой и сел рядом.
Пот ручейками бороздил смуглое лицо Рам Дасса. Мы закурили, и факир, жадно затягиваясь, отвечал на мои вопросы. Да, он только что получил эту кобру — привез из леса один из обычных поставщиков. Как их ловят? С помощью расщепленной бамбуковой палки. А отыскивать их помогают прирученные мангусты. Сколько стоит змея? Кобры, например такой великолепный экземпляр, как эта, идут по двадцать рупий за штуку, питоны — по пяти рупий за ярд длины, гадюки — шесть рупий за дюжину. Что он делает с гадюками? Выпускает их на бой с мангустами: туристы, читавшие в детстве Киплинга и запомнившие бой Рикки-Тикки-Тави с кобриной четой Нагов, обожают это зрелище.
Взрослая мангуста дерется иногда по пять-шесть раз в день, если каждый раз отнимать у нее жертву: сытый зверек не станет нападать. А если змее удается укусить зверька? Рам Дасс поднимает глаза к небу: мангуста умирает. Вопреки распространенному мнению организм этого маленького легко приручаемого зверька не вырабатывает противоядия. Дерется ли мангуста с коброй? Рам Дасс цокает языком: если нет другого выхода. Кобра — очень серьезный противник, быстротой она вполне может соперничать со своим мохнатым врагом. За время, меньшее чем полсекунды, кобра успевает бросить тело в атаку, укусить, выпустить в рану солидную дозу яда и ретироваться. Как правило, мангусты не нападают на кобр, разве что сильный голод толкает их на этот безрассудный шаг. Или настойчивость туриста: за десять долларов, щедро предложенных американцем, факир готов пожертвовать коброй или мангустой, а то и обеими, ибо мангуста часто успевает прокусить кобре шею прежде, чем почувствует смертельное действие яда.
Мне удалось сделать довольно четкие фотографии боя мангусты с гадюкой при выдержке 1/600 секунды. Это максимум, который позволяла моя репортерская камера. Так вот, при бое мангусты с коброй все снимки у меня вышли расплывчатыми...
Однако вернемся к нашей кобре, сидящей взаперти в своей корзине в саду храма Сарнат. Мой учитель, придя немного в себя, заключил:
— Кобра, она очень быстрая, глазами за ней не уследишь. Надо еще иметь чувство. Да и поостеречься не мешает.
Он поднял свой дхоти, и я увидел, что ноги его обуты в толстые кожаные башмаки армейского образца, а лодыжки замотаны в толстые лоскутья одеяла, перевязанные веревочками. Потом он закатал правый рукав — от запястья вверх рука была обернута длинным куском кожи. Я вспомнил, что во время выступлений он часто прятал левую руку за спину, а единственно уязвимая ладонь правой руки была закрыта, как эфесом шпаги, широким раструбом «заклинательной флейты».
— Ты всегда так одеваешься? — спросил я.
— Нет. Только для первого урока. Гляди!
Он поднял крышку корзины. Кобра, должно быть, за это время тоже собралась с силами: ее мерзкая приплюснутая голова взвилась, будто подброшенная пружиной, и метнулась вперед. Получив мощный «музыкальный удар», она рухнула на тряпки.
— Вот что я скажу тебе, сахиб. Кобры так и не выучиваются, они просто боятся флейты. Поэтому, откидывая крышку, убедись, что змея успела рассмотреть твою флейту!
— А сколько надо учить змею, прежде чем она сможет выступать на публике?
— Долго... Есть кобры, которые быстро понимают, другие медленнее. Есть такие, что не хотят ничего есть в неволе. Их-то мы и пускаем драться с мангустами для американцев.
— Ну, а об этой ты что думаешь?
— Это хорошая кобра. Я ее помотаю как следует, а потом ты с ней сам будешь работать.
Час спустя я начал работать с моей первой коброй. Нельзя сказать, чтобы я был вундеркиндом. Да и кобра настолько ошалела от «науки», преподанной ей моим и ее воспитателем, что едва шевелилась...
Назавтра Рам Дасс сказал, что будет учить меня заставлять кобру танцевать под музыку. Он выдал мне дрессированную, «верную» змею.
— Как же я буду играть, если не умею? — спросил я.
— Делай вид. Ты ж не платил мне за обучение музыке, а только за уроки дрессировки... Вообще кобре все равно, хорошо ли ты играешь, сахиб. Тебе нужно просто двигаться вместе с флейтой в такт движениям кобры. Это ты следи за ней, а не она за тобой. Когда змея поднимет голову, ты поднимаешь флейту. Если она начнет покачиваться из стороны в сторону, следуй за ней. Только не отставай, иначе все заметят. Вот смотри...
Вновь открывается плетеная крышка. Кобра выскакивает и... замирает неподвижно. Рам Дасс тоже застыл с дудкой у рта, играя пока увертюру. Затем змея начала качаться, и голова музыканта с крохотным запозданием последовала за ее движениями.
Уже несколько веков в цирках Европы и Америки выезженные лошади танцуют под оркестр вальс. И мало кто из зрителей догадывается, что это оркестр приспосабливается к механическим движениям лошади, которая, увы, не отличается музыкальным слухом.
— Давай, теперь твоя очередь, — сказал Рам Дасс.
Он вытащил из своего бездонного мешка новенькую дудку и церемонно протянул ее мне. Я знал, что этот дар означает, что меня приняли в достославную гильдию заклинателей змей, и сердце мое наполнилось гордостью.
Волнуясь, я приподнял крышку, закрывая ею свою левую руку как щитом, а правой прижал к губам флейту. Напружинив щеки, я извлек из дудки жалкий писк, под который не стала бы плясать ни одна уважающая себя змея. Я поблагодарил провидение за то, что она создала их глухими.
Кобра скользнула на траву. Я ожидал, что она приподнимется и начнет качаться, однако все случилось не так. С поразительной быстротой она скользнула в мою сторону, через мгновение проникла в брючину и обвилась вокруг лодыжки. К счастью, я сидел скрестив ноги, поэтому она не смогла подняться выше.
Нельзя сказать, чтобы я был подготовлен к этому маневру. Да и учитель, судя по всему, обеспокоился не меньше моего.
— Сахиб! Сиди и не двигайся! — резко бросил он, шевеля усами.
Я вовсе не собирался шевелиться. Более того, мелькнула мысль, мне вообще больше не придется этого делать.
Рам Дасс присел рядом со мной, с великими предосторожностями, сантиметр за сантиметром, он закатал мою брючину и обнажил змею. Другой рукой он приблизил к ней флейту. Кобра раздула шею и послушно закачалась из стороны в сторону, как ей и полагалось поступать с самого начала — только не у меня на ноге! Белые очки и крохотные колючие глазки качались почти у самого моего носа.
На первый раз с меня было достаточно. Последующие уроки, правда, оказались более удачными, так что в конце курса обучения я смог даже выступить в саду отеля с двумя кобрами одновременно. Там меня и заснял кто-то из коллег-журналистов. Рам Дасс, у которого была идеально развита деловая сметка, обошел присутствовавших с тарелкой, а после выступления предложил мне разделить с ним «гонорар». Я отказался, поправ тем самым все законы профессионализма. Рам Дасс в знак признательности сказал, что научит меня заклинать скорпионов.
Однако я решил, что с меня хватит и змей. Пусть смежную профессию — заклинателей скорпионов — осваивают другие журналисты!
Андре Виллерс, французский журналист
Перевел с французского М. Мариков
(обратно)
Искусственная модель... кометы
Эту модель создали ученые ленинградского Физико-технического института АН СССР. Физические условия космоса — безвоздушное пространство, температуры, близкие к абсолютному нулю, — воспроизводятся в небольшой герметической камере. Солнечный свет заменяет мощная лампа, дающая полный солнечный спектр, лучи которой направляются внутрь камеры сквозь кварцевое окошко. Главная цель уникального эксперимента ленинградских исследователей — установить, как влияет на ядра комет солнечное тепло, когда эти космические странники близко подходят к светилу.
...Многолетние наблюдения астрономов позволили предположить, что ядра комет состоят в основном изо льда. Это предположение и было положено в основу эксперимента ленинградских ученых. В течение долгого времени в камере испытывались самые разнообразные модели ледяных ядер — от замерзшей воды до смеси различных «замороженных» газов. Эксперимент уже дал объяснение одного из самых неясных «кометных» явлений: почему, несмотря на то, что кометы проходят иногда в непосредственной близости от Солнца, действие его тепла на их ледяные ядра почти незаметно? Оказалось, что любой из видов льда в космосе превращается под действием солнца в пар, минуя «жидкую фазу», и при этом на поверхности ледяного ядра кометы образуется рыхлый, пористый тугоплавкий слой, который мешает быстрому проникновению солнечного тепла в глубь ядра. Кроме того, ядра комет «защищены» от быстрого разрушения солнечными лучами и возникающим вращением вокруг оси — это способствует более равномерному обогреву ядер. Причина явления — определенная реактивная тяга, вызываемая тем, что под действием давления солнечного света частицы кометного льда, превращенного в пар, стремительно отбрасываются в сторону от ядра. Как установили советские исследователи с помощью искусственной модели, температура ядра кометы даже в непосредственной близости от «солнца» не поднимается выше минус 80° С.
(обратно)
Самовар кипит, уходить не велит...
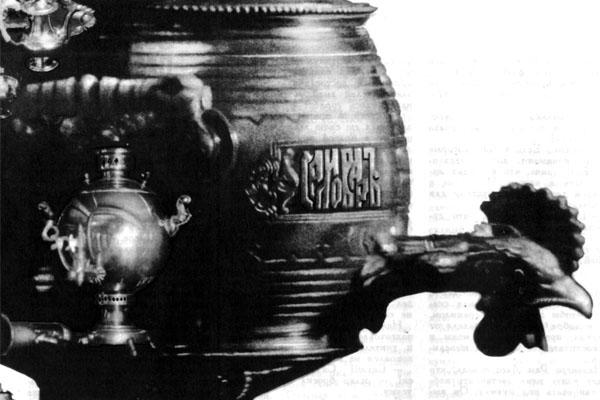
Самовары вымирали стремительно, как мамонты. В тридцатые годы кладбища этой ископаемой утвари быстро вздыбились на базах Вторцветмета и столь же быстро растаяли. Эпоха самоваров, казалось, кончилась... Старинный дом Никиты Романова в Зарядье. Закрывается тяжелая дверь — и ты в прошлом. Ендовы, берестяные ведра, изразцовые печи, золоченые голландской кожи обои. Если бы не глухой шум автомобилей и не массив гостиницы за слюдяными окнами, иллюзия была бы полной.
По узким лестницам почти корабельной крутизны попадаешь на последний, третий этаж. Здесь комнаты заполнены теплым блеском потускневшей меди. Вдоль стен в несколько ярусов стоят самовары. Каких тут только нет!

Говорят, достаточно беглого взгляда на привычное цветное пятно, чтобы возникло целостное ощущение знакомой картины. Нечто подобное происходит и с самоваром. Вспоминаете ли вы, бродя по выставке, свою деревенскую бабушку, у которой провели детство, остывающую печь и тоненький голосок самовара на лавке, воспроизводите ли в памяти знаменитое «Чаепитие в Мытищах» или кустодиевских купчих, посасывающих чай из расписного блюдца, — за всеми этими иногда совершенно личными воспоминаниями стоит одно ощущение — лучше всего оно передается словом неторопливость. Помните у Блока?
...Давай-ка наколем лучины,
Раздуем себе самовар!
За верность старинному чину!
За то, чтобы жить не спеша!
Авось и распарит кручину
Хлебнувшая чаю душа!
XIX век был последним не очень спешащим веком, и самовар воспринимается его детищем. Но появился он раньше, хоть и не так уж стар. Во второй половине XVIII века стали попивать из него чаек на Руси. А вот откуда самовар взялся, доподлинно неизвестно. Родословная его загадочна. Одни считают, что в петровские времена его вывезли откуда-то. Другие же полагают, что нечто подобное самовару было у наших предков чуть ли не в XVI веке. По городским посадам ходили с прибаутками бойкие сбитенщики. Свой фирменный напиток, одновременно горячий и горячительный, носили они в похожих на большие чайники сосудах. А чтобы он не остывал, внутрь чайников впаивалась труба для жарких углей. Таким был прасамовар, тоже представленный, кстати, на выставке.
Самовар. Очень русское название. Оно сродни сказочным скатерти-самобранке и ковру-самолету. Вошедшее в моду словечко-конкурент «авто» (синоним «само») гораздо холодней и официальней, хотя, возможно, и динамичней. Оно уж никак не годится, чтобы им называли основное украшение семейного чаепития.
Прошлый век — золотая пора самоваров. Они вошли тогда в каждый дом: в профессорские квартиры и крестьянские избы, в тесные каморки рабочих и буржуазные особняки. В Туле сложились целые династии «самоварных королей». Это Балашовы и Баташевы, Воронцовы и Ваныкины. Но не им обязан русский самовар своей славой.
Русские самоварники, в большинстве своем нам неизвестные, с помощью нехитрых инструментов — клещей да молотка — «наводили» на своих наковальнях («кобылинах») из спаянных листов меди сосуды удивительной красоты.
В Москве и на Урале, на тульских заводах и в суксунских мастерских безымянные умельцы превращали обычный предмет домашнего обихода в произведение искусства. Железные и медные, серебряные и позолоченные самовары приобретали самые диковинные формы. В них отражались разнообразнейшие вкусы. Пузатенькие и в рюмочку, кубиком и бочонком, в стиле барокко или ампир, маленькие дорожные с отъемными ножками и гиганты для купеческих чайных.
Всякий человек, умеющий ценить прекрасное, не может остаться равнодушным перед сверкающим телом самовара.
О нашем русском самоваре еще будут писать искусствоведы, как они пишут сейчас о тюменских дымниках и велико-устюжских сундуках, городецких прялках и изделиях Хохломы. Да и сам он вовсе не сошел с арены, как, скажем, его дальний родственник — паровоз, в котором тоже было что-то романтическое, какая-то особая выразительность. Судьба же героя этой статьи другая, и не только потому, что он перешел на электрическую тягу...
Уходя с выставки в Зарядье благодарный и растроганный, я вспомнил строки современного поэта:
...Я завидую:
Старый жестянщик был мастер.
Это радость —
Оставить на жести иль слове
Трепет пальцев своих.
Или мысли о счастье,
Или красную капельку крови.
Р. Щербаков, Фотокомпозиция Г. Комарова
(обратно)
Кальяуайха-врачеватели

Ла-Пас — удивительный город: куда ни пойдешь, все в гору. Чем беднее квартал, тем он выше. Внизу, в Баррио-Бахо, говорят по-испански — тут министерства, красивые дома, отличные магазины. Во всех бесчисленных Барриос-Альтос (то есть «Верхних кварталах») говорят на языках кечуа и аймара, здесь живут индейцы и метисы-чолос. В самом далеком конце (или, лучше сказать, на самом верху) квартала Баррио-Альто-дель-Ориенте стоит церковь св. Франциска. Церковь окружена такими узкими кривыми улицами, что нечего и думать о том, чтобы добраться сюда на автомобиле, и знатным господам из Нижнего города приходится, задыхаясь, подниматься пешком. Но хоть и трудно добраться сюда, здесь всегда много людей: оборванные, больные туберкулезом индейцы, босые индианки с трахомными детьми на руках, метисы-чолос, у которых перевязаны грязными тряпками то рука, то нога, — словом, те, у кого нет денег на врача; а также богатые дамы и сеньоры, которым не в силах помочь доктора; томимые неразделенной любовью юнцы, жены, ревнующие мужей, и все прочие, нуждающиеся в самой разнообразной помощи, — все они приходят сюда, к индейским знахарям из племени кальяуайха.
Само слово «кальяуайха» значит «обладающие лекарством». Под этим именем они были известны еще в гигантской империи инков и до сих пор известны по всей Южной Америке — от Колумбии до Аргентины. Их знают и крестьяне-горцы на Альтиплано, и племена сельвы.
Из своих деревень в боливийской провинции Баутиста Сааведра, что на северо-востоке от озера Титикака, они уходят в странствия на год, а то и больше, закинув за спину пестрые домотканые сумки с лекарствами. В Ла-Пасе они постоянно останавливаются в квартале у церкви св. Франциска. Тут же и их лавки.
Перед домами на открытых прилавках разложены в коробочках сушеные травы всех цветов, куски камеди, разноцветная глина, баночки, горшочки, бутылочки, запечатанные смолой. Продавцы сидят молча. Если тебе что-то нужно, сам придешь и расскажешь, в чем дело. Что у тебя? Ревматизм? Вот пучок сухих трав, размочишь в вине и приложишь к пояснице. Не везет в любви? Вот талисман — держащиеся за руки фигурки из белого камня. Разбогатеть хочешь? Возьми десять глиняных овечек, поставь за образ Святой Девы Гваделупской — и будет у тебя большое стадо.
Вряд ли разбогатеет бедняк, купивший глиняное стадо, зато от многих болезней у кальяуайха действительно есть лекарства, целебные свойства которых проверены поколениями. Поколениями больных, прибегавших к помощи знахарей, и поколениями кальяуайха, изучавших лекарственные травы и снадобья и передававших их секреты от отца к сыну.
Интересная деталь — для врачевания кальяуайха пользуются только травами, собранными у себя на родине. Тот же цветок, тот же корень, та же трава, но растущие в других местах, считают они, не годятся для лечения.
Кальяуайха одинаково хорошо говорят и на кечуа, и на аймара, и по-испански. К тому же есть еще и язык, на котором они переговариваются между собой, — он не похож ни на один другой. Но язык ли это в полном значении слова? Ведь владеют им только мужчины, с женщинами они говорят на кечуа или на аймара.
Тайный язык кальяуайха не удалось пока никому исследовать — индейцы берегут его от посторонних. Можно предположить, что этот язык не более чем профессиональное арго, которое возникает у людей, принадлежащих к замкнутой касте и объединенных общим интересом. С другой стороны, может быть, они говорят на языке инков?
Известно, что инки распространяли среди покоренных народов язык кечуа, но между собой говорили на другом языке, погибшем вместе с ними. А в легендах кальяуайха утверждается, что их предки — колдуны и лекари, — никогда не поднимаясь до уровня инков-властителей, сопутствовали им во всех их походах и знали их язык. Исследование языка племени бродячих врачей могло бы пролить свет на происхождение инков.
Кальяуайха рассказывают, что их предки были врачами при дворе великих инков. Более того, никто. кроме кальяуайха, не смел заниматься медициной в строго регламентированном государстве инков. В этом же убеждены и другие индейцы, живущие на территории уничтоженной испанцами империи Тиуатинсуйю.
Действительно, знахари-кальяуайха умеют, как и древние инкские врачи, искусно делать трепанацию черепа и сращивать сломанные кости. Умеют они и определять пол ребенка еще во чреве матери. Как это им удается? Эти тайны упорные кальяуайха блюдут так же строго, как тайну своего языка.
Почему кальяуайха стали врачами? Сами кальяуайха любят в этой связи рассказывать такую легенду.
Когда Солнце и Луна еще вместе выходили на небо, животные властвовали над людьми. Верховным владыкой был Лис, а своим помощником он назначил человека-кальяуайха. Тот усердно трудился, был прилежен и искусен. Без помощи индейца Лис не мог ничего делать.
Людям не нравилось, что ими правят звери. Они пришли к кальяуайха за советом и помощью. Кальяуайха обещал помочь людям. Он перестал выполнять приказы Лиса, и вскоре все государство пришло в упадок. Обеспокоенные звери-сановники Орел, Свинья и Собака устроили тайное собрание и пригласили на него кальяуайха.
— Друзья, — сказал кальяуайха, — наш добрый правитель Лис уже стар. Он даже цыплят есть не в силах, не то что государством управлять. Лучше было бы, если б он уступил трон кому-нибудь из своих сыновей.
Сыновья Лиса были слишком малы, чтобы взять на себя бремя власти, и, кроме того, каждый из зверей сам метил на трон. Звери начали совещаться. Орел и Свинья устроили заговор против Собаки, Свинья же договорилась с Собакой против Орла. Когда, запутавшись, они пришли за советом к кальяуайха, тот дал им такие советы, что они окончательно рассорились и в результате стали просить кальяуайха стать правителем. Индеец собрал остальных людей и говорит:
— Я добыл для вас власть, как вы меня просили. Вы довольны?
Люди поклонились ему и говорят:
— Ты хитрее лисы. Будь нашим правителем.
— Ну уж нет, — ухмыльнулся кальяуайха. — Правьте собой сами...
Так и не стал правителем. Зато стал врачом...
Привилегированное положение кальяуайха удалось сохранить и при испанцах. Они в некоторых областях знали много больше, чем европейские врачи, и испанцы быстро оценили их искусство. (Самого вице-короля Перу врачевал кальяуайха Серхио Уанай!) Потому кальяуайха не стали крепостными, как кечуа и аймара.
...Летом собираются со всех концов Южной Америки странствующие лекари в родные места — набрать трав, изготовить амулеты, рассказать друг другу о местах, где побывали, и решить, куда идти на следующий год. Кальяуайха освоили многое из европейской медицины, и летом в их деревнях открываются «курсы», где побывавшие в больших городах учат своих соплеменников пользоваться градусниками и приборами для измерения кровяного давления.
А когда наступает осень, из деревни кальяуайха уходят мужчины в красных пончо, коротких домотканых штанах и шерстяных шапках. Через плечо — маленькая сумка для листьев кока, помогающих переносить голод и усталость, а на спине большая пестрая котомка с лекарствами.
К губам прижата тростниковая дудочка с шестью отверстиями. Индеец играет на ходу, а музыка помогает не замечать длинной дороги не хуже, чем листья кока.
Путь одних лежит в города, других — в горы, а третьих — в сельву, в те места, где жива слава искусных лекарей племени кальяуайха.
Л. Минц
(обратно)
Просто я работаю инспектором...
Мистер Винсент Патерсон из Нью-Йорка спас жизнь пяти тысячам кошек, зачастую рискуя собственной жизнью. Он вытаскивал их из труб городской канализации, карабкался по карнизам небоскребов, вбегал в горящие дома и последним выбегал из домов, подлежащих сносу. Только не подумайте, что м-р Патерсон занимается этим из бескорыстной любви к животным. М-р Патерсон — инспектор по несчастным случаям с кошками при «Союзе защиты животных».
Если человечеству вздумается произвести инвентаризацию профессий, то шансы быть лично упомянутым в качестве единственного представителя того или иного занятия есть не только у м-ра Патерсона.
Взять, к примеру, Сирила В. Смита. Он дегустирует конфеты фирмы «Меркурий». Причем не все конфеты подряд, а лишь одного традиционного для фирмы сорта, особо нравящиеся покупателям.
Еще необычней ремесло Норберта Чини, «мылоеда» из города Сент-Пол в штате Миннесота. Он жует мыло, чтобы определить наличие в нем необходимого щелочного привкуса.
Лондонские городские станции очистки воды держат на службе Дельтона Сторджеса. Он пробует воду на вкус шестьдесят раз на день. С его профессиональной точки зрения, вкус этот делится на семнадцать основных групп: «земляной», «горчичный», «огуречный», «тухлый капустный», «тухлый сырный» и т. д. Профессией Сторджес доволен, хуже у него складывается личная жизнь. «Не с кем даже чаю попить», — жалуется он на свое одиночество.
А сыр обеспечил работу и сносную жизнь целому семейству. Все Шоонхетены от мала до велика славятся в голландском городке Эдам, родине эдамского сыра, как высококвалифицированные «слушатели сыра». Еще прапрадед Шоонхетенов стучал по сыру, стучат по нему и праправнуки, успешно определяя на звук его зрелость и качество. Правда, Шоонхетены не единственные в своем деле. Они просто искусники.
Американка Мадлен Ли представляет иную ветвь немассовых профессий. Мадлен специализируется на писко- и крикоподражании. В самом деле, хлопотно разыскивать младенца каждый раз, когда по ходу радиопьесы требуется довольное чмоканье или отчаянный рев. Чмокает и ревет за всех Мадлен. Если же ей показать погремушку, она разражается такими воплями восторга, что позавидовал бы любой младенец.
У Хельги Нюстрём из Стокгольма обязанности совсем другие, далекие от искусства. Хельга Нюстрём лает, подражая собакам двадцати различных пород. Лает во имя закона на улице перед домами, где, как она подозревает, живут сокрытые от финансовых органов и налогов собаки. Если звучит ответ, фру Нюстрём записывает адрес и передает его своему начальству в налоговой инспекции.
Когда инспектор Патерсон отмечал десятилетний юбилей своей благородной деятельности, руководство «Союза защиты животных» преподнесло ему чудесную ангорскую кошку,
— Что вы, что вы, — воскликнул инспектор, — да у меня теперь ни минуты покоя не будет! Вы себе и представить не можете, сколько несчастий может случиться с кошкой!..
Н. Савинков
(обратно)
Оглавление
По женевским адресам Ленина
Выхожу на цель...
Мыслию поля мерит…
Соборов каменные струны
Людоеды из Рамгара
Как находит дорогу летучая мышь?
Четверо и полюс
Люди «второго сорта»
Великая спираль жизни
Атака с ходу
Скульпторы моря
Облака сверху и снизу
«Жду стою»
Рэй Бредбери. Я никогда вас не увижу
Серджо Туроне. Украденная душа
Пять уроков заклинания
Искусственная модель... кометы
Самовар кипит, уходить не велит...
Кальяуайха-врачеватели
Просто я работаю инспектором...
Последние комментарии
8 часов 6 минут назад
8 часов 20 минут назад
9 часов 28 минут назад
20 часов 46 минут назад
21 часов 3 минут назад
21 часов 28 минут назад