Повести и рассказы [Яков Петрович Бутков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Я. П. Бутков
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЯКОВ БУТКОВ, ЕГО ГЕРОИ И СЮЖЕТЫ
I
В один из осенних петербургских дней 1845 года на книжных прилавках появилась книга в скромной серой обложке: «Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым». Ни название, странное и непонятное, ни имя автора ничего не говорили читателю. Но острота сюжетов, юмор, живость повествования привлекли внимание критики, которая вскоре почти единодушно приветствовала рождение нового таланта. Впрочем, в литературных кругах было и раньше известно, что Бутков — писатель-самоучка, выходец из мещан Саратовской губернии, что он с большими трудностями, порою пешком, перебрался в Петербург, что он влачил полунищую жизнь, снимая где-то угол или мансарду. Дарование Буткова было замечено А. Краевским, и он взял молодого писателя на работу в свои «Отечественные записки». Для Буткова это было бы спасением, если бы «благодетель», опытный и энергичный журналист, но редкостный скряга, не выжимал из него все соки. «Кр<аевский> оказал ему (Буткову. — Б. М.) важную услугу, — иронически писал Белинский В. П. Боткину в ноябре 1847 года, — на деньги Общества посетителей бедных он выкупил его от мещанского общества и тем избавил от рекрутства. Таким образом, помогши ему чужими деньгами, он решился заставить его расплатиться с собою с лихвою, завалил его работою, — и бедняк уже не раз приходил к Некр<асову> жаловаться на желтого паука, высасывающего из него кровь»[1]. Мы мало знаем о Буткове и лишь по отдельным деталям немногочисленных воспоминаний современников можем восстановить черты его биографии. Несмотря на розыски в архивах, до сих пор не удалось установить год его рождения. А. Милюков так рисует внешний облик Буткова: «В первый раз я встретил Буткова в редакции „Отечественных записок“. Это было утром. В кабинете издателя застал я человек пять или шесть сотрудников журнала, у которых шел довольно живой разговор об итальянской опере. В стороне от других, не принимая никакого участия в суждениях и спорах, молча и как-то неловко сидел молодой человек, в поношенном черном сюртуке, застегнутом доверху на порыжевшие пуговицы, в сапогах, к которым, очевидно, несколько недель не прикасалась щетка. Большая голова, с резко выдающимися скулами, неправильными чертами лица и под гребенку остриженными волосами, с первого взгляда производила впечатление не совсем приятное, но оно скоро изглаживалось при виде кротких, умных глаз и красивого очертания рта, как будто ежеминутно готового улыбнуться»[2]. Из рассказов другого современника, С. Д. Яновского[3], известно, что Бутков, несмотря на свою исключительную замкнутость, сблизился с Достоевским, бывал в кругу литераторов, связанных с движением петрашевцев. Но судить о его взглядах, позициях мы можем только по его творчеству, — иных источников не осталось. Позиции эти раскрываются прежде всего в предисловии к первой части сборника — «Назидательном слове о Петербургских вершинах» (вторая часть вышла в 1846 г.). Предисловие носит особый характер: полное иносказаний, оно является не только ключом к пониманию сюжетов и героев книги, не только проясняет место автора в литературной борьбе, но и служит своеобразной творческой декларацией направления, к которому Бутков примыкал. Писатель протестует против того, что Петербургом слывет только «численная незначительность блаженной частицы» населения, просторно, удобно, комфортабельно проживающая в средних этажах, «как будто прочее полумиллионное население, родившееся в его подвалах, на его чердаках, дышащее одним болотным воздухом, лечащееся болотными испарениями, не значит ничего, даже вовсе не существует!» Резко возражает Бутков против того, что книги пишутся не для обитателей чердаков — «небесной линии», «петербургских вершин», а для «срединной линии», где роскошествует «блаженная частица человечества, собственно именуемая Петербургом». Бутков тем самым адресовался к читателям демократического Петербурга, обитателям «подоблачного пространства», охваченного душными или холодными комнатными клетками, и их братьям — жителям подвалов. Два различных мира с непримиримыми страстями выступают в книге Буткова: с одной стороны — чердаки, подвалы «приболотная и чисто болотная линии», битком набитые «разным народом, составляющим особое петербургское человечество», а с другой — линия «срединная», с ее исключительностью и властью над другими. Таким образом, социальная структура столицы воспроизводится здесь в виде вертикального разреза домов. Прямым выпадом против антидемократической реакционной критики было противопоставление двух видов литературы: «Если в книгах описываются люди и действия людей, то люди непременно, „под великим штрафом“, должны принадлежать к срединной линии и действия совершаться в срединной линии, иначе книга будет бестолкова, грязна и сочинитель книги — мужик, не знающий света и галантерейного обхождения». Подчеркнутые слова заставляли вспомнить другую декларацию, защищавшую право писателя изображать народную жизнь, — предисловие Гоголя к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», где рассказчик противопоставлял свои позиции, манеру, стиль — «панской», барской литературе и ее защитникам, восклицавшим: «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!» Предисловие Буткова было полемически направлено, в частности, против Булгарина, поносившего демократическую литературу за изображение жизни социальных низов, за пристрастие к «грязи» (как он именовал повседневный быт народа). Для Буткова герои — те, кто составляет «не общество, а толпу». Но он подчеркивает, что это не безликая, бесцветная, лишенная разума масса, как ее представляют люди «срединной линии», аристократы и богачи. На самом деле она «самобытная, не бесстрастная, не бессмысленная»… В этой толпе есть люди, думы которых ограничены суровой прозой, у которых «скорби и радости определяются таксой на говядину», а мечты «летают по дровяным дворам», — но есть и люди, которые возвышаются своими стремлениями над Петербургом знатных особ. Там же на чердаках, «иногда пронзительною молниею блещет мысль, которая, будучи выражена не нашим словом, низведена долу, в среду общества, обитающего ближе к земле, сочувствующего земным интересам, быть может, благотворно действовала бы на самое общество; но здесь ей суждено коснеть и исчезать в том же мраке». Иначе говоря, именно в социальных низах таятся идеи, зреющие подспудно, яркие, но придавленные. И в заключение Бутков тонко разъясняет трудности правдивого изображения жизни обитателей «петербургских вершин». Если мысль, выражающая интересы «толпы», изредка и проскользнет в литературном произведении, то «не иначе, как преследуемою контрабандою, облеченная в странные образы, и в этих образах, то фантастических, невероятных, то скучных от частого появления, она недоступна не только равнодушному читателю, который, не разумея особых обстоятельств, требует от книги мысли и ясности мысли, но и строгому судии, торопливо пробегающему книгу по обязанности отыскать в ней бессмыслицу, и даже тому, кто с постоянным вниманием наблюдает, чтобы в ней не было ничего, кроме бессмыслицы!» Этим иносказанием Бутков стремился пояснить читателю, что из-за политических («особых») обстоятельств он не может воплотить свой замысел с той ясностью и отчетливостью, как хотел бы, и вынужден прибегать к приемам, помогающим протаскивать «контрабанду». Многозначительные намеки, иносказания, которыми пестрит «Назидательное слово…», раскрывают всю структуру книги. Своеобразная социология этажей пронизывает все рассказы и определяет одновременно их идейное содержание и художественно-композиционную функцию. Передвижение вниз и вверх по общественной лестнице, обнищание и гибель одних и преуспевание других, эта динамика не только Петербурга, но и всей империи, преломляется почти во всех сюжетных построениях. В предисловии сам автор раскрывает свой композиционный замысел: «Сошествие верхнего (т. е. живущего на чердаке. — Б. М.) человека долу бывает по двум главным причинам: он или разбогатеет и занимает бельэтаж, наполняя его своею атмосферою, в которой движется прежним порядком, пока постепенно влияние иной атмосферы, атмосферы бельэтажных туземцев, не привлечет его в свою орбиту, или, предавшись какой-нибудь положительной индюстрии, как-то: сочинению проектов для радикального преобразования Вселенной, или просто сочинению доносов и ябед, или, простее — раздаче скопленного беспорочною службою капитальца, по частям, в верные руки, под благонадежный, несгораемый залог, за десять процентов в месяц, переходит в среду людей низовых, промышленных, которым он наиболее может быть полезен, и поселяется в нижнем этаже или в подвале. …Восхождение низового человека на Петербургские вершины, как и всякое восхождение, несравненно затруднительнее сошествия оттуда в Низовые». Но «этажный» мотив не стал у Буткова однообразной схемой, он помогает сложному раскрытию мироощущения героев и многообразных связей разных сословий. В рассказе «Порядочный человек» эволюция Чубукевича, — этой «ходячей машины для письма», после того, как он сумел выехать к «благам мира» «верхом на чужой спине», ставит его в новые отношения с «третьими и четвертыми этажами адмиралтейских частей»… Для читателя, понимающего структурное значение «этажного» мотива, облик героя становится сразу же ясным, как только он узнает, например, что в рассказе «Первое число» два чиновника «жили пополам в одном из тех превыспренных помещений, которые устраиваются между карнизом и крышею пятиэтажных домов, в равном расстоянии от земли и луны». Угадывая связь «этажности» с людскими судьбами, начинает видеть петербургские контрасты даже тупой провинциальный недоросль Терентий Якимович, приехавший в Петербург в поисках «хорошего места» («Хорошее место»). «Взлеты» и «падения», капризы судьбы, меняющие положение человека, изображаются с помощью того же сюжетного мотива. «Русая головка», работавшая в швейной мастерской и соблазненная воинственным уланом, становится его содержанкой и переезжает в дорогую квартиру на втором этаже, а затем, брошенная им, меняет ее на третий, и дальше, оставленная очередным «благодетелем», в конце концов достигает «петербургских вершин». Тонкими штрихами иллюстрирует Бутков переживания и настроения жителей чердачных каморок и подвалов, различия между теми и другими. Обитатели «вершин» — в большинстве мечтатели, среди них есть и поэты. Психика «вершинных» людей болезненна, она искалечена годами нужды, унижений. Герой рассказа «Ленточка» — Иван Анисимович, избегает высоких домов, темных и крутых лестниц по особой причине: «Когда он смотрел вниз из окна четвертого этажа, или с лестницы, образующей своими изгибами род глубокого колодца, ему приходило в голову, что, прянувши с этой высоты, можно разбиться вдребезги», приходило в голову «ужасное побуждение» самоубийства. Точный читательский адрес, который подчеркнут в «Назидательном слове…», чувствуется на протяжении всей книги. Он сказался на манере повествования, стилистике и интонационном строе. В рассказе звучит интонация доверительной, дружеской беседы, основанной на общем в своем кругу понимании фактов, имеющих особый смысл лишь для тех, кто сам испил до дна чашу нужды, горя, вынужденной копеечной экономии. В самом деле, может ли затронуть читателя комфортабельной «срединной линии» сложное переплетение переживаний «маленького человека», — смиренности и протеста, постоянного противоречия между грубой «существенностью», сознанием полной невозможности изменить свое положение («так повелось») и мечтами, презрением к высокомерным «бельэтажным туземцам» и стремлением все-гаки стать поближе к ним? Могут ли интересовать читателя иных кругов радостные переживания «первого числа», дня, когда «маленький человек» может позволить себе сытный обед и когда огарок, освещающий покрытые мокрыми зелеными пятнами стены, может быть заменен «„цельной“ свечой»? При всем этом Бутков в равной мере чужд и бесстрастности описаний, и сентиментальным жалобам. Благодаря особому сплаву драматизма и иронии, повествование о повседневных житейских нуждах «маленького человека» не погружается в тину чердачного и подвального быта: «смех сквозь слезы», звучащий в «Петербургских вершинах» и других произведениях Буткова, наводит на мысли серьезные и глубокие, вызывает размышления о нетерпимости всего жизненного уклада, о бесчеловечности мира, о силе обстоятельств, из-за которых одни люди навеки прикреплены к «небесной» или «болотной» линиям, а другие, уступающие им по уму, чуждые каким бы то ни было светлым порывам, считаются единственно достойными, олицетворяющими «весь Петербург». Свойственная Буткову как рассказчику манера общения с своим читателем, интонационная доверительность повествования обусловили не только возможность использования выражений, понятных только в своем кругу (например: «жить пополам», то есть делить нищую каморку или скудную еду; «лишние вещи», — те, что сегодня приходится нести ростовщику и выдавать из самолюбия «за ненужные»), но и переосмысление обиходных понятий, часто приобретающих противоположное значение. «Почтенный человек», «порядочный человек», «хорошее место», «благоразумные способы», «необходимые люди», «доброхотные дарители» — все эти словечки имеют здесь необычный, иной смысл, они характеризуют мир лжи, лицемерия, где черное выдается за белое, где благонамеренная фраза прикрывает преступления и жестокость. Эта своеобразная семантика характерна для целого литературного направления, к которому Бутков принадлежал. Вспомним у Гоголя, например, «Театральный разъезд», где некий «ядовитого свойства господин» говорил: «…нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью сниманье ему шляпы на улице; другой называет нравственностью смотрение сквозь пальцы на то, как он ворует; третий называет нравственностью услуги, оказываемые его любовнице… Тут если и явится у кого-нибудь в три года два дома, так ведь это отчего? Все от честности…» В таком срывании масок, разоблачении подлинной сущности происходящего сказался способ изображения действительности, основанный на «анатомическом», аналитическом подходе.II
Когда Бутков писал свои рассказы и повести, в русской литературе тема «маленького человека», мелкого чиновника была уже достаточно популярной. Оригинальность ее трактовки Бутковым выражена в том, что она противостоит не только сентиментально-филантропическому освещению облика этого героя, но и его идеализации. В искреннем и сердечном сочувствии Буткова обездоленному люду не может быть, конечно, никаких сомнений, но он показывает, что условия, в которые «маленький человек» поставлен общественным строем, сплошь и рядом убивает в нем все человеческое, даже растлевает его морально. Ведь и Белинский, с присущей ему трезвостью, утверждал, что беспросветная, бесконечная нищета вовсе не способствует чистоте нравов, что нищета морально разлагает человеческую натуру. «Мертвящее неверие в счастье», «канцелярский взгляд на жизнь», — этими определениями Бутков не только выразил свое сочувствие обездоленным героям, но и критиковал их, хотя и понимал, что виновен в этой приниженности, в том, что внутренний мир его героев убог, социальный уклад. В рассказах и повестях Буткова мы встречаем несколько характерных и разнообразных типов «маленького человека». Один из них страдалец, униженный и оскорбленный, самолюбивый и вместе с тем мучительно ощущающий свое «ничтожество», но не склонный к протесту. В рассказе «Ленточка» Иван Анисимович противостоит людям «рассуждающим», ему уже наступал двадцать седьмой год, а он все еще пребывал в скромном звании «чиновника для письма» второго разряда, десять лет сряду просидел на одном жалованье, на одном стуле и даже не вникал в смысл бумаг, которые переписывал. Прибегая к гротеску, Бутков показывает, что именно эта способность «не рассуждать» послужила ему для повышения в должности. Министр взял его к себе в секретари, потому что ему нужен был человек, не понимающий смысла переписываемых бумаг. Гротескными средствами показаны и его своеобразная любовь к музыке — к старому ящику, гордо именуемому фортепьяно («каждый раз, по возвращении из департамента, Иван Анисимович… ударял по клавишам… сначала одной, потом обеими руками…»), и бедность, даже пошлость его фантазии: полюбившаяся ему девушка сравнивается с звездочкой в небесах или со «свежим, душистым бисквитом» на земле… Иван Анисимович не размышлял о своем положении, бессознательно считая его обычным и нормальным. Но, как показывает Бутков, существовали и другие люди этого же круга, которые, так сказать, сознательно возводили в норму свою униженность и нищету, воспринимая и то и другое как нечто «в порядке вещей». Бутков говорит в рассказе «Партикулярная пара»: «…в том же Петербурге существует множество людей, для которых счастие, как оно и есть — мечта, призрак, которые стараются жить и живут как-нибудь, волнуемые копеечными выигрышами и проигрышами в преферансе, возвышением цен на дрова и съестные припасы, люди, которые постоянно, более или менее, довольны собою и своими обстоятельствами, считают глупостию стремление к отвлеченным благам и, постоянно гнетомые суровыми потребностями жизни, твердо верят, что свет идет весьма удовлетворительно, и хотя им очень желательно бы иметь квартиру и обстоятельства получше, однако, по соображению других квартир и других обстоятельств, видят, что они живут, по милости божией, весьма хорошо!» В рассказах Буткова анализируются и причины, рождающие подобное мироощущение. С наибольшей убедительностью они раскрыты в рассказе «Партикулярная пара». Петр Иванович Шляпкин, подобно ряду других персонажей «Петербургских вершин», человек нищий и униженный, но уверивший себя в том, что он счастлив, «потому что одни умные люди умеют ладить с жизнью… он никогда не жаловался своим коммерческим приятелям на бедность, не высказывал перед ними пошлого желания денег»… Не обижался он и на бесцеремонное обращение с ним конторщиков, «и если иная выходка была точно смешна, то он хохотал со всем простодушием человека, чувствующего себя счастливым, довольного собою и своей судьбою». В трактовке этого героя Бутковым сочувствие ему совмещается с беспощадно сатирическим изображением ограниченности, бедности его кругозора. Даже характеризуя порывы Петра Ивановича к интересам, как-то подымающимся над пошлой посредственностью, Бутков прибегает к иронии: в театре герою «в особенности нравились трагедии, в которых отравляются или зарезываются все действующие лица». Раскрывая причины «смиренности» героя, его удовлетворенности своим жизненным положением, Бутков ставит его в ситуацию, заставляющую по-новому взглянуть на мир и на себя. Петр Иванович знакомится с семьей богатого негоцианта. Он не смеет себе признаться в том, что полюбил дочь его, Марию Карловну, которая кажется ему представительницей высшего общества. Однако он не может принять ни одного приглашения на обед или на вечер потому, что у него есть лишь ветхий вицмундир, но нет партикулярной пары. Партикулярная пара, возможность или невозможность ее приобрести становятся для него критерием новой оценки своей судьбы: «Теперь я понимаю, как горько ошибся, считая себя счастливым». Так происходит крушение самоуспокоенности героя. Теперь его не узнать: «Он был бледен, растрепан, даже в невычищенном вицмундире, что служило товарищам его очевиднейшим доказательством несчастья, а между тем не было до того времени ни одного случая, по поводу которого он назвал бы себя, подобно другим, несчастным, и вдруг ясно, что этот благоразумный, мудрый Петр Иванович несчастен, как и другие. Он не говорил об этом, но мутные глаза и страдальческий вид его выражали глубочайшее, нестерпимейшее ощущение несчастья». Кульминацией здесь является эпизод, когда ему, не имеющему «партикулярной пары», остается лишь вместе с другими бедняками смотреть с улицы на ярко освещенный дом, где на балу танцевала Мария Карловна. Он трагически восклицает: «Богатый человек может иметь каждый день новую партикулярную пару и новое счастье». В отчаянии он готов броситься в Мойку, такую же грязную и мутную, «как жизнь обитателей петербургских вершин», и лишь случайная встреча с семьей еще более убогого шарманщика меняет его решение. Поразмыслив на темы о том, что все в мире относительно, он думает: «Как мало нужно человеку для счастья!» Однако эта философия «маленького счастья», философия обездоленных и нищих духом, глубоко чужда Буткову: именно потому сочувствие к герою совмещается с иронией и даже сатирой. Другой тип «маленького человека» в творчестве Буткова — тип мелкого чиновника, который, страдая, перерождается и обретает благополучную жизнь, не гнушаясь никакими средствами. Таков Чубукевич в рассказе «Порядочный человек». И этот герой — мелкий чиновник, коллежский регистратор, и он был смирным и терпеливым: не было насмешки, которую бы он молчаливо не снес. Но в нем дремали скрытые потенции, которые от какого-либо сильного толчка могли бы обнаружить, как говорит иронически Бутков, «ум обширный, опытность изумительную». Таким толчком оказался крупный выигрыш в карты. Он понял, что разум и дарование заключаются в рублях, в решил: «Теперь у меня есть все: и способности, и чувства, и душа». Он почувствовал себя «порядочным человеком» в том смысле, в каком это понимали окружавшие его лживые, лицемерные люди. «Самодовольствие и самонадеянность проникли в душу, дотоле доступную одному унынию, цепеневшую под ледяным гнетом насущных нужд, насмешек товарищей, пренебрежения старших». Теперь он со злорадством думал о тех, кто не признавал в нем ни способности, ни чувства, ни души, не позволял ему иметь своего суждения только потому, что он живет на чердаке и ходит в изношенном платье с Толкучего рынка. Чубукевич не только сделался героем для всей канцелярии: перед ним стали заискивать люди, к которым он раньше боялся даже приблизиться. Прежде обиженный всеми, он теперь сам стал обидчиком: «ловкий и хитрый, он незаметно пытал и изучал сердце, бумажник, понятие и страстишки всякого, кто попадал в его орбиту»; стал человеком «солидным»: «все, кто даже и не знает его лично, взглянув на четырехэтажный дом его, на его карету нового фасона, говорят: „Сейчас видно, что очень хороший, очень порядочный человек этот Чубукевич!..“» Тип переродившегося «маленького человека» варьируется в различных рассказах Буткова. В рассказе «Хорошее место» повествуется о захудалом дворянчике, приехавшем в Петербург за «счастьем». С большим юмором и многими живыми подробностями автор рассказывает о той борьбе, которая велась в Петербурге среди искателей «хорошего места». В итоге Терентий Якимович обрел искомое «хорошее место», — оно оказалось супружеской спальней: он толкает жену на сожительство «с важным человеком» и отныне становится «обеспеченным». С едким сарказмом рассказывается о том, как Терентий Якимович уже видел себя в будущности совершенно похожим на любого наилучше откормленного на Волге российского степного помещика. Уничтожающая характеристика этого «героя» вырисовывается в сценке, когда он приветливо встречает своего «милостивца» — любовника жены. Антигуманистическая идея завоевания собственного благополучия любыми способами вызывает осуждение Буткова даже в тех случаях, когда тот или иной герой не совершает ничего, что шло бы во вред другому человеку. Коллежский секретарь Евсей Евтеевич вел полуголодное существование, чтобы скопить двухгодовое жалованье и затем «жениться на благородной девице с хорошим приданым, или на благонравной вдове из купеческого звания, с опекаемыми детками и домами» (рассказ «Первое число»). Эта цель, ради которой он пошел на нестерпимые нечеловеческие мучения, на полную отрешенность от жизни, Бутков сатирически характеризует как «героическую решимость». Борьба за достижение этой цели велась ценой потери всего человеческого: «мало-помалу, торжествуя над вопиющими потребностями, одолевая животные страсти расчетом, он преображался, перерождался. С каждым первым числом капиталец его увеличивался; самоотвержение, надежды, расчеты расширялись; дух стяжания и отчуждения от всего, требующего издержек, разрушал в нем все страсти, свойственные молодости, все искушения, свойственные Петербургу». Гротескная ситуация, которая далее введена в рассказ, обнаруживает все ничтожество характера героя, лишившегося рассудка после несчастного случая, сокрушившего все его пошлые мечты. Одной из сильных сторон творчества Буткова является последовательная и страстная ненависть к нарождавшейся буржуазии, которая, как известно, порой рекрутировалась из среды «маленьких людей». Одним из первых в русской литературе характеров такого рода является Михей — «ерш», изображенный Бутковым в рассказе «Сто рублей». Основная тема здесь — власть денег. С рассуждения на эту тему и начинается повествование: «Есть в мире предметы благоговения всеобщего, безусловного; есть величие, совершенное в глазах мудреца и дурака; есть сила, своенравно, деспотически располагающая жребием человеческим, — те предметы — рубли, то величие — рубли, та сила — в рублях! Человек без рублей, хотя бы то был и чиновник, ничего не значит, ни к чему не годится и ничего не стоит. Человек с рублями, хотя бы то и не был чиновник, имеет значение всюду, годится ко всему и стоит той суммы рублей, которою он обладает». Эту мораль хорошо усвоил Михей, служивший конторщиком у «господ Щетинина и Компании». Черты его характера контрастно сопоставлены с обликом другого героя рассказа, таким же «маленьким человеком». — Авдеем. При всем сходстве в их положении и обстоятельствах, они люди разного склада. Авдей угнетен, раздавлен судьбою, робок, все его мечты ограничивались только «ваканцией»; Михей, «напротив, чувствовал себя обиженным несправедливо, жаждал мести, той мести, потребность которой рождается в сердце человека, оскорбленного условиями, отношениями, обстоятельствами, и которая часто совершается не над одним отдельным лицом, но над великою личностью общества и человечества. Эта жажда мщения одушевляла его в борьбе с обстоятельствами; он не упадал духом, не покорялся ни ваканции, ни судьбе». Именно потому купец — хозяин Михея, и прозвал его «ершом». По существу образ Михея — это приземленный, прозаически сниженный вариант Германа из пушкинской «Пиковой дамы». Михей обладал сильным характером и всемогущей верой в себя. По словам Буткова в этом герое «уже таился зародыш будущего купца первой гильдии, будущего известного благотворительностью гражданина, будущего троекратного банкрота, оставляющего коммерческое поприще с почетным званием, с миллионом в ломбарде на имя неизвестного и с дюжиной домов в Петербурге на „женино имя“» Белинский в отзыве на «Петербургские вершины» выделил, в качестве особенно интересного, образ «ерша» — потенциального буржуа-предпринимателя, который готов на любые аферы, твердо уверовав, что денег «жалованьем и трудом» не наживешь, что «труд скорее приводит к голодной смерти, чем к довольству в жизни». «Ерш» настойчиво проповедует эту философию, но его назидания «не могли принести пользы Авдею». Его характер был уже образован, точнее — измят обстоятельствами «ваканции»… Призывы Михея — «Не робей… не покоряйся ничему пренебрегай всякими обстоятельствами и пользуйся глупостью людей», — попросту не доходили до сознания Авдея: он мог погибнуть, но не решился бы ни на что, выходящее из круга стремлений честного бедняка. Все мечты Авдея сконцентрировались в лотерейном билете: возможность выиграть на этот билет сто рублей, купить матери очки, сестре салоп — становится его навязчивой идеей. Но удача не приносит счастья, а лишь завершает трагическую судьбу бедняка. Когда, потрясенный выигрышем, он сходит с ума, — в больнице для него не оказывается места. Ответ доктора: «Нет ваканции!» — вырастает в символическое обобщение: «маленькому человеку» нигде нет места в мире, где господствуют рубли. Сатирическое дарование Буткова особенно проявляется в изображении хищников нового типа, купцов, этих предшественников русской буржуазии, обличение которых вскоре стало одной из главных тем демократической литературы. Это те «миллионщики», которые, по словам Буткова, «сделавшись из мужиков первостатейными купцами», внесли в новый быт старые понятия и содержат детей своих в непроходимом невежестве. По мнению этих людей, для того, чтобы дети их не промотали богатого наследства, надобно сделать из них нечто вроде говорящих машин, возрастить в душе и сердце их ненависть ко всякому знанию, которое не ведет прямо к сохранению и увеличению капитала. Один из таких типов — «дикий наследник» «первостатейного купца» нарисован Бутковым в рассказе «Порядочный человек». Похоронив отца, Микишка Чубуков, этот мот из купеческих сынков, воображение которого было развито в лабазе, приехал из Чертоболотного в Петербург «просвещаться и наслаждаться». Приехав в столицу «постоянно мучился желанием „показать себя“». Половой из гостиницы — единственное доверенное лицо Чубукова, говорит о нем: «…двадцать карет, говорит, нанять да по всем улицам и по Невскому с музыкой, с песнями проехать, наделать кутерьмы… а после за все заплатить, чтобы всюду о нем говорили». «Такой дикий хуже нашего брата полового», — заключает рассказчик. Бутков, будучи одним из зачинателей антибуржуазной темы в русской литературе, остается тем не менее до конца верным главной своей задаче — изображению мира, психологии и судьбы «маленького человека» — бедного чиновника. После «Петербургских вершин» он пишет несколько повестей и рассказов, в которых глубже раскрыта социальная обусловленность судьбы этого героя. В повести «Горюн» мироощущение Герасима Фомича обрисовано как противоречивое и раздвоенное. Здесь более отчетливо, чем в каких-либо других рассказах Буткова, раскрывается характерная для сознания «маленького человека» борьба смирения и протеста, пробуждение чувства собственного достоинства и невозможность вырваться из-под давящего влияния среды. В повести есть прямые отражения мотивов гоголевской «Шинели» (ср., например, размышления Герасима Фомича: «За что вы меня обижаете? кто вам дал право обращаться со мной дурно?»). Но Бутков все же остался самостоятельным в трактовке своего героя. У Герасима Фомича возникает дерзкое желание «уничтожить некоторые канцелярские авторитеты и, следовательно, стать самому авторитетом — из незаметного писательского орудия, творящего дело свое в молчании, сделаться человеком значащим, имеющим свой взгляд, свои мнения и убеждения». Однако «спасительная робость сковывала язык его, охлаждала воображение, он возвращался к прежнему безмолвию…». Он так и не посмел исполнить свое желание, над которым так много думал, «сказать что-нибудь сильное, справедливое», отплатить обидчикам. Бутков прозрачно намекает на причины двойственности психологии героя. Победа смирения над протестом — не врожденное качество: обстоятельства «создали Герасима Фомича таким скромным и ни во что не вмешивающимся гражданином». Горюн склонен и к сильным чувствам. Он выходит из состояния апатии и оцепенения, влюбившись в незнакомую девушку, встреченную на улице: «сердце его, всегда спокойное, вдруг забилось, заходило, подобно часовому маятнику; воображение, дотоле охлаждаемое опытностью, закипело, расцветилось роскошными картинами, какими оно вообще имеет обыкновение соблазнять человека, когда сорвется с тяжелой цепи рассудка». Но его постигает удар, подобный тому, который испытал Пискарев в «Невском проспекте» Гоголя. «Противоречие существенности с идеалом» убивает Горюна морально, а потеря службы превращает его в нищего, который спасается от голода обедами на поминках. Герои Буткова остаются жертвами окружающей действительности, если даже они пытаются в каких-то формах воплотить свой протест, утвердить свою личность. В повести «Невский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева» возникает образ коломенского бедняка, который, подобно многим «ничтожным героям», «умаляется» перед власть имущими. Но лотерейный выигрыш — великолепная карета — вносит новые черты в психологию героя. Карета дает возможность Залетаеву, как ему кажется, стать в иные отношения с обществом. Он покупает адрес-календарь и, воображая, что совершает акт «мщения обществу», ездит в своей карете по домам важных должностных лиц и оставляет всюду свои визитные карточки (хотя для этих путешествий ему пришлось заложить свою последнюю шубенку). Эти визиты должны были, по замыслу Залетаева, привести к тому, что о нем заговорит «высший свет и весь город». Временами его охватывает отчаяние: ведь «власть имущие» могут отнять карету, а сам он будет «открыт, обнаружен, запрещен и пресечен». В конце концов «протест против общества» оказывается пустой затеей, Залетаев осознает свое бессилие перед лицом чиновничьего Петербурга. Как мы видим, изображение Бутковым судьбы «маленького человека» не связано с идеями борьбы и тем более революционного протеста, — в этом сказалась ограниченность критицизма писателя. Но безусловны гуманистическая направленность его творчества, свежесть и оригинальность трактовки его главной темы.III
Злободневность содержания рассказов и повестей Буткова, своеобразие подхода к актуальной проблеме — изображению социальных низов, все это вызвало журнальную полемику сразу же после появления первой книги «Петербургских вершин». Одним из первых выступил с отзывом о книге враг демократизации литературы Фаддей Булгарин. Книга Буткова была разрешена к печати 7 сентября 1845 года, а уже в ноябре о ней появился фельетон в «Северной пчеле» (№ 243). С первого взгляда могло показаться, что Булгарин относится к «Петербургским вершинам» сочувственно. Он говорил о том, что книга заставляет «мыслить и чувствовать», что автору свойствен ум, «чистый юмор» и наблюдательность. Однако всем содержанием своего фельетона Булгарин обнаружил, что его похвалы — не более как хитрый политиканский ход. Смысл отзыва заключается в противопоставлении Буткова — Гоголю, в извращении содержания и направленности «Петербургских вершин». Именно такова суть утверждения о том, что у Буткова, в отличие от Гоголя, «достоинство не в грязных картинах, а в истине», что «Гоголь смешит карикатурами и… пишет картины грязью», а Бутков «рисует с натуры и светлыми красками». Воздав эту «хвалу» Буткову, Булгарин тут же проболтался о ее цели, заметив; «Некоторые журналы, разумеется, употребят все свое усилие, чтобы уничтожить г. Буткова за то, что „Северная пчела“ его хвалит… и за то, что при его имени вспомнили имя Гоголя, как творца натуры 15 класса…» Но Белинский разгадал приемы продажного критика и вскрыл их в своей рецензии на «Петербургские вершины». Одобрительно отозвавшись о книге, Белинский, в противовес Булгарину, указал, что у Буткова талант не юмористический, а чисто сатирический, то есть обличительный. Бутков «умеет заметить смешную сторону предмета и схватить ее. Этого мало: у него не только виден ум, но и сердце, умеющее сострадать ближнему, кто бы и каков бы ни был этот ближний, лишь бы только был несчастен»[4]. В своем отзыве Белинский отметил также и недостатки первой книги «Петербургских вершин», ее неровность, обилие описаний, но заключил, что у Буткова есть ум и дарование, что он умеет иногда «говорить довольно оригинально о вещах самых простых»[5]. Когда же вышла вторая книга «Петербургских вершин», Белинский нашел ее «гораздо лучше первой», добавив: «хотя и первую мы не нашли дурною». Подчеркивая оригинальность этого писателя, он писал: «Может быть, талант г. Буткова односторонен и не отличается особенным объемом; но дело в том, что можно иметь талант и многостороннее и больше таланта г. Буткова — и напоминать им о существовании то того, то другого еще большего таланта, тогда как талант г. Буткова никого не напоминает — он совершенно сам по себе. Он никому не подражает, и никто не мог бы безнаказанно подражать ему. Вот почему особенно любуемся мы талантом г. Буткова и уважаем его. Рассказы, очерки, анекдоты — называйте их как хотите — г. Буткова представляют собою какой-то особенный род литературы, доселе небывалый»[6]. Благожелательно отозвались о первой и второй книге «Петербургских вершин» и другие критики. Они отметили не только одаренность, наблюдательность, ум автора, но, в пределах цензурных возможностей, намекнули на ее социально-обличительное направление. Так, в газете «Русский инвалид» было сказано о свойственном книге Буткова «желчном остроумии», «негодующем взгляде на общество и жизнь»; «Литературная газета» подчеркнула, что благородное направление и юмор Буткова часто навевают на душу грустные мысли. Сочувственно встретил книгу Аполлон Григорьев, посвятивший ей обширную рецензию в «Финском вестнике». Вместе с тем против Буткова ополчилась реакционная критика. Н. Кукольник писал в «Иллюстрации», что Бутков вступил на «скользкий путь». Злобное недовольство критика Л. Бранта вызвал самый замысел книги: «Все четвертые, пятые и шестые этажи столичного города С.-Петербурга попали под неумолимый нож г. Буткова. Он взял, отрезал их от низов, перенес домой, разрезал по составчикам и выдал в свет частичку своих анатомических препаратов». Когда вышла вторая книга «Петербургских вершин», булгаринская «Северная пчела» заявила, что «надежды, возбужденные первой книжкой, уменьшились», и негодовала по поводу того, что Бутков избрал в качестве героев «маленькие и низкие характеры». Однако и в критике прогрессивной о Буткове встречались суждения отрицательные. В. Майков, в общем одобряя «Петербургские вершины», утверждал вместе с тем, что Буткову не хватает «мыслительного элемента», с чем не согласился Белинский[7]. По мнению Майкова, Буткову недоставало двух важных условий — «верного сознания своих сил и богатого внешнего содержания для ума, материалов для выработки идей — одним словом, науки, которую нельзя заменить наблюдательностью…» П. Анненков относил Буткова к направлению, которое основывается на ложной сентиментальности, псевдо-реализме, смещении фантастического с анализом «бесконечно малых»[8]. Для того чтобы разобраться в этих оценках и представить действительное место Буткова в литературном движении этого времени, необходимо обратиться хотя бы к краткой характеристике направления, к которому он примыкал, и к судьбе его главной темы. Плеяда писателей-реалистов, выступивших в 40-х годах, сделала «анатомическое» изучение жизни, проникновение в ее тайники, основой своего творчества. Белинский именовал этих писателей представителями «новой школы», объединенной, при всех идейных и художественных различиях, общими принципами. Эту школу он именовал также «натуральной», термином, который употреблялся тогда им в демонстративно-полемическом плане, как бы в противовес реакционной критике, третировавшей «натуральность» (то есть реалистичность). Знаменем новой школы было творчество Гоголя, которое «смело вторглось во все стороны действительности, вызвало наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь…»[9] Среди достоинств новой школы Белинский подчеркивал ее массовость. По сравнению с пушкинским периодом, когда круг писателей был узким, литературное движение 40-х годов отличается значительной широтой. На страницах лучших русских журналов рядом с Герценом и Некрасовым, Гончаровым и Островским, Тургеневым и Щедриным выступали многие писатели, которые по силе своего дарования, конечно, не могут быть сравнимы с корифеями русского реализма, но которые в той или иной степени следовали гоголевскому направлению. Белинский с большим вниманием следил за их творчеством, с одобрением отмечал их успехи, отстаивал от нападок реакционной критики, поносившей их за принадлежность к «новой школе». Среди этих писателей были имена, известные в истории литературы, такие, как Д. В. Григорович, И. И. Панаев, Е. П. Гребенка, В. А. Соллогуб, или менее известные, как Я. П. Бутков. Показательно, что в произведениях этих писателей встречаются не только мотивы, но и герои гоголевских произведений, часто поставленные в новые ситуации и тем самым проявившие по-новому те или иные особенности своего характера. Новая, «натуральная» школа выступила как организованное литературное направление со своими сборниками, журналами, творческими манифестами. Сборник Буткова «Петербургские вершины» с открывающим его своеобразным манифестом появился в том же 1845 году, когда вышел и программный сборник статей и очерков «Физиология Петербурга»[10]. Во вступительной статье к первой части сборника Белинский от имени всех авторов указывал, что вниманию читателя предлагается «опыт характеристики Петербурга, несколько очерков его внутренних особенностей… Читатели найдут, может быть, в некоторых, если не во всех, из наших очерков петербургской жизни более или менее меткую наблюдательность и более или менее верный взгляд на предмет, который взялись они изображать»[11]. Некрасов же в статье, напечатанной анонимно в «Литературной газете» (1845, № 13), писал, что цель «Физиологии Петербурга» заключается в том, чтобы «раскрыть все тайны нашей общественной жизни, все пружины радостных и печальных сцен нашего домашнего быта, все источники наших уличных явлений; ход и направление нашего гражданского и нравственного образования; характер и методу наших наслаждений; типические свойства всех разрядов нашего народонаселения и, наконец, все особенности Петербурга… Добро пожаловать, книга умная, предпринятая с умною и полезною целью! Ты возложила на себя обязанность трудную, щекотливую, даже в некотором отношении опасную… Ты должна открывать тайны, подсмотренные в замочную скважину, подмеченные из-за угла, схваченные врасплох; на то ты и физиология, то есть история внутренней нашей жизни, глубокой и темной, прикрытоймишурой и блестками, замаскированной роскошными фасадами, вкусными обедами, наружной чистотой и блеском, отражающими и переломляющими луч истины, который нахально хочет проникнуть в ее тайную внутренность!..» Некрасов отмечал, что сборник имеет «достоинство правды, весьма важное и даже главное в сочинении такого рода». Прокламированное в сборнике «Физиология Петербурга» направление было теоретически обосновано Белинским. В обзоре русской литературы за 1845 год он подчеркнул, что новая школа в качестве одной из своих задач ставит обращение к так называемой «толпе», избрание ее своим героем, глубокое ее изучение. Та же линия была продолжена «Петербургским сборником», вышедшим в 1846 году и содержавшим произведения Достоевского («Бедные люди»), Герцена, Тургенева, Панаева, Некрасова и других. Основная устремленность произведений Буткова, его герои и образы полностью находятся в русле принципов «натуральной школы». Именно потому нападки на писателей этой школы, которые шли из «Северной пчелы», «Маяка» и других, такого рода изданий были однотипны с теми, которые адресовались Буткову, — обвинения в пристрастив к «толпе», «сальности», «грубости», «грязи» и т. п. Не устраивала реакционных критиков и трезвая правда, с которой писатели «натуральной школы», и в том числе Бутков, изображают социальные низы. В рецензии на вторую книгу «Петербургских вершин» критик «Северной пчелы» Л. Брант, утверждая, что Бутков, «очевидно, покушается сблизиться с мнимо-„натуральною школою“, требовал искать „на чердаках бедности трогательной, благородной“: тем самым критик выступал против трезвого реалистического взгляда на положение и судьбы „маленьких людей“». Своеобразие Буткова, как мы видели, заключается в том, что он не только сочувствовал своим героям — бедным чиновникам, обитателям «петербургских вершин» и подвалов, но и критически оценивал их приниженность, смиренность и особенно ситуации, когда «маленький человек» перерождался в хищника, эксплуататора своего же брата. Именно этими своими чертами Бутков занимает хотя и скромное, но свое собственное место в «натуральной школе». Конечно, влияние Гоголя на Буткова было очень сильным, часто оно сказывалось в прямом подражании. И все же при всей несоизмеримости таланта Буткова с гением Гоголя, Бутков внес и кое-что новое в изображение бедного чиновника, по сравнению с гоголевской «Шинелью». У Буткова мы находим образы людей, которые, подобно Акакию Акакиевичу, никем не защищены, никому не дороги, никому не интересны. В произведениях Буткова звучат ноты сурового осуждения приниженности и забитости бедных чиновников, сатирическое осмеяние узости их мирка, мотивы, которые свидетельствуют о понимании писателем социальной опасности, которая таит в себе психология примиренности с судьбой. Известные отличия можно отметить и в самом подходе к теме «маленького человека» у Буткова по сравнению с Достоевским. Хотя и нельзя опять-таки говорить о какой бы то ни было соизмеримости дарования этих двух писателей, все же у Буткова имеется нечто свое, у него нет идеализации «маленького человека» и, особенно сочувствия идее «смиренности», которая стала проявляться в творчестве Достоевского уже в 40-е годы (хотя его глубочайшее, всестороннее воспроизведение мира «маленького человека» никогда, конечно, не ограничивалось этой идеей). Но тема «маленького человека», бедного чиновника в творчестве Буткова связана так или иначе с влиянием не только Гоголя и Достоевского, но особенно — Пушкина. Образами Самсона Вырина или Евгения из «Медного всадника» Пушкин в свое время откликнулся на только еще возникавшую тогда задачу изображения разночинного люда и городской бедноты. Поистине изумительной является та реалистическая трезвость, с которой Пушкин рисовал «маленького человека», его бедственное положение, его слабости. Это своеобразие пушкинского подхода к новой теме до сих пор в достаточной мере не оценено, до сих пор не опровергнут взгляд Аполлона Григорьева и Достоевского на пушкинского «маленького человека» «как на смиренного героя», возведенного в идеал. Но ведь Пушкин, выдвинув этого нового тогда героя, с реалистической правдивостью показывал так же обусловленную социальным бытием узость его интересов, слабость протеста, робость характера. Повесть «Станционный смотритель» проникнута глубоким сочувствием Вырину и болью за его судьбу. А в «Медном всаднике», наряду с сочувствием Евгению, с признанием правомерности его мечты о своем маленьком счастье, отражена с глубокой правдивостью крайняя узость его жизненных целей: мечта об устройстве «смиренного и простого приюта», о «местечке»… Как ни далек облик Евгения от облика станционного смотрителя, все же по своей социальной психологии они близки в существенных чертах. Подобно Самсону Вырину, Евгений, которого постигло страшное несчастье, ограничен в своем протесте лишь мгновенными порывами, хотя и несравненно более сильными, чем у Вырина. Глубина гуманистической трактовки Пушкиным проблемы «маленького человека», драматизма его судьбы, раскрывается как полная невозможность защиты своей независимости и чести. Сопоставление так называемых второстепенных писателей с классиками первой величины всегда заключает в себе некоторую неловкость. Однако закономерности литературного процесса могут изучаться только путем сравнения идей и мотивов и того, как они проявляются у писателей различного масштаба. Следуя этому принципу, мы можем заключить, что, при всех слабостях и недостатках творчества Буткова, подход к изображению «маленького человека», его идейно-психологического облика в ряде существенных черт близок к традиции Пушкина. Более того, позиция Буткова в «Петербургских вершинах» и других его произведениях шла навстречу тому этапу, который был позже охарактеризован в статье Чернышевского «Не начало ли перемены?» (1861). По мере исторического развития манера изображения «маленького человека», выраженная в гоголевской «Шинели», должна была измениться. Чернышевский заметил, что Башмачкин был «круглый невежда», человек «ни к чему не способный». На новом этапе люди типа Акакия Акакиевича заслуживали не только одобрения, но и критики, так как в своей крайней ограниченности (хотя и объясняемой социальными условиями), сами того не желая, способствуют застою. Чернышевский делал из этого революционные выводы, ратуя за идеал «новых людей», способных «действовать самостоятельно», — то есть сознательно бороться за дело освобождения народа. Бутков, разумеется, ни в какой мере не подымался до подобного призыва, но тем не менее правдивым изображением не только бедственного состояния, но и пороков «маленького человека» он кое в чем предвосхитил таких писателей, как Николай Успенский, смело осудивший «рутинные мысли и поступки простолюдинов». И если условно применить к Буткову слова Чернышевского о Николае Успенском, то можно сказать, что для народа правдивые слова писателя «гораздо полезнее всех похвал». Всестороннее изучение жизни «маленького человека» выполняло серьезную социальную функцию. О такого рода функции Салтыков-Щедрин в своей юношеской повести «Противоречия» (1847) сказал: «Если… вы хотите знать жизнь во всех ее явлениях; если жизнь, как бы уродливо она ни выразилась, сама по себе есть уже отрада и утешение; если, говорю я, вы сознаете, что солнце, блистающее в высоте, равно озаряет дворцы и помойные ямы, богатство и нищету, добродетель и порок, — в таком случае вы последуете за мной и с любовью будете изучать мелкую кропотливую жизнь этих… людей, и — кто знает? — может быть, из этого изучения что-нибудь да и выйдет!»[12] Для того, чтобы получить представление о месте Буткова в «натуральной школе», необходимо выяснить, как соотносится жанр его произведений с жанром так называемого «физиологического очерка». Как известно, «физиологический очерк», изображавший жизнь современного общества во всех подробностях быта и нравов, получил в 40-е годы большое распространение. Поскольку описания различных социальных типов и людей различных профессий, их жизни и быта стали одним из принципов нового направления, многие писатели вводили элементы «физиологического очерка» также и в другие литературные жанры — повести, рассказы. Зачастую определение жанра того или иного прозаического произведения затрудняло не только критиков, но и самих авторов. Нет точного определения границ этого жанра даже в ценной книге А. Г. Цейтлина «Становление реализма в русской литературе (русский „физиологический очерк“)», опубликованной в 1965 году[13]. Если анализировать жанр произведений Буткова на основе критериев, которыми руководствовался Белинский, то мы увидим, что эти произведения значительно отличаются по своему типу от «физиологического очерка». В самом деле, об очеркисте-физиологе Белинский писал: «Он не может создавать характеров… Он может изображать действительность, виденную и изученную им, если угодно — творить, но из готового, данного действительностью материала»[14]. Это определение вполне подходит при характеристике, например, произведений В. И. Даля, о котором Белинский говорил, что «повесть с завязкою и развязкою» не в его таланте. Но ведь в произведениях Буткова воссозданы определенные характеры, произведения его остро сюжетны, они имеют свои «завязки» и «развязки», наконец в них встречаются и такие чуждые «физиологическому очерку» приемы, как гротескность, условность, введение фантастических ситуаций. Из всего этого можно заключить, что по своим жанровым особенностям произведения Буткова представляют собой повести и рассказы.IV
Характеристика духовной биографии Буткова весьма затруднительна из-за крайней скудости сохранившихся материалов. Как уже упоминалось, Бутков, несмотря на свою замкнутость, близко сошелся с Ф. М. Достоевским. По воспоминаниям С. Д. Яновского, Достоевский относился к Буткову с исключительным вниманием[15]. Из тех же воспоминаний мы узнаем, что Бутков бывал на встречах литераторов, где, кроме Достоевского, присутствовали и другие петрашевцы. Однако о каких-либо непосредственных политических связях Буткова с кружком Петрашевского никаких данных нет. Вероятнее всего, их и не было. Во всяком случае, в следственных делах петрашевцев упоминания о Буткове отсутствуют. Несомненно, однако, что духовное влияние литераторов, примыкавших к движению петрашевцев, сказалось в творчестве Буткова. Это влияние выразилось прежде всего в подчеркнутой, как тогда говорили, «социабельности» произведений Буткова, в его стремлении к изображению «анатомии человеческой души», к пристальному анализу социальной структуры общества, к которому постоянно призывали петрашевцы. Встречаются в повестях Буткова и мотивы обличения крепостнического гнета (см., например, в рассказе «Партикулярная пара» описание расправы помещика над мужиками). Нелишне отметить, что и в биографиях некоторых из петрашевцев были черты, не только близкие к судьбе самого Буткова, но и отразившиеся, так или иначе, в сюжетах его произведений. Так, например, петрашевец А. П. Баласогло[16] рассказывал о мучительных годах погони за вакансией и такой нищете, которая одно время привела его почти к полной умственной деградации и почти к помешательству, — мотив, проходящий и в ряде повестей Буткова. В показаниях петрашевцев о себе мелькает и специфическая терминология, характерная также для языка Буткова (так, например, тот же Баласогло с негодованием говорил о «порядочных людях» с их белыми перчатками и спокойными сюртуками, с их обедами и попойками «…для которых все равно, что мир, что жареный рябчик», что «чувство, что шалевый жилет…»). Это не значит, конечно, что Бутков перенес подобного рода черты биографии некоторых петрашевцев или особенности их фразеологии в свои рассказы: речь здесь идет о родственном психологическом контексте, о родственных чертах социальной судьбы, которая рождала в демократических кружках 40-х годов дух анализа и новый взгляд на судьбу «париев». Арест Достоевского в 1849 году, расправа с петрашевцами, жестокая правительственная реакция надломили Буткова. Долгое время он не печатался. Несмотря на отсутствие каких-либо данных, «компрометирующих» Буткова, он был на подозрении у властей. В 1848 году, после того как в Третье отделение было доставлено письмо революционного и антимонархического характера, Булгарин в своем доносе назвал в качестве вероятных авторов этого письма Буткова и Некрасова. Булгарин писал: «Более и смелее других вопиют в пользу революций молодой писатель Бутков, сотрудник „Отечественных записок“ и „Современника“, автор юмористического сочинения „Петербургские вершины“, Некрасов, издатель „Современника…“»[17] Булгарин предлагал «пересмотреть и сравнить рукописи Буткова и Некрасова». Бутков в этом деле оказался незамешанным, но ненависть к нему правящих кругов сказалась в той травле, которой он подвергался со стороны цензурного комитета и его председателя Мусина-Пушкина. Как рассказывает, со слов Буткова, А. Милюков, запрещение цензурой повести «Людишки» (она до сих пор не разыскана в архивах) сопровождалось грубым разносом, который учинил писателю Мусин-Пушкин: «— Людишки! Да ты кого это в ней людишками-то называешь? А? — загремел он, словно перед ним стоит целая бригада, а не один ускользнувший от рекрутства ординарный литератор. — Кого, я тебя спрашиваю? Людей в тысячу раз лучше тебя, не праздношатающихся каких-нибудь, а занятых государственной службой, людей деловых, да еще чиновных! И это у тебя людишки! Да как ты можешь так обзывать и позорить тех, кого правительство признает полезными слугами? Откуда ты набрался таких дерзких мыслей? Я тебя спрашиваю. И как ты решился написать это, да еще в цензуру представить? Вы что затеяли? Публику хотите развращать, возбуждать неуважение к чину, смеяться над людьми, допущенными к государственной службе! Вы, что ли, своей болтовней служите отечеству? Либералы! Сами ни к чему дельному не способны, так и других хотите с толку сбить? Зависть вас мучает? Разве литература для того дозволена правительством, чтобы ваше вредное пустословие распространять в народе? Людишки! Ты на своего брата посмотри — вот там людишек найдешь, да и тех зачем напоказ выставлять. Я посмотрю, что ты будешь писать!»[18] А в другой раз, по поводу другого запрещенного рассказа Буткова, Мусин-Пушкин не только ругал Буткова за отсутствие в его «грязных рассказах» нравственной цели, за принадлежность к «натуральной школе», но и пригрозил ему полицейским надзором. Годы нищеты, мытарств, невозможность осуществлять свои замыслы надломили Буткова. Его последняя повесть «Степная идиллия» хотя и содержит интересные страницы, но значительно ниже других его произведений. Писатель погибал духовно и физически. 28 ноября 1856 года он умер в петербургской больнице св. Марии Магдалины в палате для нищих. Узнав это, Ф. М. Достоевский писал своему брату в письме из Сибири: «Друг мой, как мне жаль бедного Буткова! И так умереть! Да что же вы-то глядели, что дали ему умереть в больнице! Как это грустно!»[19] Прав был А. Милюков, заключивший свои воспоминания о Буткове: «Нет сомнения, что при других обстоятельствах дарование этого человека развернулось бы с большей самостоятельностью: в нем было много задатков, обещавших ему такую роль в нашей литературе, которая не могла бы быть скоро забыта. Это один из печально погибших талантов, какими так обильны летописи русской литературы»[20].* * *
Говоря о литературном развитии, Белинский однажды заметил: «Бедна литература, не блистающая именами гениальными; но не богата и литература, в которой всё — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы»[21]. Талант Буткова, в котором так ярко выразилось живое и сердечное сочувствие к обездоленному люду, является одним из свидетельств богатства русской литературы, ее постоянного стремления вторгаться в глубины народной жизни. Б. Мейлах
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕРШИНЫ
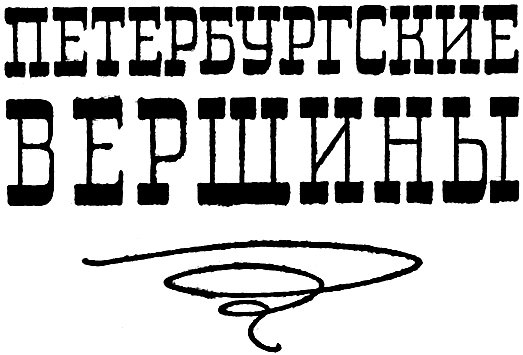

Назидательное слово о петербургских вершинах
Из всех столиц древнего и нового Мира, может быть, один Петербург имеет оригинальное удобство стоять на зыбком, земноводном основании, в уровень с морем. Его острова, образованные из топких болот ужасным количеством свай, исполинскою насыпью, возвышаются над горизонтом Невы и дикой, невозделанной почвы, подобно холмам Рима и Царя-града. На островах, в пределах Лиговки и Невки, разрастаются в вышину и ширину здания, которые при зачатии Петербурга были не более как мелкие домишки, на голландский манер, достойные какого-нибудь Шлюшина, а потом, в полтора века, обстраивались флигелями, расширялись и, сомкнувшись в тесные ряды, вдруг кинулись многими этажами в свободное, подоблачное пространство, и все это пространство, охваченное душными или холодными клетками под человеческим названием комнат, перегороженное на бесчисленные закоулки под немецким названием квартир и российским — хватер, особливо небесная, приболотная и чисто болотная линии битком набиты разным народом, составляющим особое петербургское человечество, говорящее особым петербургским наречием. В средине между первою и последними из упомянутых линий уже не сжато, а просторно, удобно, комфортабельно обитает блаженная частица того самого человечества, собственно именуемая Петербургом. И несмотря на численную незначительность блаженной частицы, она исключительно слывет Петербургом, всем Петербургом, как будто прочее полумиллионное население, родившееся в его подвалах, на его чердаках, дышащее одним болотным воздухом, лечащееся болотными испарениями, не значит ничего, даже вовсе не существует! и если говорится о единодушном движении Петербурга, о мысли, о мнении, о радости, о скорби, о наслаждениях и заботах Петербурга, то понимаются движение, мысль, радость, скорбь, наслаждения и заботы одной срединной линии, и если книги пишутся — пишутся для срединной линии, и если в книгах описываются люди и действия людей, то люди непременно, «под великим штрафом», должны принадлежать к срединной линии, и действия совершаться в срединной линии, иначе книга будет бестолкова, грязна и сочинитель книги — мужик, не знающий света и галантерейного обхождения. Да будут навеки святы и ненарушимы учения, понятия и условия относительно блаженной линии всего Петербурга; да разрастается он в ширину, в глубь и в вышину, да укрепляется более и более в своих болотах и понятиях на своих островах и сваях! Здесь нет противоречия, ни мысли противоречия, и если сказано слово о таком высоком предмете, какова срединная линия, то сказано в смысле согласия со всем касающимся ее исключительности. Люди, занимающие упомянутую выше небесную линию, или Петербургские вершины, имеют много общего в жизни с обитателями подвалов и первых этажей, с Петербургским низовьем; но еще более — несходства между ими, и потому переселись даже верхний человек к срединным, или низовым людям, его переселение будет непроизвольное, совершится по не зависевшим от него или по встретившимся ему обстоятельствам. Верхний человек всюду остается верхним человеком, всюду перенесет свои понятия и свои страсти. Вообще сошествие верхнего человека долу бывает по двум главным причинам: он или разбогатеет и занимает бельэтаж, наполняя его своею атмосферою, в которой движется прежним порядком, пока постепенно влияние иной атмосферы, атмосферы бельэтажных туземцев, не привлечет его в свою орбиту, или, предавшись какой-нибудь положительной индюстрии, как-то: сочинению проектов для радикального преобразования Вселенной, или просто сочинению доносов и ябед, или, простее — раздаче скопленного беспорочной службой капитальца, по частям, в верные руки, под благонадежный, несгораемый залог, за десять процентов в месяц, переходит в среду людей низовых, промышленных, которым он наиболее может быть полезен и, поселяется в нижнем этаже или в подвале. Есть еще и другие причины, по которым верхний человек становится обитателем Низовья, но это причины случайные, побочные, не имеющие никакого отношения к особенностям и самобытности жителей Петербургских вершин; притом же — «по Сеньке и шапка», — говорят на этих Вершинах, и «виден Сенька по шапке», — говорили древние москвичи, изобретшие эту пословицу, — следовательно, куда бы ни попал верхний человек, он всюду заметен, хоть и не по шапке; нынче все головы покрыты одинаковыми шапками, а все-таки заметен. Восхождение низового человека на Петербургские вершины, как и всякое восхождение, несравненно затруднительнее сошествия оттуда в Низовые. Низовые люди, будто болотные растения, крепко держатся своей почвы, и почва их держит. Их дела, виды, надежды, страсти и стремления имеют исключительным, постоянным поприщем землю; между ними нет поэтов, которые уносились бы мыслию в облака, ни честолюбивцев, которые мечтали бы о верхних этажах, это, одним словом, разумеется деревянный мужской род, люди крепкие земле. Но есть между ними существа, ясно доказывающие, что они не болотные растения и не крепкие земле: это легкий, эфирный, женский род, по свойству одинаковый во всех линиях: надболотной, приболотной, болотной и подболотной; они не разграничены в понятиях, выгодах, стремлениях, подобно мужскому роду; все они и всюду имеют одно понятие — о любви, одну выгоду — в любви, одно стремление — к любви, и она-то, любовь, странное чувство, которое мужской разум и мужской эгоизм давно пренебрегли и бросили как занятие, не ведущее ни к чему, она-то часто извлекает женщину из недр земноводного семейства и, возводя на Петербургские вершины, заставляет ее любить во втором этаже, проклинать любовь в третьем, страдать за любовь в четвертом, торговать любовью в пятом, каяться и умирать от последствий любви еще выше, под самою кровлею, в помещении, не носящем даже имени этажа, называемом просто: каморкой повыше. Эти-то странные обитатели подоблачных вершин Петербурга занимают первое место в следующих очерках, и этим очеркам сознательно не дано названия «Очерков Петербурга» или иного, относящегося к Петербургу вообще. Здесь действуют особые люди, которых, может быть, Петербург и не знает, люди, составляющие не общество, а толпу; но хотя это и толпа, однако толпа самобытная, не бесстрастная, не безмысленная, движимая чутьем, а смирившая в себе страсти и желания положительным началом мудрости опытом и повседневной зависимостью от средних и низовых обитателей, от чужих страстей и чужих обстоятельств. В этой толпе есть люди, которых скорби и радости определяются таксою на говядину, которых мечты летают по дровяным дворам, надежды сосредоточиваются на первом числе, честолюбие стремится к казенной квартире, самолюбие к пожатию руки экзекутора или начальника отделения, сластолюбие в кондитерскую; есть люди, многие люди, гордящиеся знакомством с хористкой, хвастающие обедом в два рубля ассигнациями, приходящие в восторг от Екатерингофского гулянья, упадающие духом от неожиданного возрождения самих себя в образе маленького ребенка. И там же, во мраке неведомой Петербургу существенности, иногда пронзительной молниею блещет мысль, которая, будучи выражена не нашим словом, низведена долу, в среду общества, обитающего ближе к земле, сочувствующего земным интересам, быть может, благотворно действовала бы на самое общество; но здесь ей суждено коснеть и исчезать в том же мраке. А если изредка и проскользает она в произведении литературном, то проскользает не иначе как преследуемою контрабандою, облеченная в странные образы, и в этих образах, то фантастических, невероятных, то скучных от частого появления, она недоступна не только равнодушному читателю, который, не разумея особых обстоятельств, требует от книги мысли и ясности мысли, но и строгому судии, торопливо пробегающему книгу по обязанности отыскать в ней бессмыслицу, и даже тому, кто с постоянным вниманием наблюдает, чтобы в ней не было ничего, кроме бессмыслицы!ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой описываются маленькое жалованье и крошечные люди
Внимательного наблюдателя, не имеющего другого занятия, кроме чтения объявлений в «Полицейских ведомостях» и странствования по улицам, переулкам и кондитерским богохранимого града Санкт-Петербурга, поражает изобилие порядочных людей, разнящихся между собою образом жизни, возрастом, важностью взгляда, цветом перчаток, по имеющих одно общее свойство — жить на счет ближнего. Здесь не подразумеваются те порядочные люди, которые служат в разных местах и существуют жалованьем, наградами и приношениями доброхотных дателей. Изображается, говоря высоким философским слогом, самоздательная и самозаключительная самость порядочного человека. Лев Силич Чубукевич, нося девственный чин коллежского регистратора, вовсе не думал сделаться когда-нибудь порядочным человеком. Он получал двадцать пять рублей ассигнациями в месяц жалованья и десять рублей в год награды. Во дни этого получения он хаживал в кухмистерскую, где, за полтину медью, обедал не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом. После такого обеда в течение двух недель ему снились суп со свининою, жаркое из свинины и еще какое-то непостижимое блюдо, вроде самого животного с начинкою. Потом ему уже ничего не снилось, и он спокойно питался печенкой и колбасой, которые забирал в мелочной лавке в долг, до вожделенного первого числа. В Чубукевиче было развито чувство приличия в превосходной степени. Возвращаясь из департамента домой, он никогда, кроме самых темных вечеров, не решался купить вышеозначенного снадобья на мосту, лучшего качества и за половинную цену против лавочной. Напрасно дух-искуситель, в виде здравого рассудка, говорил ему: «Чубукевич! несчастный, бесталанный Чубукевич! не робей! купи этой свежевареной, благоухающей печенки и этого горячего картофеля! купи, глупец, на гривну! И тот будет так же не умен, кто осмелится указать на тебя пальцем: „Вот, дескать, чиновник!“ Купи же! Ты не виноват, что, высиживая себе в продолжение осьми часов в сутки чахотку, не высидел тарелки супу! Ты бедняк, ты лошадь! Ты не должен самозаключительно заключать о том, что те, которые получают по пятнадцати тысяч, ездят в каретах, живут в чертогах…» — Чубукевич не внимал коварному голосу! Уже мост с соблазнительным кушаньем был далеко за ним, и он, спотыкаясь, поднимался по узкой, грязной и темной лестнице в свою каморку в пятом этаже, на заднем дворе, в Гороховой. Лишения и нужды сделали из Чубукевича род ходячей машины для письма, приводимой в движение столоначальником и экзекутором. Не было насмешки, не было уничижения, которых бы он не снес терпеливо и молчаливо. Сознание ничтожества и безнадежности его положения убило в нем весь запас самолюбия, а запас этот, по соображению крошечного ранга и недальнего воспитания Чубукевича, долженствовал быть весьма значителен. И он стал одним из тех людей, которых без разбора называют лошадьми и пошлыми дураками и которые ждут только одного сильного толчка, одного нравственного потрясения, чтобы или вовсе одуреть и переехать на постоянное жительство за девятую версту, или выказать и доказать ум обширный, опытность изумительную.ГЛАВА ВТОРАЯ,
объясняющая благодетельное влияние семерки на развитие человеческих страстей
Несмотря на крайнюю скудость своих способов, Чубукевич не ударился лицом в грязь, когда товарищи поздравили его с получением чина и напомнили ему, что, по обычаю, надобно спрыснуть эту обновку. Все они получили приглашение завернуть к нему «на чашку чая», и завернули: кто с Литейной, кто из Коломни, кто с Выборгской стороны, а сам столоначальник, особа, к которой даже не осмелились отнестись с приглашением, удостоил его неожиданным посещением, приехав из Новой деревни. Для такого высокого гостя и угощение долженствовало быть приличное; и вот, не успел еще «сам столоначальник» подать Чубукевичу указательный перст для пожатия, а тот уже отправил свою хозяйку с новеньким фраком к одному благодетелю рода человеческого, снабжающему нуждающихся деньгами, до десятой части стоимости залога, за десять процентов в месяц, вычитаемых из одолжаемой суммы. Получено было, сверх чаяния, по уважению давнего знакомства, двадцать рублей, и за эти деньги куплены две бутылки настоящего шампанского. Высокая самость — это название ученый столоначальник давал особам выше осьмого класса, а почтительные подчиненные дали его самому ученому столоначальнику — иных напитков употреблять не соизволяла!.. Когда бутылки и другие сосуды с жизнедательною влагою были опорожнены, в маленькой комнате пятого этажа воцарилась искренность и веселость. Гости и хозяин разговорились о различных удовольствиях, встречающихся в этой скоротечной жизни. Столоначальник выше всего ставил Итальянскую оперу, а за нею преферанс; другие отдали предпочтение хорошему жалованью и казенной квартире, с отоплением и освещением, а Чубукевич заметил, что, по его мнению, обед, начинающийся горячим супом и оканчивающийся холодным киселем со сливками, есть совершеннейшее и недостижимейшее из наслаждений — сок блаженства! — Изберем же, господа, из всех этих удовольствий то, которое возможнее для нас в нынешний вечер. Я разумею преферанс, — сказал столоначальник. — Хорошо! Станем играть в преферанс, — отвечали гости. — Что, преферанс, господа! — воскликнул Чубукевич, — что за игра без всяких, почти без всяких последствий? — Неужели вы играете в банк? — Я никогда еще не играл ни в какую игру; до смерти боялся проиграть! Сами посудите… но теперь — куда ни шло. Попробовать бы счастья! Мне отроду не случалось испытывать ничего вроде счастья! Винные пары вскружили все головы и в особенности голову Чубукевича, который в обыкновенном состоянии духа ни за что не отважился бы загнуть угол на родную копейку. — Идет! — закричали гости. — Идет банк! — Матушка, Степанида Андреевна, заприте двери! Все гости имели при себе полученное в этот день жалованье, а у столоначальника, кроме того, была еще в наличности чувствительная благодарность челобитчиков. Чубукевич, издержавшийся на угощение, достал со дна сундука старые рубли, с незапамятного времени хранившиеся на черный день. Высокая самость метала банк. Не прошло и четверти часа, как все понтёры, кроме Чубукевича, очистили свои карманы, потребовали сильнейшего пунша и стали мрачными зрителями игры, сосредоточившейся между столоначальником и его подчиненным. Несколько убитых карт отрезвили Чубукевича; он очнулся, увидев, что находится в опасности проиграть все, скопленное им в несколько лет тяжкими лишениями; но отказаться от игры он не имел силы; желание и надежда отыграться побуждали его понтировать. Счастие, впрочем, не вовсе пренебрегло им: семерка выиграла; он загнул угол, и — выиграл; еще угол, и еще выиграл! — На пе! — воскликнул он, ломая карту. — Выиграл! Что за дьявольщина! Тебе решительно везет в этот вечер! — говорили проигравшиеся. — Ва-банк! Темная! Тоска, сжимающая сердце при выжидании, направо или налево упадет карта, восторг, доходящий до бешенства при выигрыше, желание овладеть всем, что осталось у банкомета, страх потери всего, что уже выиграно, все это преобразило Чубукевича мгновенно и радикально: лошадиная бесчувственность ко всему заменилась огненною, дотоле им не испытанною страстью. Он увидел, что не все не везет ему, испытал искусительный способ приобресть в одно мгновение то, что высиживал тяжкою, неблагодарною работою в целый месяц. И вот в исступлении, в нравственной горячке, обыкновенно овладевающей новичками в игре, Чубукевич произносит дрожащим голосом: «Ва-банк! Темная!» Без выбора он выдернул из старой колоды одну карту, то была — опять семерка. В ней казалось что-то таинственное, роковое… Уже несколько раз сряду она выигрывала; уже потрясла она душу Чубукевича до такой степени, что он не мог быть снова лошадью. Но чем же быть ему? Что значит эта постоянная удача в одной карте? Умилосердилась ли судьба над его злою долею и послала ему новое, светлое бытие, или эта удача есть последнее коварное искушение демона, чтобы горше, безотраднее была для него жизнь? Голова его горела, глаза налились кровью. Наступила минута ожидания; то была адская минута! Он уже раскаялся в своей жадности. Злой дух шептал ему: «Чубукевич! ты проиграешь! Почему ты не кончил на том, что приобрел: тут столько серебряных рублей, сколько дней в году, сколько не имел ни ты, ни отец, ни дед твой! Эта золотая существенность обратится для тебя в коварный сон; но ты не уснешь уже никогда, ты одуреешь с тоски!» Молчание. Слышалось биение благородных сердец под вицмундирами. Банкомет творил дело свое тоже не с прежним спокойствием: руки его дрожали и пальцы не воздержались бы от поползновения передернуть роковую карту, если б он знал ее. Темная как будто для того, чтобы более помучить понтёра и банкомета, долго не показывалась. Талия исходила… — Атанде́! — кричит Чубукевич в неистовом восторге, вскрывая семерку. — Опять семерка! Какое дьявольское счастие! — воскликнули гости. — Банк мой сорван! Пора домой, господа! — сказал банкомет, стараясь скрыть досаду и огорчение. — Прощайте, почтеннейший Лев Силич, благодарю за угощение! — Прощайте, Лев Силич! — повторили гости, уходя. — До свидания, господа! Покорно благодарю за посещение! Извините, пожалуйста, что такой случай вышел. — Известное дело — случай! Спокойной вам ночи. И они ушли, оставив на засаленном столе Чубукевича столько денег, сколько ему никогда и не снилось. Сочтя деньги и положив их под подушку, он лег спать, но ему не спалось. Несколько раз он принимался глядеть на деньги, чтобы удостовериться, точно ли наяву он владеет ими; потом он начал рассчитывать, сколько лет надлежало бы ему служить в департаменте, сколько надобно было переписать отчетов и отношений, сколько должно было получить выговоров от столоначальника, замечаний от экзекутора, и не мог расчесть: суммы, годы и карты перепутались в его воображении, и он только повторял про себя: «О, много, много!» Потом вспомнил он, что в нем не признают ни способностей, ни чувства, ни души; что нет предмета столь пустого, о котором бы ему позволили «свое суждение иметь». А почему? Потому что он питается печенкою, живет на чердаке, ходит в изношенном платье с Толкучего рынка! Вспомнил он, как живут-поживают другие люди, чем они живут, какие у них способности и как над этими людьми никто не смеется, никто не ругается, как уважают и принимают их всюду!.. А почему? «Теперь у меня есть все: и способности, и чувство, и душа!» — думал он, засыпая.ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
досконально доказывающая, что порядочным количеством денег мелкие люди делаются порядочными людьми
Нужно ли распространяться о том, что каждый бедняк, каждый глупец — одно и то же, — каждый бесталанный горемыка, чародейственною силою рублей превращается в весьма хорошего человека, даже в весьма разумного человека, благородной наружности, внушающей уважение, и даже в человека с отличными дарованиями и интересною наружностью, в которой есть что-то такое особенное, этакое!.. Ясно, что разум и дарования заключаются в самых рублях, а рубли сообщают свои качества тем, у кого они в руках. Чубукевич, проснувшись на другой день, чувствовал себя уже порядочным человеком. Самодовольствие и самонадеянность проникли в душу, дотоле доступную одному унынию, цепеневшую под ледяным гнетом насущных нужд, насмешек товарищей, пренебрежения старших. Прежде, до этого благодатного вечера, он никогда не рассуждал, боялся рассуждать и рассуждения его, когда они против воли втирались ему в голову, были нескладны, жалки, глупы, так что он сам, махнув рукою, говаривал про себя: «Прав Тихон Карпович, куда мне рассуждать! и для чего? Что выйдет? решительно ничего! Лучше мне переписывать набело». Теперь, напротив, рассуждалось так смело, так умно, и умно потому, что смело. Соображения разных причин приводили к объяснению самых оригинальных последствий. Он сообразил и нашел удобоисполнимым отныне впредь выезжать или выползать ко всем благам мира сего не на своей груди, в которую стучалась чахотка, а верхом на чужой спине, по примеру многих других порядочных людей, подчиненных и начальствующих. Прежде, опоздав четвертью часа, он на цыпочках прокрадывался по канцелярии к своему столу, принимался за работу и, между тем как на него сыпались выговоры и насмешки, писал, не оглядываясь, по крайней мере, целый час; потом робко поднимал голову и обращался к своему столоначальнику: «Извините, Тихон Карпович! Такой случай вышел!.. Вот я уже и переписал!» Теперь смело и бодро прошел он к своему столу, хотя опоздал двумя часами; в глазах и в лице его выражалось даже что-то такое, чему сначала не верили чиновники: им показалось, будто он надсмехался над ними, будто хотел сказать: «Вот вам и лошадь, господа!» Столоначальник, увидев его, не сказал, как прежде: «Наконец и Лев Силич удостоил явить себя миру и департаменту!» Все было иначе, нежели прежде: на него глядели с неподдельным уважением; столоначальник, прежде только в минуту величайшего благорасположения удостоивавший подавать ему палец для пожатия, теперь сам дружески жмет ему руку, говоря: — Заспались? С вами в первый раз случилась вчерашняя оказия? Да и чисто, нечего сказать, вы нас обобрали! Кстати, что это вы не бываете нигде, кроме департамента и своей подоблачной квартиры? Это дурно! Все думать, да писать, да опять думать — можно дописаться до чахотки, додуматься бог весть до чего! Если хотите, я познакомлю вас в некоторых домах, где собираются порядочные люди? — Сделайте одолжение, Тихон Карпович, я очень рад! — И хорошо! К чему все корпеть над бумагами! По совести, любезнейший, нам с вами пришлось бы умереть десять раз, прежде чем мы достигли бы управления министерством или даже департаментом! В первый раз высокая самость удостоила своего подчиненного столь дружелюбного объяснения, вероятно, ведая, что Чубукевич после вчерашней схватки может пренебречь его покровительством, или по другим причинам. Чубукевич сделался героем для всей канцелярии. Он получил десять приглашений на обеды, на вечера, на пикники, и ни от одного не отказывался. Поняв случайность и шаткость своего положения, он торопился утвердиться в нем и достигнуть верха блаженства — жить на чужой счет. Он смекнул, что приязнь и уважение, встреченные им вследствие счастливых углов, продлятся не долее той минуты, когда его оберут и пустят нищим. Он видел коварную цель этой внимательности, которую оказывали ему люди, прежде беспощадные, расточительные на насмешки над ним, всегда готовые на унижение его, и занялся развитием своей самозаключительности обо всем, о чем прежде не смел заключать, усовершенствованием своей самости, чтоб не нуждаться ни в чьем руководстве, не сделаться жертвою коварства и быть истинным, оригинальным, порядочным человеком. Быстро шли его знакомства, связи, успехи и образование под волшебным влиянием углов и транспортов. До какой степени развил он свою самозаключительность, явствует из того, что он не уронил себя в финансовом отношении ни при одном случае, и когда счастие изменяло ему, она, самозаключительность, спасала его за малые пожертвования. Чрез месяц он казался таким порядочным человеком, что в нем и узнать нельзя было прежнего скромного, измученного, безмысленного, оборванного печенкоядца. Уже обед, «начинающийся горячим супом и оканчивающийся холодным киселем», не был для него блаженством блаженств: он обедал у лучших рестораторов столицы. Он узнал, испытал и самозаключительно обсудил многие другие наслаждения, растущие вдоль Невского проспекта, от танцевального общества до Знаменского моста. Он умел порядочно говорить о пустяках, напевал итальянские арии, бывал во всех театрах, пренебрегал русским, терпел немецкое, обожал французское и приходил в неистовый восторг от итальянского; в департаменте занимался лениво, и когда экзекутор замечал ему это, он отвечал, что цена труда его все-таки превышает цену трех фунтов печенки, и подал в отставку. Роскошен и весел был прощальный пир, который дал Чубукевич своим прежним сослуживцам. На другой день мелкие чиновники хвалились, что каждый из них выпил и съел, по меньшей мере, на шесть с полтиной и что это ужасно, если расчесть хорошенько. Сам столоначальник, по своему высокому положению не входивший в подобные расчеты, объявил, что Чубукевич в настоящем своем виде и качестве представляет редкий физикоморальный факт: «оригинальную, самозаключительную самость порядочного человека».ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
из которой явствуют дальнейшие успехи Чубукевича в качестве порядочного человека
Порядочный человек имел доброе, чувствительное сердце: он с одинаковой готовностью давал копейку серебром нищему и сто рублей промотавшемуся приятелю; но если этот приятель встречался с ним в душеспасительном занятии, Чубукевич не затруднялся обобрать его до нитки. Он, однако, не принадлежал к числу тех артистов, которые посвящают себя безусловному служению даме. Он был столько опытен, что занимался картами не как ремеслом, обеспечивающим существование, а как изящным искусством, приличным и полезным порядочному человеку. Он понял перевес существенных неудобств и опасностей в звании игрока над мимолетною неопределительною выгодою и потому старался быть и слыть не игроком, а порядочным человеком. Отсюда возникает последствие высокой важности: так как порядочный человек должен уметь пить, петь, любить и, между прочим, играть, то чем более в нем этого уменья, тем выгоднее и ярче отделяется он от толпы обыкновенных чиновников, играющих в карты с явнымнамерением составить себе из этого занятия профессию, выиграть какой-нибудь рубль на покупку говядины или дров. Глядя проницательно на житейские обстоятельства и условия, Чубукевич озаботился предпочтительно пред всеми иными благами о расширении круга, в котором сам становился более и более сияющим и притягивающим центром. Ловкий и хитрый, он незаметно пытал и изучал сердце, бумажник, понятия и страстишки всякого, кто попадал в его орбиту. С помощью этих способностей он со дня на день приобретал новых знакомцев. То были люди всех родов, каст, возрастов, значений: и важные департаментские чиновники, с своими Аннами на шее, и первогильдийные купцы о своими сдобными женами и дочками, еще более важные по денежным причинам, и немецкие магазинщики с своими магазинщицами, и актрисы с своими откупщиками, и содержатели танцклассов с своими посетителями, и, наконец — разные мелкотравчатые господа, приязнь которых была чиста, бескорыстна в превосходной степени; не требуя от Чубукевича ни малейшей взаимности в дружбе, они довольствовались одною честию угостить его шампанским на последние деньги, для того чтобы на другой день иметь право сказать приятелю, не имевшему этой чести: «Вчера были деньги, да попался Чубукевич. „Ну, что!“ говорит. Такой милый малый! Я взял да и потребовал пару бутылок! Что делать! „Угости, говорит, а не угостишь, так мы с тобою не друзья!“» Таким образом Чубукевич возымел странное, исключительное значение в своем кругу, и круг этот был весьма обширен, охватывая собою все третьи и четвертые этажи адмиралтейских частей, а в отдалении от средоточия Петербурга даже вторые этажи, одним словом все Петербургские вершины. И весь этот народ, разнообразный, самолюбивый и большею частию глупый, представлял в отношении к Чубукевичу приятное единство и сплошную глупость. Все ласкали его, уважали, и для многих он был даже необходим; пылкие офицеры считали его добрым, любезным малым, и еще более пылкие купцы обожали его как человека, который хорош на все и мастер распотешить. И пред ним смягчался свирепый петербургский эгоизм, страшное порождение полугодовой зимы и болотных испарений; для него бывали светлые явления дружбы, невозможной в меркантильном веке; пред ним развязывались кошельки закоснелых скряг, для которых уже не существует в жизни никакой радости, ни ясной мечты, ни филантропических заблуждений, которые все поняли и обсудили, из всего извлекли адскую существенность и существенность сосредоточили в кредитных билетах; его угощали дорогим обедом у Дюме люди, получающие десять целковых в месяц жалованья; им восхищались, его находили любезным, занимательным, интересным такие господа и госпожи, которые давно уже разочарованы всем, кроме себя, не восхищаются ничем, кроме себя, не находят интересным ничего, кроме себя.ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой порядочный человек гуляет по Невскому и заходит в гостиницу на Вознесенском проспекте
Чубукевичу нередко случалось занимать деньги без отдачи, гнуть углы и совершать другие дела, которые не сошли бы с рук у иного, менее порядочного человека, менее изучившего сердце и дух петербургских туземцев. Он, однако, не позволял себе увлекаться жадностью, овладевающею даже благотворительным человеком при очевидной возможности погреть руки, ни своим господствующим положением среди обитателей Петербургских вершин. Он был дальновиден и хитер в превосходной степени, дальновиден и хитер, как человек, созданный нищетою. Поэтому он выжидал таких обстоятельств, которые обеспечили бы ему прочное и более важное значение, и пока он выжидал, у него бывали и черные дни: кошелек его пустел, и в перспективе не представлялось ни малейшего кредита, ни одной дружеской компании, где можно бы «пустить на пе»; тогда он сидел в квартире и читал «Полицейские ведомости»; иных газет и журналов он терпеть не мог по причине стихов и сельского хозяйства. Но лишь только он добывал денег, им овладевало лихорадочное беспокойство: он торопился вознаградить себя за потерянное время, вновь пройти все наслаждения, от самого пошлого — дремать в кондитерской за чашкою шоколада, до самого упоительного — сорвать банк, и с этой целью отправлялся на Невский проспект. В одну из таких прогулок он повстречался в кондитерской с искренним своим приятелем, а приятелей всякого рода и звания, как выше объяснено, было у него множество, и он делил их на два разряда: на очищаемых и очистителей. Очищаемые были простые приятели, приятели на ту пору, когда имели деньги и могли подвергаться действию очищения. Очистители, напротив, были постоянные приятели, сотрудники порядочного человека в деле очищения, сколько можно назвать сотрудниками людей, подобно прочим, сильно очищенных уже Чубукевичем, и только по уважению их фанатической преданности, не потрясаемой никаким очищением, принятых в искренние приятели. С ними Чубукевич был прост и откровенен. Между порядочным человеком и очистителем, которого он встретил в кондитерской, произошло следующее объяснение. — А! — сказал очиститель. — А! — воскликнул Чубукевич. Рукопожатие. — Ну? — спросил очиститель. — Ну? — в то же время спросил порядочный человек. Молчание. Через минуту очиститель снова заводит разговор: — Что тебя не видать нигде целую неделю? — Страдал чахоткою в кармане. К счастию, один бычок вздумал заплатить старый долг! — Кстати, нет ли у тебя лишнего бычка? Крайне нужно! А не то хоть взаймы дай что-нибудь. — Бычка нет, а деньги берегутся на обороты в нынешний вечер. Завтра дам, пожалуй. Впрочем, если ты будешь сегодня в «очистительном» обществе, то обойдешься без моей услуги; мне самому крайне нужны деньги. Черт возьми! Целую неделю потерял понапрасну! Пойду искать бычка! Бычок — слово техническое, подразумевается не рогатый недоросль из породы мычащих, а персона говорящая, совершенно человеческого вида и чисто бычачьего свойства. Слово это изобрел и пустил в ход порядочный человек. — Хочу радикально перемениться, — продолжал Чубукевич, обращаясь к очистителю. — Хочу, внимай: хочу жениться! — Жениться! Вот выдумал! Какой же ты будешь порядочный человек, когда женишься? — Надоело существовать одними этакими оборотами! Что нет ничего положительного, солидного. Женюсь и стану почтенным человеком! — А, почтенным! Это другое дело! В твоей наружности и теперь есть что-то подозрительное, почтенное! — Что наружность! Почтенные и всякие наружности делаются так же, как пирожки с ванилью! Пустяки для знающего человека! Надобно только найти, во-первых, пристойного бычка, для заключения холостой жизни, как следует порядочному человеку, и, во-вторых, пристойную персону — лет не старее пятидесяти, с толиким же не менее числом тысяч приданого! Приятели расстались, назначив себе свидание в очистительном обществе. Чубукевич направил путь в одну из гостиниц Вознесенского проспекта. Там останавливаются, большею частию, приезжие из степных губерний помещики, закладывающие свои имения в банк и проигрывающие их в банк; советники по винной и соляной частям, люди денежные по разным причинам, люди, возвращающиеся из отпуска, вырвавшиеся из родительских объятий, получившие на дорогу благословение в виде полного бумажника; купцы, приехавшие «Москву брать», и разные другие господа, прибывшие в Петербург без всякой служебной и деловой цели, так, взглянуть на Неву, на Исаакия, на Невский проспект, на Александровскую колонну и на прочие редкие вещи, которых нет у них, в степных губерниях! В гостинице, куда пришел Чубукевич, он был известен одному половому под именем хорошего барина, потому что имел бобровый воротник на бекеше, а другому под именем ликерного барина, потому что выпивал несколько рюмок ликера в каждое свое посещение. Половые — народ известно какой; они столбнем стоят пред посетителем, будто наблюдая, как он ест, а в самом деле слушая, что он говорит; то сами рассказывают снисходительному слушателю трактирные происшествия. Чубукевич давал полную волю словоохотному половому говорить все что ему вздумается, не показывая особого внимания к его вестям, но принимая их к сведению и надлежащему в потребном случае соображению. Когда он занял в гостинице обычное место в углу комнаты, половой, не ожидая приказания, принес ему графин с ликером и стал пред ним с разинутым ртом, готовым разлиться повествованием обо всем, что случилось и что еще не успело случиться между последним и настоящим посещением хорошего барина, он же и барин ликерный. Он ожидал только, пока Чубукевич выпьет другую рюмку, потому что после первой его милость ничего не слушала. — Ну! — сказал Чубукевич. В то же мгновение из уст полового полился следующий рассказ непрерывно, однообразною скороговоркою.ГЛАВА ШЕСТАЯ,
в которой Чубукевич находит бычка
Рассказ полового
«Анадысь был сам надзиратель. Что, говорит, у вас всякие люди живут? Нет, сударь, ваше благородие, не всякие, а хорошие люди, с пачпортами, как следует, и ни копейки не прибавим. На то порядок соблюдаем: больше порядка — меньше подати, как водится. С тем и ушел. На дворнике выместил: в контору призвал, в сибирку засадил; да што!.. Вчера один господин, такой важный: пальто не пальто, шляпа не шляпа, чай кушал, биштик кушал и проглотил было салфетку камчатную да ложку серебряную; спровадили — такая оказия! Я, говорит, благородный, а вы все мужики, мещане! Я, говорит, имею право приколотить вас, как скотов, и заплачу штрафа годовую подать. Мещанину, говорит, бесчестье небольшое, не то что благородному: тут, говорит, честь и бесчестье! В Сибири, в каторжной работе, говорит, места не найдешь! — Знаем, сударь, что мещанин не то, что благородный, мы в том не виноваты; а вы, сударь, все-таки не извольте глотать сервизу. Стыдно, сударь! Стращал, боже упаси, какими муками, а под конец, как сам будочник пришел, взмолился, сердечный, да што!.. А вот, опомнясь, приехал из какого-то города, Чертоболотного, што ль, и у нас в нумерах остановился, купец, молодой, богатый; был он купеческий сын — отец недавно умер; очень хороший человек; грамоте плохо учен. Отец держал его в ежовых рукавицах; заставлял двор мести, в полушубке ходить, в лабазе сидеть; получил полмиллиона наследства; да што, говорит, за житье в Чертоболотном! Приехал сюда на свет поглядеть. Белья батистого заказал; портному-французу велел нашить что ни на есть в свете наилучшего платья; все через меня ведет; сам ничего не знает; такой дикий, хуже нашего брата, полового. Дай-ко нам полмиллиона хоть не рублей, а копеек, не ударим в грязь лицом! Хочет все видеть и иметь, что ни есть лучшего и дорогого, а за что не платится, того и не нужно. Притом конфузится, сердечный, видно, что век просидел в лабазе! Оделся таким барином, что чудо, просто коммерции советник! А скажет слово — беда! Иной раз сам покраснеет. Просил достать билет в Итальянскую, что хошь возьми, только достань. И рад бы деньгу нажить — не могу, знакомства такого не имею. Теперь мучится; хотел… невесть чего! Двадцать карет, говорит, нанять да по всем улицам и по Невскому с музыкой, с песнями проехать, наделать кутерьмы… а после за все заплатить, чтобы всюду о нем говорили. Да здесь не Чертоболотное, сударь — широко не разъедетесь! А не угодно ли в Очистительное общество? Редкостное общество! Чудеса там всякие: и танцевать там, и пить, и есть, и все прочее можно, что только душе угодно да карману сносно… Ну, так поеду в Очистительное. Что стоит Очистительное? Пять рублей цена; да знаю, что не захочет — сто рублей, говорю. Возьми, говорит, билет, и взял. — Нынче вечером едет с знакомым купцом: старик хороший, и больно не любится молодцу; да што, говорит: сам порядка тамошнего не знаю, чтоб не обмишулиться; делать, говорит, нечего: поеду с ним, когда нет товарища по душе. Вот он сам…» — Как его зовут? — спросил равнодушно порядочный человек. — Чубуков-с, Никита Архипыч, чертоболотный первой гильдии купец. Раздался звонок; половой исчез; порядочный человек обратил внимание на Чубукова: то была разодетая в пух самая пошлая и самая смешная фигура. Не требовалось большей наблюдательности, чтоб с первого взгляда вполне оценить искателя наслаждений. Еще не перевелись у нас в глуши миллионщики, которые, сделавшись из мужиков первостатейными купцами, внесли в новый быт старые понятия и содержат детей своих в изумительном невежестве. По мнению этих людей, для того чтобы дети их не промотали богатого наследства, надобно сделать из них нечто вроде говорящих машин, возрастить в душе и сердце их ненависть ко всякому знанию, которое не ведет прямо к сохранению и увеличению капитала. Любя деньги, как все смертные, они отличаются особенным направлением этой любви: они чуждаются всех удовольствий, на которые проматываются другие; воздерживаются от всех благ, которые могут быть приобретены за деньги. Чубуков был один из самых диких наследников. Отец выучил его выкладывать на счетах и читать «Круг Соломонов». Он подвергался всевозможным уничижениям и был первым постоянным чернорабочим у своего отца, который, умирая, утешался мыслию, что оставляет своего Микишку предобрым парнишкою; но Микишка был себе на уме: похоронив отца, он пустился в Петербург просвещаться и наслаждаться. Воображение его, развитое в лабазе, не представляло ему удовольствий возвышеннее, упоительнее тех, которые требуют чудовищных издержек, и в короткое время он уже вкусил кое-что из просвещения, спустив сотню тысяч; но, чтоб насладиться и просветиться вполне, он чувствовал недостаток в хорошем приятеле, который бы руководил его в лабиринте петербургских удовольствий. К счастию, с деньгами все можно найти в Петербурге — и руководителей, и наставников, и друзей… Несколько минут соображения и еще двух рюмок ликера было довольно порядочному человеку для составления плана новому, сто тысяч первому нашествию на чужой карман. Он нашел бычка, оставалось овладеть им…ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
в которой порядочный человек просвещает бычка
Бал в Очистительном обществе. Чубуков приехал с Лукою Тысячепуговицыным, старинным знакомцем своего отца. Улыбаясь и краснея, искатель просвещения и наслаждений смотрит на дело чудное, дотоле им не виданное, на бал, на танцы, на столичный прекрасный пол допотопной породы, и грешные мысли толпятся в голове его. Вдруг сильное движение в зале. Толпа офицеров и фрачных людей, о которых нельзя сказать определительно, что они за люди, прежде чем заговорят, — толпа, дотоле двигавшаяся бессознательно, окружила новое лицо, только что появившееся. Раздались восклицания: «Чубукевич! где ты пропадал? Лев Силич! — Ба! Утешитель! Любезнейший! — Вина Чубукевичу! — Шампанского! — Хочешь шампанского? Пойдем со мною!» — «Нет, со мною — у меня есть кое-что важное…» — говорил откупщик, взяв Чубукевича под руку с явным намерением лишить общество золотого человека. «Что там важное? — возразили офицеры решительным тоном. — Чубукевич принадлежит всем, всему обществу, мы не позволим увести Чубукевича, будто актрису!» Но Чубукевич на этот раз не имел намерения принадлежать ни откупщику, ни всему обществу. Бросив в толпу несколько соблазнительных анекдотов и назидательных для пылкого юношества изречений, он отправился к той части посетителей Очистительного общества, которая, ради единой солидности своей или приличия, весьма строго наблюдаемого здесь по особым причинам, не встретила его при появлении громогласным приветствием… Он обошел всех дам и каждой сказал что-нибудь интересное, вызывавшее улыбку и даже смех, и это с своей стороны было особенно интересно для тех, которые не слыхали, что говорил он. Потом Чубукевич обратился к Луке Тысячепуговицыну, к его супруге, женщине, по-видимому, дюжей, и к его дочери, весьма образованной и любезной девице, возбуждавшей в любителях хороших женщин лаконическое замечание, что «тут есть около чего походить». Эта любезная девица была, между прочим, и завидною невестою: за нею пятьдесят тысяч приданого и домишко в Галерной, и по этой причине за нее сватались многие люди благородного звания, которое, подобно другим званиям, названиям и именам, сильно кружит разумную голову русского человека; в числе женихов благородного звания (чиновных, кроме Чубукевича, который по обстоятельствам своей жизни и по своему остроумию придавал названию чиновника смысл особенный и не назывался чиновником) были многие промотавшиеся отставные корнеты и другие известные своею удалью и происхождением, но Тысячепуговицын и слышать не хотел о таких молодцах; несмотря на то, что усы и шпоры воинственных корнетов произвели сильное впечатление на сердце его дочери, он решился выдать ее только за человека порядочного, который бы с первого дня супружеской жизни мог сделаться почтенным человеком. Выбор его пал на Чубукевича, который пользовался из всей молодежи самою неукоризненною репутациею и подавал большую надежду на превращение в почтенные люди. Выбор Чубукевича пал на приданое дочери Тысячепуговицына, которое было самым большим из всех ему доступных приданых и подавало надежду на увеличение законною частию из достояния Тысячепуговицына, когда богу угодно будет воззвать его от сей скоротечной жизни к вечному блаженству. — Рекомендую вам, батюшка, Лев Силич, этого молодого человека: сын моего старинного друга, Никита Архипыч Чубуков, — говорил Тысячепуговицын, представляя порядочному человеку Чертоболотного купца первой гильдии. — Очень рад… — Никита Архипыч — Лев Силич Чубукевич, известнейший, прекраснейший человек в Петербурге. Бычок промычал что-то непонятное; он еще не знал, что говорится в таких случаях, но в глазах его уже сверкнуло удовольствие по причине приобретения знакомства с известнейшим и прекраснейшим человеком в Петербурге. И вот порядочный человек овладевает бычком, уводит его от Тысячепуговицына, рассказывает ему забавные истории, тьму глупостей, злословит окружающих, объясняет, что за народ эти господа и госпожи, столь вежливые и чинные на балу, и вызывается познакомить его с самыми хорошенькими дамами по собственному его выбору; но бычок упирается против последней статьи: он неловок во всем, особливо с женщинами, и откладывает удовольствие знакомства с ними до дальнейшей выправки своей персоны, до того времени, когда он заучит несколько необходимейших фраз; он торопится только скрепить узел дружбы с порядочным человеком, от которого уже в восторге. — Вы, никак, скучаете тутича? — спрашивает он у порядочного человека. — Я скучаю? Напротив, я так доволен, беседуя с вами… Бычок скромно опускает глаза и мычит: — Не захотелось ли вам, примерно, выпить чего-нибудь али закусить, тово как оно, просто сказать… без гнусности. — Как вам угодно! Я не прочь. В таком случае лучше нам уехать отсюда. — Уедем-те отселича ко мне, али тово, куда можно. — В кондитерскую, если хотите. — Ну, в кандитерскую. Уходя, бычок остановился в дверях и пристально посмотрел на одну особу, сиявшую красотою и невинностью. Чубукевич, пропустив его вперед, подошел к этой особе, шепнул ей несколько слов и отправился вслед за бычком. Они уединились в особой комнате в кондитерскую, на Невском проспекте. — Шинпанского, што ль?.. У нас нипочем! — воскликнул бычок. — Гей! Шинпанского полдюжины! Подали шампанское; пробки хлопнули; сердца скороспелых друзей взыграли радостью. — Оченно весело жить у вас тутича! — молвил бычок. — Да, но вы, конечно, не испытали еще всех удовольствий петербургской жизни! Я готов, где понадобится, содействовать вам… — Спасибо вам! Ужотка мы хорошенько побаем про это, а теперича, тово… Чего бы нам еще?.. — Мне ничего не нужно; но если вы хотите, не мешает потребовать бисквит к шампанскому и пирожков с ванилью. Приятное лакомство! — Вот што, люблю так люблю! По-нашенски — требуй всего, чего душе захотелось! Гей, бисквитов, пирожков с ванилью и всяких сластей! — Кстати, я хотел расспросить вас еще на бале… чуть ли мы не родня между собою: ваша фамилия Чубуков, моя Чубукевич; вы родом из Чертоболотного — один из предков моих там поселился. Я имею сильную причину думать, что мы родные. — Ой ли! Расскажите, пожалуйста! Славная была бы штука! — Наш род Чубукевичей происходит от Османа, Чубукчи-баши, то есть Османа, начальника трубконосцев Султана Магомета, покорителя Цареграда. По гаремным интригам, султан многомилостивый приказал однажды отрубить Осману голову; друзья успели известить его об этом, и Осман с частью своих сокровищ бежал в Польшу; там он принял христианскую веру, женился и прозвался паном Чубуком. Впоследствии за услуги, оказанные им в войне Польши с Турцией, король польский пожаловал ему достоинство грабия, по-нашему графа. Два сына его, графы Богуслав и Богумил, назывались уже не Чубуками, а Чубукевичами, по происхождению своему от Чубука; один из них выехал на Жмудь, другой в Россию, в Чертоболотное. Жмудские Чубукевичи, среди политических переворотов в Литве и Польше, утратили свое графское звание, а Чубукевичи русские, назвавшиеся в Чертоболотном Чубуковыми, лишились даже дворянского достоинства и записаны в однодворцы… — Точно! Дед и отец мой были однодворцы! — Теперь вам понятно, на чем я основываю родство мое с вами. Кажется, нет никакого сомнения… — Совершенно никакого! Мы правнуки графа Чубука и должны быть тоже графами… — Справедливо, но я и не думаю хлопотать об этом: нужны большие издержки; а к чему послужит мне графское достоинство? Я имею о титлах свое, особое понятие! — Ура! Что толковать об издержках! Выхлопочите мне графский титул, во что бы то ни стало! Бычок в восторге. Он не сомневается ни в родстве своем с Чубукевичем, ни в общем происхождении от ясновельможного пана грабия Чубука. Мысль из купца сделаться графом кружит пустую голову бычка; он только боится, чтоб родственник не отказался посвятить свои труды на увенчание его титлом сиятельства. — Ну, уж как вы себе хотите, а мне, ей-же-ей, ужасть как захотелось быть графом! — После об этом. Что титла! Стоит ли толковать о них за шампанским! Станем лучше говорить милые глупости, как будто бы мы были в обществе женщин. — Эх, женщины! Признательно сказать, одна, которую я видел на бале, чертовски щемит сердце. Видно, что не из простых, а какая-нибудь этакая… Смертельно полюбилась, из головы нейдет!.. — Так и быть! Начну услуги мои с нынешнего же вечера, — говорит, смеясь, Чубукевич. Он позвонил в колокольчик, явился мальчик. — Проси! — сказал ему порядочный человек. Бычок выпучил глаза, стараясь понять, какую услугу хочет оказать ему предупредительный родственник. Дверь отворилась, и в комнату вошла особа, сияющая красотою и невинностью… Таким образом, после нескольких часов, проведенных вместе, Чубукевич и Чубуков были уже искренними друзьями…ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
в которой порядочный человек гнет углы у карт и ломает рога у бычка и которою, между прочим, оканчивается этот рассказ
Прошло несколько дней. Чубукевич сделался тенью Чубукова: они слывут друзьями, они говорят один другому ты. Чубукевич приискал Чубукову учителей французского языка и танцевания, образует его понятия, облагораживает манеры; нанимает ему квартиру в Морской, меблирует ее роскошно, покупает ему щегольской экипаж, разумеется, на его же деньги; наставляет его в играх всякого рода, необходимых для порядочного человека, и хлопочет о графском достоинстве. По этому случаю он пригласил в квартиру бычка некоторых необходимых людей и представляет их почтенному хозяину, который уже не мычит, как прежде, а ясно произносит вытверженную фразу. Гости эти были приятели Чубукевича, из разряда очистителей, люди высокой нравственности, степенные, неподкупные. После представления их Чубукову порядочный человек заметил: — Только бы этих нам расположить в свою пользу; если они захотят, ты смело можешь считать себя графом! — Как же их расположить? По-нашему, так просто, дать им что следует… — А по-нашему, по-петербургски, этого нельзя сделать. Здесь честь, бескорыстие, амбиция… — Так распорядись, пожалуйста, как знаешь! Вот депозиток на двадцать тысяч. — Хорошо. Я выжду удобную минуту и куплю этих господ. Как водится, или, как говорится, для препровождения времени, гости играли в преферанс. — Ну, стоит ли тянуть эту глупую канитель! Преферанс — бабья игра! — сказал один из почтенных людей. — По мне, если играть, так играть в ту, что бросает и в пот и в дрожь… А? как вы думаете, господа? — Мы согласны! — отвечали прочие гости. — Но что скажет наш почтенный хозяин? Он, кажется, не любит занятий этого рода, и ему скучно смотреть на нас, подвизающихся на зеленом поле. — Напротив, я тоже готов участвовать, — отвечал бычок. Соединили четыре ломберные стола, и вокруг них засели двенадцать удальцов. Чубукевич приготовился метать банк. Под рукою его стояла корзина с новыми картами. — Вот мой банк, господа, — сказал он, положив перед собою пук билетов, полученных от Чубукова. Гости понтировали. — Десять на туза! — Пятнадцать на двойку. — Тысяча на даму! — воскликнул Чубуков, кладя на стол билет в тысячу рублей. — Правила Коммерческого банка требуют, — сказал равнодушно Чубукевич своему другу и родственнику, — чтобы вы сделали бланк на этом билете, на случай, если бы он перешел в другие руки. Чубуков нацарапал кое-как свое имя и прозвание на обороте билета. Туз и двойка выиграли; дама упала направо. — Ваша дама убита, — сказал опять порядочный человек, обращаясь к бычку и взяв у него билет в тысячу рублей. — Не велика беда! — говорит бычок равнодушно. Он удваивает куши и проигрывает еще несколько билетов. — Черт возьми! Не уступишь ли ты мне метать? Так и чешутся руки обыграть вас всех. — С удовольствием! — отвечает порядочный человек, передавая карты бычку. Гости понтируют на самые ничтожные суммы и не гнут углов при выигрыше. Чубукевич трудится за всех. — Тысяча на двойку! Двойка легла налево. — Угол! Бычок снова начинает метать. — Атанде! Есть! Другой угол на шесть кушей. Темная! — восклицает порядочный человек. Бычок смущается. Едва он бросил на обе стороны по карте, Чубукевич останавливает его новым восклицанием: — Атанде! Семерка. — Сочтите, сколько вы проиграли. Угодно продолжать? — Конечно, конечно, почему же не играть! И Чубуков призадумался. Он уже не был такой богач, каким воображал себя. У него оставался еще один билет, правда, на значительную сумму, но и на последнее его достояние. — Гей, шампанского! Еще шампанского, господа! Кутить так кутить! Бог весть, придется ли нам опять сойтись когда-нибудь так весело! — Ва-банк! Темная! — говорит Чубукевич. Бычок совершенно растерялся. Глаза его помутились, руки задрожали; он уже не ждал выигрыша. Смутно понимал он, что попал в когти дьявола, о котором так много и так умно говорят чертоболотные грамотеи. — Атанде! Тройка. Вы проиграли банк, — сказал Чубукевич с надлежащим равнодушием порядочному человеку, взяв со стола билет, последний билет на наличные деньги бычка. И бычок не помнил, что две тройки легли уже направо, а это была третья!.. На то он бычок, на то Чубукевич порядочный человек; наконец на то щука в море, чтоб карась не дремал. — Все! — сказал про себя просвещающийся. Холод и дрожь пробежали по его телу. — Все! — повторил он, глядя в глаза гостям своим, как полоумный. — Пора домой, господа, — сказали гости. — До свидания, Никита Архипыч! Мы постараемся вывести вас в графы. — Прощайте, Никита Архипыч! — сказал порядочный человек, — наполняя бумажник билетами и бросая взор сожаления и участия на Чубукова. Что делать! У него все-таки было доброе, человеколюбивое сердце, он помнил, что сам когда-то страдал нищетою более, нежели страждет этот промотавшийся богач; но, ожидав подобного случая так долго, с таким самоотвержением, с такою философическою самозаключительностию, мог ли он пощадить этого жалкого бычка, явившегося в Петербурге в такую пору, когда редко отыскиваются люди, сосредоточивающие в себе качества богатого наследника, любителя просвещения и наипаче дурака? — Все! — говорил про себя бычок, не обращая внимания на прощание своего родственника. — Вот и все! А отец сорок лет собирал по копеечке всякими неправдами. — Гей! вина! Кутить так кутить! На другой день квартира Чубукова опустела. Мебели Гамбса были проданы негоцианту из толкучего рынка, экипаж барышнику, и искатель наслаждений, просвещения и графского достоинства еще выручил столько, что мог на лихой тройке умчаться в родное Чертоболотное, где у него оставались отчий дом и мучной лабаз. Как человек, воспитанный в страхе божием, все случившееся с ним в Петербурге он приписывает дьявольскому наваждению за пренебрежение отеческих наставлений. Теперь он самый ревностный старовер и самый ожесточенный противник просвещения. Порядочный человек женился, вскоре после этого происшествия, на дочери Тысячепуговицына. Нельзя сказать, чтобы он переменился, потому что те, которые один раз побывали в ежовых рукавицах жизни, не могут переменить ни своего о ней понятия, ни своих правил об отношениях к ближнему; он, однако ж, весьма смягчился: не скитается по кондитерским и не ловит бычков. Ясно, он стал человеком солидным, и все, кто даже и не знает его лично, взглянув на четырехэтажный дом его, на его карету нового фасона, говорят: «Сейчас видно, что очень хороший, очень порядочный человек этот Чубукевич!..»ЛЕНТОЧКА
Между прочим с замечательною быстротою размножается племя курящее, пьющее, и поющее, и, что всего опаснее, мыслящее. По уверению людей пожилых, знающих свет, страсть нового поколения рассуждать и мыслить о разных отвлеченностях решительно ни к чему не ведет. По мнению людей молодых, это ведет к чему-то такому особенному… Кто прав, кто не прав — аллах ведает! но достоверно, что нынче все рассуждают, даже иной порядочный человек, или, говоря языком невежественной старины, мальчишка, толкует об испанских и китайских делах и насмешливо смотрит на такие предметы, пред которыми, быть может, отец его преклонял выю в благоговейном безмолвии. Есть и такие люди, которые не судят и не рядят, а только слушают, как судят и рядят другие, и, смотря на них, можно подумать, будто они только слушают, а сами не рассуждают и не умеют рассуждать, а между тем они-то и рассуждают… Не таков был Иван Анисимович. Хотя он по своему возрасту, даже по своему воспитанию принадлежал к новому поколению, однако ни один враг рода человеческого не дерзнет обвинить его в принадлежности к этому поколению по свойству. Решительно, несчастие для него, что он родился в восемьсот осьмнадцатом году, а не раньше полусотнею лет, когда подобные ему люди ценились дорого и часто занимали место на ледяных вершинах общества. Впрочем, сам Иван Анисимович никогда не рассуждал о несвоевременности своего существования, никогда не предавался опасным отвлеченностям. Уже ему наступала двадцать седьмая весна, а он все еще пребывал в скромном чине губернского секретаря и в скромнейшем звании чиновника для письма второго разряда. Десять лет сряду просидел он в одном чине, в одной должности, на одном жалованье, на одном стуле, за одним столом и за одним занятием — перепискою отчетов своего министра. В это десятилетие Иван Анисимович ценился только с одной стороны, со стороны своей каллиграфии. Что касается до драгоценнейшей его способности ни о чем не мыслить, не рассуждать, на нее никто не обращал внимания… даже иные грамотеи называли глупостию эту способность. Таков век! Иван Анисимович жил на Литейной, в нижнем этаже старинного деревянного домика. Он терпеть не мог высоких домов, темных и крутых лестниц. Когда он смотрел вниз из окна четвертого этажа или с лестницы, образующей своими изгибами род глубокого колодца, ему приходило в голову, что, прянувши с этой высоты, можно разбиться вдребезги; потом непостижимая сила влекла его вниз; в душе его возникало ужасное побуждение сделать роковой скачок; сердце его преисполнялось мучительным ощущением падения, и только с большим насилием над своею волею он успевал победить обаяние высоты и удержаться от исполнения страшного намерения. По этой причине он редко посещал знакомцев, живущих в верхних этажах, и сам занимал квартиру внизу, представлявшую разом три удобства: дешевизну, невозможность упасть и возможность плавать на чемодане при первом наводнении. Хозяин этой квартиры, герр Вильгельм, и хозяйка, мадам Королина, были люди добрые и весьма почтенные. Иван Анисимович доводился им кумом, крестил у них двух маленьких немочек: Анхен и Гретхен, которые подросли в его глазах и всегда, как только он возвращался из департамента, приносили ему бутерброды. Все семейство очень любило Ивана Анисимовича за его тихий характер и за обходительность. Герр Вильгельм занимался весьма полезным ремеслом — выделкою из разной ветоши, получаемой в лоскутной линии, нового, модного платья, по заказам магазинов Апраксина двора. Он был также великий искусник в истреблении различных насекомых и с особенным успехом истреблял их во всем околотке. В праздничные дни герр Вильгельм, как добрый христианин, не занимался работой, отдыхал от трудов и усиливал приятность отдыха соразмерным количеством напитка, известного у немцев под названием шнапса; к этому наслаждению был приглашаем и Иван Анисимович, но он, по слабости здоровья и по завещанию родителя, всегда уклонялся от употребления хмельного. В комнате Ивана Анисимовича стоял старый, во многих местах треснувший ящик с клавишами. Иван Анисимович добыл этот ящик напрокат в качестве фортепиано и, будучи страстным любителем музыки, твердо верил, что это действительно было фортепиано. Что бы ни значил, впрочем, этот ящик, достоверно, что большая часть клавишей производили неприятный стук, а остальные только от сильного удара издавали дребезжащие звуки. Каждый раз, по возвращении из департамента, Иван Ансимович садился к этому ящику, ударял по клавишам сначала одною, потом обеими руками, и хотя, по собственному его сознанию, не выходило ничего особенного, однако все-таки было очень забавно. Однажды, предаваясь этой забаве, Иван Анисимович услышал стройные, приятные звуки, извлекаемые, по соображению его, из такого же инструмента, но более искусною рукою. Он оставил свою забаву и стал слушать, как забавлялись другие; а когда и другие перестали забавляться, Иван Анисимович спросил самого себя: где это так хорошо играют? И отвечал: по соседству, у булочника. Кто играет? На этот вопрос он долго не мог дать себе положительного ответа. «Булочник? Нет, он слишком толст! Булочница? Нет, она так себе что-то… Разве… да, точно… играет дочка вышереченных супругов! Только она своими маленькими, прозрачными пальчиками может извлекать из такого глупого ящика, как фортепиано, такие прекрасные звуки, как те, которые он слышал! Итак, решено: играет она, белокурая Минхен, чухоночка, по-нашему, немка, Вильгельмина Германовна». «Немцы очень хорошие люди!» — подумал Иван Анисимович. Будучи природным русаком, не зная ни слова по-немецки, даже плохо выражаясь по-русски, Иван Анисимович любил, однако, немцев, хотя не ненавидел и русских, потому что в сердце его не было места ненависти. Он рассуждал таким образом: «Немцы очень хорошие люди. Вот этот булочник, Герман, кажется, Францевич, его жена Юлия Фридериховна и особливо его дочь Вильгельмина Германовна… все они очень хорошие люди!.. и Минхен чудесно играет на фортепиано! Будь они русские — совсем другое дело! Эта Вильгельмина, Минхен, Миночка звалась бы Матреною или Соломонидою; но это еще ничего, — она была бы толстою, дюжею девой, поломойкой, а этот Герман… Да, немцы, очень хорошие люди». Иван Анисимович нередко хаживал к булочнику для покупки разных сластей своим крестницам и, по причине соседства, был приглашаем зайти вечерком «принять эйн стакан пунш», часто видел и Минхен, когда она продавала пеклеваные хлебы, — но в этом виде, в виде торговки, он не обращал на нее внимания. Притом же он был так скромен, так боялся смотреть на женщин с подобающим прекрасному полу полувниманием! а когда случалось ему встречать взгляд женщины, когда он замечал, что на него смотрит женщина, он совершенно терялся. Он не был из числа тех самолюбивых чиновников, которые так счастливо уверены, что для них стоит только взглянуть на женщину, чтоб уничтожить, пленить ее. Но эти звуки, столь приятно различествовавшие от тех, которые извлекал Иван Анисимович из своего ящика, чародейственно коснулись души его, музыкально настроенной. Минхен, которую он до сих пор считал обыкновенною булочницею, каких он встречал множество, теперь казалась ему особенным, неземным существом. Он пренебрег своею робостью, своею неловкостью во всяких компаниях, особливо в тех, где бывают женщины, и решился побывать в гостях у достопочтенного герра Германа. «Что же, — подумал он, — не велика беда, если я просижу у них какой-нибудь час. Они уже раз двадцать приглашали меня, сочтут невеждой, если не пойду… притом же и Минхен… она очень хорошо играет… Только фрак у меня не нарядный, даже, можно сказать… но это ничего… Они люди простые, и Минхен… Минхен!..» Это было часов в семь вечера. Иван Анисимович, сообщив всевозможную благовидность своему костюму, превосходнейшему из всего, что создали в этом роде игривая и крепко набитая рука его хозяина, отправился в квартиру булочника. Там нашел он сидевших за самоваром самого герра Германа, род сдобного рублевого калача, рябую мадам Юлию, сущее подобие старого пеклеваного хлеба, и фрейлейн Вильгельмину, которую можно сравнить только с яркою звездочкою в небесах или с свежим, душистым бисквитом на земле. Особо от них, в темном углу комнаты, сидел какой-то посторонний немец, который ничего не говорил, а только кашлял. — А! Вот хорошо, что вы таки пришел! — воскликнул герр Герман. — Хорошо, что вы недолго церемонился. Минхен! Чаю господину Ивану Анисимовичу! — Извините, Герман Францевич, — отвечал Иван Анисимович, — я, знаете, не люблю беспокоить никого. — Какое тут беспокойство! Вы самый смирный сосед, Иван Анисимович, — заметила хозяйка. — Я, вот видите ли, Юлия Фридериховна, хотел сказать, что это фортепиано, которым я забавляюсь от скуки, если оно вас беспокоит… — Что вы, Иван Анисимович! Может быть, я помешала вам своею игрою?.. — сказала Минхен, подавая Ивану Анисимовичу стакан чаю. После долгих объяснений в самых учтивых выражениях, оказалось, что одна сторона не беспокоит другой, даже напротив, одна другой доставляет взаимное удовольствие своею «милою игрою». Иван Анисимович нечувствительно разговорился о музыке, о погоде и дороговизне припасов, о плутнях извозчиков и опять о музыке. Когда, по приказанию Германа Францевича, Минхен влила в другой стакан чаю для Ивана Анисимовича несколько капель рому, он не отказался принять этот пунш, а когда пунш был принят, Иван Анисимович почувствовал себя в особенно счастливом расположении и обратился к Минхен с просьбою сыграть что-нибудь на фортепиано. Минхен не противилась, села к фортепиано, и Иван Анисимович услышал те же звуки, которые подействовали на него, пройдя сквозь стену; но теперь они были сильнее и чище, теперь достоинство игры возвышалось присутствием артистки. И точно, хороша была Минхен за фортепиано, совсем не то, что за прилавком. Иван Анисимович слушал и смотрел, и хотелось бы всегда смотреть и слушать… Никогда еще не было ему так приятно, так весело, так «забавно», как в эту минуту! Чай, ром и Минхен разлили во всей его организации такую приятную теплоту, какой он не ощущал дотоле. Им овладело новое обаяние, приятное обаяние любви, которое не может идти в сравнение с другим обаянием, побуждавшим к скачку с четвертого этажа… Но нельзя было оставаться здесь долее. Пробило одиннадцать часов, и Иван Анисимович почувствовал, что надобно оставить это приятное место. Уходя, он получил приглашение от герра Вильгельма бывать у них чаще, без церемоний. «Приходите завтра, Иван Анисимович, — прибавила Минхен, — завтра я сыграю для вас кое-что новое и спою, если захотите!» И эти слова сопровождались такою улыбкою, что Иван Анисимович чуть не кинулся на шею к Минхен, чуть не поцеловал ее со всем безумием влюбленного чудака. К счастию, он вовремя вспомнил, что поцелуи этого рода считаются неприличными, и, только описав руками полукруг в воздухе, отвечал трепещущим от сладостного волнения голосом: «Буду, непременно буду». Возвратясь в свою каморку, Иван Анисимович обнаружил восторженное состояние своего духа многими прыжками по комнате; потом сел к столу и, вперив глаза в потолок, беспрерывно улыбался. Какие мысли занимали его, это явствует из слов, произнесенных шепотом, про себя, с расстановкою: «Виль-гель-мина… Мин…мин…хен…» — и кратко: «Минхен…» — и еще кратче, с выражением самой голубиной нежности: «Миночка!» С последним словом он схватил свою маленькую крестницу Гретхен и поцеловал ее с таким жаром, что та вскрикнула. Тогда Иван Анисимович вспомнил, что это его крестница и что ему пора спать… Во всю ночь ему грезился один чародейственный образ, и во сне он произносил то же имя, что наяву. Когда, на другой день, явился он в департамент, мечтая о том, что вечером опять увидит ее, скажет ей, что думал о ней, и о многом другом на эту тему, он нашел там, нежданно-негаданно, новую причину к восторгу, даже к сумасшествию… Он получил украшение вицмундиру, предмет тяжких трудов чиновного человечества — ленточку! Многие богачи издерживали, губили сотни тысяч, миллионы рублей, дарили, проигрывали свое достояние с одним желанием получить два вершка узкой ленточки, и не получали! Разорялись, разоряли других, банкрутились и погибали в том же болоте, из которого были извлечены могуществом миллионов, а ленточки все-таки не получали! Между тем он, Иван Анисимович, даже, можно сказать, какой-то Иван Анисимович, получил ленточку! Вот соображения, необходимые для справедливого понятия о мыслях, занимавших его. Чтобы объяснить этот важный случай в жизни Ивана Анисимовича, надобно обратиться к служебному его поприщу… Было уже сказано,что Иван Анисимович десять лет провел в одном чине, за одним занятием; но еще не сказано, что он умел отлично чинить перья и что добродетель, как бы она ни была пренебрежена, рано ли, поздно ли, возьмет свое. Вот что случилось с Иваном Анисимовичем на одиннадцатом году его ревностной и усердной службы. Когда директору его понадобился чистописец для переписки какой-то важной бумаги, ему указали на Ивана Анисимовича, и Иван Анисимович был потребован в квартиру директора. — Потрудитесь переписать здесь эту записку, самым чистым и четким почерком, но заметьте и помните, что вы не должны никому говорить о ее содержании, — сказал директор Ивану Анисимовичу. — Слушаю, ваше превосходительство, — отвечал Иван Анисимович, принимаясь за работу. Записка была весьма обширного содержания: говорилось что-то о разных делах по службе, предлагалось что-то… и, когда Иван Анисимович переписал ее, директор сказал: «Это должно иметь важные последствия… Помните, что я говорил вам, — никому ни слова! Долг чиновника, как долг всякого человека — уметь молчать кстати!» — Слушаю, ваше превосходительство, — отвечал Иван Анисимович. — Между тем это и для вас будет полезно. Вы слишком долго занимаете одну и ту же ничтожную должность. Я подвину вас вперед и на первый случай беру вас к себе в секретари, а когда эта записка произведет ожидаемое действие, можете ожидать еще кое-чего. — Всенижайше благодарю, ваше превосходительство! Рад стараться всеми силами! — Напишите, — продолжал директор, вкладывая записку в конверт, — напишите на этой черновой бумаге ее содержание, кратко… Ивана Анисимовича бросило в пот и в дрожь. Он оробел так, как никогда в жизни не робел. Вообразите его положение: в ту минуту, когда начальник, преисполненный к нему благоволения, дает ему ход, он чувствует, что не может извлечь из бумаги ее содержание! Он не помнит, не знает, даже вовсе не понимает того, что сам же переписал! Боже праведный! Иван Анисимович никогда не упражнялся в таких занятиях… Он никогда не думал о содержании того, что переписывал, — он только переписывал, но начальник… известное дело! Начальник не знает столь уважительной и извинительной причины! Что он подумает! И когда Иван Анисимович, с пером в руке, выдерживал неизъяснимую нравственную пытку, стараясь придумать, какого бы содержания была эта роковая бумага, директор заметил его беспокойство, пристально посмотрел на него и сказал с кроткою, ободрительною улыбкою: — Что же вы? Разве вы забыли содержание этой записки или… или вовсе не понимаете ее? — Извините, ваше превосходительство, — отвечал Иван Анисимович дрожащим голосом, — когда я переписывал… я всегда только переписывал! А относительно сочинения, чтобы, так сказать, из своей головы сочинить что-нибудь — преподавалось очень давно! Поэтому… И он не знал, чем кончить начатое оправдание. Но тут Провидение, невидимо покровительствующее несчастным и подающее помощь отчаивающимся, озарило его лучезарною мыслию… и в миг Иван Анисимович начертал на черновой бумаге следующие слова: Записка о разных предметах. Директор, посмотрев на эту надпись, снова улыбнулся и продолжал: — Хорошо!.. в другом случае это было бы недостаточно, но теперь именно то и нужно, что в вас есть… Хорошо, вы будете работать у меня в кабинете. Я извлеку из вашей способности все полезное и возможное!.. И Иван Анисимович, счастливый милостию директора, вступил в отправление своей новой должности. Правда, он ничего не сочинял, хотя и назывался секретарем, сочинял сам директор, а он только переписывал, просиживая за этим занятием целые дни, иногда и ночи, и много переписал он веленевой бумаги, чисто, четко переписал, и директор весьма был доволен его трудолюбием, а еще более его способностию. Между тем случилась перемена по министерству. Министр захворал и поехал лечиться на теплые воды; директор вступил в управление делами, и вскоре после того Иван Анисимович получил ленточку. Никогда честолюбие не мучило безмятежной души его. Он бы и не порадовался этой награде, если б получил ее одним днем раньше. Но теперь, когда в голове его роятся идиллические мечты, когда он может сказать Вильгельмине, она же и Миночка: «Я получил ленточку», когда она, Минхен, может порадоваться, что он получил ленточку, может подумать, что такой чиновник, у которого ленточка в петлице, достоин ее внимания… Теперь он ценил это украшение дороже всего на свете, кроме Минхен. И вот он опять у герра Германа, за чайным столиком, и белая ручка Минхен подает ему стакан чаю. Тот же посторонний немец сидит по-прежнему в темном углу комнаты и уже не кашляет, а дремлет. Минхен снова садится за фортепиано, и играет, и поет, и улыбается Ивану Анисимовичу. Иван Анисимович готов смеяться и плакать от восторга. Он садится к ней ближе, перевертывает пред нею ноты, и так ему хочется схватить эту ручку и поцеловать!.. Но что же эта шалунья Минхен не замечает, что у Ивана Анисимовича ленточка в петлице? Он ждет, долго ждет и наконец, потеряв терпение, говорит ей: — Я вам похвастаю, Вильгельмина Германовна… Я только сегодня получил, имел счастие получить от начальства в награду… не знаю, впрочем, за что… вот эту маленькую вещицу… не всякий имеет! — А! ленточка! — отвечала Минхен, рассеянно взглянув на предмет, к которому Иван Анисимович почтительно прикоснулся пальцем. — Ну, что ж? Кто нынче без ленточки? Всякий чиновник с ленточкою. А вот я вам похвастаю ленточкой… Вот ленточка!.. И Минхен поспешно вынула из-за корсета и развернула пред Иваном Анисимовичем длинную, голубую ленту. Смеясь и прыгая вокруг него, она говорила: — Вот ленточка! Не правда ли, прелесть! И она поцеловала ленточку с таким жаром, так живо, что Ивану Анисимовичу стало как-то неловко и совестно. Шалунья! — Да что ж это за ленточка такая, — спросил он в недоумении. — Это обыкновенная лента для дамского наряда, больше ничего, что в ней особенного? — Особенного? Это он мне подарил, сию минуту пред тем, как вы пришли. Это его первый подарок! — Его? Чей? Кто же вам подарил? — спросил опять Иван Анисимович. — Он, мой жених, Готлиб! Холод пробежал по жилам Ивана Анисимовича. Чувство неприятное, тоскливое, в котором он сам себе не мог дать отчета, поразило его душу. Он взглянул в темный угол и заметил, что бессловесная немецкая фигура улыбается самодовольно и даже насмешливо… — Прощайте, Герман Францевич, мое почтение, Вильгельмина Германовна! — Куда же вы торопитесь? Посидите! — Извините, я только на минутку зашел… у меня много работы… Прощайте; пойду переписывать! Так же, как вчера, сел он у стола и молчаливо созерцал потолок своей комнаты. Лицо его было бледно, дыхание тяжело… Крошечная Гретхен, весело прянувшая к нему на колени, видя печаль его, долго смотрела на него с детским соболезнованием, и в ее острых глазках засверкали слезы… А он не замечал участия своей крестницы, томимый одним чувством… и много, много тоски и муки выражалось в словах, которые он произносил шепотом: «Минхен… Миночка… Ленточка!..»ПОЧТЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Введение к рассказу об одном невероятном случае
Раз как-то, проснувшись утром, я почувствовал непреодолимую охоту написать что-нибудь этакое, а всему пишущему роду известно, как трудно у нас, по особым обстоятельствам, писать о чем бы то ни было: или попадешь впросак, написав что-нибудь неудобоваримое для читательского желудка, или наживешь замечание какого-либо тонкого критика, что вот, дескать, глупость! Или, последовав великому правилу, что для счастия человечества можно писать только в совершенно глупом роде, не попадешь ни во что, ни наживешь ничего! Вследствие этих мудрых соображений, я старался придумать такой предмет для удовлетворения упомянутой «охоте написать что-нибудь этакое», который не ценился бы ни во что, в котором не было бы ничего, совершенно ничего: ни мысли, ни вымысла, похожего на правду… Я думал долго, предмет не являлся, — явился кредитор. Надобно опять повторить общеизвестную истину, что нет ничего неприятнее кредитора. Подобные люди даже нестерпимее хороших приятелей, неотвязчивее верных друзей — этой нечистой силы, плодящейся год от году в ужасающей прогрессии, нечистой силы, в которую не веруют люди, воображающие себя всезнающими, и веруют смиренные невежды, отыскивающие знание опытностью в делах житейских. Из приятеля и друга еще можно сделать иногда полезное употребление, заняв у него что-нибудь или просто обыграв его в карты, а у кредитора уже не займешь ни гроша, его и не обыграешь. Поэтому кредиторы бесполезнее приятелей, хуже друзей… Неприятный гость, удостоивший меня своим посещением, был один из самых неукротимых демонов своего рода. Хотя наконец он и должен был уважать абсолютную истину, что денег нет, а если денег нет, то нечего и надоедать по-пустому, однако злодей оставил меня не ранее, как в полдень, когда приходят прочие кредиторы, точно так, как в полночь являются из могил мертвецы. По этой причине я долженствовал не быть дома, пока говор желудка не разгонит незваных гостей по домам, как крик петуха разгоняет полуночных бродяг по могилам. Я отправился на Невский проспект. Там, говорят, встречаются хорошие сюжеты; но это неправда: на Невском встречаются те же кредиторы и те же приятели. Разница в том, что Невский представляет многие удобства ускользнуть благородным образом от тех и других, а если, например, предвидится возможность сделать из приятеля полезное употребление, можно и самому догнать его, потому что приятели — народ чуткий и в вышеприведенном случае сами ускользают с быстротою молнии или подобно кредитору, преследующему должника. Заботливо озирая мелькавшие мимо меня лица, с трудом заметил я у входа в кондитерскую Беранже одного приятеля, которого не видал в течение года, со времени его женитьбы. С трудом, говорю, потому что для этого требовались вся зоркость страха и надежды, волнующих душу человека, который, опасаясь встретиться с кредитором, не только не боится приятеля, но сам идет на него бодро и смело, готовый в ту же минуту сделать из него хорошее употребление. Год назад этот человек, Лука Сидорович Пачкунов, мелкий чиновник, а еще более мелкий сочинитель, имел казенную форму, даже казенные понятия, теперь, напротив, это был молодой человек благовидной наружности: трость, пальто, борода и, без сомнения, рога. Муж, как должно быть мужу! Откуда же взял он все эти блага, он, Пачкунов? При встрече с приятелями обыкновенно говорится: «Все ли вы в добром здоровье, здорова ли ваша супруга», — и тому подобное. Я в этом случае поступаю проще: после обычного рукопожатия, обращаюсь к приятелю с такою речью: — Ты, вероятно, не откажешь обязать меня: одолжи мне, на короткое время, сколько-нибудь денег, хоть ничтожную сумму, какая у тебя водится. Приятель обыкновенно отвечает: — Очень жаль, что не могу услужить тебе. У меня на этот раз нет ни гроша. Таковы уже приятели всегда и всюду! Все, говорят, изменяется к лучшему, и это, может быть, справедливо во многих отношениях, только не в отношении к приятелям: они все те же, что были за тысячу лет. Пали царства и народы, пронеслись века, совершились события, изменившие и, как утверждают люди грамотные, усовершенствовавшие человечество, а приятели не изменились, не усовершенствовались ни на один рубль. Между тем важная причина побуждает меня обращаться с приятелями таким образом; она основывается на глубоком, даже, можно сказать, тонком соображении. Вот что: люди — все люди, а не то, чтобы одни только приятели так созданы, что, не занимай у них денег, не будь им должен по распискам, по запискам, по векселям, на честное слово и на мелок, они, эти крокодилы, эти люди, забудут тебя, пренебрегут, уничтожат!.. Если б я был должен всему полумиллиону петербургского народонаселения, весь этот полумиллион заботился бы обо мне, о делах моих, кланялся бы мне при встрече, терся бы у меня в передней! — Здравствуй, Лука Сидорович! Не торопись! — сказал я приятелю, запустив палец в петлю его богатого пальто. — Погоди немного, потолкуем… Лука Сидорович, видя, что ему ускользнуть никоим образом нельзя, улыбнулся так дружески, что я продолжал: — Тебе, может быть, покажется странным, если я, при этой радостной встрече, попрошу у тебя взаймы немного… так, что у тебя водится в бумажнике! — И тебе, может быть, покажется странным, — отвечал приятель с тою же дружескою улыбкою, — если я, при этой радостной встрече, скажу, что не дам тебе ни гроша! — Вот что! Хорош приятель! — Но, посуди сам, не опасно ли иметь с тобой расчеты: я слышал один неприятный слух… говорят, будто ты не платишь долгов! — А слышал ли ты другой, более неприятный слух, что мне нечем платить долгов? — В этом ты сам виноват. Надобно уметь приобретать деньги… А еще писатель! Ну что, если тебе понадобится сделать вдруг какого-нибудь нищего человеком порядочным, достаточным, что ты напишешь: что твой герой получил наследство? Старая песня, любезнейший! Нынче нищие не получают богатых наследств, и если какой-нибудь отряха разбогатеет, то, уж верно, не наследством, а другими, благоразумными способами. Ну, какой же ты писатель, когда не в состоянии не только обогатить своих героев, но и самому себе добыть копейку!.. — Напротив, я очень хорошо знаю способ добывать деньги: за труды, дело известное, никто не платит, и мы с тобою, как люди опытные, всегда посмеемся мечтам политических экономов, которые сопрягают труд с вознаграждением, с богатством. Теоретически и даже логически это так, но практически вовсе не так: труд состоит в законном браке с нуждою, следовательно, нечего и ожидать от этого союза такого плода, как довольство, и мы с тобою знаем, что можно жить всякими способами, только не трудом! Можно, например, сорвать банчик, призанять у верного друга до благодатного первого числа, когда бы оно ни наступило. Итак, я надеюсь, что ты обяжешь меня вдвойне: дашь денег взаймы и расскажешь, для моего назидания и соображения, несколько иных способов… на первый случай из тех, которыми ты сам воспользовался. — Денег не дам, — сказал приятель таким тоном, что для меня не осталось никакого сомнения в его решимости не дать мне денег, — а что касается до способов, — продолжал он, смягчаясь, — то это не способы, а один только, гениальный, точнее, бывший гениальным способом в то время, когда я изобрел его. Изволь. Мне не для чего скрывать, потому что он уже стар, избит, истерт, как способ обогащать героев повести или романа посредством наследства. Мы зашли в кондитерскую, закурили сигары, и Лука Сидорович рассказал мне следующую историю, которую передаю его словами, с возможною точностью; но предваряю, что я сам решительно не верю ему. Пачкунов всегда любит сочинять что-нибудь из своей головы, в чем не может быть никакого сомнения по прочтении следующей главы.ГЛАВА ВТОРАЯ,
Рассказ отставного чиновника тринадцатого класса Луки Сидорова Пачкунова
— Это случилось вскоре после моей женитьбы. Мой и возлюбленной жены моей медовый месяц продолжался восемь дней; восемь дней мы были счастливы и находили друг в друге качества, достойные обожания. В девятый день, утром, за чайным столиком, мы поссорились. Известно, что супругам трудно только в первый раз поссориться, а там уже ссора сделается удобною, легкою, необходимою. Мы стали браниться, сначала нежно, учтиво, тонко и будто неохотно, потом проще, наконец, очень просто, с явным намерением браниться до преставления света; но, увы! и на это занятие мы употребили не более двух недель. Потом у нас недостало ни силы, ни терпения браниться, и мы стали скучать. Не советую никому жениться с тою целью, чтобы весь век браниться. Пустой расчет! Дознано опытом, что супружеское счастие продолжается один месяц: две недели супруги счастливы любовью, и две недели ссорою; потом блаженство любви и ссоры истощается и остается жестокая, томительная скука, а скука — значит совершенное несчастие. По прошествии двух недель постоянной нашей ссоры мы уже не чувствовали один к другой ни любви, ни вражды и молчаливо сидели за тем же самым столиком, под гнетом вышеупомянутой скуки. Я курил сигару и думал, что вот, дескать, и скучно! Жена вязала чулок и, вероятно, думала то же. Наконец кое-как между нами завязался разговор. — Боже мой, какая скука! — сказала жена моя. — Скучно, очень скучно, душенька, да что делать! Таково уже наше положение, — отвечал я, зевая. — Разве мы для того женились, чтоб скучать! Это ужасно! Если бы ты взял ложу в Итальянской опере, все-таки мы имели бы какое-нибудь развлечение. — Ложу! Легко сказать — ложу! Что я, помещик с пятью тысячами душ или журналист с пятью тысячами подписчиков! Вот если б ты отдала в мое распоряжение ломбардный билет, которым благословила тебя наша добрая маменька! Я взялся бы доставить тебе тысячу удовольствий. О! Я не умею наживать и беречь денег, но издерживать их, тратить со вкусом — это мое дело. — А что будет после, когда ты истратишь со вкусом наши последние деньги? Нет, надобно обойтись без издержек. И мало ли каких удовольствий, развлечений простых, дешевых!.. Например, если бы ты написал что-нибудь такое, за что бы назвали тебя гением. Очень приятно быть женою гения! Совсем другое значение! Я бы тебя обожала, если б ты был гений! — Ах, матушка! Неужели ты не поняла по сию пору, что я гений, давно гений! — Почему же не пишут об этом? — Потому что я за четыре тома своих стихотворений получил десять рублей серебром; за трактат о социальной гуманности и гуманистической социальности получил два с полтиной. Не возьми я деньгами, взял бы чином гения — дело известное! Двух наград за одну заслугу не дают, особливо такие расчетливые люди, как журналисты… — Но неужели ты не можешь разом взять деньги и получить название гения? — Хорошо! Как только я окончу мою «Историю Достославных Отвлеченностей», я получу разом и название гения, и пять рублей серебром… Труд великий! Он будет напечатан в двенадцати книжках одного толстого журнала, отрывками. — Ты пишешь «Историю»! Да где же твои источники? У тебя нет ни одной исторической книги об этом предмете. — Ах, душенька, ты вовсе не смыслишь в русской литературе. Неужели я буду так глуп, что решусь написать «Историю» хорошо, то есть основать ее на фактах и только на фактах? Нет! Слава богу, у меня достанет всегда способностей на сочинение «Истории» по-русски. Я, сударыня, знаю, что такое обязанность русского историка, и буду историком не хуже других! — Но все же, если ты и получишь за эту «Историю» название гения, не мешало бы достать побольше денег. Достань, пожалуйста! Неужели у тебя нет никаких других способностей? — Кажется, я доказал тебе, в течение тридцати дней и тридцати ночей нашего счастливого супружества, что обладаю отличными способностями… — Что эти способности! Надобно разнообразить жизнь, чтоб не умереть со скуки, надобно достать денег на необходимые развлечения! Доводы жены моей были ясны и неоспоримы. Без денег и, следовательно, без иных развлечений, мы были в опасности умереть от скуки. Я стал размышлять о том, каким бы образом добыть денег, и, по долгому соображению многого множества способов нажить копейку, избрал тот, который казался мне наилучшим и явствует из следующих моих подвигов. Я отправил к редактору одного журнала сто рублей серебром при письме следующего содержания:«Милостивый государь! Наступающий великий пост побуждает каждого христианина озаботиться о душе своей. Движимый состраданием к страждущему человечеству, имеем честь представить вам, М. г., по мере наших способов, сто рублей серебром и покорно просим употребить их на облегчение участи вышеозначенного человечества по вашему благоусмотрению. Затем имеем честь быть и проч.
Супруги: Лука Сидоров Пачкунов, отставной чиновник 13-го класса и кавалер. Анна Кузьмина Пачкунова, отставная 13-го класса чиновница. Жительство имеем в Садовой, в доме под № 7777, в пятом этаже на заднем дворе».
Через три дня в газете было напечатано трогательное изъявление благодарности двадцати пяти страждущих семейств, благотворителям-супругам Пачкуновым. Давным-давно я сочинил и собственным иждивением напечатал оду одного содержания, но под двумя названиями. Триста экземпляров этой оды носили такое заглавие: «Ода в честь Гуманистической социальности, сочинение Луки Пачкунова, цена 15 рублей»; другие триста экземпляров назывались «Одою в честь социальной гуманности, сочинение Луки Пачкунова, цена 15 рублей». Эта ода семь лет покоилась в магазине Смирдина, никто не покупал ее, никто не читал; но как в ней много говорилось о колоссальности и просто сальности, то крысы, не имея понятия в отборных, модных выражениях, употребляемых в русской литературе, и разумея сальность по-своему, съели четыреста восемьдесят экземпляров. Когда весть о моей благотворительности на листках газеты разнеслась по всему Петербургу и по всей России, я извлек из тьмы кромешной остальные двести восемьдесят экземпляров своей поэмы и разослал их ко всем достаточным людям в Петербурге, чиновникам и купцам при следующем циркуляре:
«Милостивый государь! Известное человеколюбие ваше, милосердие к страждущему человечеству, высокое просвещение и патриотическая любовь к произведениям изящной российской словесности, а кольми паче поэзии, дает мне смелость поднести вам сию оду, изданную в пользу одного бедного, пораженного несчастиями семейства. Следуемые за оную деньги, имеющие быть употребленными на облегчение тяжкого жребия означенного пораженного несчастиями семейства, а также и большую сумму, если соизволите пожертвовать с толикою христианскою целию, благоволите вручить подательнице сего. Примите уверение и проч. Лука Пачкунов».
Нанят был, за три целковых, лихач на весь день. Я уложил в сани двести восемьдесят конвертов с моею одою и, дав нужные наставления своей кухарке Матрене, бабе очень умной, разумеющей поварское и грамотное дело, отправил ее кататься по Петербургу и развозить конверты по адресам. Не раньше как в семь часов вечера возвратилась моя Матрена, усталая, измученная, с большим узлом целковых, полуимпериалов, ассигнаций и депозитных билетов. Жена моя, дотоле не подозревавшая во мне приобретательных способностей, была в восторге от моего благотворительного подвига. Она кинулась ко мне на шею и расцеловала меня со всем жаром супружеской любви, возбужденной предчувствием грядущих развлечений. — Видишь, жена, — заметил я строго, — сознайся, что ты виновата! — Виновата, душенька, очень виновата! Поедем скорее в Английский магазин! — Что? Разве затем я собрал деньги! Нет, матушка! Благотворить так благотворить! Подвиг наш еще не кончен. Еще мы должны дать концерт в пользу бедных. Приготовляйся: я буду играть на скрипке, ты будешь петь. Живо, матушка! Тебя ждут рукоплескания счастливцев и благословения несчастных! Я вновь отправил к тому же редактору сто рублей, объяснив, что они выручены за мои оды в честь гуманистической социальности и социальной гуманности и что если ему, г-ну редактору, благоугодно содействовать моему намерению, то я с женою готов дать, на второй неделе поста, концерт, которого достоинство заключается не в талантах наших, на что мы и не имеем притязаний, а в его благотворительной цели. Журнал объявил о новом подвиге известных своею благотворительностию супругов Пачкуновых и об ожидающем петербургскую публику двойном, соединенном наслаждении изящным и благотворением. И должно отдать справедливость всем, до кого это относится, что если мы в делах человеколюбия удивительные шарлатаны, зато в подвигах шарлатанства истинные, неподдельные христиане!.. Двумя предшествующими благотворениями я до такой степени прославился, что все, к кому я ни являлся с билетами на свой концерт, спешили заплатить мне вдвое, втрое, только бы скорее избавиться моего присутствия, не возбудить во мне новой, благотворительной идеи, нового, опаснейшего посягательства на их карманы. Иные просто прятались, считая меня таким отчаянным благотворителем, что я, не боясь бога, потребую у них в пользу нищих и бог весть каких пожертвований! А отказать мне было почти невозможно: обычай умный, благородный обычай предал бы анафеме дерзновенного, который отрекся бы от публичной благотворительности под тем предлогом… не помню, как там сказано! И точно, я, воскриленный успехом своей мысли, пришел в такое исступление, что, если бы мне дали ход, если бы полиция, готовая взять на съезжую самого праведного мужа, вытащившего у богатого ближнего бумажник для вспоможения бедному ближнему, если бы, говорю, эта полиция, по причине необычного моего человеколюбия, не вздумала взять меня, не на съезжую, а на замечание, я, клянусь, сделал бы из этого многолюдного города самую праведную богадельню! Волею или неволею публика петербургская наполнила большую залу, которая тоже, ради благотворительности моей, была предоставлена мне бесплатно, освещена и приготовлена на счет владельца дома. И вот я стал играть, точнее, пилить на скрипке, а жена моя запела! Можешь себе представить… А пред нами Петербург молчаливый, умиленный… О! эта сцена была невыразимо трогательна, особливо при взгляде на Петербург, принужденный за свою благотворительность терпеть, по моему соображению, адскую пытку! И с каким самопожертвованием, с какою стоическою твердостию этот чудный, блестящий, образованный, изнеженный город выдерживал терзание! Уже мы, артисты и законные супруги Пачкуновы, уставали работать, а он не уставал нас слушать, нас, палачей своих! Наконец комедия кончилась, и только что она кончилась, Петербург шаркнул стульями и — бежать! О! как бежал он, великий Петербург, от нас, маленьких, ничтожных людей, сильных единым человеколюбием! После этого концерта я составил было гениальный план самой отчаянной благотворительности. Я хотел, именем человеколюбия, потрясти все сундуки, опустошить все кошельки, все бумажники! Но не суждено было исполниться великой идее, и я должен был кончить свое поприще в самом начале. Утомленные своею благотворительною игрою, взобравшись на свой пятый этаж, что на заднем дворе, и оглядевшись в своей скромной квартире, мы решили, что если после наших подвигов еще остались в каком-нибудь углу Петербурга бедные и страждущие люди, которых миновала благость наша, то, конечно, это мы сами; следовательно, мы имели полное право пожать, наконец, плоды нашего человеколюбия. После того мы наняли хорошую квартиру на Литейной; накупили мебелей; абонировали ложу в Итальянской опере, но, должно признаться, все-таки жестоко скучали и часто ссорились. Однажды, проходя по Невскому и размышляя о средствах к водворению между нами любви и спокойствия, я зашел в новооткрытый магазин; там, любуясь разными машинами, я был поражен видом и устройством одной из них; кушетка не кушетка, стол не стол, аллах ведает, что за мебель такая была. Я спросил об этом у магазинщика. Ты, вероятно, читал в газетах, что какой-то механик и мудрец во Франции изобрел чудную, таинственную мебель: супружеское, огнепостоянное ложе? Мебель, которая обратила мое внимание, было это пресловутое ложе! Так как во всем магазине и даже во всем Петербурге не было другого ложа такого драгоценного свойства, то я и не мог поторговаться как следует с магазинщиком, который знал великую важность своей машины для супругов, подобных нам, Пачкуновым. Заплатив за нее тысячу рублей, я с торжеством повез ее домой, и, представь себе, несмотря на дороговизну этого ложа, человек двадцать женатых приятелей, повстречавшихся со мною в это время, узнав от меня о чудных свойствах моей покупки, давали мне за уступку ее большой барыш, но я и слушать об этом не хотел. За мною, по Невскому, валила толпа народа, состоявшая из счастливых супругов, с молчаливою завистью взиравших на благодатную машину! Жена моя дремала за журналом, когда дворник, с помощию десяти посторонних мужиков, под моим предводительством, внес и поставил посреди нашей спальни огнепостоянное ложе. Странный вид и огромные размеры его сначала испугали жену: она сочла эту неоцененную мебель чем-то вроде адской машины; но когда я вывел ее из заблуждения, она пришла в восторг, тотчас распорядилась вынести нашу старую кровать на чердак и, в своем женском нетерпении, едва дождалась узаконенной минуты, в которую надлежало испытать спасительное влияние супружеского огнепостоянного ложа. С того времени мы живем припеваючи, не скучаем, не ссоримся и любим друг друга усовершенствованною, патентованною, магнетическо-социально-гуманистическою любовью! Блаженство нашей жизни было только однажды возмущено слухом, будто хотят нас, как отъявленных благодетелей рода человеческого, выслать из Петербурга и запретить нам въезд в обе столицы. Мы порядочно струсили; но, к счастию, моим примером воспользовались столь многие, изобретенный мною способ публичных благодеяний роду человеческому вошел в такое употребление, что если выслать всех, кому любовь к человечеству набивает карман и служит блаженным способом к обрабатыванию грешных дел, то самый большой город будет не люднее какого-нибудь Сольвычегодска!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
Заключение
С уважением и удивлением смотрел я на моего приятеля. Нежданно-негаданно нашел я предмет для статьи, совершенно согласный с условиями российского книжничества; но какое название дать этому рассказу, невероятному, и, вероятно, вымышленному, потому что приятель мой, как выше сказано, любит тоже сочинить что-нибудь этакое. Благотворитель? Нельзя! Оскорбится народная нравственность; шарлатан? Неловко окрестить приятеля этим наименованием! — Что ты за человек теперь? — спросил я у приятеля. — Не может быть, чтобы ты был гений или великий человек, один из тех гениев и великих людей, которые беспрестанно встречаются здесь, на Невском. Ты несравненно выше их! Судя по твоим подвигам, если ты их не сочинил, ты не меньше как порядочный человек! — Сам ты порядочный человек, — отвечал мне Лука Сидорович, видимо обиженный. — Неужели ты не понимаешь, что порядочный человек в состоянии только сорвать банк или занять у приятеля без отдачи; но кто возвысился до социальной благотворительности, самоотвержения из любви к ближнему, кто публично, безнаказанно облегчал участь страждущего человечества, тот — внимай, профан, — тот уже сущий абсолютный, почтенный человек!БИТКА
Жаль, что день ото дня теряют свое значение в русском языке и вовсе выходят из употребления многие древние, сильные, меткие слова, теснимые иными чужеязычными словами, будто потому, что язык наш беден, невыразителен! Ныне, например, в большом ходу слово гений. Стоит осведомиться, кого и за что величают гением. Журнальный сотрудник, которому расчетливый редактор, или издатель журнала, не находит нужным платить за труд, называется, для поощрения, гением, а между тем он не гений, а только литературный чернорабочий. В канцелярии человек, совершенно владеющий казенным слогом, умеющий запутать дело подьяческими крючками, с одинаковым совершенством пишущий и переписывающий, слывет гением, а он только строка, и доселе законно и понятно придается название строки людям вышеисчисленных доблестей, обитающим в степных губерниях, куда еще не достиг бич бестолковых нововведений. Мелкий человек ни разу не попавшийся в краже казенных денег, тоже находит панегиристов, которые глупо уверяют его и себя, будто он гений; но он, мелкий человек с вытертыми локтями, по совести, не более как вор, в новейшем значении слова. Даже купечество российское приняло в свой язык бусурманское слово, хотя, кажется, и некстати бы русскому человеку крестить себя немецким прозвищем; но вот причина: слышали мы от людей чиновных и ученых, что Наполеон был гений; поэтому, что бы ни значило такое мудреное слово, все-таки очень приятно носить одно название с Наполеоном. О, Наполеон! Наполеон — и гений! Много русских разумных голов закружились от этих двух слов, и вот: давно ли обанкротился какой-то откупщик, давно ли он обеспечил себя десятком домов, выстроенных и купленных на женино имя, на казенные деньги и на достояние тысячи обманутых за благородную доверенность достаточных семейств, которым уже не бывать достаточными, а идти по миру просить милостыню ради Христа; давно ли? И уже все, знающие этот чудный коммерческий оборот, кричат: Карп Карпович — второй Наполеон, даже — Карп Карпович — второй гений! Но стою за значение Наполеона и гения (с полным сознанием, что для Наполеона и гения нет в том никакой надобности) и опять скажу: это также не гений, это все-таки вор, но не в нынешнем, слабом смысле, это вор в древнем, обширном значении слова. Далее, гением называют такого человека, которого нельзя назвать ни чернорабочим, ни строкою, ни вором, в каком бы то ни было размере, человека, который не что иное, как битка. Идет речь о битке. В Петербурге существует бесчисленное, известное только полиции, количество гостиниц, трактиров, харчевен и «съестных заведений», вообще называемых трактирами. Эти заведения отличаются одно от другого своими правами и обязанностями, своими замысловатыми вывесками и качеством своих посетителей. Есть трактиры или гостиницы, где в дверях стоит швейцар с булавою; есть трактиры или харчевни, где швейцары и другие крепко позолоченные люди составляют высший класс посетителей. Средину между этими заведениями занимает русский трактир на немецкую стать, где хозяин — старовер, муж, преисполненный благочестия и ненависти к табаку; где прислугу составляют молодцы из ярославских крестьян, одетые по-немецки, остриженные под ла-вержет, отчаянные любители табаку и горничных; где во всех углах теплится неугасимый огонь… Трактир этого рода стоит на перекрестке двух улиц. Над двумя входами в него красуются вывески, на одной из них начертана простая надпись: в хот в трахътыр город Кытай съесные кушаньи; на другой эта надпись, для вящего уразумения проходящих, в которых предполагаются и люди, не ведающие книжной мудрости, повторяется иероглифами, имеющими вид чайника, сахарницы, графинчика, бильярда и двух человеческих фигур, которых головы, без посредства шеи, приставлены прямо к плечам; от плеч проведены, одинакой меры, четыре отрасли наподобие рук и ног. Благочиние, в лице будочника, постоянно блюдет за надлежащею тишиною и водворяет порядок в самом трактире по востребованию и на два шага в окрестности по личному благоусмотрению. Утром, в шесть часов, трактирная команда пробуждается. Лишь только полусонный Петрушка открывает в хот в трахътыр, является посетитель: лицо бледное, наподобие старой, бывшей некогда белою, лайковой перчатки, глаза тусклые, оловянные, борода небритая с полгода; сертук казенного цвета, трижды вывороченный, и некоторое подобие жилета и панталон — пасквиль на панталоны и жилеты. — А! Самсон Самсонович! Поздненько вы сегодня! — говорит ему Петрушка. — Проспал, — отвечает Самсон Самсонович, — очень тепло было. Хоть и не комната, а так же тепло, как бы и в комнате. Одеяло и прочее дали не в счет. Очень хорошие люди! Самсон Самсонович самый постоянный посетитель Кытая. В течение десяти лет каждый день проводит он в этом трактире. Где-то в подвале, на чердаке или в сарае он имеет квартиру, там он ночует; но в шесть часов утра он уже в Кытае. Половые, с которыми он очень дружен, приглашают его пить чай, и он, сказав, что уже выпил дома восемь стаканов, садится покушать так, для компании. Потом уходит в уединенную комнату, ложится на диван и спит до вечера, если не разбудят его в течение дня новые посетители. Знающие Самсона Самсоновича не прерывают покоя его, садятся на другом диване и говорят: «Пусть себе спит Самсон Самсонович!» Вслед за Самсоном Самсоновичем валит в черную половину трактира толпа извозчиков; партии человека по четыре, требуют «собрать чайку на гривенничек, получше давишнего, да поскорееча; оченно — больно некогда!» — И «Пчелку» сегодняшнюю подавай! — прибавляет Митюха, грамотей. — Што «Пчелку»! — восклицает другой грамотей, Андрюха. — Подай «Полицейскую»! — Не приносили еще, — отвечает половой. — Ну, хоть вчерашнюю. Все равно! После четырнадцатой чашечки чайку у ранних посетителей завязывается разговор, беседа. Эти господа не любят толковать о пустяках. Хотя они читают «Пчелку», иные даже «Полицейскую», однако внимание их обращается исключительно на предметы выспренние. — Слышь, Андрюха! — Что вычитал, Митюха? — Получено двести тысяч зубов каких-то, бес их знает, патентованных, усовершенствованных, механических… — О! я знаю, — прерывает один из собеседников, Кирюха. — Это, ребята, зубы-самогрызы! — Уж не те ли? — Те самые, что от двенадцати лихорадок и от самого бурмистра отгрызутся! — Вот кстати бы тебе, Митюха, — говорит Кирюха, лукаво перемигиваясь с прочими товарищами, — кстати бы послать гостинца жене, хоть парочку зубов-самогрызов. Вишь, она, сердечная, такая смиренница! Общий хохот. — Стой, ребята! Молчите и слушайте! — восклицают оба грамотея. — Што, овес вздорожал? — вопрошают профаны-неграмотные. — Какой там овес! — отвечает Митюха. — Кончина света будет! — Мало чего нет! Не смотри полиция, давно бы была кончина света! И будет! Было ж затмение; вздорожала же водка! Прежде чего стоила косушка, а теперь что стоит? Будет, я вам говорю, ребята, будет Страшный суд на Пулковой горе: там уж и дом такой выстроили. День и ночь смотрят в небо: чуть только покажется что-нибудь такое, сейчас дадут знать в полицию… Разговор в этом духе, оставляемый уходящими, поддерживается остающимися и продолжается новыми посетителями во весь день. Он приятно разнообразится рассказами извозчиков о том, как одному из них попался очень щедрый барин, три рубля серебром пожаловал и четыре оплеухи дал, чтоб его черт взял; как другой весь день возил пьяных под прикрытием полиции; как третьему седок обещал выслать целковый за то, что целый день ездил, да не выслал; как четвертый видел в полночь черта у Казанского моста. Действие оканчивается в одиннадцать часов ночи общею жалобою на худое время, на кузнецов и на дороговизну овса и водки. Оборванный мальчишка с утра до ночи стоит у входа в так называемую чистую половину. Несмотря на его невзрачность, на его видимое, осязаемое ничтожество, в нем предполагаются превосходные критические способности, и роль его у этого входа весьма важна: при появлении посетителя он должен одним взглядом, быстрым и верным, окинуть его с ног до головы и решить, в какую из двух половин указать или отворить ему дверь. Этот глубокий критик до такой степени навострился в своей должности, что для составления себе точного понятия о посетителе считает достаточным взглянуть только на локти и сапоги его. С десяти часов утра чистая половина трактира наполняется почетными гостями: подрядчиками, поставляющими припасы и гробы в госпитали и больницы, строящими казенные здания и содержащими в них надлежащую чистоту. Едва только они сели, является сам трактирщик для засвидетельствования им решпектов. Только подрядчики, поставщики и содержатели чистоты имеют в себе что-то такое, вызывающее трактирщика на особенное внимание к ним, на собеседничество с ними. Это, может быть, происходит от общей охоты потолковать о политике, в которой, с одной стороны, посетители весьма недалеки, потому что они читают в газетах одни только объявления о торгах на подряды и поставки, а с другой, трактирщик, читающий ежедневно газеты от заглавия до подписи цензоров, так силен, что чувствует непреодолимое стремление высказывать свои мысли о китайских и испанских делах и ставить слушателей в тупик своим многознанием. — Ну, Кузьма Терентьевич, что нового, что хорошего у вас? — спрашивает поставщик припасов. — Плохо, Терентий Кузьмич, — отвечает трактирщик со вздохом, — очень плохо! В Китае, не в моем, а в настоящем Китае, торговля совсем остановилась. Англичане столько товаров навезли, что и девать некуда. Быть войне! — Когда-то она будет, — замечает тоже со вздохом поставщик гробов, — а нашему брату придется с голоду умереть. У меня своего товара столько накопилось, что и не знаю, как с рук сбыть. Просто божеское наказание! — Думайте, как хотите, а война будет, — продолжает трактирщик. — Пусть только англичане построят у нас железные дороги, а там уже можно им и встряску задать! — Ну, что, скажите пожалуйста, эти железные дороги, — спрашивает содержатель чистоты, — я слышал от многих, от людей очень грамотных… Вот, например, Евтей Лукич всякую вещь разумеет порядком: железо ли старое, ржавое поставить вместо нового; гробы ли гнилые, вместо прочных, казенных, все обработает. Очень умный и праведный человек, говорит, что эти дороги — просто дьявольское наваждение. — Пустяки! — возражает трактирщик. — Ваш Евтей Лукич просто ханжа. Если б было что-нибудь нечистое, так на то есть законы! Трактирщик выразительно взглянул на подрядчиков, и как дело приходило к расчету, то он поклонился им и ушел. Вслед ему раздались восклицания: «О! Что это за голова Кузьма Терентьевич! Недаром же пишут в книгах, что русский народ ко всему способен!.. Просто сказать, побеседовавши с ним полчаса, поумнеешь на целый день!» Между тем появляются люди грамотные, книжные, письменные. С трех часов трактир преисполнен чиновниками, конторщиками, просидевшими восемь часов сряду над отношениями и счетами. В трактир они ходят для того, чтоб убить время, прочитать газеты и повстречаться с приятелем, у которого водятся деньги, а есть между ими и такие, которые не ожидают встречи с приятелями и требуют поскорее водочки графинчик, чаю, закусить этак чего-нибудь и прочитать тоже что-нибудь. В это время Самсон Самсонович пробуждается, оправляет свой вечно неизменный туалет, маневрирует вокруг чиновников и наконец подходит к одному из них, который по некоторым причинам пребывал в умилительном состоянии. — Вы меня извините, — говорит ему Самсон Самсонович трогательным голосом. — Не за что! — отвечаетчиновник, пребывающий в умилительном состоянии. — Нет! Вы меня извините. Ведь это у вас березовка или тысячелистник? — Это березовка, сопровождаемая телятиною! — Так я и думал! Березовку сейчас заметно даже издали: совсем особый цвет имеет. — Не угодно ли вам? — Покорно благодарю! Я не употребляю… но, за ваше здоровье! — Покорно благодарю! Не хотите ли закусить?.. вот… — Покорно благодарю! Я только что пообедал, очень хорошо пообедал, три блюда такие… Разве еще одну выпить для аппетита. За ваше здоровье! Самсон Самсонович овладевает березовкою, сопровождаемою телятиною. Посетитель, лишенный половины обеда, выходит из умилительного состояния и мысленно посылает Самсона Самсоновича к черту; а между тем Самсон Самсонович ускользает в другую комнату и подходит к другому лицу. — Вы меня извините, если я спрошу у вас, что это вы кушать изволите: карамбамбулевую, или сорокалиственную, или же… — Это «Адамовы слезы»! — Так-с! «Адамовы слезы» видны по цвету… Очень приятный цвет для глаз, не то чтобы зеленый, и нельзя сказать, чтобы мундирный; а о вкусе и говорить нечего! Весьма усладительно, хотя, с одной стороны, и горько!.. Трактир, горот Кытай, издавна славится, а в трактире славится буфетчик, особенным приготовлением «Адамовых слез» по новейшему, усовершенствованному способу, и многие, очень многие хорошие люди услаждают свои горести этими горькими слезами, и кто, говорят, примет соразмерное количество этих капель, или слез, тот забывает и скуку, и горе, и оскорбление любви, и неприятности по службе, и были будто бы такие люди из числа чиновных, казенных людей, ничего не певшие, не пившие, не писавшие, а только переписывавшие, которые, под благодатным влиянием «Адамовых слез», пели самым раздирательным образом и даже писали, так просто, сами писали, а не то чтобы только переписывали! Самсон Самсонович, получив новое приглашение, глотает «Адамовы слезы» и отправляется далее. И странно — не находилось человека, который бы оттолкнул Самсона Самсоновича неприветным словом. Иной только подумает что-нибудь, а все-таки скажет обычное для него: «не угодно ли вам» и «прошу покорно!». Самсон Самсонович, обращаясь с своим вопросом: «Что это вы изволите кушать», — произносит его слабым, кротким голосом, и вопрошаемый, взглянув на него, встречает чуть заметную улыбку, то не бывает улыбка учтивости, ласки, благорасположения, встречает взор, странный, сверкающий особенным, неистолкуемым чувством, и от той улыбки, от того взгляда вздрагивает человек, теряет веселое расположение духа и спешит посадить Самсона Самсоновича возле себя, угостить, обласкать его, не спрашивая, кто он, и не желая знать, кто он. Трактир пустеет; только в одной отдаленной комнате веселая толпа чиновников, порядком покутивших, собираясь домой, рассуждает окончательно: — Дурак! сущий дурак! Если бы не женился на какой-то родственнице директора, не бывать бы ему столоначальником во веки веков! То ли дело Сой Кузьмич! Сою Кузьмичу не только столоначальником, министром быть! — Без всякого сомнения! Не будь он так пренебрежен службою, он был бы уже если не министром, то помощником экзекутора! — Вообразите: вчера я… да, я вчера был уже пришедши в департамент, когда Сой Кузьмич… — Что и говорить! Сой Кузьмич у нас самый бойкий человек! Просто сказать — битка! Самсон Самсонович, забившись в свой угол, пребывал в умилительном состоянии. Он лежал на диване, смотрел в потолок, на хитрые арабески, и думал, что вот, дескать, потолок, а это арабески, а там паутина, а там уже и бог знает что такое… О других предметах он никогда не думал: он разучился думать. Но вдруг его бледное, мертвое лицо покрывается румянцем, оловянные глаза сверкают, две слезы, горше и чище «Адамовых слез», катятся по щекам, из груди вырывается тяжкий, долгий вздох… «Битка!» — говорит про себя Самсон Самсонович. Это слово, долетевшее к нему из отдаленной комнаты, поразило душу его, напомнило ему о чем-то давно прошедшем, давно забытом. Не всю жизнь свою провел он здесь в трактире: он жил когда-то между людьми, когда-то к нему приходили такие же люди несчастные, оборванные, как он, и спрашивали тем же сладостным голосом: «Что вы это кушать изволите!» Когда-то и о нем говорили тоже, что говорят теперь о каком-то Сое Кузьмиче. Бойкий человек! Битка! говорили долго, двадцать лет… и такова была его нравственная сила, что в двадцать лет эта похвала, эта почесть ни разу не вскружила ему голову, не отважила его ни на один отчаянный казус, ни на одну проделку, ни на одну плутню, которую бы он сделал не по общепринятой методе, без надлежащей осторожности. Блестящая судьбина ждала его. Теперь он был бы уже бог знает чем, ездил бы в карете, покровительствовал, судил, рядил… Но бес попутал его на двадцать первом году ревностной службы: он зазнался! «Что!» — сказал сам себе Самсон Самсонович и после этого «что» запустил руку в казенный сундук. «Я — дескать — битка!» И нашелся злодей, верный друг, которому недоставало только случая быть самому бойким человеком и биткою! Верный друг упек битку; битку отдали под суд, битку выгнали из службы с таким паспортом, что боже упаси! Битку прозвали дураком! А предатель, дотоле лицо ничтожное, пешка, прослыл бойким человеком, биткою, и недаром: теперь он лицо весьма благородное и солидное; он не пренебрег великим множеством установленных правил, форм и порядков, он хранит их строго, сидя на самой вершине их, и, оттуда озираясь, дивится, как высоко поднялся он!.. И стал скитаться Самсон Самсонович по великому граду Петербургу… долго скитался он с своею горькою долею, наконец бросил якорь в этом гостеприимном трактире. Десять лет он провел здесь, и только здесь… и так привык к своему положению, так переродился, что и узнать нельзя в нем прежнего битку; он не горюет, не страдает, не заботится, не мыслит ни о чем… Только лежит себе на диване и смотрит в потолок. Но иногда, редко, подслушанный разговор чиновников, вроде вышеприведенного, поражает душу его тоскою неумолимою. Он плачет в своей каморке, на своем войлоке… он вспоминает, он чувствует, он думает: «Когда бы я был точно хуже других!.. Когда бы другие не были хуже меня!» Бьет одиннадцать часов; трактир запирают. Веселые чиновники и вслед за ними Самсон Самсонович, сопровождаемый Петрушкою, уходят. Одни поют:СТО РУБЛЕЙ
Есть в мире предметы благоговения всеобщего, безусловного; есть величие, совершенное в глазах мудреца и дурака; есть сила, своенравно, деспотически располагающая жребием человеческим, — те предметы — рубли, то величие — рубли, та сила — в рублях! Человек без рублей, хотя бы то был и чиновник, ничего не значит, ни к чему не годится и ничего не стоит. Человек с рублями, хотя бы то и не был чиновник, имеет значение всюду, годится ко всему и стоит той суммы рублей, которою он обладает. И странно, что при такой популярности рублей, доселе не дознано, какое именно количество их нужно на каждую православную душу или для счастья человека данного ранга! Впрочем, есть должности, в которых можно обойтись вовсе без жалованья, которые так и влекут к служению в них из одной чести, из одной любви к отечеству! Но Авдей Аполлонович, давший повод к этому рассказу, не был из числа тех избранников, которым своенравная судьба шлет полное, личное и потомственное блаженство в образе такой-то счастливой должности. Авдей Аполлонович, чиновник, сын Аполлона Авдеевича, поэта, имел несчастье родиться в дождливый осенний вечер, в такую горькую минуту, когда отец его, прочтя жестокую критику на свои стихотворения, написанную, по его соображению, Карамзиным, смотрел на весь свет и, между прочим, на умножение своего рода с самой дурной точки зрения: «Стихов, — говорил он, — не раскупят после этой критики, а семейство увеличилось: надобно хлеба! Вздумал же этот ребенок, прости господи, родиться!» И Аполлон, изорвав в клочки журнал, заключавший в себе зловредную критику, и даже не взглянув на новорожденного, занялся, для успокоения оскорбленного самолюбия, сочинением антикритики, в которой с первых строк назвал Карамзина оным господином Карамзиным, далее просто каким-то Карамзиным, но, считая и это недостаточным, объявил Карамзина не знающим российского стихотворства и присовокупил к тому иные сильные выражения, в наше время уже не употребляемые, потому что образованность разлилась всюду, даже между литераторами. «Из того, что Авдею не посчастливилось родиться в пору, следует, что ему и жить не посчастливится. Трудно оступиться на первом шагу в этот коварный мир, а там уже и пойдешь спотыкаться, пока не упадешь в могилу!» Авдей был даже несчастнее многих, родившихся, подобно ему, не в пору: когда ему наступило шестнадцать лет, для него нигде во всем Петербурге не было места и ваканции — ни в школе, ни в канцелярии, ни в тесной квартире поэта, ни даже на Парнасе, куда Аполлон хотел было втащить свое детище, во избежание необходимости учить и платить за него. Искомой ваканции нигде не оказалось. Между тем Аполлон родил, после Авдея, еще большой том стихотворений и маленькую дочь. Наконец он умер от восторга, вследствие чтения третьей корректуры своих «Антологических цветов», а сын так на веки веков и остался без ваканции!.. Похоронив и помянув усопшего Аполлона по христианскому обычаю, Авдей, его мать и сестра Наташа, которой в ту пору было лет четырнадцать, принялись устраивать свое житье по новому способу: надобно было зарабатывать деньги на хлеб насущный, потому что поэт, скончавшийся в блаженном видении себя «российским Анакреоном», не оставил своей семье ничего, кроме своих сочинений в корректурах. Мать достала себе и дочери работу для магазина, и они, работая по двенадцати часов в сутки, добывали вместе один медный рубль. Но Авдей не умел ни писать стихов, подобно своему отцу, ни шить женских нарядов, подобно матери и сестре, он умел только «писать разные бумаги» и тщетно старался приискать себе место для этого занятия. Он бывал во всех департаментах, палатах, канцеляриях, обращался к чиновникам всех классов и цветов, всюду — и все отвечали ему одно: нет ваканции! Грустно и больно было бедному Авдею видеть себя в необходимости существовать трудами матери и сестры! Напрасно они ободряли его, советовали не огорчаться, подождать, походить, понаведаться еще раз, может быть, уже и открылась где-нибудь ваканция — напрасно! В душу его западало страшное подозрение, что для него во всем мире нет и не будет ваканции, что он здесь так, какая-то случайность, ошибка — человек без ваканции! В отчаянии он решился попытать «ваканции» в третий раз и отправился в прежние места. В одном из тех мест, на вопрос Авдея: «Что, позвольте спросить, еще не открылась ваканция?» — чиновник с раздутыми щеками отвечал ему сиплым басом, величественно воздев нос к потолку: «Говорят вам, что нет! Нет, так и нет! Что вы надоедаете своей ваканциею!» В эту самую минуту седой старик, со звездою на груди, глядел из другой комнаты в полуотворенную дверь на Авдея и на раздутого чиновника. Когда Авдей, еще более пораженный грубостью ответа, хотел уйти, старик спросил у него кротким голосом: «Что вам угодно, молодой человек?» Авдей воодушевился отчаянием и отвечал: «Надобно чем-нибудь жить, ваше превосходительство! Не оставьте! Не милостыни, а должности прошу! Зачем я на свет родился, если для меня нет ваканции, у меня не спрашивали! А теперь мать, сестра!..» Этот довод так подействовал на ласкового генерала, что он приказал Авдею подать просьбу о принятии его в «чиновники». Авдей земли под собою не видел, бежа домой с радостною вестью. Он жил в четвертом этаже, но еще не добрался и до третьего, а уже кричал: «Маменька! Наташа! Есть ваканция!» Он поступил на службу и стал служить… Вдруг, в одно прекрасное утро, чиновник с раздутыми щеками, бывший его начальником, объявил ему, что его превосходительство, генерал, переведен в другое ведомство и что по причине преобразования канцелярии он, Авдей, оставлен за штатом, то есть без ваканции! Для человека, испытывающего радости жизни только один раз в месяц, при получении жалованья, нет ничего ужаснее, убийственнее, как быть внезапно оставленным за штатом, неожиданно лишиться ваканции и не видеть в длинной цепи грядущих дней ни одного первого числа! И вот Авдей опять без ваканции! Несчастный! Он только что изучил силу и необходимость двадцати рублей ассигнациями, которые получал ежемесячно в канцелярии и отдавал матери, а мать всегда в таких случаях покупала что-нибудь ему и сестре… и все были так веселы, так счастливы… И все разрушилось! Нет в свете такого английского, стального, усовершенствованного, патентованного пера, которое могло бы изобразить глубокую печаль бедного, чиновного, трехдушного семейства, пораженного, растерзанного мыслью, что Авдей опять без ваканции! Каждая душа томилась и страдала по-своему, порознь от двух прочих душ, каждая старалась сказать что-нибудь утешительное, но в уединении проливала горькие слезы! Вообще несчастие данной силы действует не на всех одинаково: есть люди, которые под гнетом несчастья утешаются какой-нибудь мечтою, воображая себя, например, гнущими по четыре угла сряду, срывающими банк; есть люди, которые только бранятся и проклинают весь свет, не допуская никаких утешений, никакого развлечения; есть люди, которые ничего не проклинают, а только думают: «Вот опять несчастье! даже и на Невский не хочется взглянуть… по этому несчастье сейчас заметно!» Есть, наконец, люди, которые в несчастье тоже ничего не проклинают, но и не думают о Невском, как другие думают только о том, что они несчастны, что нет для них в мире ни одной радости, ни одной верной надежды, ни одной ваканции, которые считают несчастье не проходящим злом, а уделом всей своей жизни. Это самые несчастные, и к их числу принадлежало многострадальное семейство «российского Анакреона». Но давно замечено и многократно повторено, что всякое горе проходит. Так и оставление Авдея за штатом сначала повергло семейство Анакреона в скорбь неутолимую, потом постепенно все стали привыкать к этой беде, и Авдею первому пришла в голову живительная мысль, что если один раз ему уже удалось отыскать ваканцию, то, может, удастся это и в другой. Он вспомнил, что не все пишущие и переписывающие люди служат в департаментах и палатах, что многие чиновники служат в купеческих конторах, что есть чиновники-конторщики, так же как чиновники-столоначальники. Одушевленный новой надеждой, Авдей отправился в конторы, впрочем, не в самые конторы, а только в передние, где обыкновенно лежат сторожа, занимаясь сподручным делом — почесыванием затылка и боков. У этих сторожей, которые происходили из отставных солдат или из кровных мужиков, Авдей смиренно осведомлялся: «Нет ли здесь ваканции по письменной части?» — и в десяти передних получил один ответ, что ваканции никакой нет! Бесполезно проходив по Петербургу с осьми часов утра до трех пополудни, когда обыкновенно конторы пустеют, он уже под губительным влиянием разочарования зашел в переднюю конторы господ Щетинина и Компании. Там сторожа не оказалось, и Авдей должен был пройти прямо в контору, где, кроме четырех конторщиков, изволили быть и сами господа Щетинин и Компания. Авдей вдруг заметил эту самость, потому что она сидела в халате, по русскому обычаю, и обращалась к конторщикам, называя их определительными именами: скотом, или дураком, или бараном. — Тебе что надобно? — спросил Щетинин, взглянув на униженно кланяющегося Авдея. — Нет ли ваканции?.. Писать могу! — отвечал Авдей. — Вот видишь ли, ерш, — воскликнул Щетинин, обращаясь к одному из конторщиков, — видишь!.. да не тебе говорю, баран (это относилось к другому конторщику, который второпях, сочтя себя за ерша, почтительно вытянулся пред хозяином), я тебе, ерш, говорю: вот видишь ли, я еще и не свистнул, а уже конторщики сбегаются… Так видишь ли… В эту минуту ерш, покрасневший, отвечал скороговоркою: — Хозяин! Я вижу больше, чем вы думаете! — То-то, ерш! Из тебя был бы путь, если б ты не ершился больно! Ну, да потерплю еще маленько! Авдей, послушав и поглядев на эту сцену, преисполнился глубокого уважения к господам Щетинину и Компании; но, видя, что эти господа, занятые прением с своими конторщиками, забыли о нем, он позволил себе напомнить им о своем присутствии скромным кашлем. — А, ты еще здесь! Так ты в конторщики хочешь,? — спросил Щетинин, снова обращаясь к Авдею. — Я желал бы иметь ваканцию. Сделайте такую милость, дайте мне ваканцию! — А из каких ты? — Что-с? — Чей ты такой? Я спрашиваю. Авдей решительно не понимал смысла этих вопросов и, смущенный, решился молчать. — Что ефто за народ! — воскликнул господа Щетинин и Компания. — Ему, ефто, толком говоришь, а он молчит как… как рак! — Извините, — отвечал Авдей трепещущим голосом, — я не расслышал или не понял, что вы изволили сказать. — Я, выходит, спрашиваю, что ты за человек такой: крепостной ли ты, вольный ли ты… — Я чиновник. — Чиновник! Я не принимаю чиновников… — отвечал Щетинин октавою ниже. — Позвольте вам заметить, — сказал Авдей с отчаянием, — я хотя и чиновник, однако могу работать не хуже… да, ей-богу, не хуже крепостного, не только вольного! — Знаю! Да, вы, чиновники, народ все такой… у меня в конторе только один чиновник — я сам, а все прочие — мои конторщики! — Я и прошусь к вам в конторщики! В это время некоторые из конторщиков, посмотрев на пришельца, насмешливо переглянулись между собой. Авдей, как ни мало был он сведущ в коварстве души человеческой, понял, что конторщики, состоящие из так называемых «вольных людей», уже враждуют против него, потому что он чиновник! Пораженный этим открытием, он печально опустил голову, и на лице его выразилось чувство глубокой скроби, понятной только тому, кому случалось искать и не находить ваканции. Но было здесь одно лицо, незаметное, по-видимому, так же страдательное, как и Авдей, которое, взглянув на Авдея, не улыбнулось коварно, подобно другим конторщикам, и, взглянув, не спешило скрыть возбужденного в нем чувства. То лицо — ерш, по наружности младший из конторщиков, ерш, которому господа Щетинин и Комп. только что угрожали изгнанием из конторы. Когда взгляд ерша повстречался со взглядом Авдея, последнему показалось, будто в нем принимают участие. — Хозяин! — сказал ерш, обращаясь к господам Щетинину и Комп. — Вот этот чиновник, которым вы меня пугали, очень хочет быть у вас конторщиком, так я думаю себе, что, если у вас нет для него ваканции, почему не прогнать меня! — Ой, горе-мальчишка, зверь-мальчишка! — пробормотал господа Щетинин и Комп. — Да, я думаю, почему ж не прогнать меня! Ведь вы меня держите потому только, что вы добрый человек, а я сам не стою ваших милостей! — Послушай, ерш! — сказал хозяин, — будь на твоем месте вот этот баран или тот болван, я прогнал бы его сию минуту; но тебе еще раз прощаю, и прощаю в последний раз, а там уже прогоню. Не ершись! Ты еще мальчишка! Вот только поэтому и прощаю. — Спасибо, хозяин. А чиновник-то? — Чиновник! Ну, и чиновника приму. Посмотрим, к чему он годится!.. Принятие Авдея в конторщики совершилось в одну минуту. Хозяин велел ему сесть за конторку, насупротив ерша, и переписывать, что ему дадут. На первый случай ерш дал ему небольшой счет, и он переписал его скоро, чисто, без ошибок, так что даже странно было, почему Авдею не даются ваканции. Судьба! Щетинин, посмотрев на работу Авдея, был ею доволен, но тут же заметил, что для него ваканции в конторе нет, а принимается он сверх ваканции, по уважению бедности его, с жалованием по десяти целковых в месяц. Авдей поблагодарил Щетинина за человеколюбие и подумал: «Вот уже на что: и пишу, и служу, и жалованье достаточное назначено, а все-таки ваканции не имею!.. Просто горе!» Все конторщики Щетинина, как выше упомянуто, носили характеристические названия, изобретенные и употребляемые им вместо собственных имен. Он находил нужным дать такое же название и Авдею, но трудолюбие, исправность в занятиях, болезненный, страдальческий вид бедного чиновника разрушали каждый эпитет, какой только ни изобретало остроумие Щетинина. Он пробовал называть его рыбой, баричем и даже отряхою, но все эти названия, видимо, были нелепы, и сам Щетинин чувствовал, что Авдей не похож ни на рыбу, ни на барича, ни на отряху. Однажды он назвал его Антиподом, но, заметя, что ерш, коварнейший и неисправимейший из конторщиков, улыбнулся, и не зная в точности, что за вещь называется Антиподом, не повторил этого названия, и после многих тщетных попыток решился называть его просто чиновником. По примеру хозяина и конторщики прозвали Авдея чиновником. Только ерш, осведомясь у Авдея при первом с ним разговоре о его имени и отчестве, называл его всегда Авдеем Аполлоновичем или просто Авдеем, и Авдей, с своей стороны, называл ерша Михеем Тихоновичем или просто Михеем, в сношениях с прочими конторщиками он хотя и не называл их характеристическими именами, однако избегал и употребления собственных, заменяя те и другие местоимениями. Некоторое время конторщики, кроме Михея, дичились чиновника. Будь он «из вольных», они давно успели бы познакомиться и побраниться с ним, но так как он, к своему несчастию, принадлежал не к «вольным», а к «благородным», то кастическая ненависть и кастическое уважение долго препятствовали сближению обеих сторон. Наконец, видя, что «чиновник» очень добрый малый, без всякой амбиции и сам заискивает их расположения, они решились вести себя с ним просто, и как только решились, в ту же минуту, для испытания степени его моральной упругости, попросили его сходить на минутку купить для них завтрак. Этот завтрак, для которого каждый конторщик давал по гривеннику, был покупаем поочередно одним из них: раз бараном, в другой скотом, в третий дураком, в четвертый ершом. Авдей изъявил готовность отправляться в эту экспедицию ежедневно, и его стали посылать ежедневно. Завтрак состоял обыкновенно из белого хлеба, сыру, колбасы, а в первое число и из бутылки мадеры в тридцать копеек серебром. Все это покупал Авдей с такой скоростью и исправностью, что тот из конторщиков, который назывался бараном и сверх того носил уличное имя Тита Никифоровича, заметил однажды, что Авдея надобно приглашать к завтраку, хотя он и не идет своим гривенником; но это замечание, сколько оно ни дышало нежнейшим человеколюбием и бараньей логикою, как-то неприятно отозвалось в сердце Авдея. Он, по обычаю, ничего не сказал, но на лице его мелькнуло выражение чувства… — Я в этом виноват, — сказал ему ерш в ту же минуту. — Я сам сыт, а о тебе и не подумал! Только теперь я заметил, что ты не покупаешь себе завтрака. — И куда мне? — отвечал Авдей. — Для чего мне завтракать и гривенник тратить! Бог с ним! Не умру до обеда! — Ну, уж этому не бывать! Гривенника тратить тебе не нужно, если для тебя так дорог гривенник, а со мною завтракай, не то поругаюсь с тобою! — Ну, что ж ты сердишься, Михей! Я не хочу и на свой счет завтракать, как же мне решиться на твой счет? Этот аргумент был произнесен голосом совершенного убеждения в его справедливости. Михей понял, что нечего настаивать, и сказал: — Чудак! — Мы лучше вот что сделаем, Михей, вперед мы будем завтракать пополам — твой пятачок и мой пятачок. А то, сам посуди, как же мне завтракать на твой счет! — Ну, пожалуй, — отвечал Михей. — Каждый на свой счет, по пятачку с головы. С тех пор Авдей и Михей завтракали пополам, особо от других конторщиков, и когда они завтракали, разумеется, в отсутствие хозяина, который бывал в конторе не более часа в день и бранился, между ими происходили разговоры, сближавшие их, объяснявшие одному для другого темные места в свойствах каждого из них. И после того они становились один другому более интересными, один к другому чувствовали более расположения. Михей, подобно Авдею, многократно испытывал, что значит не иметь ваканции, и наконец, найдя ее, служил за маленькое жалованье, принужденный сносить строптивость и грубость господ Щетинина и Компании. Эти господа, придавая характеристическое название каждому из конторщиков, называли Михея ершом, и это название, сравнительно с прочими, было для него весьма почетное. Оно дано было потому, что один Михей осмеливался не молчать перед хозяином и возражать без грубости, без обиды, за которой тотчас последовало бы изгнание его из конторы, а с учтивою колкостию, и господа Щетинин и Компания терпели эту колкость и только по этой колкости и неуступчивости ставили его в своем понятии выше прочих конторщиков, даже дорожили им, сколько можно дорожить конторщиком, зная пословицу: «Было бы корыто, собаки найдутся». При сходстве в обстоятельствах жизни между Авдеем и Михеем была разница в свойствах: тот был угнетен, раздавлен судьбою; был робок, боязлив, страшился всего, особливо «ваканции», этот, напротив, чувствовал себя обиженным несправедливо, жаждал мести, той мести, потребность которой рождается в сердце человека, оскорбленного условиями, отношениями, обстоятельствами, и которая часто совершается не над одним отдельным лицом, но над великой личностью общества и человечества. Эта жажда мщения одушевляла его в борьбе с обстоятельствами; он не упадал духом, не покорялся ни ваканции, ни судьбе. «Что такое судьба? — говорил он. — Я эту судьбу…» И он произносил такое слово, которое не оставляло ни малейшего сомнения, что он презирает судьбу. В нем уже таился зародыш будущего купца первой гильдии, будущего известного благотворительностью гражданина, будущего троекратного банкрота, оставляющего коммерческое поприще с почетным званием, с миллионом в ломбарде на имя неизвестного и с дюжиной домов в Петербурге на «женино имя», одним словом, зародыш будущего великого человека в единственном роде, в каком только могут быть великие люди в русском народе. Но это был еще зародыш, стремящийся к развитию среди враждебных стихий нищеты и оскорблений. Как все люди с сильным характером, со всемогущей верой в себя, ерш был искренен и пылок; он не скрывал ни своего пренебрежения к прочим конторщикам, ни своего неудовольствия к хозяину, говоря, что терпит это потому только, что ожидает от господ Щетинина и Компании одной выгодной комиссии, по исполнении которой будет в состоянии записаться в купцы и заняться своим делом. «Я так обокраду этого банкрота, — пояснял он, — как ни один приказчик его не обкрадывал. Я покажу ему, что если я дурной конторщик, зато хороший аферист!» Глагол «обокрасть» произвел на Авдея видимо неприятное впечатление, которое он старался скрыть от ерша, но тот заметил это и продолжал свои объяснения таким образом: «Я только так говорю, что обокраду, а в самом деле я воспользуюсь тем, что всюду называется „умением наживать копейку“: жалованьем и трудом ее не наживешь, и никто не наживает этим способом. В ином роде службы берутся взятки, на взятки строятся домы и покупаются деревни. У нас в торговле взяток нет, а есть другие способы: купишь, например, товара на рубль, покажешь в счете на полтора рубля. Так многие делают; и все эти миллионщики, спроси у них, что сделало их миллионщиками? Жалованье? Труд? Пожалуй, они скажут, что трудолюбие и честность, но это не всегда бывает справедливо. Я знаю, иногда самый труд скорее приводит к голодной смерти, чем к довольству в жизни. Я знаю и докажу, что не хуже другого умею благотворить себе на счет ближнего. Не робей же, Авдей! Не покоряйся ничему, пренебрегай всякими обстоятельствами и пользуйся глупостию людей, а глупых людей очень много на свете!» Но эти назидания не могли принести пользы Авдею. Его характер был уже образован, точнее — измят обстоятельствами «ваканции», и душа его уже не была способна к энергии, к упругости, свойственной людям стальной натуры. Он ослабел телом, духом, мыслию и воображением. Он не мог принудить себя видеть что-нибудь хорошее в мире или ожидать чего-нибудь сносного для себя. В тщете покушений извлечь мать и сестру, любимых со всей нежностию доброй, искренней души, из когтей бедности, принуждавшей их к убийственной работе, он нашел безотрадное убеждение, что ни для него, ни для милых ему нет в этом грязном, усовершенствованном, распутном мире ни одной порядочной ваканции. И это убеждение давило его во сне, пугало наяву, убивало в нем волю, расстраивало воображение. Он так был уверен в отчуждении его судьбою от всех интересов, доступных человеческому роду, что не хотел даже попытать счастья, или, по его мнению, ваканции, в искусительной лотерее, которую разыгрывал какой-то магазинщик в Коломне. Разыгрывалось в тысячу рублей серебром, разделенных на тысячу рублевых билетов, следующее добро: корова холмогорская 1; колечко золотое, принадлежавшее, по преданию, царице Клеопатре 1; механическая, усовершенствованная кровать 1; Трактат о добродетели 2; (о цифрах, выставленных здесь с подлинного лотерейного листа, ничего положительного сказать нельзя; но предполагается, что они означали количество разыгрываемых предметов, и в этом смысле трактат о добродетели можно считать или в двух томах, или в двух экземплярах). Но самое важное в этой лотерее было то, что для возбуждения в «почтеннейшей коломенской публике» желания разобрать поскорее «остальные» билеты и для повышения в глазах ее ценности Трактата о добродетели, к нему присовокуплялась премия в десятую долю всей лотерейной суммы, во сто рублей серебром. Таким образом, всякому грешнику, выигравшему Трактат о добродетели, предстояла совершенная возможность не грешить более для приобретения денег, необходимых для самой добродетельной жизни. — И куда мне! — возражал Авдей на уверения Михея, что можно выиграть сто рублей, рискнув одним. — Куда мне выиграть! — И в этом отрицании выражалось столько фаталистического верования в предопределенность несчастия, что Михей, не сообразив даже своего капитала, купил билет на свой счет и насильно втиснул его, в виде «искреннего подарка», в руки бедного, бесталанного чиновника. — Даровому коню в зубы не глядят, — заметил Авдей Михею, — но все-таки жаль, что ты потратился последним рублем на такую мечтательную затею! — А почему же мечтательную? — возразил Михей. — Я купил этот билет на последние деньги, так видишь ли, тут есть что-то такое, почему можно ожидать для тебя счастия. Ей-богу! Тебе непременно надобно добиться счастия! Ведь ты, сам по себе… ну, не для чего обижать тебя: без счастия ты пропадешь, лови же счастие в лотерее! «И в самом деле! Почему бы мне не выиграть чего-нибудь в этой лотерее?» — думал Авдей, возвращаясь из конторы домой и рассматривая билет… И в том билете была странная для него особенность, поддерживавшая надежду: билет имел нумер шестьсот шестьдесят шестой, а известно, что это число для православного человека имеет важное значение, потому что число имени антихриста составляет буквенным счетом сумму шести сот шестидесяти шести. Да, очень лестно было бы выиграть что-нибудь, особливо Трактат о добродетели… Корова тоже значит много, но Трактат лучше. Боже мой! и почему бы мне хоть в этом случае не узнать, что такое счастье? Сто рублей! Знатная сумма! То-то радость была бы для маменьки, для Наташи, если б я, возвратясь однажды к обеду, мог сказать: «Вот вам сто рублей; не работайте больше, не мучьте себя, наймите себе кухарку, купите себе…» И чего-то не накупили бы мы на сто рублей! Очень много вещей можно купить на сто рублей! Так мечтал Авдей, каждый вечер сидя дома, между тем как мать и сестра его, занятые шитьем, не замечали особенной в нем перемены. Сначала он хотел было рассказать им свои фантастические надежды и планы, но, подумав, решил, что не для чего хвалиться вперед… «Если выиграю, тогда обрадую их неожиданно, а если… если нет, — говорит про себя с тяжким вздохом Авдей, — пусть один я буду знать и жалеть о своей неудаче!» До розыгрыша лотереи оставалось две недели. Авдей, сначала решительно отвергавший всякую мысль о выигрыше, постепенно предавался фантастическим мечтам о том, что, может быть, ему и удастся выиграть… хоть что-нибудь! В особенности сердце его трепетало желанием ста рублей!.. Правда, до этого случая он никогда не думал и не смел думать об обладании такою страшною суммою, но теперь логическая возможность выиграть ее с каждым днем более и более подавляла в нем мертвящее неверие в счастье, в удачу, в ваканцию, поселяла и усиливала животворящую надежду. Кто не надеется? Кому не полезно надеяться? Кто в самом страшном разочаровании не считал счастливыми тех дней, в которые лелеял он обманчивую надежду? Авдей также, подобно многим горемыкам, мог бы сочинить себе на две недели совершеннейшее счастие из пошлой надежды на выигрыш ста рублей… И кажется, две недели счастия, по всякой оценке, стоят ста рублей! Но вот несчастие в самом счастии, Авдей, по природе людей восприимчивых, чувствительных, слабонервных, не имел нравственной упругости, необходимой для полезного сопротивления не одним дурным, а еще более хорошим, блестящим обстоятельствам. Как прежде отчаяние, что для него нигде нет ваканции, поражало душу его тоскою умирающего злодея, так теперь надежда, что наконец он поймает эту неуловимую ваканцию в лотерее, уносила воображение его в превыспренние области нечеловеческого блаженства. И та надежда час от часу обращалась в фаталистическую уверенность. Все, что ни есть в мире прекрасного и радостного, все, к чему стремятся вздохи, желания и усилия страдальцев, для Авдея выражалось отвлеченным понятием о ста рублях серебром, и те рубли принимали светлый образ абсолютного благополучия, о котором не знает ни один чиновник в Петербурге, которое нисходит прямо с неба и дарует избраннику все блага мира сего на всю жизнь. В этом счастливом состоянии Авдей занялся составлением бюджета издержкам, на которые предполагал употребить сто рублей серебром тотчас по неизбежном выигрыше их. Но трудно было исчислить и оценить все блага, которых можно накупить за сто рублей! Просидев над сочинением бюджета целый час, он написал только следующее: «Очки новые маменьке, 2 руб.; шляпку новую Наташе — неизвестно; салоп новый для нее же — неизвестно…» Более ничего не мог он придумать, не зная ни благополучий, продаваемых в Гостином Дворе, ни крайних цен благополучиям; потом он задумался и старался вспомнить свои личные нужды. «Но какие же у меня нужды, — сказал он по долгом размышлении, — у меня одна нужда… сделать счастливыми мать и сестру… Вот вам, маменька, сто рублей, и будьте счастливы… как я!» Вот наступил и день розыгрыша лотереи. Вдруг с Авдеем случилась странная перемена: когда до исполнения мечтаний его осталось несколько часов, он упал духом, растерялся. Прежние золотые мечты заменились угнетающим предчувствием, потому что они только золотые мечты. И сколько муки, сколько отчаяния было в этом предчувствии! «Нет! — думал он. — Я не выиграю! Где мне выиграть! Могу ли я быть счастливейшим из тысячи! Я только обманывал себя мечтами!» Но и в этом сознании не находил он облегчения тяжкой тоски, поразившей душу его в то самое время, когда должна была решиться судьба билета с нумером шестьсот шестьдесят шестым, судьба Трактата о добродетели. Напрасно он допускал даже возможность выигрыша, стараясь хоть в этом найти успокоение. Нет! В эту роковую минуту, в минуту развязки, он не мог принудить себя веровать в тот или другой случай, он все-таки был под губительным влиянием неизвестности и тоскливого желания выиграть сто рублей. Когда конторщики, окончив дневные занятия, расходились по домам, Михей напомнил Авдею, чтобы он сходил в Коломню справиться, не выиграл ли чего-нибудь. «И куда мне!» — отвечал Авдей, но, выйдя со двора, бессознательно повернул в Коломню, к месту роковой лотереи. — Ну зачем я иду? — рассуждал он сам с собою. — Вовсе незачем идти; там есть кому и без меня выиграть, найдется счастливец! Кому сто рублей ничего не значат, тот и выиграет, а мне так просто счастье — принесли бы сто рублей, так я и не выиграю! Мне уж так на роду написано, чтоб не иметь ни в чем удачи и ваканции. Право, напрасно я иду! До сих пор хоть воображал, что вышло бы, если б удалось выиграть, а теперь, когда узнаю, что не выиграл, и воображать нельзя будет, только мучиться стану понапрасну! Известное дело, что я не могу выиграть, а все-таки очень, очень жаль будет. Лучше я ворочусь домой и хоть один вечер подумаю, что вот, дескать, благодать божия! А завтра схожу на лотерею, и пусть!.. Но едва Авдей исполнился решимости возвратиться домой, чтобы последний вечер воображать себя счастливцем, выигравшим сто рублей и покупающим очки новые, шляпку новую, салоп новый, как в ту же минуту очутился у дома, где разыгрывалась лотерея. Толпа человек в двести расходилась, утешая себя в неудаче остроумными насмешками над коровою, колечком, механической кроватью и Трактатом о добродетели с его пресловутою премиею. Авдей уже не мог воротиться, но, мучимый неизвестностию, желанием, отчаянием, не мог и решиться узнать судьбу своего билета. Он остановился у ворот дома, волнуемый горькой думой. Из отрывистых замечаний толпы он понял, что корова досталась студенту, метившему на колечко, колечко какому-то советнику, который взял десять билетов с единой целью выиграть корову; механическую усовершенствованную кровать выиграл мелочной лавочник, желавший также коровы или, по меньшей мере, Трактата о добродетели; кому наконец достался Трактат, Авдей, расстроенный, не расслышал. — Так и быть, войду и спрошу! — сказал Авдей со вздохом. — Жаль! Две недели был счастлив, и теперь… И что бы им подождать еще недельку! Может быть, тогда вышло бы лучше?.. Пойду!.. Но зачем идти! Знаю, что не выиграл, но все-таки удостовериться в этом своими глазами страшно! — А если выиграл? Что, если я выиграл? Приду и узнаю, что выиграл, и вдруг у меня будет сто рублей? О! Страшно! Бледный, трепещущий вступил Авдей в магазин. Там были, кроме разыгрывавших лотерею, три лица, выигравшие корову, колечко и механическую кровать. — Позвольте узнать, что мой нумер?.. — спросил Авдей у магазинщика, трепеща от сильного волнения. — Какой у вас нумер? — У меня-с?.. Да, у меня есть нумер! — Который же у вас? Я спрашиваю. — Ах, да-с! У меня шестьсот… сот… сот… вот-с… Бедного Авдея била лихорадка, он так дрожал, что не мог даже выговорить своего нумера. Подавая билет, он уронил его и, не поднимая, смотрел на присутствующих мутными глазами. Хозяин разыгрывавшихся вещей, подняв билет, произнес: — Нумер шестьсот шестьдесят шестой… это самый счастливый нумер! Вы, милостивый государь, выиграли Трактат о добродетели с принадлежащей к нему премией во сто рублей серебром. Извольте получить! Авдей зашатался, из глаз его посыпались искры, в ушах раздался звон, будто тысячи колокольчиков. Что? — сказал он, смотря на носки своих сапог. — Вы, сударь, выиграли сто рублей серебром! — Сто рублей! — воскликнул Авдей, засмеявшись и ударив себя по лбу так сильно, как будто хотел выколотить оттуда остаток смысла. — Сто рублей! Вот оно что! — И он разлился страшным, неестественным хохотом… — Что с вами! Что с ним! — воскликнули в один голос удивленные и испуганные зрители этой сцены. — Ничего, — заметил Авдей с улыбкою. — Не беспокойтесь, это ничего! Я выиграл сто рублей… да, выиграл, выиграл сто рублей… Очки… шляпку… салоп… Сто рублей!.. И он стал пятиться к дверям, припрыгивая и говоря беспрестанно: «Сто рублей!» Зрители, пораженные странностию случая, безмолвно смотрели вслед за Авдеем, который, очутившись на просторе, скакал по улице, подражая пристяжной лошади, боком, наклонив голову на одну сторону и восклицая: — Сто рублей! сто рублей!.. Маменька!.. Сто рублей… Наташа! Очки новые! Сто рублей… Шляпка новая… Сто рублей… В то же время Михей, любопытствуя знать, не удалось ли в самом деле выиграть бедному чиновнику хоть механической кровати, шел по Екатерингофскому проспекту в Коломню… вдруг видит он описанное зрелище: Авдей, не уставая, скачет, как лучшая вятская лошадь, за Авдеем бегут мальчишки, за мальчишками три будочника. «Сто рублей! Я выиграл сто рублей!» — кричал Авдей и, повернув за угол, исчез из глаз Михея и своих преследователей.По Петергофской дороге, на одиннадцатой версте от достославного града Санкт-Петербурга есть уголок, где издавна приютилось абсолютное счастье, уголок, куда не проникают ни стихи, ни рубли; где нет ни друзей, ни лотерей, где каждый обитатель доволен самим собою и, созерцая видения иного, необъяснимого мира, проводит жизнь, не чувствуя жизни. Тот счастливый уголок называется «Больницей всех скорбящих». Туда-то отправился Михей с горьким соболезнованием о жребии своего товарища и с надеждою, что искусство врачей скоро поможет бедному Авдею выйти из восторженного состояния по случаю рокового выигрыша. Вообразите же, о сострадательные души, отчаяние Михея и глупую шутку судьбы, постоянно преследующую Авдея: главный доктор, выслушав рассказ Михея о причине своего прибытия, отвечал спокойно: «Хорошо! но для вашего пациента в доме сумасшедших нет ваканции!..»
ПЕРВОЕ ЧИСЛО
I
Философия первого числа
У чиновника для письма нет эпохи радостнее, достопамятнее, вожделеннее — первого числа. Тогда и солнце светит, и луна блестит, и звезды горят ярче, лучезарнее. Будь даже, по обычаю петербургского климата, дождь и слякоть на дворе, случись и наводнение, эти неприятности переносятся первого числа со стоической твердостию: они возбуждают не ропот, не досаду, как в другие числа, а замысловатые шутки, язвительные насмешки над погодою, а порой назидательные изречения! И такова благодатная сила первого числа, что еще за неделю до наступления его грудь чиновника для письма дышит свободнее, взгляд на жизнь проясняется, эгоизм слабеет и душа, по мере приближения первого числа, наполняется сладостным предчувствием — получения жалованья! Когда же оно, при каких бы то ни было обстоятельствах погоды и службы, наступает, чиновник для письма перерождается совершенно: он на целый день становится не тем, чем бывает во все другие числа: он весел,самодоволен, счастлив! На Петербургских вершинах пробуждается деятельность, воцаряется шумная веселость. Маленькие, подоблачные клетки, льстиво именуемые «комнатами с мебелью, водою, прислугою, особым ходом и дровами», освещаются цельными свечами даже в такую пору, когда имеются в наличности край заходящего солнца или полная луна — предметы драгоценные во все прочие числа, по случаю отсутствия свечного огарка!II
Утро первого числа
Когда-то были в Петербурге коллежские секретари Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич. Они жили пополам в одном из тех превыспренних помещений, которые устраиваются между карнизом и крышею пятиэтажных домов, в равном расстоянии от земли и луны. Человеколюбивая изобретательность архитекторов и домохозяев разделила эти помещения многими хитрыми перегородками на тесные и темные клетки, гиперболически называемые комнатами. Старые вдовы, губернские секретарши и даже титулярные советницы обыкновенно нанимают целое отделение таких клеток и от себя уже пускают в каждую клетку жильцов, исключительно благородного звания, и жилиц, вдовствующих и девствующих, занимающихся работой для магазинов. Такую же клетку, под именем особой комнаты с дровами, водою и мебелью, нанимали и коллежские секретари Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич за три целковых в месяц. Эти коллежские секретари были нрава тихого и нравственности неукоризненной. Один из них, Евтей, служа чиновником для письма, получал каждый месяц по десяти рублей серебром, а другой, Евсей, занимал должность помощника столоначальника, и в этом качестве пользовался большим против своего товарища окладом — именно двенадцатью целковыми в месяц. В квартире их царствовала всегда, кроме первых чисел, глубочайшая тишина. Хотя они вообще питали один к другому дружеские чувствования, однако различные мелкие неудобства, нераздельные с важными выгодами житья пополам, и томительное однообразие их существования, обременяемого копеечными нуждами, канцелярскими страстями и убийственною необходимостию строгой и постоянной расчетливости в издержках, произвели в них мудрое нерасположение ко всяким разговорам и объяснениям, «из которых ничего не выходит». Притом же оба они были поражены особенным несчастием по службе. Евтей, получивший университетское образование, был писец по должности и глубокий мыслитель в душе. Переписывание он считал тяжкой для себя обидой. Напрасно просил он для себя занятия несколько благороднее, уверяя, что может сочинять бумаги сам не хуже, а может быть, и лучше столоначальника, напрасно он употреблял в защиту своих притязаний неотразимый аргумент, что он в состоянии производить таковые сочинения в потребном количестве «с важной для казны выгодой», ничто не помогало! В канцелярии считали его, как выше сказано, глубоким мыслителем, и в этом качестве не находили его способным даже к должности помощника столоначальника! Евсей, напротив, еще в детстве, сидя за азбукой, мечтал о блаженстве переписывания. Сама судьба готовила его к этому званию, дав ему весьма красивый почерк и отказав даже в малейшей частице делопроизводительной способности; но тот же решитель человеческого жребия — слепой случай, который сделал Евтея писцом, дал Евсею, недоучке приходской школы, важную должность помощника столоначальника, возлагавшую на него обязанность сочинять отношения и рапорты. Тщетно он с глубоким смирением докладывал кому следует, что ему было бы очень лестно переписывать готовое, что он учился только в приходской школе, да и отец его был сенатский копиист, сорок лет упражнявшийся в подшивке старых бумаг, или, говоря канцелярским слогом, в приобщении их к прочим таковым же, — на эти объяснения не обращалось внимания. В качестве помощника столоначальника он должен был сочинять сам и, покоряясь обстоятельствам, сочинял, правда, нескладно, с тяжким трудом, но сочинял и был очень несчастлив. Таким образом каждый из друзей, отлично замороженный внешними обстоятельствами, сосредоточился в самом себе, не позволял вырываться наружу ни сетованиям на случай, располагающий людьми, ни замечаниям о людях, располагающих повышениями, ни предположениям об улучшении своего дикого существования, зависящего от повышения. Только первое число своим чародейственным влиянием пробуждало их от взаимной бесчувственности, оживляло их, вызывало на разговоры и рассуждения. Утром 1 ноября Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич, проснувшись, нежились на своих кроватях под камлотовыми шинелями, отправлявшими должность собольих шуб и теплых одеял. Веселое выражение их физиономий показывало, что они не говорят только от избытка сюжетов для разговора, и точно, не прошло и получаса после того, как они, волнуемые радостным ощущением первого числа, передавали один другому свои чувствования красноречивыми взглядами, Евтей обратился к Евсею с следующим вопросом: — Ты спишь, Евсей? — А что, Евтей? — спросил у него Евсей. — Да так! — отвечал Евтей. — Я не сплю! — отвечал Евсей. — А ты? — И я не сплю! После краткого молчания, происшедшего от обоюдной непривычки разговаривать по утрам и от истощения сюжета, Евтей снова обратился к товарищу: — Знаешь ли что, Евсей? — А что? — Сегодня опять первое число! — Да! — Сегодня опять надобно получать жалованье! — Получать надобно, да надобно и платить за квартиру! — Вот, видишь ли, что я замечу тебе, Евсей: ты машина, а не человек, ты живешь чутьем, как зверь, а если б ты рассуждал, мыслил… — Что же вышло бы, если б я рассуждал и мыслил? Наш брат, сколько ни рассуждай, как ни мысли, ничего не добьется. — Ну, нет! Если б ты рассуждал… не должно обращать исключительного внимания на одну глупую существенность, надобно иногда пожить и общею жизнию человечества. Если б ты рассуждал, ты открыл бы, знаешь ли, что ты открыл бы, — воскликнул Евтей почти в исступлении, приподнявшись на своем ложе, — ты открыл бы важный факт, что числа имеют влияние на месяцы, а месяцы на числа! — О! — Ты составил бы себе философию цифр и чисел, — продолжал Евтей, более и более разгорячаясь, — ты узнал бы, почему иные месяцы счастливы, иные несчастливы. Вот, например, прошедший октябрь был длинный месяц, нынешний ноябрь опять длинный, будущий декабрь еще длиннее, следующий январь равномерно длинный. Ну, посуди сам, не будь ты писательная машина, не мог ли бы ты открыть, что это сцепление длинных и длиннейших месяцев есть просто несправедливость, обида для нашего брата? Не мог ли бы ты понять, что следующий затем отдаленный февраль есть наилучший из всех месяцев, составленный ровно из двадцати осьми дней, что этот февраль блаженный, благородный месяц, он один создан для чиновников, для нашего брата, а прочие все для просителей и кредиторов. — Фантазия! Философическая фантазия! — отвечал Евсей. — Мы с тобою не убавим ни одного дня в длинных месяцах, так не из чего и горячиться! После краткого молчания друзья снова заговорили. — Знаешь ли что? — сказал Евтей, обращаясь к Евсею. — А что? — спросил Евсей. — Человек имеет свободную волю? — спросил Евтей. — Не знаю! — отвечал Евсей. — Ну, так я тебе скажу, что человек имеет свободную волю! — Так что же? — Я женюсь! — Ого! стало быть, большое приданое? — Погоди! Прежде всего надобно определить точку, с которой должно смотреть на женитьбу. По-твоему, для чего женятся люди? — Для размножения нищих, по закону Магометову, и для приданого, по европейскому обычаю. — Да! А если нет приданого? — В таком случае те, которые женятся, — дураки и философы! — По-твоему, приданого ничем заменить нельзя? — Можно, если жена будет состоять под высоким покровительством. Иное покровительство стоит приданого! На ком же ты женишься? — Скажи мне прежде, как по-твоему: у человека, кроме свободной воли, есть и разум? — Не знаю! — Ну, так я тебе скажу, что у человека есть и разум! — На ком же ты женишься? — Я женюсь… Вот, видишь ли, Евсей, так как у меня есть свободная воля и ясный разум, то я сообразил все и вижу, что нашему брату должно жениться не теоретически, а практически… Нужды нет, что существуют какие-то понятия… понятия — вздор! они не факты, не дрова, не свечи! — А на ком? — К тому-то и ведет мой аргумент, что я женюсь как человек мыслящий, обладающий железною волею и ясным разумом, я женюсь на Анне Алексеевне! — На той! — Да, на той! — Каким же это образом? А генерал? — Генерал вошел в мое положение и хочет вывести меня в люди посредством Анны Алексеевны. — Генерал добрый человек. И ты уже решился? — Я сказал только, что предаю судьбу свою великодушному попечению его превосходительства и сделаю все, что он признает за благо; но все-таки неприятное положение!.. И если б я не имел железной воли!.. — А что? — Ведь у нее, у Анны Алексеевны, и… — Это не беда! Толк не в жене, а в повышении. Кстати уже, скажу тебе откровенно, что и я женюсь… — Неужели? Вот что кстати, так кстати! А на ком? — На ком! Вот, видишь ли, Евтей, у меня тоже есть кое-что щекотливое относительно… Да что делать… начальство принимает участие! — Ну, уж нечего и говорить! Нынче век таков! А на ком? — На Каролине Ивановне! — На той? — Да, на той! После этого разговора коллежские секретари разом, будто автоматы, движимые одною пружиною, поднялись с кроватей, в полчаса кончили свой туалет и, облекшись в установленную форму, спустились с Петербургских вершин долу и молча разошлись в разные стороны — один для переписывания против воли, другой для сочинения против натуры.III
Железная воля
Первого ноября, в четыре часа пополудни, тот же из коллежских секретарей, который назывался Евтей, шел из-под арки Главного Штаба в Морскую, имея в ветхом бумажнике только что полученный красный новенький билет в десять серебряных рублей, составлявших его месячное жалованье. В его веселом, улыбающемся лице, в его глазах, одушевленно обращавшихся от предмета к предмету, ясно отражалось высокое, неизъяснимое киргизам и откупщикам блаженство, даруемое человеку незначительного ранга единожды в месяц, первого числа, и покупаемое долгим, томительным постом и воздержанием от всех благ Петербурга, великолепно освещенных, искусительно выставленных, соблазнительно ходящих и взирающих по всему пути от места службы до места жительства. Дойдя до Невского проспекта, Евтей Евсеевич остановился и, глядя то вдоль Морской, то в даль Невского, предался весьма дельным размышлениям о том, куда ему идти? Прямо ли, неуклонно в подлунную клетку, по заведенному издавна порядку, заплатить хозяйке свою долю за квартиру и погасить важный долг мелочному лавочнику, не увлекаясь обольщениями первого числа, или уклониться на Невский и испытать некоторые из радостей и блаженств, продающихся в кондитерской и других местах по умеренным ценам? Подобно всем хорошим людям, которые в случаях решительных не знают, чему следовать: указанию ли разума или влечению сердца, Евтей Евсеевич волновался двумя вышеприведенными вопросами, стоя у английского магазина и деятельно анализируя все факты и обстоятельства, служащие к побуждению его идти прямо в квартиру или к допущению уклонения на Невский. Но различных уважений в пользу того и другого случая набралось такое множество, выгоды прямого пути были так ясны, определительны; Невский сиял так ярко; радости, розовые от юности и мороза, глядели так ласково, что Евтей потерял наконец возможность спокойного анализа и сказал про себя с досадою: «Так нет же, не пойду на Невский! Вот и деньги есть, а решился не пойти, так и не пойду! Слава богу: я умею владеть собою, я одарен железною волею! Что мне Невский, если я не заплатил за квартиру? Что мне кондитерские, если я должен лавочнику за репу? Что мне ликеры, если…» Против последней статьи не оказалось достаточного аргумента, и Евтей, любивший анализировать действия и округлять фразы, по точному смыслу маленькой книжицы, нарицаемой риторикою, округлил свой монолог следующим дополнительным восклицанием: «Что мне ликеры!» — и остался весьма доволен этим округлением, подумав, что если бы ему дали ход, то он, вероятно, годился бы в сочинители не только канцелярские, но и в печатные. Потом, следя глазами за распространением газа по великолепному перекрестку Невского проспекта и Морской, Евтей вспомнил, что другие также считают его годным в сочинители, но только в сочинители, он невольно произнес с чувством справедливого судьи в собственном деле: «Да, дурак!» Несколько мимошедших почтенных людей значительно взглянули на него, и никто, по совести, не принял этого неучтивого эпитета на свой счет. Только один из извозчиков, стоявших у перекрестка, очень бойкий и чуткий парень, махая кнутом, подбежал к Евтею с восклицанием: «Куда-с? Двугривенничек стоит!» Другой извозчик, будто выросший из земли, заревел под самым ухом Евтея: «Угодно за пятиалтынничек?» И в то же мгновение цвет извозчиков, лихач в синем армяке, живо подкатил сани к стопам Евтея, говоря учтиво, но решительно: «Извольте садиться!» Евтей был простой малый, всегда, кроме первых чисел. В эти дни присутствие рублей внушало ему чувство собственного достоинства, и он не любил разговаривать с пустыми людьми, какими он считал в душе извозчиков. Озадаченный неожиданным наездом этих пустых людей, он не заблагорассудил выводить их из заблуждения каким-нибудь словом и, бросив на них презрительный взгляд, перешел на другой угол улицы. Между тем он пребывал в прежней нерешимости относительно к неуклонному возвращению в квартиру. Неприличное выражение о Невском проспекте, вырвавшееся у него вследствие досады на сбивчивость и обширность фактов, недоступную анализу, было забыто, и он продолжал развивать нить своих размышлений с округления, перервавшего ее, именно с ликеров. «Ликеры, — думал он, — те же пустяки, что и пирожки. Я хорошо знаю, что такое ликеры и что пирожки. Конечно, ликеры бывают разные: есть сладкие, есть горькие… а бывают и такие ликеры, о которых нельзя сказать определительно, какой они вкус имеют… превосходные, да и только! Ну, и пирожки есть всякие, особливо миндальные… сливки и миндаль… Боже мой! каких, подумаешь, пирожков нет в Петербурге!.. Но я не пойду, сказал, что не пойду, так и не пойду! Я умею владеть собою: у меня железная воля!» И Евтей, еще не успев кончить отречения от Невского проспекта, отправился на Невский проспект. Вероятно, он чувствовал тайный упрек в малодушии, потому что, идя по Невскому, мимо кондитерской Беранже, не вошел в нее, только улыбнулся ей той улыбкою радости и горести, которую вызывает мимолетная встреча и быстрая разлука с любимым предметом. Он пошел далее, размышляя таким образом: «Что мне Невский проспект! Боюсь я его, что ли? Конечно, нет! Стану я прятаться от Невского! Вот было бы смешно и жалко мое положение, если б я, в такой единственный день, как первое число, в такой прекрасный вечер, каков нынешний, не захотел пройти по Невскому, по всему Невскому, страха ради завернуть в кондитерскую, и что мне кондитерская? Как будто у меня нет воли и разума! Да если я не пройду по Невскому, то должен буду считать себя трусливым зайцем, а не человеком с железною волею. Нет! Я не то, что какой-нибудь Евсей и все прочие какие-нибудь „людишки, пишущая тварь“! Я, одним словом, человек мыслящий!» Рассуждая таким образом, Евтей миновал многие кондитерские и западную арку Казанского собора, ведущую, как известно, в Мещанскую улицу. Он шел с твердым намерением, не уклоняться никуда до самого Аничкова моста и только тут, удостоверясь в стойкости и непоколебимости своей воли, несколько смягчился в отношении к самому себе, и пожелал вознаградить себя за это героическое свойство обратною прогулкою по Невскому к Морской, в качестве строгого судьи и беспристрастного наблюдателя петербургских нравов. Идучи обратно по Невскому, коллежский секретарь обратил внимание на встречавшиеся ему лица; они принадлежали исключительно чиновникам различных ведомств и выражали то совершенное спокойствие души, которое дается человеку только один раз в месяц, когда не предполагается ничего, не мечтается ни о чем, наступает совершенное убеждение, что жалованье уже получено и покоится у сердца, биющегося ровно, безмятежно. Толпа чиновников ровно, спокойно, бесстрастно двигалась по тротуару. Она состояла из самых разнородных элементов: в ней были люди не щегольски, даже просто одетые, но превосходно декоратированные, это самые беспорочные и самые счастливые люди, имеющие хорошие места, толстеющие от бескорыстия по службе. Они, какой бы мороз или ветер ни был, всегда умеют закутаться в шинель таким хитрым образом, что, не схватив простуды, покажут всякому встречному символ заслуги и достоинства. Были люди отлично одетые, не так хорошо декоратированные, как те, зато весьма любезные в обращении, исполняющие особые поручения. Далее встречались люди, отличавшиеся необыкновенною ясностию подбородков и милым прищуриванием глаз, подающие большие надежды, кандидаты в гении и столоначальники; наконец, разные чиновники, не имеющие возможности приобресть для прогулок «партикулярную пару» и явившиеся на Невский, подобно Евтею, во всем блеске «установленной формы». С приближением к кондитерской Беранже, в толпе становилось заметным влияние посторонней притягательной силы. Многие чиновники, особливо из тех, которые хорошо исполняют особые поручения, подают большие надежды, быстро уклонились в этот храм пирожков и ликеров. Прочие, в том числе и Евтей, остановились в раздумье: зайти ли туда на минутку или отправиться далее, к Адмиралтейской площади. «Теперь я доказал самому себе, — рассуждал Евтей, — что могу управлять собою на основании разумных наведений. Однажды я шел уже мимо кондитерской, но сказал, что не пойду в нее… и как только сказал, в ту же минуту не пошел! Я понял, что кондитерские и другие места не что иное, как бездонные пропасти для такого жалованья, каково мое, которое, правда, было бы весьма достаточным, если бы природа дала мне соответственный организм — желудок страуса и кожу белого медведя! Но так как она взамен соответственного жалованию желудка, варящего осколки тротуарных плит, взамен кожи, выдерживающей полярную стужу, дала мне гораздо более — сильный характер, „непреклонную, железную волю“». И человек, обладающий сильным характером, непреклонною железною волею, внезапно прервав свои философическо-практические рассуждения о суете кондитерских, бегом побежал… о, слабое и хвастливое человечество!.. побежал в кондитерскую!IV
Разные ликеры
Лишь только Евтей Евсеевич очутился в кондитерской, в благовонной атмосфере конфектов, пирожков и ликеров, он окончательно выбросил из своей головы философические рассуждения по поводу первого числа. Проглотив несколько пирожков, он не приискивал в уме своем ни аргумента, ни софизма для оправдания этого разорительного действия; он глотал с единым сознанием, что пирожки хороши и есть чем заплатить за них. В то время когда Евтей после десятого пирожка стал приходить в себя, он заметил у буфета великолепно декоратированного чиновника почтенных лет и колоссального роста; огромная голова его могла вмещать гений Архимеда, Юлия Цезаря и Ньютона; длинные, мощные руки служили бы украшением, источником счастия наилучшему водоносу: на груди его, широкой, рельефной, могли быть удобно повешены все знаки отличия в мире. Этот странный чиновник, обращаясь к человеку, стоявшему за буфетом, спросил у него громовым голосом: «Есть полька?» — «Есть», — отвечал тот. «Давай!» «Что за странность! Какие большие люди бывают на свете! — думал колежский секретарь. — И что это за вещь, которую он называет полькою?» Каково же было его изумление, когда он увидел жидкость чудесно-нежно-розового цвета, заключенную в ярком хрустальном сосуде. Любопытство и вкус его были раздражены в превосходной степени… «Это, без сомнения, ликер… новый, усовершенствованный ликер… Эх, черт возьми, каких ликеров не бывает в этих кондитерских!» — рассуждал он, глядя с жадностью на вожделенную влагу, и в ту минуту, когда декоративный чиновник, выпив одну рюмку, потребовал другую, он не выдержал искушения и приказал дать ему того же напитка. — Ведь это ликер? — спросил он декоратированного чиновника. — Это ликер, совершенно новый… — отвечал тот всепотрясающим басом. — Название новое, — заметил Евтей, — каков-то вкус? — И вкус новый… не горький и не сладкий, совершенно польковый! — Точно! — воскликнул коллежский секретарь, выпив поданную ему рюмку польки. — Я с вами совершенно согласен: вкус польковый. Истинно полезное изобретение!.. Когда чиновники выпили еще по одной рюмке польки, разговор между ними оживился и развился; он касался всего: пирожков, пушек, шоколада особенного приготовления, железных дорог, Рубини, и пр. и пр. Последний предмет дал им повод выпить еще польки и съесть по два пирожка. Потом оба чиновника, случайно встретившиеся, почувствовали один к другому самое дружеское расположение, и «декоратированный» первый рекомендовался Евтею таким образом: — Я коллежский асессор Спичка. «Какие странные бывают коллежские асессоры! — подумал Евтей. — Не приличнее было бы этому называться Мачтою!» — И в то же время отвечал с поклоном: — А я коллежский секретарь Беда! — Ну, это вовсе не беда! — заметил коллежский асессор. — Вы еще молоды, успеете быть и тайным советником! — Не чин мой беда, — объяснил коллежский секретарь, — а я сам называюсь Бедой. «Черт знает какие коллежские секретари водятся в Петербурге», — подумал асессор и отвечал, дружески пожав руку Евтея: — Понимаю, вы такая же беда, как я — спичка! Мы с вами малороссияне и носим малороссийские прозвания. А по какому ведомству служить изволите? — По департаменту ***! Очень неудобная служба! — Не говорите! — воскликнул Спичка. — Это самое благоустроенное ведомство, там все люди ученые, образованные… там и оклады большие. — Больше — для больших, — заметил Евсей, — а маленькие — для маленьких!.. — Да, я служил когда-то в числе маленьких… признаюсь, нестерпимо было! Пиши, переписывай… и с пятнадцатого числа сиди без хлеба и без дров! Ну, я и не выдержал!.. — Странно!.. Стало быть, в то время, когда вы служили в числе маленьких, позволялось не выдерживать? — Не в том смысле, как вы думаете! — отвечал коллежский асессор, и вслед за тем с особой деликатностью попросил Евтея позволить ему иметь честь угостить его иным, новейшим ликером, и когда коллежский секретарь поклоном и улыбкой изъявил на то согласие, Спичка приказал подать Могадора, и Могадор явился пред изумленным взором Евтея, в большом сияющем графине, цвета небесной лазури, и потек в рюмки густою, благовонною струею. Оба чиновника разом выпили благодатную влагу и, весело глядя один другому в глаза, воскликнули в один голос: «Превосходно!» Потом уже Евтей заметил от себя: «Непостижимо, какие ликеры бывают вкусные! Можно сказать, иные, как, например, эти Полька и Могадор, в состоянии осчастливить нашего брата!» Выражение «нашего брата» показалось странным коллежскому асессору, и он спросил у Евтея: — Вы получаете жалованье: какое, позвольте узнать? — Десять рублей в месяц, — отвечал Евтей с тяжким вздохом… — Десять рублей получает человек, учившийся двадцать лет сряду, написавший и победоносно защищавший превосходную диссертацию «О влиянии всеобщей гуманности на частную социальность», знающий два древних и четыре новых языка, блистательно выдержавший строгий экзамен в законоведении и камеральных науках… Посудите сами, — восклицал Евтей, — к чему мне все это послужило? — Вы мечтатель! — сказал коллежский асессор. — Неужели вы до сих пор не узнали великой истины, что для всякого рода успеха, возвышения в чем и где бы то ни было нужно одно знание — глубокое знание страстей человеческих; что блага мира сего доступны не уму, а коварству, что несчастливцы, которые сетуют на пренебрежение их учености или способностей и не умеют сыграть партии в любовь, в ненависть, в бескорыстие, во благо общее и в тысячу других игр, которыми занимаются люди, эти несчастливцы просто дураки! Кстати, позвольте вам предложить особого ликера, под названием… Эй, малый! подай нам туда, в другую комнату, О'Коннеля! Рассуждения и в особенности последнее предложение коллежского асессора живо заинтересовало коллежского секретаря, и он с большим удовольствием согласился отведать О'Коннеля. Новые знакомцы уселись в углу особой комнаты, и между тем как Евтей, вперив взор в стоявшие пред ним рюмки, анализировал содержание их и старался составить себе точное понятие о вкусе этого содержания по его ярко-зеленому цвету, коллежский асессор Спичка, видимо желавший быть полезным бедному Беде, продолжал свое назидание: — Если вы хотите составить себе какую-нибудь карьеру… позволите ли говорить вам откровенно? — Сделайте одолжение. Ваши практические суждения уже указали мне кое-что важное… — Итак, если вы хотите составить себе карьеру… У вашего начальника есть, конечно, жена, или что-нибудь вроде несчастной покровительствуемой сироты, или все это вместе? — О! — воскликнул коллежский секретарь и, чтоб утишить волнение крови, произведенное этим вопросом, проглотил О’Коннеля. — У него есть и жена, и нечто, называемое Анной Алексеевной! — Ну так приволокнитесь за начальницей и влюбитесь в эту Анну Алексеевну. — Волочиться за начальницей? — сказал Евтей с видимым испугом. — Это было бы непостижимой дерзостью, цыганской наглостью! Это довело бы меня до… — До степеней известных, — прервал его практический асессор. — Вы, молодой человек, слишком неопытны в делах житейских и вовсе, по-видимому, не знаете женщин. — Да, признаюсь, я мало разумею в женщинах. — В том-то и дело, что вы составили себе какое-то особое понятие об этой части человеческого рода. Вы, подобно прочей поэтической молодежи, считаете женщин за лучезарные, неземные существа, а я вам скажу, что они, за немногими исключениями, то же, что и мы, мужчины, также за немногими исключениями. Потом практический коллежский асессор, воодушевляемый разными ликерами и интересом разговора, стал рассказывать коллежскому секретарю, переходившему от изумления к изумлению, бесчисленное множество оригинальных историй, ежедневно случающихся в этом самом Петербурге, который, между прочим, так строг в отношении к сохранению форм и приличий. Евтей, по случаю своих горьких обстоятельств и по неимению так называемой партикулярной пары, проводил все свое время то в канцелярии, то в квартире, только изредка, в первые числа, заходил в кондитерскую, под предлогом чтения газет для узнания, что делается на белом свете; таким образом, он не имел истинного, практического понятия о тысяче различных мелочей и, в особенности, неукротимых, ненасытимых, иногда страшных страстей, тайно, но неограниченно владычествующих над этими благородными людьми, у которых в глазах сияет благость, над этими благовоспитанными, эфирными, чувствительными женщинами, которые держат себя так умно, так прилично, иногда сочиняют детские книги, иногда благотворят страждущему человечеству. Для него были странны и новы беспощадные суждения Спички о мужчинах и женщинах (не говорим, о людях); его поражал этот строгий, практический анализ отношений обоих полов. Парализируя мужчин и женщин, людей и лошадей, коллежский асессор начал было новое назидательное суждение, но Евтей не выдержал, его светлые мечты, фантастические понятия о многих существенных принадлежностях человеческого бытия были уничтожены безжалостно и безвозвратно. Под гнетом тягостного, возмутительного впечатления, он прервал одну из страшных историй циника-асессора в самом патетическом месте. — Извините, — сказал он, — но я думаю, что в ваших суждениях, сколь они ни остроумны, ни поучительны, более злословия насчет ближнего, чем сущей правды. По крайней мере, так должно думать для чести человечества! — Для чести человечества! — воскликнул асессор, заливаясь смехом. — Заботьтесь, молодой человек, о чести человечества, а оно между тем изобретает новые роды того, что слывет наслаждением. Мы с вами не переделаем человечества, и, по мне, лучше уже думать о нем дурно, ради истины, нежели хорошо, для его чести!V
Коллежский секретарь Евсей Евтеевич
Между тем как ученый коллежский секретарь Евтей Евсеевич, предаваясь отвлеченным размышлениям о первом числе, наблюдая нравы, испытывая ликеры, находил новую точку воззрения на жизнь, новые начала действительного обеда и настоящей комнаты с истинными дровами, его товарищ по квартире, коллежский секретарь Евсей Евтеевич, получив двенадцать серебряных рублей, выданных четырьмя светло-зелеными кредитными билетами, не захотел и взглянуть на Невский, а прямо из должности отправился в квартиру и там, рассчитавшись как следует с хозяйкою, вдовствующею губернскою секретаршею, уединился в своей коморке и запер за собою дверь двумя тяжелыми, старинными стульями. Видя, что никто не может потревожить его внезапно, коллежский секретарь положил на стол три оставшиеся у него, за расчетом с хозяйкою, билета и глядел на них в течение одной минуты с странною улыбкою, придававшей бледному лицу его неестественное выражение. Налюбовавшись билетами, он подошел к двери, внимательно вслушался, не идет ли кто, и потом, сняв с себя ветхий, вытертый, неопределенного цвета вицмундир, украшенный вдоль и поперек многими швами, положил его к себе на колени и, вооружившись иглой и перочинным ножичком, предался странному, невероятному занятию… Этот коллежский секретарь был резко противоположен своему товарищу. Природа, выпуская его в свет, оттиснула физиономию его с особенной тщательностию: он имел правильные, благообразные черты лица, встречаемые редко в деловых и ученых людях и часто — в хороших лакеях. Неподвижность и сонливость этого благообразного лица еще более оправдывает приведенное сравнение, но с другой стороны, необыкновенная мраморная бледность его, отсутствие резких морщин на лбу, неизбежных на челе людей мыслящих и даже ходящих за барынями, отличала лицо Евсея Евтеевича от лица какого-нибудь лакея, которое всегда сияет розовым румянцем, следствием хорошего житья и милости господской. Эта бледность в глазах многих петербургских женщин, знающих толк в мужчинах, была несравненно выгоднее, чем для Евтея его игривая, выразительная, но рябая физиономия, его сверкавшие огнем и чувством серые глаза. Евсей, однако, не пользовался выгодой своей интересной бледности и даже не замечал ее. Переходя к нравственному отличию Евсея от его товарища, прежде всего должно заметить, что он никогда ничему, кроме российской азбуки, не учился и не имел ни малейшего понятия ни о железной воле, ни о ясном разуме. Самый род службы его не требовал от него этих понятий, и чиновники-товарищи и, отчасти, начальники его были всё люди практические, образованные, проученные и прошколенные житейскими потребностями. Но хотя он не имел и понятия о воле и разуме, считая их за технические термины какой-нибудь таинственной немецкой науки, хотя, сколько ему ни толковал об этом Евтей, он никак не мог постигнуть, в чем заключается воля и к чему ведет разум, — он, однако, был снабжен этими самому ему неведомыми качествами в страшном размере. Дело в том, что Евтей учился воле и разуму в университете и, не обладая ими, только знал их и беспрерывно толковал о них своему товарищу; Евсей, напротив, стиснутый при самом сознании своего бытия мелкими, но свирепыми обстоятельствами жизни, был весь проникнут ее условиями и началами и, не мысля о воле и разуме, жил по мудрому указанию нижеследующих своих ответов на свои же вопросы. Первый вопрос: если я каждый месяц буду издерживать все свое жалованье, что из этого выйдет? Ответ: Весь век буду нищим. Второй вопрос: Если я буду жить как-нибудь и чем-нибудь, откладывая каждый месяц половину и даже две трети жалованья, не доверяя то никому — ни банку, ни ломбарду, и сохраняя при себе в известных мне иных более надежных местах так, чтобы ни одна душа в свете не знала того, что я коплю рубли, — из этого что выйдет? Ответ: Я со временем скоплю двухгодовое жалованье наличными рублями, а с такой кучей денег можно жениться на благородной девице с хорошим приданым или на благонравной вдове из купеческого звания, с опекаемыми детками и домами. Следствием этих мудрых вопросов и еще более мудрых ответов была колоссальная, чудовищная решимость жить несколько лет сряду в тесных пределах самого неумолимого воздержания — решимость, которой не могли поколебать никакие соблазны, бывшие искусительными, потому что они всегда стояли лицом к лицу с нестерпимыми лишениями; ни горькие нужды, для перенесения которых требовался необычный, мощный, почти нечеловеческий дух; ни саркастические выходки товарищей против его отчуждения от всех развлечений, от всех удобств, покупаемых, хотя дешево, но — покупаемых. Трудно ему было сначала переносить все, к чему осуждала его мудрая, практическая, даже можно сказать, героическая решимость; но, мало-помалу торжествуя над вопиющими потребностями, одолевая животные страсти расчетом, он преображался, перерождался. С каждым первым числом капиталец его увеличивался; самоотвержение, надежды, расчеты расширялись; дух стяжания и отчуждения от всего, требующего издержек, разрушал в нем все страсти, свойственные молодости, и все искушения, свойственные Петербургу. Случайно сошелся он с подобным себе горемыкой, Евтеем. Знакомство их завязалось под воротами дома, где они должны были укрыться от дождя. Сначала они говорили о дожде, потом о производстве и наградах, наконец перешли к самому интересному для обоих предмету — к рублям и важности рублей. Оба страдали недостатками, оба понимали важную выгоду житья пополам, и вскоре после того стали жить пополам; но бес расточительности гнездился в душе его товарища, и Евтей, терпя лишения в течение целого месяца, редко воздерживался от вознаграждения себя за это терпение первого числа, тогда как Евсей не тратился на пустяки, спокойно выслушивал выходки Евтея о воле и разуме и думал свою думу. Между тем и судьба, всегда внимательная к тем, которые пренебрегают ею, улыбнулась Евсею. Великодушный начальник, которому он при всяком удобном случае жаловался на явную несправедливость своего повытчика, требующего от него собственных сочинений, тогда как он именно приготовился к переписыванию, этот начальник, часто употреблявший его с пользою для домашней переписки и убедившийся в крайней его необходимости ко всякому сочинению, особенно полюбил его за тихость нрава и красивый почерк. Будучи пожилым, семейным и значащим в обществе человеком, он, в минуту приятного расположения духа, пожелал сделать своего многострадального подчиненного счастливым, иначе — вывести его в люди, и в то же время предложил ему свое покровительство, которое Евсей принял с должным благоговением и целованием руки начальника, а начальник, не откладывая дела в сторону, предложил ему, на первый случай, жениться на очень хорошей женщине, Каролине Ивановне, имеющей маленькую дочь и большую способность к выводу в люди своего мужа. Евсей согласился. Чтобы доставить Евсею способ познакомиться с Каролиной Ивановной, попечительный начальник отправил его к ней с какой-то посылкой, и таким образом Евсей, не имевшей партикулярной пары, имел возможность явиться к ней в качестве простого посланного, одетым в свою форменную одежду. Каролина была роскошная женщина. С первого взгляда на нее Евсей мог увидеть в ней идеал свой, если бы давно не изгнал из головы всех идеалов, считая их бредом разгоряченного воображения. Но такова была Каролина… Можно подозревать, что Каролина знала истинную причину посещения Евсея, потому что была необыкновенно внимательна к этому мученику рублей и воли. Она с первых слов обратила разговор не на погоду, как вообще водится, но очень разумно и тонко заговорила о дороговизне квартир и хозяйственных припасов и о других не пустозвонных, дельных предметах; даже с удивительною разборчивостию умела коснуться близкого Евсею сюжета — о том, какое бывает на свете странное начальство — не назначать должностей людям по их способностям! Впечатление, вынесенное Евсеем из необширной, но благоустроенной квартиры Каролины Ивановны, было таково, что он, возвращаясь домой, зашел по пути к портному и заказал ему партикулярную пару, чтоб явиться в ней к Каролине Ивановне для формального испрошения руки ее; и когда пара была сделана, с выгодным условием уплачивать за нее по частям, в первые числа, он отнес ее домой и положил, до надлежащего времени, в старый, давно не запиравшийся комод, неведомо Евтею, от которого он, по натуре или по привычке, скрывал свои мысли и действия как мог более. Он, однако ж, не выдержал в ту минуту, когда Евтей объявил ему о близкой своей женитьбе, и, как было сказано в первой главе этой достоверной истории, признался своему ученому товарищу, что и он женится. Кончив странное занятие, о котором упомянуто в начале этой главы, Евсей пришел в восторженное состояние: он бросил в сторону старый вицмундир, над которым только что произвел операцию, и стал прыгать по комнате, подобно ребенку, кончившему урок, или нищему, нашедшему целковый… Много лет прошло с тех пор, как он составил обширный, колоссальный план, задумал строгую, великую думу! И тот план, та дума деспотически владычествовали над ним до этой минуты, уничтожали в нем и всякий юношеский порыв, и всякое человеческое стремление. Теперь предел всему чудовищному, сатанинскому, героическому! Долго был он автоматом, движимый нуждой и желанием преодолеть, уничтожить нужду — «наконец и он стал человеком»! Несколько минут сряду Евсей то ходил по комнате, то садился к столу, в положении человека, не знающего, куда деваться со счастьем; потом, облекшись в изящную черную, партикулярную пару и поглядевшись в стеклышко, заменявшее для него и его товарища настоящее зеркало, он улыбнулся, дружески ущипнул себя за ухо, примолвив: «Молодец, разбойник!» — и поспешно вышел…VI
Невеста
«Русая головка» мелькает у окна нижнего этажа, где производится полезная фабрикация женских шляпок и мужского белья. Первое побуждение, влекущее русую головку к окну, есть любопытство, простое желание посмотреть на то, что делается на проспекте; в ту минуту, когда она смотрит на других, другие смотрят на нее, и вот рождается новое, приятное влечение к окну для того, чтобы показать себя, — и на ней останавливается внимательный и проницательный взор людей, мимо идущих тихим шагом, с явным намерением посмотреть всюду и все, и не нашуметь нигде. Русая головка не обращает на них внимания; но раздается звон шпор и сабли: смело и бодро, будто идя на страшный приступ, шествует воинственный улан по тротуару, глядя во все стекла, и русая головка прильнула к окну со вниманием. Это внимание возбуждено шпорами, но глаза ее встречаются с усами, и — о счастье! — оказывается, что сии усы и оные шпоры принадлежат одному лицу. Какое милое сочетание! Усы между тем шевелятся, шпоры звенят, и сабля, выпущенная из руки, ударяясь о гранит, извлекает яркие искры. Прелесть! И вслед за искрами летят к русой головке следующие замечания усов: «Какая хорошенькая! Как тебя зовут, душенька? А?.. ты не слышишь? Мадам?.. Я изломаю твою мадам! Я заверну сюда попозже; ты выйди… прогуляться!» Вслед за тем новый звон, новые искры; усы оборачиваются направо кругом и исчезают; но долго еще глядит в окно русая головка… усов уже не видно, а ей все слышится звук шпор, в глазах еще мелькают искры… Она и вполовину не расслышала слов, произнесенных усами, но как быть! В магазине скучно, и она, едва дождавшись вечера, надевает скромную соломенную шляпку и выходит… подышать свежим воздухом; и они уже здесь, у самых дверей, эти роковые усы! Они умеют кстати владеть шпорами и саблей и — если понадобится, проберутся тише кошки, крадущейся к мышке. Следует небольшая прогулка, в которую улан успевает наговорить русой головке много нежного, веселого, трогательного, одним словом — милого до такой степени, что она начинает чувствовать приятно томительное влечение к этим коварным усам, и, когда они, пользуясь темнотой, прильнули к ее розовым щечкам, она вздрогнула и не могла сказать никакого замечания по случаю этого таинственного и, между прочим, невыразимо сладостного прикосновения. После этого усы сказали русой головке, что они имеют надобность быть здесь завтра, в ту же самую пору, и пройдут мимо магазина, — и с демонской улыбкой услышали от нее тихий ответ, что ей тоже надобно выйти из магазина в ту же пору, «по своему делу». Вследствие этих двух надобностей в другой вечер последовала новая, также случайная встреча русой головки с уланом и его усами. И вдруг люди, проходящие мимо магазина тихим шагом, не замечают русой головки, а опустевшая дорогая квартира над магазином, во втором этаже, заново отделанная и меблированная, занята молодой одинокой хозяйкой, а для дворника и своей горничной — барыней… Русая головка уже не шьет шляпок, а, исполнясь человеколюбивого намерения примириться с обманутой «мадамой», заказывает ей все необходимые в новом быту тряпки; из покровительствуемой становится покровительницей, и мадам льстиво и лживо замечает ей: «Я говорила вам, сударыня, что в моем магазине вы составите себе карьеру; вот, не правда ли?» Таковы уже все мадамы! После друзей и кредиторов мадамы самый страшный народ в Петербурге! С переселением в бельэтаж странный призрак мелькает в душе и сердце русой головки, так же как она мелькала в окнах магазина: она чувствует себя довольною и счастливою. Минуты летят за минутами, и из многих минут образуется год… а долее может ли существовать факт, называемый счастием! и притом сколько надобно самоотвержения, самозабвения, пылкости, юности, страсти, чтоб создать себе с единым, исключительным посредством хорошенького личика, свое домашнее, никому не ведомое счастье. Она счастлива… И в ту пору, как она наиболее теряется, уничтожается разрушительным обаянием счастья, является существенная надобность платить за великолепную квартиру. Это житейское обстоятельствоуничтожает, разбивает вдребезги ее счастье. Она волнуется пошлыми нуждами, она трепещет в чаянии пришествия — не его, не сиятельного князя, ловкого, бравого молодца, которому принадлежат часто упоминаемые усы, шпоры и сабля, а дворника, негодного, неучтивого, положительного дворника! Дело в том, что в двенадцатый месяц счастливой любви воинственный улан пренебрег «счастливой любовью». И не должно обвинять его: в Петербурге так много женщин утонченных, пылких, воздушных, облачных, электрических, бальзаковских, жорж-зандовских, даже шекспировских, даже мечтательных байроновских и шиллеровских, что и не такая голова, как та, которая была на плечах у сиятельного князя, могла вскружиться, даже одуреть от них, если б лицеприятная природа не создала его заблаговременно дураком. При таких обстоятельствах не мудрено, что друг, между прочими обязанностями, стал забывать и наиболее важную обязанность доставлять ей, русой головке, по положению, тысячу рублей каждое первое число, и русая головка принуждена была объясняться с дворником… Тогда безропотно, в молчании, русая головка решила сократить свои издержки, рассчитаться с положительным дворником и поселиться выше, в третьем этаже, там, кстати, оказалась свободною квартира: не так просторная, не так удобная, как в бельэтаже, но все-таки очень хорошая квартира. Она переселилась, и сиятельный друг, посетив ее однажды, вовсе и не заметил этого переселения, а о тысяче рублях, которые так положительно были определены в минуты страсти, тоже ни слова! Русая головка закручинилась… Она не погибла. Попечительная судьба в образе откупщика, толщиной в пол-экватора, толстейшего и пустейшего из всего, что производила земля толстого и бестолкового, эта судьба следила и наблюдала ее в театрах, на балах (да простится сущее невежество в точном названии тех «собраний», в которых, под сенью сиятельных усов, была царицей русая головка), в маскарадах и всюду, куда ни возил ее сиятельный друг в минуты любви и желания похвастать своею любовию! Откупщик явился к ней с предложением услуг в самое удобное время, когда она, томимая горьким предчувствием грядущих бед, пугалась их бессознательно, когда они представлялись ей не в сущности, а в воображении, в чудовищно сказочном виде, в каком обыкновенно умная нянька представляет черта глупому ребенку; он явился кстати и умел доказать ей свою преданность самыми уважительными, положительными фактами. Откупщик был человек опытный в той же мере, в какой был он человек глупый. Он понял высокую выгоду питаться остатками барского стола. Любил знаться и водиться с важными, знатными людьми, которыми он считал всех ребят, бьющих зеркала в трактирах и стекла в кондитерских: он готов был ограбить и откупа, и своих законодателей, только бы с могущественным содействием рублей быть с этими господами запанибрата; да это и не трудно; известно, что знатные господа, столь генеалогические в иных случаях, всегда раздвигаются для принятия в свои ряды тех разумных людей, которые сосредоточили свои родовые и личные качества во всемогущих ломбардных билетах. Имея в доме жену и семейство, он считал нужным иметь еще и на стороне, в разных частях города, побочных жен и побочные семейства. После страсти к знатному знакомству, была у него сильнейшая страсть отбивать у знатных приятелей их Анет, Алин и т. п. Иногда удавалось ему, точно, отбивать желаемый предмет, иногда он вступал во владение этим предметом, как движимой собственностью, по сделке с первоначальным владельцем; но, во всяком случае, он искал только такой Анеты или Алины, которая уже пользовалась вниманием «Великих» людей, — так называл он своих блистательных знакомцев. И вот русая головка во владении человека, имеющего деньги, но не имеющего ни шпор, ни усов, ни любезности ее первого друга. Она испытывает первую тяжесть этой странной жизни многих женщин в Петербурге, жизни, проданной ценой квартиры с отоплением и освещением, тянущейся однообразно, томительно, скучно, среди соблазнительных вестей кухарки, в отчуждении от всего мира… Но откупщик недолго надоедал ей своей любовью и своими посещениями; он уже успел выменить у князя воздушную, электрическую хористку на лихого рысака, серого в яблоках, рысака, которому подобного не было во всем Петербурге. Он бросил русую головку, и русая головка наняла квартиру еще выше. Только тут, в четвертом этаже, она положительно узнала ничтожество любви, эгоизм мужчин, материальность жизни. Только тут она увидела ожидающий ее жребий, странный, отвратительный жребий всякой «эмансипированной» женщины, теряющей курс и красоту. Достигнув Петербургских вершин — предела обитаемого мира холодной полосы, которая не производит и не терпит столь нежных растений, каковы любовь и счастие, которая более мертвит, нежели животворит, она потеряла навсегда и пиитическое название «Русой головки», под которым была в обращении у своих знатных и богатых поклонников. Теперь она просто называлась мадам Каролиной и даже Анной Алексеевной, потому что, будучи русскою немкою, она имела несколько разных имен. Выше Петербургских вершин нельзя уже было подняться; но легко было пасть с них в самое низовье, в бездну совершеннейшего… космополитизма. Глубоко было ее отчаяние, когда она в первый раз внимательно и проницательно обозрела свое положение, свою будущность. Она была в опасности погибнуть, подобно тысяче других женщин, которым, к их несчастью, не дано столько ведения, сколько страсти, для которых первое невинное, радостное, тайное свидание — есть ошибка, а первое увлечение любви, чистое, священное в своем начале, есть уже преступление. Тогда, заглушив горькие чувствования, перенося мужественно насущные нужды и непостоянство своих поклонников, руководствуясь опытностию и пренебрежением ко всему, что потеряно ею безвозвратно, она решилась и, решась, сумела создать себе новое, самобытное значение. Ее известность в эксцентрических обществах, называемых танцклассами, привлекала к ней одного за другим лучших обитателей Петербургских вершин. Сравнительно с прежними, эти искатели любви ее были ничтожны в финансовом и общественном значении, и ни один из них не стоил ее привязанности, потому что не был в состоянии оказать ей ничтожную услугу принятием на себя платежа за ее квартиру; но, сообразив, что вся эта толпа людей может быть полезнее одного откупщика, она отличила, на первый случай, двух пожилых чиновников, которые, занимая внизу «хорошие места», — были, в сущности, статские советники, а принадлежа, по жительству, по происхождению и по родству своему к обитателям Петербургских вершин, назывались и были называемы здесь, вверху, генералами. Этих генералов Анна Алексеевна, она же и мадам Каролина, принимала таким хитрым образом, что они никогда не имели огорчения встретить один другого в ее маленькой гостиной, и хотя были старые знакомцы между собой, однако, при самых задушевных объяснениях за дешевым шампанским, не могли открыть, что у них одна приятельница. Они знали и твердо были уверены, что у одного из них есть Анна Алексеевна, живущая в большом доме у Каменного моста, у другого — Каролинхен, живущая в том же доме, только по другой лестнице. Соединенная любезность этих «генералов» заново и изящно отделала маленькую, скромную квартирку Анны Алексеевны и была вознаграждена и возбуждена в каждом генерале отдельно яснейшими знаками глубокой привязанности — обетом верности вечной, неизменной, — верности, в отношении к которой пожилые чиновники, имеющие определительное значение в обществе, весьма щекотливы. Между тем пока статские советники, они же и генералы, каждый в назначенное ему время, разогревали свою хладевшую кровь ласками Анны Алексеевны и мадам Каролины, она одерживала над обитателями Петербургских вершин новые победы… Потом, когда насытилась ненависть ее к этому полу, когда в душу стали закрадываться томительная скука вечного одиночества, сознание возмутительной особенности своего положения в качестве «свободной женщины», досада на свое непреоборимое отчуждение от общества, — она захотела примириться с этим своенравным обществом, движущимся по собственным, но непреложным, неумолимым законам, примириться — пока еще было время и средства… Тоскуя о своем одиночестве, она имела счастие быть матерью маленькой девочки, по появлении которой на свет каждый из статских советников удвоил свою любезность и почтительность к Анне Алексеевне… Анна Алексеевна торопилась жить. Ее купидончик женского пола торопился расти: в один год он не только бегал по комнате, но плясал род польки собственного изобретения — довольно глупый род, должно заметить для исторической верности, — но очень оригинальный и забавный, по мнению Анны Алексеевны. Пока подрастал этот купидончик, Анна Алексеевна задумывалась более и более… Что будет с ним или с нею, с этой маленькой Аннушкой, когда она достигнет лет шестнадцати, когда в молодой головке ее закружатся радужные мечты, когда неведение добра и зла допустит ее к приятным увлечениям обманчивого счастья, когда ей скажет какой-нибудь он: «Люблю тебя, душенька! выйди завтра прогуляться… Но не говори матери — она деревянная старуха!» И дочь ее станет такой же вольною женщиною, как она, и станет повышаться помещением из первого этажа во второй, из второго в третий и, поднимаясь все выше и выше, забьется наконец в темный угол под самую крышу, и там — вспомнит и проклянет мать свою! Как оскорбление самолюбия отважило ее на самый цинический образ жизни, так заботливость о будущей судьбе этого хорошенького, веселого, танцующего и лепечущего ребенка стала обращать ее к другой жизни, тихой, уединенной и — общественной. Ей хотелось дать дочери имя и значение, чтоб на нее не указывали пальцами, чтоб ее, еще невинную, не клеймил позор матери… Тогда она потребовала у генералов, которые думали каждый про себя, что судьба этого ребенка и его матери лежит у него на совести, — чтобы они доставили ей в кратчайший срок мужа превосходных качеств, удивительной беспорочности по службе, совершеннейшей верности в супружестве. Генералы с тайным удовольствием согласились «покончить разом это казусное дело», и в течение одной недели оба представили ей в женихи по коллежскому секретарю самого неукоризненного достоинства. Ей оставалось выбрать любого: один имел протекцию, значительную по своей должности сумму денег и самую осязательную верность, осязательную потому, что он в два визита свои к мадам «Каролине» ясно выказал свое глубокое экономическое воззрение на жизнь, свои строгие семейные понятия и уверенность в копеечных началах общественного и частного благополучия. Его одежда, его вид подтверждали, что он проникнут этими понятиями, этими началами; что он не может расстаться с ними никогда, не может и изменить жене, потому что всякая измена противна упомянутым копеечным началам, на которых основал он свою жизнь, — всякое нарушение супружеского согласия влечет за собою расстройство в домашней экономии и непредвиденные издержки. Другой имел тоже протекцию, но не имел ни гроша денег и допускал сильное подозрение в способностях своей к верности: он откровенно и пылко объяснил «Анне Алексеевне», что «любил и будет любить женщин, что он всегда, даже за полмесяца до первого числа, бывает восхищен, воодушевлен, счастлив, если встретит красавицу; что женщины искони нравственнее, добрее, лучше, возвышеннее мужчин, что они — живая поэзия, источник жизни и радости, цвет, украшение и начало человечества», и много других слов в пользу женского пола насказал он, слов, показывавших, что иметь такого мужа в отношении к его пылкости, восторженности и почтительности — редкое счастье, но в отношении к верности его — постоянная мука. Таким образом, принимая у себя в установленное время двух женихов, известная одному под именем Анны Алексеевны, а другому под именем Каролины, бывшая русая головка изучала их достоинства, и чем более изучала, тем менее имела решимости предпочесть одного из них другому… Она хотела бы составить из обоих одного соединенного чиновника, в котором сосредоточивалось бы неисчислимое множество драгоценных качеств, долженствовавших явить в Петербурге самую редкостную редкость — полного, беспорочного коллежского секретаря и абсолютного мужа.VII
Коллежский секретарь Евтей Евсеевич
Было десять часов вечера, когда Евтей Евсеевич оставил кондитерскую у Полицейского моста. Дождь, хлеставший в лицо, освежил его. Тусклый свет фонарей, мерцавших в глубоком мраке, гул и вой ветра наводили тоску на душу. С трудом совершил он опасную переправу через озеро стоячей воды, на другую сторону проспекта, и отправился по прямому тракту в квартиру. Он отпраздновал первое число в кондитерской. По случаю ликеров и пирожков, он лишился половины своего жалованья и, по случаю встречи с оригинальным асессором, всех своих философических убеждений, всех фантастических верований, которые поддерживали и укрепляли дух его в мелочной борьбе с мелочными нуждами. Теперь он сознал ничтожество своей воли, о которой имел такое высокое понятие, неприложимость к житейским обстоятельствам своего разума, на который так много надеялся! Есть минуты, когда обыкновенные ежедневные влияния и встречи имеют над душою чародейственную силу, когда пошлые, всегда и всякому видимые происшествия и случаи в общественной жизни, часто повторяемые, болезненные, мизантропические идеи, пред раздражительной восприимчивостью духа, принимают образ и получают свойство начал этой жизни. Такими минутами были для Евтея Евсеевича те, которые провел он в кондитерской в питии различных ликеров и в цинических рассуждениях с коллежским асессором Спичкою. Стечение многих мелких причин и условий разрушило его самоуверенность: первое число, в которое живет чиновник так называемою жизнию; десять рублей серебром, с которыми он видится и которыми владеет только первого числа; разные ликеры неописуемо чудного свойства, необыкновенно атлетические размеры коллежского асессора, странный характер его положений и доводов о преобладании в обществе начал животных над началами духовными; унылая, мрачная перспектива, представлявшаяся Евтею при взгляде на свою будущность, с своей точки зрения, наконец резкая противоположность светлой, удобной, изобильной кондитерской с темною, холодною клеткою, в которой обитает он по недостатку рублей, — все это действовало на него с необъятною силою, все возмущало дух его, наводило тоску, повергало в отчаяние… А между тем на улицах петербургских продолжался разгул первого числа. Мастеровые пели песни, не обращая внимания на близкое присутствие съезжей; чернорабочие отважно и громогласно судили своих подрядчиков за вычет прогульных дней, говоря, что местов-то им довольно есть и не у евтаких хозяев живали, да в первые числа гуляли! Разные желтолицые люди, во всякое время смирные, озабоченные, дрожащие в вытертых вицмундирах, смело рассуждали об отставке экзекутора и о войне в Алжире. Сама природа, в иные дни серая, туманная, петербургская, теперь была грозна, величава, срывая вихрем крыши с домов, опрокидывая пешеходов, низвергая на Петербург страшную массу воды. И он стал, по старой привычке, анализировать свое положение и сравнивать свою жизнь с этим длинным, темным путем, от Полицейского до Какушкина моста, представляющим для него одну цель — сырой чулан между землею и луною, вдали от благ земных, вдали от даров небесных. Горькое воспоминание прошедшего, мертвящее предчувствие будущего овладело им, терзало его… Он уже погибал жертвою своих мелких нужд, когда заботливая судьба послала ему товарища для житья пополам, в одной комнате, точнее — ангела-хранителя в особе такого же, как он, коллежского секретаря, Евсея Евтеевича. Экономическое влияние Евсея над Евтеем день от дня становилось очевиднее. Бывало, Евтей Евсеевич не каждый день посылал хозяйку в мелочную лавку за молоком и хлебом; иногда, выпросив у казначея до первого числа целковый, он ходил обедать в кухмистерскую. Теперь эта роскошь была оставлена. Огромный хлеб был покупаем непосредственно из пекарни, и этим способом хозяйственного заготовления провианта соблюдалось три копейки выгоды. Молоко приносила чухонка, и тут копейка выгоды; кроме того, последний продукт употреблялся не ежедневно: Евсей Евтеевич заставил Евтея Евсеевича быть религиозным: по средам и пятницам довольствоваться квасом. Бывало, у Евтея, чуть стемнеет в комнате, уже горит свеча, и горит без толку, без всякой существенной надобности, потому что Евтей занимался не служебным делом, а бесполезным чтением книг, — теперь только в самые темные вечера, и то не более, как на один час, зажигался огарок. Трудно, странно, даже страшно было сначала Евтею покориться таким лишениям; но доводы Евсея в пользу этой возмутительной экономии были сильны, и его победоносною логикой уничтожалось всякое сопротивление Евтея. Время шло, и Евтей стал привыкать ко всему: он исправно в каждое первое число приносил Евсею свое жалованье и принимал от него советы, куда и на что употребить эти деньги. Советы были глубоко мудры, и он следовал им с полным сознанием их мудрости. Не прошло и года со времени их житья пополам, как лишние вещи, составлявшие весь гардероб, все имущество Евтея, были выкуплены у ростовщика; он заплатил весь капитал: сто двадцать процентов на капитал и девяносто процентов на проценты, заплатил и тут же обругал ростовщика, назвал его скотиной и ростовщиком. Первый эпитет был еще довольно сносен для самолюбия ростовщика, но последний жестоко оскорбил его; люди вообще обижаются собственными именами и хотят, чтобы их называли только прилагательными. Ростовщик обиделся и сказал Евтею пословицу: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», — Евтей отвечал на это, что вперед он никогда не обратится к нему, а ростовщик, промолчав, пока Евтей ушел от него, сказал: «Хорошо!» Вне своей квартиры он был по-прежнему расположен к нерасчетливости и расточительности. Дух сластолюбия овладевал им, и он готов был бросить целковый, — если имел его, — на совершенные пустяки; но одно воспоминание о том, что этот целковый, будучи отдан ростовщику, подвинет освобождение его лишних вещей, воздерживало его от глупости. Он носил ветхий, вытертый, со многими заплатками вицмундир; прочие части его одежды гармонировали с вицмундиром. В таком наряде еще можно было просидеть в должности, но пройти по Невскому или зайти к начальнику, который нередко обещал позаботиться о нем и звал к себе для сообщения чего-то важного, он очень совестился. Когда же он возвращался в свою комнату, то подвергался весьма полезному, но и весьма томительному влиянию своего товарища. Он чувствовал, как за порогом квартиры его оставлялись роскошные желания, пылкие страсти; как бес скупости, совершенной скупости, а не одной расчетливости, овладевал его душой. Несмотря на благоприятные для него последствия житья пополам, он томился и бесился. В его воспоминании мелькали веселые образы, фантастические мечты, являвшиеся прежде, когда он не был скован неразрывной, тяжкой цепью воздержания. Расчет его с ростовщиком был кончен ровно за месяц до того первого числа, в которое Евтей совершал философическую прогулку по Невскому и зашел в кондитерскую. Этим окончанием расчета объясняется, почему в нем достало малодушия нарушить долгое, таким блистательным успехом увенчанное воздержание. Еще была одна важная причина его уклонения в кондитерскую — это мысль о женитьбе на женщине, покровительствуемой его начальником, мысль, возмущавшая его самолюбие, льстившая его честолюбию, томившая душу его своей разносторонностию и разноцветностию, державшая решимость его в постоянном, мучительном напряжении. Предаваясь воспоминаниям о прежних золотых мечтах и надеждах, размышляя о предстоящей горькой, унизительной необходимости обратиться к великодушию оскорбленного ростовщика, потому что значительная часть «достаточного» жалованья была безумно употреблена на разные ликеры, коллежский секретарь Евтей приблизился к большому четырехэтажному дому у Каменного моста. Тут была, как всегда, страшная толкотня пешеходов, непрерывное движение экипажей. Он остановился и огляделся: это был тот самый дом, где жила его невеста, о которой он только что раздумывал. «Что ж, не зайти ли к ней? — сказал он сам себе. — Она женщина любезная и даже лучшая в своем роде. Может быть, она и не виновата в своем странном положении, так же как я в своем. Люди, если обсудить хорошенько, сами по себе вовсе не виноваты в своем положении… О, Карп Лукич Спичка! О колоссальнейший из коллежских асессоров! Я верю новооткрытым вами началам жизни: только они одни исполнены истинной, практической философии!» И он решился зайти к Анне Алексеевне, чтоб засвидетельствовать ей по-прежнему глубочайшее почтение и сказать по обычаю установленную формулу: «Не откладывайте далее моего счастья! Каждая минута разлуки с вами — для меня год адского мучения!» Передняя не была заперта, и Евтей вошел в квартиру Анны Алексеевны, не позвонив в колокольчик. Его встретила Фекла, кухарка, она же и горничная. — Дома Анна Алексеевна? — Дома-с. — Одна? — Нет-с. — Кто у нее? — Не знаю-с. — Сам? — Нет-с. — Кто же? — Барин. — Какой, как его зовут? — Не знаю-с. — Ты или дура, или плутовка, — сказал Евтей, смущенный и взволнованный неопределительностью ответов Феклы, и пошел в гостиную. Там огня не было, только из кабинета Анны Алексеевны в полуотворенные двери лежала на ковре светлая полоса. Евтей остановился в нерешимости, идти ли далее и поразить неверную внезапностью своего появления или возвратиться домой и прислать ей учтивую записку… Шаги его, поглощаемые мягким ковром, не были слышны в кабинете, где продолжался разговор, который Евтей невольно должен был слушать… — Я вам только скажу, — говорит мужской голос, — что мне покаместь удалось скопить моей всегдашнею бережливостию тысячу рублей… это, правда, небольшая сумма, но для семейного человека — если вы позволите мне иметь счастье… Громкий женский смех прервал это объяснение, и в то же время Евтей вздрогнул, будто от электрического удара. Мужской голос был знаком ему, несмотря на необыкновенно нежное выражение… — Извините, Евсей Евтеевич! — сказал женский голос, — сколько я вас ни люблю, ни уважаю, но эти тысяча рублей, которые вы скопили в несколько лет невообразимыми лишениями для будущей семейной жизни, рекомендуют вас очень ужасно экономическим супругом! Новый смех громче первого заключил слова Анны Алексеевны. Евтей не верил самому себе, думая, не помешался ли он! так странно, неожиданно, необъяснимо было для него это явление. А между тем разговор его невесты с его товарищем и другом еще раздавался у него в ушах, и он видел обоих — ее и его своими глазами. Придя несколько в себя от сильного потрясения, он приложил руку к горячему лбу, может быть отыскивая начала страшного, человеческого космополитизма. Более ничего не мог он ни видеть, ни слышать. Предметы и идеи перемешались в его воображении. Сознавая в эту роковую минуту решительную опасность для своего рассудка, он машинально и тихо вышел из комнаты Анны Алексеевны. Идя с лестницы, он горько заплакал. Сердце его сжалось мертвящей тоской, душа была поражена совершенным унынием. Внизу, в коридоре, им овладело неудержимое бешенство. Кстати, у дверей стоял полупьяный и полузамерзший извозчик. Евтей дал ему такой толчок, какой может дать только человек бешеный. Это спасло обоих: извозчик, перекувыркнувшись со ступеней подъезда на тротуар и с тротуара на мостовую, бодро вспрянул в руках двух будочников, совершенно трезвый и отогретый; Евтей, встретясь лицом к лицу с благочинием, присмирел и не взбесился окончательно.VIII
Похороны первого числа
Ужасно было состояние Евтея, когда он возвратился в подоблачную каморку у Какушкина моста. Разбросав свою форменную одежду по всем углам, он несколько минут бегал в совершенном исступлении… Все было потеряно!.. Но не столько мучила его самая потеря, сколько адское чувство, что он пренебрежен ею — и кем же! Что он предпочтен ему! и кому же?.. Долго шел он по ложному пути, долго терпел горькую долю, потому что думал о жизни не так, как другие, потому что не умел жить! Потом, когда вразумили его, что надобно думать и жить заодно с другими, и посулили ему лучшее бытие, когда он согласился на все для этого бытия — он снова обманут! Старая губернская секретарша, хозяйка квартиры коллежских секретарей, в чаянии от Евтея надлежащей платы за квартиру, затопила печь. Это отопление производилось в зимние месяцы исключительно по первым числам и большим праздникам, и потому в иные дни в комнате с водой и дровами могли жить только белые медведи да коллежские секретари. Старуха по той же причине, которая побудила ее затопить печь, была в веселом расположении духа и хотела, против своего обыкновения, потолковать с Евтеем, но, взглянув на него, безмолвно отступила за дверь. Долго глядел он на старые, почерневшие стены своей квартиры, на все предметы, составлявшие ее украшение, ветхие, разрушающиеся, всегда наводившие на него безотчетную тоску своим мрачным, мертвым видом. Новый прилив бешенства и неукротимой злости начинал терзать его… Пред глазами его, в темном углу лежал на стуле старый вицмундир. Этот вицмундир, казалось Евтею, дразнил его, казалось, говорил ему: «Я, бедный, бессмысленный вицмундир, сшитый по надлежащей форме, не нуждаюсь ни в житье пополам, ни в жалованье, ни в женитьбе, ни даже в первом числе! Я живу себе счастливо и самобытно. А ты — хотя ты и важная персона — коллежский секретарь, нуждаешься во всем этом и не можешь жить независимо и самобытно, как я!» Евтей с живостью подбежал к коварному вицмундиру, схватил и бросил его в печь, потом, сев на прежнее место, с странной улыбкой смотрел, как горел вицмундир. В ту минуту вошел коллежский секретарь Евсей. Между ними была разительная противоположность: один с сверкающими глазами, с лицом бледным, на котором беспрерывно показывались и исчезали красные пятна, губы его дрожали, как бы в тщетном усилии произнести слово; судороги бешенства дергали его, а между тем из глаз катились слезы, — он был страшен. Другой, чего никогда с ним не бывало, отличался щегольским партикулярным нарядом и особенно веселым выражением лица. После радостного восклицания, первым движением его при входе в комнату было кинуться на шею Евтея… Вдруг он остановился в изумлении: Евтей глядел на него — и так глядел, что он вздрогнул и отступил от него. Глаза Евтея впились в лицо Евсея. Евсей не мог выдержать пронзительного, страшного блеска их и обратил свой робкий взгляд в сторону… В то же мгновение он затрепетал и, указывая на вицмунир, горящий в печи, вопросительно смотрел в глаза Евтея. — Где ты был, Евсей? — спросил Евтей грозным голосом, от которого тот вздрогнул. — Что это сжег ты? — спросил Евтей и, кинувшись к печи, вытащил из огня недогоревшую часть вицмундира — фалду с пуговицами. — Так! Мой вицмундир! — сказал он про себя отчаянным голосом и обратился к Евтею: — Для чего сжег ты мой вицмундир, Евтей? Что сделал я тебе? Шесть лет собирал я копейки в рубли — не пил, не ел, жил как дикий зверь — собирал и зашивал… все ждал этого дня; собрал, дождался и — вот!.. В одну минуту в лице Евсея произошла страшная перемена: он был другой экземпляр Евтея. — А где ты был, Евсей? — опять спросил Евтей, который так был проникнут и потрясен своим горем, что не понял ни слова из сетований Евсея. — Для чего ты сжег мой вицмундир, мои деньги, мою душу? — Твой вицмундир?.. Ну, я ошибся… но это пустое. А где ты был? — Ну, что ты пристаешь ко мне? Я был у Каролины, и так все хорошо покончил! и вдруг! — все кончено! За что ты погубил меня, Евтей? — У Каролины? Ты лжешь, приятель! Ты был у Анны Алексеевны! Ты и она — вы оба до последней минуты обманывали меня!.. О! для чего, за что вы обманывали меня?.. — горестно воскликнул Евтей. Оба чиновника с минуту молчали после этого разговора, глядя в глаза один другому. Отчаяние, исступление выражались на их лицах. Потом Евсей снова сказал Евтею: — Так-то, ты погубил меня! Ты сжег меня! О, мои деньги! — Да, ты уничтожил меня! — сказал Евтей. — Ты уничтожил и меня и мои начала! О! Мои начала! Они разом захохотали так сильно, что губернская секретарша, сидя в своей каморке, вскрикнула от испуга и бросилась к дворнику. Коллежские секретари пустились танцевать что-то вроде «адского вальса». Долго и бешено танцевали они; пол трещал под их ногами; стулья были разбиты в щепки; кровати с ископаемыми одеялами опрокинуты; у дверей комнаты стояли безмолвные и удивленные дворник, водонос, хозяйка квартиры и несколько посторонних старух. Никто не смел остановить веселости коллежских секретарей, и они все быстрее и быстрее кружились в дружеских объятиях. Глаза их становились мутнее и страшнее; черты лица искажались гримасами. Евтей Евсеевич и Евсей Евтеевич повалились на пол. Женщины вскрикнули и разбежались. Дворник отправился в «квартал», чтоб заявить о происшествии.Темнота и безмолвие. Мгновенная вспышка углей в печи озаряет двух бледных коллежских секретарей, скрестившихся руками. Их тяжкое дыхание страшно нарушает тишину. И опять та же темнота, то же безмолвие. Вдруг на отдаленной колокольне Николы Морского загудел бой двенадцати часов: то был похоронный бой первому числу. Друзья вздрогнули… Напомнил ли им этот бой их утренние надежды, вызвал ли Евтея на анализ утра первого числа с вечером, только они теснее прижались один к другому и тихо внимали роковому звону, будто этот звон внушал обоим им одну горькую мысль… И скоро утих гул полуночного колокола. Первое число кануло во всепожирающую вечность, и вместе с ним умчались надежды и страсти коллежских секретарей Евтея Евсеевича и Евсея Евтеевича. На другой день корпус сумасшедших укомплектовался двумя новыми лицами…
ХОРОШЕЕ МЕСТО
I
Ограниченная поверхность нашей планеты усеяна светлыми точками, к которым стремятся мечты, самолюбие, зависть и все страсти и страстишки человеческие. Те точки суть хорошие места, те места самобытны, независимы ни от физических, ни от политических потрясений мира; они имеют свои степени и подразделения: есть такие места, которые сообщают своим обладателям силу и величие богов олимпийских и возвышаются над другими, тоже хорошими местами, как заоблачные вершины Гималаи над Валдайскими горами; есть и такие, которые доставляют счастливцам, занимающим их, все средства, не только к ежедневному обеду, но даже к курению копеечных сигар. Вообще хорошее место — ад и рай, мука и блаженство для бедного животного, горделиво называющегося человеком, даже чиновником, даже царем Природы, — как будто эта природа вырастит, по его велению, хорошее место, которого жаждет его эгоизм, или какое-нибудь место, без которого он может умереть с голода, как будто этот жалкий царь природы имеет собственное, личное значение среди тысячи миллионов других, подобных ему царей, если не занимает хорошего места. После этого, какой он, в самом деле, царь природы, этот человек, чиновник, бедняк самолюбивый! Он не самобытен, подобно хорошему месту; он абсолютное ничто, если не имеет этого места, а если «какими-нибудь судьбами» добудет его, усядется на нем, — он — нечто, факт, а не мечта, аксиома, а не гипотеза, одним словом, «человек, занимающий хорошее место!». Земля и на ней хорошие места созданы прежде человека; потом создан человек, и он занял, без всякого соперничества, хорошее место — в эдеме; но скоро сатанинская интрига столкнула первого человека с первого хорошего места; а когда человечество размножилось, оно увидело, что может существовать без горя и забот только в той благодатной атмосфере, которая искони свойственна одним хорошим местам, и стало грызться, резаться, даже подличать, стремясь в эту атмосферу. Но увы! сколько оно ни грызется, ни режется, ни подличает, для всех людей, чиновников, царей природы, недостает хороших мест!II
Если бы Природа производила людей, соображаясь с будущим значением их в обществе, она предупредила бы многие бедствия, удручающие род человеческий… Не было бы нынешних противоречий личного достоинства с рангом, честолюбия со способами к его удовлетворению, ума с возможностью употребить его на что-нибудь умное. Люди имели бы нравственные качества, соответственные положению их между другими людьми, и были бы счастливы, самодовольны. Есть, однако, много людей, которые дают повод к заключению, что Природа «наводила надлежащие справки» при рождении их. Есть люди высоких нравственных свойств, и они занимают высокие степени на общественной лестнице; есть дураки абсолютные — и они простодушно вывозят в гору, на своем хребте, людей разумных, считая это занятие прямым своим уделом. Ни к тем, ни к другим нельзя причислить Терентия Якимовича Лубковского, родившегося когда-то в украинском городе Чечевицыне в качестве сына и наследника пана Якима Терентьевича, владельца двух мужеских и трех женских ревижских душ, четырех борзых собак и ветряной мельницы. Яким Терентьевич был недоросль сорока лет, всю жизнь свою собиравшийся поступить на службу и не поступивший, потому что ему не давали хорошего места. Он считал неприличным своему шляхетству начать служебное поприще в сане копииста Нижнего земского суда; его честолюбие удовлетворилось бы званием дворянского предводителя; но, будучи паном малодушным, не имея наследственного или благоприобретенного добра, он не мог быть избран в эту почетную должность и оставался при своих лучезарных надеждах. Уже многие из товарищей детства его были людьми важными, занимали хорошие места, а он все еще ждал, что не сегодня-завтра прискачет к нему курьер с известием, что его сделали чем-нибудь, на первый раз хоть губернатором или винным приставом. Терентий Якимович, возрастая в доме родительском, со дня на день исполнялся честолюбием своего отца и приобретал высокое понятие о хорошем месте. В приходской школе он узнал от профессора элоквенции и пиитики, очень восторженного немца, что есть где-то на Руси столица, счастливый город Санкт-Петербург, и в той столице отводятся желающим хорошие места, по востребованию. Мошко Янкелевич, шинкарь и раввин чечевицынский, к которому он часто хаживал с товарищами, ради усладительной варенухи и снисходительной Хаи, жены его, объяснил ему, что в Петербурге, как наверное узнал он, будучи там на откупных торгах, всякий корчмарь значит больше пана чечевицынского капитан-исправника, что там родятся, делаются и оттуда на весь мир насылаются паны губернаторы… Кроме рассказов учителя и корчмаря, в Чечевицыне, даже во всей Украине славился Петербург своими сердитыми и страшными панами, так же как в Петербурге славится Украина своими арбузами, Черкасск быками и Крым — баранами. Ясно, что всякая почва, всякий климат производят один исключительный продукт: Украина — большие вкусные арбузы, Черкасск — откормленных быков, пригоняемых в Петербург на съедение, Петербург — тоненьких и страшных панов, приезжающих на Украину для откормления. Неизвестно, чему и как учился Терентий Якимович в чечевицынской школе. Достигнув двадцатилетнего возраста, он вышел из нее, то есть перестал ходить в нее, потому что надобно было наконец сделать решительный выбор между ею и Хаею, еврейкой, которая между тем лишилась своего Мошки, без вести пропавшего в одну из поездок для провоза контрабанды. В то же время он, с родительского благословения, задумал определиться в службу на хорошее место — по статским делам. Но где статские дела, где хорошие места, достойные Терентия Якимовича? В Чечевицыне статские дела были весьма необширны, а хороших мест, в том смысле как он понимал их, вовсе не было. «В Петербург! — подумал Терентий Якимович. — Мое место там!» Не велики были дорожные сборы его. Купив на ярмарке небольшой, выкрашенный разноцветными яркими красками сундук, он уложил в него свой уездный гардероб, несколько банок домашнего варенья и толстую тетрадь, под названием Таинственная книга, где были записаны несчастливые дни, в которые ничего важного начинать не должно, множество важных изречений малороссийских мудрецов, заклинания или заговоры против двенадцати лихорадок и другие полезные предметы. Этот сундук был поставлен в национальный еврейский экипаж, называемый чертопхайкою, нанятый вместе с владельцем его Ицкой за пятьдесят рублей. Важнейшее лицо чечевицынской аристократии — капитан-исправник дал Терентию Якимовичу рекомендательное письмо к своему старинному приятелю, пану Халяве, занимавшему в Петербурге, как слух носился, важное место квартального поручика, а нежные родители, продав одну ревижскую душу, благословили его вырученными деньгами. Потом Терентий Якимович, простясь с родными и знакомцами, напутствуемый искренними и лицемерными желаниями, сел в чертопхайку; жид поместился на козлах; ясное украинское солнце скрылось в облаках; брызнул мелкий дождь, — и клячи медленно потащили в столичный город Санкт-Петербург сто тысяч первого и все еще не последнего искателя хороших мест и статской службы.III
Долго, почти два месяца, ехал Терентий Якимович в своей чертопхайке; насмотрелся по дороге таких чудес, о которых ни бывший учитель, ни приятель корчмарь не говорили ему; наконец прибыл он в Петербург. Рассчитавшись с жидом и наняв себе квартиру — небольшую комнатку на чердаке дома в Садовой, он принялся отыскивать своего будущего покровителя, квартального поручика и имел первую неприятность не найти его ни в наличности, ни в списках Управы благочиния; он узнал только, что когда-то служил при полиции какой-то Халява, который за чрезмерное употребление спиртных напитков и за склонность к азарту выгнан из службы, после чего долгое время упражнялся в писании ябед, за которые отдан под суд, под коим и умер, с отчаянья ли, или от перепоя — неизвестно. После этой неудачи пан Лубковский стал ходить с утра до вечера по всему Петербургу в чаянии найти хорошее место; но, употребив на это хождение целый месяц, он с глубоким прискорбием удостоверился в горьком обстоятельстве, неожиданном и не принятом в расчет при выезде из Чечевицына, что все хорошие места уже заняты и остается только небольшое количество разных мест, для занятия которых есть, впрочем, до десяти кандидатов на каждое… Между тем родительское благословение, полученное Терентием Якимовичем на дорогу, истощалось; понятия его о петербургской жизни, о хороших и разных местах прояснились. Он призадумался о том, что может выйти, если ему не удастся получить должности — уже не губернатора, а только канцелярского чиновника. «Говорят у нас в Чечевицыне, — думал он, — что в Петербурге хороших мест на весь свет достанет. Дурни! Петербург не один — их три: первый внизу, где живет народ торговый, мастеровой; другой в средине; это и есть настоящий Петербург, где все места — хорошие места; там родятся, делаются и оттуда на весь мир насылаются губернаторы; жить там, в средине, значит, быть на хорошем месте, — и опять — иметь хорошее место — значит жить в средине Петербурга. Вся трудность в том, чтобы попасть в эту благодатную середину, а там уже только звезды лови да рубли собирай. Третий Петербург вверху, где я живу. Это уже то, — да не то. Здесь живут тоже люди чиновные, благородные, но из этих чиновных и благородных от начала мира не было ни одного губернатора, на этих вершинах до самого светопреставления не будет ни одного хорошего места!» Одна канцелярия сжалилась над ним и приняла его в чиновники, на пять целковых в месяц жалованья. Этих пяти целковых ему было бы достаточно в Чечевицыне даже для роскошной жизни, но в Петербурге их недоставало и на платеж за квартиру. Несколько месяцев Лубок терпеливо сносил свои нужды и лишения в ожидании скорого получения хорошего места. Наконец он вынужден был послать в Чечевицыно письмо следующего содержания: «Уведомляю вас, любезнейшие родители, что я, слава богу, жив, здоров и благополучен, только есть нечего: в Петербурге не то, что в Чечевицыне, о варениках и не спрашивай, варенухи и в помине нет, коржив никто не печет, а рубли здесь, просто непостижимое дело! Они точно такие же, как и у нас, в Чечевицыне, круглые рубли, только совсем не то значение имеют. Я получаю пять рублей серебром в месяц, ей-богу, не хвастаю! а их недостает и на одно первое число. Оно, конечно, я живу здесь очень высоко, почти выше всего Петербурга, в пятом этаже, а вся знать живет ниже меня, даже министры, наибольшие паны в Петербурге, живут во втором этаже. Дыни здесь вовсе не растут. Ни зимы, ни лета здесь не бывает и солнца никогда не видно… Я думаю, что если не завтра, то послезавтра меня сделают астраханским губернатором. Астрахань, говорят, большой город, и рыбы, и хлеба, и всякого зерна там вдоволь. Сделайте милость, пришлите мне десять целковых на дорогу в Астрахань. У вас есть лишние души: Тарас Хромой и Пахом Лопата, им уже лет по сту будет, проку от них нечего ждать: продайте их на перевод и пришлите мне гроши, также и баб продайте: у Наталки Кравчихи половина души, у Палашки Ткачихи четверть души, да у Явдохи целая душа. Все это народ негодящий, плутоватый, продайте их на развод и гроши мне пришлите. Притом же, Явдоха, я вам скажу, ведьма, а Пахом — упырь. Продайте их или променяйте на гречиху. Пишите мне письма по почте, а с чумаками не посылайте. Не жалейте сорока копеек: копейка — наживное дело! Откровенно скажу вам, любезные родители, что здесь есть одна графиня и одна княгиня. Княгиня, известное дело, знатнее, зато графиня краше. У княгини триста тысяч душ и десять миллионов рублей, а у графини четыреста тысяч душ и пятьдесят миллионов рублей. Я видел обеих по четыре раза. Сделайте такую божескую милость, пришлите мне хоть пять целковых, да попросите отца Никифора отслужить молебен с акафистом за мою душу: может быть, скоро пропаду от горя и холода! Здесь есть речка, Невой называется, и монументы всякие есть: Суворов, Петр-царь, Петербургская сторона и Васильевский остров. Если б вы знали, какие здесь паны живут! Иной пан побольше будет нашего губернатора. Самые большие паны называются министрами. Для них сделать губернатора, как для нас люлькутютюну выкурить — пустяки! А исправники просто нипочем! Здесь всяк сам себе исправник! Скажите же вы пану Барану, нашему чечевицынскому исправнику, чтоб он не очень храбрился своими усами и регистраторством и не трогал наших девчат, а не то, слава богу, Петербург столица! P. S. Вторительно прошу вас, любезные родители, если уже нельзя прислать пяти целковых, пришлите хоть три. Я за вас вечно буду бога молить». Через два месяца Лубковский получил с почты следующий ответ: «Любезный сын Терентий Якимович! Письмо твое принесло нам и соседям нашим величайшую радость. На то мы тебе и воспитание хорошее дали, чтобы ты пошел далеко. Особенно благодарны тебе за описание Петербурга. Видно, что знатный город! Женись, на ком хочешь, на княгине или на графине: на всякий случай посылаем тебе наше заочное родительское благословение, навеки нерушимое. Хотели бы и денег прислать хоть три карбованца, да нема. У нас, знаешь, тяжба с родичами: все в суд идет! Надейся на бога и почитай родителей; с родительским благословением всюду и во всем успеешь! Только с немцами не водись: все они безбожники — постов не соблюдают. С ними как раз сгубишь свою душу ни за понюх табаку! И на вечерницы не ходи: в Петербурге, мы думаем, парубки всякие бывают, иной побратается с тобою только для того, чтобы ты угостил его. Затем прощай, сынку! Пошли тебе господь скорее губернаторское место! P. S. Проведай, какие души у твоей княгини и какие у графини. Теперь свет плутоват стал, и нынешние души совсем не то, что были души прежние, старинные. Нынешние души годятся только для ломбарда. Вот и мы хотели, по твоему совету, продать свои три и три четверти души, да не тут-то было: никто за них и гроша не дал. Давали, правда, четыре ведра горелки, да горелку мы сами курим, на что нам горелка! Кстати, промотался пан Перепичка: всю свою стаю, знаешь, знатная стая борзых, за бесценок отдавал. Тут-то послал мне милосердный господь счастие: за упомянутые негодные души я успел выменять, отбить у пана Семиголового бравую, первую в своре собаку! Шерсть рыжая, белое пятно на лбу, щирая, поджарая, просто не пес, а бес! Теперь у меня, сынку, первая собака во всем Чечевицынском уезде, и все паны мне завидуют. Наши вороги настроили пана Семиголового тягаться со мною; да я ни за что не уступлю. Он повез в суд четыре мешка муки и годовалого бычка, а я отвезу восемь мешков муки и двух бычков! Пожалуйста, если знакомство хорошее имеешь, постарайся там, в Петербурге, пана Семиголового, всех наших врагов в Сибирь сослать. Тебе это ничего не стоит! Только поторопись: а то как раз Манифест милостивый выйдет».IV
Родительское благословение, навеки нерушимое, нисколько не помогло бедному Терентию Якимовичу в горьких его обстоятельствах, и он со всем напряжением отчаяния стал разыскивать и исследовать все хорошие и разные места в Петербурге. Насущные нужды укротили гордость его. Он перестал думать о губернаторстве и, со дня на день теряя украинские понятия о жизни, приобретая качества настоящего петербургского чиновника, становился смиреннее, общежительнее. Он увидел, что самые хорошие места для таких людей, как он, суть канцелярские должности с двадцатью целковыми в месяц жалованья и казенною квартирою, с казенными дровами; он увидел так же, что ему до такого места, «как до звезды небесной далеко», потому что Петербург битком набит искателями подобных должностей, и каждый искатель, стараясь по мере сил уничижать, уничтожать своих соперников, в то же время сам подвергается влиянию враждебной конкуренции. Итак, неужели нет для него в Петербурге ни одного места, даже невидного и незавидного по названию, только хорошего по свойству? Неужели навсегда он обречен жить в соседстве с луною, быть отчужденным от всех благ, даруемых земным обитателям? По обеим сторонам Обводного канала тянутся бесконечные заборы, огораживающие пустопорожние хорошие места. Это огороды, производящие репу и картофель. Владельцы этих огородов занимают их в течение лета, а на остальное время года, называемое в календаре осенью, зимою и весной, переселяются в город, поручая их хранение людям неукоризненной честности, преимущественно из благородного сословия. Эти люди, в сущности сторожа, носят иное, более пристойное, но также ответственное название «смотрителей огородов». За исполнение своей обязанности смотритель получает следующие важные выгоды: готовую квартиру в шалаше, сколоченном на огороде из кружевного барочного леса, дрова, достаточное для пищи и освещения количество жирного снадобья неизвестного названия, но весьма удовлетворительного для обеих потребностей качества, и запас разных огородных овощей, не проданных в течение лета. Он пользуется этими благами около девяти месяцев в году, самых враждебных месяцев для человека, получающего пять рублей в месяц жалованья. Но как ни велико число хороших мест этого рода, их недостает для всех честолюбцев, стремящихся к ним всякими путями. И таково благодатное свойство каждого из этих мест, что занявший его однажды не расстается с ним никогда, кроме трех редких случаев: смерти, женитьбы и получения казенной квартиры в городе. Эти случаи открывают в каждую осень одну или две ваканции на хорошее место. Тогда-то кипят страсти и желания искателей, созидаются фантастические планы, возбуждаются чудовищные надежды, разыгрываются смелые интриги, являются яркие, поразительные картины эгоизма, отчаяния, обманутого самолюбия! Ум человеческий способен извинить великие злодейства великостию целей их. Он понимает, что для достижения одного из мировых хороших мест человек может отважиться на многое: на преступление, на подлость, даже на героизм, даже на добродетель; но когда на маленьком пространстве Московской и Каретной частей Петербурга взволнуется множество людей желанием блаженной должности сторожа, когда это желание вызовет ту же энергию, что и колоссальное честолюбие, когда эгоизм мелкий, комарий достигнет высшего напряжения и закипят столь же неутолимые страсти и возмутительные интриги, и все это ради хорошего места на петербургском огороде, тогда цепенеет ум, ничего не извиняет и ничего не понимает. Терентий Якимович, недавно мечтавший, что его сделают, по крайней мере, губернатором, прожив в Петербурге полгода, стал мечтать, увы! о хорошем месте в готовой квартире на огороде, по ту сторону Обводного канала! И для того, чтобы получить это место, недостаточно быть достойным его, надобно еще иметь всемогущую протекцию случая. У него был товарищ по службе, человек пожилой, бесстрастный, пользовавшийся хорошим местом на огороде десять лет сряду. Этот человек, никогда не выказывавший своих чувствований в хороших или дурных обстоятельствах, умер скоропостижно от радости, что его сосед и враг по огороду, найдя на улице бумажник с двадцатипятирублевой ассигнациею, в восторге от этой благодатной находки сошел с ума и открыл ему ваканцию на другое хорошее место. Таким образом случайная погибель этих двух человек, также когда-нибудь питавших честолюбивые, юношеские мечты, очистила Терентию Якимовичу место в бедном шалаше на уединенном огороде, и он эгоистически радовался, что «такой случай вышел!». Заняв хорошее место, он получил возможность собирать, по малороссийской поговорке, грош до гроша, копейку до копейки, все, что прежде издерживал по необходимости на поддержание своего существования, которое теперь обеспечивалось выгодами этого места. Его новая обязанность не сталкивалась с обязанностию служебною: на службе он проводил дни, на огороде ночи. Сначала трудно, страшно было ему жить одному в совершенном отчуждении от всякой живой души, среди пустынных огородов, на которых свободно разгуливала зимняя вьюга; особливо боялся он ночевать в своем шалаше… боялся не воров, с которыми умел бы справиться, а ведьм, мертвецов и прочей нечистой силы, против которой бессильна всякая храбрость; но, проведя несколько ночей, не встревоженный ни мертвецом, ни чертом, он успокоился и стал мало-помалу забывать прежнее горе и прежнее честолюбие.V
Пять долгих однообразных лет минуло с того времени, когда Терентий Якимович благодаря случаю, располагающему хорошими местами, занял должность смотрителя огорода. В это время он совершенно забыл и великолепную мысль о губернаторстве, приведшую его в Петербург, и Малороссию с ее дынями и еврейками; он стал истинным канцелярским чиновником, с канцелярскими страстями, канцелярским взглядом на жизнь, и имел один важный предмет, вовсе не свойственный канцелярским чиновникам, деньги, относительно к его значению в Петербурге — большие деньги. С помощью этих больших денег (которые, для исторической точности, должно назвать определительно тысячей прежних ассигнационных рублей) он стал первенствующим лицом в кругу своих товарищей и дельным человеком в глазах одного пожилого чиновника высшего ранга; именно надворного советника. Отличив Терентия Якимовича от его товарищей, этот важный чиновник сказал ему однажды приличным, покровительственным тоном: «Я советовал бы вам, господин Лубковский, окончательно устроиться. Есть у меня в виду прекрасная благовоспитанная девица. Если мое посредничество что-нибудь значит в вашем мнении, женитесь, неотлагательно женитесь — для собственного счастия». Канцелярская мудрость считает брачную храмину, что ныне супружеская спальня, хорошим местом и ставит ее в порядке хороших мест выше огорода на Обводном канале. По указанию этой мудрости и еще по другой причине, Терентий Якимович немедленно оставил старое хорошее место для обладания новым. Другой причиною к женитьбе на прекрасной, благовоспитанной девице была превосходная вакансия, замещение которой зависело от его покровителя: то было частное (ради аллаха, не привязывайтесь, строгие ценители и судьи: говорится определительно частное, а не казенное) место смотрителя, не огородов, а гробов. Воображение его было поражено превосходством этого места над должностью смотрителя огородов, и он не сомневался, что если угодит кому следует, то оно будет отдано ему в обеспечение грядущего семейного благополучия. Должность смотрителя гробов состояла в том, что отправляющий ее занимал удобную квартиру в самом Петербурге (о чем Терентий Якимович мечтал даже на огороде), получал достаточное жалованье, имел возможность бывать в клубах и других обществах, честь посещения которых стоит один рубль серебром, — и за все эти блага был обязан наблюдать строго и неуклонно, чтобы гробы, обильно поставляемые в госпитали и лазареты богоугодных учреждений, имели установленную меру и форму и были той несокрушимой прочности, которая искони называется казенною. Ему предстояла блистательная будущность: молодая жена, покровительство значительного человека, хорошее место и с ним все счастие, даруемое человеку хорошим местом. Он женился… Отец жены его был, лет двадцать тому, первостатейным купцом, отчаянным благотворителем страждущего человечества, а этот надворный советник был у него чем-то вроде управляющего делами и, по уважению постоянного усердия к пользам хозяина, удостоился быть крестным отцом его дочери. Потом благотворитель затеял совершенно верную спекуляцию: пошел в банкроты, думая нажить миллион, и попал вовсе неожиданно в тюрьму, в качестве злонамеренного, так называемого злостного банкрота, а его управляющий пошел в надворные советники и, между прочим, в строгие блюстители формальностей; но, по обычаю людей, проникнутых коммерческим духом, он все-таки не мог воздержаться от благотворительности, и как в ту пору бывший его милостивец, отец и благодетель, скончался с горя от неудачи в вернейшем торговом обороте, то он озаботился о судьбе своей крестницы: несколько лет платил за нее в пансион из денег, нажитых у благотворителя, и, чтобы не тратиться на приданое для нее, выдал ее в замужество за одного из «своих людей».VI
Воспитание и выдача в замужество за хорошего человека бедной дочери банкрота стяжали покровителю Терентия Якимовича лестную славу человека бескорыстного, преисполненного любви к ближнему. Покровитель, с дальновидностью мудрого эгоизма, давно рассчитал, что в некоторых случаях благотворительность может принести больше пользы, чем спекуляция на питейные откупы. Она, в крайнем случае, не давая человеку, занимающемуся ею с расчетом и тактом, прямых материальных выгод, постепенно составляет ему несокрушимую репутацию, высокое нравственное значение, перед которым благоговеют иные люди, посвятившие себя другим предметам. Оконченный подвиг человеколюбия доставил бывшему купеческому приказчику давно желанное партикулярное, состоящее вне сферы казенной, место управляющего различными частными учреждениями в пользу страждущего человечества. Нет надобности упоминать, под каким градусом широты и долготы лежало это благодатное место, иначе выйдет опять личность, но позволительно сказать, во избежание той же неприкосновенной личности, что оно было далеко за пределами Петербурга. Надворный советник так поспешно отправился на свое хорошее место, так был занят своими личными выгодами, что с равнодушием вовсе не филантропическим обещал Терентию Якимовичу «подумать» о его притязаниях и нуждах. Завидная должность смотрителя гробов была потеряна для Терентия Якимовича. Новое лицо, заменившее надворного советника, поручило ее своему человеку, в достоинствах которого было уверено. Между тем большие деньги, скопленные им в пятилетнее обладание хорошим местом на огороде, исчезали; нужды нового, супружеского быта увеличивались, и годового жалованья, лаконически называемого достаточным, недоставало на один месяц. Тогда воображению его представилась страшная картина ожидающей его будущности, картина вечной, со дня на день усугубляющейся нищеты, которой поражены тысячи других людей, подобно ему прибывших в Петербург бог весть откуда искать хороших мест, славы, счастия; подобно ему, горько обманутых своими надеждами и мечтами, утративших, под гнетом опыта, счастливые заблуждения молодости, пожелтевших от нужды и разочарований и, наконец, женившихся, чтобы сделать угодное своим милостивцам и поправиться, как говорится, «из куля в рогожу». Лубковский захворал с горя, и на болезненном одре предался воспоминаниям надежд своей молодости. И что б было ему остаться в Чечевицыне, не поддаваясь обольщениям громкого имени столичного города Санкт-Петербурга! Правда, в Петербурге родятся губернаторы и люди побольше губернаторов, но здесь также родятся в несметном числе нищие разного звания, и только один бог знает горечь их существования. Одна старинная еврейская песня начинается восклицанием: «Как упоительна любовь в довольстве и роскоши!» И точно, без довольства не может быть любви, без способов к удовлетворению животных потребностей человек не имеет высокой духовной способности любить. Терентий Якимович прежде, когда видел в молодой и прекрасной жене своей средство к исполнению своих эгоистических, честолюбивых замыслов на хорошее место, обращался с ней уважительно, с некоторой нежностью. Он и любил бы ее, если б душа его освободилась от тяжких вседневных забот, убивающих всякое возвышенное чувство; но угнетаемый материальными нуждами, пугаясь мрачных предчувствий, он считал жену виновницей его неизбежной погибели. Без нее, без этой Пелагеи Петровны, он не имел бы надобности ни в квартире, не оплачиваемой его жалованьем, ни в Сенной площади, ни в дровяных дворах… Безмолвно сидела Пелагея Петровна у постели Терентия Якимовича. Еще не зная практически той жизни, на которую обрекаются люди одного значения с ее мужем, она понимала, что сделалась причиной его страданий, его несчастья. Слезы покатились из глаз ее, но она поспешила отереть их. В эту минуту муж глядел на нее. — Что ты плачешь? О чем ты плачешь? — спросил он сурово. — Пожалуй, могут сказать, что я тиран твой. Чего доброго! Для меня только этого недоставало! — Я думаю, — отвечала Пелагея Петровна дрожащим голосом, глотая слезы, — я думаю, что мы очень несчастливы! Ты больной, всегда расстроенный… как же мне не плакать! — Слезами тут ничего не поможешь… — Он не кончил своего замечания, по-видимому развлеченный внезапной мыслью. Пристально и задумчиво глядя в лицо жены своей, он, казалось, развивал на нем свою идею, свои новые замыслы. Чрез несколько минут глаза его оживились, лицо потеряло страдальческое выражение, он поднялся с постели и, не говоря ни слова Пелагее Петровне, стал сочинять какое-то письмо… Был у него милостивец, человек важный, пожилой, довольно значащий в обществе и в службе, удостоивавший называть его любезнейшим, нередко обещавший позаботиться о нем и никогда не исполнявший своих обещаний. И не мудрено: у милостивца была толпа людей, которых он, по благосклонности своей, называл любезнейшими и которые, пользуясь этою благосклонностию, утруждали его такими же просьбами, как и Терентий Якимович. Всех просьб удовлетворить было нельзя, а для того, чтобы оказать одному из любезнейших предпочтение пред другими, требовалось, чтобы этот любезнейший имел какие-либо права на него, особые уважения, которые ставили бы его в глазах милостивца вне толпы обыкновенных просителей. Светлая мысль блеснула в уме Терентия Якимовича и исполнила душу его животворящею надеждою. Долго сочинял он свое письмо, наконец сочинил, переписал его тщательно на тонкой почтовой бумаге и, запечатав в конверт, обратился к жене своей. — Послушай, душенька, — сказал он ей ласково, — еще недавно ты плакала, а я, больной от горя, лежал на постеле, с которой и вставать не думал. Теперь бог послал мне мысль, которую я считаю счастливою. Очень может быть, что положение наше поправится. Я вспомнил обещания одного важного человека, который о сю поры не исполнил их — знаю почему! знаю, что он за человек и на что я решаюсь… (Он произнес последние слова с особенным выражением.) Но, говорит пословица: с волками жить — во-волчьи выть. Не я один!.. Я почти уверен, что если ты сходишь к нему с этим письмом, то он сжалится — не надо мной, так над тобою. Расскажи ему о нашей крайности… Я прошу его в этом письме содействовать мне, «по причине жены», к получению хорошего места. Ты попроси его от себя. Большие люди всегда внимательны к женщинам, и ты не бойся обременить его своими просьбами. Наш брат, мужчина — дело другое. Только будь с ним любезнее… В этом нечего учить тебя. Я говорю для «твоего соображения». Поезжай с богом, душенька! Я на тебя надеюсь! Пелагея Петровна повиновалась. Одевшись просто, по способам бедной чиновницы, но со вкусом и изяществом благовоспитанной женщины, она положила в ридикюль письмо своего мужа и отправилась на скромных извозчичьих дрожках к его милостивцу.VII
Новая просьба Лубковского имела решительные следствия: «по причине жены», как выразился он в письме к своему милостивцу, он получил хорошее место. Он стал одним из тех счастливых, привилегированных людей, для которых жизнь — один непрерывный, упоительный, победоносный танец. В отношении к Терентию Якимовичу обязанность по хорошему месту заключалась в том, что он долженствовал в определенные часы уходить из квартиры для исполнения особых поручений. Эти поручения исполнял он с такою точностию, что в короткое время заслужил многие удобства, кроме тех, которые вообще свойственны хорошему месту. По важности лежавшей на нем обязанности, он получил просторную, прекрасно отделанную квартиру, обзавелся парой лихих лошадей и тем милым городским экипажем нынешней формы, который покамест носит обидное название дрожек, но, в сущности, выражает идею приятного качания, а не лихорадочного дрожания. Вообще чувствуя преуспеяние свое во всех благах мира сего, он покидал замашки прежнего дикого быта и со дня на день совершенствовался духом и телом. Разум его стал яснеть, невозмущаемый и негнетомый мелкими житейскими потребностями. Различные отношения и условия в делах человеческих приходили для него в стройный, общеполезный порядок, и на страсти и бедствия, деспотически властвовавшие над миром вне собственной его особы, он привыкал смотреть космополитически, равнодушно, обращая их в неизбежную принадлежность упомянутого мира. Спокойный духом, счастливый, он с радостию видел приятное округление своего подбородка и других частей лица, дотоле угловатых, растянутых, и возвышение своего драгоценного чрева. Это благодетельное внимание к нему самой природы давало ему приятный повод видеть себя в будущности совершенно похожим на любого, наилучше откормленного на Волге российского степного помещика. Он долженствовал исполнять свою обязанность в шесть часов пополудни. Нельзя не заметить, как гармонировала она с личною его потребностию. В шесть часов, после хорошего, даже очень хорошего обеда, он отправлялся из квартиры для совершения предписанной во всех, в том числе и в конских, лечебниках прогулки, особенно полезной для таких людей и лошадей, которые, подобно ему, сосредоточив нежнейшие чувствования своего сердца на собственной особе, видят ее расцветающею и полнеющею вожделеннейшим образом. Итак, следуя указаниям сердца и всеобщего лечебника, он в то же время почти бессознательно исполнял и свою обязанность.VIII
Однажды, в осенний вечер, пообедав отлично, Терентий Якимович предался приятной дремоте и еще более приятным мечтам, столь плодовито и обильно рождающимся после обеда. Дождь стучал в окна; на улице холод и мрак; в его кабинете теплота и свет, разливаемый прекрасною усовершенствованною лампою. Взглянув в окно, он вполне почувствовал неоцененную выгоду своего положения. Сколько там, на улице, бродит чиновников того же класса, как и он, мучимых потребностию хорошего места, ищущих его всюду, на улице, в грязи, на тротуарах, под воротами домов, под балконами, в чужих передних, в чужих кабинетах, даже в чужих спальнях! И сколько всякий из них натерпится горя, набегается, накланяется, наподличает, пока достигнет хорошего места! Сколько между ними таких, которые весь век, имея хорошее место у себя под носом, не замечают и не находят его, и, наконец, таких, которые, во всю жизнь ища хорошего места, гоняясь за ним от неопытной, пылкой юности до коварной старости, находят его только в могиле! И опять какое разнообразие в идее хорошего места, какая разладица в понятиях о нем: для одних искателей его оно, по меньшей мере, трон китайского богдыхана, для других оно только казенная квартира с дровами, для третьих управление департаментом, для четвертых заведование нравами дворников, для пятых хождение за барыней пожилых лет, для шестых — гроб! Терентий Якимович, покоясь в креслах, предался дремоте, которая, однако, не прерывала вышеприведенных дельных размышлений. Мало-помалу от посторонних интересов он перешел к собственным своим. Вспомнив время, которое он проводил на огородах, куда хаживал в такую же, как теперь, погоду, голодный, оборванный, с отчаянием в душе, он предался невольному увлечению блаженства, ощущаемого при одном сравнении прошедшего с настоящим, и воскликнул: — Хорошее место! И будто в ответ ему раздался легкий, благозвучный бой шести часов. Он вздрогнул. Впервые этот бой отозвался не в ушах, а в сердце его. Он потерял приятное расположение духа и, прислушиваясь к жужжанию дождя, впервые почувствовал тяжесть обязанности, неудобство хорошего места. Теперь ему хотелось бы остаться дома и, вместо того чтобы тащиться бог весть куда и зачем в такую петербургскую погоду, посадить возле себя или даже у себя на коленях свою хорошенькую жену, которая стала еще лучше с тех пор, как хорошее место, доставленное мужу, избавило ее от горя, от забот, от нищеты… Вдруг раздался звонок в передней. Терентий Якимович, торопливо накинув на себя пальто, схватив шляпу и скорчив гримасу неопределенного смысла, бросился из кабинета и в дверях повстречался с своим милостивцем. Оба, по какому-то внезапному чувству, отступили один от другого. Потом, опустив глаза долу, раскланялись с легким, не выразимым никакими словами восклицанием. Руки их сначала протянулись было одна к другой, потом будто постороннею силою были отброшены в противоположные стороны. Милостивец первый начал разговор следующим вопросом: — А? — Да-с! — отвечал Терентий Якимович. — Я уйду… Мне очень нужно идти по разным поручениям… Милостивец приятно улыбнулся и поклонился. Терентий Якимович тоже улыбнулся и, поклонившись, ушел по особым поручениям. Едва только он сошел с лестницы, как дождь окатил его будто из ведра. Он хотел было остановиться у подъезда собственной квартиры, но долг говорил ему повелительно, как Вечному Жиду: «Иди, иди, иди!» И он пошел под сильным влиянием идущего дождя и прошедшей встречи. Он торопился в кондитерскую или в трактир, но ни той, ни другого не было вблизи, а дождь все усиливался и наконец полил в таком размере, что все шедшее и бежавшее по улице кинулось под ворота домов. Терентий Якимович тоже приютился с толпой кухарок, мужиков и чиновников под воротами. После краткого молчания толпа заговорила, начав с нравоучительных изречений по случаю дождя. Потом разговор, заводимый отдельными группами, по по́лам и по состояниям, принял более обширное направление, и по странному случаю, все, и кухарки, и мужики, и чиновники, говорили об одном предмете — о хороших местах. Терентий Якимович, стоявший отдельно, вслушивался в разговоры и скоро понял, что все эти люди, случайно сбитые в одну кучу и через минуту долженствующие рассыпаться по разным вершинам Петербурга, суть искатели хорошего места. — Велико дело! — воскликнула одна дюжая баба, покрыв своим голосом менее звучные выражения прочих сообщников, — велико дело — хорошее место! Имей, выходит, хорошее место, так уж ни за что в свете не пойдешь из фатеры в эфтакую непогодь! — Вздор! — сказал Терентий Якимович громко и решительно, так что вся толпа, смолкнув, обратила на него внимание, и в ту же минуту, изумясь сам своему невольному увлечению, он бросился из-под ворот. Войдя в переднюю своей квартиры, измокший, терзаемый досадой и тоской, он снова встретился с милостивцем, только что возвращавшимся. Оба по-прежнему остановились, взволнованные этой встречею, и, улыбаясь один другому, казалось, хотели заговорить о чем-то. После минутного замешательства Терентий Якимович сказал, кланяясь милостивцу: — Вот, я уже и возвратился! — А! — Да-с! — Гм! И милостивец с новой ласковою улыбкою и поклоном изволили уйти. Долго стоял Терентий Якимович у окна своего кабинета, мучимый тяжкою думою. Черты лица его были искажены судорогами, в глазах сверкало отчаяние. Только сильный ливень дождя и вой ветра несколько развлекли его; он прислушался к игре петербургской погоды, у которой еще недавно сам был игрушкою, и, взглянув потом на свою роскошную квартиру, на дорогие ковры, на мебели красного дерева драгоценной отделки, на изящные бронзы и на многие другие дорогие безделки, он стал приходить в себя и, внимательно глядя на все эти предметы, как будто извлекая из них дух космополитизма, произнес наконец с совершенным спокойствием: — Да! Хорошее место!..ПАРТИКУЛЯРНАЯ ПАРА
Над миром носится вечный, лучезарный призрак, называемый счастьем. Для существования человека в этом мире необходимы женщины, хорошие места, воздух и эгоизм, и эти предметы существуют фактуально, осязательно, но человек, всегда недовольный тем, что есть, сам изобрел этот призрак, эту мечту, это счастье; потом он поверил, что счастие существует и что ему без счастия и жизнь не жизнь, и чины не чины! В Петербурге едва ли есть счастие, а верно то, что есть магазины, любовь и сплетни — для женщин; честолюбие, козни и выговоры — для мужчин; мечта, луна и дева — для поэтов; наконец, эгоизм и Невский проспект — для всех! Хотя каждый и каждое из упомянутых предметов и качеств, существенных, а не мечтательных, может с совершенным успехом заменять для петербургских людей отсутствующее счастие, однако многие из этих людей не удовлетворяются избытком магазинов, козней, воды и пр., считают необходимым для своего существования счастье, гоняются за ним во всю жизнь, видят его всюду, «куда приезда не имеют», осуществляют его во всем, чем владеть не могут, и, сходя в могилу, измученные, разочарованные, говорят ожесточенно: нет счастия в мире! Между тем эти люди, большей частию никогда не мыслившие и не имевшие надобности мыслить о разных обстоятельствах, управляющих жребием человеческим, не испытывавшие ни одного из горьких лишений, которыми исполнена и пожирается жизнь других людей, покорно и безропотно идущих к крайнему, утешительнейшему пределу ее, могиле. Они занимают «хорошие места», имеют хорошие квартиры; в двенадцать часов бреются, в два часа гуляют по Невскому, в шесть часов обедают, в восемь зевают в Итальянской опере, и на них иногда завистливо, иногда с правдивой досадой смотрит какой-нибудь жилец пятого этажа, считающий себя человеком не хуже других. И опять в том же Петербурге существует множество людей, для которых счастие, как оно и есть — мечта, призрак, которые стараются жить и живут как-нибудь, волнуемые копеечными выигрышами и проигрышами в преферансе, возвышением цен на дрова и съестные припасы, люди, которые постоянно более или менее довольны собою и своими обстоятельствами, считают глупостию стремление к отвлеченным благам и, постоянно гнетомые суровыми потребностями жизни, твердо верят, что свет идет весьма удовлетворительно, и хотя им очень желательно бы иметь квартиру и обстоятельства получше, однако, по соображению других квартир и других обстоятельств, видят, что они живут, по милости божией, весьма хорошо! Эти счастливцы те самые, которые в зимнюю стужу или в непогодь осеннюю, закутавшись в ветхую шинель, торопливо идут в должность, а если случится Новый год или другой какой-нибудь всерадостный праздник, то к покровителю с установленным поздравлением, и на лице их отражается одна служебная забота, боязнь выговора и не отражается никакое эгоистическое ощущение, как будто на них не действуют ни своенравные стихии, властвующие над ними на дворе, ни мелкие, но многочисленные нужды, съедающие их в домашнем быту. К числу таких счастливцев принадлежал Петр Иванович Шляпкин, бывший Чарочкин, молодой человек с большими канцелярскими дарованиями и маленьким чином. Даже можно сказать утвердительно, что он был самый счастливый человек из всех верхних обитателей Большой и длинной Мещанской улицы. Когда Петр Иванович назывался просто Чарочкиным, он испытал многие неудобства и огорчения по службе и в домашнем быту. Сначала он пришел было в отчаяние, но, будучи от природы человеком рассудительным, стал, по мудрому совету одной глубокой книги, отыскивать причину своего несчастия в самом себе и нашел ее в своей фамилии. Тогда, по праву людей, имеющих неблагозвучные прозвания, он решился переменить свое несчастное название Чарочкина на другое, более счастливое и благозвучное… Но какое прозвание самое счастливое в природе и самое благозвучное в русском языке?.. Он припоминал многие, но все они казались ему не довольно счастливыми и благозвучными. Поэтому он захотел «сочинить» себе фамилию, и сочинял ее целый месяц, выдумал сотню прозваний, одно другого мудренее и лучше, так что наконец не знал, которое из них выбрать: Громов — хорошо, но Громовых много на Руси; Рублев, даже двухрублевый, и особенно трехрублевый, тоже хорошо, но как-то страшно; Онегин, Чубуков, Чубукевич, Кнутиков, Бутылкин, Петухов, Выжигин… Вот, наконец, самая счастливая фамилия народная в России! И какой канцелярский чиновник не хотел бы называться Петром Выжигиным! Но как ни лестно было Петру Ивановичу Чарочкину называться Петром Ивановичем Выжигиным, он испугался популярности этого имени. Что выйдет, рассуждал он, если где-нибудь в компании узнают, что я Петр Иванович Выжигин? Станут, пожалуй, указывать на меня: «Вот, дескать, Петр Иванович Выжигин», станут расспрашивать меня о батюшке, покойном Иване Ивановиче, о дедушке, который доселе здравствует и бранится в каждую субботу со всем светом, о мне самом… Иные даже захотят ощупать или ущипнуть меня… Есть такие странные люди, которым недостаточно смотреть на интересующий их предмет, надобно еще ущипнуть его, чтобы сказать потом: «Я знаю его совершенно!» Вследствие этих рассуждений Петр Иванович обратился к более скромным прозваниям… Он не только любил женщин, подобно всем, но даже уважал их, как немногие, и потому произвел свою новую фамилию от одного из предметов женского наряда, от шляпки. Таким образом, он стал называться Шляпкиным. С переменою фамилии переменилось служебное и домашнее положение Петра Ивановича. Он получил давно желанный, радостный чин, еще более радостную прибавку к жалованью и, кроме того, неожиданно открыл способ, к увеличению своего дохода трудом и сбережением по системе политико-экономов и к израсходованию его единовременно первого числа, по обычаю людей, для которых это число есть единственный радостный день в течение целого месяца. Кроме числа и достаточного дохода, Петр Иванович имел еще одну важную вещь: установленную форму, состоявшую из вицмундира и принадлежностей к нему, купленную на Апраксином дворе за сорок рублей ассигнациями, в качестве малоподержанной пары, а по строгом рассмотрении оказавшуюся только годною к употреблению во всех приличных случаях. Петр Иванович получал жалованья соразмерно своему чину, ассигнациями двадцать семь рублей одиннадцать копеек с половиною в месяц, и за эту цену ежедневно, кроме праздников, записывал исходящие бумаги и запечатывал их в конверты, для рассылки по адресам. Однажды, держа в руках конверт, он подумал: очень много конвертов выходит в нашей канцелярии… и много денег платится за них!.. А что, если рассчитать, сколько конвертов выходит во всем свете или хотя в одном Петербурге?.. О, видно, что люди, делающие конверты, наживают копейку! А между тем небольшое искусство делать конверты: нужно только иметь ум… и бумагу притом… Мне, например, только ум собственный и нужно бы иметь для делания конвертов… Право, не заняться ли? В тот же день Петр Иванович, запершись в своей комнате, до тех пор резал бумагу, пока не изучил в совершенстве искусства делать конверты. При этом он заметил, что конверты делаются гораздо удобнее, легче и лучше из казенной бумаги, нежели из собственной, и по случаю этого замечания решился не покупать бумаги, а открыть производство «отличных» конвертов единственно из той, которую удобно мог добывать «в должности». Петр Иванович озаботился об открытии надежных рынков для сбыта своего продукта и с этой целью отправился в некоторые купеческие конторы, вызываясь поставлять конверты всевозможных видов и размеров по ценам, несравненно меньшим противу тех, которые платятся за них в лавки и магазины. К этому вызову Петр Иванович присовокуплял небольшое, но весьма дельное рассуждение о том, что лавочники и магазинщики, торгующие конвертами, суть не что иное, как посредники между производителями и потребителями этого товара, и в качестве посредников берут за него вдвое дороже против настоящей «мануфактурной» цены. Купцы и их конторщики всегда предпочитают продукт из первых, производящих его рук и нормальную цену продукту из вторых, посредничествующих рук и цене, возвышенной десятью процентами за труд этого посредничества, и хотя, в настоящем случае, выгода от приобретения конвертов у самого Петра Ивановича составляла копеечную разницу, однако, по строгой аккуратности благоустроенных торговых домов, она не была пренебрежена, и Петр Иванович получил во многих конторах заказы на свое изделие. Увлекаясь успехом и выгодами своего предприятия, он хотел было вызваться на поставку конвертов и в казенные места, из чего могла бы выйти казенная польза, из которой, в свою очередь, вышло бы что-нибудь лестное для него, как чиновника, радеющего о казенной пользе, но, приняв в соображение ядовитую зависть, преследующую всякий успех по службе, по откупам, подрядам, поставкам и т. п., он укротил свое честолюбие и ограничил свою мануфактурную деятельность одними «партикулярными» местами. Обширнейшими из торговых связей Петра Ивановича были связаны с домом господ братьев Гельдзак и Компании, в который поставлял он конвертов на двадцать рублей в месяц, по уговору с господином Францем Вильгельмом Штейном, кассиром, имевшим первостепенное значение в конторе и подписывавшим векселя и корреспонденцию от имени торгового дома per-procura, то есть по уполномочию. Сами «господа братья Гельдзак и Компания», сосредоточенные в маленькой, суровой особе негоцианта Карла Христофоровича Гельдзака, всегда были заняты главнейшими расчетами и оборотами, и как Петр Иванович приходил в контору по окончании своих служебных занятий, когда господа братья отправлялись на биржу, то они редко встречали его, а встретив, не осведомлялись о причине его посещения. Эта контора была обширнее всех других, в которые Петр Иванович доставлял конверты. Она находилась на полпути Петра Ивановича в должность. По этому случаю Петр Иванович заходил в контору почти каждый день, в три часа пополудни. В эту пору конторщики, утомленные занятиями, посматривали на часы, нетерпеливо ожидая пробития ровно четырех, чтобы в ту же минуту идти обедать. Правда, Петр Иванович, в качестве поставщика отличных конвертов, играл между этими людьми довольно жалкую роль, они, получая такое жалованье, какое и не снится чиновникам одного с ними служебного значения, любили потешиться над ним, особливо над его античной, установленной формой, но Петр Иванович, давно привыкнув к нецеремонному с ним обращению, нисколько не обижался выходками конторщиков, и если иная выходка была точно смешна, то он хохотал со всем простодушием человека, чувствующего себя счастливым, довольного собою и своею судьбою. Таким образом, появление Петра Ивановича в конторе господ братьев Гельдзак и Компании всегда было встречаемо конторщиками с удовольствием. Они, для сокращения остального времени, в которое долженствовали быть в конторе, входили с ним в рассуждение о новейших банкротствах и о житейских обстоятельствах петербургских людей, не имеющих счастья быть ни помещиками, ни портными мейстерами и вынужденных добывать себе средства к существованию переписыванием чужого марания. Петр Иванович рассказывал им занимательные анекдоты о том, как и чем живут многие несчастные люди, получающие подобное ему жалованье, люди, которые так смешны в русских водевилях. С своей стороны, конторщики знакомили его с бытом коммерческим, дотоле ему чуждым. Он был поражен превосходством жалованья коммерческого над чиновническим, и еще более удивлял его образцовый порядок делопроизводства в конторах, где торговые обороты и расчеты на колоссальные суммы производятся с непостижимою для чиновника точностию одним человеком, например пер-прокурою. Ознакомившись с людьми, составляющими эту контору, Петр Иванович нашел в ней стихии и начала, совершенно отличные от тех, которые преобладают в местах казенных, интересовавшие его своей оригинальностию и новостию. Контора делилась на две партии: немецкую и русскую. Первая, равная числом своих членов последней, имела над ней перевес нравственный: в главе ее находился русский немец Франц Иванович Штейн, получивший образование в Коммерческой школе и за свою деятельность и верность возведенный в звание пер-прокуры торгового дома братьев Гельдзак и К0. Он был молодой человек благовидной наружности, знал несколько языков, мечтал о компанионстве с домом Гельдзак, любил свое занятие и получал директорское жалованье. Вторым лицом после него был господин Иосиф Шпиц-Рутель, бывший пер-прокурой тридцать лет, оставивший свою важную должность по старости, но не могший оставить своей любезной конторы. Не будучи обязан никаким занятием, он работал над счетами и балансами по страсти. Русского языка он почти не знал, да и по-немецки говорил мало. В числе важных преимуществ, предоставленных ему торговым домом, было одно, самое драгоценное для него: право курить в конторе сигару, не стесняясь присутствием самого принципала. Этим правом он пользовался беспрерывно с девяти часов утра, когда являлся в контору с постоянною тридцатилетнею точностию, до четырех часов пополудни, когда оставлял ее с той же точностию. Углубляясь в свои счеты и куря сигару, он забывал все окружающее его, иногда вздрагивал и, глядя на сидящего против него бухгалтера из русской партии, Федора Ивановича, вскрикивал: «Вас?» — «Ничего, Осип Иванович!» — отвечал бухгалтер, и старый пер-прокура впадал в прежнюю апатию. Один раз в день, когда притуплялось перо его, он обращался к тому же Федору Ивановичу с такой речью, произносимой дрожащим голосом: «Мейн либер герр Фридрих! пожалойста поправить мой федер!» — и Федор Иванович, он же и Федер, очинив поданное ему перо, возвращал его своему соседу, говоря почтительно: «Извольте, Осип Иванович!» Были еще три конторщика из немцев, вышедшие из Коммерческой школы, люди довольно благовоспитанные и вежливые. Эта партия отличалась от русской своею преданностию торговому делу, своим коммерческим честолюбием, которое всегда удовлетворяется: после нескольких лет службы в конторе немцы получают комиссионерские поручения, вступают в долю с своими принципалами и становятся купцами самобытными. Русскую партию составляли люди, вышедшие из той же Коммерческой школы, только с другими идеями: первым из этих людей и вторым по значению в конторе был бухгалтер, Федор Иванович Щеточкин. Он получал сто рублей серебром в месяц жалованья и употреблял их на удовлетворение своей страсти к щегольству и франтовству в одежде. Часто наряжался он в красный бархатный жилет, светло-зеленый фрак, наматывал на шею голубой платок с широким бордюром самых бестолковых цветов, цеплял на себя часы с толстою золотою цепочкою, и, когда пер-прокура смеялся над безвкусием этого наряда, он объяснял, что фрак стоит ему полтораста рублей, шарф контрабандный и в цепочке четверть фунта чистого золота. Постоянно, в течение пяти лет, он был пожираем каким-то недугом, вследствие которого на голове ого образовалась нисколько не почетная лысина, плохо скрываемая усовершенствованным париком, купленным за два с полтиной на аукционе, по смерти одного профессора астрономии. Он имел в ящике своей конторки и носил с собой в кармане несколько склянок с разнымаптечным снадобьем и в каждое утро рассказывал конторскому сторожу обстоятельства своей болезни. Лишь только он садился за конторку, им овладевала сонливость, и он дремал, работая машинально, по привычке. Он редко разговаривал о пустяках, даже в часы досуга, и только один предмет обращал на себя его внимание — это доктор. Лишь только кто-либо из присутствующих произносил это слово, он спрашивал: «Какой доктор? От чего он лечит? Как лечит? Скоро ли лечит?» — и тому подобное. Петр Иванович, уже десять раз посещавший контору, не удостоился разговаривать с ним, пока, случайно, рассказывая Штейну историю одного чиновника, замерзшего в своей квартире «с отоплением», не упомянул о докторе. Федор Иванович, в то же мгновение оставив счеты, обратился к нему с вопросом: «Какой это доктор, господин чиновник?» — Это наш департаментский доктор, — отвечал Петр Иванович. — От чего он лечит? — Нельзя сказать, что он лечит, он только залечивает! Впрочем, ученый человек: отлично рассекает трупы! — Извините, я думал, не из тех ли он, каких мне нужно. Я уже десятерых докторов переменил: были ученые и неученые, все невежды: только деньги брать умеют. Впрочем, нынешний мой коновал обещает мне полное выздоровление непременно через месяц. С этого объяснения началось знакомство Петра Ивановича с кандидатом коммерции Щеточкиным. Второстепенные лица русской партии были одного покроя с своим бухгалтером. Их звание «кандидатов коммерции» давало им право на очень небольшой чин в случае поступления в казенную службу. И между тем как немцы из конторщиков становятся купцами, негоциантами, банкирами, богатеют и горделиво называются немецкими купцами, они, привилегированные мещане, обратясь в регистраторов, большей частию выслуживают нищету и чахотку; потом выходят, за болезнию, в отставку, выпрашивают у частного пристава свидетельство о своей крайней, беспомощной бедности, о своем «многочисленном» семействе и с этим документом отправляются к разбогатевшим плебеям, бывшим своим товарищам, искать милости и сострадания. Петр Иванович не был из тех людей, которые считают себя наблюдателями и мыслителями, но, зная по собственному опыту житье петербургского чиновного класса и видя довольство, почти блаженство жизни этих конторщиков, которые за честь и счастие считают быть департаментскими тружениками, не мог не назвать их мысленно дураками. Ознакомясь с конторой господ братьев, Петр Иванович оказал ей несколько мелочных услуг доставлением сведений о ходе тяжебных дел Гельдзака, производившихся в том месте, где служил он. По этому случаю пер-прокура представил его самому Гельдзаку, который обошелся с ним как с человеком полезным и нужным по делам. В течение полугода Петр Иванович постепенно приобрел в конторе Гельдзака значение более почетное, нежели то, которое имеет обыкновенный поставщик конвертов, вечно несчастливый и плаксивый; поставщик этого рода в разговорах с конторщиками всегда старается обратить внимание на свою нищету, спрашивает, нет ли у них лишней шинели или другой вещи в теплом роде, для продажи ему под расписку, по уважению крайней бедности его. По этому случаю конторщики не находят ничего скучнее чиновника, поставляющего конверты, и ничего возмутительнее рассказов и просьб его. Петр Иванович был, напротив, человек веселый, простодушный, самодовольный, даже счастливый, как уверял он сам себя, и умный, как можно бы сказать, потому что одни умные люди умеют ладить с жизнию; но так как он по своему чину и общественному значению принадлежал к толпе, которая редко имеет случай быть умною, то этот эпитет и оставляется по принадлежности людям с большими чинами и самолюбием. Он никогда не жаловался своим коммерческим приятелям на бедность, не выказывал пред ними пошлого желания денег и говорил только о таких предметах, которые могли интересовать всех, не утомляя никого. Потолковав с пер-прокурой и конторщиками до того времени, когда они уходили обедать, он отправлялся в свою квартиру, состоявшую из маленькой комнаты в четвертом этаже, которою был совершенно доволен, несмотря на то, что зеленые стены ее имели странное свойство источать воду по каплям. Он уподоблял эту квартиру знаменитому Бахчисарайскому фонтану, который «каплет хладными слезами, не иссякая никогда»; но, заметив однажды, что пиитическое свойство ее имеет вредное влияние на его «установленную форму», вешаемую на гвоздик, вколоченный в стену, купил собственно для охранения этой формы рогатую мебель, называемую вешалкой. После обеда, состоявшего из вассер-супа и бифштекса, Петр Иванович посвящал часа два или три производству конвертов, продажа которых обеспечивала ему драгоценную независимость от насущных нужд, независимость, составлявшую его счастие. Потом, если у него были деньги, он отправлялся в Александринский театр и там, за двадцать пять копеек серебром, испытывал величайшее эстетическое наслаждение. Он любил театр и посещал бы его в каждое представление, если бы всегда имел необходимые двадцать пять копеек. И можно ли, будучи не ирокезцем или киргизом, а тем, что называется человеком с душою, не любить театра, этого волшебного мира, представляющего такие фантастические, несвойственные нашему действительному миру явления? Петру Ивановичу в особенности нравились трагедии, в которых отравляются или зарезываются все действующие лица. Правда, он догадывался, что эти господа, враждующие между собою, замертво унесенные со сцены, бодро встают за кулисами и отправляются дружною толпою играть в преферанс и ужинать; что эти госпожи, привязанные одна к другой на сцене до героического самопожертвования, расходятся врозь за кулисами и уезжают домой, каждая со своим кавалером, сплетничать одна о другой, но все-таки ему было страшно, эстетически страшно… Взгляните во время представления патриотической драмы, где беспрестанно вопиют о разных величественных предметах, где все знатные люди — герои добродетели, а злодеи все из маленьких; или комедии, без капли комизма и с огромным количеством нравственности, или водевили, где маленькие чиновники выставлены в смешном и жалком виде, взгляните на публику… не на ту, которая зевает внизу, а на другую, занимающую театральные вершины, в каком она восторге, какому неистовому увлечению предается! И в той публике, в тысяче разнообразных физиономий, раскрасневшихся от жара и давки, вы заметите восторженное, одушевленное эстетическим чувством лицо Петра Ивановича. Если в афише значилось, что представляемая пьеса трагедия или драма, Петр Иванович исполнялся предварительно, когда разыгрывалась вечная, ископаемая увертюра Александринского театра, надлежащим ужасом, а во время самого представления дрожал, плакал, вскрикивал при каждой страшной выходке актера и аплодировал; а если то была комедия, он смеялся, сначала потихоньку, чтобы не обратить на себя внимания еще не тронутых, не разгорячившихся соседей, потом, предаваясь неодолимому увлечению, он хохотал до судорог, и соседняя публика, состоящая большею частию из людей коммерческих и благородных, дружно помогала ему… Театр потрясался рукоплесканиями, и по окончании пьесы раздавались восклицания: «Автора!» Автор являлся, обращал к вершинам благодарный взор, прикладывал руку к сердцу и убегал в буфет выпить стакан лимонада для охлаждения крови, разгоряченной неожиданным успехом его творения. Потом газеты объявляли, что пьеса произвела фуроре, и осыпали поздравлениями автора с успехом, а публику с автором, пророча в нем нового Шиллера или Мольера… Я непременно напишу патриотическую драму и нравственную комедию, если в Александринском театре явится новый посетитель такого же восторженного характера, какой имел Петр Иванович. В ноябрьский холодный вечер шел длинный бенефис Г. Бесталанного. Афиша, немного короче Невского проспекта, объявила Петербургу о «имеющем быть сего числа» представлении десяти новых пьес, названия которых были напечатаны буквами ростом с Александринский театр. Эти пьесы были, как всегда, патриотического и сатирического содержания, уже по одному названию страшные и смешные; в заключение спектакля шла трагикомедия: «Праздник размножения столбов и фонарей». Это название коварный бенефициант придал плохой пьесе собственного изделия для того, чтобы публика думала, что тут есть что-нибудь особенное. Публика так и подумала… Она всегда любит особенное, а ей всегда дают непреложное… Петр Иванович с шести часов вечера сидел на своем месте, в райке, и глядел на сцену, впрочем, не на самое сцену, а на массивную лампу, которая висела в перспективе между им и сценою. В предчувствии грядущего наслаждения, он читал афишу и потирал руки, чтобы хорошенько прихлопнуть в выход Каратыгина. Особенно интересовал его «Праздник размножения столбов и фонарей». «Тут, верно, есть что-нибудь такое… — думал он. — Даже странно, что представляют эту пьесу. Да что же это российские творцы расходились все о чиновниках: разве нет у нас купцов с их невежеством и деньгами, или мещан с их барскими претензиями и лошадиным значением?.. Ну, если б я был автор… И в самом деле, не лучше ли мне прекратить производство конвертов и производить впредь комедии, в которых действовали бы иные сословия? Это было бы оригинально, даже умно, даже справедливо!» Размышления Петра Ивановича были прерваны и рассеяны началом увертюры… Он предался душою и сердцем ожиданному представлению… Оно началось и было сопровождаемо обычными явлениями восторга театральных вершин. Театр был полон; сбор денежный вполне соответствовал ожиданиям бенефицианта. Публика, высидев шесть часов в душной зале, осталась довольна и пьесами, и актерами, и собою; только не рассудила дожидаться «Праздника размножения столбов и фонарей». Даже Петр Иванович был утомлен долгим удовольствием и вышел из театра, подобно другим. Между тем у театра мерзла толпа кучеров. Некоторые из них, имевшие деньги, вздумали сходить на минуту в заведение и, возвратясь оттуда через полчаса, сильно разогретые, вступили в разговор с полузамерзшими приятелями. Сначала они рассуждали дельно и разумно о предметах религиозных и ученых, о которых всегда любит толковать малограмотный русский человек; наконец заспорили о том, смертный ли грех оскоромиться в пятницу или обыкновенный, и так как они не имели ни малейшего понятия о терпимости мнений, то непосредственно от спора перешли к ссоре и личностям: «Ты чей такой?» — спросил один из кучеров другого, схватив его за ворот. «А ты чей такой, что смеешь щекотаться?» — спросил другой. «Я, брат, князев! Вот я чей, а ты?.. Кто твой барин?.. Чай, регистратор какой?» — «Мой? У меня вовсе нет барина — вот я каков!» Жандармы прекратили ссору и приняли под свое покровительство обоих враждующих кучеров, которые в то же время стали кротки, как голуби, и откровенно назвали себя дураками. Под влиянием сладостных впечатлений шел Петр Иванович из театра по Невскому. Хотя он спешил в ближайший трактир поужинать, однако не мог воздержаться от удовольствия заглядывать в лица женщинам, встречавшимся по пути или возвращавшимся также из театра. Впрочем, не один он доставлял себе это удовольствие: были такие странные мужчины, которые обращались даже с разговором к незнакомым женщинам, и были такие, еще более странные женщины, которые отвечали незнакомым мужчинам с необыкновенною любезностию. Петр Иванович рассчитывал, что в этот вечер он будет только ужинать и не будет разговаривать с женщинами, потому что это лишняя роскошь, которую можно позволить себе в наступающее первое число. Он уже хотел уклониться в трактир, когда маленькая сцена обратила на себя его внимание. Кто-то, в собольем бекеше, вооруженный чудовищными усами, преследовал двух дам, шедших из театра, обычною в таких случаях фразой: «Мое почтение, сударыня! Позвольте вас проводить». Дамы остановились, пристально посмотрели на вежливого кавалера и, не сказав ему ни слова, торопливо пошли далее; но он следовал за ними, по-видимому, с твердым намерением заставить их принять его услуги. Петр Иванович, понимая затруднительность положения этих женщин, обратился к бекешу с решительной просьбой оставить их в покое. Бекеш отвечал ему: «А! извините!» — и, повернув в сторону, запел к совершенному соблазну мимошедшего помощника квартального надзирателя. Петр Иванович подошел к смущенным дамам и, смутясь сам, пробормотал что-то вроде предложения услуг. При свете газового фонаря он мог ясно рассмотреть обеих дам: одна из них была женщина пожилая, другая казалась ее дочерью, имея одинаковые с ней прекрасные черты лица и ту выразительность и живость в глазах, ту свежесть в лице, которые свойственны одной молодости и проходят вместе с нею. — Благодарю вас, — отвечала пожилая дама, успокоенная благовидною наружностию Петра Ивановича, — и с удовольствием пользуюсь вашим предложением. Мы живем недалеко… Все трое шли по Невскому в направлении к Морской, продолжая разговор. — Как видно, — сказал Петр Иванович, обращаясь к старшей из своих дам, — вы, сударыня, вовсе не знаете Невского проспекта, если решились идти в такую пору одни… Здесь бывают странные сцены… — Но представьте себе наше положение: по выходе из театра мы полчаса стояли в коридоре, ожидая своего экипажа, человек, которого мы послали отыскать его, тоже не возвращался к нам. Поэтому мы решились идти домой одни, не думая, впрочем, встретиться с каким-нибудь нахалом. — Если вам угодно, я теперь же, проводив вас до квартиры, «наведу справку» о вашем экипаже и завтра буду иметь честь представить ее вам. — Не трудитесь, прошу вас; но завтра все-таки доставьте нам удовольствие видеть вас… Ведь вы позволите нам узнать, кому мы обязаны?.. — Я чиновник, губернский секретарь Петр Иванов сын Шляпкин… — Нам очень приятно будет познакомиться с вами и благодарить вас у себя, если вы пожалуете завтра в квартиру негоцианта Гельдзака, в Большой Морской… — Гельдзака? — воскликнул Петр Иванович. — Я бываю там, нельзя сказать чтобы в его доме, но в его конторе… — Следовательно, вы с ним уже знакомы? Я жена его, а эта девица, Мария Гельдзак, дочь наша… Петр Иванович, поклонясь, как мог учтивее, отвечал: — Не смею сказать, что я знаком с таким важным лицом, как господин Гельдзак… Он, однако, знает меня… по делам… Я несколько раз «наводил справки» по делам. — Тем приятнее будет ему благодарить вас за новую услугу, которую вы оказали нам… — О помилуйте! Что это за важная услуга такая, это просто… — Петр Иванович едва не сказал «дрянь». Это выражение он считал очень сильным и благопристойным, потому что многократно слышал его произносимым на сцене, для эстетического наслаждения слушателей, и читал многие длинные критики в защиту необыкновенной благозвучности его в разговоре и литературном произведении; он, однако, по внезапному чувству не произнес этого слова и заключил свое возражение следующею фразою: — Всякий и получше меня за счастие сочтет возможность оказать вам какую бы то ни было услугу. — Так ваше имя Петр Иванович Шляпкин? — снова спросила госпожа Гельдзак. — Точно так-с. Я, знаете, хотел было называться Выжигиным, но рассудил, что лучше быть Шляпкиным. Так я и в канцелярии числюсь: Петр Иванов сын Шляпкин, из дворян Смоленской губернии, Рославльского уезда… Отец мой был в тамошних местах помещиком и капитан-исправником, да вышла оказия по причине луны… Петр Иванович произнес эти слова скороговоркой, сам не понимая, что и для чего он говорит. Подвигнутый великодушием к защите этих дам, он потом растерялся, узнав, что они мадам и демуазель Гельдзак, существа высшего коммерческого света, имена которых все конторщики, знакомцы его, даже сам пер-прокура произносили с благоговением! Всего более смущала его мысль, что они могут «навести о нем справку» в конторе и узнают, что он фабрикант конвертов из казенной бумаги, без всякого возмездия за нее в пользу казны. В этом неприятном положении он почти бессознательно начал рассказ о своем высоком происхождении от дворянина, помещика и капитан-исправника, и дамы, по-видимому, слушали его, по крайней мере, демуазель Мария Гельдзак, потому что при словах «по причине луны» она спросила у Петра Ивановича: — Что значит по причине луны? — Ах да, — отвечал Петр Иванович, — это, знаете, такая история случилась… Луна вдруг стала между землей и солнцем, и вышло затмение, очень страшное затмение — четверть часа продолжалось. Это, впрочем, ничего — астрономы все вперед вычисляли и в календари внесли; но мужики деревенские встревожились: пришла, говорят, кончина света… и это ничего… да нашлись такие мужики, бедняки, которые, в ожидании кончины света, захотели побуянить хоть впотьмах, кинулись в чужие избы, стали грабить и жечь… Деревня загорелась, а тут и день опять наступил, и наехал мой батюшка, капитан-исправник… Он и принялся чинить расправу; очень строгую и справедливую расправу сделал, только ошибся немного: сгоряча произвел суд и экзекуцию не над грабителями, а над ограбленными… Батюшку отдали под суд, деревушку свою он растратил, но после его оправдали… В ту пору и я на свет родился… Ну-с, дело известное, когда человек не имеет своих душ, он должен заниматься чем-нибудь для собственной пользы… Вот по этой самой причине я и занялся службой и торговлей… — Вы занимаетесь и торговлей? — спросила госпожа Гельдзак. — Да-с, маленькой! И что это за торговля, сравнительно с другой, например, с торговлей господина Гельдзака!.. Меня просто дрожь берет, когда я взгляну в его конторе на счеты!.. Обе дамы самодовольно улыбнулись. Между тем все трое приблизились к дому, занимаемому Гельдзаком, и Петр Иванович, радуясь, что избавился от тяжкой обязанности занимать своих дам разговором, в котором чувствовал себя неловким, ненаходчивым, спешил позвонить у подъезда и проститься с ними до завтра. На другой день, в три часа пополудни, Петр Иванович отправился в квартиру торгового дома братьев Гельдзак и Компании уже не в качестве поставщика конвертов и справок, а в качестве защитника невинности. Госпожа Гельдзак приняла его с такою предупредительностию и любезностию, как будто он спас ее от разбойников в киргизской степи; девица Гельдзак тоже была к нему внимательна, только он не заметил насмешливых взглядов ее, брошенных на его форменную, неукоризненной чистоты и допотопной древности одежду; сам господин Карл Гельдзак, по отправлении почты явившийся в кабинет своей жены, крепко сжал ему руку и благодарил его на диком немецко-русском наречии за охранение жены и дочери его от плютов. В то же время господин и госпожа Гельдзак просили Петра Ивановича посещать их всегда, когда ему угодно, без новых приглашений, а теперь остаться у них обедать; он и остался бы, но, сообразив свою скромную установленную форму с роскошным убранством столовой комнаты, где ставили серебряный сервиз особ для двадцати, должен был сказать с сожалением, что получил приказание начальника явиться к нему в четыре часа пополудни и что в другое, более удобное время он воспользуется лестным их приглашением. Уходя, Петр Иванович думал о потерянном здесь и о предстоящем на квартире его обедах и не думал о том, как ему сделать прощальный поклон господину и госпоже Гельдзак и их дочери. По этой причине он поклонился им просто, то есть хорошо, как следует… и вышел также просто, оставив во всем семействе приятное мнение, что он человек благовоспитанный, благородный, только, по-видимому, несостоятельный. В этот день, после скромного домашнего обеда, Петр Иванович чувствовал себя совершенно счастливым: он имел достаточный доход, обеспечивавший его существование, не последний чин, ставивший его, по табели о рангах, выше многих людей, подобно ему называющихся чиновниками, установленную форму, или форменную пару; он, наконец, случайно свел такое знакомство, которым, быть может, гордились бы многие люди, чиновнее и значительнее его. И какие блистательные надежды внушает ему это знакомство! Нет более надобности в производстве конвертов: оно даже уронило бы его во мнении торгового дома и семейства Гельдзаков, если бы Карл Гельдзак, его жена и дочь узнали, что он бедняк, занимающийся столь мелкою промышленностию. Люди всегда судят о других не по качествам, а по средствам их к своему существованию; если средства обширны, хотя бы и не совсем благородны, они с уважением смотрят на человека, умеющего употреблять их в свою пользу; если же они и чисты, неукоризненны, но малы и мелки, человек, существующий ими, трактуется пустым человеком, и его поражает незаслуженное презрение. Итак, нет надобности в дальнейшей поставке конвертов. Будучи человеком, принятым в семействе Гельдзака, можно оставаться для конторы его — чиновником, «наводящим разные справки». Последнее значение хотя не так выгодно, как значение поставщика конвертов, потому что ради уважения Гельдзака, его пер-прокуры и конторщиков должно отказаться от обычной за услуги этого рода благодарности, однако гораздо почетнее и представляет в будущности обильное вознаграждение за это пожертвование насущными денежными выгодами: Гельдзак, один из первых негоциантов петербургских, легко может помочь своим влиянием ему, человеку бедному, но бескорыстному, которого фамильярно называет он Петром Ивановичем и любезным другом… Важным для Петра Ивановича последствием этих размышлений, надежд и предположений была решимость его прекратить выделку конвертов и поставку их в купеческие конторы, в том числе в контору Гельдзака. С этой выделкой и поставкой прекратились и частные доходы его, с доходами прекратилось посещение Александринского театра, и только тогда, как в первый раз недостало у него двадцати копеек на место в райке и недостало, собственно, по причине прекращения им общеполезной индустрии, ему сгрустнулось о прежнем образе жизни и потере прежних способов к ней… Но не по материальным средствам он считал себя счастливым. Он был убежден, что имел в своем характере все элементы счастия, и, зная, что нельзя оплакать всех огорчений, которыми отравляется жизнь человеческая, старался переносить спокойно многие нужды и лишения, возникшие от его внезапной, но твердой решимости. Он думал уничтожить в себе сознание горького своего положения зрелищем довольства и красоты, и каждый раз, когда считал нужным сообщить Гельдзаку что-нибудь полезное по его делам, являлся к жене и дочери его засвидетельствовать им почтение, узнать о здоровье их и рассказать новости, не светские, которые никогда не доходили до него, а городские или полицейские, большею частию о пожарах, о самоубийствах от любви, о захваченной контрабанде, о разбитии экипажей горячими лошадьми и т. п. Однажды, войдя в контору с свежей, только что «наведенной» справкой, Петр Иванович застал в ней одного Щеточкина: не было ни пер-прокуры, ни кого-либо из конторщиков и писцов. — Что это вы одни сегодня, Федор Иванович? — спросил он. — Штейн уехал с хозяином на Биржу, а другие пошли туда же, — отвечал Щеточкин, — только на меня навалили работу… заставили писать, как будто я виноват, что имею красивый почерк! Моя обязанность считать, а не писать; но, изволите видеть: господин Штейн и Марья Карловна рассудили, что я один могу написать красиво эти глупые бумаги. Когда-нибудь я отплачу Штейну за честь, которую он оказывает мне, считая меня хорошим писцом. Что он пер-прокура, так и в самом деле штука важная!.. Пустяки — немец! Вместе учились, вместе из школы вышли и сюда поступили. Что же? Я — бухгалтер, а он — пер-прокура! Почему? Потому что он немец, потому что его сторону держат мадам и демуазель… Ну хорошо же! Когда-нибудь я воздам прокуре! Петр Иванович, любопытствуя, что за переписка такая поручена исключительно Штейну, который писал, точнее, переписывал, по канцелярскому уподоблению, как жемчуг низал, подошел к конторке его и увидел перед ним две кипы билетов, писанных на тонкой почтовой бумаге, одна по-немецки, другая по-русски; последняя, как заметил он по почерку, была писана ожесточившимся бухгалтером. — Почему бы не напечатать эти билеты, если они одного содержания? — заметил Петр Иванович. — Ну, подите же с пер-прокурой! — воскликнул Щеточкин. — Не только я, но и сам был того мнения, чтобы отослать два циркуляра на немецком и русском языке в литографию, но Штейн у нас умнее всех! Весь дом, все головы забрал в свои руки! Он говорит, что нынче неучтиво рассылать печатные билеты, надобно приготовить рукописные, — и что мне за дело — рукописные или печатные. Только то досадно и обидно, что он присудил написать сорок билетов на русском языке — мне, своему товарищу, первому в конторе счетчику, бухгалтеру, даже, если считать по должности, то не младшему самого пер-прокуры! Ведь у него своя часть, у меня своя — сами посудите. Боже мой! Уже четыре часа! Есть хочется до смерти, а я не написал еще и двадцати билетов! Ну помни же это, проклятый Штейн! — Я с удовольствием разделил бы труд ваш; вы знаете, что я переписываю… конечно, не так красиво, как вы, но довольно изрядно. Угодно ли вам? — спросил Петр Иванович, исполненный жалости и участия к голодному бухгалтеру, осужденному пер-прокурой к работе, не относящейся к его обязанности. — О, сделайте мне это одолжение! — отвечал обрадованный Щеточкин. — Вы имеете прекрасный почерк. Садитесь вот здесь, насупротив меня. Вот вам циркуляр билета и реестр приглашаемых. Пишите, как есть в циркуляре, только переменяйте имена по реестру… Записка, которую бухгалтер называл циркуляром, была следующего содержания: «Торговый дом братьев Гельдзак и Компании, свидетельствуя глубочайшее почтение господам Капустину и Компании, имеет честь известить оных господ, что завтра мы празднуем с своими друзьями день рождения любезнейшей супруги нашей, Анны Карловны, и тезоименитство любезнейшей дочери нашей, Марьи Карловны; вследствие чего всепокорнейше просим почтеннейший торговый дом высокостепенных господ Капустина и Компании пожаловать к нам завтра отобедать. (Подписано) Per-procura Франц Вильгельм Штейн». Написав несколько билетов по этому циркуляру, Петр Иванович обратился к бухгалтеру с вопросом: — Растолкуйте, пожалуйста, что это за звание такое — пер-прокура? Я доселе не мог узнать вполне степень власти или значения его в делах Гельдзака. — О! Пер-прокура великое, очень великое дело, — отвечал Щеточкин. — И потому-то мне досадно, что поручили эту важную должность Штейну не потому, чтобы я точно был хуже его, а потому, что он немец и нравится обеим немкам: той и другой… — Как, он нравится… ей, даже ей? Он, приказчик? — воскликнул Петр Иванович с особенным чувством. Сердце его забилось и кровь взволновалась так сильно, что он не мог писать: рука, дрожа, не выводила ни одной буквы. Приказчик? Пер-прокура — приказчик? Так позвольте же вам заметить, что вы вовсе не смыслите ни в коммерции, ни в людях коммерческих. Вы думаете, что для купца его приказчик так же ничто, как для директора, например, чиновник для письма в его канцелярии? Нелепость! И опять — какое расстояние между обыкновенным приказчиком, которому равняюсь я, счетоводец, и пер-прокурой! Например, этот самый Штейн, он сам по себе человек пустой и притом немец; кредита он ни на грош ни у кого не имеет, разве у своего портного или сапожника; но этот кредит есть у меня. Пойди он по всему Петербургу, ко всем купцам, большим, малым, ничтожным и апраксинским, просить для себя взаймы сто рублей — отвечаю эту сумму, ее никто не даст ему! А между тем стоит ему написать на лоскутке бумаги: «Просим заплатить г. чиновнику Шляпкину, или кому он прикажет, сто тысяч рублей серебром», и подписать эту записку: «Пер-прокура Штейн», и вы сегодня же получите от Штиглица сто тысяч рублей серебром! Вот, сударь, что значит пер-прокура! Как только Штейн перебил у меня это звание, я потерял на коммерческом поприще все виды и только жду срока, чтобы получить аттестат и поступить в казенную службу. Слава богу! Чин коллежского регистратора и благородное звание — стоит пер-прокурства у Гельдзака! Петр Иванович слушал Щеточкина с напряженным вниманием. Тот говорил с живостью, раздражаясь голодом и неприязнью к Штейну; но, кончив последние билеты и переведя дух, он смягчился и сказал: — Впрочем, говорит пословица: «Все перемелется — мука будет», и другая говорит: «Все к лучшему». Так, может быть, я напрасно погорячился против Штейна: он мне товарищ и не должен бы морить меня голодом и работой, для которой есть писаря; но теперь — вы тоже дописываете последний билет? Теперь меня ничто не задерживает. Я могу идти обедать. Так, видите ли, Петр Иванович, что с другой стороны для меня может быть «все к лучшему», и я, считаясь в казенной службе для чинов, буду сам пер-прокурой, если Штейн женится и вступит в товарищество с домом не по состоянию, которого не имеет, а по родству. — На ком же он женится? — То, что я говорю, еще не решено, но, судя по всем вещам, я твердо убежден, что Штейн женится на Марье Карловне. Посмотрите только, какую пару сделал ему Оливье к послезавтрашнему балу! Чудо! Это что-то выше фрака… одежда, которую носил бы сам Аполлон, если б Оливье шил на богов! Петр Иванович был под влиянием нового мучительного чувства, которого сам не мог истолковать себе; ему страшно и горько было думать, что она может быть женой пер-прокуры или кого-нибудь другого. Доселе он вовсе не думал об этом, только любил смотреть на нее, слушать ее: смотрел, слушал и был счастлив!.. В ту минуту, когда бухгалтер, благодаря Петра Ивановича за пособие в работе, положил написанные обоими билеты на стол пер-прокуры для подписи и готов был уйти из конторы, в нее вбежала с веселым, беззаботным видом демуазель Мария. — Господин Штейн! Где же Штейн, господин Щеточкин? — спросила она бухгалтера, не видя в конторе пер-прокуры. — Штейн, Марья Карловна, свидетельствует вам глубочайшее почтение! Он уехал по делам на Биржу! Не позволите ли на этот раз мне услужить вам?.. Только, — прибавил он боязливо, — не писать пригласительных билетов! В это время Петр Иванович, бледный, показался из темного угла комнаты и молчаливо поклонился Марье Карловне. — Здравствуйте, Петр Иванович! Вы так бледны? Что не зайдете к нам? Мы одни: папа скоро будет. Пожалуйте. И, не ожидая ответа Петра Ивановича, Марья Карловна снова обратилась к Щеточкину: — Вы слышали, господин Щеточкин, важную новость? — А! новость! Позвольте узнать эту важную новость? — Папа прибавил мне жалованья! Теперь я получаю тридцать рублей серебром в месяц. Я хотела сию минуту потребовать у Штейна свое жалованье по новому окладу. Вы не позавидуете, если я скоро буду получать так же, как и вы, сто рублей серебром? А между тем я не пишу, как вы — я только танцую!.. Кстати, Петр Иванович, вы хорошо танцуете? Вы танцуете мазурку? Знаете: послезавтра у нас бал — весело будет! Пойдемте, Петр Иванович! Вы что-то суровы сегодня. Прошу вас быть любезным… по крайней мере, как были в тот вечер, когда избавили нас от чего-то… Эти слова были произнесены гармоническим голосом легкомысленного резвого ребенка, хотя и говорят опытные люди, что девушка в осьмнадцать лет вовсе не ребенок. Слова сопровождались громким простодушным смехом, от которого разлился по лицу Марьи Карловны тонкий румянец. — Пожалуйте, Петр Иванович! Мамахен будет рада видеть вас. Нынче у нас никого нет, зато послезавтра… О! послезавтра будет весело! Прощайте, господин Щеточкин! Петр Иванович машинально пошел за ней. Он сам не знал, что с ним делалось. Доселе возможность видеть ее, говорить с нею считал он своим счастием, теперь ее присутствие возбуждало в нем мучительное ощущение. Мысленно проклинал он свое любопытство, доведшее Щеточкина до неожиданного объяснения, уничтожившего его счастие. Госпожа Гельдзак была занята в своем кабинете с какой-то гостьей. Петр Иванович, избегавший представлений, рекомендаций и следующих за ними учтивостей, остался в гостиной с Марьей Карловной, но и с нею, гнетомый дотоле неизвестною ему тоскою, он не мог завесть сносного разговора. И потому, извиняясь стереотипной обязанностью явиться теперь же к начальнику, торопился уйти… — Так вы и сегодня не хотите остаться обедать с нами? — спросила с живостью Марья Карловна. — О, боже мой! — отвечал Петр Иванович с тяжким вздохом, — я всегда, поверьте, всегда рад остаться с вами, но посмотрите только… Петр Иванович в порыве искренности едва не убил себя окончанием этой фразы; он хотел сказать: «Посмотрите только, какой на мне вицмундир! Могу ли я сесть с вами за стол и провести у вас вечер, будучи одет не в партикулярную пару, как следует, а в эту ветхую форму, которая, хотя и содержится в совершенном порядке, хотя и чистится ежедневно, с крайнею осторожностию и совершенным уважением к ее пуговицам и древности, однако все-таки грозит скорым, неизбежно скорым разрушением! А другой, даже такой, как эта, формы нет у меня, и купить ее не на что. Для того, чтоб иметь одно счастие быть принятым в вашем доме и видеть вас, я бросил индустрию, доставлявшую мне способы иметь не только новую установленную форму, но и самую недостижимую ни для какого чиновника одной со мной канцелярской степени — партикулярную пару! Теперь, без этой роковой пары, я все-таки должен отказаться от счастия, которому пожертвовал ею. Теперь я понимаю, как горько ошибся, считая себя счастливым… Счастие есть не что иное, как партикулярная пара, и партикулярная пара — есть счастие! Я был в заблуждении, и почему не продлилось оно на всю жизнь мою!..» Но он не сказал этих слов, они замерли на устах и в сердце его. В пору спохватившись, он продолжал: — Посмотрите только, какие у меня неприятные служебные обязанности!.. Службой, знаете, как бы она тяжела ни была, нельзя пренебрегать!.. Вот по этой одной причине я должен снова отказаться от удовольствия обедать с вами! Марья Карловна пристально смотрела на бледное лицо и в голубые, сверкающие отчаянием глаза Петра Ивановича и после минутного молчания сказала ему: — Вы очень странный человек, Петр Иванович! Вы чудак! Вы всегда говорите одну и ту же причину, по которой не можете быть у нас… но причина должна быть другая… Вы, вероятно, влюблены… и торопитесь к ней. Что, не правда ли? Я угадала — иначе вы не покраснели бы. Признайтесь же, я угадала? Петр Иванович, точно, покраснел, только от радости, что Марья Карловна не знала тайны его. — Я влюблен!.. В кого же?.. Нет, Марья Карловна! А впрочем, если смею сказать… я точно влюблен, и жалею, горько жалею, что разные обстоятельства… служебные… не позволяют мне пользоваться приглашением вашего папеньки и вашим… — Вот! Угадала же я!.. Но все-таки странно, что вы избегаете общества людей, с которыми можете встретиться и познакомиться у нас, людей значащих и любезных… Что вы держите себя таким дикобразом… А между тем вы могли бы весело проводить время у нас, танцевать… Ведь вы хорошо танцуете. — В пансионе меня считали лучшим танцором, — отвечал Петр Иванович, успокоенный насчет проницательности Марьи Карловны. — Хорошо же, теперь вы не увернетесь от нас: послезавтра, по случаю дня рождения маменьки и моих именин, у нас будет небольшое собрание… Вы будете танцевать со мной мазурку — не правда ли? Неужели в мои именины, когда я приглашаю вас танцевать, вы опять должны быть и будете у своего начальника, отнимающего у вас все развлечения, убивающего вас, по-видимому, вечной работой? Что же, вы опять не соглашаетесь? — О нет! Извините!.. Я надеюсь иметь честь танцевать с вами мазурку… Но, боже мой! Что за служба моя! Я должен торопиться, бежать отсюда, от вас… Мое почтение, Марья Карловна! Схватив шляпу, Петр Иванович кинулся к дверям, но тут был остановлен громким смехом Марьи Карловны… Он вспомнил, что засвидетельствовал ей свое почтение таким тоном, каким испуганный и провинившийся школьник оправдывается перед учителем. Думая поправить неловкость, он воротился, взял Марью Карловну за руку, слегка пожал ее и, не говоря ни слова, вышел из гостиной, сопровождаемый новым смехом. Машинально шел Петр Иванович в свою квартиру в Большой Мещанской улице. В первый раз он видел разрушение своих лучших надежд и планов. Желая иметь значение порядочного человека, необходимое для того, чтоб быть принятым в доме Гельдзака, он оставил мелкое, но выгодное занятие, доставлявшее ему средства к скромному существованию. Но, «порядочный человек», кроме того, что он не должен заниматься мелкой промышленностью, может явиться в обществе других порядочных людей не иначе, как с соблюдением строгих приличий в своей наружности, одетый в партикулярную пару — а этой-то пары и не было у него. Доселе он хаживал к Гельдзакам только «по пути из должности, на минутку», засвидетельствовать почтение матери и дочери, и по этой причине им не странно было видеть его в рабочем костюме; но как бы приняли они его, если б он явился в той же форме, по приглашению, на обед или на вечер, и может ли в ком-нибудь до такой степени простираться дерзость и сумасшествие? Несчастный Петр Иванович! А между тем как счастлив был он прежде, когда ограничивал собственные виды и выгоды своим полуплебейским кругом, когда жил по пословице: «Всякий сверчок знай свой шесток». Теперь нельзя уже было возвратить прошлого самодовольствия, нельзя было и продолжать посещений в дом Гельдзака. Не явясь на именины Марьи Карловны, он обнаружит свое истинное значение среди петербургских людей, над ним посмеются, и она посмеется! И опять, какая ничтожная причина разрушает его золотые надежды, не допускает его вступить в соперничество с пер-прокурой! Разве влияние и доброжелательство Гельдзака не могло доставить ему высшего значения по службе? А чиновник, значащий по службе, по «хорошему месту», не может жениться на дочери купца, значащего по капиталу, по биржевым оборотам? Все это могло быть, если бы он имел партикулярную пару, протанцевал в ней мазурку с Марьей Карловной, сделался бы постоянным гостем на обедах и вечерах Гельдзака, ознакомился с людьми, стоящими в первых рядах общества по званию, или по состоянию, или по уму, хотя, впрочем, в Петербурге ум сам собою редко ставит в эти ряды людей, не обладающих юридической силой звания или материальной силой состояния. И ничего этого не может быть, потому что он не имеет какой-нибудь ничтожной партикулярной пары! Но можно ли, по справедливости, назвать ничтожным черный фрак со всеми к нему принадлежностями, фрак, который, облекая глупца и негодяя, делает его на вид «порядочным человеком», открывает ему вход и доставляет прием всюду, куда не впустят, где не примут с уважением человека умного и благородного, если он одет в кафтан или старый вицмундир, а не так, как постановил всевластный обычай толпы? Из тысячи человек, принятых всюду, изрекающих общественное мнение, судящих обо всем, не знающих ничего, держащихся в своем кругу с помощью точных визитов, девятьсот девяносто принимаются именно потому, что они всегда одеты «как следует», в черный фрак или иной мундир порядочных людей. Но стоит только снять с них эту оболочку, нарядить их в платье паяца, гаера или ездового лакея, и в них не найдется ни одной нравственной черты, которая показала бы, что они не паяцы, не гаеры, что под лохмотьем их скрываются люди, которых надобно облечь в «партикулярную пару» и ввести в благодатный круг обитателей вторых этажей. Грезы, то неприятные, то страшные, возмущали сон его. Он спал как человек, угнетенный невыносимым горем, доведенный до отчаяния, страждущий во сне еще с большим сознанием, нежели наяву, когда под бременем страдания он жесточает духом и только смутно понимает свое положение. Собираясь на другой день в должность, он получил с городской почты пригласительный билет торгового дома братьев Гельдзак и Компании, подписанный пер-прокурой. С горькой улыбкой прочитал он этот билет и, положив его в карман своего почтенного вицмундира, отправился в канцелярию. Там не могли узнать его: он был бледен, растрепан, даже в невычищенном вицмундире, что служило товарищам его очевиднейшим доказательством несчастия, а между тем не было до того времени ни одного случая, по поводу которого он назвал бы себя, подобно другим, несчастным, и вдруг ясно, что этот благоразумный, мудрый Петр Иванович несчастен, как и другие. Он не говорил об этом, но мутные глаза и страдальческий вид его выражали глубочайшее, нестерпимейшее ощущение несчастия. — Что это с вами, Петр Иванович? Не дай бог!.. С кем не случается несчастия!.. Но если рассудить, то несчастие такой же вздор, как и счастие! — сказал ему приятель и ближайший начальник, взглянув на прочих пишущих людей, как бы ожидая от них признания высокой утешительности своего довода… — Денег нет, Андрей Тихонович! — отвечал Петр Иванович. — Сделайте милость, дайте мне денег, иначе я пропаду! — Сколько вам нужно денег? — По крайней мере, тридцать рублей серебром! — О! Что это вы, Петр Иванович, сами рассудите! Ведь на тридцать рублей серебром, легко сказать, можно сделать партикулярную пару! — Мне и нужна партикулярная пара! — Вам? Да к чему она вам? Вы человек… как бы это сказать определительнее… бог знает какой… живете скромно, одиноко, знакомства такого не имеете… После этого, в самом деле, на кой черт вам партикулярная пара? — Вот несчастие! — Неужели с вами, точно, случилось несчастие! Это просто странность!.. Что же за причина такая вашему несчастию? — Денег нет! Ради бога, дайте мне денег, на каких вам угодно условиях, только дайте! Вижу, какое горе тому, у кого нет денег! Андрей Тихонович, помолчав с полминуты, рассудил, что нельзя просто отвязаться от Петра Ивановича, и потому, сделав декламаторский жест, сказал во всеуслышание: «Не говори с тоской — их нет, а с благодарностию — были!» Эти слова произвели чудесный эффект во всей канцелярии. Товарищи Андрея Тихоновича сказали ему: «Ну, брат, ты, просто сказать, утешитель! Ты хоть мертвого развеселишь!» Помощники их, не отважившиеся сказать этого, подумали: «Вот видно, что учился в университете и хорошее воспитание получил! Очень умный человек, хотя и бесчувственный, как скотина!» Но Петра Ивановича нисколько не утешало остроумие его начальника. Это был единственный денежный человек, на помощь которого он имел кое-какую надежду, и когда эта надежда была разрушена равнодушием, вообще свойственным людям, не бывавшим под деспотическим гнетом нужды, он предалсяглубокому, даже малодушному отчаянию. «Где бы достать партикулярную пару?» — думал он во весь вечер этого дня. «Ее можно купить в одном месте даже за двадцать рублей серебром, но где, у кого достать двадцать рублей серебром? Нынче все люди лицемеры: пока не просишь у них денег взаем, они хороши с тобой, ласкают тебя, предлагают тебе свою дружбу… а вдруг случись несчастие, когда понадобится партикулярная пара, никто гроша не даст!»Десять часов вечера. Небольшой дом в Морской был ярко освещен. В цельных стеклах окон его мелькали черные партикулярные пары и белые платья, головы умные и пустые, и головки, вообще ветреные. По улице перед окном стояло множество карет и колясок, но останавливались у подъезда и скромные извозчики: те, высадив своего седока, торопливо уезжали «к черту от жандармов». Толпа народа русского, чухонского и немецкого, мастеровых, кухарок и чиновников, стояла насупротив этого дома, наблюдала действие, в нем происходившее, и бросала на ветер и в назидание проходящим окаменелые истины: очень хорошо быть богатым человеком; богатому все возможно, даже то, что и присниться не может бедному человеку! и проч. — Богатый человек может иметь каждый день новую партикулярную пару и новое счастие. Он может менять свое счастие по последней модной картинке! — сказал Петр Иванович таким голосом, в котором выражались странная торжественность и глубокое убеждение. Ответом на это изречение был громкий смех толпы. Вдруг раздались глухие звуки бальной музыки. Петр Иванович кинулся на другую сторону улицы к самому дому… Играли мазурку… Он поглядел вверх, в окно второго этажа, и ему показалось, будто она ждет его тут же у окна, будто она сердится на него, что он опять не сдержал обещания; она сама пригласила его танцевать с ней мазурку, и вот мазурка началась, а он все еще не явился. После этого стоит ли любить, хотя уважать, даже хотя не пренебрегать такого неучтивца, каков он, Петр Иванович? Замелькали мужские и женские силуэты. Она тоже танцует. Может быть, она и не сердится на него! Может быть, и не вспомнила о нем! Но с кем же иным она может танцевать, если не с ним? А пер-прокура? А бухгалтер Щеточкин? А множество других людей, которые слывут почтенными, хорошими и порядочными людьми, приглашены на бал и танцуют только потому, что они, счастливцы, имеют партикулярную пару? Очень легко и весело стало на душе Петра Ивановича. Насвистывая мазурку, танцевальным шагом шел он к Синему Мосту. Тут он остановился у перил и оглянулся: длинные тени ложились от высоких домов. В тех домах, думал он, живут петербургские люди, несчастливцы, подобные ему; там обитает, как и в его бедной каморке, вечное горе, неутолимое мимолетною радостию, которую судьба дарует страдальцу для того, чтобы живее, мучительнее чувствовал он отсутствие счастия, где же оно? Петр Иванович взглянул на небо, и оно сияло вечною, мирною красотою, миллионами звезд, которых мерцание служит как бы маяком для измученных душ, отбывающих на тот свет. Он опустил взор к Мойке, и она, в другую пору грязная, мутная, как жизнь обитателей Петербургских вершин, теперь отражала в себе те же звезды, то же небо… то же счастье!


ГОРЮН
I
Герасим Фомич был петербургский туземец, что редко случается с петербургскими обывателями: они, большею частию, переселенцы, выходцы из разных стран и племен, вследствие разных житейских обстоятельств. Предок Герасима Фомича был саратовский киргиз, приехавший в Петербург на две недели, которые считал он по-своему, по-киргизски, достаточными для решения тяжбы его с низовским земством о баранах, отнятых у него и присужденных к пожизненному заключению в овчарне уездного воеводы за дерзостные их рассуждения о предметах, поставленных выше простого бараньего разумения. Киргиз, подобно другим людям, приезжающим в Петербург с тою же целью, также на две недели, ошибся в расчете: он не только и в десять лет не дождался решения судьбы своих баранов, обличенных в преступлении, но даже вынужден был принести в жертву Фемиде и тех баранов, которые вовсе не были под судом. По этой причине он пришел в отчаяние, женился на чухонке и произвел человеческое существо, названное немцем. Немец, в свое время, женился на дочери портного и произвел польского шляхтича, который, сочетавшись законным браком с кухмистершею, был виновником жизни обыкновенного петербургского гражданина, русского человека и папеньки Герасима Фомича. Этот Герасим Фомич был мальчик резвый, бойкий и остроумный: кричал, шалил и краткой российской азбуке учился не по летам; притом оказывал склонность к изящным художествам, рисуя углем лошадок, и к воинским подвигам, приколачивая мальчиков постарше себя, — вообще дарования обнаруживал необыкновенные и потому был утешением, гордостью и надеждою своего папеньки, который часто, слушая, как он, зажмуря глаза и крича во всю мочь, зубрил урок, думал про себя: «Выйдет человек!» — а иногда за обедом, взглянув на хрустальную посудину, стоявшую перед ним в качестве приятной собеседницы, смягчал решительность своего заключения некоторым условием: «Только бы этого не тово… этого бы только не употреблял, а то все — ничего: будет человек!» Тогда, в отеческой заботливости о благополучии своего сына, он обращался к нему с следующим мудрым наставлением: «Ты не смотри, что я сам… тово, ты — себе свое дело знай, так и будешь человеком и далеко пойдешь! Только не употребляй этого, так и далеко в люди, в гору пойдешь, когда все будут знать, что ты трезвого поведения. Никогда не пей! И если тебя потчевать станут — не пей, так и говори, что не пью, мол, и здоровье не позволяет! Да, говори, что здоровье не позволяет, и не пей: твори сие и будеши благополучен!» После одного из таких наставлений, зная, что ученье свет, а неученье тьма, папенька отдал своего сына в школу, а сам, прилегши однажды после обеда на кожаном диване для обычного получасового отдохновения, вовсе неожиданно скончался навеки. Такое приключение может случиться со всяким, и история не смеет входить по этому случаю ни в какие рассуждения. Человек предполагает, а судьба располагает. У Герасима Фомича давно уже не было маменьки. Теперь, когда у него не стало и папеньки, он поступил под покровительство какого-то человеколюбия в виде отставного коллежского регистратора, по ремеслу опекуна чужих сирот и имений. Это человеколюбие отвело Герасиму Фомичу для жительства маленький чулан на антресолях в своей квартире, каждое утро и каждый вечер давало ему чашку чаю, кормило его вместе с своими детьми и вообще обходилось с ним несколько времени снисходительно и ласково, почти так же, как и папенька; а потом несколько переменилось: стало называть его дураком и давать ему хотя полезные, однако весьма чувствительные советы помнить чужой хлеб да учиться зарабатывать свой хлеб. Школьные товарищи обращались с ним также без церемоний: то прятали от него книги, без которых он не мог выучить урок, то отнимали у него завтрак, то просто смеялись над ним, не обращая внимания на некоторое место, называемое карцером; а когда он после нескольких неудачных опытов сопротивления им с безмолвною горестию стал удаляться от сообщества с ними, его прозвали Горюном. Поставленный в такие неприятные отношения к человечеству, он совершенно растерялся и не мог понять, что это значит: обижают ли его понапрасну, и он должен плакать, или ему только так кажется, будто его обижают, а в самом-то деле и не думают обижать, и ему не о чем плакать?.. Время шло. Герасим Фомич из мальчика сделался юношею. Курс учения его оканчивался, а он все еще не разрешил своих недоумений насчет обхождения с ним человеколюбия и товарищей, зато, впрочем, совершенствовался в поведении и нравственности, привыкая со дня на день к спасительной боязни всех и каждого. Все товарищи Герасима Фомича имели папенек и маменек; у них были даже тетеньки и дяденьки, что еще лучше во многих житейских случаях. Один он был всем чужой; о нем одном никто не заботился; некому было порадоваться его успехам в науках; никто с радостными слезами не обнимал его, когда он выдерживал трудный экзамен; а когда после экзамена другие весело танцевали на бале с родными, двоюродными и троюродными сестрицами, он уединялся в своей каморке, смиренно думая: «Что мне там с ними! Пусть они себе что хотят, а мне здесь лучше будет…» В грустном раздумье о невыгодах своего существования он вспомнил одну аксиому, открытую и провозглашенную учителем чистописания, который, между прочим, исправлял безвозмездно и должность учителя истории, в чаянии принести пользу другим и сделать себе карьеру, эта аксиома заключалась в том, что всякий человек имеет свое назначение в обществе. «Какое же я имею назначение? — спрашивал себя иногда Герасим Фомич. — Вероятно, я тоже имею какое-нибудь назначение. Почему же и не иметь? Или я до такой степени хуже других? Или у меня не было папеньки и маменьки, как и у других? А может быть, в том и назначение мое, чтоб терпеть от всех разные неприятности, не обижая никого, не слышать ни от кого доброго, приветливого слова, не сметь никому сказать что-нибудь сильное, справедливое: что, вот, дескать, так и так… за что вы меня обижаете? кто вам дал право обращаться со мной дурно? я, дескать, уж не ребенок — в другой раз и сам отплачу! Ты себе там будь опекун опекуном, а жестокостей употреблять со мною не смей — и закон запрещает! А вы себе хоть и имеете папенек, и маменек, и сестриц, и тетенек, которые ласкают вас и нежат, но меня не трогайте. Я вам ничего не сделал, так и не трогайте меня, не труните надо мною, не называйте меня горюном!»II
Как ни велик был Герасим Фомич по таким капитальным добродетелям, каковы: терпение, кротость и трусость, он все-таки не мог бы достигнуть совершенства в доброй нравственности и примерно хорошем поведении, если б не застегивал своего кафтана на все пуговицы. В этом отношении он простирал свою точность, или, справедливее, нравственность, до педантства. Зато по окончании курса учения он был выпущен на поприще гражданской деятельности с отличным аттестатом, и имя его было начертано золотыми буквами на мраморной доске, в пример и поощрение прочему юношеству, которое легкомысленно стремится к познаниям нараспашку. После того на упомянутом поприще гражданской деятельности явилось хотя и новое, однако весьма обыкновенное лицо, всегда встречаемое в Мещанских и Подъяческих улицах, а в некоторые дни и на Невском проспекте. Это лицо было — Герасим Фомич и имело следующие приметы: рост средний, лицо без определительного выражения, изжелта-бледное, волосы и брови цвета нюхательного табака знаменитого Бобкова, стан немного сутуловатый, взгляд на все вообще предметы скромный, на некоторые робкий, на иные совершенно раболепный; поступь не совсем величественную, но и не плебейскую, именно такую, которою одни доходят до степеней известных, а другие только до богадельни. И стал жить Герасим Фомич честным трудом, не завися от какой-нибудь исключительной личности или страстишки и не сетуя на некоторые неудобства, вообще свойственные быту рабочего класса. Школьная опытность внушила ему благое нерасположение к дружественной короткости с людьми, с которыми случай поставил его в отношения. По этой причине он не заводил связей с сослуживцами, пугливо удалялся от кружка молодых кандидатов на хорошие места, не входил в нескромные рассуждения о прогрессе, о Западе, о человечестве, которые так хорошо знают сочинители докладных записок, и думал свою думу: «Пусть они себе толкуют, что хотят, — не мое дело! Так лучше будет — не мое дело, да и только! Мое дело вот: прийти пораньше, да засесть за стол, да и писать, и записывать, и переписывать, а если велят сочинить что-нибудь, то и сочинить… да, и самому, из своей головы, сочинить можно что-нибудь, если велят; а не велят, так и знай свое дело: пиши, да записывай, да переписывай. Так лучше будет; право, лучше будет!» Иногда, впрочем, трудно ему было одолеть искушение, увлекавшее его к другому образу жизни, в сообществе с кем-нибудь, хотя с своими соседями по службе. Иногда хотелось ему поразговориться с ними, заметить им кое-что по случаю решительных суждений их о Каратыгине и Роберте Пиле, даже уничтожить некоторые канцелярские авторитеты и, следовательно, стать самому авторитетом — из незаметного писательного орудия, творящего дело свое в молчании, сделаться человеком значащим, имеющим свой взгляд, свои мнения и убеждения. Но каждый раз, когда отваживался он уступить стремлению своего самолюбия, спасительная робость оковывала язык его, охлаждала воображение, он возвращался к прежнему безмолвию и выводил про себя спокойное умозаключение: «Так лучше будет! Пусть они там… пусть! А я себе в стороне, а я так, издали буду смотреть на них. До меня ничто не касается!» И привык Герасим Фомич к совершенному отчуждению от волнений и интересов жизни, привык механически заниматься тем, что на петербургском наречии называется делом, потом обедать, потом скучать, наконец спать. Этот род существования, пошлый и вместе удобный, слывет спокойною, регулярною жизнию, и эта жизнь, предмет надежд и зависти большинства человеческого рода, досталась в удел Герасиму Фомичу не по какой-нибудь счастливой случайности, а вследствие благоразумного и совершенно нравственного его поведения. Здесь нельзя не отдать справедливости так называемым маленьким людям и ничтожным обстоятельствам: хотя человеческое самолюбие и отрицает важное влияние их на различные явления в нравственном мире, однако оно существует, это влияние, самостоятельно и очевидно. Правда, человеку приятнее зависеть от непреодолимого деспотизма рока, в котором предполагается необъятность могущества, постоянство цели и воли, нежели от жалкой тирании погоды, кредиторов, друзей и даже врагов, в которых не предполагается ничего и не может быть ничего; но все-таки его значение, характер, горе и радости непосредственно определяются отношениями его к людям и обстоятельствам упомянутого ранга. Эти-то отношения, возвеличившие столько ничтожеств, уничтожившие столько величий, создали Герасима Фомича таким скромным и ни во что не вмешивающимся гражданином, каким старается изобразить, его предлежащая беспристрастная история, а люди с добропорядочным поведением, как известно, никогда не пренебрегаются фортуною: они и живут хорошо, в почете и довольстве, и умирают солидно, оставляя по себе вечную память — в петербургских «Ведомостях». Так думал однажды сам Герасим Фомич, возвращаясь из Екатерингофа, куда ходил он по случаю благодатного сочетания праздничного дня с первым числом. Это было часов в семь летнего вечера. Удовольствие прогулки и приятная перспектива ужина и прочего, соответственного значению первого числа, сделали его восприимчивее, мечтательнее, чем он бывал обыкновенно. Если б в ту пору он встретил кого-нибудь из знакомцев, то заговорил бы с ним, против обыкновения, о самых опасных предметах, даже признался бы ему откровенно, почему он так молчалив и робок; но знакомцы не встречались; притом же Герасим Фомич вовремя вспомнил, что он ни с кем в искренних приятельских отношениях не состоит, а так только, знает кое-кого по имени да по делам, то есть по сплетням на его счет. С такими людьми, конечно, надобно быть осторожным и вовсе не входить в суждения и откровенные объяснения: знакомцы и друзья вообще расположены к предательству. «Но точно ли вообще? — спросил сам себя Герасим Фомич, невольно и сильно почувствовав неудобства вечного одиночества. — Так, хорошо, конечно, держаться в стороне от всего, — думал он, — никто тебя не тронет, никто не обидит! Но разве для того только и сходятся люди, чтоб обижать одному другого? Вот если б у меня была компания! Почему же и мне не иметь своей компании, или приятеля хорошего, или даже, как у других… Ну это уж… нет! Своего брата приятеля было бы достаточно, чтоб пойти вместе, компанией, в Екатерингоф или на Невский, погулять и потолковать… да! почему ж и не потолковать, если это ни до чьей амбиции не касается, если это делается не для нарушения общественного спокойствия, не из карбонарства какого-нибудь, а просто для приятного препровождения времени, для невинного удовольствия! Точно, потолковать о чем-нибудь, посудить… и посудить можно! Но вот в чем затруднение и горе: сегодня ты толкуешь и судишь с приятелем без всякого злого намерения, а завтра о тебе толкует и судит приятель с намерением, а послезавтра молва о тебе идет, что ты человек рассуждающий, и начинают уже смотреть на тебя и трактовать тебя не как скромного, ни во что не вмешивающегося гражданина, а как человека, который любит толковать, рассуждать, судить… Вот в чем затруднение! У нашего брата есть, можно сказать, некоторого рода подлость — лицемерие, двуличность, предательство, лживость и склонность к нанесению обид ближнему. Вот это только и нехорошо в людях, а не будь в них этого, их можно бы любить и уважать, как бог велел. Не будь в них этого… о! тогда не нужно бы бояться их, избегать не только знакомства, но и каких-нибудь сношений с ними! А между тем во всех книгах пишут, что человек создан для общества! А общество-то и съедает человека, общество-то и делает его эгоистом, ростовщиком, горюном. Общество…» Здесь размышления Герасима Фомича пресеклись. Почти рядом с ним шли две женщины: одна старуха, в темном ситцевом платье, в чепце, с очками на носу и немало подержанном ридикюлем в руках; другая, как он с первого взгляда решил, девица. Судя по скромному наряду ее и по способу пешеходного возвращения из Екатерингофа, не было сомнения, что она принадлежала к числу горожанок немецкого или благородного сословия; но чистота, правильность и нежность ее лица, тонкость бровей, выражение детского простодушия и женского лукавства в голубых глазах, прелесть темных локонов, свободно развевавшихся из-под соломенной шляпки, маленькие ножки, обутые в черные бархатные башмаки, наконец, чистый, серебряный голос — все эти качества, редко соединяющиеся в одном коломенском существе, давали ей преимущество пред многими госпожами, катавшимися в прекрасных экипажах, величественно лорнировавших пешеходов и ее. Герасим Фомич невольно приковался глазами к этому лицу и смотрел на него с наслаждением и восторгом. Он шел в двух шагах от прекрасной незнакомки, то вымышляя наилучший способ быть ею замеченным с хорошей, как говорят, стороны, именно со стороны терпеливости и добропорядочного поведения, то пугаясь одной мысли, что она может заметить его с какой-нибудь другой стороны, например со стороны его приличного костюма или несовершенного уменья обращаться с прекрасным полом, что могло бы выказать его не вполне светским человеком. «Нет! — решил он наконец. — Так лучше будет. Пусть она себя идет, а я тут себе, в сторонке, своею дорогою пойду и буду смотреть издали. Всегда лучше держаться в стороне… Конечно, здесь было бы приятнее идти вместе. Но нельзя же мне пристать к ней! Вот, относительно к женскому полу, я не знаю, как быть… это не то, что мужской пол. С женским полом не страшно, кажется, иметь знакомство. Правда, женский пол тоже любит позлословить, посмеяться, потешиться насчет ближнего, но он не станет распускать соблазнительной молвы, что этот, дескать, ближний, такой-сякой, свои рассуждения имеет. Вот почему женский пол лучше, благороднее нашего мужского пола, и если б у меня достало смелости… Эх, горе мое, горе! Одного-то нет у меня свойства, самого капитального и во всяких обстоятельствах полезного свойства — смелости, совершенной смелости, да отваги, а в иных случаях до самой дерзости доходящей! Потому-то я и живу как-то странно, особняком таким, а между тем всякий человек должен жить в обществе… И мне надобно бы войти в общество, знакомство завести… Что, если б я познакомился с нею?.. О, какое счастие! Поговорить с нею только, посмотреть на нее… какое лицо! Какие глаза!» Герасим Фомич все более и более покорялся магнетической силе глаз незнакомки. Его сосредоточенность на одной идее отчуждения от людей и нечувствительность ко всему, не касавшемуся так называемой личности, исчезала. Волнение крови развивало его воображение; он стал мечтать, но не так, как всегда мечтал: прежде, создавая картину фантастического блаженства, он видел в ней себя огражденным от всех интриг личности и ударов судьбы и людей; теперь идея блаженства изменилась: он почувствовал, что нехорошо человеку быть одному на земле, как бы ни была неприкосновенна его личность, и что очень хорошо быть человеку в двух экземплярах… Ему казалось, что он встретил наконец что-то недостававшее для полноты его существования, придававшее этому существованию дотоле не открытый им смысл и неизведанную прелесть; он увидел, что жизнь его была так мутна и холодна потому только, что он водился с одною холодною половиною человеческого рода, которая возбуждала в нем своими кознями тоску и боязнь, и не знал другой, светлой половины, могущей одним взглядом осчастливить самого измученного мизантропа. В безмолвном созерцании своего кумира Герасим Фомич прошел длинный Екатерингофский проспект, будучи расположен следовать и далее, хотя бы за Выборгскую заставу; но, к прискорбию его, обе женщины остановились у подъезда одного дома в ту самую минуту, когда он думал, что они пройдут, по крайней мере, всю Садовую. По неодолимому увлечению, он приблизился к незнакомке и смотрел на нее молча, в забытьи, в упоении. Вдруг она засмеялась чему-то и скрылась в коридоре. Тогда он перешел на другую сторону улицы, остановился насупротив дома, в который вошла незнакомка, и стал смотреть в окна, ожидая, что еще увидит ее. И точно, через несколько минут в трех окнах четвертого этажа показался свет, потом мелькнули две тени, потом спустились шторы на окнах, и Герасим Фомич остался на проспекте один, взволнованный, очарованный и неподвижный, пока не столкнул его с тротуара на мостовую прохожий непраздношатавшийся кавалер.III
Доселе Герасим Фомич представлял нам высокий идеал человека, ни во что не вмешивающегося, скромно идущего по жизненному пути к неведомому санкт-петербургским обывателям пределу; но теперь беспристрастная история должна заметить странное уклонение его от пути столь похвального и прямого: никак нельзя было ожидать, чтоб он, смиренный на деле и в мыслях, насмотревшийся на человечество обоего пола во время прогулок по Невскому, мог быть увлечен такою обыкновенною встречею, как та, которая описана в предшествующей главе; а между тем это предосудительное увлечение случилось действительно. Таинственная незнакомка вызвала его из счастливого состояния апатии и оцепенелости: сердце его, всегда спокойное, вдруг забилось, заходило, подобно часовому маятнику: воображение, дотоле охлаждаемое опытностью, закипело, расцветилось роскошными картинами, какими оно вообще имеет обыкновение соблазнять человека, когда сорвется с тяжелой цепи рассудка. И вот среди бела дня, и дня вовсе не праздничного, Герасим Фомич не сидел там, где ему следовало сидеть, где просидел он несколько лет, а расхаживал по тротуару Невского проспекта, бледный, изнуренный эксцентрическою деятельностью упомянутого сорвавшегося с цепи воображения, в жалком виде человека, обуянного страстию. Глаза его постоянно обращены в одну сторону. Он все ждет чего-то. Походка его неровна: он то шмыгнет через улицу, к воротам некоторого дома, как будто отважившись на что-нибудь окончательно, то пойдет тихонько вдоль тротуара, будто ему и надобности нет до этого дома. Он даже не замечает, как летит время, как некто, кому не удалось еще никого взять в будку, берет его, впрочем, так, для практики только, на замечание. Но если Герасим Фомич, с одной стороны, странностию своего поведения вызывает из самого сердца вашего, о любители всяческой скромности и изящества душевного, пресловутое восклицание: за человека страшно! то, с другой стороны, совершенно дельный характер его размышлений не позволяет опасаться за него слишком: еще может быть, что неожиданное потрясение, испытываемое Герасимом Фомичом, послужит к его же чести и славе, обнаружит в нем другие добродетели, которых он покамест не имел случая выказать: пренебрежение к искусительным стремлениям сердца и уменье сосредоточивать счастие и радости жизни в желудке. Пусть же будочник, которому свойственно судить о людях по одной наружности, управляется в приискании насчет Герасима Фомича различных сомнений и подозрений, и пусть берет он кого хочет на замечание, — это его профессия, его назначение! Мудрая история, заметив невыгодную внешнюю сторону Герасима Фомича, открывает в нем и сторону утешительную, внутреннюю: эту многозначащую ясность во взгляде на свое положение при беспокойном биении сердца и практическое благоразумие в суждениях при беспорядочной деятельности воображения. Этих-то признаков трезвого и честного человека вовсе не видит городской страж, и между тем как проницательность его усматривает нечто неблагополучное в продолжительном и долговременном присутствии Герасима Фомича в таком месте, которое вовсе не было биржей для кухарок и прочих людей, за поведение коих ручаются одобрительные аттестаты, сам Герасим Фомич весьма благополучно думает следующее: «Теперь я не опоздаю в должность, как вчера и третьего дня. Теперь я посмотрю только, не покажется ли в окне… Как ее зовут? Стоит только с дворником познакомиться, переговорить с ним хорошенько, расспросить его искусно и обстоятельно, чтоб и вида не подать такого. Важное дело вида не подать: такого… Дворники вообще скверный народ, грубый и коварный: сейчас заберет себе в голову, что тут не простое, не постороннее какое-нибудь дело, а хитрая, до личности или чести относящаяся штука! С дворником познакомиться и расспросить хорошенько, не теряя драгоценного времени… Важное также дело и время: времени тратить на пустые рассуждения не нужно; решиться на что-нибудь и тотчас к исполнению приступить, так, чтоб здесь успеть и в должность не опоздать. К должности никогда опаздывать не нужно. Это замечается, это вредит репутации. Можно, например, неявкою в должность испортить свою карьеру. И потому обо всем здраво рассуждать надлежит и все принимать в соображение, а нерешительности овладевать собою не дозволять: нерешительность ни к чему не ведет; нерешительность ставит человека столбом на распутье обстоятельств. Вот как действовать надобно! Действовать, а не думать только и время драгоценное тратить на неприличное и даже подозрительное стояние пред чужими окнами!» То же самое думал Герасим Фомич каждое утро, отправляясь в должность и завертывая на минуту, будто бы по дороге, на Екатерингофский проспект: там снова рассуждал он, дельно, благоразумно рассуждал и, между прочим, ждал, наблюдал, ходил по тротуару. Местечко для своих наблюдений и размышлений избрал он приличное и не очень заметное: между будкою и «входом в заведение», в которое и входил наконец, видя, что в должность идти уже поздно, а здесь и закусить, и подумать, и посмотреть можно, а главное — составить план действий, чтоб времени золотого не тратить, с дворником познакомиться и в должность не опаздывать. С такою благою решимостью провел он, день за днем, почти целый месяц в наблюдениях и размышлениях между будкою и заведением, насупротив некоторого дома. Сила, которой он не мог противиться, влекла и приковывала его к этому месту. Напрасно он рассуждал, что надобно идти в должность, а что касается до причины, удерживающей его пред окнами чужой квартиры, то познакомиться с дворником и действовать, времени же не тратить — никакого исполнения по этим рассуждениям чинимо не было. И между тем как незнакомка, однажды мелькнувшая пред глазами Герасима Фомича, овладевала всем существом его, наполняла душу его своим образом и тот образ с минуты на минуту казался ему все ярче, лучезарнее, недоступнее, он постепенно охлаждался к обыкновенным житейским обстоятельствам и даже оставался равнодушным при получении коротенькой записки, требовавшей от него неуклонной явки в должность. — Важная вещь эта должность! — заметил он. — Будто я в самом деле батрак какой-нибудь, что уже и по болезни не имею права не являться! Приду в свое время, даже завтра приду! А туда после когда-нибудь! Туда, может быть, и вовсе не стоит ходить! Я и не видел ее ни разу после того. И опять, что она подумает, если заметит, что я по целым дням стою в таком, не очень соответствующем приличию, месте? Да, лучше не ходить туда… А как-нибудь чрез дворника обстоятельно все разузнать и времени не тратить. На другой день, отправляясь в должность, он был исполнен тою же решимостью, только рассудил, что можно идти туда несколько искривленною линией, и таким образом очутился снова на прежнем месте и снова простоял часа три в созерцании трех окон четвертого этажа, зашел в заведение подумать немножко, закусить и решиться на что-нибудь окончательно.IV
На этот раз Герасим Фомич был особенно расположен к решительности; но, по свойственной благоразумному человеку осторожности, затруднился привести ее в действие немедленно, чтоб после не обвинить себя в опрометчивости, а рассудил, что лучше будет сообразить с строжайшей осмотрительностью все обстоятельства, неожиданно поколебавшие его спокойствие, а потом уже действовать искусно и неторопливо. Однако, употребив на соображение несколько часов, он не придумал ничего такого, что могло бы привести его к цели. Он возвел глаза свои к четвертому этажу противоположного дома, и вдруг светлая мысль озарила пред ним дотоле темный путь к счастию: в одном из окон увидел он билет с надписью: «Отдается комната». Это окно принадлежало не к той квартире, где обитала таинственная незнакомка, но, по мнению Герасима Фомича, было позволительно войти, по ошибке, прямо туда, куда ему нужно. Какая золотая мысль! Не прибегая к посредству дворника, не посвящая в свою тайну никого, Герасим Фомич мог сам, — правда, не без некоторой отваги, — войти в заветное жилище, видеть его прекрасную обитательницу, говорить с нею, дышать воздухом, напоенным ее дыханием! Одушевленный этою мыслию, он отправился исполнить ее, не теряя драгоценного времени на дальнейшие рассуждения. Зная однообразное расположение петербургских квартир, он не затруднился отыскать ту, где жила его красавица. Трепеща от сильного волнения, дернул он звонок, и в ту же минуту дверь отворилась, и он, после долгих страданий, соображений, бессонных ночей, увидел себя на пороге счастия. В женщине, отворившей ему дверь, Герасим Фомич узнал старуху, которую видел с красавицею. — У вас, кажется, комната отдается? — спросил он, вежливо кланяясь старухе и бросая вокруг себя беспокойный взгляд. — За комнатой остановки не будет… Милости просим, — отвечала старуха. «Эге! — подумал Герасим Фомич. — Так здесь и в самом деле комната отдается. Вот случай-то!» Он вошел в залу. О счастие! Она сидит и дремлет у окна… Она поднимает на него утомленный взгляд и зевает! — Могу ли я, сударыня, посмотреть комнату, которая у вас отдается внаем? — спросил Герасим Фомич взволнованным голосом. Красавица, взглянув на него с улыбкою, не вполне обворожительною, отвечала: — Смотрите, сколько вам угодно: вот комната, а если понадобится, то есть и другая. Герасим Фомич, окинув взглядом комнату, которую ему предлагали, был приведен в крайнее недоумение странным характером меблировки этой комнаты и явным присутствием в ней таких предметов, которые человеческое око привыкло встречать только в философическом жилище проигравшегося студента, и то в простом качестве движимого имущества или вещественной ценности, а не в качестве украшения. Он вопросительно посмотрел в лицо красавицы и увидел в нем еще более странное выражение. Все это произвело на Герасима Фомича впечатление неприятное, тягостное. Не привыкши к быстроте в соображениях, заключениях и выводах, он не мог объяснить себе встреченного им противоречия существенности с идеалом. В замешательстве от такой странной неожиданности и от сознания неловкости своего положения пред лицом существа возвышенного, он молчаливо стоял среди комнаты, опустив глаза долу и тщетно стараясь промолвить что-нибудь соответственное случаю. Кстати вошла старуха. Видя, что наемщик комнаты погружен в размышления, она обратилась к нему с такою речью: — Ну что же, барин? Нравится комната? Славная комната! Сам доволен будешь и другим рекомендуешь! Да ну же, ваше ты этакое благородие! Что тут смотреть горюном? Посылай-ка за вином! Казалось бы, что этот дружелюбный, безыскусственный прием долженствовал послужить Герасиму Фомичу поводом к немедленному заключению давно и томительно желанного знакомства с таинственной красавицей, но вышло напротив: Герасим Фомич, выслушав старушку, был очень озадачен ее простодушною фамильярностью. С минуту глядел он на нее странно, почти бессмысленно: зрачки глаз его все более и более расширялись, как бы усиливаясь прочитать неразборчиво набросанную начальником термину отношения, к спеху переписываемого. Вдруг он побледнел и зашатался. Какая-то мысль, внезапная и болезненная, потрясла его будто электрическим ударом. С тяжким стоном вышел он из комнаты, меблированной по-студенчески, и вслед ему раздался весьма негармонический хохот обитательницы того самого жилища, к которому так долго, так болезненно стремилась душа его, которое считал он заповедным уголком рая в Третьей части Петербурга. Бедный Герасим Фомич! И что за фантазия пришла ему в голову? Или он забыл свое специальное горькое назначение в порыве животворящего чувства, общего человеческому роду? Должно быть, забыл и поплелся туда же за счастием, как другие в порыве самолюбия забывают, что назначение их «делом заниматься», и лезут туда же, за разрешением современного вопроса науки и жизни… Что делать! «Ошибки суть свойственны человеку», говорит краткая латинская азбука на российском диалекте, в пользу юношества кем-то и когда-то изданная! «Посылай за вином! Вот оно что! И как это я так… и что это со мною? О, горюн я, горюн!.. Посылай за вином! Нет, не пошлю! Сам куплю, для самого себя, а угощать никого не стану!» Герасим Фомич быстро спустился с четвертого этажа и бросился в первый погреб, какой попался ему на глаза. Вообразите же странность натуры человеческой: этот Герасим Фомич, которого мы только что с сердечным участием называли бедным Герасимом Фомичом, который был поражен в самых нежных, самых возвышенных стремлениях и понятиях, о котором должно было думать, что он не переживет разочарования столь жестокого, не утешится в обиде столь чувствительной, что он или умрет, или с ума сойдет, — этот самый Герасим Фомич вышел из погреба, чрез какие-нибудь полчаса, отлично утешенный и почти в нормальном состоянии своего духа. История могла бы даже, к чести Герасима Фомича, сказать, что он совершенно восстановился и вошел в обыкновенную колею своей жизни, если б он не покачивался с бока на бок; впрочем, это качание было только временным, преходящим следствием окончательного возвращения Герасима Фомича к блаженству обыкновенной деловой жизни, и так как оно, по случаю наступления сумерек, могло остаться незаметным для толпы, то и не должно видеть в нем ни соблазна, ни другого какого-нибудь скандала. «Ну что ж? — думал он. — Не велика беда! Право, не велика беда! И горевать тут вовсе не из чего. Я и без того горюн! Лучше выпить хорошенько, выпить соразмерно или несоразмерно, пока не забудешь всего!» Качаясь, подобно маятнику, Герасим Фомич сильно толкнул мимо шедшего господина. По этому случаю они взглянули один другому в лицо, и господин, к совершенному своему удовольствию, увидел в человеке, приведшем себя в опасное для других качание, своего подчиненного, не являющегося в должность «по причине болезни», а Герасим Фомич равномерно узнал в нем своего начальника. Потом оба они молча пошли каждый своею дорогою. Но на другой день, когда Герасим Фомич, собираясь идти в должность, приводил в порядок свою наружность и канцелярские достоинства, значительно порасстроенные во время отсутствия его из сей практической жизни в мир идеалов и фантазий, он получил коротенькую записку, подписанную встретившимся ему вчера господином и извещавшую об увольнении его, за болезнию, от должности. — Теперь все кончено! — воскликнул Герасим Фомич, всплеснув руками в глубоком, трагическом отчаянии. — Больше ничего не будет, потому что не может быть, хоть я и горюн!V
Есть на белом свете много благородных людей, история которых оканчивается именно тем обстоятельством, которым начинается, или, говоря технически, завязывается история Герасима Фомича, — то есть чистою отставкою. Эти благородные люди имеют значение для жизни и литературы только до тех пор, пока служат, а как только они уволены — окончательно или условно, — в ту же минуту они исчезают, теряются где-то безвозвратно, как приятель, взявший у вас на слово до завтра последние ваши деньги. Существуют ли они после отставки в качестве живых органов общества, разумных деятелей и участников в его движениях, страстях и развитии, — этого не заметит никакая человеческая проницательность. И потому кажется, что эти господа приходятся сродни мухам, имея завидное их свойство замирать в осень и зиму, когда другие существа просто гибнут от ледовитого дыхания нужд, и возвращаются к жизни, к жужжанию и кусанию, когда пригреет их теплота хорошего места. Они точно есть, эти счастливые люди, не имеющие никакой личной роли в обществе, ни деятельной, ни страдальной, люди замирающие и оживающие, смотря по тому, какие у них отношения к жизни. Но Герасиму Фомичу, увы! угрожает существование и — после отставки! Он должен жить как-нибудь, без всякой возможности подвизаться для пользы человечества. Он, при должности и без должности, член общества, имеющий в нем значение самобытное, хотя незаметное, потому что он бедняк. Может быть, ему не по сердцу деятельность в таком не очень удобном значении? Может быть! Но ему выбирать нельзя. Он волен погибнуть, а не замереть на время: он не муха, а горюн. Ведая неприятность положения бедного человека, неожиданно потерявшего место, мы выразились прилично, сказав, что Герасиму Фомичу «угрожает» существование после отставки: но зная также, что это угроза может относиться и к долготерпению нашего читателя — судии, который имеет право ожидать от нашей истории, что она сама благополучно кончится на отставке Герасима Фомича, мы должны предупредить снисходительность его откровенным и своевременным сознанием, что эта история только что началась, что она поневоле, по своей обязанности, будет тянуться вместе с жизнию Герасима Фомича, пока он сам чем-нибудь не покончит, — а там уже и она кончится. Итак, снова начинается история Герасима Фомича. Если б он имел деревушку в Тамбовской губернии или домишко на Большой Морской, то следовало бы сказать, что после отставки он почил на лаврах; но вся недвижимость его заключалась в необъятном и пустом наследственном сундуке, в котором киргиз, предок его, привез из Саратова в Петербург очевидные доказательства невинности своих баранов, а движимость была употребляема ежедневно для прикрытия бренного тела и для прочих причин и по своей подержанности не составляла ценности, дающей человеку право на уважительные о нем отзывы; поэтому скажем просто, что он, погуляв недельки три по Невскому, наглядевшись в окна магазинов на всякую роскошь, поправился и пополнел; потом, в начале четвертой недели независимого существования, перестал гулять, лег на сундук, служивший ему, по своей древности и обширности, редкостию и кроватью, положил, как говорится, зубы на полку и — похудел. Да! В то время, когда Герасим Фомич думал, что больше уже ничего не будет, что он уже натерпелся всего, оказалось, напротив, что он еще не испытал маленького огорчения провести один день без обеда и не иметь надежды на обед в следующие дни. В первый день этой нужды он снес ее почти равнодушно, — ее пересиливали нравственные страдания, но на другой день он думал уже, что если б ему удалось каким-нибудь образом пообедать, то он был бы совершенно счастлив, что все на свете можно выдержать, пренебречь, только голода нельзя ни пренебречь, ни выдержать. К большому прискорбию Герасима Фомича ему пришлось убедиться в этой пошлой истине пресловутого первого числа, в которое дотоле ион, подобно прочим людям трудящегося сословия, вкушал гомеопатически разные петербургские удовольствия, выходил из постоянного равнодушия к окружающему его миру, прогуливался по Невскому, заходил в какой-нибудь трактир послушать музыки и к Василью Артемьевичу, очень хорошему человеку и притом погребщику, потолковать кое о чем, — и вообще не был горюном, забывал, что он горюн. Однако, привыкши встречать горе за горем, он пересилил животную потребность, придал своей наружности возможное благообразие, чтоб ни пред кем не выказать себя голодным, и отправился для прогулки на Вознесенский проспект. Там есть трактир, преимущественно посещаемый особами рабочего сословия, славящийся своим замысловатым пуншем, чудною музыкальною машиною, называемою часами-самогудами, наконец разного рода кушаньями, которые хитрый повар умел приготовлять из самых неудобоваримых материалов. В нем Герасим Фомич с непростительным равнодушием обедывал в прежнее время, считая трактирный обед необходимой принадлежностию всякого первого числа, а обед какой-нибудь неизбежною неприятностью прочих дней своей жизни. Только теперь, поравнявшись с гостеприимным трактиром, оценил он умом и желудком великую важность какого бы то ни было обеда. «Не зайти ли сюда? — подумал он. — Можно бы даже покредитоваться, если б не такое мое положение! Иван верил мне когда-то на целый трехрублевик, я и отдал ему трехрублевик с благодарностию, как водится, первого числа… первого числа! Ох! Вот когда я горюн! И первого числа нет у меня! Все гибнет одно за другим, все… вот и первое число погибло! А без первого числа и жить нельзя… Да и к чему, если подумать-то, жить мне? Для кого? Я никому не нужен, бесполезен! Ведь все на свете обман и ложь, кроме первого числа, а для меня оно вовсе не существует, как будто я в самом деле хуже и глупее всех! Для чего же мне жить, если я не имею никакого назначения в жизни! И как мне жить, если у меня нет даже обеда?» И, повинуясь неодолимому влечению желудка и надежды на доверенность Ивана, Герасим Фомич вошел в трактир. Все комнаты, по случаю первого числа, были полны радостного народа: раздавались веселые речи и раздражительный звук тарелок, стаканов, даже бокалов. С трудом он нашел себе место в углу комнаты и только что сел, желая собраться с мыслями, чтобы склонить Ивана к кредиту словами благородными, внушающими доверие и уважение, чтобы сгоряча не сказать что-нибудь лишнее, унизительное для своего самолюбия, не поставить себя пред служителем в неблаговидное, смешное положение, — как Иван стоял уже пред ним с салфеткою в руке, громко спрашивая: «Что прикажете?» Этот вопрос сбил с толку Герасима Фомича, уничтожил его решительность. — Да я, Иван… я ничего, так! — отвечал он. — Вот видишь ли… ну, как ты поживаешь? Я только на минутку… «Пчелку» бы мне или «Полицейскую»… Да вот они… Я ничего, Иван… Я только так! Позвонили. Иван оставил Герасима Фомича в тяжких размышлениях. «Не удастся мне пообедать! — думал он. — Кажется, этот человек чутьем слышит, что у меня нет ни денег, ни первого числа. Даже не дал обсудить как следует приличных выражений… Я, конечно, могу заплатить ему, продав вещь какую-нибудь… хоть, например… Эх, горе мне, горе! И продать-то, кажется, нечего! Бедность одолела такая, а еще месяца не будет, как не состою в должности!» — «Полицейская» порожняя-с! Не изволите читать «Полицейской»? Герасим Фомич, подняв глаза, опять увидел перед собою Ивана. Но, сколько он ни усиливался объясниться с Иваном, не мог прибрать ни одного выражения, которое было бы вполне прилично и имело бы желаемый результат. «Если бы теперь не было первое число, — рассуждал он, — то, конечно, такая просьба не была бы подозрительною, не сконфузила бы меня перед мужиком, который знает, что у нашего брата водятся деньги исключительно в первые числа! Но как решиться выказать себя не имеющим денег именно первого числа, просить в долг обеда в присутствии сытых ближних, ожидающих только случая потешиться насчет голодного ближнего? И что скажет, что подумает Иван? Подумает: „Эге!“ — и скажет: „Марок нет-с, буфетчику заплатить не могу!“ И не будет ни толку, ни обеда, а срама, унижения и стыда пред всеми довольно будет. Нет, лучше уже потерплю как-нибудь; завтра, может быть, пройдет аппетит: тогда-то обдумаю все, тогда-то составлю план обеда… „Прощай, Иван! Теперь мне ничего не нужно. Закусить хотел было что-нибудь, да прочитал „Полицейскую“ — и не нужно!“» И много, очень много силы надобно было Герасиму Фомичу, чтоб не выказать своих ощущений, неведомых людям обедающим, чтоб уйти отсюда с лицом спокойным, без тяжкого стона по обманутой надежде! Но он пересилил себя, не обнаружил своего мелкого, для многих смешного несчастия, а когда возвратился домой, был приятно развлечен драматической сценою самосудной и безапелляционной расправы между двумя соседями-дворниками, по окончании которой они поступили под особое покровительство витязя с секирою и вервием в руках. Проспав двенадцать часов сряду, Герасим Фомич проснулся рано утром с утешительным воспоминанием, что вчера и третьего дня он не обедал, и с предположением не менее утешительным, что сегодня, может быть, тоже не удастся пообедать. Напрасно он старался сообразиться с обстоятельствами, чтоб действовать искусно и решительно: мысли его перепутались так, что он нашел свое положение «ни с чем не сообразным». По этой причине от соображений перешел он к сетованиям, «Нечего тут думать, нечего и соображать! Много думал и соображал прежде, а что вышло? Вышло то, что прав учитель чистописания и философии, — из меня ничего не выйдет. Вот хоть и насчет этого, насчет обеда сообразить как следует, то всякий на моем месте пообедал бы, и хорошо пообедал бы, не принимая в соображение, что там то и се может выйти, а я так не пообедал и не пообедаю. Поэтому-то я и горюн. Никогда-то я не мог поглядеть кому-нибудь, хоть бы служителю трактирному, в глаза с благородною, как говорят, самоуверенностью! Всегда-то мне казалось, что я хуже других, и куда мне до других! Никогда я не умел поставить себя в такое, как в книгах пишется, независимое положение перед другими, пред старшими или перед кем бы то ни было. И вот теперь разделывайся, выпутывайся, обедай, как хочешь! А обед вещь не пустая, не пошлая: без всего, даже без ума, даже без совести, человек может обойтись, и многие обходятся и слывут умными и благородными, потому что держат ум в кармане, а честь на языке, а без обеда никто никогда не обходился… Даже то неприятно и конфузно, что когда идешь по улице голодный, всякий глядит на тебя так, как будто знает, что ты не обедал и думаешь об обеде. А что за важность такая обед? хотел бы я спросить. Денег недостало. Только денег не случилось на эту пору. Что ж тут есть такого особенного?»VI
Кончив туалет и рассуждения, Герасим Фомич отправился из квартиры. Это было в ту самую пору, в которую он прежде хаживал в должность. Машинально он дошел до Адмиралтейского бульвара со стороны Сенатской площади. Пронзительный ветер, пахнувший с Невы, несколько освежил его. Он сел на скамью и стал глядеть на серые волны Невы, на Биржу, на суда, на обнаженные деревья, на облака, сплошною черною массою облегавшие горизонт. Вид был суров, мрачен и производил неизъяснимо томительное влияние на душу Герасима Фомича. Между тем начиналась деятельность петербургской жизни. Показывались мальчишки с трезубцами в руках и котомками со всяким добром. Торопливо шли к делу чернорабочие двух великих трудящихся классов. Дремля, возвращались в свои клети ночные извозчики. Потом чрез площадь и Исаакиевский мост потянулись похоронные процессии: сначала несколько мужиков пронесли простой сосновый гроб, сопровождаемый двумя парнями и бабою. Они шли скоро, чтоб не опоздать на работу и не подвергнуться вычету за прогульные часы. За ними следовали телеги с гробами, не сопровождаемые никем: они были заподряжены различными домами здравия и также торопились, чтоб вовремя поспеть на кладбище. После всех показались дроги, заново драпированные. Они медленно и солидно везли великолепный гроб, обитый бархатом и золотою мишурою. На крышке его лежала новенькая треуголка. Впереди шли факелоносцы, а за ними форменные люди несли на бархатных подушках ордена. За гробом следовала толпа людей в мундирах и сюртуках. Иные из них имели приличную случаю печально-важную физиономию; другие, из тех, которые были помоложе, разговаривали между собою о чем-то совершенно постороннем этому случаю. Проходящие мужики, глядя на эту процессию, замечали про себя: «Видно, кто-нибудь богатый умер!» — «Да, видно, что богатый!» — «И в большом чине: глядь-ко, шляпа какая!» — «Небось барин был». — «Да, барин был — да вот теперь он помер же». Герасим Фомич, желая развлечься несколько, последовал за богатым покойником. Сняв шляпу, он примкнул к печальной процессии, не сочувствуя чужому горю и не обращая внимания на раздававшиеся в толпе отрывистые фразы вроде следующих: — Обед заказан в «Лейпциге». — А! В «Лейпциге»! Там недурно готовят! Скажите, пожалуйста, вы хорошо знали покойника? — Да! Мы играли с ним у Максима Кузьмича. — А неизвестно, кому достанется место? — Говорят, что Максим Кузьмич назначен. — Максим Кузьмич? Да кто это такой? — Неужели вы не знаете? Это муж Катерины Фоминишны. — Катерины Фоминишны? Ну, так он на хорошей дороге! — Как же! Он сделал чрез жену чудесную карьеру. — А, кажется, не очень большие дарования имеет? — Что дарования в наше время! Кто нынче не имеет каких-нибудь дарований? К чему служат дарования? — Кстати, позвольте спросить, вы нынче бываете в клубе? — Редко, большею частию у Максима Кузьмича. — Следовательно, вы с ним друзья? Сделайте одолжение, так, при случае… Разговор в этом духе продолжался по всему длинному и печальному пути до Смоленского поля. Герасим Фомич шел, как мы сказали уже, для развлечения и был занят своим животным горем; он, однако, заметил следующее, вовсе до него не касавшееся обстоятельство: в то время, когда процессия проходила мимо заведений, украшенных вызолоченными гроздиями и художественными произведениями, имеющими обширный смысл для желудка, некоторые из господ, сопровождавших покойника, вздохнув тяжело, уклонялись в эти заведения поодиночке или попарно, не говоря один другому ни слова, только перемигнувшись между собою выразительно, и, возвратясь к процессии через несколько минут, вздыхали во всю дорогу с особенною силою, делавшею честь их чувствительности. Наконец процессия остановилась на Смоленском. Великолепный гроб был опущен в могилу, и присутствовавшие, в том числе и Герасим Фомич, молча бросили в нее по три горсти земли. Потом все засуетились, заговорили, заторопились, как люди, кончившие что-то тягостное и спешащие к чему-то приятному. И вот разнокалиберная толпа, с полным сознанием, что отдала последний долг покойнику, торопливо стала садиться в экипажи. — Вы где сядете, Иван Никитич? — спрашивал один персонаж. — Я с Петром Иванычем, — отвечал другой. — Иван Никитич! Садитесь с нами! — воскликнул третий. — Как вам угодно, господа. Я думаю, что будет дождик, — замечал четвертый. — Царство ему небесное! — говорил пятый персонаж, вздыхая. — Он был… Но я не злопамятен! И в то же время сыпалась дробь иных восклицаний, замечаний и изречений, в которых трудно было бы доискаться связи и смысла: — Боже мой! Я потерял табакерку! — Памятник, говорят, будет в несколько тысяч: четыре плачущие добродетели и семь плачущих пороков. Прелесть, не правда ли? — Я никогда не завтракаю! Этот разговор едва касался слуха Герасима Фомича, который все еще стоял у могилы с поникшею головою; но гигиеническое замечание какого-то барина, садившегося в карету, что он никогда не завтракает, потрясло его. Он взглянул на этого барина с тоскою; глаза их встретились, и барин, считая Герасима Фомича одним из неутешимых друзей покойника, обратился к нему с утешением: — Что делать! Человек осужден на подобные лишения! Надобно переносить их… Где вы садитесь? — Я? Да я так!.. — отвечал Герасим Фомич. — Как можно так? Сюда шли так, в процессии, а отсюда, когда уже все кончено, надобно ехать… Не угодно ли вам занять место в этой карете? Герасим Фомич, не вдаваясь в рассуждения, по какой причине он может ехать, сел в карету. Барин дернул шнурок, и наемные клячи двинулись из Смоленского привычною для них погребальною рысью. Минут пять в карете царствовало торжественное молчание. Герасим Фомич не решался заговорить первый. Его сосед нежно поглаживал свои бакенбарды и поправлял галстук, потом начал насвистывать что-то, потом попросил Герасима Фомича извинить ему его рассеянность. — А! Ничего-с! — отвечал Герасим Фомич. — По-видимому, вы из близких людей к покойнику? — О нет! Я только так!.. — А! Вы были ему обязаны?.. — Извините, напротив… — Понимаю: покойник, не тем будь помянут, не имел привычки обязывать, и вы, так же как и все мы, исполнили только общий долг. «С горстью земли на его могилу мы бросили все дрязги и расчеты», — как сказала «Пчела» в одном фельетоне. Надобно отдать справедливость «Пчеле»: это великая истина! — Да-с! А если истины не случится, то всегда она скажет что-нибудь новое, — заметил Герасим Фомич. Барин, быстро взглянув в лицо Герасиму Фомичу, продолжал: — Вы постоянно читаете «Пчелу»? Я так предпочитаю ей ту… другую; та имеет свою цель, свое направление и особенно взгляд. По моему мнению, у нее взгляд гораздо обширнее, многостороннее… — Да-с! Она смотрит на человечество с высоких точек, — сказал Герасим Фомич и снова замолчал, потому что, решась соглашаться с мнением своего соседа, он употребил начало фразы, когда-то читанной им где-то, и не мог припомнить ее окончания; но, к изумлению его, сосед, снова взглянув на него, засмеялся, сочтя неумышленное выражение его за каламбур и его самого за острослова. — Это превосходно, — сказал он, — вот я, признаюсь, не имею этой счастливой способности… счастливой, потому что человек остроумный и находчивый всегда имеет значение в обществе. Герасим Фомич ободрился: ему никогда еще не случалось слышать себе комплимента; ему всегда говорили более или менее ясно, что он дурак, что он не может ни сказать, ни сделать что-нибудь разумное; но вот неожиданно признают его человеком остроумным, и этим он обязан неоконченной фразе, смысла которой он сам уразуметь не может! «Случай, мелочь! Вот от чего зависит наше значение в глазах других людей», — подумал он и, видя себя в благоприятных отношениях к соседу, сказал ему с некоторою свободою: — Благодарю вас за комплимент; но, извините, я не разделяю вашей мысли: я думаю, что не остроумие, а действительный ум дает человеку ход или значение в обществе. Это противоречие мнению соседа произошло уже неспроста, а вследствие тонкого соображения: Герасим Фомич заметил, что сосед его принадлежит к числу людей ученых или, что, впрочем, все равно, к считающим себя учеными, и потому, отдавая преимущество пред остроумием капитальному уму, на который всякий, даже и неученый, человек имеет притязание, он мог подать о себе еще более благоприятное мнение. — Впрочем, — продолжал он, исполняясь отвагою на разговорчивость и припоминая кое-что читанное им в книгах, — нельзя определительно сказать, что таких-то или иных качеств люди постоянно имеют значение. Я думаю, что все, от людей гениальных и могущественных до тех, которые слывут совершенно пустыми и ничтожными, имеют свое время для самостоятельного значения, даже первенства в чем-нибудь, и потому всякий, кто бы он ни был, хоть раз в жизни бывает для чего-нибудь нужен, к чему-нибудь годится, — словом, достигает цели своего существования. Сосед Герасима Фомича, глубокомысленно помолчав с минуту, отвечал: — Да! Я совершенно согласен с вами и без всякого намерения польстить вам скажу, что ваша идея поражает меня своею оригинальностью. Я удивляюсь вашему искусству схватывать предмет, так сказать, на лету и быстро проникать его сущность. Ваше остроумное положение оправдывается даже нынешним фактом; мы похоронили человека, который жил исключительно для себя; казалось, что он не имеет никакого назначения, совершенно лишний между людьми, даже и не лишний, потому что все равно было, существует он или нет, его существование не имело никакого отношения ни к обществу, ни к человечеству, ни к его кругу, ни даже к месту, которое занимал он. Вдруг он умирает, и тут только, уже в мертвом виде, имеет назначение: пятьдесят человек, которые не чувствовали его пребывания на земле, приятно почувствуют, что он покоится в ней. — Точно так, — отвечал Герасим Фомич, — однако, извините, я не вполне понял мысль вашу: какое именно назначение приписываете вы покойнику? — Назначение, не очень утешительное для него. Изволите видеть: его назначение было, по моему мнению, ничего и ни для кого не значить в течение всей своей жизни и много значить на четвертый день после смерти: пятьдесят человек пообедают на его счет, или, как говорится в погребальных случаях, помянут его превосходно, гастрономически. Для этих-то двух часов обеда покойник жил шестьдесят лет, и только в эти два часа он будет иметь отношение к обществу. «Обедать! Превосходно, гастрономически обедать!» — от этих слов Герасим Фомич вздрогнул. «Как же это все так выходит? — рассуждал он сам про себя. — На что я тут должен решиться? Вот попал-то я в непредвиденное затруднение! Угораздило же меня сесть в эту карету, чтоб так только подумать об обеде, а в самом деле и не обедать, даже бежать от обеда. Ах, горе мое, горе! На роду, что ли, мне написано такие неожиданные терпеть неприятности? Насмешка, чистая насмешка надо мною! Вот когда дошло уже до того, что и обедать не обедаю, так тут-то и выходит какой-то случай, под предлогом стечения обстоятельств, а в самом деле случай умышленно оскорбительный, и вот этот случай ведет меня из квартиры, под предлогом голода, на бульвар, с бульвара, под предлогом любопытства, на Смоленское, там, под предлогом рассеянности, сажает меня в карету и в ней везет меня на обед. Все ничего, и самый обед, если уже на то пошло, тоже ничего! Да обидны, горьки мне эти предлоги! Если уже я имею назначение умереть с голода (а кажется, что это и есть мое назначение, а не то, которое я предполагал в истекшем сентябре месяце), то не для чего морить меня надеждами, следует прямо заморить голодом! Так нет же! Беспрерывно являются новые случаи, новые насмешки! А за что? Почему? Видно, всё потому, что я горюн? Потому, что нет для меня ничего верного в жизни, кроме горя…»VII
Мучимый такими скорбными размышлениями, Герасим Фомич забыл даже своего соседа в карете. Сосед между тем дремал. Оба, не стесняя друг друга, были заняты сами собою и очнулись тогда только, когда карета остановилась. Сосед, взглянув в окно, сказал: — Ну, вот!.. Дождя не будет! На это замечание Герасим Фомич отозвался: — Ах, да-с! Потом сосед вышел, и за ним последовал Герасим Фомич, не зная, как ему тут благовидно увернуться в сторону, не дать заметить, что он вовсе чужой человек покойнику, что на похороны его и в карету попал случайно, совершенно неожиданно, что он даже не может себе истолковать, каким образом случилось все это. Сосед между тем стоял у подъезда в ожидании Герасима Фомича. — Пожалуйте! Что же вы мешкаете? Не печальтесь! Что делать — все там будем! — говорил он, зевая. Герасим Фомич был в самом мучительном затруднении. «Идти или не идти? — думал он. — Конечно, лучше идти, но что выйдет из этого? Надобно будет говорить о добродетелях покойного, это еще ничего, стоит только узнать, какой он чин имел, а там уже, дело известное, мудрость и добродетели, соразмерные рангу; но придется, может быть, вспоминать его житейское поприще, не зная его даже по имени, пить за упокой души его, не ведая, была ли у него душа!» Он готов был рассудить и сообразить это дело обстоятельно и неторопливо, тут же, у подъезда, откуда можно было ускользнуть незаметно, без всяких дальнейших неприятностей, кроме потери обеда; но раздался в глубине коридора звук тарелок и прочего столового сервиза, и он стал думать уже не головою, а желудком, как думают только люди, высоко стоящие над житейскими обстоятельствами. И вот Герасим Фомич, влекомый своим превосходным аппетитом, который мог бы составить для откупщика и для знатного барина полнейшее счастие, а для него был только сквернейшим «происшествием», отправился в бывшую квартиру покойного вслед за многими особами, прибывшими, подобно ему, со Смоленского. В трех комнатах были расставлены столы с различными яствами и питиями. Вокруг тех столов группировались, сходились и расходились, с прилично печальными лицами и тихим говором люди, которых заметил Герасим Фомич на кладбище. Очутившись среди этих людей, вовсе ему не знакомых, он смутился так, что и забыл о голоде и обеде. Робко стал он в стороне от них, в углу комнаты, совершенно не понимая, что за странное приключение вышло, что вот он и в компанию такую попал, и обед пред глазами имеет, и все это, если рассудить по совести, ведет к тому только, что надобно считать себя счастливым, если удастся выпутаться из этого приключения, убежать от этого обеда! Вдруг все засуетились: «наконец» и «пожалуйте» раздалось во всех устах, все тем же прилично печальным тоном. Герасим Фомич, видя, что все, слава богу, покамест ничего, вздохнул свободнее. Священник, прочитав молитву, благословил трапезу. Гости чинно уселись за столами и замолчали решительно; с полчаса слышался только звон тарелок, рюмок, ножей и шепот: «Позвольте соли!..» — «Вам угодно мадеры?» — «Медок, кажется, так себе», и тому подобные вопросы и замечания, выказывавшие внимательность гостей к яствам и напиткам. Герасим Фомич поместился, или, точнее, случай поместил Герасима Фомича, между молодыми людьми, которые, по-видимому, имели небольшие чины и большие гастрономические способности. Еще за другими столами, где кушали люди пожилые, раздавались слова: «Общий жребий!» — «Царство небесное!» — «Все суета!» — а здесь уже происходил критический разбор кушаний и вин; даже один из соседей Герасима Фомича, толкнув его по-приятельски и указывая взглядом на некоторых почтенных особ, сказал ему с коварною улыбкою: — Замечаете? Этот, как его назвать, что все молча вздыхает да пьет, готов уже провозгласить тост за упокой души нашего амфитриона… Ведь что ни говори, а он, покойник, нас угощает! Не умри он в прошедшую пятницу, так мне, например, никоим образом не пришлось бы так хорошо обедать сегодня! Одно первое число только что с шумом отыде, а до другого целая вечность! Как быть в таком случае? А вот тут-то и выходит случай: умирает он, как бишь его зовут, покойника?.. После трех блюд и неизвестного количества бутылок вина гости оживились: лица засияли румянцем и удовольствием, разговор завязался общий, откровенный и дельный. Прежде всех возвысил голос почетный стол, коснувшись неразрешимого вопроса: почему во Франции вырабатываются легкие вина, веселящие русское сердце, и сильные идеи, неудобоваримые для русского желудка? И тот же стол, только с другого конца, отвечал, что это объясняется географически и физиологически. Потом уже заговорили прочие столы о разных приятных материях и, между прочим, о беспорочности. Этот, собственно, предмет произвел взаимное сочувствие между всеми желудками. Каждый из гостей, по какой-то странной причине, знал, что такое беспорочность, но знал по-своему, то есть имел о ней свое понятие. Когда официанты подали жареных рябчиков, беспорочность стала общим, господствующим предметом разговора, а когда рябчики были съедены и запиты как следует, произошло весьма благоприятное для пищеварения столкновение мнений пятидесяти кушавших желудков, бывшее поводом к самому тонкому, живому и деликатному прению: самые вместительные, благословенные желудки подтверждали свои доводы лаконическим выражением: «Вы ошибаетесь! Мы это знаем не сами по себе, а по книгам!» Желудки менее почетные возражали с приличною умеренностию: «Если позволите заметить — вы ошибаетесь!» Желудки обыкновенные, установленные для пешеходов и литераторов, говорили определительно, что беспорочность есть устарелый фарс, даже оскорбительный пасквиль на врожденное каждому человеку влечение к самоутучнению. Герасим Фомич, нечувствительно увлекшись интересом обеда и разговора, забыл все свои горести, кушал с хорошим аппетитом и говорил мало, но с толком. Долго длилось поминовение какого-то усопшего из родовых дворян раба божьего. Начатое скукою, печалью и разъединением поминавших, оно кончилось всеобщим одушевлением; даже если б дело шло не о таком трогательно-торжественном случае, каково поминовение, не о таких хороших людях, каковы поминавшие, то можно бы сказать, что оно кончилось веселою попойкою, для всех надолго памятною, и совершенным забвением предмета поминовения. Кажется, что так точно и кончилось это дело: гости остались совершенно довольны обедом и собою; каждый из них имел случай выказать свои идеи, свою ученость, свое остроумие, даже свою вежливость; каждый, наконец, почувствовал приятное влечение к отдыху… И скоро после похоронного обеда опустела богатая, обширная квартира какого-то человека, наживавшего эту квартиру, это богатство для чего-то, может быть, для того только, чтоб было, где и чем накормить и напоить неизвестных ему людей, которые, похоронив его, захотят побеседовать о беспорочности! Только слуги бегали по комнатам, торопливо собирая пустые бутылки и пересчитывая серебряные ложки, да в угловой комнате человек в глубоком трауре спорил с гробовщиком, рассматривая печальный счетец…VIII
Герасим Фомич богат и счастлив. Он уже не нуждается в доверии какого-нибудь Ивана, чтоб пообедать; судьба желудка его не зависит от должности и жалованья; его древний сундук наполнен червонцами и рублями, и сам он кушает в обширной, богато убранной столовой, в обществе очень хороших и притом молчаливых людей, одетых в глубокий траур. Яркость освещения сотнею восковых свечей, блеск позолоты на карнизах и дверях столовой, сияющая белизна драгоценного сервиза — хрусталя, серебра и фарфора, драгоценнее серебра, и в противоположности с этою радостною внешностию мрачное единообразие одежды и глубокое безмолвие множества живых фигур, занятых обедом, будто важным государственным делом, — все это сообщало целой картине странный, чрезвычайный характер; все походило на самую эффектную сцепу из новейшей мелодрамы. Что же причиною такому безмолвию? А вот сквозь сумрак ночи в зеркальные окна столовой заглядывает снаружи, с улицы, какое-то существо, похожее отчасти на привидение, отчасти на советника по соляной части, за несколько часов переменившего просторную, семейную, барскую квартиру на темный, тесный, дощатый одинокий чуланчик в которой-то линии Смоленского поля. Прежде, выходит, он кушал соляную часть и казенные интересы, а теперь соляная часть и казенные интересы собрались покушать — не его, а его добра, которого еще никому не удавалось отведывать, пока сам советник жил в этой квартире. Зачем же он мелькает в окнах? Зачем он так злобно глядит на чинное собрание в его бывшей столовой? Эти вопросы не на устах, а в сердце каждой кушающей персоны, и каждая персона, имея в виду покойника и чувствуя от избытка печали о нем аппетит и жажду, кушает и молчит, что составляет, говоря о всей картине, сознательное поминовение умершей души и торжественную тишину. Но одна персона, утомленная делом и печалью, облегчает себя следующим гласным обращением к соседу: — Кажется, Андрей Анисимыч, покойник имел за тридцать или за тридцать пять? — Чево-с? За беспорочность? Вы говорили о беспорочности? — воскликнул сосед с особенною живостью. — Да-с, я спрашиваю, за сколько лет имел он… — Чуть ли не за сорок, Петр Максимыч! — О! Помилуйте! Сорок лет беспорочной службы — это невозможное дело! Я вот с восемьсот пятого состою по части благоденствия, а всей-то моей беспорочности, по разным клеветам и проискам, считается только пятнадцать… Едва только Петр Максимович с Андреем Анисимовичем вспомнили беспорочность, как слово это сообщило всему собранию электрическое движение. Закипел разговор живой, остроумный, энергический. Досадное существо, похожее на привидение и советника, исчезло из вида гостей, и как только оно исчезло, на лбу каждой персоны появился чернилами или ваксою начертанный мистический знак в виде какой-нибудь латинской буквы или цифры, и в то же время на потолке столовой, в виду Герасима Фомича и прочих господ, сидевших за столом, происходило следующее странное действие: искусное изображение торжества Бахуса постепенно превращалось в живую человеческую фигуру, и та фигура, растягиваясь, изменяясь, развиваясь, подобно облаку, волнуемому ветром, образовала из себя нечто весьма замысловатое, именно сущее подобие буквы L, которая, как известно, в цифири означает число 50. К этому-то знаку устремились сердца всех кушавших господ. О нем говорили, спорили и думали во все продолжение обеда. Герасим Фомич, нисколько не теряясь и не конфузясь, смело участвует в важном и глубоко нравственном разговоре, даже рассуждает и свои мнения бестрепетно пред всем обществом высказывает. Вдруг он замечает, что знак беспорочности тихонько опускается с потолка и садится ему на лоб. Он ощупывает лоб — нет! Видно, это ему только показалось. Он глядит на отворот сюртука и усматривает, что знак там, в петлице! Тогда Герасим Фомич торопливо, с сладостным трепетом застегивает сюртук на все пуговицы и спешит домой, к своему древнему сундуку, в котором еще осталось столько места, чтоб спрятать эту драгоценность на черный день. «А придет черный день, там заложить можно, — думал он благоразумно. — Придет — не придет, а все если есть что заложить, то и хорошо, то Ивана и скотиною назвать можно… без его милости всякие обеды найду, если есть что заложить!» Тут опять странность: только что он поднял крышку сундука, как оттуда выглянуло таинственное лицо, посматривавшее в окна столовой залы, обезображенное тлением и гримасою; оно посмотрело на Герасима Фомича дружелюбно и сказало ему: — Завтра еще милости прошу ко мне откушать — ко мне, в мою прежнюю квартиру, где я жил, пока жил. — Герасим Фомич пугливо опустил тяжелую крышку сундука, амфитрион с глухим смехом исчез, и он сам — проснулся. Значит, все это случилось с Герасимом Фомичом во сне?.. Да! Был уже полдень, когда он очнулся на своем древнем фамильном и совершенно пустом сундуке после роскошного поминовения, в котором участвовал накануне. «Экая чепуха грезится, боже мой! Экая чепуха может присниться! — думал он, протирая глаза. — Обед, беспорочность, человек в тысячу лет, сундук червонцев и рублей и сундук, из которого, вместо рублей, выглядывает давешний покойник! Покойник — это нехорошо! Покойник к добру не снится: ну, да это чепуха — покойник! Деньги снились золотые и серебряные — вот это хорошо! Если б медные деньги, то вышла бы скверность какая-нибудь, а то серебряные и особливо золотые, — ну, так и ничего, и хорошо!» «Да это, впрочем, все сны, сны, — продолжал он. — Это не то, чтоб в самом деле вышло что-нибудь хорошее сегодня, как давеча, например… Этакий обед! И можно ли было думать и гадать о таком обеде! Думай же после этого, что я вовсе пропащий человек, что я не имею никакого назначения в жизни, когда случаи такие встречаются! Вот то-то и есть: не надобно никогда приходить в отчаяние, терять присутствие духа. Хорошо, что я вчера обо всем рассудил основательно, не потерял присутствия духа и не пришел в отчаяние!» Герасим Фомич улыбнулся самодовольно, припоминая подробности вчерашнего приключения с своим желудком; но вдруг новая мысль расстроила счастливое расположение духа его. «А сегодня-то, — вспомнил он, — ведь надобно же и сегодня обедать! Этакое несчастие постигло меня! И за что, если подумать, невзгода такая нашла на меня, боже мой! Да как тут думать?.. Горе такое, что и подумать-то ни о чем нельзя хорошенько, ничего в соображение принять невозможно!» Эти выражения отчаяния свидетельствуют, что Герасим Фомич ошибся немного, думая спросонок, будто он вчера, в критических обстоятельствах желудка, не упал духом и все рассудил обстоятельно; но и то может быть, что он вовсе не льстил себе, то есть не лгал пред самим собою; вообще человеку свойственно находить в себе удивительные достоинства, когда в них не имеется надобности. «Да как же это? — рассуждал Герасим Фомич. — Как я пообедаю сегодня или завтра? Вот наказанье-то, сущее божеское наказанье!» Он бросил взгляд на свою комнату, и вид ее не сообщил ему утешения: комната была маленькая, темная, вполовину занятая печкой, на которой стояла раскрашенная временем статуйка молящейся Невинности. Единственное окно этой комнаты, занавеска на окне, числившаяся белою, таковые же стены, портрет Наполеона на стене — все это было раскрашено и разрисовано тем же временем, все имело цвет и характер его же, всеуничтожающего, всеперекрашивающего времени, — желтовато-серенький, печальный цвет нищеты, скорби и тления! И между тем как взор его машинально переходил от одного предмета к другому, сердце его было терзаемо грустным воспоминанием прошедшего, которое цветом и смыслом походило на эту серенькую каморку, и тоскливым ожиданием грядущего. «Ошибался я, — думал он, — кажется, что ошибался, рассуждая обо всем по-своему. Не нужно бы мне вовсе рассуждать; так нет же, вот… а другие не рассуждают, а живут себе как живется; ну, и мне бы так, и мне бы, даже в моем нынешнем положении. Тот, например, как его… звал меня и сегодня, а это добрый знак! Притом золото и серебро видел! Конечно, все это, если подумать как следует, глупость и мерзость какая-то; но в моем положении умничать вовсе не следует; я себе горюн, так к чему и куда мне тут рассуждать! Мне только… ба! мне только, в моем назначении, всем пользоваться надлежит!.. А там — не мое дело! А там без меня хоть трава не расти! По мне, хоть историю смешную напиши обо мне! Ведь я так себе — горюн!» Герасим Фомич быстро поднялся с своего сундука, волнуемый какою-то сильною идеею; несколько минут на лице его выражалось величайшее напряжение духа; наконец, будто рассудив обо всем основательно, он успокоился и занялся своим туалетом.IX
За пределами шумного, хлопотливого Петербурга, вне круга вечной, неугомонной деятельности полумильона ходячих самолюбий, есть тихая колония, с каждым днем увеличивающая число своих обитателей. Ее не касаются житейские волнения, ей чужды интересы, желания, нужды и все, что одушевляет, приводит в движение колоссальную машину, называемую Петербургом. Длинными и тесными рядами тянутся здесь безмолвные, одинокие жилища, осеняемые болотными деревьями. Эта колония называется Смоленским кладбищем. Но все же человек нигде не покидает вполне своей личности, всюду пользуется случаем выказать свою суетность и покощунствовать — хоть над самим собою. Эту мелочность он перенес из Петербурга сюда, перенес как лучшее из своих достоинств, как нечто такое, что может пригодиться и здесь: он проявил ее в странной роскоши некоторых памятников, в ненужном комфорте некоторых могил, и оттого другие памятники, другие могилы кажутся еще проще, беднее, оттого и видно, где нехотя улеглось чреватое тщеславие, где радостно почила нищета… Шелест ветра, колеблющего тощие, приникшие к земле ветви деревьев, унылый звук церковного колокола да кой-где шепот скорбной молитвы, глухие рыдания или вопль печали нарушают мрачное спокойствие могил, напоминают здесь жизнь и отсутствие жизни… Но раз в день, в утренние часы, на кладбище проявляется деятельность: из Петербурга тянутся одна за другою погребальные колесницы, сопровождаемые, смотря по богатству покойника, более или менее многочисленною толпою его наследников и друзей; являются и такие экипажи, называемые простенькими, но весьма приличными дрогами, за которыми следует только одно живое существо — портной и кредитор покойного. Каждый день земля пожирает здесь не один десяток петербургских обывателей, которые потом не встречаются ни на Невском, ни в кондитерских, каждый день часть блистательного Петербурга скромно, незаметно переселяется туда — куда-то, в свою смоленскую колонию, так что через несколько лет, смотришь, Петербург тот, да не тот, и на Невском гуляют, и в театре приходят в восторг такие же люди, да уж не те; те давно лежат на Смоленском, забытые; а эти покамест читают журналы да провожают своих покойных приятелей; но вот и они, поодиночке, становятся покойниками, и у Доминика на их привычных местах сидят уже другие люди. Так, незаметно, но постоянно, неумолимо, Петербург в шестой или седьмой раз меняет своих обитателей, отправляет в мирную смоленскую колонию все свое разнообразное народонаселение. Между тем как ежедневно, с каждою погребальною процессиею появляются здесь новые лица, взор наблюдателя, блуждая по тысячам разнообразных физиономий, беспрерывно движущихся, мелькающих и пропадающих, с любопытством останавливается на одной из них, встречающейся постоянно: человек лет тридцати, бледный лицом, с робким взглядом и скромною поступью, одетый в пристойное, не очень поношенное партикулярное платье, каждый день является на кладбище с богатой процессиею, молча присутствует при погребении покойника и молча уезжает с кладбища неизвестно куда, в числе других людей, с которыми шел в этой процессии. Кто этот постоянный погребатель всяких, однако только богатых, мертвых? По какой странной причине принял он на себя такую странную обязанность? Увы! Мы узнаем его по наружности, также постоянно выражающей скорбное томление души, тягостное ощущение в сердце: это все тот же человек, которого зовут Герасимом Фомичом, который сам себя зовет Горюном. А по какой причине угодно ему прогуливаться ежедневно на Смоленское кладбище, это уже его собственное дело, о котором он, вероятно, рассудил обстоятельно и окончательно. Мало ли каких причин не бывает в Петербурге! Какая бы там ни была причина этих прогулок, только Герасим Фомич совершал их педантически точно, как бы исполняя должностную обязанность, а для удовлетворения своей природной любознательности читал трогательные эпитафии над могилами и даже наблюдал посторонних покойников, лежавших в церкви в открытых гробах. Раз как-то, уклонившись от пышной погребальной процессии, с которою прибыл, по обычаю, на кладбище, он вошел в церковь: там, что редко случалось, был только один гроб, у которого горько плакала какая-то старуха; несколько нищих, не ожидавших от небогатого покойника достаточной поживы, сидели на паперти, ведя между собою одушевленный разговор, о чем-то, до откупщиков и невской воды относящемся. Герасим Фомич с привычным спокойствием бросил взгляд на небольшой обитый розовым коленкором гроб и на одиноко сетующую над ним женщину; эта женщина тоже взглянула на него, и он вздрогнул, пораженный смутным воспоминанием. С тягостным чувством снова обратил он взор на гроб и вдруг отступил от него в ужасе, с невольным воплем: в этом гробе, точно как живая, спящая, лежала таинственная красавица, стоившая ему стольких возвышенных мечтаний, неприятных похождений, представшая ему искусительным демоном, совратившая его с гладкого, просторного, удобного пути деловой жизни на тесную тропинку, теряющуюся среди забвенных могил Смоленского поля! Белое, как мрамор статуи, лицо ее было для Герасима Фомина прекраснее, неукоризненнее, чем прежде; смерть не обезобразила его своим тлетворным прикосновением, казалось, возвратила ему его первоначальную прелесть, его естественное выражение, искаженное жизнью. И вот снова перед ним, и снова неожиданно, это странное существо, которого он не знает даже по имени, которое, может быть, и точно имело на земле благое назначение, так же как и он, быть может, не для этой роли был создан. В другое бы время, раньше бы несколько встретиться ему с нею, пока на нее не повеяло ядовитое дыхание санкт-петербургских житейских обстоятельств, — и судьба их была бы иная: было бы в Петербурге одною прекрасною дамою, одним благородным советником более, а в человечестве одною таинственною красавицею и одним пролетарием менее; но они разошлись на жизненном пути и встретились уже не в пору… Герасим Фомич долго, как бы прикованный, стоял у гроба в безмолвном созерцании покойницы; наконец, с чрезвычайным усилием оторвался от тягостного зрелища, вышел из церкви и стал бродить между памятников; но потрясение, испытанное им, было сильно — мысли его путались, чувствования и воспоминания, возбужденные этою встречею, леденили кровь его, возмущали рассудок; он опустился на свежий дерн скромной безыменной могилы, не замечая, что похороны, для которых пришел он сюда, уже кончились, и люди, участвовавшие в погребении богатого покойника, весело садились в экипажи и уезжали с кладбища. На другой день после этого случая Герасим Фомич, против своего обыкновения, не явился на Смоленское; прошел еще день, потом другой и третий — его нет. Где же он? Что с ним сталось? А! Вот он наконец: по-прежнему безмолвный, одетый в тот же самый малопоношенный и совершенно пристойный костюм, он лежит себе спокойно в новеньком сосновом гробе; на лице его застыла веселая мина, как будто в минуту смерти он рассуждал о чем-нибудь весьма потешном. Стало быть, он умер? Да, умер почему-то, точно так же, как умирают другие; только над гробом его не раздаются ничьи сожаления, и его могила не окружена сонмом сетующих желудков. Это, впрочем, не помешает ему быть забытым так же, как забываются те, которых поминают гастрономическим обедом, как будет забыта эта история, как забудут и нас с вами, о благосклонный читатель!ТЕМНЫЙ ЧЕЛОВЕК Повесть
I
Часу в одиннадцатом ноябрьского утра, человек обыкновенной партикулярной наружности шел по Большой Подъяческой улице, заботливо всматриваясь в ярлычки, мелькавшие в окнах домов. Вьюга крутила в воздухе и бросала ему в лицо хлопья сырого снега. Два или три витязя питейного и золотопромышленного мира, проезжавшие в эту пору мимо его в экипаже, называемом докторскою каретою, изнежив слух свой итальянскими мелодиями, находили некоторое эстетическое удовольствие в диком вое ветра, подобно сибариту-гастроному, который, притупив вкус изысканными яствами французской кухни, обращает своенравный аппетит на несокрушимые блюда суровых и достопочтенных отцов наших. Что касается до этого пешехода, он, по-видимому, неразделял удовольствия упомянутых витязей: несколько нечестивых слов, отрывисто произнесенных им и, несомненно, оскорблявших личность погоды, показывали в нем человека с своими особыми на этот счет понятиями. Наконец, несмотря на погоду, он решительно остановился для чтения вывесок и билетов, которыми были испещрены ворота, окна и стены капитального дома, населенного представителями всех состояний. Первое, что привлекло на себя внимание этого человека, было объявление господина Гоноровича о том, что «в сем доме, у кухмистерши Клеопатры Артемьевны, он, господин Гонорович, имеет жительство», и больше ничего: о главном, о том, что господин Гонорович изобрел знаменитую растительную помаду из булыжного камня, было умолчано с несвойственною людям нашего века скромностию. Прочитав это объявление, человек партикулярной наружности перешел к обширной вывеске, на которой было изображено нечто весьма квадратное и красное, с надписью такого содержания: «Трафим Кренделеф грабы делает идроги атпускает сатвечающим траурам». Рядом с этою вывескою была другая, на которую он также обратил внимание: на ней был намалеван широкою, можно сказать необузданною кистью красивый, в венгерку одетый мужчина — не то благородного, не то обыкновенного человеческого звания — решить трудно: узкий лоб, зеленые, в разные стороны глядевшие глаза, трехъярусный отлично завитый хохол, полные румяные щеки, незаметно сливавшиеся с маленьким игривой формы носом, одинаково подтверждали то и другое предположение. По сторонам этого художественного произведения было написано: «Сдесь пьявки! стригут ибреют! идамские головы убирают! и рашки! цена за стри: 10 ко. с зави: и пабриться 20 ко.». Бросив нетерпеливый взгляд на эту вывеску, партикулярный человек решился, однако ж, продолжать свои наблюдения и, после долгого чтения ярлыков и надписей на различных вывесках, остановился с улыбкою удовольствия пред небольшою черною дощечкою, которая извещала пешеходов и созерцателей Большой Подъяческой улицы о том, чтоII
Вообще появление в доме нового жильца, смотря по действительной или кажущейся важности этой особы, производит более или менее сильное и продолжительное брожение в умах большинства туземных обывателей, доводящихся новому жильцу соседями, и даже вовсе посторонних ему, но только по своей натуре глубоко сочувствующих всему происходящему в тесных пределах их жительства и деятельности. Кто бы он ни был, важный ли барин, занявший бельэтаж в пятнадцать комнат, с конюшнями, сараями, ледниками и прочими угодьями, или горюн какой-нибудь, темный человек, поселившийся где-нибудь «высоко под небесами», в странном помещении, называемом особою комнатою с дровами и прислугою, — он все-таки на некоторое время делается предметом заботливого изучения для людей мыслящих и наблюдательных, и вслед за таким изучением всякое в нем качество, даже все существо его, общественное значение и нравственное достоинство подвергается беспристрастной и решительной оценке. Впрочем, полного, многостороннего разбора удостаиваются только некоторые исключительные лица, остановившие на себе какою-нибудь неожиданною, оригинальною чертою особое внимание упомянутых мыслящих и наблюдательных людей. О большей части новых жильцов, по их многочисленности и нравственному однообразию, после краткого, но деятельного розыска о них, произносится решительный приговор, основанный на общеупотребительном в обыкновенных случаях довода, что от человека такого-то звания или этих примет ничего доброго ожидать нельзя; что люди этого званий или этих примет происходят из Вологодской губернии — так уж тут дело известное, или даже что все такие люди — жиды. Управляющий домом, его тень и правая рука — дворник, и их общая жертва — хозяйка (разумеется, если дело идет о человеке, поселившемся у хозяйки) трактуют нового жильца несколько иначе и решают его репутацию на других началах, как-то: на чистоте его паспорта, на его величании, или просто звании, обозначаемом в паспорте, и преимущественно — на степени исправности его в платеже условленного количества рублей и копеек за квартиру: внимательность или пренебрежение их к своему жильцу зависят от более или менее совершенного и блистательного удовлетворения с его стороны этим трем началам, на которых основано бытие человека. Изучив нового жильца с участием, доходящим иногда до болезненного раздражения мозга, и порешив окончательно, что он за человек такой, какая он птица или какого поля ягода, люди любознательные, или поставленные с ним в отношения, обращают свою проницательность на другие лица, вновь появившиеся откуда-то на их благоусмотрение, и тут уже случается, что жилец, недавно судимый и ценимый в качестве нового жильца, сам начинает судить и ценить всякое человеческое существо, поселившееся в одной с ним сфере. Переезд Корчагина в квартиру Клеопатры Артемьевны произвел особое, исключительное впечатление на всех, к кому только он мог относиться: на дворника, на управляющего домом, на Клеопатру Артемьевну с ее Степанидою, кухаркою, и на всех ее жильцов, которые приходились таким образом естественными сочувствователями, соседями и судьями Корчагину. Только впечатление это было различное: Степанида, например, получившая от Корчагина щелчок и двугривенный при самом переезде его и осведомлении о ее роли в этой квартире, бывшая притом свидетельницею поразительной, дотоле невиданной и неслыханной его уплаты за квартиру вперед за целые три месяца, почувствовала к Корчагину совершенно холопскую боязнь и рассказала о всем происшедшем своему земляку и дворнику Сидору; Сидор, которому Корчагин вручил свой паспорт, для записки в полиции, с присовокуплением полтинника и двусмысленной фразы, поспешил «заявить» управляющему, как о необыкновенном происшествии, что поселился в доме у мадамы кухмистерши больно хороший жилец: заплатил ей вперед за три месяца наличными и вообще смотрит козырем, ни за что бранится, ни за что на водку дает. Управляющий домом, удостоверясь в безукоризненной чистоте паспорта купца Корчагина, немедленно восчувствовал к нему сильное уважение, вспомнил, что Клеопатра Артемьевна сама должна ему, управляющему, за квартиру, и отправился к ней, чтоб осведомиться о ее здоровье, да уж кстати поздравить ее с хорошим жильцом и получить от нее, что следует. Что касается самой Клеопатры Артемьевны и ее старейшего и исправнейшего жильца, Анания Демьяновича, на них Корчагин произвел неприятное, безотчетно тягостное впечатление. Его грубые выходки и даже щедрая плата за квартиру были для них новы, необъяснимы и все как-то озадачивали их, ставили в тупик. Даже казалось им, что он с своим полным бумажником более похож на муромского помещика, проявляющего свое достоинство в древнем городе Муроме, нежели на купца или мещанина, нанимающего маленькую комнату в столичном городе Петербурге, в Большой Подъяческой улице, у женщины и хозяйки благородного звания и в благородном соседстве. Да и приняли они его сначала за какую-то важную особу, тогда как в самом-то деле он то же, что и другие, — темный человек! И переехал он сюда как-то странно, не по-людски, хотя и через полчаса, по обещанию. Он как будто вовсе не переезжал: извозчика никто не видал — сам он своими руками принес в свою новую квартиру вязанку книг и портфель с бумагами, маленький чемодан, узелок какой-то и небольшой самовар. Сомнительно было, но казалось также вероятным, что он всю эту безобразную и тяжелую поклажу принес на себе. По какой новой странности, для чего он сделал это? Почему он не приехал на извозчике? Корчагин, однако ж, вовсе не заботился о свойстве впечатления, произведенного им на хозяйку и соседа. Свалив с себя посреди комнаты все принесенное, он в то же время затворил за собою дверь, в которую уже никто не решался войти; только хозяйка и Ананий Демьянович, не находивший покоя в своем углу, на своем диване, долго слышали стук и возню в комнате Корчагина, из чего и заключили, что он устраивается. С самого утра, когда совершился этот странный переезд, до четырех часов пополудни Корчагин все возился в своей комнате: слышно было, что он передвигал мебель, которая сильно трещала от бесцеремонного с нею обхождения; что книги, вероятно во время расстановки их, падали на пол; раза три даже самовар, дребезжа, катался по полу. Изредка слух Анания Демьяновича был поражен отрывистыми фразами Корчагина, доказывавшими присутствие в нем ясного сознания, что он здесь сам у себя, дома, а не в гостях у него, Анания Демьяновича. Наконец, возня утихла, и в то же время в комнате Корчагина раздался продолжительный звон колокольчика. Клеопатра Артемьевна поспешила к своему новому жильцу: тот изъявил желание обедать. — Где вы будете кушать? — спросила Клеопатра Артемьевна. — Здесь, или в столовой, вместе с ними? — Какой у вас порядок на этот счет? — спросил Корчагин, после некоторого размышления. — Они всегда вместе обедают, — отвечала Клеопатра Артемьевна, — потому что они простые, добрые люди, — пояснила она с коварным намерением «оборвать» своего надменного жильца, а что он жилец надменный, почему и до какой степени он надменный жилец — в этом Клеопатра Артемьевна была убеждена совершенно. «Теперь-то я раскусила тебя, голубчик мой», — думала она в ожидании от Корчагина решительного ответа, где он изволит кушать. Корчагин, однако, молчал: казалось, ответ и колкое замечание Клеопатры Артемьевны он подвергал строжайшему рассмотрению, и еще казалось, что он избрал наконец место, где ему угодно обедать и потому скоро заговорит. Действительно, он заговорил, только не скоро. — Сегодня, если уже у вас такой порядок, я буду вместе обедать… ну, и всегда, когда мне можно будет иметь это «удовольствие», — произнес он с выразительною расстановкою слов. — Надобно уважать чужие порядки, — пояснил он, вероятно с нравоучительною целью. — Вы напрасно так много заботитесь о моих порядках, — заметила Клеопатра Артемьевна, — для меня все равно, где бы вы ни кушали! — А для меня это не все равно, — сказал Корчагин. — Я научен опытом… — Вы научены опытом! Ах, мой создатель! — воскликнула Клеопатра Артемьевна, всплеснув руками, а впрочем, решительно не понимая, чему это жилец ее научен опытом. — Ну да что ж тут странного или невероятного? — продолжал Корчагин с прежнею выразительною расстановкою слов. — А если так, если, например, смотреть на предметы с другой точки, то можно во всем найти странное или невероятное, а между тем истинное? Дело Клеопатры Артемьевны путалось. Корчагин снова облекся в загадочность и непостижимость, именно через пять минут после того, как Клеопатра Артемьевна «раскусила» его совершенно. Чтоб выпутаться благополучно из этого разговора, она решилась объявить, что вовсе не понимает, о чем это он говорит ей, и что если он говорит все «насчет обеда», то пусть будет, как ему угодно. — Прикажите позвать меня, когда обед будет готов, — произнес Корчагин решительно и ясно. Клеопатра Артемьевна удалилась. При этом разговоре она заметила, что комната жильца ее приняла другой вид: мебель, стоявшая прежде в том самом установленном порядке, в каком она стоит от начала мира во всех «особых» комнатах, отдаваемых внаймы, была переставлена на новые места; письменный стол занимал средину комнаты, и на нем лежали бумаги, портфели, книги и разные вещи вовсе не известного ей значения. Из полуоткрытых ящиков комода выглядывали вещи, не принимаемые ростовщиками ни в какой цене. На диване была разбросана разная рухлядь, а над ним висела географическая карта, закрывавшая всю стену. В простенке между окнами, который самою природою предназначен к помещению зеркала, висел гравированный портрет, только (опять загадочность и непостижимость!) это был портрет не Наполеона, как вообще водится в особых комнатах, это был портрет даже не в мундире — значит, портрет не генерала, как бы следовало быть портрету, повешенному в простенке у человека благонравного… Клеопатра Артемьевна, пораженная этою явною «ни с чем несообразностью», рассудила, однако ж, к некоторому оправданию своего жильца, что, может быть, это портрет полного генерала, только американского и совершенно статского; следовательно, и ничего, и еще не беда. Между тем в комнате, бывшей гостиною, столовою и трибуналом Клеопатры Артемьевны, собрались в ожидании обеда все отсутствовавшие жильцы ее. Первый явился из какой-то своей должности по бумажной части мещанин Калачов, Александр Владимирович, сосед Анания Демьяновича по углу, во многих отношениях очень приятный холостой мужчина, и в некоторой степени любезный собеседник, лет, может быть, тридцати, не больше. Мать-натура наделила мещанина Калачова высоким ростом, стальными мускулами и соответственным органом голоса, но житейские обстоятельства так тяжко налегли было на него, что он, при всей своей энергии и физической силе, не выдержал и покосился в одну сторону всею своею фигурою, правда, не очень, но все-таки покосился заметно и неблаговидно. По этой причине в отношении приятной наружности мещанин Калачов не мог выдержать сравнения с своим соседом и приятелем Ананием Демьяновичем; в этом отношении он много терял в присутствии Анания Демьяновича и других жильцов; зато, впрочем, и много выигрывал он пред ними своею нравственною стороною: он был речист и боек до грубости, был предупредителен и услужлив до низости; любил он поговорить обо всем, особливо о предметах непустозвонных — о фортуне, о рублях и Наполеоне, о котором читал нечто весьма обстоятельное; но здесь требовалось к нему некоторое снисхождение: затеяв разговор, он скоро запутывал его до крайности, сбивался с толку и вдруг умолкал, почувствовав, что молчание и скромность суть признаки благонравия. Потом пришел другой сосед Анания Демьяновича, Станислав Осипович Гонорович, человек молодой, но уже прославленный изобретенною им растительною помадою. Господин Гонорович постоянно был занят своими делами и не любил толковать о Наполеоне, предпочитая ему небольшие сюжеты из вседневной практической жизни. Господин Гонорович лет за десять до этого времени пришел в Петербург из Витебской губернии, чтоб отыскать какое-то свое право, без вести пропавшее, и долго отыскивал его в Петербурге во всех известных передних, приемных и кабинетах, по всем улицам и переулкам, обнищал, поглупел, в особенности «прохарчився», как бобыль бездомный, и пропал бы совсем, если б не отыскал, наконец, в Загибенином переулке, пана Скржебницького. Пан Скржебницький, как доброжелательный земляк, растолковал ему, что не такое дело нужно человеку, а нужны рубли. Господин Гонорович, восчувствовав истину этого замечания, занялся изобретением растительной помады и напечатал в ведомостях объявление, что единственные дело сего благодетельного изобретения находятся в Петербурге, Париже, Бальтиморе и Пекине. Кроме производства помады, господин Гонорович занимался отыскиванием покупщиков на домы, наемщиков больших квартир, и в особенности людей, меняющих деревню в степной губернии на дом в Мещанской улице, с придачею кареты малоподержанной. Также с немалым успехом посвящал он молодых своих земляков в таинства русского языка, в глубины математики и всего, в чем должен был какой-нибудь дрогичинский паныч выдержать приемный экзамен в петербургском учебном заведении. Нельзя сказать, чтоб господин Гонорович был так же силен в русской грамоте и математике, как в приготовлении помады или в продаже кареты, — ну, да уж заодно. От долгой практики на обширном поприще практической жизни Станислав Осипович достиг такого благосостояния, что начинал уже поговаривать, будто имеет решительное намерение переменить свой угол на особую комнату. Третий жилец, появившийся в столовой комнате, был Петр Максимович Сладкопевов-Канарейкин, жилец почетный в глазах всякой хозяйки и в глазах угловых обыкновенных жильцов, занимающий особую комнату, исправный плательщик в первые числа и вполне порядочный человек. Господин Сладкопевов был действительным членом многочисленной компании так называемых усовершенствованных танцевальщиков и потому обходился запанибрата со всякого рода витязями, встречаемыми в танцклассах. Он служил чем-то очень замечательным и важным по винной части. Служащие по винной части вообще отличаются тем, что имеют сладкий, вкрадчивый голос и глаза блестящие, масленые, источающие электричество. В Петре Максимовиче сосредоточивались все красоты и достоинства винного человека: он был еще молод, даже, по грубому выражению мещанина Калачова, молокосос и мальчишка, а делал уже в своей винной части такую штуку, какой не делали другие жильцы Клеопатры Артемьевны: делал он свою «карьеру». Никто из винных людей не мог так сладко прищуривать глазки и говорить так протяжно, так приятно картавя, как Петр Максимович. За обедом у Клеопатры Артемьевны он решительно первенствовал в разговоре, уничтожая Анания Демьяновича с его природною робостью, дажеречистого мещанина Калачова и лаконического господина Гоноровича, превосходя и удивляя всех многосторонностью своих познаний, своею образованностью, необыкновенною в его молодые лета начитанностью и в особенности знаменитым лоском светскости и хорошего тона, которым блистал разговор его. Тут же, в президентских креслах Клеопатры Артемьевны, сидела с шитьем в руках единственная ее жилица, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна была, как говорили, гувернанткою в каком-то значительном доме, а здесь, у Клеопатры Артемьевны, поселилась она недавно и занимала маленькую комнатку, которая сильно тревожила любопытство господ Сладкопевова, Гоноровича и других жильцов и в которую, однако ж, имели доступ только сама Клеопатра Артемьевна да ее Степанида. Никто не заметил, чтоб Наталья Ивановна выходила со двора — обстоятельство весьма удивительное для ее соседей: не заметили так же, чтоб и к ней кто-нибудь приходил. Жильцы редко встречали Наталью Ивановну, но когда встречали, все они, не исключая мещанина Калачова, соперничали один перед другим во внимательности к ней, по мере сил и уменья каждого, хотя, к глубокому их сожалению, она казалась вовсе не чувствительною к их преданности. Господин Сладкопевов, по собственному сознанию изящнейший из всех жильцов Клеопатры Артемьевны, предлагал ей какие-то свои услуги, даже говорил, что он «за счастие почтет» и проч., и вообще расточал перед ней сокровища своей неисчерпаемой любезности. Господин Гонорович тоже вызывался служить ей, чем только может, особливо по своей профессии изобретателя и комиссионера. Мещанин Калачов не отваживался ни на какую гласную любезность, потому что чувствовал к себе в этом отношении некоторую недоверчивость, и вообще при встрече с нею находил полезнейшим «соблюдать скромность и приличие» — драгоценные качества, которыми отличаются исключительно порядочные, благовоспитанные молодые люди; решившись принять в отношении к Наталье Ивановне эту спасительную меру, он, так уж заодно, из беспредельного уважения к ней, стал являться к обеду не иначе, как в своем синем фраке, с бронзовыми, вызолоченными пуговицами, а прежде имел обычай кушать в халате, не стесняясь присутствием посторонних особ. В синем фраке, он, по собственному о себе замечанию и по мнению людей сведущих и благоразумных, удивительно был похож на англичанина вообще и в особенности на того англичанина, которого встречал он на бирже, краснощекого и рыжего. Несмотря, однако ж, на такое лестное сходство своей особы с каким-нибудь английским милордом Георгом Марцимерисом и Пилем, скромный Калачов Александр Владимирович чувствовал необыкновенное смущение и замешательство, когда встречался с Натальею Ивановною, особенно, если имел счастливый случай поговорить с нею; в таком счастливом случае он прежде всего кланялся Наталье Ивановне, то есть покачивался на свою слабую сторону, на ту самую, на которую когда-то покачнули его житейские обстоятельства, потом опускал глаза и высматривал на носке своего сапога приятный сюжет для разговора; потом вдруг, ругнув себя во глубине души за недостаток светскости, начинал говорить и говорил очень шибко, умно и серьезно, пока не убеждался совершенно, что заврался безвыходно, что выбился с конфузом из своего «сюжета». Убедившись в этой неприятности, он вдруг, по своей привычке, умолкал и, откачнувшись в свой угол, принимался поить чаем Анания Демьяновича и вымещать на своем соседе неудачу в разговоре с соседкою. Точно такую неудачу испытал злосчастный Калачов и теперь, в ту самую минуту, когда в столовую входил Ананий Демьянович. Он рассказывал Наталье Ивановне что-то весьма интересное о новом жильце, которого, впрочем, еще не видал. Наталья Ивановна слушала его с полным внимание, изредка отрывая глаза от своей работы и пугливо смотря на него, когда он начинал заговариваться. Эта внимательность и повредила ему; быстро мелькнула в уме его скептическая мысль: «А что, если я опять что-нибудь да не так? а?» Только что ум его был озарен этою мыслью, язык понес уже свою привычную «околесную», заговорил шибко и до крайности хорошо, потом посыпал неуловимою скороговоркою, мелкою дробью и вдруг остановился; вслед за тем вся особа Калачова двинулась в спасительную ретираду, откачнувшись от кресел Натальи Ивановны на своего за все отвечающего соседа и приятеля Анания Демьяновича. Ананий Демьянович тоже, подобно мещанину Калачову, заменил свой обычный домашний костюм другим, более пристойным и гостиным; даже заметно было в нем благородное усилие сообщить своей наружности несравненно больше приятности, нежели сколько дала ему сама природа, произведшая его, надобно сознаться, с особенною скупостью. Отправившись после столкновения с особою Калачова, Ананий Демьянович поспешил сообщить своим соседям известие о появлении в квартире Клеопатры Артемьевны нового жильца и о том, что новый жилец заплатил «разом» за три месяца. Но соседи уже знали, что подле них поселился какой-то весьма неожиданный, странный и хороший жилец, и рассуждали о нем. Какая-то молва, смутная, безотчетная, неизвестно откуда и кем пущенная, уже предупредила Анания Демьяновича в отношении самой сущности принесенного им известия; от него ожидались только пояснения, дополнения, подробности, его личное воззрение на это обстоятельство, его понятие о новом жильце — этого, однако, Ананий Демьянович и не мог сообщить: он один из всех жильцов Клеопатры Артемьевны не дозволял себе никаких гласных замечаний и суждений насчет посторонних ему людей. Был в его жизни, даже в этой самой квартире, один случай, что он сильно промахнулся в своем суждении о таком же жильце, как этот Корчагин. Этот промах свинцовою тяжестью налег на его душу, тревожил его робкую совесть и никогда не мог исчезнуть из его памяти. Часто, сидя за своим самоваром, отогретый и самодовольный, он вспоминал свою ошибку; между тем самовар его своею унылою песнею как будто пророчил ему в будущем страшное возмездие. Вот почему он боялся высказать свое мнение о Корчагине. «А ну, как я опять наделаю беды с моим суждением, как в ту пору?..» — и он умолкал с полным сознанием своего неуменья понимать людей. Кроме этого случая, оставшегося на совести Анания Демьяновича, его опытность, долгая, сорокалетняя, добытая существованием в мрачных сферах практической жизни, привела его к тому умному заключению, что нет человека такого ничтожного и бессильного, который бы не мог сделать ему зла, повредить ему, охаять его вдруг, неожиданно. Его боязливость и робость, доставшиеся ему вместе с маленькою пенсиею от всего тяжкого прошедшего, сковывали язык его на всякое праздное слово о своем ближнем, даже на самое невинное злоречие, хотя бы насчет происхождения этого ближнего из известной всему свету губернии. Все, однако ж, настоятельно требовали от Анания Демьяновича немедленных, точных и даже любопытных подробностей о человеке, сделавшемся их соседом. — Ананий Демьянович! Позвольте на минуточку, Ананий Демьянович! Ананий Демьянович еще меньше чем в минуточку придал себе почти сверхъестественную благовидность, запустил правую руку в волоса — очень жидкое и тощее украшение своей головы, и так как левая рука оставалась незанятою, праздною и болталась, то он употребил ее в дело — на поддержание пуговицы у сюртука, которая, впрочем, к чести Апраксина двора, вовсе не требовала поддержания. В таком приятно развязном виде, дающем хорошее понятие относительно его светскости и любезности, он отозвался несколько взволнованным голосом на призыв Натальи Ивановны. — Скажите, Ананий Демьянович, каков этот новый жилец — как вам кажется? — спросила Наталья Ивановна, не спуская глаз с своей работы. — Да-с! комнату рядом с вашею нанял, Наталья Ивановна. Странный человек… он показался мне странным человеком. — А что он… вы не знаете, что он за человек? — Как же! я видел паспорт его, подсолнечной губернии, города безлюдного, негоциант третьей степени… — Негоциант третьей степени, — повторил мещанин Калачов, — значит, нашего поля ягода. Я сам такой же — я с ним познакомлюсь. Очень рад познакомиться с порядочным человеком, а не то чтоб с кем-нибудь. Ну-с, Ананий Демьянович? — Третьей степени, — продолжал Ананий Демьянович. — Петр Андреев, сын Корчагин, тридцати лет; волосы и брови темно-русые, глаза серые, нос и рот умеренные, лицом чист, подбородок круглый. Особые приметы: холост, под судом не был и бороду бреет. — И бороду бреет! — повторил винный человек, сильно вдумываясь в эту особую примету. — Так вы думаете, Ананий Демьянович, — спросила Наталья Ивановна с заметным любопытством, — вы думаете, что этот господин… как вы там его называете… человек беспокойный? — Я! — произнес Ананий Демьянович, встревоженный относимым к нему резким мнением о человеке, вовсе ему не известном. — Я, Наталья Ивановна, извините, вовсе не думаю этого, я не смею и не могу так судить. И вы, господа, — продолжал Ананий Демьянович, обращаясь ко всему своему соседству мужеского пола, с видом испуга и дружеского упрека, — вы, господа, поспешно вывели заключение из моих слов. Вы уж меня извините, но я такой человек, который никого не в состоянии обидеть ни делом, ни словом; я человек маленький и не в свои дела не вмешиваюсь, и судить о другом не сужу, потому что всяк человек грешен и я тоже грешный человек! А вот, господа, не угодно ли насчет этого обстоятельства справиться у самой Клеопатры Артемьевны? Это до нее касается, а не до меня; я тут, господа, жилец, и другие жильцы каждый сам по себе, в своем углу или в своей комнате. Не правда ли, Александр Владимирович? Ананий Демьянович, высказавшись относительно приписываемого ему грешного мнения насчет нового жильца, боязливо посмотрел в глаза мещанину Калачову, ожидая от него торжественного подтверждения истины всего им сказанного, но Калачов был совершенно чужд душевному волнению своего робкого соседа и чувствовал в себе особое расположение помучить его, испытать над ним силу физического и нравственного своего превосходства. — Нагородили вы нам, Ананий Демьянович, всякой чепухи! — отвечал Калачов, дружески трепля по плечу Анания Демьяновича. — Я вам скажу, Ананий Демьянович, что этого добрые люди не делают: благородный человек не должен отпираться от своего слова, а не то и на свежую воду можно вывести благородного человека — вот как! В это время Степанида поставила на стол знакомую всем собеседникам фаянсовую миску с супом, и вслед за Степанидой вошли в столовую Клеопатра Артемьевна и ее новый жилец. Все глаза с любопытством обратились на Корчагина, даже Наталья Ивановна бросила на него быстрый, проницательный взгляд. Клеопатра Артемьевна не замедлила познакомить его со всеми своими жильцами и с Натальею Ивановною. — Очень приятно! Очень рад! — раздалось с обеих сторон, и эти слова сопровождались холодным поклоном с каждой стороны; только мещанин Калачов, по своему обычаю, сильно и как-то странно покачнулся на ту сторону, на которую уже качнули его житейские обстоятельства, и, подавая Корчагину руку, к которой тот едва прикоснулся, заметил: — Калачов, Александр Владимирович — здешний житель — несказанно обяжете… Последняя фраза как-то сама сорвалась с языка его, и он вовсе не знал, чем ее заключить. Смутившись этою неожиданностью, он вдруг откачнулся от Корчагина, указав ему стул возле себя, и произнес: — Вот здесь, не угодно ли? Ананий Демьянович, держась за спинку двух стульев, казалось, прочил их для кого-то. И точно, как только подошла к столу Наталья Ивановна, он улыбнулся ей наилюбезнейшим образом, примолвив скороговоркою: — Здесь, здесь, Наталья Ивановна. Поместив таким образом Наталью Ивановну, подле которой с одной стороны сидела уже Клеопатра Артемьевна, занятая разливанием супа, он приготовился было занять другую сторону; вдруг стул скользнул из его рук, и он с изумлением увидел, что на этой другой стороне сидит уже Корчагин, а возле него господин Сладкопевов. Ананий Демьянович поневоле должен был сесть возле своего приятеля Калачова, на другой стороне стола. — Вы, Ананий Демьянович, как я замечаю, себе на уме! а? Вы человек маленький, в чужие дела вмешиваться не любите, не правда ли? Это замечание высказал Ананью Демьяновичу вполголоса его любезный сосед, Александр Владимирович, он же и мещанин Калачов. Ананий Демьянович посмотрел на него с видом недоумения, потом вдруг покраснел, зашептал что-то и углубился внимательным взором в тарелку. — Я замечаю, соседушка, — продолжал Калачов тем же тоном. — Я замечаю, что губа-то у вас, как говорится, не дура, а человек вы добродетельный и в чужие дела не любите вмешиваться. — Что это вы затеяли, Александр Владимирович! Я, право, не понимаю, о чем вы мне толкуете. Я, кажется, ничего такого… ведь вы, я думаю, знаете меня с хорошей стороны, Александр Владимирович! — отвечал Ананий Демьянович, пристально всматриваясь в свою тарелку с супом. — То-то, сосед! Надобно и бога бояться, и людей стыдиться. Понимаете вы меня? Я говорю, — продолжал Калачов, возвышая свой голос почти до ужасного естественного его объема. — Я говорю, что бога надобно бояться и — лю-дей сты-дить-ся! — заключил он протяжным и полным басом. Ананий Демьянович побагровел и закашлялся. — Я, — снова начал сосед соседу, — я говорю вам деликатными словами, Ананий Демьянович, понимаете ли, я хочу держаться на деликатной ноге, и потому всякое мое мягкое, вежливое слово вы должны понимать, как значит оно на деле, жестко и горько, а не так, как я говорю по своей деликатности; ведь я все вижу, хоть и держусь деликатности… Ананий Демьянович уже начинал синеть, когда, к счастию его, деликатный мещанин Калачов обратил внимание на Наталью Ивановну, хозяйку, господ Сладкопевова и Гоноровича, между которыми шел общий разговор как будто о погоде и дороговизне припасов на Сенной площади. Этот приятный сюжет был не чужд Калачову, и он счел долгом высказать свое самостоятельное мнение, что он не знает, за чем смотрят будочники. Ананий Демьянович тоже почувствовал настоятельную надобность укрыться от исключительного внимания к нему Калачова в общем разговоре, никого лично не касающемся, и заметил, что Александр Владимирович справедливо рассуждает, за чем это смотрят будочники. — О каких будочниках вы говорите? — спросил Корчагин, прерывая разговор с Натальей Ивановною и глядя с насмешливой улыбкою в лицо Ананию Демьяновичу, искаженное гримасою. — Я, — отвечал Ананий Демьянович, — о тех будочниках говорю, о которых Александр Владимирович так хорошо заметил. — Что там я заметил? — возразил недовольный Калачов. — Я вовсе ничего не замечал: я, Петр Андреевич, скажу вам откровенно, что мне с Ананием Демьяновичем беда: вечно свалит на меня всякую там чепуху, какая придет ему в голову. Вы его не слушайте! я совсем в другую сторону сказал: ведь в самом деле, что за важный человек будочник! — Да публике-то, милостивый государь, никто указывать не может, — заметил господин Сладкопевов, обращаясь к Корчагину. — Публика имеет право приходить в восторг, и каждый зритель может, если ему угодно… — Конечно, может, — подтвердил Калачов. — Бросить на сцену венок по своему усмотрению. — А! на сцену! значит, о театре говорят! не наше дело! — рассудил Калачов. — Вы тоже бываете в опере? — спросил господин Сладкопевов у Корчагина, все, по своему обыкновению, картавя и медленно процеживая сквозь зубы каждое слово. — Тоже, если не должен сидеть дома, как сегодня, — отвечал Корчагин. — А знаете ли, что сегодня Фреццолини? Как жаль, что я не могу быть сегодня! Представьте мое положение: утром, только что я собрался идти со двора, вдруг получаю совершенно неожиданно приглашение, от кого бы вы думали: от Астафья Лукича! да! конвертик такой, и надписано его высокоблагородию, гм, ну там и прочее — право, так и надписано, — гм, его высокоблагородию; это, знаете, нынче тон такой в высшем круге! Ну, распечатываю я, читаю: покорнейше просят, гм, сделать честь, гм, по случаю дня рождения… и пр. и пр. Согласитесь, что это довольно снисходительно со стороны человека такого тона, как Астафий Лукич! Не правда ли, господа, ведь вы слышали об Астафье Лукиче? Последовал общий утвердительный ответ. Все старые жильцы, Ананий Демьянович, мещанин Калачов и господин Гонорович почувствовали глубочайшее уважение к господину Сладкопевову, как такому единственному между ними избраннику, которого приглашают даже к Астафью Лукичу. Только новый жилец, подсевший с досадною для них услужливостью к Наталье Ивановне, очевидно вовсе не чувствовал уважения к господину Сладкопевову; посмотрев на него с ироническою улыбкою, он повторил несколько раз, как будто заучивая его фразу: «такого тона», — и вдруг озадачил его и всех собеседников следующим замечанием: — Однако, не придется вам праздновать сегодня у человека такого тона, как Астафий Лукич! Глазки господина Сладкопевова заиграли, засверкали, запрыгали по изумленным лицам соседей. Взоры всех обратились к Корчагину с вопросительным выражением. — Видите ли, — продолжал Корчагин с совершенным равнодушием, — сегодня я посадил Астафья Лукича в тюрьму!III
Вечером этого дня между угловыми жильцами Клеопатры Артемьевны происходил дружественный спор по поводу крайней надобности в немедленном решении важного для всех вопроса: хороший или нехороший, а только богатый человек этот купец Корчагин? Самовар Анания Демьяновича, более известный под именем барона, пел веселую песню — обстоятельство довольно странное, потому что он имел в некотором смысле меланхолический характер и с этой стороны весьма походил на певуна, который, уединившись в углу корчмы, поет о том, чтоIV
История господина Пшеницына, рассказанная мещанином Калачовым купцу Корчагину
Евдоким Пшеницын происходил из благородного звания, от честных родителей, и еще на двадцать пятом году своей жизни вышел в отставку. Вот какой был человек Евдоким Пшеницын! Дело началось с того, что мы с Ананием Демьяновичем и с Гоноровичем жили, как и теперь, втроем, в той же самой комнате, а впрочем, нельзя сказать, чтоб уж сообща, а так, каждый сам по себе: у всякого свой чай (у Анания Демьяновича и самовар свой — так самоваром его пользовались все, точно так же, как и теперь). Мы, то есть я и Гонорович, надобно сказать, занимаемся своим делом и редко бываем дома, а господин Тыквин, Ананий Демьянович, всегда лежит на своем диване, да читает календарь, а не то чай пьет, а не то фамилию свою подписывает на разные манеры, с разными, значит, титулами, какие ему придут в голову (а он знает все на свете титулы), и с разными крючками, а крючки он гнет удивительные, недаром выслуживал где-то свои годы, вот, стало быть, и все его дело, на диване лежать, календарь читать, да перепачкать лист бумаги своею подписью. Не мудрено, что от такого житья иной раз покачнется в сторону драгоценнейший дар природы, то есть, как бишь он, проклятый — еще недавно читал в ведомостях, — ну, да черт с ним, с драгоценнейшим даром; все равно дело-то в том, что не мудрено, я говорю! Вот таким-то порядком жили мы втроем, когда, возвратившись однажды (разумеется я с Гоноровичем, а Ананий Демьянович сидел себе дома), возвратившись однажды вечером домой, мы застали у себя в комнате нового жильца, человека не то молодого, не то старого, бес его знает, по тряпью видно было, что он из тех, знаете… гм! без этого нельзя ж! Добра у него было мало: комодец ветхий и пустой, ширмы, оклеенные старыми газетами, посудинка разная, то же, что и у нас, и уголок свой нанял он за семь с полтиною, так же, как и мы. Поразговорившись с ним, мы осведомились, что он именем, отчеством и прозванием — Евдоким Тимофеевич Пшеницын, ремеслом — горюн, званием — человек божий. В отношении к табаку и чаю оказался вполне порядочным человеком, который к чужому чайнику или кисету не приволакивается, а всякое зелье про свою душу сам себе запасает, не прочь, однако ж, и от того, чтоб угостить соседа; все эти обычаи и порядки он знал хорошо, и потому мы стали уважать его с первого знакомства. После, однако ж, когда Евдоким Пшеницын пожил с нами месяц, другой — мы заметили, что он чудит. Представьте себе, он часто угощал нас своим чаем и табаком, даже иной раз, когда мы с Гоноровичем сидим себе да поглядываем на самовар Анания Демьяновича, спросит, бывало: «А что, господа, не попить ли чайку? У меня, говорит, сегодня славный чаек и табак есть жуковский», — ну и распорядится в ту же минуту, и заговорит такое смешное, что у нас животы надрываются, а сам не улыбнется, точно и не он говорит. А там, как подадут готовый самовар, он и начнет нас угощать и утешит совершенно. Потом, случалось, развернет старый бумажник и станет считать перед нами свои деньги: рубль, два, три, иногда и десять бумажками. Тут он, слово по слову, да и повыспросит у нас всю правду, что третий день сидим без копейки и чайку золотничка не на что купить. А что же вы, говорит, у меня не спросили? И наделит, бывало, нас деньгами, а мы ему, знаете, возвращаем после сполна. Дальше заметили мы, что он у нас ни разу не угощался и денег никогда не спрашивал, а часто видно было, что есть у него на душе большое горе. Бывало, сидит по целым часам, задумавшись, лицо у него станет такое, что страшно смотреть. Но только заговоришь к нему: «Что это с вами, Евдоким Тимофеевич?» — он и встрепенется. «Ничего, говорит, пустяки разные пришли в голову», да и делается по-прежнему веселым и забавным до крайности. Однако ж дальше и дальше, он стал больше задумываться, так что, бывало, и не слышит, когда кликнешь его, иной раз выпучит глаза и смотрит как шальной, ничего не понимая. Все это находило на него чаще в такую пору, когда он оставался один в нашей комнате, когда и Ананий Демьянович выходил со двора, чтоб купить себе чаю (Ананий Демьянович покупает чай оптом, четвертушками). Однажды пришел я из своей должности раньше обыкновенного. Гляжу, что ж? — наш весельчак мало того, что сидит задумавшись, опустив голову на руки, и лицо у него вытянулось и позеленело: так и видно было, что совсем «опустился» человек; он, поверите ли, плакал! Да, не то чтоб рыдал, как баба какая, а так сидит себе, не дышит и ничего не слышит, точно окаменелый, а слезы у него из глаз каплют, каплют… Не знаю почему, но горько мне стало, и тоска охватила меня страшная. Я кинулся к нему: «Евдоким Тимофеич, что это с вами?» Он не шелохнется, а слезы все каплют, и в лице ни кровинки! «Да опамятуйтесь же; не боитесь ли бога?» — закричал я, испугавшись, чтоб не умер человек скоропостижно и не довел нас до беды (у меня же на ту пору ни единой копейки за душою не было и фрачишко этот был в закладе за два с полтиною). Тут как встряхнул я его сердечного, он и опамятовался, пошевельнулся, уставил на меня глаза, подумал, подумал, да и заговорил: «Это я, говорит, зачитался: книга хорошая, говорит, попалась, так я и зачитался» (а книги-то у него в руках вовсе не было). «Очень, говорит, хорошо написано о молодой безалаберной жизни, о том, какие человек имеет блистательные надежды, пока молод и глуп, какие у него затеи и как для него в ту молодую, зеленую пору все нипочем, все трын-трава. А потом, говорит, начинает жить и умнеть человек, и становится умнее самого Наполеона (это уж он сказал просто для смехотворства), и доживает, говорит, до того, что уж не почитает ничего, кроме брюха да копейки». А потом и засмеялся. «Вот мы, говорит, принялись умствовать да философствовать, как немцы, а это вредит пищеварению; притом же мы с вами, Калачов (он всех называл просто по фамилии, ну да господь с ним!), мы, говорит, с вами не философы, а горюны, так послушайте, какую штуку сделал один горюн». Я стал слушать, и он принялся смехотворствовать и рассказал мне, как один больной человек сорок дней и сорок ночей, глядя на порожние бутылки, все терпел — и ничего, а в начале сорок первых суток чуть не умер от тоски, что бутылки — порожние. Он послал было своего лакея (у него был лакей) в погреб, чтоб поверили, а там — возьми да и не поверь. Тогда он, с горя, начал сажать и закупоривать по шестисот шестидесяти шести лиходеев в каждую бутылку и до тех пор любовался их пляскою в бутылках, пока не натешился вволю, да уж заодно и выздоровел… Раз как-то мы с Гоноровичем, возвратившись домой, не нашли Пшеницына. Ананий Демьянович, который, по обычаю, кушал чай и беседовал с своим самоваром, объяснил нам, что Евдоким Тимофеевич ни с того ни с сего вдруг переехал в «особую» комнату, в эту самую, где вы теперь живете, а что касается до цены, так он доплатит хозяйке семнадцать с полтиною наличными. Ну, подумали мы, поправились дела у Евдокима Пшеницына, так Евдоким Пшеницын и знать нас не захочет, а впрочем, и мы-то с своей стороны к вашей милости не приволакиваемся: не угодно, так пусть будет как вам угодно. После того мы редко встречались с Пшеницыным, а когда встречались, то замечали, что глаза у него западали и лицо страшно худело, только бойкость языка нисколько не изменялась: все, бывало, гнет чепуху такую смехотворную; а спросишь, бывало: «Как ваше здоровье, Евдоким Тимофеич?» «Что, — говорит он, — за здоровье: дело известное, у нас здоровье слоновое; ведь наш брат умирает не от простуды какой, а так, по своему, говорит, благоусмотрению. Темный человек, говорит, живуч, как кошка! Только нечего делать ему, говорит, с своею живучестью! Вот что!» — говорит, да и ввернет, бывало, какое-нибудь острое словцо. Мы так и покатимся со смеху, а он и ничего, у него только жилки на лице вытянутся и глаза засветятся, как у волка. А там и опять он спрячется в своей комнате и целые дни никому не показывается на глаза. Бог его знает, что он там строил такое, только мы стороною от Клеопатры Артемьевны услышали, что дело его не совсем хорошо, что за квартиру не платит уже целый месяц, говорит, что надеется в следующем месяце непременно… Знать, обнищал, сердечный. А все-таки, встречаясь с нами, он дивил нас своею веселостью. Бог его знает, как-таки человеку, который не в состоянии заплатить за квартиру, может прийти охота смешить людей. Такая уж, видно, была у него натура, веселая, бестолковая… Впрочем, как я сказал вам, Пшеницын по целым дням сидел, запершись, в своей комнате, и мы редко встречали его. Наконец он стал выходить куда-то ежедневно, а в квартиру возвращался очень поздно. Входил потихоньку по черной лестнице, через кухню, на цыпочках прокрадывался по коридору и запирался в своей комнате. Слышали, как поворачивался ключ в замке его двери. Это и ничего: каждый жилец может возвращаться домой, когда ему угодно, и запираться в своей комнате хоть на тридевять замков. С этой стороны он вовсе не подозревается относительно того, как бишь оно, еще всюду о нем толкуют и в книгах пишут… да, вспомнил — благонамеренность… относительно своей благонамеренности, но стали замечать за ним другое: вскоре после того, что он запирал свою комнату, в ней поднимался странный шум, топот и стук необъяснимый, трудно было понять, что там такое. Хозяйка наконец спросила, что у него за возня такая по ночам? Он смутился, замялся в ответе, но отвечал, что не знает, что возни у него нет, а может быть, иной раз мебель переставлял в комнате, так и сочли за возню. Все согласились с этим, однако ни слову не поверили, а, напротив, стали замечать за ним, но не успели ничего заметить, потому что комната его была постоянно заперта. Тут начали появляться разные на его счет подозрения, и всякий подозревал его по крайнему своему уразумению, но всех более подозревал его приятель наш, Ананий Демьянович — не то чтоб по злобе какой, боже сохрани, а так, для собственной безопасности и потому, что человек он был опытный и всякое видел на свете, притом запуган и загнан, в прежнее, знаете, время, до крайности. Он признался однажды Клеопатре Артемьевне, что все боится чего-то, особенно во время возни, которая поднимается по ночам в комнате Пшеницына. Слух о таинственных ночных занятиях соседа нашего, Евдокима Тимофеевича, достиг даже дворника и самого управляющего домом. Управляющий, по своей должности местного блюстителя благочиния, в ту же минуту взял Евдокима Тимофеевича на замечание и распорядился о немедленном приведении темного, запутанного дела в надлежащую ясность. Начали с того, что в отсутствие подозрительного жильца призвали слесаря и, прибрав ключ, отпиравший дверь его комнаты, произвели строгий обзор всему налицо находившемуся имуществу его; но, к крайнему своему изумлению, ничего подозрительного не нашли; потом решились было, но пришли в затруднение насчет того, теперь или после изломать замки в комоде, чтоб удостовериться, нет ли там чего-нибудь, и вдруг заметили, что замков вовсе ломать не нужно, что все ящики комода отперты; это обстоятельство убедило наших ревизоров, что не тут кроется зло, что надобно сначала накрыть самого злодея, а потом уже и зло, в некотором смысле, само собою откроется. Решили выждать удобное время, когда Евдоким Пшеницын, ничего не подозревая, в глубокую ночь займется своим преступным делом, а что дело его преступное, в том не было ни малейшего сомнения; даже после неудачного обзора его комнаты все убедились, что наш приятель на этот счет старый воробей, что он с своей стороны ведет против нас контрмину, как говорится у военных, и что, значит, на всякий случай он принял свои меры. Долго, однако ж, все от управляющего домом до кухарки Степаниды, старались угадать, что за злодей такой наш сосед Пшеницын. Наконец Ананий Демьянович, подумав хорошенько, угадал и, угадав, объявил нам, что Пшеницын по ночам фабрикует бумажки! Тут только у всех нас открылись глаза, и мы ясно увидели, в чем дело. Но дело-то было такое, что в первую минуту мы так и остолбенели, услышав эту новость от Анания Демьяновича. Даже усомнились было сначала; но когда, опамятовавшись от страха, рассудили, что Пшеницын скверный жилец, другой месяц не платит за квартиру, и притом же вспомнив, что он на смех поднимает многое такое, что, знаете, должно быть для каждого благомыслящего человека дорого, мы вполне убедились, что такой человек, как приятель наш и сосед Евдоким Тимофеевич Пшеницын, действительно делает бумажки. Когда перестала бить наслихорадка и мы привыкли немного к тому, что рядом с нами живет преступник и злодей, который может выдать, оговорить и погубить всех нас, мы решились схватить его на деле и представить с поличным куда следует. Долго вечером ждали мы Пшеницына. Все боялись, что смекнет и тягу даст за тридевять земель, ан нет, сердечный, не смекнул и в полночь, по обычаю, воротился домой… С полчаса его вовсе не было слышно в комнате; потом заскрипели двери, плотно затворенные, ключ повернулся и щелкнул в замке, а сердечушки наши и забились. Еще несколько минут было совершенно тихо в комнате Пшеницына. Управляющий, потихоньку разговаривавший с Клеопатрой Артемьевною в нашей комнате, уже хотел было уйти, думая, что все это сущий вздор и ничего будто бы из этого не выйдет… Вдруг он умолк; рука его, подносившая к носу полпорции табаку, остановилась в воздухе, а лицо и вся его фигура как были приспособлены к восприятию наслаждения любимым его зельем, так и застыли. Преступное дело началось. Топ, топ, топ, тррррр… — Господи боже мой! — произнесла Клеопатра Артемьевна, побледневшая и дрожащая от испуга. — За что ж это на меня жильца такого напустили… — Позвольте, позвольте! на это есть свои меры, — проговорил управляющий вполголоса, а сам, бедняжка, тоже дрожал как в лихорадке. Трр… тррр… топ… снова послышалось в комнате Пшеницына. — Да он стену капитальную ломает, разбойник! Он ломится в соседний дом, душегубец! — прошептала хозяйка. — Молчите, Клеопатра Артемьевна, — отвечал управляющий с необыкновенною храбростью, — я сию же минуту… Управляющий хотел было послать немедленно за кем следует, но тут благоразумно рассудил, что медлить было нельзя, что нужно было накрыть злодея Пшеницына. Вооружившись ключом, припасенным для этого случая, он приблизился, в сопровождении Клеопатры Артемьевны и всех нас, жильцов, к дверям, за которыми Пшеницын творил свое преступление, и стал отпирать дверь потихоньку, чтоб она не скрипнула. Рука его дрожала, и сердце билось… Потом управляющий быстро отворил дверь в комнату Пшеницына, а сам в то же мгновение отскочил в сторону, чтоб соблюсти дни живота своего против всяких случайностей. Все прочие тоже кинулись в сторону, и все, однако ж, впились, как в книгах пишется, испуганным взором в мрачную картину преступления Пшеницына. Картина… однако ж, картина, во-первых, была нисколько не мрачна, хотя и освещалась сальным огарком; во-вторых, представляла не страшное преступление, а нечто весьма невинное и сверх того общеполезное: вообразите. Евдоким Тимофеевич, в своем ветхом халатишке, занимался усовершенствованием самого себя в небезызвестной вам… польке! Когда дверь его комнаты отворилась без скрипа, все увидели изумительные и даже в некотором смысле до совершенства достигающие прыжки его по направлению от двери к окнам; когда же он, достигнув стены, обернулся, то как будто обмер, а в самом деле только окаменел, к несчастью своему, на одной ноге, встретясь неожиданно с внимательными глазами всего своего соседства. Зрелище было смехотворное. Таков уж человек был смешной наш сосед Пшеницын! Но мы, доносчики и сыщики, и не думали смеяться. Мы были до крайности сконфужены. — А что вам здесь нужно? — спросил наконец Евдоким Тимофеевич, выпрямившись и став, как следует, на обе ноги. — Мы так: что, дескать, у них там возня такая поднялась, — отвечал управляющий в смущении. — Возня! Что же, я в своей комнате не властен упражняться? — заметил Пшеницын с неудовольствием. — Не то, Евдоким Тимофеевич. Извините. Тут о вас молву распустили неприличную, будто бы вы делаете бумажки. — Я делаю бумажки? — спросил Пшеницын с невыразимым изумлением. — Ну да, — отвечал управляющий. — Видите ли: вы себя дурно рекомендовали тем, что не платите за квартиру; вот и решили все… — Что я делаю бумажки? — Ах, создатель мой, создатель! — закричал вдруг управляющий, всплеснув руками. — Ведь мы все до единого — дураки! Как же это нам в голову не пришло, что если б он делал бумажки, так у него было бы чем заплатить за квартиру! Мы все тоже ахнули, когда взяли в толк все дело. Но так как небылицу эту выдумал Ананий Демьянович, то мы и хотели тут же напуститься на него; но он уже скрылся в свой угол, спрятался под одеяло и прикинулся спящим. Вот какой человек этот Ананий Демьянович. Вы его остерегитесь. Ведь он и на вас может взвести что-нибудь. Ведь у них с самоваром заодно! — А что сталось с Пшеницыным? — спросил Корчагин, слушавший мещанина Калачова с такою строгою внимательностью, которая даже тяготила рассказчика. — Да что! горько и вспомнить-то, — отвечал Калачов. — Ведь вышло, что человек прикидывался только, и прикидывался не из чего другого, как из амбиции, когда тешил и смешил нас. После мы узнали, что он был человек умный, ученый и до крайности бедный. На шее у него было человек десять родни, которая жила в провинции и питалась его трудами. Он, знаете, был учителем — давал уроки по разным домам. Было у него хорошее время, было и худое. Под конец пошло кряду одно худое. По каким-то там интригам он потерял все хорошие уроки, так что ему остались только какие-нибудь — ими-то он и жил, когда жил с нами. Потом, когда он занял особую комнату, и остальные какие-нибудь уроки у него были отняты. Тут ему и плохо пришлось, сердечному. По целым дням, бывало, сиживал он, как говорится, на постной пище. Вот что с ним случилось, а мы ничего и не заметили: ведь смехотвор был человек. Только потому, что за квартиру перестал платить, нам следовало бы догадаться, что он терпит такое… и если б не Ананий Демьяныч, с своим самоваром, то мы таки и пришли бы к такому заключению и помогли бы ему посильно, помня прежние его одолжения. А от самого ведь ни слова одного не слыхали, что вот, мол, господа, сегодня я в таких-то и таких сквернейших обстоятельствах, — нет, иной раз завернет, бывало, к нам, сядет с нами у самовара, поблагодарит, когда ему предложишь чашечку чайку, и откажется от чашечки, да и начнет свое смехотворство, только, знаете, сам — ни за что, как будто и не он — такой был странный человек!.. Потом достал он какие-то уроки у апраксинского негоцианта. Негоциант давал своей дочери модное воспитание — так и нанял его в учители французского языка и танцевания (из экономии, чтоб не тратиться на двух учителей); танцевать-то он, сердечный, конечно, умел — только не всякое танцевал, модных там полек и прочего не танцевал; однако ж, когда пришлось, знаете, потерпеть кое-что, так он взялся и танцевать. Вот он и нашел себе, сердечный, какого-то, тоже голодного, учителя, который давал ему дешевые уроки в своем деле, раз в неделю, а он, взяв один урок, упражнялся у себя дома каждый вечер, потому что днем некогда было. Вот почему и возня была у него по ночам; а мы, спасибо Ананию Демьяновичу, в дураки попали перед ним. Он очень смешно сам рассказал нам все дело о своем танцевании: нужда, говорит, скачет и пляшет и песенки поет; на Анания Демьяновича вовсе не сердился, даже угостил его чаем, когда получил от апраксинского негоцианта плату за свои уроки. Тут он честным образом разделался с хозяйкою и нас всех распотешил так, что мы чуть не умерли со смеху. Это случилось в то время, когда он угощал нас чаем, а потом вдруг, схватив шляпу и шинель, стал прощаться с нами: «Прощайте, господа, вспоминайте иногда обо мне, а то — хоть и не вспоминайте». «Что это значит? — спросили мы. — Куда же вы?» «Я, говорит, далеко, а впрочем, и не очень далеко, не выходя из пределов Третьей части. Прощайте; мне пора, я, говорит, и так уж чересчур долго…» Он еще что-то сказал, но мы слов его не расслышали. Он произнес их очень тихо, выходя из комнаты. Когда он ушел от нас, мы приказали Степаниде долить водою самовар, и опять принялись пить чай, и стали хвалить Пшеницына и удивляться тому, что он удивительно веселый человек, и так в беседе просидели даже за полночь, а Пшеницын все еще не возвращался. Мы легли спать и на другой день, проснувшись, узнали, что он не приходил. Еще прождали целый день — его нет. Тут беспокойство стало одолевать нас. Клеопатра Артемьевна отправилась в часть заявить, что пропал жилец, представила паспорт его и рассказала приметы. Оказалось… можете представить, какой чудак был — оказалось, что прямо от нас, прямо от своего смехотворства отправился бог знает куда и… пропал без вести, сердечный; носились слухи, будто утопился — господь его ведает!V
Часу в двенадцатом ночи мещанин Калачов возвратился наконец к своим соседям, господам Тыквину и Гоноровичу, которые ожидали его с живейшим нетерпением и со всевозможными предположениями насчет всего, даже насчет его «неизвестной участи». Когда он явился, молчаливый и румяный, когда, постояв с минуту среди комнаты, закурил свою настоящую сигару и стал еще молчаливее и румянее — соседи, глядевшие на него с любопытством, участием и некоторым опасением за самих себя, не выдержали более и спросили в один голос: «Ну, что?» Вместо ответа, мещанин Калачов стал таинственно молчалив и румян до крайности. В таком положении он находил себя еще более похожим на известного «неизвестного» англичанина, встречаемого им на бирже. Соседи между тем смотрели на него так внимательно, что он, во избежание могущей приключиться с ним слабости характера и доброты души, в предупреждение несчастия лишиться сходства с упомянутым англичанином, решился закутаться в совершенную непроницаемость для острых глаз своих соседей и в то же время пустил в них густую струю едкого дыма своей гаванской сигары. — Ну уж это из рук вон, Александр Владимирович! — заметил Ананий Демьянович с несвойственною ему досадою. — Что вы дразните нас, что ли, или язык у вас не поворотится, чтоб отвечать нам? Это замечание навело Александра Владимировича на мысль, что, в самом деле, после заданного ему Корчагиным угощения, язык может не повернуться. Он попробовал удостовериться и произнес явственно: «Повер-нется!» — и потом, подумав немного, пояснил: «Если захо-хочет!» — Ну так говорите же, что вы там?.. Ведь это до всех касается, — сказал Ананий Демьянович. — Что? он занимается «предприятиями»? — в то же время спросил господин Гонорович. Мещанин Калачов, посмотрев на обоих соседей с строжайшей таинственностью, убедился, что настало для него время, а какое время — в том уж он не имел надобности убеждаться. — Вы просто непостижимый человек, Александр Владимирович, — продолжал Ананий Демьянович. — Э, еще бы! — воскликнул Калачов в порыве радости за успех своей непостижимости. Потом, весь проникнувшись известною строжайшею таинственностию, еще плотнее закутавшись в совершенную непроницаемость, он обратился к своим соседям с такою речью: — Так я же вам скажу, господа: вам, Ананий Демьянович, и вам, Станислав Осипыч! Тут он снова умолк и, казалось, решился «ничего не открывать» своим соседям, которые, с своей стороны, были окончательно убеждены, что он «играет роль» — уклоняется от правды и вообще вошел в стачку с купцом Корчагиным. — Я вам скажу, господа, — продолжал Калачов после долгого размышления. — Вы меня знаете? — Знаем, — отвечали соседи в недоумении. — Ну, так я вам скажу, что вы меня решительно не знаете! Соседи глядели на него, ничего не понимая. Ясным для них было только то, что Калачов с Корчагиным заодно. — Я, по правде, господа, — снова заговорил Калачов с непроницаемейшею таинственностью. — Англичане… вы, может быть, слышали об англичанах? Они делают английские карандаши — и здесь встречаются на бирже, а? — Что ж эти англичане, Александр Владимирыч? — спросил Ананий Демьянович самым ласковым тоном, думая хоть этим расположить Калачова к некоторой ясности в разговоре. — Они, кажется, умный народ? Как это будет по-вашему? — Умный, умный! — подтвердили соседи. — Они же и Индию покорили. Здесь есть от них посланник. — То-то! А знаете ли, чем отличаются англичане от других, например, от нашего брата? Тем, что они делают свое дело, а говорить не говорят, болтать не болтают; посмотрите вы на них: ножички, машины, корица — все идет от них! Вот почему они умные люди! — А что ж вы нам про того, про соседа ничего не скажете? — заметил Гонорович. — Чем он занимается? — Кажется, я вам довольно ясный рассказал пример. — Какой же это пример? Вы говорили нам об англичанах. Ну и хорошо! Вы всегда хорошо говорите! Расскажите же нам что-нибудь и насчет нового жильца, Корчагина, — ведь вы с ним сошлись, кажется? — Это другое дело! — произнес Калачов таинственно. — Ну, что же? Что он за человек? Он выдает себя за темного человека, да в каком это смысле он темный человек? Ведь и мы с вами, в укорительном и унизительном смысле, темные люди — все бедняки и горюны, темные люди. А он — этот купец, с толстым бумажником — какой он, в самом деле, темный человек? — разве только потому, что не имеет благородного звания? — Я вам говорил об англичанах! — Убирайтесь же вы с вашими англичанами! И мещанин Калачов, снова проникнувшись своею таинственностью, отправился, то есть откачнулся от соседей в свой родной угол и скрылся от зорких глаз Анания Демьяновича и господина Гоноровича за двойною оградой бедных ширм и великолепной непроницаемости. Свечи погасли во всех особых и общих комнатах Клеопатры Артемьевны. Все решились спать, но иных и во сне тревожила загадочность темного человека. Ананий Демьянович, по свойственной ему наблюдательности, заметил, что «дело» это нечисто и вообще новый жилец и купец позволяет себе слишком много для человека его звания. Что, если Калачов успеет сойтись с ним и они вместе затеют что-нибудь против его личной безопасности, чему в его истории были многие примеры? Господин Гонорович, с своей стороны и в своем углу, был убежден, что Калачов вошел в сделку с Корчагиным на какое-нибудь «предприятие», к несомненному подрыву и всяческому ущербу самых законных интересов его, господина Гоноровича, изобретателя помады из булыжного камня, испытанного комиссионера и посредника при купле и продаже всякого петербургского хлама, будущего наемщика «особой» комнаты. Господин Гонорович мучился неизвестностью, на какую из его профессий решились напасть Калачов и Корчагин? Что они там предприняли, коварнейшие и таинственнейшие из жильцов и соседей? В особой комнате господина Сладкопевова также было не совсем спокойно. Господин Сладкопевов тоже трудился над разрешением вопроса, что за человек этот купец Корчагин. Особенно сбивал его с толку неуважительный поступок Корчагина с такою важною персоною, как Астафий Лукич. Он даже не мог верить, пока не навел точную справку в квартире Астафия Лукича, что их… изволят быть не у себя, среди толстых и важных сочувствователей, а в некотором учреждении, приличном только для людей низкого звания или для черни. Это обстоятельство убедило господина Сладкопевова только в одной истине — что Корчагин должен быть опасный человек. А если принять в соображение другое обстоятельство, что он уже успел познакомиться с соседкою, Натальею Ивановною, и говорил с нею таким тоном, как будто принадлежал, по крайней мере, к братству усовершенствованных танцевальщиков, то не останется ни малейшего сомнения и в том, что он вредный человек. Мещанин Калачов лежит себе тоже за своими ширмами, одолеваемый душевною тревогою. Решившись походить на известного англичанина, он так проникся таинственностью, что наконец сам для себя стал загадочным и непостижимым. Ужас пронимал его, когда он приходил к «умозаключению», что у них теперь с Корчагиным все, слава богу, заодно; чтобы там после ни случилось — нужды нет: они по гроб свой связаны узами дружбы и непроницаемости и обеспечены со стороны предательства и подрыва совершеннейшею таинственностью, точно китайскою стеною. Он с нетерпением стал ожидать утра, чтоб сходить к своему новому приятелю для окончательного устройства общей их участи, чтоб так уж навеки остаться непостижимыми для всего соседства, а если можно, то и там прослыть загадочным в бумажной части! «Экий дьявол этот Корчагин! — подумал мещанин Калачов. — Надобно отдать ему справедливость — молодец! Да, не познакомься я с ним коротко, я никак не успел бы проникнуть его! А что бишь он, в самом деле?» Тут Калачов, к немалому своему изумлению, вспомнил, что он вовсе не проник своего таинственного соседа, а тот… ну, тот его, кажется, с своей стороны — проник, разбойник! А купец Корчагин? Купец Корчагин — ничего! С следующего дня жильцы Клеопатры Артемьевны, в том числе и мещанин Калачов, вовсе потеряли его из вида. Он уходил куда-то с утра и возвращался в свою особую комнату поздно вечером, так что никто его не видал, кроме неизбежных досмотрщиков, кухарки Степаниды и дворника Сидора. Клеопатра Артемьевна изумлялась в особенности важному обстоятельству, что Корчагин не приходил даже к обеду, за который заплатил ей наличными вперед. Мещанин Калачов, к довершению своего сходства с англичанином, присовокупил к своим несомненным добродетелям еще одну — именно твердость характера, которою, сколько было ему известно, отличаются англичане. После этого не оставалось ни малейшего препятствия к заключению между им и купцом Корчагиным вечного союза для соблюдения взаимной таинственности; но сколько он ни толкался в дверь своего загадочного приятеля, всегда находил ее запертою и всегда получал от Степаниды один ответ, что ушли давеча ранехонько, а намедни пришли поздненько и гривенник дали. Наконец, решился он благоразумно предоставить свое дело на волю судьбы и терпеливо ожидать, чем все это кончится. Однако ж, рассудив хорошенько о том впечатлении, которое произвел он на Корчагина в достопамятный вечер, о том дружественном приеме, который сделал ему Корчагин и в особенности о настоящем роме и действительных сигарах, он пришел к тому умозаключению, что купец надул его, посмеялся над ним: сначала обласкал его, угостил, так, по прихоти, свойственной человеку богатому и не-а-бразо-ван-ному, не знающему светских приличий — а потом уж и знать его не хочет. Вследствие этого умозаключения, мещанин Калачов оставил свое прежнее намерение выжидать, чем все это кончится, а прямо рассердился на Корчагина, насказал ему заочно тысячу любезностей и объявил ему, во глубине своей души, что после того неизвестно, кто из них мужик необразованный, с которым порядочному человеку неприлично водиться. К довершению неприятности своего положения, он почувствовал, что слишком торопливо и неловко закутался в строжайшую таинственность перед своими соседями, заметил, что его непроницаемость сквозит и соседи начинают догадываться, предполагать и даже ясно видеть, что под нею, под этою непроницаемостью — нет ничего, ни малейшей таинственности, кроме его самого, обыкновенного и до крайности решительного мещанина Калачова. Прошла неделя, и все интересовавшиеся личностью Корчагина, даже те, которые имели его на замечании, начинали забывать его или привыкать к его «странному поведению», когда Калачов, не перестававший осведомляться, дома ли он, узнал, что дома, другой день сряду никуда не выходит и все пишет какие-то бумаги. Мещанин Калачов, уже отчаявшийся встретиться в сей скоротечной жизни с загадочным Корчагиным и потерпевший от значительной утраты своей таинственности в глазах своих соседей, снова почувствовал себя самодовольным и непроницаемым. День был праздничный, и все жильцы Клеопатры Артемьевны, кроме Корчагина, в ожидании обеда, вели разумную беседу о том, что наступили времена удивительные… Этот сюжет принадлежал, собственно, Ананию Демьяновичу, который натерпелся в свою долголетнюю житейскую практику всяких бед и напастей, бывал во всяких так называемых «переделках» и потому считал себя опытнее и предусмотрительнее всех своих соседей. Господин Сладкопевов, делавший свою карьеру, не разделял мнения Анания Демьяновича о жильцах и временах. Господин Гонорович утверждал даже, напротив, что времена могут быть еще удивительнее, когда человечеству понадобится значительное количество растительной помады. Мещанин Калачов, с своей стороны, находил, что теперь именно кстати ему войти в приятельские отношения с купцом Корчагиным, чтобы уже на все остальные дни живота своего быть таинственным — значит, ни в чем не уступить ни известному англичанину, ни самому загадочному Корчагину. Разговор о временах и жильцах возбудил Калачова к немедленному дополнению своего знакомства с Корчагиным. Он намекнул своим собеседникам, что вот есть прекрасный пример — сосед купец Корчагин, не глухонемой и, как видно, не с пустой головой, а между тем именно такой человек, каким следует быть темному человеку. Его на слове не поймаешь, скорей сам поймаешься ему, а он не глухонемой!VI
На другой день, часов в десять утра, только что Ананий Демьянович расположился в своем углу по-хозяйски, за самоваром, к нему вбежала Клеопатра Артемьевна, вбежала, как резвая девочка, вострушка и шалунья, к своей пестунье и няне, а вовсе не так, как вбегает хозяйка, пожилая и достаточно опытная дама, к своему жильцу, тоже пожившему на свете. Ананий Демьянович не успел принять на своем диване установленное положение, как хозяйка с непостижимою резвостью, необъяснимым ребячеством, поднесла к его носу маленький хрустальный флакончик. — Что это вам вздумалось, Клеопатра Артемьевна? — спросил Ананий Демьянович, приходя в крайнее замешательство от неожиданной и даже вовсе неприличной резвости своей хозяйки. — Это, Ананий Демьяныч, духи… да вы, я вижу, в них толку не знаете! — отвечала Клеопатра Артемьевна с заметною досадою. — Я вам, как доброму человеку… — Да что ж я, Клеопатра Артемьевна… Я к тому и клоню, что, мол, прекрасный флакончик, и хоть закупорен, а все-таки ощутительно… Очень, Клеопатра Артемьевна? А что стоит? — Вы, Ананий Демьянович, деревянный человек — извините меня за правду! Разве тут спрашивают о цене? Конечно, я женщина бедная, живу тем, что служу вот — таким, как вы… а все-таки у меня есть сердце! Ананий Демьянович стал в тупик. Видел он, что хозяйка его обиделась из-за флакончика, да еще из-за сердца, и в то же время был убежден, что не оскорбил ни флакончика, ни сердца. — Я все к тому, Клеопатра Артемьевна: флакончик прекрасный, а о цене я спросил по недоразумению… ведь я готов присягнуть, не знаю толку ни в чем этом, уверен только в доброте вашего сердца! — Если уверены, так зачем и спрашивать о цене, Ананий Демьяныч! Вы, я знаю, человек добрый — только бедности не понимаете, — продолжала Клеопатра Артемьевна жалобным тоном. — Нет, с позволенья вашего, я понимаю бедность! — возразил Ананий Демьянович. — А если понимаете, так не смейтесь, что я для такого случая купила дешевую, грошовую вещицу! Я, Ананий Демьянович, купила ее по своему состоянию, да еще… по любви! — По любви! Так вы давно бы сказали, Клеопатра Артемьевна, что купили по любви! Я и не посмел бы спрашивать о прочем. А для кого ж это, Клеопатра Артемьевна? — Для нее, для дочки! Ведь она у меня — дочка! А завтра у нее, знаете, именины… Это она мне открыла по секрету, что вот, говорит, день выйдет тягостный (она, бедняжка, натерпелась больше нашего), так я и приготовила ей сюрприз — по состоянию… — Это вы о Наталье Ивановне говорите? — спросил Ананий Демьяныч. — Конечно, об ней! Ах, если б вы видели, какую вазу купил наш нелюдим, Корчагин, тоже для нее: просил меня, чтоб я завтра утром, рано-рано потихоньку поставила ее на окне у Натальи Ивановны. Настоящая ваза, уверяю вас, может быть, стоит рублей двести. А цветы? «Эге! так здесь уж дело идет таким порядком! — подумал Ананий Демьянович, когда Клеопатра Артемьевна удалилась, — вазы настоящие, цветы поддельные — ну, и все это живо, молодецки, как следует мужчине, а не нашему брату, который хуже всякой бабы, если взять в рассуждение совершенное малодушие, отсутствие всякого мужества и смелости. Молодец мужчина этот Корчагин!» «Мы живем себе, — продолжал рассуждать Ананий Демьянович, — во всегдашнем унынии, в постоянном страхе и соблюдении светских приличий, то и дело пугаемся всякой решительной меры и ни в чем не успеваем! А люди между тем успевают у нас, так сказать, из-под носа… это стыдно! Уж лучше бы, если уж дело пошло на строжайшее воздержание, держаться своего угла и так, в своем углу, умереть, не видавши свету божьего! А злодей этот Корчагин, если правду сказать. Можно ли с такою дерзостью, с нахальством… позволить себе… Если бы я, например: почему ж и нет? Если он — так и я с своей стороны тоже… процентщик он и ростовщик, этот купец Корчагин. Видно, что не одну душу сгубил он на своем веку! По обхождению можно убедиться, что это правда.» Сколько ни утешало Ананья Демьяновича убеждение, что это правда, ему все-таки недоставало чего-то для спокойствия. Самовар между тем затянул такую унылую песню, что Анания Демьяновича охватила тоска, даже слезы пробились у него из глаз — так жалобно пел самовар! Целый час просидел он неподвижно, одолеваемый мыслями и грезами, соображениями и чувствованиями. Наконец, он выкушал чашечку-другую чайку — и у него отлегло от сердца. Он попробовал еще чашечку, привел себя почти в нормальное состояние, и так как никакое горе не вечно, то и его тайное горе уступило наконец место здравому размышлению о том, нельзя ли поправить известное дело в желаемую сторону, и если, например, окажется, что нельзя, то почесть его решенным и предать вечному забвению. Обеспечив себя на всякий случай такою стоическою решимостью, он стал приводить в порядок свои разбросанные нравственные и материальные средства к преодолению всяких трудностей на жизненном его пути. Начав тем, что гладенько побрился, причесался, вытянулся, и вообще «сделал свой туалет» с такою строгою внимательностию к своей особе, как будто он был какой-нибудь князь Зорич или граф Звездич, он кончил обращением к своей шкатулке, к потайному в ней ящичку… Там, в потайном ящичке, хранилось нечто весьма уважительное вообще и всемогущее в роковую и неизбежную для каждого из смертных пору; это нечто были — обыкновенные рубли: много лет скоплялись и сохранялись они на черный день! Ананий Демьянович был человек не очень состоятельный, да и происходил он из такого разряда человеков, который имеет какое-то неопределенное назначение среди своих, так называемых, ближних и братий. В молодости было ему не до рублей: двадцать пять лет был он машиною для некоторой работы, с тою против нее невыгодою, что обыкновенную машину, когда она испортится, восстанавливают починкою, а его нельзя было исправить починкою. Много натерпелся он в своей черной коже… «наконец и он стал человеком», вышел в отставку и взглянул на белый свет из другой, дотоле незнакомой ему сферы — из окна, принадлежащего собственному, добровольно им избранному уголку в квартире Клеопатры Артемьевны. Тут он жил пенсиею, соответствовавшею его государственным заслугам и званию, а звание имел он не очень трескучее, едва достаточное для домашнего обихода. Поселившись у Клеопатры Артемьевны и еще не вполне освоившись с состоянием вольного жильца и человека, он дозволил себе некоторую роскошь и однажды просто кутнул не в меру, — не столько, впрочем, по развращенности своих нравов, сколько для убеждения себя в своей самостоятельности. Утвердившись в этом убеждении, он остался без гроша задолго до получения новых фондов из своего единственного источника. При этом случае, он натерпелся другого горя, прежде ему неизвестного, — горя человека, который не найдет ни купца, ни ростовщика для продажи или заклада своей золотой волюшки. Впрочем, горе это привело его к воспоминанию мудрого изречения: «Береги копеечку на черный день». Вспомнив это изречение, он глубоко восчувствовал и уразумел его истощенным желудком, и дал себе зарок быть вперед умнее, то есть беречь копеечку на черный день. После того, дожив наконец до нового получения своей пенсии, он распорядился ею с строжайшею, почти непостижимою бережливостью: прежде, чем посягнул на малейшею издержку, он отложил частичку своего капитала в ящичек, определенный исключительно на спасение от грядущих бед, которые имеют скверный обычай поражать человека именно в черный день. Потом уже он распределил свои издержки, приняв мудрую меру не разоряться ежедневно на золотнички чайку и кое-какие обедцы, а обеспечиться этими предметами оптом, на всю лютую пору безденежья… Вот почему покупал он чай по четверти фунта разом, и обед имел тоже регулярный… Следуя этой системе воздержания от излишеств и сбережения избытка, он постепенно увеличивал свой запасный капиталец, и года в три уравнял его с годовым своим доходом. Этот капиталец был составлен из множества монет и мелких ассигнаций, приводивших его иногда к ненужной, хотя и малоценной роскоши. Чтоб совершенно избавиться от лукавых искушений, он решился снести эту сумму в известное место, называемое ломбардом. С этим намерением он наполнил разною ходячею монетою и летучими бумажками вместительные карманы своего апраксинского костюма и отправился, только не прямо в ломбард, а завернул по пути к дворнику и расспросил его подробно о том, где находится ломбард, а наиболее о том, «безопасно ли» он сохраняет чужое добро. Дворник рассказал ему место, где находится ломбард, пояснив, что господин, принимающий на сохранение животы бедных людей, живет насупротив и называется таким-то именем. Что касается до совершенной благонадежности ломбарда насчет безопасного сохранения чужого добра, за это он ручается вполне и даже готов был присягнуть, что ломбард хорошее место. Ананий Демьянович, обнадеженный таким образом насчет государственного учреждения, которому располагал он вверить свое добро на строжайшее сохранение до черного дня, отправился наконец в Большую Мещанскую, и уже приближался благополучно к заветному месту, когда вспомнил, что его вклад, составленный из разноценных монет и мелких ассигнаций, должен быть обращен в крупные однородные монеты или ассигнации. По этому случаю он обратился было к меняле, но когда тот запросил за обмен его капитала ровно два четвертака, Ананий Демьянович рассудил, что можно и без этого пожертвования обменять деньги: стоит только зайти в трактир и покушать хорошенько, там и разменяют. Он зашел в первый трактир, какой попался ему на пути, спросил себе чаю на гривенничек, порцию какого-то «биштеку», да уж заодно решил и выпить рюмочку сорокалиственной, ради такого чрезвычайного случаю. Пороскошествовав вволю, он наконец попросил буфетчика разменять ему мелкие деньги на крупные. Буфетчик удовлетворил его просьбе, дав ему новенький билет. Ананий Демьянович, в первый раз увидев в своих руках такой страшно крупный билет, был так очарован созерцанием его, что даже пожалел расставаться с ним. А когда приблизился он к зданию ломбарда, когда взглянул на массивное его здание с железными решетками в окнах и подвалах, сердце его замерло от тоски, как будто предчувствуя беду какую-нибудь. Снова сомнение одолело его. «А ну, — подумал он, — как там они деньги возьмут, а после, в черный день, и не отдадут? Конечно, дворник ручается, но все-таки лучше бы им храниться по-прежнему, в надежном ящичке, в этом крупном, почти неразменном виде?» И он, повинуясь внутреннему голосу, бросил на ломбард взгляд недоверчивости, потом поспешно отправился в свой угол в Большой Подъяческой улице и спрятал свой новенький, до крайности значительный билет в потайной ящик на черный день. Потом он снова предался строжайшей бережливости и самоусовершенствованию посредством воздержания от вечерних прогулок по Большой Подъяческой улице. Ему, однако ж, много труда стоила борьба с искушениями разных петербургских радостей и с природным влечением к роскоши не по своему состоянию. Он, может быть, и пал бы в этой борьбе, если б долгая сосредоточенность в самом себе, продолжительное собеседничество с своим самоваром не приучали его постепенно к полезному домоседству; а тут уже стали в нем развиваться гастрономический вкус к чаю и некоторая родственная привязанность к самовару. Благодаря этим счастливым наклонностям, он, потерпев годок-другой от бурных страстей, увлекавших его в трактиры и на острова, даже в театр, наконец вполне установился в образе уединенного жительства, в отчуждении от всего мира, существующего за пределами его угла в квартире Клеопатры Артемьевны. Даже трудно ему стало расставаться с этим уголком, когда какая-нибудь надобность вызывала его туда, вниз, в шумный город, наполненный искушениями. Эта привязанность значительно изменила его прежний служебный характер, отняла у него жесткое практическое свойство и сообщила ему способность к некоторому умственному парению, особливо на ту пору, когда Ананий Демьянович вел беседу с своим самоваром, отводил свою душу чаем и задумывался, прислушиваясь к долгой песне, которую напевал его самовар. Собеседничество его с самоваром не есть риторическая фигура, употребленная произвольно, для усугубления красоты и приятности слога этой повести: оно происходило действительно, потому что Ананий Демьянович, увлекшись очарованием песни своего самовара, часто обращался к нему с выражением своего восторга: «Ну, барон, ты опять понес свое… Ах, если б разгадать, о чем ты говоришь, на что ты яришься? Ведь не может же быть, чтоб это все просто потому, что разогрели и разгорячили тебя. Ты не глуп, как иной наш брат, живой человек, ты свое дело знаешь, да и людям пользу приносишь. И много, чай, насмотрелся ты на своем веку, не то что я, например, весь свой век, бедный, провел в трущобе!» Разумеется, что Ананий Демьянович предавался своим излияниям перед любимцем самоваром исключительно наедине с ним, когда сожители его, господин Гонорович и мещанин Калачов, находились в отсутствии. При них он стеснялся открывать свою душу, свои заветные помышления. Они, практические деятели уличной петербургской жизни, не поняли бы глубокого сочувствия между им и его самоваром. А сочувствие это все росло и усиливалось, особливо с того времени, когда у Клеопатры Артемьевны поселилась Наталья Ивановна, и, наконец, дошло до полноты и совершенной исключительности, когда новый жилец и купец Корчагин овладел драгоценною внимательностью Натальи Ивановны. Тут уж он вполне, с дружескою искренностью доверился своему единственному во всем свете сочувствователю, и сочувствователь отвечал ему жалобною песнею, иногда переходившею в бешеные порывы самого риторически клокочущего негодования. Много утешений пролил это самовар в душу и желудок Анания Демьяновича и, наконец, совершенно утешил его и посоветовал ему принять упомянутую меру, то есть открыть кассу, определенную на черный день, и повести себя в отношении к Наталье Ивановне точно так же, как повел бессовестный Корчагин: купить букетец хорошенький в вазочке, не очень дорогой, даже совершенно скромный, чтоб только напомнить Наталье Ивановне о своем беспредельном уважении и лю… ну, и преданности, а вместе с тем и пред злонамеренным Корчагиным выказать себя с хорошей стороны, убедить его, что вовсе не презренный и пропащий человек ведет скромную, уединенную жизнь и не по совершенной нищете, а потому более, что предпочитает тихое самосозерцание на кожаном диване, сокрытом от всего света подержанными ширмами, открытому и мотоватому фанфаронству капиталиста. С этими-то чувствованиями он вскрыл, наконец, свою тайную кассу, признавая, что наступил для него давно ожиданный и благоразумно предупрежденный черный день. Схватив первого лихача, какой попался ему в Большой Подъяческой улице, он поплелся чрез Садовую и Сенную на Невский проспект; по дороге насмотрелся на разные диковинки, кстати купил четвертушку чайку и уже благополучно приближался к магазину мадам Кюзиньер, когда совесть вдруг заговорила в нем и экономические расчеты кинулись ему в голову и смутили его своими практическими выводами; но было уже поздно возвращаться на путь истины и самоусовершенствования, потому что он очнулся тогда только, когда стоял в магазине перед самою мадам Кюзиньер, пресловутою цветочницею, в толпе благородных людей и всякой знати. — Вазочку мне, мадам, вот эту; что стоит эта вазочка? — Двадцать пять рублей серебром, — отвечала француженка. — Ну так вы мне ее, знаете, тово… аккуратно, во что-нибудь… Ананий Демьянович, торопливо и конфузясь, сам не зная чего, опустил руку в карман и, к сожалению, не нашел своих бумажек, а нашел только записочку прихода и расхода…
Последние комментарии
5 часов 29 минут назад
6 часов 6 минут назад
1 день 19 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 12 часов назад