Вдоль по памяти [Анатолий Зиновьевич Иткин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Анатолий Зиновьевич Иткин
Вдоль по памяти
Иллюстрации Анатолия Иткина
В оформлении макета книги использованы фотографии из семейных архивов А. 3. Иткина, Н. Н. Рожнова и Б. А. Дехтерёва
Предисловие
Эти воспоминания писались спонтанно в течение ряда лет, и только сейчас у меня появилась возможность при помощи Издательского дома «Нигма» собрать их в книгу и опубликовать. Первая часть — «Детство в Останкине» — выходила в свет в виде небольшой книжки в 2008 году, остальное печатается впервые. У меня нет иллюзий по поводу широкого интереса к подобным воспоминаниям, ибо большинство персонажей этого повествования — люди невеликие, да и сам я не бог весть кто, поэтому книга печатается весьма скромным тиражом. Однако я знаю, что всякие свидетельства о прошедших временах способны привлечь немалую часть людей любопытных. Бог дал мне долгую жизнь, и годы моего детства, юности и зрелости совпали с важными этапами истории нашей страны. Надеюсь, что эта книжка, если она окажется в руках такого любопытного человека, способна будет вызвать у него определённый интерес.Небогатая семья моего отца проживала в Витебске. Его отец (мой дед) был набожным евреем; дома говорили на идише, но дети к началу XX века сильно ассимилировались, учились в русской школе, а старшая сестра отца даже закончила гимназию. Они чисто говорили по-русски, грамотно писали и революцию встретили восторженно, ибо она дала им свободу перешагнуть через черту оседлости. Семья матери жила на Украине в городе Херсóн. Мой дед, Наровлянский Фёдор Соломонович, был успешным предпринимателем, как тогда говорили — негоциантом. Он держал типографию, кажется — единственную в городе. Во время Гражданской войны семейству пришлось пережить массу тягот и бед.

Маме 6 лет, 1913 г. Перед Первой Мировой войнойДед рассказывал: Херсон несколько раз переходил из рук в руки то белым, то красным, то зелёным. Вот пришли красные и заставили его печатать свои прокламации. Только их расклеили в городе — пришли белые. Кто печатал? — Наровлянский?! Расстрелять! Деда заключили в кутузку, морили голодом, но расстреливать не стали, им нужно было напечатать какие-то свои воззвания. Дед напечатал. Только расклеили — пришли опять красные и т. д.

Дед (Наровлянский Фёдор Соломонович) 1913 г.Художник Май Митурич однажды подарил мне книжечку стихов своего дяди Велимира Хлебникова. Там на последней странице, в выходных данных, я обнаружил надпись: «Напечатано в 1915 году в Херсоне в типографии Ф. С. Наровлянского». У меня сохранилась фотография, имеющая, на мой взгляд, историческую ценность. На ней изображён цех типографии с печатными машинами, а среди рабочих-печатников — двенадцатилетний мальчик, мой дядя Исаак, и девятилетняя девочка в центре снимка — моя будущая мама Виктория. Оба эти семейства — отца из Витебска и матери из Херсона — в начале 1920-х годов оказались в подмосковном Перове. Там Зиновий и Виктория познакомились, поженились, и в 1931 году я появился на свет. В моём свидетельстве о рождении значится, что у таких-то родителей родился ребёнок мужского пола. Ребёнок жив и находится при отце.

Типография деда (мама в центре), 1915 г.
Детство в Останкине
В Останкино меня привезли годовалым в 1932 году, жили мы там до 1940 года, то есть восемь лет. Казалось бы, небольшой срок, но для человеческого развития первое десятилетие — целая эпоха. Хотя период этот небогат внешними событиями, для меня он полон открытий и происшествий, наиболее отчётливо и ярко оттиснувшихся в памяти. Я очень его люблю, ценю его за ощущение счастья, полноты бытия и за то, что он дал окраску и направление дальнейшему ходу моей жизни. Возьму для сравнения другой период, скажем, время житья на Проспекте Мира. Отрезок жизни, почти равный останкинскому: семь лет (1955–62 годы). Здесь я жил в возрасте от 24 до 31 года. Событий — сколько угодно: переезд наконец в квартиру, нормальную по размеру, окончание института, начало работы, женитьба, рождение дочери, поездка в Ленинград, смерть деда… Всё это я, конечно, помню, но тускло, как сквозь кальку. Все детали, вплоть до мельчайших, которые встретятся при дальнейшем описании моего детства в Останкине, сохранены памятью, а не присочинены позднее. В истолковании же некоторых внешних событий, разумеется, присутствуют позднейшие взрослые суждения. Будут ли кому-нибудь интересны мои воспоминания, кроме моих близких и лиц, упомянутых в тексте, — не знаю. Но я надеюсь, что моя память непроизвольно представит некоторые характерные черты 1930-х годов, и люди моего поколения найдут здесь много знакомого.
Мне один год
Дом в переулке

 Как только заселились наши два дома, как только угнездились молодые семьи на новом жительстве, так началось деторождение. Только я родился не в Останкине. Все остальные дети нашего двора родились в течение 1932–1933 годов и все — вот странно — мальчики. Говорили, что это к войне!
Время было ещё романтическое, и среди имён моих сверстников, среди обыкновенных Вов, Эдиков и Борь попадались и Мараты, а соседа по коммунальной квартире и друга моего детства звали Владилен (Владимир Ленин). Позднее, уже взрослым, он сменил своё громкое имя на скромное Вадим.
Последними в нашем переулке стояли два одноэтажных домика, один напротив другого. Там жили две молочницы: Акулина и Марья Григорьевна. Весь двор наш ходил к ним за молоком. Одни — к Акулине, полной рыжей бабе с белыми ресницами, очень похожей на свою корову, другие — к Марье Григорьевне.
А дальше за этими домишками шёл луг и большой, преимущественно дубовый лес. Лес этот — не что иное, как древний остаток той самой московской дубравы, где в далёком прошлом шла соколиная охота московских князей и царей.
Как только заселились наши два дома, как только угнездились молодые семьи на новом жительстве, так началось деторождение. Только я родился не в Останкине. Все остальные дети нашего двора родились в течение 1932–1933 годов и все — вот странно — мальчики. Говорили, что это к войне!
Время было ещё романтическое, и среди имён моих сверстников, среди обыкновенных Вов, Эдиков и Борь попадались и Мараты, а соседа по коммунальной квартире и друга моего детства звали Владилен (Владимир Ленин). Позднее, уже взрослым, он сменил своё громкое имя на скромное Вадим.
Последними в нашем переулке стояли два одноэтажных домика, один напротив другого. Там жили две молочницы: Акулина и Марья Григорьевна. Весь двор наш ходил к ним за молоком. Одни — к Акулине, полной рыжей бабе с белыми ресницами, очень похожей на свою корову, другие — к Марье Григорьевне.
А дальше за этими домишками шёл луг и большой, преимущественно дубовый лес. Лес этот — не что иное, как древний остаток той самой московской дубравы, где в далёком прошлом шла соколиная охота московских князей и царей.
Ранние воспоминания
Самые ранние мои ощущения бытия связаны с этим лесом. Вот они. Я просыпаюсь летним днём в гамаке, натянутом меж двумя большими соснами, ищу глазами мать, но никого вокруг, только птицы, солнце и хвоя. В волнении перевешиваюсь через край гамака и вместе с одеяльцем вываливаюсь на тёплую землю возле корней… Сколько мне лет? Два года? Три? Может быть, чуть больше?
 Вот другое.
Я иду (не помню с кем) босиком по прохладной и гладкой, как кожа, лесной тропинке. Большая поляна… Видимо, я очень мал, ибо трава — в мой рост. Рядом бегают друг за дружкой большие, шумные девки. Я знаю, что одну из них, чёрную, зовут Марго. Они огромны; гулко топают по земле их босые слоновьи ноги. Я не могу понять, шутки они шутят или всерьёз дерутся. Наконец две настигли третью и силком, хохоча, разжимают ей ладонь и завладевают рваными и мятыми клочками какого-то письма, писанного фиолетовыми кривыми буквами. Затем, нимало не стесняясь меня, они рядом обе присели в траву и деловито журчат по малой нужде, стараясь при этом из обрывков и клочков составить и прочесть письмо.
Вот третье.
Меня среди ночи будит мой отец. Он вынимает меня из кроватки вместе с одеяльцем и носит по комнате, качая на руках и бормоча: «Сиротка ты мой, сиротинушка!»
Мне неловко в его жёстких объятиях, я хнычу. Наконец встаёт моя бабушка, стыдит и упрекает зятя, потом отбирает меня у него и укладывает обратно в кроватку. Одеяльце моё падает на пол. Отец в темноте нагибается за ним и… о, ужас! сослепу ударяется переносицей о торец спинки стула и заливается кровью. Переполох, шум, ищут перекись водорода, пытаются остановить кровотечение…
Много позднее я узнал, что явилось причиной этого события. Оказывается, легкомысленную мамашу мою отпустили на курорт в места её молодости, к Чёрному морю. Она там загуляла в весёлой компании и забыла писать домой. А папаша, зная её любовь заплывать далеко в море и долго не получая писем, решил, что она утонула.
Четвёртое раннее воспоминание — поход в Абиссинию.
Мой друг Владик по своему развитию во многом меня обгонял, хотя был на пол года моложе. Его живо интересовали всякие взрослые дела.
Прослышав, что итальянские фашисты напали на бедную Абиссинию, он подбил меня ехать туда восстанавливать справедливость.
Мы взяли чемодан от грязного белья, положили туда противогаз, охотничьи стреляные гильзы, немного хлеба, надели ружья через плечо. Нас вернула взволнованная няня с трамвайной остановки, где мы с Владиком долго ждали 39-го трамвая, сидя на нашем чемодане.
Если б трамваи тогда ходили более регулярно, нас бы так быстро не нашли.
Вот другое.
Я иду (не помню с кем) босиком по прохладной и гладкой, как кожа, лесной тропинке. Большая поляна… Видимо, я очень мал, ибо трава — в мой рост. Рядом бегают друг за дружкой большие, шумные девки. Я знаю, что одну из них, чёрную, зовут Марго. Они огромны; гулко топают по земле их босые слоновьи ноги. Я не могу понять, шутки они шутят или всерьёз дерутся. Наконец две настигли третью и силком, хохоча, разжимают ей ладонь и завладевают рваными и мятыми клочками какого-то письма, писанного фиолетовыми кривыми буквами. Затем, нимало не стесняясь меня, они рядом обе присели в траву и деловито журчат по малой нужде, стараясь при этом из обрывков и клочков составить и прочесть письмо.
Вот третье.
Меня среди ночи будит мой отец. Он вынимает меня из кроватки вместе с одеяльцем и носит по комнате, качая на руках и бормоча: «Сиротка ты мой, сиротинушка!»
Мне неловко в его жёстких объятиях, я хнычу. Наконец встаёт моя бабушка, стыдит и упрекает зятя, потом отбирает меня у него и укладывает обратно в кроватку. Одеяльце моё падает на пол. Отец в темноте нагибается за ним и… о, ужас! сослепу ударяется переносицей о торец спинки стула и заливается кровью. Переполох, шум, ищут перекись водорода, пытаются остановить кровотечение…
Много позднее я узнал, что явилось причиной этого события. Оказывается, легкомысленную мамашу мою отпустили на курорт в места её молодости, к Чёрному морю. Она там загуляла в весёлой компании и забыла писать домой. А папаша, зная её любовь заплывать далеко в море и долго не получая писем, решил, что она утонула.
Четвёртое раннее воспоминание — поход в Абиссинию.
Мой друг Владик по своему развитию во многом меня обгонял, хотя был на пол года моложе. Его живо интересовали всякие взрослые дела.
Прослышав, что итальянские фашисты напали на бедную Абиссинию, он подбил меня ехать туда восстанавливать справедливость.
Мы взяли чемодан от грязного белья, положили туда противогаз, охотничьи стреляные гильзы, немного хлеба, надели ружья через плечо. Нас вернула взволнованная няня с трамвайной остановки, где мы с Владиком долго ждали 39-го трамвая, сидя на нашем чемодане.
Если б трамваи тогда ходили более регулярно, нас бы так быстро не нашли.
 В данном случае легко определить наш возраст. Как известно, Италия оккупировала Абиссинию в 1935 году. Стало быть, мне тогда было четыре с половиной года, а Владику — четыре.
Мне рассказывали (я, конечно, этого не помню), что, когда мне было два года, моя собственная мамочка смолола мой указательный палец в мясорубке. Дело было летом на нашей солнечной террасе. Мама молола сухари, а мне разрешила подкладывать их в жерло мясорубки… Что-то маму отвлекло, она отвернулась, продолжая вертеть ручку, а я слишком глубоко сунул сухарь и лишился ногтевой фаланги указательного пальца левой руки. (Почему левой? Может быть, в детстве я был левша?) Правда, отец мой очень находчиво и быстро доставил меня в больницу вместе со злополучной фалангой. Мне там её очистили от сухарных крошек, пришили к пальцу, и она приросла, хотя и несколько кривовато.
Случай этот сыграл определённую роль в дальнейшем, когда меня хотели учить игре на фортепьяно, а я сопротивлялся. К моей детской радости и теперешнему сожалению, из-за данного увечья меня оставили в покое.
В данном случае легко определить наш возраст. Как известно, Италия оккупировала Абиссинию в 1935 году. Стало быть, мне тогда было четыре с половиной года, а Владику — четыре.
Мне рассказывали (я, конечно, этого не помню), что, когда мне было два года, моя собственная мамочка смолола мой указательный палец в мясорубке. Дело было летом на нашей солнечной террасе. Мама молола сухари, а мне разрешила подкладывать их в жерло мясорубки… Что-то маму отвлекло, она отвернулась, продолжая вертеть ручку, а я слишком глубоко сунул сухарь и лишился ногтевой фаланги указательного пальца левой руки. (Почему левой? Может быть, в детстве я был левша?) Правда, отец мой очень находчиво и быстро доставил меня в больницу вместе со злополучной фалангой. Мне там её очистили от сухарных крошек, пришили к пальцу, и она приросла, хотя и несколько кривовато.
Случай этот сыграл определённую роль в дальнейшем, когда меня хотели учить игре на фортепьяно, а я сопротивлялся. К моей детской радости и теперешнему сожалению, из-за данного увечья меня оставили в покое.
Запахи детства
Не скажу, что у меня к старости притупилось обоняние, просто запахи жизни не имеют теперь такого значения, что было в детстве. Запахи в детстве — это один из способов познания нового для себя мира. Человечество в сравнении с животными, приобретя великие преимущества разума и речи, кое-что утратило, а именно — остроту обоняния. Однако в детстве эта острота в виде атавизма ещё сильна и ослабевает с возрастом. Перемена времён года в детстве прежде всего воспринимается носом. Все, вероятно, помнят, как пахнет первый снег. Где-то я читал, что он пахнет сыроежками. Сравнение это, пожалуй, удачное, но в моём останкинском детстве, помнится, первый снег пах мокрым бревном и собачьей мочой. Запах матери воспринимается младенцем как сигнал спокойствия, уюта, защищённости. От отца исходит запашок здорового мужчины. В тесноте нашего останкинского жилья намешалось множество запахов, но я отчётливо различал их в отдельности, причём каждый воспринимался, ассоциируясь с чем-нибудь конкретным. Предновогодье — это запах хвои, мандаринов и гуммиарабика[1]. Рисование — запах очиненного карандаша. Детские игрушки. Каждая пахла по-своему: лошадка — пылью и клеем, скамеечка — лаком, книжка — типографской краской, жужжалка — сургучом. Имели свой особый запах пластмассовые, резиновые, деревянные игрушки. Каждый такой запах связан с тогдашним самоощущением: кто я такой, что со мной происходит, где я нахожусь, как себя чувствую. В нашей квартире никто не курил, кроме моего деда, но и он курил не по-настоящему. Зимой, закупоренные в одной маленькой комнате впятером… ни о каком курении не могло быть и речи. Летом, на террасе, он иногда, сидя у открытого окна, закуривал дешёвую папиросу, но дым в лёгкие не пускал, а набирал в рот и выпускал из носу. Получал ли он от этого удовольствие? Некоторый запас папирос хранился у деда в шкафу, и он, этот запас, сообщал шкафу свой резкий запах. Табаком пахла и знаменитая папка с «докýментами», где дед хранил также и деньги. Бабушка, страдающая частыми мигренями, пропахла уксусом, ибо часто лежала с полотенцем на голове, смоченном раствором уксуса. Ещё от неё пахло стряпнёй. Кухня, самая пахучая часть квартиры, воняла сортиром (отгородкой), керосинками и примусом, готовкой, помойным ведром, а в дни стирки — простым мылом, баком для кипячения белья, растопленной плитой, угаром угольных утюгов. Приятно пахли печи, у нас и у соседей — по-разному. В выходные дни родители позволяли себе часок лишний поспать, и я, проснувшись раньше, просился к ним в кровать. В раннем детстве мне иногда это разрешалось, но, помню, запах их постели мне не нравился. Зимой замечательно пахли дрова, принесённые из сарая, — морозом и лесом. Морозом пахло и задеревенелое бельё, снятое с чердака, где оно сохло. Дивный запах источал заветный Владиков сундучок, здоровьем пахнул Алексей Иванович, делавший зарядку.

Литография раскрашенная «Улица»Запахи гематогена, касторки, риванола, микстуры напоминают мне унылые дни моих детских недугов. Ну и, конечно, неизменный рыбий жир, сопровождавший детство почти всех московских чад. Весной Останкино источало медовый запах одуванчиков, терпкий запах клейкой тополиной листвы и резкую вонь олифы от свежевыкрашенных к Первому мая заборов. Лето пахло укропом, застоялой водой бочек под водостоками, кошками на лестничной клетке, смрадом ассенизационных автомашин. Вообще автомашины заезжали к нам во двор чрезвычайно редко. В детстве запах бензиновой гари был мне приятен. В Останкино пахло, как в деревне. Выезжая изредка в центр города, в асфальтово-каменную Москву, я чувствовал совершенно иной запах — запах городской. Осень пахла палым листом, дровами и опилками. Гуляя в дубовой части парка, громко шурша палыми листьями, мы иногда набредали на бочаги, довольно глубокие лесные ямы, полные удивительно чистой воды. Дно такого бочага, выстланное слоем дубового листа, не давало воде быстро уйти в почву. Я любил подолгу смотреть в этот прозрачный мирок. Колючий ледяной воздух зимы пощипывал ноздри даже через шерстяной шарф, но запахи чувствовались и на морозе. Пахло чистотой, печным дымом, резиновыми галошами и лыжной мазью. Теперь, в старости, очень редко, где-нибудь в метро или в музее вдруг уловишь какой-то реликтовый давний запах — и некий эпизод из детства встаёт перед мысленным взором.
Коммуналка
Мы жили в доме с печным отоплением, без воды, с туалетом в виде отгородки от кухни, где унитаз завершался прямой трубой, ведущей в выгребную яму под домом, с керосинками на кухне. Жили мы очень тесно. Квартира наша была коммунальной на две семьи. Южные две комнаты занимало семейство соседей. Их было трое: отец Алексей Иванович, служащий Наркомзема, мать Елена Емельяновна, детский врач, и их сын Владик, мой друг детства. Наша семья состояла из пятерых: дед, бабушка, отец мой — фининспектор, мать — бухгалтер универмага, и я. Все мы ютились в одной комнате размером 12 квадратных метров. Нам, правда, принадлежала летняя застеклённая терраса, большая и солнечная. Так что летом мы оживали. Дед уходил спать на террасу. Мебель в нашей северной мрачной комнате была громоздка и разностильна. Был современный гардероб с зеркалом, на противоположной стене стояло ещё одно огромное зеркало с подзеркальником, по-видимому попавшее к нам из какой-то прихожей. Эти два зеркала, глядевшие друг в друга, создавали потрясающий воображение оптический эффект коридора. С самых ранних пор помню себя за манной кашей, созерцающего вереницу мальчиков, сидящих за кашей в этом коридоре (один — лицом, другой — спиною), тающую в туманной дали.
 Помимо этого в комнате поместились две кровати (стариков и родителей) с никелированными шарами на спинках. Эти шары я любил отвинчивать. Стол — посредине, под люстрой с большим глазастым плафоном, массивные дубовые стулья, обитые кожей, и, главное, огромный концертный рояль «Бехштейн», впоследствии проданный и заменённый на пианино «Красный Октябрь». Ну, разумеется, была ещё моя кроватка с сеткой, загороженная раздвижной ширмой.
Как всё это поместилось на 12 квадратных метрах — загадка! Я сказал, что нас ютилось пятеро, — это так, если не считать одну из часто сменяемых домработниц, которой на ночь обычно стелили на рояле. Да, да! Это не шутка!
В семействе нашем я был первым москвичом по рождению. Родители мои, как я уже говорил, — переселенцы. Отец перекочевал в Москву из Белоруссии, а мама со своими предками — с Украины. Встретились и поженились они в Перове, где я и родился. (Теперь это место входит в черту Москвы.)
Вышеописанная останкинская комната была кооперативным и первым собственным жильём моего отца. (До этого в Перове оба семейства снимали частное жильё.)
Отец не собирался съезжаться со стариками, но мама не могла жить без бабушки, духовно очень близкого ей человека, ну а где бабушка, там, разумеется, и дедушка. Таким образом, мы все сгрудились в одном месте себе на горе.
Надо сказать, что если отец и дед априори мало симпатизировали друг другу, то, посаженные судьбой в одну тесную клетушку, они вскоре стали лютыми врагами. Дед, как сторона подневольная, хмуро отмалчивался, но отец почти не скрывал своей неприязни.
С момента, когда вечером они оба приходили с работы, атмосфера тяжёлой ненависти зависала в доме, как свинцовое облако. Скандалы или молчаливые злобные взгляды этих людей омрачили моё детство и молодость.
Помимо этого в комнате поместились две кровати (стариков и родителей) с никелированными шарами на спинках. Эти шары я любил отвинчивать. Стол — посредине, под люстрой с большим глазастым плафоном, массивные дубовые стулья, обитые кожей, и, главное, огромный концертный рояль «Бехштейн», впоследствии проданный и заменённый на пианино «Красный Октябрь». Ну, разумеется, была ещё моя кроватка с сеткой, загороженная раздвижной ширмой.
Как всё это поместилось на 12 квадратных метрах — загадка! Я сказал, что нас ютилось пятеро, — это так, если не считать одну из часто сменяемых домработниц, которой на ночь обычно стелили на рояле. Да, да! Это не шутка!
В семействе нашем я был первым москвичом по рождению. Родители мои, как я уже говорил, — переселенцы. Отец перекочевал в Москву из Белоруссии, а мама со своими предками — с Украины. Встретились и поженились они в Перове, где я и родился. (Теперь это место входит в черту Москвы.)
Вышеописанная останкинская комната была кооперативным и первым собственным жильём моего отца. (До этого в Перове оба семейства снимали частное жильё.)
Отец не собирался съезжаться со стариками, но мама не могла жить без бабушки, духовно очень близкого ей человека, ну а где бабушка, там, разумеется, и дедушка. Таким образом, мы все сгрудились в одном месте себе на горе.
Надо сказать, что если отец и дед априори мало симпатизировали друг другу, то, посаженные судьбой в одну тесную клетушку, они вскоре стали лютыми врагами. Дед, как сторона подневольная, хмуро отмалчивался, но отец почти не скрывал своей неприязни.
С момента, когда вечером они оба приходили с работы, атмосфера тяжёлой ненависти зависала в доме, как свинцовое облако. Скандалы или молчаливые злобные взгляды этих людей омрачили моё детство и молодость.
Весёлая жизнь
Однако жизнь в те годы казалась (и не только мне) светлой и радостной. Хотя лица взрослых порой были омрачены заботами о хлебе насущном, бытовыми мытарствами, завистью и ссорами, нам, детям, это не мешало наслаждаться беззаботными играми, делать всякие удивительные открытия и вообще ощущать постоянную радость. Во дворе шла многодневная увлекательная игра. Однажды мы повалили набок большой деревянный ларь, непонятно для чего поставленный; из него вышел чудесный домик, в который можно было залезть вчетвером. Мы наволокли туда всякого барахла, игрушечной посуды, устроили там уютные постельки, таскали из дому кусочки еды и даже байковое одеяло. Мы все вдруг испытали какое-то первобытное чувство родной пещеры. Игра так захватила нас, что родительские призывы: «Толя, обедать!», «Владюша, обедать!», «Эдик, домой!» на нас не действовали. С отвращением, давясь, я допивал кипячёное молоко с отвратительной жёлтой пенкой и вновь рвался в нашу пещеру. Не всем удавалось отбояриться от мёртвого часа, но потом мы снова оказывались в нашем домике, и игра продолжалась. Нами владело общее вдохновение. И раньше и потом были разные игры, но такой увлекательной, как эта, я не припомню. Через несколько дней энергия игры стала ослабевать, да и ящик кто-то убрал со двора, но тут появился новый повод для игры. Во двор, на солнышко вынесли наши зимние вещи для проветривания и просушки. То-то было радости кувыркаться в тюфяках и перинах! Такова была весёлая жизнь.
Вот странность — как известно, тогда надо всеми висел дамоклов меч репрессий, то и дело кто-то садился на время, а некоторые исчезали навсегда; остальные думали: это враги, недоброжелатели власти или просто неосторожные болтуны, а мы — законопослушные беспорочные граждане, нас это не касается. И веселились, жадно охотились за дефицитом, обновами. В то время не покупали, а отхватывали. В праздники собирались компаниями, выпивали, флиртовали, делились вполголоса анекдотами, танцевали под патефонную «Рио-Риту», пели вслед за Клавдией Шульженко, Изабеллой Юрьевой и Вадимом Козиным нежные романсы. У нас тоже появился патефон. Мне очень нравилась песня «Раскинулось море широко…» в исполнении Леонида Утёсова и романс «Когда простым и нежным взором…» Вадима Козина. Однажды мы с Владиком слушали патефон довольно долго. Потом он нам надоел, и мы решили его разобрать. Сняли диск и увидели регулятор скорости. Мы привязали к нему нитку и, поставив диск на место, запустили какую-то пластинку. Теперь можно было, потянув за нитку, резко менять скорость вращения диска во время игры, при этом голос исполнителя менялся от низкого баса почти до комариного писка, а текст звучал как пулемётная очередь. Но этого нам показалось мало, и мы добились вращения диска в обратную сторону. Я предложил поставить пластинку с песней Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта». Я предположил, что Черкасов-Паганель споёт вместо «Ка-пи-тан» (соль-ми-до) — «На-ти-пак» (до-ми-соль), но мы услышали невнятные рваные звуки и никакого «На-ти-пак» не получилось, а поскольку пластинка шла не из-под иглы, а навстречу, то бороздки мы просто повредили. За это нам, конечно, попало. У Вовки Тарасова папаша работал в «Интуристе». Он курил трубку, одевался во всё заграничное, носил короткие штаны-гольф и клетчатые носки до колена. У них была американская радиола-автомат, куда загружалась целая обойма пластинок, и они звучали, сменяя друг друга, более часу.
 Это был, конечно, предмет большой зависти соседей. Тем более что Тарасовы никого со двора к себе не приглашали.
В детстве мы пели в известной песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» «Любимый город — синий дым Китая…» вместо «…в синей дымке тает». Нас, конечно, несколько смущал этот «дым Китая», но мы доверчиво полагали, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации.
Значительно позднее, в пионерском лагере, была популярна песенка «В Кейптаунском порту». Там у нас «скакала на борту Жанетта, поправляя такелаж». Совсем недавно я узнал, что подлинный текст звучит так:
Это был, конечно, предмет большой зависти соседей. Тем более что Тарасовы никого со двора к себе не приглашали.
В детстве мы пели в известной песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» «Любимый город — синий дым Китая…» вместо «…в синей дымке тает». Нас, конечно, несколько смущал этот «дым Китая», но мы доверчиво полагали, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации.
Значительно позднее, в пионерском лагере, была популярна песенка «В Кейптаунском порту». Там у нас «скакала на борту Жанетта, поправляя такелаж». Совсем недавно я узнал, что подлинный текст звучит так:
Мать Эдика, Марья Миновна, красивая добродушная хохлушка, смеялась, закатываясь, говорила с сильным южным акцентом. Иногда по выходным к ним приезжала её сестра, Варвара Миновна, со своим сыном Котиком. Эта женщина, при явном сходстве со своей сестрой, говорила по-русски чисто, без южных интонаций, имела строгий вид учительницы, носила пенсне. Сын её Костя, или, как его любовно называли, Котик, был на два года старше нас. Он относился к нам, мелюзге, покровительственно и, входя в наши игры, всегда становился руководителем, а мы охотно — подчинёнными. Исполняя его приказы и установки, мы иногда делали ошибки и промахи. За это нам полагались «шелобаны», то есть довольно болезненные щелчки в лоб. Однако никто из нас не обижался на нашего руководителя, и мы стойко терпели боль. Я как-то сделал подобную ошибку, не поняв приказа. За это получил «шелобан», но кроме этого Котик назвал меня ещё паршивым евреем. Это показалось мне весьма обидным, я выпрямился и гордо ответил ему, что я — советский мальчик, а никакой не еврей. Но дома, когда я пожаловался маме на эту несправедливость, выяснилось, что я на самом деле всё-таки еврей. Я был очень удивлён. Я спросил: «Мам, а вы с папой кто? Тоже евреи?» На что получил ответ: — Тоже. — А дедушка с бабушкой? — Тоже. — А няня Лена? — Нет, она белоруска. Видя моё горькое разочарование, мама постаралась объяснить мне, что ничего позорного в этом нет, что евреи — одна из многочисленных национальностей нашей страны. Я как-то раньше не обращал внимания на то, что мои домашние некоторым образом отличались от других взрослых в нашем дворе. Только у нас в семье говорили иногда какие-то непонятные «азохнвей», «шлимазл», «агицнпаровоз» и пр. Бабушка интонационно задирала концы фраз, дедушка трескуче картавил. А эти наши горбатые носы! Ох, как это было неприятно! С этих пор в моей жизни кое-что переменилось. Не то чтоб я стал другим, менее общительным или менее весёлым, нет; но во мне появилась затаённость, опасливая осторожность и обидчивость.
Соседи и знакомые
Пока я был единственным ребёнком в семье, мои родители любовались мною, как дорогой игрушкой, по мере возможности наряжали в разные обновы, фотографировали, стригли в парикмахерской у одного мастера, специалиста по детской стрижке, но всё равно под ревностным надзором моей мамы. Когда меня фотографировали, мне обязательно велели улыбаться, хотя мне далеко не всегда этого хотелось. Мне вечно внушали, что без улыбки снимок будет неполноценным, кроме того, все говорили, что у меня очень обаятельная улыбка, что на щеках появляются замечательные ямочки и т. п. И я, усвоив эти советы, при съёмке держал этот имидж. Сейчас, просматривая свои детские фото, не нахожу ни одного, где бы я был захвачен в естественном, будничном состоянии. Везде я позирую, работаю на объектив. Очень жаль. Когда мне было лет пять, меня повезли на Сретенку в фотографическое ателье. Я был наряжен в белую пикейную рубашку с синим галстучком в горошек и тщательно причёсан. Меня ввели в тесный закуток студии. Там я увидел чучело огромного волка, лежавшего на скамье. Я вцепился от страха в мамину юбку, вопил и не желал идти сниматься с этим чудовищем. Меня долго уговаривали, но я согласился лишь тогда, когда опасливо потрогал рукой неподвижную тушу и особенно когда увидел вылетевшую из шерсти обычную моль.

Литография «В парикмахерской»Тогда ещё не было цветной съёмки, но этот снимок был покрашен от руки. На нём я, конечно, получился со своей фирменной улыбкой. Когда мы, гуляя с мамой, встречали знакомых, особенно мужчин, они, как правило, старались ласково шутить со мною, выдавали преувеличенные похвалы, спрашивали всегда одно и то же: кого ты больше любишь — папу или маму? Я чувствовал, что это не всерьёз, и не знал, как следует реагировать. Через минуту эти люди теряли ко мне всякий интерес и продолжали шутить, но уже с моей мамой. Что-то в этих шуточках меня тревожило. Мне казалось, что в них было что-то противозаконное, какое-то бесцеремонное вмешательство в спокойный лад нашей семьи, возникало острое ревнивое чувство, и я дёргал маму, желая скорее уйти. Это маму сердило, она сильно сжимала мою ладонь, но при этом продолжала любезно улыбаться собеседнику. Полдетства я проторчал у наших соседей по квартире. У них было светло; яркий жёлтый пол был натёрт, в ясных кафелях печки отражались окна и двор за окнами. На стене висела большая и очень красивая политическая карта мира, стоял приёмник СВД-9, откуда Николай Литвинов таинственно повествовал про городок в табакерке, пищала Зинаида Бокарёва, вкрадчиво пела Мария Бабанова. В углу у печки стоял заветный сундучок, где Владик держал свою милую куклу Ирочку. Он так любовно пеленал её и баюкал, что на какое-то время возжёг и во мне интерес и азарт к этой своей игре. Кроме того, из сундучка так мило и вкусно пахло сушёными яблоками из Кабаева (городок в Мордовии, родина Владиковой мамы)!

Мне четыре годаОтец Владика, Алексей Иванович, высокий брюнет в очках, работал в Наркомземе и учился в Институте красной профессуры, поэтому во второй комнате у них был стеллаж из сосновых досок, притемнённых морилкой, на котором стояли красные тома Ленина, большие тома БСЭ и другие очень значительные книги. По утрам Алексей Иванович отодвигал стол к стене, расстилал деревенский коврик, включал радиоприёмник «СВД-9» и, под бодрую команду Николая Гордеева, делал зарядку. Я очень сожалел, что мой отец никогда не делал зарядки и что у нас не было БСЭ, где имелись ответы на все вопросы жизни. Мама Владика, Елена Емельяновна, детский врач, очень властная и строгая женщина, иногда за какую-нибудь провинность или шалость наказывала сына, не стесняясь моего присутствия. Наказание заключалось в следующем: она грозно и долго смотрела на него, как удав на кролика, и молчала, затем говорила: «Ты не мой сын!» Это вызывало и трепет и слёзы провинившегося. Спустя некоторое время я говорил ему: «Чего ты испугался, ведь она не взаправду от тебя отказывается». Но Владик не скоро отходил от этого гипноза. Меня наказывали тем, что на какое-то время запрещали ходить «к ним». Я не помню ни одного случая, чтоб мои родители заходили к ним, а они — к нам. Наши семьи жили в постоянно тлеющей вражде, которая иногда омрачала и наши с Владиком отношения.
Чердачная бездетная пара немцев Пише выходила во двор прогулять своих собак. Она, мадам Пише, — так её заглазно все называли — высокая, красивая, но несколько старомодная женщина, приторно любезная и манерная. Он, товарищ Пише, — сухой, неразговорчивый, никогда не улыбающийся господин, на голову ниже ростом своей супруги. Летом и осенью он носил большую суконную кепку с «ушами», поднятыми на темя. Смотрел он строго и неприветливо через пенсне. Были у них две собаки. Каждый из супругов водил на поводке свою. Он — рыжего, очень злого беспородного пса по кличке Фриц, она — маленькую сучку, карликового пуделя по имени Топка.
 Дети во дворе говорили, что мадам — это Топина мама.
Владик всегда был в курсе всяких взрослых скандалов. Однажды в воскресенье чета Пише вышла во двор без собак, видимо собираясь в гости. Он стоял на крыльце, хмуро и брезгливо озирал двор, она, что-то забыв, вернулась в дом.
Владик, подойдя к товарищу Пише, задал ему смелый вопрос: «Почему вы заняли нашу половину чердака своим бельём?»
Чопорный немец побледнел и сказал, сверкнув пенсне, тихим сдавленным голосом: «Мальчик, подойди, я тебе всё объясню». Когда Владик доверчиво подошёл ближе, он затопал ногами и заорал оглушительно: «Ты мерзкий и паскудный мальчишка!!!» Разрядившись таким образом, он медленно и достойно удалился. Владик был смущён.
Эти Пише в самом начале войны ночью были арестованы и исчезли навсегда.
Дети во дворе говорили, что мадам — это Топина мама.
Владик всегда был в курсе всяких взрослых скандалов. Однажды в воскресенье чета Пише вышла во двор без собак, видимо собираясь в гости. Он стоял на крыльце, хмуро и брезгливо озирал двор, она, что-то забыв, вернулась в дом.
Владик, подойдя к товарищу Пише, задал ему смелый вопрос: «Почему вы заняли нашу половину чердака своим бельём?»
Чопорный немец побледнел и сказал, сверкнув пенсне, тихим сдавленным голосом: «Мальчик, подойди, я тебе всё объясню». Когда Владик доверчиво подошёл ближе, он затопал ногами и заорал оглушительно: «Ты мерзкий и паскудный мальчишка!!!» Разрядившись таким образом, он медленно и достойно удалился. Владик был смущён.
Эти Пише в самом начале войны ночью были арестованы и исчезли навсегда.
Страхи
В нашей комнате, обращённой окнами на север, никогда не бывало солнца, было зябко и угрюмо даже тогда, когда топилась печь. Зимой нам жилось невесело. На окнах между рамами лежала вата, стёкла запотевали от дыхания пятерых человек и покрывались за одну морозную ночь пальмовыми рощами и разными забавными узорами. Утром домработница приносила охапку дров и с сухим грохотом бросала её на железный лист под печью. Когда печь разгоралась, стёкла на окнах начинали слезиться, на подоконнике образовывалась лужа, которую всасывал марлевый жгут и отправлял влагу в висящие по краям пузырьки из-под микстуры. Днём мама, папа и дед были на службе, я оставался с бабушкой и домработницей. Однажды я прибежал от Владика к себе за пистонным наганом. В комнате никого не было. День был хмурый, и у Владика было темновато, а у нас ещё темней. Я долго в полутьме искал игрушку в своём углу и никак не находил. Отодвинув тяжёлый стул от стола, я сел и задумался. Локти мои чувствовали сквозь рубашку холод клеёнки, на душе было тоскливо, и мне захотелось поскорее уйти, но уйти я не мог: мне нужно было вспомнить, куда я задевал наган. Так я долго сидел за столом, оглядывая комнату.

Литография «Выходной»Вдруг я поднял глаза на террасную дверь, где вверху находились два маленьких стекла. В одном из них я увидел сквозь морозный узор бородатое лицо старика Филина, столяра из домоуправления. Он улыбался. Кожа шевельнулась на моей голове. Как он попал на заколоченную необитаемую террасу? С ужасом и рёвом я вылетел из комнаты… Потом, когда я успокоился, мы с Владиком, опасливо приоткрыв дверь, проверяли… Бородатого лица уже не было.
Другой случай страха я пережил однажды ночью. Не понимаю, то ли я это увидел наяву, то ли во сне. Я проснулся. Сквозь ширму шёл слабый свет с улицы. Было очень тихо, слышно было лишь похрапывание, и вдруг освещённую ширму перекрыл отчётливый силуэт старухи. Она проследовала мимо и исчезла. Я одеревенел от испуга. В этом тяжком напряжении я лежал долго, потом всё-таки уснул.

Литография «Сон»Утро настало будничное, оно рассеяло ночное впечатление. Я подумал, что, возможно, бабушка вставала ночью в уборную. У взрослых я ничего не спрашивал.
Рисование
И мне и Владику под Новый год устраивали ёлки. Наши родители соперничали в этом деле. Уже за неделю нам покупали всякий материал для изготовления игрушек: фольгу, цветные бумажные ленты, золотой порошок, клей и прочее. Мы клеили бумажные цепи, золотили сосновые и еловые шишки, из яичной скорлупы и ваты делали снежинки с кукольными лицами. Но всё это рукоделие не шло ни в какое сравнение с настоящими покупными игрушками, которые становились основой украшения ёлки. Результатом этой деятельности были две роскошно убранные ёлки. У Владика ёлка всегда была до потолка, а в нашей тесноте небольшую ёлочку ставили на рояль. Единственное, что вызывало недоумение — это наличие двух Дедов Морозов с ватными бородами, которые долго гримировались на кухне, а затем говорили голосами наших нянь.
Зимы тогда были очень снежными. Сугробы у забора были так глубоки, что можно было, играя, рыть в них ходы и пещеры. Расчищенная дорожка от крыльца к калитке обрамлялась двумя снежными валами много выше моего роста. В оттепель мы лепили снежных баб, а в сильные морозы, когда нельзя было гулять, я сидел у Владика и глядел в окно на морозный иней. Солнце шло низко и уже к обеду заходило за 14-й дом, и он стоял в розовом ореоле печных дымов. В такие дни я просил у деда лист бумаги и, положив на него левую руку, а на неё левую щёку, рисовал конные бои в горах. При этом я издавал горлом грохот взрывов, шуршание осколков и дробь лошадиного галопа. Все взрослые мне пророчили карьеру художника, и мои родители весьма благосклонно относились к моей страсти. А это и была подлинная страсть. Мне никогда не надоедало это занятие. Стоило мне увидеть чистый лист бумаги или хорошенький блокнотик, у меня тут же возникал аппетит к рисованию, причём всегда отсутствовал какой бы то ни было предварительный план. Как говаривал Наполеон: «Главное — ввязаться, а потом посмотрим». Так и у меня: главное — нарушить белизну чистого листа, а там одна за другой возникают идеи. Одно пририсовывалось к другому, пока не заполнялся весь лист.
 Всё это, разумеется, не хранилось, шло на растопку печки.
С детства и по сей день я подвержен некоему наваждению. Мой глаз ищет и случайно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в разводах мрамора или гранита, в мятой бумаге и прочем изображения лиц людей и животных.
Неоднократно я пытался делиться этими открытиями с другими людьми, но никто не разделял моих восторгов, мало того, никто или почти никто не видел ничего подобного в причудливых и случайных складках ткани, в текстуре фанеры и т. д. — никаких изображений, на которые я указывал. Скорее всего, это означает несовпадение воображения разных людей. Меня всегда это удивляло и даже сердило.
Отец мой был преисполнен тщеславной гордости за сына, проявлявшего столь «необычайные» способности. Однажды он даже потащил меня в свой Наркомфин на улице Куйбышева. Там он всем своим сослуживцам демонстрировал меня как чудо-ребёнка. Пока он занимался каким-то своим служебным делом, меня усадили за чиновничий стол, дали хорошую гладкую бумагу с официальным грифом, карандаш, и я (не помню что) рисовал довольно долго. Когда отец пришёл, он всем показал изрисованный мною лист. Седые солидные люди, оторвавшись от своих занятий, с деланным интересом разглядывали мою работу, вздёргивали брови и говорили: «О! Этот далеко пойдёт!»
Иногда я думаю: откуда взялось во мне это свойство, эта тяга к рисованию? Ведь исходя из теории, сие должно мне передаться генетически от какого-то предка. Но в обозримой моей родословной такового предка не наблюдается. Со стороны отца — точно нет ничего подобного, но с материнской… Пожалуй, единственная зацепка — это мамин старший брат, ленинградский мой дядя.
Вспоминаю моё последнее свидание с его вдовой. Это произошло в конце 1970-х годов. Она приезжала в Москву и посетила мою мастерскую. В тот раз она привезла специально, чтобы показать мне, рисунки моего дяди, которые он выполнил на неких курсах по подготовке к поступлению в Ленинградскую Академию художеств. Это были угольные штудии обнажённых натурщиков, выполненные несколько примитивно и грубо, но не бездарно. Что-то живое в них явно присутствовало.
Кроме того, вдова дяди привезла и дала прочесть письмо деда и бабушки к своему сыну — ответ на его письмо, в котором он, по-видимому, спрашивал, куда ему податься: в искусство или в технический вуз. Родители сочли, как старые люди, что инженер — профессия более почтенная и надёжная. Сын последовал этому благоразумному совету.
Я очень любил музыкальные передачи по радио, мог их слушать часами, любил рисовать под музыку. Сейчас, бывает, услышишь одну из мелодий довоенного времени, особенно ту, что редко исполняют («из фондов радио»), и вмиг в памяти возникает рисунок, который делался под эту музыку, и вообще весь комплекс ощущений, казалось бы, забытого, давнего момента жизни.
Меня поощряли к рисованию, пытались учить музыке, но сами окружающие меня люди не имели никакого отношения к искусству. У нас в доме всегда стоял инструмент, но служил лишь мебелью. Мама, которая когда-то в Одессе (кажется, даже у Столярского) окончила один курс консерватории, редко садилась за него, но кроме какого-то шимми и этюда Шопена с ошибками ничего не играла.
Никто из моих дворовых приятелей не мог верно пропеть популярный мотив.
У нас в доме не было репродукций, книг по искусству. Я ни разу в довоенное время не был ни в одном музее живописи, если не считать Останкинского дворца. Хотя я много, всё детство, рисовал, но только карандашом; краски продавались такого плохого качества, что я предпочитал просто линейное рисование.
Однажды наш сосед с первого этажа, Павел Гевелинг из семейства «бывших», вынес во двор этюдник и писал что-то с натуры маслом. Я впервые увидел масляные краски и не мог оторвать взгляда от этих ярких цветных червячков на фанерке. Особенно меня привлекали светло-зелёный (кобальт светлый) и алый (киноварь). Сам же этюд не произвёл на меня никакого впечатления.
А ещё я помню, как, гуляя в выходной возле дворца, мы с папой набрели на художника. Он сидел на складном стульчике прямо на мостовой, против входа во дворец, и работал большую акварель. На его планшете на большом листе бумаги уже были намечены контуры парадных ворот с кентаврами наверху, за ними виднелась часть фасада с куполом.
Мы остановились поодаль и стали молча наблюдать за его работой. Большой мягкой кистью, обильно напитанной водой, он смело и широко покрыл желтоватым тоном весь передний план вместе с воротами, оградой и тротуаром, затем покрасил бледно-серым небо, хотя оно было голубым, оставив светлым сам дворец. Я вдруг увидел, что появилось пространство, расстояние между воротами и дворцом.
Мы стояли довольно долго и дивились тому, как на листе возникает почти реальная картина. В какой-то момент мне показалось, что работа закончена и дивно как хороша, но художник (сейчас я думаю, что это был студент-архитектор) продолжал отрабатывать детали.
Отец потянул меня уходить, но я не мог оторваться от этого зрелища и посмотрел на него умоляюще. Мы остались.
Наконец художник отложил кисть и задумался. Черезнекоторое время он сменил воду в банке и решительно своей широченной кистью стал смывать всё сделанное. Я ахнул. Под потоками воды гибла замечательная картина. Зачем он это сделал? Чем недоволен?
Мне хотелось плакать. Мы ушли.
Всё это, разумеется, не хранилось, шло на растопку печки.
С детства и по сей день я подвержен некоему наваждению. Мой глаз ищет и случайно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в разводах мрамора или гранита, в мятой бумаге и прочем изображения лиц людей и животных.
Неоднократно я пытался делиться этими открытиями с другими людьми, но никто не разделял моих восторгов, мало того, никто или почти никто не видел ничего подобного в причудливых и случайных складках ткани, в текстуре фанеры и т. д. — никаких изображений, на которые я указывал. Скорее всего, это означает несовпадение воображения разных людей. Меня всегда это удивляло и даже сердило.
Отец мой был преисполнен тщеславной гордости за сына, проявлявшего столь «необычайные» способности. Однажды он даже потащил меня в свой Наркомфин на улице Куйбышева. Там он всем своим сослуживцам демонстрировал меня как чудо-ребёнка. Пока он занимался каким-то своим служебным делом, меня усадили за чиновничий стол, дали хорошую гладкую бумагу с официальным грифом, карандаш, и я (не помню что) рисовал довольно долго. Когда отец пришёл, он всем показал изрисованный мною лист. Седые солидные люди, оторвавшись от своих занятий, с деланным интересом разглядывали мою работу, вздёргивали брови и говорили: «О! Этот далеко пойдёт!»
Иногда я думаю: откуда взялось во мне это свойство, эта тяга к рисованию? Ведь исходя из теории, сие должно мне передаться генетически от какого-то предка. Но в обозримой моей родословной такового предка не наблюдается. Со стороны отца — точно нет ничего подобного, но с материнской… Пожалуй, единственная зацепка — это мамин старший брат, ленинградский мой дядя.
Вспоминаю моё последнее свидание с его вдовой. Это произошло в конце 1970-х годов. Она приезжала в Москву и посетила мою мастерскую. В тот раз она привезла специально, чтобы показать мне, рисунки моего дяди, которые он выполнил на неких курсах по подготовке к поступлению в Ленинградскую Академию художеств. Это были угольные штудии обнажённых натурщиков, выполненные несколько примитивно и грубо, но не бездарно. Что-то живое в них явно присутствовало.
Кроме того, вдова дяди привезла и дала прочесть письмо деда и бабушки к своему сыну — ответ на его письмо, в котором он, по-видимому, спрашивал, куда ему податься: в искусство или в технический вуз. Родители сочли, как старые люди, что инженер — профессия более почтенная и надёжная. Сын последовал этому благоразумному совету.
Я очень любил музыкальные передачи по радио, мог их слушать часами, любил рисовать под музыку. Сейчас, бывает, услышишь одну из мелодий довоенного времени, особенно ту, что редко исполняют («из фондов радио»), и вмиг в памяти возникает рисунок, который делался под эту музыку, и вообще весь комплекс ощущений, казалось бы, забытого, давнего момента жизни.
Меня поощряли к рисованию, пытались учить музыке, но сами окружающие меня люди не имели никакого отношения к искусству. У нас в доме всегда стоял инструмент, но служил лишь мебелью. Мама, которая когда-то в Одессе (кажется, даже у Столярского) окончила один курс консерватории, редко садилась за него, но кроме какого-то шимми и этюда Шопена с ошибками ничего не играла.
Никто из моих дворовых приятелей не мог верно пропеть популярный мотив.
У нас в доме не было репродукций, книг по искусству. Я ни разу в довоенное время не был ни в одном музее живописи, если не считать Останкинского дворца. Хотя я много, всё детство, рисовал, но только карандашом; краски продавались такого плохого качества, что я предпочитал просто линейное рисование.
Однажды наш сосед с первого этажа, Павел Гевелинг из семейства «бывших», вынес во двор этюдник и писал что-то с натуры маслом. Я впервые увидел масляные краски и не мог оторвать взгляда от этих ярких цветных червячков на фанерке. Особенно меня привлекали светло-зелёный (кобальт светлый) и алый (киноварь). Сам же этюд не произвёл на меня никакого впечатления.
А ещё я помню, как, гуляя в выходной возле дворца, мы с папой набрели на художника. Он сидел на складном стульчике прямо на мостовой, против входа во дворец, и работал большую акварель. На его планшете на большом листе бумаги уже были намечены контуры парадных ворот с кентаврами наверху, за ними виднелась часть фасада с куполом.
Мы остановились поодаль и стали молча наблюдать за его работой. Большой мягкой кистью, обильно напитанной водой, он смело и широко покрыл желтоватым тоном весь передний план вместе с воротами, оградой и тротуаром, затем покрасил бледно-серым небо, хотя оно было голубым, оставив светлым сам дворец. Я вдруг увидел, что появилось пространство, расстояние между воротами и дворцом.
Мы стояли довольно долго и дивились тому, как на листе возникает почти реальная картина. В какой-то момент мне показалось, что работа закончена и дивно как хороша, но художник (сейчас я думаю, что это был студент-архитектор) продолжал отрабатывать детали.
Отец потянул меня уходить, но я не мог оторваться от этого зрелища и посмотрел на него умоляюще. Мы остались.
Наконец художник отложил кисть и задумался. Черезнекоторое время он сменил воду в банке и решительно своей широченной кистью стал смывать всё сделанное. Я ахнул. Под потоками воды гибла замечательная картина. Зачем он это сделал? Чем недоволен?
Мне хотелось плакать. Мы ушли.
Детское рисование — это прежде всего игра, забава, совсем не похожая на труд. Поэтому ребёнок не устаёт и может рисовать столько, сколько он может играть, испытывая от этого удовольствие. Если встречаются какие-то трудности, ну, скажем, он не знает, как нарисовать предмет в перспективе, — ничего страшного, положит его на бумагу, как древний египтянин, боком, и вся недолга. При приёме в художественную школу обычно смотрят уже на какие-то взрослые умения. С таким ребёнком легче работать в дальнейшем. Игруна же нужно вводить в серьёзное рисование почти насильно. Ему трудно перейти на новые рельсы, новое видение окружающей жизни. Я был в 12 лет таким игруном, мне было поначалу очень тяжело. Когда передо мной поставили гипсовые кубы, конусы и цилиндры, я просто не знал, что с ними делать, как за них приняться. Я не знал, что такое светотень, не умел штриховать, мне это казалось очень скучным занятием. Была даже мысль уйти из школы, но всё-таки любовь к этому делу, очаровательный запах масляных красок, великий энтузиазм окружающих, творческая атмосфера, прекрасные работы старших на стенах коридоров, — всё это заставило меня остаться. За мои начальные неуспехи меня могли отчислить, но этого не произошло — я думаю, по соображениям гуманности. Я поступил в художественную школу в 1943 году в разгар войны. Было голодно, в стране действовала карточная система. Директор Николай Августович Карренберг сумел выхлопотать у властей продовольственные карточки высшей категории для учащихся. Стало быть, считалось, что, ежели ученика отчисляли, тем самым его лишали и куска хлеба. Я не помню, чтоб кого-то отчисляли, разве что иногда кто-то сам уходил по разным причинам. Я осваивался в школе довольно медленно. Некоторые успехи пошли у меня на третий год. К сожалению, моя мама с няней, убеждённые, что мои учебные рисунки мне уже не нужны, в моё отсутствие безжалостно вынесли их на помойку. Не сохранилось ничего, что я делал в художественной школе. Поэтому я не могу проследить свой путь. Помню, что моё недоумение и вопросы к моему педагогу М. А. Славнову чаще всего оставались без вразумительного ответа. Он мог иногда сесть на моё место и что-то довольно грубо намазать, а на словах лишь корректировать: выше — ниже, больше — меньше, теплее — холоднее и т. п. Переходя в следующий класс, я попадал к другому наставнику, который ничем существенно не отличался от первого. Не могу вспомнить никого, кто бы мог открыть мне глаза на профессию. Учились мы друг у друга, на репродукциях и походах в Третьяковку. Первый дельный наставник появился у меня лишь на третьем курсе Суриковского института. Это был Борис Александрович Дехтерёв.
Если завтра война
Однако пора вернуться к останкинскому детству. До войны шли весёлые, легкомысленные и дурацкие кинокомедии: «Весёлые ребята», «Волга-Волга», «Девушка спешит на свидание». Помню, Эдик из 14-го дома первым посмотрел «Весёлых ребят» и, захлёбываясь от восторга, пересказывал нам смешные трюки, свалку бунтующих оркестрантов и нашествие скота в богатый дом. Через какое-то время и мы посмотрели этот фильм, и восторг стал всеобщим. Потом были чаплинские фильмы — «Новые времена» и «Огни большого города», которыми мы восторгались. Ну, конечно, ещё «Праздник святого Йоргена» с Анатолием Кторовым и Игорем Ильинским. В 1936 году наши военные «тайно» участвовали в войне испанских республиканцев с Франко. Тайна эта была весьма прозрачна. Естественно, и фильмы сменили тему. Вместо нашей Гражданской войны теперь они показывали какие-то абстрактно-военные события: «Парень из нашего города», «Истребители», «Трактористы». Наши танкисты всегда, разумеется, были победителями. Правда, кого они побеждали, было не совсем ясно. Эти враги не были белогвардейцами или фашистами. Они были просто «врагами». Видимо, пока мы ни с кем не разодрались, намекать на конкретного противника не рекомендовалось.

Литография «Игра в войну»Во дворе тоже шла непрерывная военная игра. Мы разбились на две враждующие армии. Одна, красные — это Владик, я и Эдик, другая, тоже красные (белыми никто не хотел называться) — это Гарик, Боря и Вовка Тарасов. Эти трое были моложе, поэтому они нас боялись и часто бои заканчивались слезами и скандалом родителей. Бодрую песню «Если завтра война» пели по радио так часто, что дети во дворе придумывали новые варианты текста взамен надоевших. Эдик, приехавший от бабушки с Украины, привёз даже такой:
Но пока у нас речь идёт о весёлом предвоенном времени. Фильм «Тимур и его команда» давал идеальный образ по-взрослому разумного и ответственного ребёнка и насаждал культ героической армии. Мы завидовали Эдику. Его отчим подарил ему настоящий авиационный шлем и пимы из собачьего меха, с которыми он не расставался почти до лета. В один прекрасный день мы услыхали по радио, что наши войска пришли на помощь братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии, и тут же появился плакат: крестьянин целуется с бойцом Красной армии. Никто, конечно, не смел сказать, что это оккупация восточной Польши по договорённости с Гитлером.

Литография «Авиаторы»На обширном поле в глубине Парка им. Дзержинского был устроен полигон для желающих освоить лётное дело. Там торчала вышка для прыжков с парашютом. Правда, парашют этот был на привязи и спускался не на скорости свободного падения, а гораздо медленнее, чтоб не разбиться и растянуть удовольствие. Невдалеке стояли в качестве экспонатов настоящие самолёты с зачехлёнными моторами и пропеллерами. На них влезала малышня и разглядывала устройство кабин. Тут же рядом крепкие юноши тянули, взявшись по-бурлацки за два конца, резиновый жгут наподобие рогатки, прикреплённый к носу фанерного планера. Тянули по команде «раз-два, взяли!» до мыслимого предела их мускульной силы. Затем сидящий в кабине курсант отпускал зацепку на хвосте своей машины, и она взлетала на высоту 10 метров, при этом «бурлаки» падали в траву. Планер пролетал метров 100 и грохался на брюхо. Потом всё начиналось сначала, но за штурвал садился другой «пилот», а прежний брался за жгут. Мы часами наслаждались этим зрелищем и приходили домой уже вечером, возбуждённые и уставшие. Засыпая на террасе, я видел в небе над парком веера фейерверка. Взрослые жили весело. Мрачность лица была редкой и предосудительной. Сурово брови насупить можно только в случае, «если враг захочет нас сломать», во всех других случаях надлежало торжествовать и славить.
Няни
В начале 1930-х годов в Москве появилось много девушек провинциального вида, плохо одетых и худых. Говорили они напевно с мягким горловым «г» и вместо «что» говорили «шо». Шли они на самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу, но девушек этих становилось так много, что вакантные места быстро заполнились. Куда деваться? Они стали наниматься в семьи домработницами и нянями. Их охотно брали, ибо некоторые из них готовы были работать бесплатно, лишь за еду и приют.
 В Останкине все семьи обзавелись такими домработницами. У нас тоже перебывало их несколько, даже при нашей тесноте. Бабушке нужна была помощь. Она вела хозяйство, готовила, но заниматься ребёнком нанималась няня. Спала она на рояле.
Елена Емельяновна тоже взяла к Владику няню. Это была тихая девушка родом с Востока, неграмотная и тёмная. Вспоминается эпизод с фаянсовым заварным чайником. Как-то ей поручили мыть посуду, и она долго и добросовестно тёрла мочалкой чайник — на нём был какой-то коричневый рисунок, который няня приняла за грязь.
Наконец кому-то пришла в голову идея устроить ночлег нашим няням в прихожей. Позвали плотника Филина из домоуправления, и он соорудил над входной дверью дощатые полати. Туда постелили матрацы, и обе наши няни забирались по лестнице туда на ночь.
Эти девицы по секрету рассказывали о диком голоде 1930-х годов, который погнал их из деревни в город. У некоторых семьи поголовно вымерли. Пару лет на Украине был недород хлеба, а власти забирали всё подчистую, и весной нечего было сеять.
Последняя моя няня Лена была родом из Белоруссии, которую постигли те же бедствия, что и Украину. Она прожила с нами много лет, была с нашей семьёй в эвакуации во время войны, жила с нами просто, как член семьи, нянчила мою сестру. После войны она обзавелась собственной семьёй, но связи с нами не теряла. Умерла она в 2007 году, немного не дожив до 90 лет.
В Останкине все семьи обзавелись такими домработницами. У нас тоже перебывало их несколько, даже при нашей тесноте. Бабушке нужна была помощь. Она вела хозяйство, готовила, но заниматься ребёнком нанималась няня. Спала она на рояле.
Елена Емельяновна тоже взяла к Владику няню. Это была тихая девушка родом с Востока, неграмотная и тёмная. Вспоминается эпизод с фаянсовым заварным чайником. Как-то ей поручили мыть посуду, и она долго и добросовестно тёрла мочалкой чайник — на нём был какой-то коричневый рисунок, который няня приняла за грязь.
Наконец кому-то пришла в голову идея устроить ночлег нашим няням в прихожей. Позвали плотника Филина из домоуправления, и он соорудил над входной дверью дощатые полати. Туда постелили матрацы, и обе наши няни забирались по лестнице туда на ночь.
Эти девицы по секрету рассказывали о диком голоде 1930-х годов, который погнал их из деревни в город. У некоторых семьи поголовно вымерли. Пару лет на Украине был недород хлеба, а власти забирали всё подчистую, и весной нечего было сеять.
Последняя моя няня Лена была родом из Белоруссии, которую постигли те же бедствия, что и Украину. Она прожила с нами много лет, была с нашей семьёй в эвакуации во время войны, жила с нами просто, как член семьи, нянчила мою сестру. После войны она обзавелась собственной семьёй, но связи с нами не теряла. Умерла она в 2007 году, немного не дожив до 90 лет.
Детский сад и скарлатина
Когда мне было лет пять или шесть, меня зачем-то решили водить в детский сад. Я ходил туда не очень долго. Сад мне не нравился. Во-первых, надо было рано вставать и ехать туда на трамвае, так же и возвращаться. Во-вторых, казённая еда была мне не по вкусу, особенно её запах. С детьми я, видимо, не сошёлся, ибо никого из них не запомнил. Помню лишь одного пацана, который во время мёртвого часа показывал мне из-под одеяла свою пиписку. В уборную я как-то поспешил в чулках, не успев надеть ботинки, а там на полу была сплошная лужа, и я промочил ноги. Особенно мне не нравились неопрятные девочки. Здесь мне впервые довелось убедиться, что они устроены не так, как мальчики. Во дворе был сооружён огромный игрушечный пароход. Дети ползали по нему, вертели штурвал, но настоящей игры, как у нас во дворе, не получалось. Кончилось всё это тем, что я вскоре заразился скарлатиной и попал в больницу.
Инфекционная больница выходила окнами в сад. В нашей палате на первом этаже помещались четыре кровати. Больница не воспринималась мною как дом страданий. Напротив, и тут оказалось много радостей и удовольствий. Трое мальчиков в палате были одной социальной группы, дети совслужащих, но один парень, на пару лет старше остальных, Гриша, был из рабочей среды. В школу он не ходил, был неграмотен, но развит не по годам. У него имелась колода карт, и он вскоре выучил нас играть в дурака. Это нам очень понравилось. Скарлатина у всех протекала в лёгкой форме при нормальной температуре и хорошем аппетите. Наши сердобольные родители закармливали нас большим количеством сластей и, главное, ягодами и фруктами. Я съедал очень много малины, клубники, черешен и крыжовника. К Грише приходили редко, приносили ему не помню что, но не ягоды. И мы щедро делились с ним нашими гостинцами. Весь день (а дни были в том августе тёплые и солнечные) шла игра в наши домашние настольные игры: «летающие колпачки», «цирк», «триктрак» и, конечно, в карты. К вечеру появлялись родители, и поскольку из-за карантина их в палату не пускали, они передавали нам через окно, контрабандой, фрукты и ягоды прямо с близлежащего рынка. Узнав, что Гриша без ягод, наши мамы стали приносить их ему специально. Здесь я, кажется, впервые услышал анекдоты, которых у Гриши был солидный запас, некоторые весьма неприличные. Кто-то из ребят умел из бумаги складывать всякие кораблики, петушков и пр. Этому искусству обучились и все остальные. Выписали нас почти одновременно — всех, кроме Гриши, у которого вдруг получилось осложнение: опухла мошонка. А наши принесённые родными игры из-за карантина должны были остаться в больнице на радость новым пациентам. Карантин — сорок дней. Когда я вернулся домой, этот срок ещё не истёк, поэтому мне не разрешали общаться с друзьями во дворе. Их тоже строго об этом предупредили. Я очень по ним соскучился и был безутешен. Однако гулять мне было разрешено, но на расстоянии от других детей. Утром я вышел с газетной бумагой, сел на закрытый сруб колодца и стал складывать кораблики и петушков из этой бумаги. Мои друзья с большим любопытством молча смотрели издали. Интерес к моему делу заставил их подползать ближе и ближе. Они молчали, и я молчал. Наконец я не выдержал и сказал: «Но поговорить-то хоть издали мы можем?» Стали разговаривать, но на словах трудно объяснить, как правильно складывать петушков. Они подошли ещё ближе… и как-то незаметно все забыли про карантин. Скарлатиной никто от меня не заразился.
Поездки на Украину
Когда наступало лето, приходило время сплошной радости — время дворовых игр, прогулок в «Дубках» или в Парке им. Дзержинского. Останкино — пригород, кругом природа, есть даже купание — местные пруды (тогда ещё чистые). Ни о каких дачах не было поначалу и помину. Но нашей маме этого было мало. Она мечтала свозить меня на свою родину — на Украину.
В моих воспоминаниях нет точной хронологической последовательности. Память подбрасывает мне отдельные более или менее яркие эпизоды и события, но что было раньше, а что позднее — порой ускользает от неё. Иногда хочется что-то уточнить, что-то спросить у старших; но увы! — нет уж на свете ни бабушки, ни дедушки, ни мамы, ни папы. Поездок на Украину было две. Первый раз мама повезла меня году, кажется, в 1935-м или 36-м. Поехали совместно с маминой приятельницей Верой Ступиной в некое место с громким названием Александрия. Как я сейчас понимаю, это украинская глубинка, захолустье. У маленькой речушки, полузаросшей камышом, — десятка два глиняных мазанок, крытых этим камышом и соломой, с земляным полом, на плетнях висит тряпьё, на кольях — макитры (горшки), много кур, хозяйки ходят босиком. Мы поселились в такой хате. Жара стояла изнуряющая. В полдень, после обеда, меня укладывали спать. В хате с земляным полом и с закрытыми ставнями было чуть прохладнее, легче было дышать, но засыпал я не всегда. Как-то меня уложили, а взрослые куда-то ушли. Я лежал в полутьме. В ставне светилась маленькая дырочка. Вдруг я увидел на противоположной стене буквально цветное кино. Что-то двигалось, шевелилось, зеленели деревья, ярко сияло небо, но почему-то внизу, а пыльная земля была, наоборот, под потолком. Удивлённый, я приподнялся на постели и стал всматриваться в эту живую картину. Потом я опустил голову вниз, перевернулся и ясно увидел двор с сараем, деревья, колодец. Вот кто-то прошёл мимо окна — это, кажется, моя мама. И точно, мама через минуту вошла в комнату. Увидев, что её сын стоит на кровати кверху попой, она принялась было меня бранить, но я показал ей картину на стене, и тут уж и она в свою очередь удивилась. Объяснить это явление никто мне не мог. Значительно позднее, уже школьником, я прочёл где-то про камеру-обскуру и нашёл удовлетворительное объяснение. Кроме того, такой же эффект получался в камере нашего «Фотокора». Поначалу мне всё это было внове и нравилось, но жара стояла несусветная, и было множество надоедливых мух и комаров. С Вериным сыном Севой мы купались до посинения в мелкой речушке, но вскоре он заболел дизентерией, а я — малярией с высокой температурой. Хозяин съездил в районный городок и привёз для меня хины. Через какое-то время мне стало легче. Однажды под утро нас разбудил страшный грохот. Выбежав из хаты, мы узнали, что это взорвали церковь. Днём мы вышли на маленькую площадь в центре села и увидели огромную груду красного кирпича. Поодаль стояла небольшая группа людей. Бабы боязливо крестились, глядя на развалины. А иные уже деловито набирали кирпичи и тащили к себе на хозяйственные нужды. Уехали мы из этой Александрии раньше, чем предполагали.
Вторую поездку мы предприняли через пару лет. На этот раз место называлось Алёшки (или Олёшки?) под Цурюпинском. За два года, как видно, жизнь на Украине наладилась, стало больше скота, хаты выглядели более нарядными и уютными. Теперь мы поселились в доме с деревянным полом под железной крышей. Хозяин был зажиточный колхозник, усадьба — с довольно большим садом. В том году был отличный урожай фруктов — вишня, яблоки, особенно обильно плодоносили абрикосовые деревья. Такого количества абрикосов я больше никогда не видел. Сперва я набросился (с позволения хозяина, конечно) на свежие абрикосы, не брезгуя и недоспелыми, потом, пресытившись, стал выбирать лишь перезрелые, особенно сладкие, потом перешёл на сушёные (их много сушилось на крышах сараев), а потом и они мне обрыдли, и я лакомился только ядрышками абрикосовых косточек. Хозяин, показывая мне своё хозяйство, как-то завёл меня в хлев, где обитал гигантский кабан величиной, как мне показалось, с небольшого бегемота. Ему бросили здоровенный гарбуз (тыкву), и он враз с ним расправился. Хозяин сказал, что скоро будет ярмарка и кабан созрел под сало. Через несколько дней утром я увидел, как хозяин на оселке точит большой нож. Тушу кабана смолили (сжигали его щетину). Дети хозяина суетились вокруг костра и ждали каких-то «шкварочек». Потом, помню, мужик складывал в чемодан огромные куски толстого розового сала. Хотя нам вроде бы неплохо жилось под крылышком хозяев, мама почему-то купила курсовку в близлежащий санаторий, и мы стали ходить к ним обедать. Но не только обедать; там было и кино, и лекции, и чтение с эстрады, и прочее «удовлетворение культурных потребностей». Мне запомнилось чтение (вернее, устное повествование) одного (не помню имени) писателя, который очень живо рассказывал с эстрады главы своего романа. Сейчас я думаю, что это был событийный, несколько слащавый непритязательный роман, поскольку он был понятен и не вызывал никаких вопросов у семилетнего слушателя. В Олёшках жизнь была сытная и интересная, но маме не сиделось на месте, ей хотелось показать мне Украину шире, и вскоре мы снялись и отправились на юг, ближе к Херсону. Неделю-две мы купались и загорали в Днепровских плавнях. Мелкие заливы, песок, сосны… Там я видел экзотических для москвича птиц — удода, например. Наконец мы оказались в Херсоне. Остановились у маминой подруги юности. Нам были искренне рады. Квартира находилась в центре Херсона, с балконом и видом на городской сквер. Мама с подругой как сели рядком, да как затеяли долгий разговор с воспоминаниями, так и просидели пару дней, не обращая никакого внимания на детей. А детей у подруги было двое: две девочки. Одна — моего возраста, её звали Натка, и её сестричка — полуторагодовалая Любочка. С Наткой мы быстро сдружились и всё время ходили, взявшись за руки. Ходили гулять в сквер и ловить стрекоз, отдыхающих на железных пиках изгороди. Маленькая Любочка, весьма смышлёный, но ещё не говорящий ребёнок, — жуткая шкода. За ней нужно было постоянно наблюдать. Но поскольку наши мамы увлеклись разговорами, бдительность ослабла, и Любочка не замедлила показать, на что она способна. Сначала она напилась из помойного ведра, зачерпнув жидкость выеденным яйцом, при этом сказала: «ах-х-х-х!» (что означало: как вкусно!), потом оказалась на балконе и, просунув головёнку между железными прутьями перил, не смогла вынуть её обратно. Пришлось позвать соседей, и те помогли освободить Любочку, раздвинув прутья чем-то железным. Здесь, на Украине, общаясь с местными людьми, я замечал, что их русский язык не походил на наш, московский. Он был мягче, ласковей, напевней. Тут я понял, откуда эти интонации у Марьи Миновны, матери Эдика, которая была родом из этих краёв, и у моей мамы (правда, в меньшей степени). Натка свободно говорила и по-русски, и по-украински.
Когда мы уезжали из Москвы, дед дал маме поручение найти и повидать его старого приятеля. У нас был адрес, и мы без труда нашли его дом. Правда, самого приятеля дома не оказалось. Нам дали адрес его работы, а работал он в центре города, на главной улице, в антикварном магазине. Туда мы и явились. Приятель деда оказался лысым полным стариком с золотыми зубами и с выражением постоянной печали на лице. Он узнал маму. Они долго беседовали, стоя у прилавка, а я ходил по магазину и рассматривал разную старинную рухлядь и роскошь. Всякие витиеватые бра и канделябры, старинные часы со скульптурой, бронзовые фигуры обнажённых дев, даже какое-то восточное с инкрустацией седло, старорежимную потёртую мебель и пр., и пр.
 Осмотрев весь магазин, я вернулся к маме и стал ждать, когда они кончат беседу. Но это тянулось очень долго. Однако за всё это время я не заметил, чтоб в магазине появился хоть один покупатель. Приятель деда, как мне говорили, был когда-то успешный негоциант, был богат, но революция его сильно тряханула, он не успел эмигрировать и сейчас работал на государственной службе специалистом-оценщиком антиквариата.
Херсон оказался очень красивым и уютным южным городом, очень зелёным, с добротными постройками XIX века в центре, с типичными закрытыми внутренними двориками, с каменной брусчаткой и широкими тротуарами, выложенными плитами.
Мама ходила по знакомым ей и мало изменившимся местам своего детства и юности и вздыхала. Зашли мы в их родной двор, постояли, подождали, но никто из старых жильцов не появился.
Осмотрев весь магазин, я вернулся к маме и стал ждать, когда они кончат беседу. Но это тянулось очень долго. Однако за всё это время я не заметил, чтоб в магазине появился хоть один покупатель. Приятель деда, как мне говорили, был когда-то успешный негоциант, был богат, но революция его сильно тряханула, он не успел эмигрировать и сейчас работал на государственной службе специалистом-оценщиком антиквариата.
Херсон оказался очень красивым и уютным южным городом, очень зелёным, с добротными постройками XIX века в центре, с типичными закрытыми внутренними двориками, с каменной брусчаткой и широкими тротуарами, выложенными плитами.
Мама ходила по знакомым ей и мало изменившимся местам своего детства и юности и вздыхала. Зашли мы в их родной двор, постояли, подождали, но никто из старых жильцов не появился.
Терраса
В детстве я болел часто, с высокой температурой и даже с бредом. Обычно днём у меня 37,5, мне читают книжки, кормят сухариками; а вечером перед сном колко лежать на неизбежных сухарных крошках. Меня поднимают, держат на руках завёрнутым в одеяло, стряхивают мою простыню и укладывают вновь. Я засыпаю, но ночью поднимается температура, я мечусь в поту, брежу. Мне кажется, что я трясусь на грубой телеге по булыжнику, на короткий миг наступает грозное коварное затишье, но оно обманчиво — и снова гром булыжника. Через день-другой становилось легче, бред исчезал, возвращалась радость жизни, а с ней и аппетит. Я помню, что, лёжа со свинкой или гриппом, я всегда слышал за нашей дверью, как там скребётся Владик, и видел его любопытствующую физиономию, когда бабушка, входя и выходя, приоткрывала дверь. Мы не могли вытерпеть долгой разлуки. Взрослые не выдерживали наших нудных выпрашиваний и, не дождавшись выздоровления, впускали здорового к больному. Мы часто друг от друга заражались и в очередь болели одними и теми же болезнями. Последнюю неделю апреля я ходил возле запертой двери на террасу в нетерпеливой тоске, дёргал за ручку, но дверь не поддавалась, не поддавались и взрослые: «Ещё рано! Холодно!» Меня отправляли гулять во двор. Придя домой, я снова просил открыть террасу. — На дворе уже жара, я вспотел даже! Но мне говорили, что к вечеру ожидается похолодание, даже мороз, и что открывать рано. Через день, действительно, становилось пасмурно, лил дождь, и меня охватывало отчаянье. Открывали террасу всегда в яркий солнечный день в канун праздника Первого мая. О! Этот скрежет засова! Скрип отсыревшего дерева и наконец звук откупориваемой бочки… Роняя жгуты конопатки, дверь впускала нас на террасу. Боже! Какой поначалу она имела жалкий вид: пыльная, ещё в зимнем ознобе, забытая всеми и неубранная. Вот валяется мой прошлогодний заводной заяц, вот грязный сачок для бабочек, вот недостающий оловянный солдатик, а я-то думал, что он пропал совсем. Моют полы, протирают стёкла. Солнце золотит бревенчатую щелястую стену со следами прошлогодних усохших клопов, стирают пыль с огромного слоновоногого стола. Как я любил сидеть под ним на широкой удобной перекладине! В дверном проёме вверху — два крюка для моих качелей. Я бегу к окну, отворяю раму с дребезжащими стёклами и гляжу во двор. Там гуляет Владик. Я ору ему: «Э-ге-ей! А вот и я!» Он поднимает голову: «Уже открыли?!» — и летит со всех ног к нам.
На следующий день, вернувшись с демонстрации, взрослые накрывают обедать уже на террасе, настроение у всех прекрасное. Отец и дед, хмуро кивнув друг другу, молча выпивают по рюмке водки.
 Поздно вечером мама с папой уходят в гости, а я, засыпая, уже не слышу звуков нудной стелёжки. Нет теперь нужды подставлять стулья к кровати, ибо дед уходит спать на террасу.
Поздно вечером мама с папой уходят в гости, а я, засыпая, уже не слышу звуков нудной стелёжки. Нет теперь нужды подставлять стулья к кровати, ибо дед уходит спать на террасу.
Прогулки с дедом
Выходных дней было больше, чем сейчас. Тогда страна работала пять дней, шестой — выходной. Слова «понедельник», «вторник» и прочие не употребляли, говорили: 1-й день, 2-й день и т. д. Слова «неделя» не было. Была «шестидневка». Иногда в выходной дед изъявлял желание со мной погулять. Он не любил ходить в лес, мы с ним всегда направлялись в людные места: либо в парк Шереметевского дворца, либо в сад им. Калинина, там был кинотеатр, а иногда даже садились в трамвай и ехали куда-то долго-долго, в центр, любуясь разноцветными огнями города. Я щурил глаза и замечал, что у всех огней сразу вырастали четыре лучика; чем крепче щуришься, тем длинней лучики, а если покачать головой, то и огоньки покачивают своими лучиками. Если такие поездки мы с дедом совершали в праздники, то это называлось «любоваться иллюминацией». Действительно, в такие вечера Москва становилась светлее в десятки раз. Все карнизы домов одевались в разноцветный электрический наряд. Лампочки пульсировали и мигали, а все окна первых этажей, выходившие на улицу, превращались в праздничные алтари. Витрины магазинов, парикмахерских и даже прачечных затягивались красным кумачом, выставлялись портреты Ленина и Сталина и лампочками писались лозунги: «Да здравствует XX Октябрь!» или «Да здравствует Первое мая!» Я спрашивал у деда: «Что такое „Да здравствует“?» «Это значит: будь здоров, не болей!» «А что, разве Октябрь болеет?» Дед улыбался и оставлял такой вопрос без ответа. В центре мы пересаживались на обратный трамвай. Дед разрешал мне подать кондуктору деньги на билет. Сидели мы на детских местах, и кондуктор сам подходил к нам. К концу такой прогулки я уставал и даже, случалось, засыпал на трамвайном сидении.

Эскиз литографии «Прогулка с дедом»Больше всего я любил ходить с дедом на охотничий стенд. На болотистом поле за забором стояли маленькие столики с углублениями для ружей. Четверо или пятеро стрелков палили в очередь по вылетавшим из-под земли чёрным угольным дискам-тарелочкам. Если дробь попадала в цель, то летящая тарелочка превращалась в чёрную пыль, если нет, то она невредимая падала в траву. Были большие мастера такой стрельбы. Они били дуплетом по двум тарелочкам без промаха. Резко и вкусно пахло пороховым дымом. Я был в восторге. Когда стрельба кончалась, мне разрешали собрать стреляные картонные гильзы с медными наконечниками. От гильз изумительно пахло. Я надевал их на все десять пальцев и гремел, как кастаньетами, а кроме того, это был предмет мальчишеского обмена.
«Упал-намоченная»
Помню, как-то летом под вечер стриж залетел к нам на террасу. Он метался страшно, со всего маху бился грудью о стёкла, путался в занавесках. Мне удалось его рассмотреть вблизи. У него оказалась огромная пасть и малюсенькие цепкие лапки. Бабушка сказала, что это очень плохая примета, когда птица залетает в дом. Она велела всем уйти в комнату, а сама, осторожно ступая, обошла террасу и открыла все окна. Мне очень хотелось наблюдать за поведением стрижа, но бабушка закрыла дверь. Через некоторое время мы вышли из нашего укрытия. Стрижа на террасе уже не было. К ночи налетела страшная гроза, которая запомнилась мне на всю жизнь. Всё случилось как-то внезапно: вот был ещё вечер и вдруг мгновенно потемнело и настала настоящая ночь. И тут началось невообразимое сверкание молний. Каждая вспышка на миг освещала соседний дом и гнущиеся под ветром тополя. Гром грохотал прямо над нашим чердаком. Я подумал: каково сейчас верхним соседям? Удары следовали с почти равномерными малыми промежутками. Одна молния, как мне показалась, ударила прямо во двор Марьи Григорьевны. Мне было страшно, но весело и любопытно. Я сидел на дедовой кровати и глядел на окна. Дождя долго не было. Порывистый ветер налегал на стёкла, пытаясь их выдавить. Рамы дрожали и кряхтели. Что-то билось снаружи в стёкла, вероятно, сорванные листья и всякий мусор, поднятый ветром. В животе моём что-то сосало и обрывалось при каждой вспышке. Видно, страх мой находился именно в животе. Мне казалось, что я не выдержу этого напряжения. Но вот наконец-то дождь застучал по стенам и стёклам. Найдя какие-то малые щели, он обдал меня градом мелких брызг, и край подушки, обращённый к окну, скоро намок. Мелкие холодные брызги полетели в моё разгорячённое лицо. Я отшатнулся. Вскоре вода зашумела в водосточной трубе и забурлила, наполняя бочку, а через минуту побежала наземь из уже переполненной бочки. Свидетелем такой сильной грозы я был впервые. Тут меня, конечно, прогнали с террасы и уложили в постель. Гроза хулиганила до рассвета, а утром, проснувшись, я выглянул в окно и увидел, что натворила стихия за эту бурную ночь. На мокрой траве лежали крупные ветки тополей с зелёной листвой, на деревьях виднелись следы обломов. Один тополь сломался пополам, другой лежал на земле с вывороченным мохнатым корнем; лужайка перед колодцем превратилась в болото. Дождя уже не было, но было пасмурно и прохладно. Нижние соседи пробирались по своим делам, неся в руках кирпичи и бросая их в широкие лужи. Днём было скучно. Нас с Владиком выпустили во двор в ненавистных галошах, и то на короткое время. Кажется, в этот день после грозы случилось смешное событие с моей бабушкой. За ней, как за единственным человеком в нашей квартире, не ходящим на службу, пришли из домоуправления и потащили на собрание. Она отсутствовала часа два и явилась домой мокрая и вся в глине. Выяснилось, что на собрании её назначили уполномоченной по наблюдению за санитарным состоянием нашего двора. На обратном пути в размокшем переулке она поскользнулась и села в лужу. Явившись домой в таком плачевном виде, она тем не менее весело сострила: «Теперь я „упал-намоченная“, и поэтому я немедленно упала и намочилась».
Дворец
Останкинский дворец графа Шереметева — конечно, главная достопримечательность нашего района. Здесь мы гуляли в парке и с родителями, и с нянями, и с дедом. Зимой в раннем детстве я любил заглядывать в окна дворца со стороны парка. Сквозь узкие щели внутренних жалюзи видны были фрагментарно прекрасные вазы лилового стекла, жирандоли с хрустальными подвесками. Это был какой-то сказочный особенный мир, никак не связывающийся в моей голове с понятием «жильё». Жильё — это наша коммуналка, а тут — храм.

Литография «Белый дядя»С весны дворец открывали для посетителей. Ноги мои в огромных тапочках скользят по вощёным скрипучим ступеням мимо мраморных мужчин с детскими лицами. Вот и хрустальные жирандоли, которые я видел зимой, вот старинные почерневшие картины с полуобнажёнными героями, вот домашний графский театр, похожий на танцевальный зал. Белые колонны оказались из папье-маше; за провисающим оградительным шнуром стоят роговые инструменты от очень большого до самого маленького; вот Ковалёва-Жемчугова с перьями на голове. Долго стою перед её портретом, слушаю экскурсовода. Идём шаркающей толпой по галерее, в окна виден парк, где зимой, катаясь с искусственной горы на санках, я налетел зубами на дерево. В красивом симметричном цветнике — вазы с козлиными головами вместо ручек и статуи, освобождённые от зимних ящиков. Одну я узнаю. Меня в младенчестве ею пугали. Это бюст дамы с отбитым носом — кажется, Деметра, а по-нашему — «курносая баба». Спускаемся по лестнице и оказываемся перед орудиями пыток и наказаний. На стене висит картина, где изображена крепостная крестьянка, кормящая грудью борзых щенков. Я удивлён: неужели граф одну крепостную любил, женился на ней, а других пытал? Выйдя из музея, мы идём в современную часть парка. Тут тоже статуи, но безобразные, грубые, покрытые многими слоями масляной краски: замахиваются ракетками, держат снопы. Какие-то плакаты, антирелигиозная пропаганда, корявые диаграммы роста. Всё сравнивается почему-то с 1913 годом. Зато здесь — лодки на пруду и качели, карусель, тир, детский городок. Я скатываюсь с клеёнчатой, нагретой на солнце горки, и обжигаю свою нежную спину. С папой я ходить не люблю, он уж очень гневлив, его раздражает всякий пустяк, всякий мелкий непорядок. Упаси боже, идя с ним за руку, споткнуться!
Зависть
В мае копали огороды, сажали лук, салат, редис. Выносили на грядки золу из печей, ходили к Акулине за навозом. Соседи соперничали друг с другом. Каждый старался вскопать чуть больше, чем в прошлом году. Я боялся, что жадность и зависть вскопают наконец весь двор и негде будет играть. Но в июне и июле иногда выпадало мало дождя, посевы чахли. Воду брали из колонки за трамвайной линией — расстояние немаленькое, не натаскаешься для полива, и захваченные из жадности по весне площади не приносили выгод. Зависть, как известно, чувство постыдное, и мне внушали с малолетства отвращение к ней. И казалось бы, чему и кому можно было завидовать в то весьма бедное и скудное время? Но оказалось, что почва для зависти и в те, довоенные времена была достаточно плодотворна. Мы жили в «нашей юной прекрасной стране», декларирующей всеобщее равенство, и тем не менее я помню, что всяк всячески и всему завидовал. Если кому-нибудь покупали велосипед, другой, конечно, завидовал и не считал зазорным тотчас требовать у своих родителей, чтоб ему купили такой же или ещё лучше. Завидовали друг другу и взрослые. Мы, дети, это прекрасно видели. Из зависти и соперничества покупали вещи, сажали помидоры и клубнику, занимали верёвки на чердаках, даже чуть ли не на курорты ездили из зависти. Елена Емельяновна почему-то претендовала на половину нашей террасы и строчила наветы и доносы по месту службы моего отца. Некоторые держали домработниц не по надобности, а из престижа, и эти домработницы тоже друг другу завидовали. Я завидовал Владику потому, что у них в комнатах было солнце и уютно и вкусно пахло из сундука сушёными яблоками, а он мне завидовал потому, что меня хвалили за мои рисунки. Его мамаша, правда, умела вернуть ему достоинство, сказав: «Подумаешь, хорошо рисует! Если б ты тратил столько времени на это занятие, сколько тратит он, то ты рисовал бы не хуже». Это его успокаивало. Ещё я завидовал всем детям, у кого день рождения был летом. Таким старуха Барзам, которая выползала на крыльцо только в тёплое время года, дарила старинные книги из своей библиотеки. Мой день рождения приходился на январь, и я, бедный, оставался без подарка. Ну и, конечно, все завидовали тому, кто выигрывал в лотерее или по облигациям, повышению по службе, удачной покупке, отменному здоровью.
Женя
Один раз зимою у соседей гостили родители Елены Емельяновны из Кабаева. Дед Владика, старик медлительный, немногословный, с редкой седой бородой, приезжал в Москву с бабушкой на лечение. У него был какой-то недуг в спине. Бабушка натирала его мазью, а он кряхтел и охал. Старики варили себе пшённую кашу, очень крутую, и ели ее деревянными ложками, по-деревенски. Целыми днями дед Емельян Иванович сидел на стуле перед окном и комментировал всё, что видел во дворе: «Соседка пошла по воду», «Идёт почтарь, несёт письмо». Владик говорил мне, что дед его был солдатом во время Первой мировой войны, ранен в ногу. Потом какое-то время служил сторожем в хозяйстве учёного Петра Капицы, а после уехал к себе в Кабаево.
 Гостили они до весны, а на лето и Владик с родителями переехал в Кабаево, а свои московские комнаты они временно предоставили провинциальным родственникам. И появились у нас по соседству две женщины (бабушка и мама) и девочка Женя, которая была старше меня на несколько лет.
Они сразу освоились и зажили, как в своём доме. Женя училась в школе, кажется, в третьем классе. Я по привычке торчал и у них целыми днями. Меня не прогоняли. Очень мне нравилось наблюдать, как Женя делает уроки. Она со вкусом приклеивала промокашку к тетради при помощи ленточки и розочки, вырезанной с мыльной обёртки; ставила на тетрадь рюмку и ловко обводила карандашом — получался аккуратный кружок, внутри которого проводилась стрелка к другому кружку; под чертежом ложились ровные лиловые строчки. Женя склоняла голову набок, и прядь волос касалась бумаги.
Гостили они до весны, а на лето и Владик с родителями переехал в Кабаево, а свои московские комнаты они временно предоставили провинциальным родственникам. И появились у нас по соседству две женщины (бабушка и мама) и девочка Женя, которая была старше меня на несколько лет.
Они сразу освоились и зажили, как в своём доме. Женя училась в школе, кажется, в третьем классе. Я по привычке торчал и у них целыми днями. Меня не прогоняли. Очень мне нравилось наблюдать, как Женя делает уроки. Она со вкусом приклеивала промокашку к тетради при помощи ленточки и розочки, вырезанной с мыльной обёртки; ставила на тетрадь рюмку и ловко обводила карандашом — получался аккуратный кружок, внутри которого проводилась стрелка к другому кружку; под чертежом ложились ровные лиловые строчки. Женя склоняла голову набок, и прядь волос касалась бумаги.
 Ещё Женя любила поесть. В промежутках между завтраком и полдником, обедом и ужином она ела большие ломти чёрного хлеба, намазанные маслом и посыпанные сахарным песком. Женя была человеком иной, нежели все меня окружавшие люди, породы. Она была вне зависти, была добра и спокойна, кроме того, она весьма беспечно относилась к законам собственности.
Я помню, что брала она всё, что хотела, без спросу и смущения. Вот она идёт, царственно и спокойно, мимо грядок и кладёт себе в рот алую и зеленоватую клубнику, всё равно где созревшую: на их, на нашем ли участке. И никто никогда не сказал ей ни единого слова упрёка.
Мне в диковинку были их семейные отношения: ровные, спокойные. Женя была живой девочкой, а не ангелом, и ей случалось иногда сделать или сказать что-нибудь предосудительное, но её никогда не наказывали, порицание заключалось всегда в какой-либо иронической фразе или просто в вопросительной интонации. В этих случаях Женя опускала лукавые свои глаза и замолкала почтительно.
Живя рядом с этим семейством, я всё глубже понимал, что атмосфера в моей собственной семье сильно и невыгодно отличалась. Когда я сидел в солнечной Жениной комнате, моей бабушке приходилось не один раз повторять свой зов, прежде чем я, не умея скрыть гримасу раздражения, поднимался со стула и уныло плёлся к двери.
Много позднее от Владика я узнал, что Женя умерла совсем молодой во время войны.
Ещё Женя любила поесть. В промежутках между завтраком и полдником, обедом и ужином она ела большие ломти чёрного хлеба, намазанные маслом и посыпанные сахарным песком. Женя была человеком иной, нежели все меня окружавшие люди, породы. Она была вне зависти, была добра и спокойна, кроме того, она весьма беспечно относилась к законам собственности.
Я помню, что брала она всё, что хотела, без спросу и смущения. Вот она идёт, царственно и спокойно, мимо грядок и кладёт себе в рот алую и зеленоватую клубнику, всё равно где созревшую: на их, на нашем ли участке. И никто никогда не сказал ей ни единого слова упрёка.
Мне в диковинку были их семейные отношения: ровные, спокойные. Женя была живой девочкой, а не ангелом, и ей случалось иногда сделать или сказать что-нибудь предосудительное, но её никогда не наказывали, порицание заключалось всегда в какой-либо иронической фразе или просто в вопросительной интонации. В этих случаях Женя опускала лукавые свои глаза и замолкала почтительно.
Живя рядом с этим семейством, я всё глубже понимал, что атмосфера в моей собственной семье сильно и невыгодно отличалась. Когда я сидел в солнечной Жениной комнате, моей бабушке приходилось не один раз повторять свой зов, прежде чем я, не умея скрыть гримасу раздражения, поднимался со стула и уныло плёлся к двери.
Много позднее от Владика я узнал, что Женя умерла совсем молодой во время войны.
Ленинградские гости
Как-то я проснулся на террасе после дневного сна от оживлённых незнакомых голосов в комнате, но решил притвориться спящим. Затем кто-то вышел на террасу и, сразу понизив голос, сказал: «Ой, да тут кто-то спит». Мамин голос: «Это Толя, ничего, говори громко, ему уже пора проснуться». Кто-то склонился надо мной: «Боже, какой уже большой парень!» Я зажмурил сильнее глаза и замер. «На кого же он похож? Пожалуй, на папу. Ну, пусть спит…» Пришёл дед и ещё какие-то люди, сели за стол. Бабушка была сильно взволнована и предлагала всякие закуски, но дед сказал: «Феня, не суетись, сядь, дай нам поговорить с сыном». Потом я услыхал мягкий и манерный женский голос и вдруг… детский: «Мамочка, мамочка!» — «Что, детка?» — «Я хочу пи-пи». — «Сейчас, детка. Мама, где тут у вас туалет?» Я очень хотел поглядеть на свою двоюродную сестричку, но какая-то дурацкая упрямая сила сжимала мне веки. Разговор пошёл интересный. Говорили о Ленинграде, где жил мой дядя с семьёй, о родственниках и знакомых, упоминались какие-то неведомые мне имена. О некоторых говорили, понизив голос. Часто звучало слово «сидит». Я тогда думал, что сидеть можно на стуле, на горшке, но теперь это слово звучало в каком-то новом, таинственном и зловещем смысле, ибо дальше шли охи и вздохи. Я всё лежал лицом к стене. Я устал лежать, затекла нога, ныла спина, но я упрямо «спал». Снова появилась моя сестричка, которую звали Ирочка. Наконец дядя в паузе, наступившей в разговоре, вспомнил обо мне: «А кавалер всё спит? Это уже сверхъестественно, он притворяется! А ну-ка, молодой человек…» — и с этими словами он взял меня под мышки и поднял с кровати. Я был совершенно деревянный и, повиснув в его руках, сохранял ту же скрюченную позу, в которой лежал; глаза мои были крепко сжаты… Я «спал». И только когда меня посадили на колени и пощекотали, я «проснулся» и заревел. Вечером мы гуляли всем большим семейством, ходили в Дубки. Дядя нас фотографировал, было очень весело. Мы с Ирочкой всё время смеялись и крепко держались за руки. Она была младше меня на год, тёмно-русая и кудрявая. На следующий день с утра уже жарило вовсю. Видимо, был выходной, потому что вся семья и ленинградские родственники сели на террасе за обильный и торжественный стол. Окна все открыли настежь. На столе лежала не обычная клеёнка, а парадная белая скатерть. Ели селёдку и оладьи-пышки. Мы с Ирочкой быстро поели и вышли во двор, оставив взрослых за долгими разговорами. Владик и Эдик на углу, под водостоком, положа локти на края большой бочки, наполовину наполненной тухлой вонючей водой, пускали кораблики-щепки. Когда мы подошли, они немного мрачно, но вежливо потеснились. Теперь диск воды с перламутровыми разводами отразил уже четыре мордочки на фоне голубого неба. Вода, если ухитриться смотреть не как в зеркало, а вглубь, казалась коричневого цвета, дна не было видно. Стояли мы вокруг бочки очень долго. Солнце пекло наши головы, ноги устали стоять, коленки натёрлись о шершавые доски. Я первый подпрыгнул и сел на край бочки, скинул сандалии и опустил ноги в воду. За мною последовали остальные друзья. Ирочкумы подтянули, и все оказались в воде, уровень которой тут же повысился. Нам всем было по грудь, а Ирочке — до подбородка. Мы поливали друг другу на голову пригоршнями вонючую прохладную жидкость. Было очень весело. Настоящее купание! Пришлось нашим мамам устроить нам внеочередную баню. Мама Ирочки ещё долго после этого принюхивалась к её волосам и прыскала духами. Перед отъездом в Ленинград дядя подарил маме свой «Фотокор» — огромный аппарат со штативом, снимавший при помощи пластинок, а не плёнки. При наведении на объект в его чёрном нутре была видна вся сцена съёмки, только вверх ногами. Аппарат этот не требовал увеличителя. Печатали через контактную рамку. Мы с мамой просиживали долгие часы за проявлением и печатаньем в единственном тёмном и уединённом месте нашей квартиры — уборной, предварительно попросив всех, кому надо и не надо, ею воспользоваться. От этих лет благодаря «Фотокору» осталось много любительских снимков, на которые я теперь иногда смотрю и многое вспоминаю. Своего ленинградского дядю я больше никогда не видел — он умер от голода в блокаде в 1942 году.
Книжки и радио
Грузная старуха Барзам из 14-го дома иногда летом выходила во двор, располагалась на ступенях крыльца и подзывала к себе всех дворовых детей. Она была из той категории взрослых, что внимательно, с интересом относятся к детям. Барзам часто беседовала с нашими родителями и была в курсе дела нашего воспитания.
 Всем детям, чей день рождения приходился на летние месяцы, она дарила прекрасные старинные книги из своей богатой библиотеки. Я как сейчас вижу эти книги. Эдик получил роскошный фолиант с золотым тиснением «Рассказы Сетона-Томпсона с авторскими рисунками», а Владик — «Сказки дядюшки Римуса» и том Брема. Этот том мы с Владиком подробно проштудировали: там были замечательные гравюры, изображавшие разных животных всего земного шара.
Я рос уже в эпоху Чуковского, Маршака, Барто, Михалкова, Бианки, Каверина. Долго радовала и смешила меня книжка Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» — её я читал уже сам и любовался рисунками Константина Ротова. Любил я и рисунки Лебедева, Тырсы, Каневского. Странно, что Владимира Конашевича я полюбил уже взрослым. В детстве мне не нравился его игрушечный мир. Я любил рисунки «всамделишные», а Конашевич, казалось, заигрывал со мной, сюсюкал, но одну книжку Маршака-Конашевича я высоко ценил — это «Пожар». Стоит произнести «На площади базарной, на каланче пожарной…», как в памяти всплывает наша комната, зеркальный лабиринт и… каша. Мне читали за едой, так я лучше ел.
Среди этих прекрасных книжек попадалась, конечно, и старая умилительная мура вроде «Маленького лорда Фаунтлероя» или «Питер Мориц — юный бур из Трансвааля», но и под них я неплохо ел.
Некоторые хорошие книжки моего детства так никогда больше и не попались мне на глаза. Но я хорошо помню «Дымку» про дикого мустанга; какую-то книжку про пожарных — запомнились оттуда шутливые стихи:
Всем детям, чей день рождения приходился на летние месяцы, она дарила прекрасные старинные книги из своей богатой библиотеки. Я как сейчас вижу эти книги. Эдик получил роскошный фолиант с золотым тиснением «Рассказы Сетона-Томпсона с авторскими рисунками», а Владик — «Сказки дядюшки Римуса» и том Брема. Этот том мы с Владиком подробно проштудировали: там были замечательные гравюры, изображавшие разных животных всего земного шара.
Я рос уже в эпоху Чуковского, Маршака, Барто, Михалкова, Бианки, Каверина. Долго радовала и смешила меня книжка Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» — её я читал уже сам и любовался рисунками Константина Ротова. Любил я и рисунки Лебедева, Тырсы, Каневского. Странно, что Владимира Конашевича я полюбил уже взрослым. В детстве мне не нравился его игрушечный мир. Я любил рисунки «всамделишные», а Конашевич, казалось, заигрывал со мной, сюсюкал, но одну книжку Маршака-Конашевича я высоко ценил — это «Пожар». Стоит произнести «На площади базарной, на каланче пожарной…», как в памяти всплывает наша комната, зеркальный лабиринт и… каша. Мне читали за едой, так я лучше ел.
Среди этих прекрасных книжек попадалась, конечно, и старая умилительная мура вроде «Маленького лорда Фаунтлероя» или «Питер Мориц — юный бур из Трансвааля», но и под них я неплохо ел.
Некоторые хорошие книжки моего детства так никогда больше и не попались мне на глаза. Но я хорошо помню «Дымку» про дикого мустанга; какую-то книжку про пожарных — запомнились оттуда шутливые стихи:
«Музыкалка»
Мои родители находили у меня помимо способностей к рисованию ещё и музыкальный талант. И действительно, я довольно быстро запоминал мелодии, передаваемые по радио, и верно их воспроизводил голосом. А раз такое дело, нужно учить ребёнка музыке. В конце лета меня повезли на трамвае в Безбожный переулок — на проверку в музыкальную школу. Мы с мамой довольно долго сидели в коридоре вместе с такими же, как я, претендентами. Я нисколько не волновался, мне просто было любопытно: что будет? Перед нами в очереди сидел со своим папой курчавый мальчик постарше меня, с очень серьёзным лицом. Как я потом узнал, его звали Феликс. Их вызвали перед нами. За дверью класса зазвучал рояль, потом он надолго замолк, затем дверь отворилась и Феликс проследовал мимо меня с гордым выражением лица. Нас пригласила седая старушка, от которой пахло табаком. С мамой она говорила мало, только спросила, сколько мне полных лет, велела показать мне кисти рук с растопыренными пальцами, заметила мой покалеченный указательный, но ничего не сказала. Затем она велела мне спеть любую знакомую мне мелодию. Я немного подумал и спел «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер…». Но только я распелся, как она меня остановила. Я подумал, что ей не понравилось, раз она не дослушала до конца. Потом старушка сыграла на рояле какую-то простую музыкальную фразу и велела мне голосом её повторить, я повторил. Взяв карандаш, она настучала по крышке рояля некий ритм и вновь велела мне повторить, но когда она передавала мне карандаш, я уронил его и довольно долго искал под роялем. За это время я успел забыть, что она такое настучала, и ей пришлось стучать заново. В конце концов, меня всё-таки взяли в районную детскую музыкальную школу.
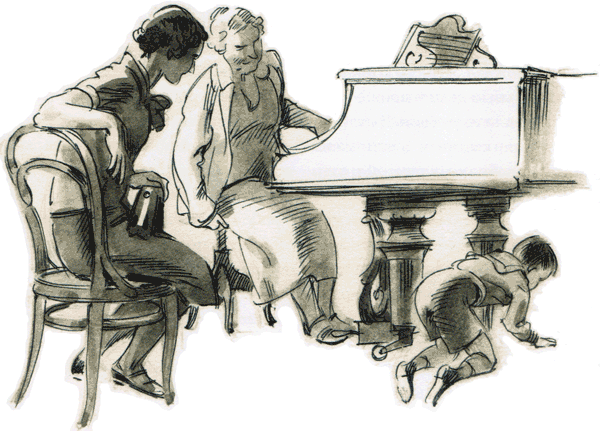 Первые дни мне нравилось ходить туда. Нравилось гордо проходить по нашему двору с чёрной кожаной папкой, на которой была вытиснена лира, нравились тетради с нотной бумагой, вообще приятно было чувствовать себя большим и серьёзным человеком. Мне ведь тогда было шесть лет.
Я думал, что меня будет учить та добрая седая старушка, пахнувшая табаком, но оказалось, что я попал в класс к другой учительнице. Эта была помоложе, довольно полная брюнетка, неулыбчивая и без всяких сантиментов. Феликс попал тоже к ней. Нам назначили особое время каждому. Когда меня привозили в школу и я входил в класс, небольшую комнату с поцарапанным роялем, Феликс ещё сидел рядом с учительницей и заканчивал свой урок. Я некоторое время ожидал своей очереди, сидя поодаль, а домработница или бабушка, кто в данный момент меня сопровождал, ждала в коридоре.
Музыкальные дела у меня с самого начала пошли из рук вон. В отличие от рисования, которым я занимался абсолютно свободно, с охотой и азартом, музыка оказалась делом подневольным и обязательным. В этих гаммах и этюдах я не чувствовал никакой красоты. Александр Гедике мне представлялся самым скучным композитором в мире. Правда, надо сказать, я ни разу не слышал его произведений в законченном виде и в приличном исполнении, только одни трудные и тусклые фрагменты.
Долго я играл одной правой. С двумя руками я никак не мог освоиться: думал о правой — забывал про левую, и наоборот.
С горькой завистью я видел, что Феликс занимается вполне успешно, не зная моих проблем. Учительница с ним вполне мила и доброжелательна. Когда же я в свою очередь садился к роялю, из полной груди её вырывался тягостный вздох. К тому же с моим приходом совпадали позывы её аппетита. Не прерывая занятий, она доставала из портфеля пакет с завтраком. Это всегда бывала французская булка с чесночной колбасой. Когда я делал свои частые ошибки, она брала холодными жирными пальцами мой палец и раздражённо тыкала в нужную ноту. При этом на клавиши сыпались крошки из её рта.
Над гаммами и этюдами она билась со мной долго и упорно, но, не наблюдая заметного прогресса, видимо, махнула на меня рукой, снизила требовательность и сократила время урока до приличного минимума. На дом она задавала непомерно много, а главное, неразобранные в классе новые вещи.
Каждый такой урок стоил мне тяжкого и горького напряжения. Дома с моей спокойной мамой мы садились за пианино и брались за разбор всех моих завалов. Тут у меня немного лучше получалось, но стойкое отвращение к этому делу, привитое в школе, не проходило. Мама ходила на работу и не могла уделять мне необходимого времени, поэтому свои два-три часа в день я должен был отрабатывать дома самостоятельно. Следить за мной была приставлена бабушка.
Этой зимой моя весёлая светлая останкинская жизнь была омрачена музыкальным гнётом. Когда меня после завтрака принуждали садиться за пианино, я полусознательно оттягивал время пытки: то занимался уборкой своих вещей и игрушек, то шёл в туалет и долго там сидел без надобности… Наконец я садился за инструмент, открывал ноты. Бабушка некоторое время стояла надо мной. Она в музыкальном смысле была неграмотна, но ей важно было исполнить мамин приказ, чтоб я отработал положенное время. Однако домашние дела звали её на кухню. Она говорила мне: «Ты играй, играй, я с кухни слушаю».
Я начинал свой урок, но скоро уставал, и чувство самосохранения заставляло меня хитрить. Когда бабушка уходила на кухню, я, уныло глядя в окно, стучал пальцами по клавишам, извлекая какую-то тарабарщину.
После работы вечером мама спрашивала у бабушки: «Ну, как он играл?» Бабушка отвечала: «Играл, играл, долго играл!»
К Новому году наступило некоторое облегчение: я заболел гриппом. Так в моей мучительной учёбе наступил небольшой, на две недели, перерыв. После болезни я снова потащился в школу. Тут, естественно, выяснилось, что у меня всё запущено и меня нужно учить едва ли не с самого начала. А Феликс уже далеко ушёл. Он играл уже бегло и неплохие вещи.
К весне курс заканчивался, и предстоял отчётный концерт учащихся. Я выучил твёрдо небольшой этюд. Мог отбарабанить его почти с закрытыми глазами. С этим я и явился, на сей раз в сопровождении и мамы, и папы.
В большом зале на эстраде стоял раскрытый рояль и столик для начальства; в рядах партера многолюдно; ученики с родственниками. Рядом с нами сидела девочка в бантах со своим отцом, толстым мужчиной с маленькими усиками-сопельками.
Исполнителей вызывали из зала по списку. Дети смело выходили, поднимались на эстраду, улыбаясь, довольно бегло исполняли приготовленные этюды. Им хлопали с энтузиазмом. Когда до меня дошла очередь, я тоже с улыбкой вышел к роялю. За моей спиной на стуле пристроилась та добрая старушка, что принимала меня в школу. Когда я садился на круглый табурет, она сказала вполголоса: «Не волнуйся, всё хорошо». Я был спокоен и начал играть знакомый этюд, но после первых тактов вдруг моя мысль отвлеклась от клавиатуры и мне захотелось почему-то взглянуть в зал и увидеть своих, и я взглянул… Но увидел я мужчину с усиками, который, как мне показалось, глядел на меня насмешливо… И тут со мной что-то произошло… Я остановился, я забыл, что я играю, где остановился, нужно ли продолжать или начать сначала. Добрая старушка тихо стала напевать мелодию моего пресловутого этюда с того места, где я запнулся, но в голове моей помутилось, глаза заволоклись туманом, и я медленно стал сползать с табурета. Раздались редкие сочувственные аплодисменты, но дальше я начал осознавать себя только в трамвае, на обратной дороге.
После этой катастрофы я заболел и провалялся довольно долго. Выздоравливал я, когда май был уже в цвету. Я заявил, что больше в музыкалку не пойду, хоть убейте. Но никто особенно не настаивал: во-первых, домашних тяготила обязанность меня туда водить; во-вторых, с моим покалеченным пальцем «всё равно из меня классного пианиста не получится…» и вообще, «пощадим ребёнка». Дальше жизнь потекла своим обычным ходом, но это первое серьёзное фиаско осталось в памяти навсегда.
Первые дни мне нравилось ходить туда. Нравилось гордо проходить по нашему двору с чёрной кожаной папкой, на которой была вытиснена лира, нравились тетради с нотной бумагой, вообще приятно было чувствовать себя большим и серьёзным человеком. Мне ведь тогда было шесть лет.
Я думал, что меня будет учить та добрая седая старушка, пахнувшая табаком, но оказалось, что я попал в класс к другой учительнице. Эта была помоложе, довольно полная брюнетка, неулыбчивая и без всяких сантиментов. Феликс попал тоже к ней. Нам назначили особое время каждому. Когда меня привозили в школу и я входил в класс, небольшую комнату с поцарапанным роялем, Феликс ещё сидел рядом с учительницей и заканчивал свой урок. Я некоторое время ожидал своей очереди, сидя поодаль, а домработница или бабушка, кто в данный момент меня сопровождал, ждала в коридоре.
Музыкальные дела у меня с самого начала пошли из рук вон. В отличие от рисования, которым я занимался абсолютно свободно, с охотой и азартом, музыка оказалась делом подневольным и обязательным. В этих гаммах и этюдах я не чувствовал никакой красоты. Александр Гедике мне представлялся самым скучным композитором в мире. Правда, надо сказать, я ни разу не слышал его произведений в законченном виде и в приличном исполнении, только одни трудные и тусклые фрагменты.
Долго я играл одной правой. С двумя руками я никак не мог освоиться: думал о правой — забывал про левую, и наоборот.
С горькой завистью я видел, что Феликс занимается вполне успешно, не зная моих проблем. Учительница с ним вполне мила и доброжелательна. Когда же я в свою очередь садился к роялю, из полной груди её вырывался тягостный вздох. К тому же с моим приходом совпадали позывы её аппетита. Не прерывая занятий, она доставала из портфеля пакет с завтраком. Это всегда бывала французская булка с чесночной колбасой. Когда я делал свои частые ошибки, она брала холодными жирными пальцами мой палец и раздражённо тыкала в нужную ноту. При этом на клавиши сыпались крошки из её рта.
Над гаммами и этюдами она билась со мной долго и упорно, но, не наблюдая заметного прогресса, видимо, махнула на меня рукой, снизила требовательность и сократила время урока до приличного минимума. На дом она задавала непомерно много, а главное, неразобранные в классе новые вещи.
Каждый такой урок стоил мне тяжкого и горького напряжения. Дома с моей спокойной мамой мы садились за пианино и брались за разбор всех моих завалов. Тут у меня немного лучше получалось, но стойкое отвращение к этому делу, привитое в школе, не проходило. Мама ходила на работу и не могла уделять мне необходимого времени, поэтому свои два-три часа в день я должен был отрабатывать дома самостоятельно. Следить за мной была приставлена бабушка.
Этой зимой моя весёлая светлая останкинская жизнь была омрачена музыкальным гнётом. Когда меня после завтрака принуждали садиться за пианино, я полусознательно оттягивал время пытки: то занимался уборкой своих вещей и игрушек, то шёл в туалет и долго там сидел без надобности… Наконец я садился за инструмент, открывал ноты. Бабушка некоторое время стояла надо мной. Она в музыкальном смысле была неграмотна, но ей важно было исполнить мамин приказ, чтоб я отработал положенное время. Однако домашние дела звали её на кухню. Она говорила мне: «Ты играй, играй, я с кухни слушаю».
Я начинал свой урок, но скоро уставал, и чувство самосохранения заставляло меня хитрить. Когда бабушка уходила на кухню, я, уныло глядя в окно, стучал пальцами по клавишам, извлекая какую-то тарабарщину.
После работы вечером мама спрашивала у бабушки: «Ну, как он играл?» Бабушка отвечала: «Играл, играл, долго играл!»
К Новому году наступило некоторое облегчение: я заболел гриппом. Так в моей мучительной учёбе наступил небольшой, на две недели, перерыв. После болезни я снова потащился в школу. Тут, естественно, выяснилось, что у меня всё запущено и меня нужно учить едва ли не с самого начала. А Феликс уже далеко ушёл. Он играл уже бегло и неплохие вещи.
К весне курс заканчивался, и предстоял отчётный концерт учащихся. Я выучил твёрдо небольшой этюд. Мог отбарабанить его почти с закрытыми глазами. С этим я и явился, на сей раз в сопровождении и мамы, и папы.
В большом зале на эстраде стоял раскрытый рояль и столик для начальства; в рядах партера многолюдно; ученики с родственниками. Рядом с нами сидела девочка в бантах со своим отцом, толстым мужчиной с маленькими усиками-сопельками.
Исполнителей вызывали из зала по списку. Дети смело выходили, поднимались на эстраду, улыбаясь, довольно бегло исполняли приготовленные этюды. Им хлопали с энтузиазмом. Когда до меня дошла очередь, я тоже с улыбкой вышел к роялю. За моей спиной на стуле пристроилась та добрая старушка, что принимала меня в школу. Когда я садился на круглый табурет, она сказала вполголоса: «Не волнуйся, всё хорошо». Я был спокоен и начал играть знакомый этюд, но после первых тактов вдруг моя мысль отвлеклась от клавиатуры и мне захотелось почему-то взглянуть в зал и увидеть своих, и я взглянул… Но увидел я мужчину с усиками, который, как мне показалось, глядел на меня насмешливо… И тут со мной что-то произошло… Я остановился, я забыл, что я играю, где остановился, нужно ли продолжать или начать сначала. Добрая старушка тихо стала напевать мелодию моего пресловутого этюда с того места, где я запнулся, но в голове моей помутилось, глаза заволоклись туманом, и я медленно стал сползать с табурета. Раздались редкие сочувственные аплодисменты, но дальше я начал осознавать себя только в трамвае, на обратной дороге.
После этой катастрофы я заболел и провалялся довольно долго. Выздоравливал я, когда май был уже в цвету. Я заявил, что больше в музыкалку не пойду, хоть убейте. Но никто особенно не настаивал: во-первых, домашних тяготила обязанность меня туда водить; во-вторых, с моим покалеченным пальцем «всё равно из меня классного пианиста не получится…» и вообще, «пощадим ребёнка». Дальше жизнь потекла своим обычным ходом, но это первое серьёзное фиаско осталось в памяти навсегда.
1937 год
В 1937 году страна буквально торжествовала по поводу столетия смерти Пушкина. Появилось множество изданий, с этим связанных, в том числе десятитомное академическое полное собрание его произведений. Даже наше Останкино, где Пушкин однажды побывал в гостях у Шереметева, решено было переименовать в Пушкино. Это и было сделано, но не прижилось. Население продолжало говорить и писать по-старому, переулки и улица остались останкинскими. Но тот год запомнился и другими событиями. Помню, мой папа сидел и чернильным карандашом замарывал портреты в учебниках по истории, а на мои недоуменные вопросы отвечал: «Видишь ли, и этот оказался сукиным сыном!» Таких «сукиных сынов» оказалось очень много. Это были ещё недавно чтимые политики, государственные деятели, военные. Бухарин, Якир, Блюхер, Тухачевский… Помню, какой-то марш звучал так:
Дядя Рудя
Как-то ближе к осени 1938 года вечером через наш двор проследовал высокий седой человек в полувоенном френче. Я видел, сидя на колодезном срубе, что он вошёл в наше парадное. Как всегда в таких случаях, я побежал смотреть: «к кому?». На лестнице мужчина растерянно вглядывался в полутьме в номера квартир и в бумажку с адресом в руке. Постучал он к нам. Я помедлил немного, пока ему открыли и впустили, и тоже направился домой. Войдя в комнату, я увидел сразу перед собой костлявую спину в полувоенном френче, а за ней бледные лица деда и бабушки. Человек сказал, по-видимому, во второй раз: — Неужели, дядя, меня трудно узнать? Дед молчал, а бабушка сказала неуверенно: — Рудя, это ты? — Да, это я. Меня удивило, что за этим не последовало ни восторженных возгласов узнавания, ни объятий. Просто дед сказал «садись» и распорядился разогреть обед и накормить человека. Пока дедов племянник, мой двоюродный дядя, которого звали Рудольф, ел, дед сидел напротив со смущённым лицом, будто он сделал что-то постыдное, и молчал. Лицо дяди Руди, молодое и бледное, казалось помятым или заспанным. У него были чёрные испуганные глаза и густые серебряные волосы ёжиком. — Вы, дядя, не волнуйтесь, меня выпустили, я не бежал. Это была его вторая фраза, смысл которой я не понял. Вскоре меня послали гулять. Бабушка вышла со мною в переднюю и велела никому во дворе не болтать о том, кто у нас в гостях. Встретив во дворе ребят, я тут же забыл о бабушкином приказе. Новостей в нашей жизни так мало, и я соблазнился удивить всех новостью. — А у нас дядя Рудя, он, наверное, спортсмен по бегу, только на последних соревнованиях, хоть его и выпустили, но он бежать не захотел. К ночи «спортсмен по бегу» ушёл, и больше я его никогда не видел. Когда я стал взрослым, то узнал, что дядя Рудя был инженером на заводе в Днепропетровске, оказался жертвой известного процесса против «вредителей» 1934–35 годов по сфабрикованному обвинению, в 1938 году его выпустили ненадолго. Он был так называемым «повторником». Их выпускали под наблюдение органов, чтоб обнаружить «сообщников». Где и когда он погиб — неизвестно. В тот день, посетив нас, он рассказал о своём аресте и заключении, о диких пытках, которым был подвергнут, и вообще о зверских методах тогдашней политической тюрьмы. Рядом с ней царская охранка казалась наивной дурочкой.

Эскиз литографии «Не ждали»Дети, да и многие взрослые 1930-х годов ничего этого не знали и не подозревали, что наша светлая радостная жизнь имела такую мрачную тень. На первомайской демонстрации, восседая на плечах отцов, дети глядели направо и отыскивали среди маленьких фигурок на трибуне Мавзолея «его» в строгой полувоенной одежде и махали флажками под грохот сводного оркестра. А дома папа с мамой время от времени брали чернильный карандаш и густо замазывали в учебниках очередного «врага народа».
О жизни и смерти
К концу лета привозили дрова на подводе. Ломая ветки яблонь и оставляя на траве грубый след, воз подъезжал к сараю. Эти кубометры нужно было распилить, расколоть и сложить в сарае. В глубине двора находились два сарая — наш и 14-го дома. Они стояли почти рядом, но между ними был промежуток, равный приблизительно 10 метрам. Весь этот промежуток занимала задняя стена третьего сарая, обращённого лицом и принадлежавшего соседнему двору. По этой задней стене на высоте трех метров над землёй были прибиты две доски, одна над другой на расстоянии метра. Доски эти были протянуты на всю ширину чужого сарая, то есть на 10 метров. Это важно! Однажды, гуляя во дворе в одиночестве, я очень скучал. Ребят почему-то не было. Подойдя к нашему сараю, я заметил, что замок не заперт. Вероятно, кто-то недавно здесь был и ненадолго отлучился, повесив замок в скобы и не заперев его. От скуки я отворил дверь и заглянул внутрь. Всю заднюю стену до потолка закрывала поленница, справа от входа стоял верстак, заваленный разным барахлом, под ним — бочки для солений, давно рассохшиеся, лыжи, санки, ящики с изношенной обувью, рамы от картин и пр. От нечего делать я стал кататься по дуге на скрипучей двери. Потом я решил, что по перекладинам этой двери можно залезть на крышу сарая, что и сделал. Загремела подо мною кровельная жесть, внизу что-то хлопнуло. Это сама собой закрылась дверь, послужившая мне минуту назад лестницей. Таким образом, обратный путь мне был отрезан. Я не придал значения такому пустяку и лёг загорать. Было жарко и безветренно. Я лежал на спине, подложив руки под затылок, и долго наблюдал за маленьким одиноким облаком. Я заметил, что этот маленький клочок ваты медленно-медленно увеличивается, растёт. Тут ко мне пришла догадка. Когда-то я задавал себе вопрос: где рождаются облака? Откуда они приплывают? Сейчас, во время полного безветрия, я увидел, что они ниоткуда не приплывают, а рождаются прямо передо мной, у меня на глазах. Вот рядом появилось новое маленькое облачко и тоже стало расти. Постепенно чистое небо стало облачным. Я встал, почесал спину и подумал, что пора бы уже слезать с крыши, но тут меня взяла оторопь: как я слезу? Орать? Звать кого-то на помощь? Стыдно. А двор как вымер. Вот уж, наверное, час, как я здесь, а никто не вышел погулять, никто не вынес помойное ведро, никто даже не выглянул в окно. Я лёг на край крыши и, свесив голову, заглянул вниз. Предательница-дверь плотно закрылась, и до неё достать невозможно. Закружилась голова. Я встал и, гремя железом, обошёл крышу: никакой возможности спуститься! Вот рядом с соседним сараем, приваленная к его стенке, лежит поленница дров. Окажись я не на нашем сарае, а на соседнем, я легко бы мог спуститься по этой поленнице. А что? Может, перебраться сперва на соседний сарай? Опасно. Высота порядочная, а внизу на земле мусорная свалка. Там битые кирпичи и стекла. Я сам любил грохать в эту кучу перегоревшие лампочки. Нет! Надо ждать, может, кто-нибудь придёт на помощь. Я ждал ещё какое-то время, никто не появлялся. Тогда я решил лезть. Я сел на край крыши, нащупал ногой нижнюю доску, пальцы рук подсунул в щель под верхнюю доску и, прижавшись грудью к стене, стал осторожно передвигаться мелкими шажками и перехватами в сторону соседнего сарая. В начале пути щель под верхней доской была широкой, и пальцы глубоко и ухватисто в неё входили, дальше пошло хуже! Я с ужасом почувствовал, что щель сужается, ещё шажок — и пальцам стало больно и тесно под доской. Снова закружилась голова и перехватило дыхание, и тут мне вдруг пришла ужасная и простая мысль: я погиб! Я вспотел и вмиг обессилел. Сейчас мои пальцы не выдержат, разожмутся, я отвалюсь от стены и, конечно, упаду затылком в кирпичи и стёкла. Владик скажет: «Да, был у меня друг. Умер совсем молодым, ему не было ещё и семи лет. Он прекрасно рисовал, подавал надежды, мог стать великим художником, да, видно, не судьба». Мама упадёт в обморок, соседи будут держать её под руки. Меня нарядят в мой новый матросский костюмчик и положат в гроб. Все будут рыдать… Э, да так можно и вправду загреметь! Пойду-ка я помаленьку обратно.
 И я пополз обратно. Щель стала шире, пальцы прихватились крепче, и через пару минут я снова сидел на крыше нашего сарая.
Я был жив! Конечно, жив! А иначе и быть не могло. Так ведь не бывает, что я — и вдруг умер. Я всегда буду жить!
И я пополз обратно. Щель стала шире, пальцы прихватились крепче, и через пару минут я снова сидел на крыше нашего сарая.
Я был жив! Конечно, жив! А иначе и быть не могло. Так ведь не бывает, что я — и вдруг умер. Я всегда буду жить!
Выставка
К 1939 году наши «Дубки» были полностью уничтожены. ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) строилась года три. Сперва пригнали рабочих, построили бараки для них. Вырубили большую часть леса. В памяти осталась такая картинка: развороченная глинистая почва, колеи от колёс, полные рыжей воды, в которой плавают жёлуди. Открылась ВСХВ летом в яркий солнечный день. Народу съехалось со всего Союза многое множество. В толпах мелькали кавказские папахи, среднеазиатские пёстрые халаты и тюбетейки, украинские вышитые рубахи и клетчатые плахты. В одежде москвичей преобладал белый цвет. Павильоны всех республик были деревянные, затейливо покрашенные с какими-то якобы национальными деталями. Очень хорош был павильон Карело-Финской АССР, весь из золотистого дерева с деревянными барельефами на фронтоне (позднее я узнал, что по рисунку Фаворского). Огромная фигура Сталина стояла перед павильоном механизации, спроектированном в виде опрокинутого корыта. Кругом новые фруктовые сады, цветники и клумбы. Масса всяческих фонтанов. Даже мелкие киоски были сделаны в каком-то затейливом стиле. Среди деревьев возвышался павильон «Мороженое» в виде ледяной скалы с белым медведем на верхушке. Раньше мороженое возили в ручной тележке, где находились цинковые бочки с лакомством. Выдавали его в виде белой или розовой массы, зажатой между двумя круглыми вафлями. Дети лизали его по кругу. Здесь, в павильоне, его подавали в вазочках в виде цветных шариков. Разнообразие сортов потрясало: и ореховое, и малиновое, и шоколадное, и фисташковое, и даже, кажется, мятное. Для нас, детей, самыми интересными павильонами были, конечно, животноводства, звероводства и охоты. Эта часть выставки напоминала зоопарк наличием вольеров с промысловым зверьём, выездным кругом, где демонстрировались огромные породистые быки, которых водили за кольца, продетые в ноздри. Потрясающей красоты ахалтекинские жеребцы, нервно гарцующие и хрипящие, старающиеся вырвать повод из рук поводырей. Их сменяли могучие, неуклюжие першероны, способные перевозить телеги невероятной тяжести. В специально отведённое время можно было покататься на тройках лихих рысаков и даже верхом. Мы долго простаивали перед клетками чёрно-бурых лис, соболей, выдр, горностаев и хорьков. Кроликов было полно, и самых разных пород. Маленьких крольчат можно было купить за очень умеренную цену. В одном из павильонов на высоте пяти метров по стене была устроена игрушечная железная дорога. Поезд из локомотива и десятка вагонов носился бесконечно по полочке на стене, ныряя в тоннели и грохоча по мостикам. Я загляделся на это диво и не заметил, как компания моих родителей и их друзей куда-то ушла. Я бросился их догонять. Толпа была так густа, что я уже никого не нашёл. Я понял, что потерялся. Решил пойти на прежнее место и ждать пока меня найдут. Там, возле мешков с зерном и сушёными вишнями, я простоял очень долго, но никто за мной не пришёл. Я проголодался и даже украдкой взял из мешка горсть сухих вишен, но они были пыльные, слишком сухие и невкусные. Наконец я отчаялся найтись и вышел на какую-то огромную площадь с фонтанами. Я посидел на бортике рядом с гигантским рогом изобилия. Страха я не испытывал, ведь мне было уже восемь лет, я хорошо ориентировался в выставочном лабиринте. Вскоре я вышел на знакомую Хованскую улицу.

Эскиз литографии «Я потерялся»На ВСХВ мы, дети, ходили всё лето и уже без взрослых. Покупали там ириски и леденцы, пили ситро. Было очень весело и любопытно. Мы с Владиком упросили родителей купить нам несколько ангорских крольчат. Это были пушистые белые очаровательные существа с красными глазками, невероятно спокойные и доверчивые. Пока тянулось лето, с ними не было особых проблем. Мы соорудили для них квадратный загон во дворе на травке и выпускали их днем пастись. По мере того как крольчата съедали траву, мы передвигали загон на свежее место. Они быстро росли.
 С наступлением осени нам пришлось поселить их на чердаке. Кормили мы их теперь покупным зерном, нарубленными ветками кустарника, сеном и хлебом.
Для нас это лето — сплошной праздник. Осенью мы с Владиком пошли в школу. Наступил последний останкинский год. В 1940 году мы (я, папа и мама) переехали на Ленинградку (Ленинградское шоссе) в новый наркомфиновский дом.
С наступлением осени нам пришлось поселить их на чердаке. Кормили мы их теперь покупным зерном, нарубленными ветками кустарника, сеном и хлебом.
Для нас это лето — сплошной праздник. Осенью мы с Владиком пошли в школу. Наступил последний останкинский год. В 1940 году мы (я, папа и мама) переехали на Ленинградку (Ленинградское шоссе) в новый наркомфиновский дом.
На новом месте
В нашей новой комфортабельной коммуналке сгрудились четыре семейства (12 человек). Некоторые, в том числе и мы, впервые обрели такие блага цивилизации, как водопровод, ватерклозет, газ, центральное отопление, ванная, паркет и мусоропровод. После Останкина, где мои родители были молоды, здесь, на Ленинградке, рядом с молодыми соседями мои мама с папой выглядели, если не пожилыми, то уж во всяком случае людьми в возрасте. Тем удивительней для меня было открытие, что именно мои родители занялись деторождением. С досадой и жалостью я смотрел на маму, уже по моим понятиям немолодую женщину, тяжело передвигавшуюся, задыхавшуюся, в некрасивом байковом халате или в зимнем пальто, едва сходившемся на большом безобразном животе. Правда, примиряло с этим непотребством то обстоятельство, что соседи относились к ней в этот период с большим уважением и даже с трогательной нежностью. Достаток наш, очевидно, был невелик, ибо когда Лиля Стрельникова, соседка снизу, вовлекла маму в надомничество, мама ухватилась за это с большим энтузиазмом. Няня Лена приносила откуда-то белый «товар», то есть детские фартучки, распашонки, чепчики, которые требовалось украсить вышивкой разноцветным мулине. Целые кучи этих цветных моточков валялись по комнате, и до поздней ночи беременная мама и няня Лена вышивали цветочки, бабочек, фруктики и прочую умильную дребедень на белоснежном младенческом белье. Два раза в неделю Лена уносила сдавать готовую продукцию и приносила новое сырьё. Сколько за это платили — не знаю, думаю, что гроши, и, скорее всего, ценилась занятость рук негрязной работой. Вначале наши вышивальщицы подошли к этому труду очень творчески, соперничали друг перед другом разнообразием рисунков и яркостью цвета, но потом неумолимый закон вала взял верх над творчеством, рисунки пошли по одному трафарету и старание ограничивалось лишь тем, чтоб был приличный товарный вид. Перед новым 1941 годом мама изготовила уже несколько комплектов «для себя», то есть как приданое будущему ребенку, и поскольку самочувствие её не позволяло ей сидеть ночами и гнать норму, эта надомная деятельность была прекращена. В конце января начались схватки, и маму увезли в родильный дом. 25-го числа отец пришёл возбуждённый и радостный, держа высоко в руке записку, где карандашом было написано: «девочка, чёрненькая». Не знаю, какой масти были родители отца; я застал бабку седой, а деда абсолютно лысым, дед и бабушка с материнской стороны, говорят, были в молодости блондинами; мы с отцом также белобрысые, одна мама у нас брюнетка. Значит, решили мы, мама создала своё подобие. Значительно позднее мы убедились, насколько это было правдой. Особенно сейчас, когда мамы уже нет в живых, я, глядя на сестру, вижу поразительное её сходство с нею. Я, до 10 лет единственный ребёнок в семье, привыкший быть объектом ласк и забот всех взрослых, этой зимой весьма болезненно почувствовал явное охлаждение к себе. Крошечная и тихая девочка, туго замотанная пелёнками, почти постоянно спавшая или жадно сосавшая, завладела всеобщим вниманием и отодвинула меня на второй план. Я почти её ненавидел. Однажды, спустя месяц, все куда-то ушли или вышли из комнаты, а мне велели следить за сестрой, которая лежала на родительской большой кровати. Кажется, это был первый момент, когда мы с ней оказались наедине. Увидев, что она ворочается и кряхтит, я подошёл и склонился над ней. Что, думаю, кряхтишь? Связали тебя. Дай-ка я высвобожу твои ручки. От ребёнка странно пахло чем-то, как мне казалось, утробным. Движения её казались порывистыми и бессмысленными, как у дурачка, взгляд мутный, с синеватой поволокой. «Ну что, балда, кряхтишь?» — сказал я и придвинул своё лицо вплотную к этой малюсенькой головке, и вдруг почувствовал, что она схватила меня за нос своими влажными и тёплыми губками и принялась доверчиво сосать, при этом её цепкие крохотные пальчики ухватили меня за ухо. Была полная иллюзия родственного общения. Я понял, как она беспомощна, как зависит от меня, большого и сильного. Очевидно, это был тот момент, когда я внезапно полюбил её нежной умилительной любовью.
Весной я окончил второй класс в моей новой школе на улице Правды. У меня появились новые друзья. Один из них — Толя Рощин, сын авиаконструктора, у которого я часто теперь бывал в гостях. Отца его я никогда не видел, ибо он всегда в дневные часы был на своём заводе или на испытаниях нового самолёта. У них была роскошная отдельная квартира. На письменном столе в кабинете отца стояла сверкающая модель стремительного истребителя на никелированном стержне, на стенах висели фотографии молодых лётчиков и курсантов авиационного училища. Толин отец везде легко узнавался: и юным пареньком в кепке, и в виде молодого аэроклубовца, и в военной форме со шпалой в петлице, и в штатском, слегка располневший, чуть лысоватый. Толя был очень похож на него. Среди моих соучеников был ещё мальчик Олег, очень умный, как мне казалось, слегка заикающийся блондин с породистым лицом, была девочка Фаина Славуцкая, с которой я сидел за одной партой и в которую был слегка влюблён.
Последнее лето в Останкине
С наступлением тёплых дней меня потянуло в Останкино, где по-прежнему жили бабушка с дедушкой и где остался мой детский друг Владик, который продолжал учиться в моей бывшей школе у моей бывшей учительницы Марии Алексеевны. В начале июня мы все перебрались, как на дачу, в наше старое гнездо на втором этаже останкинского дома. Бабушка нас очень ждала, она мечтала собственноручно искупать свою новую внучку. Наша бывшая комната показалась мне сиротливой и убогой, полупустой, ибо вместо увезённой нами мебели и пианино ничего нового не появилось, но терраса осталась такой же золотой от солнца, приветливой и родной, а двор был по-прежнему зелёным, усыпанным золотыми одуванчиками.

Литография «1 „Б“ класс»Владик сильно вырос, стал на полголовы выше меня. Он начал собирать коллекцию марок, и ещё у него появилась новая забава: фанерный планер, запускаемый из рогатки. С моим появлением он оставил всех своих дворовых друзей и уделял мне всё время. Мы с ним гуляли на ВСХВ, а прочие дворовые ребята следили за нами завистливым оком с почтительного расстояния. Отец Владика, Алексей Иванович, ничуть не изменился за год, не потерял облика студента — те же круглые очки, причёска бобриком и голубой, чисто выбритый подбородок. Как и прежде, он рано утром в воскресенье выносил во двор коврик и в одних трусах делал гимнастические упражнения, никого не стесняясь. У него уже была куплена путёвка на курорт. Иногда из 14-го дома выходил сосед Кисин. Он тоже пытался что-то сотворить своим грузным волосатым телом, но неуклюже заваливался на спину, махал рукой и убирался восвояси.
 В соседских семьях чувствовался достаток и процветание. Мужчины щеголяли в новых светлых костюмах, женщины — в ярких летних нарядах. По выходным дням в подъездах пахло «Красной Москвой».
К маме забегали оживлённые соседки, показывая свои рукоделия. Многие в это лето увлеклись аппликациями. Дали маме снять кальку для коврика. Рисунок изображал трёх белых кроликов, грызущих алые морковки. Мама сняла футляр со старого бабушкиного «Зингера» и занялась сооружением этого шедевра. Правда, из-за многократной перерисовки контуры незаметно видоизменялись, и рты кроликов в результате стали похожи на цыплячьи клювики, но это никого не смущало.
Жизнь шла весёлая и глупая, как кинофильм «Волга-Волга». Родители ходили к своим знакомым на вечеринки.
Как-то мы зашли к Эдику во время такого сборища. Вся взрослая компания сидела за столом, уставленным множеством бутылок. Отчим Эдика, красный и возбуждённый, сидел во главе стола и веселил дам какой-то весьма, как нам показалось, непристойной историей. Дамы визгливо хохотали до слёз. Мужчины тоже посмеивались, явно завидуя успеху балагура. От нас отмахнулись и услали гулять во двор.
В соседских семьях чувствовался достаток и процветание. Мужчины щеголяли в новых светлых костюмах, женщины — в ярких летних нарядах. По выходным дням в подъездах пахло «Красной Москвой».
К маме забегали оживлённые соседки, показывая свои рукоделия. Многие в это лето увлеклись аппликациями. Дали маме снять кальку для коврика. Рисунок изображал трёх белых кроликов, грызущих алые морковки. Мама сняла футляр со старого бабушкиного «Зингера» и занялась сооружением этого шедевра. Правда, из-за многократной перерисовки контуры незаметно видоизменялись, и рты кроликов в результате стали похожи на цыплячьи клювики, но это никого не смущало.
Жизнь шла весёлая и глупая, как кинофильм «Волга-Волга». Родители ходили к своим знакомым на вечеринки.
Как-то мы зашли к Эдику во время такого сборища. Вся взрослая компания сидела за столом, уставленным множеством бутылок. Отчим Эдика, красный и возбуждённый, сидел во главе стола и веселил дам какой-то весьма, как нам показалось, непристойной историей. Дамы визгливо хохотали до слёз. Мужчины тоже посмеивались, явно завидуя успеху балагура. От нас отмахнулись и услали гулять во двор.
Война
В Останкине по субботам мыли маленьких детей, а этих детей прибавилось. У Эдика появился маленький братец, у Бори — сестричка. Со двора было видно, как электрические лампочки в доме одевались в туманный ореол. Это запотевали изнутри стёкла кухонь, где на плитах и керосинках грелась вода для купания. В субботу 21 июня купали мою пятимесячную сестру Лиду. (Мы с отцом ходили в баню, а с переездом на Ленинградку мылись в ванне.) Я всегда присутствовал при этом и помогал. К пятому своему месяцу сестра стала пухленьким образцово-показательным младенцем, словно целлулоидная кукла. Щёчки у неё надулись и блестели, округлился животик, ножки и ручки — в складочках и перевязочках. Купалась она с явным удовольствием, дрыгала ручками и ножками, поднимая брызги и издавая возгласы восторга. Вымытую и накормленную, её уложили в постельку под ковриком с тремя кроликами. Мы пили чай на террасе. Вот эта знаменательная картинка последнего довоенного ужина. С одного торца стола — молчаливый дед с хрящеватым носом, сбоку — бабушка с маленькими, красными от домашней работы руками, с близорукими прищуренными глазами; мама — с чёрными волнистыми волосами; напротив деда — отец в подтяжках, со всегдашней «Правдой» под правым локтем; няня Лена, 22-летняя белорусская девушка, грубоватая и здоровая, с ярким румянцем на деревенских скулах, и я, десятилетний, с белобрысой чёлкой. Над столом золотой абажур с шелковистой бахромой.
Утром 22 июня мы с отцом поехали мыться на Ленинградку. Трамвай остановился на Лесной у Белорусского вокзала, мы сошли и направились пешком в сторону нашего дома. Люди, попадавшиеся нам навстречу, вели себя как-то странно. Вместо того чтобы идти себе прямиком по своим нуждам, они беспорядочно суетились, останавливались, возбуждённо говорили о чём-то или стояли среди тротуара в полной растерянности. Некоторые ходили по проезжей части мостовой. На мосту перед вокзалом папа спросил одного прохожего: «Что случилось?» Тот оторопело вытаращился: «Война!» — С кем? — С Германией. Дома у соседей был включен радиоприёмник. Передавали речь Молотова. Запомнились многократно повторявшиеся потом слова: «…вероломно, без объявления войны…» и «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Жизнь целой страны в один миг круто переменилась. На дворе стояла обычная летняя солнечная погода, росла трава, на яблонях появились уже маленькие зелёные завязи, в щелях забора суетились красные жучки-солдатики, а рядом угрожающе резал глаз плакат, на котором чёрный Гитлер с пистолетом лез сквозь разорванный пакт о ненападении и нарывался своей растрёпанной чубатой причёской на красный штык. На чердаках домовпоявились мешки с песком, красные вёдра и лопаты; стёкла в окнах домов перекрестились бумажными наклейками. Женщины ходили в беретах, гимнастёрках и с противогазами. В нашем дворе поперёк огородов стали рыть зигзагообразную щель — бомбоубежище. Уже редкие немецкие самолёты прорывались к Москве, уже начались бомбёжки и появились первые разрушения. Алексей Иванович, конечно, ни на какой курорт не поехал. Он стоял по утрам у большой карты СССР и нервно гладил свой голубой подбородок. Вскоре он ушёл в народное ополчение и исчез навсегда из жизни. Мой папа тоже пошёл добровольцем. Помню, как он явился проститься. Я едва его узнал: на нём была пилотка, лежавшая на ушах, измятая гимнастёрка, явно бывшая в употреблении, с пустыми петлицами, и какие-то парусиновые сапоги. Выглядел он нелепо в этой одежде и в своём пенсне. Мама на «Зингере» быстро соорудила ему вещевой мешок, дала в дорогу сухари, консервы, оловянную ложку. Мы провожали его до сборного пункта. Помню, мы полдня стояли по одну сторону железного забора, а он — по другую. Папа и мама почти не говорили, а просто смотрели в глаза друг другу. За спиной папы во дворе двухэтажного дома сидели на брёвнах и бродили такие же, как и он, немолодые люди в гимнастёрках и с тяжёлой думой на штатских лицах. Один, помню, сидел на бревне и чистил землёй простой кухонный нож. Ни оружия, ни шинелей у них не было. Примерно через месяц мы получили от отца единственное письмо из-под Вязьмы. Он писал, что идут тяжёлые бои и что у него от жары постоянно идёт носом кровь. Это оказался тот ещё защитник Родины. Дома распоряжался теперь дед. Он говорил, что нужно запасаться, что в России всегда, как какая заваруха, исчезает всё вплоть до соли и спичек. Думал так, видно, не один он, ибо у магазинов появились длинные очереди и через несколько дней оправдались все дедовы предупреждения. Мы с бабушкой выстояли 10 батонов по рубль сорок. Давали по пять штук в одни руки. Когда мы несли их в сумке домой, нам навстречу шли прохожие и презрительно называли нас паникёрами, но сами тоже вставали в очередь.
 В толпе в те дни вновь проснулся притихший было в довоенное время антисемитизм. Я слышал, как один старик сказал: «Бери хворостину и гони жидов в Палестину!» Дома на террасе везде были разложены газеты, на которых сушились сухари.
Вышло постановление об эвакуации из Москвы женщин с детьми. Мать Владика собралась уезжать со своим райздравом и предложила нам ехать с ними на Волгу. Мама была в отчаянии, не знала, как быть со стариками. Хотели ходатайствовать и о них, но дед упёрся и заявил, что никуда не поедет, не хочет бросать имущество, а на вопрос, как они тут будут жить одни, сказал: «Как все, так и мы!»
В толпе в те дни вновь проснулся притихший было в довоенное время антисемитизм. Я слышал, как один старик сказал: «Бери хворостину и гони жидов в Палестину!» Дома на террасе везде были разложены газеты, на которых сушились сухари.
Вышло постановление об эвакуации из Москвы женщин с детьми. Мать Владика собралась уезжать со своим райздравом и предложила нам ехать с ними на Волгу. Мама была в отчаянии, не знала, как быть со стариками. Хотели ходатайствовать и о них, но дед упёрся и заявил, что никуда не поедет, не хочет бросать имущество, а на вопрос, как они тут будут жить одни, сказал: «Как все, так и мы!»
На этом, пожалуй, стоит остановиться, ибо здесь кончается детство в Останкине. Дальше шла тяжёлая пора отрочества, окрашенная в мрачные военные тона. Эвакуация на Волгу в Юрьевец, затем переезд в Казань, голодные два года в Казани, возвращение в 1943 году в Москву, смерть бабушки от голода и т. д. Напишу ли когда-нибудь об этом? Едва ли.

Слева направо: Эдик, я, Владик

Слева направо: Боря, Эдик, я, Владик

Красные. Я — второй слева. 1937 год
Эвакуация
На Волгу
Конец июля. Уже месяц как идёт война. Немцы осуществляют свой блицкриг. Каждый день радио сообщает об очередном городе, оставленном нашими войсками. Немецкие самолёты долетают до Москвы, уже есть разрушения. Во дворе, на месте огородов, взрослые роют «щель» — бомбоубежище. Мы едем в эвакуацию на Волгу с группой матерей с маленькими детьми, которую возглавляет Елена Емельяновна. Едем мы в плацкартном вагоне. Очень жарко, душно. Дети орут. Поезд продвигается очень медленно, часто и подолгу стоит на каких-то полустанках. Мы видим в окно, как мимо нас во встречном направлении проскакивают воинские эшелоны с военной техникой.
 В первых числах августа мы в Юрьевце. Это маленький городишко на высоком берегу Волги. Двухэтажные домишки (низ каменный, верх деревянный) в пыльной зелени садиков спускаются ступеньками к воде. У ветхого дебаркадера изредка швартуются допотопные пароходики с колёсами по бортам. Над городом торчит единственная труба пивного завода.
Нас размещают в частных домах. Местные обыватели покорно принимают «вакуированных». Здесь не чувствуется паники — тихая, почти мирная жизнь, на рынке продают кур, много ягод, особенно малины. По улицам бродят козы. Дети купаются возле пристани на мелком месте. Волга кажется невероятно широкой, такую мощную реку я вижу впервые.
Наши хозяева отвели нам опрятную горницу с комодом, покрытым кружевной накидкой, и с зеркалом в чёрной затейливой раме. Я с большим интересом обследовал весь дом и двор. Впервые разглядывал таинственные домашние иконы, дивился кроватям с подзорами, глиняной посуде, станку кружевницы.
Мне нравился весь этот устоявшийся уютный быт, эти чудные запахи, особенно когда топилась плита при печке.
И сад был прелестный, заросший высокой травой. Единственное существо, которое оказалось негостеприимным, — коза, подошедшая ко мне и крепко поддавшая меня под зад рогами. Я не ожидал такого коварства и едва спасся от неё постыдным бегством.
Нас в горнице четверо. Маме в этот момент 34 года, няне Лене — 22, мне — 10, Лиде — шесть месяцев. Вид у мамы озабоченный, тревожный. По вечерам она пишет письма. Папа наш — на войне. Единственное письмо от него мы получили ещё в Москве. Он писал из-под Вязьмы. Дед с бабушкой остались в голодной Москве, писем от них ещё нет (они не знают пока нашего адреса).
В сентябре нас с Владиком приняли в местную школу. Школа — это одноэтажный бревенчатый дом, дощатые щелястые полы, парты стародавнего образца. Класс один. В нём дети разного возраста. Учительница тоже одна, она пытается совместить обучение и десятилетних (третий класс) и восьмилетних (первый класс). Настоящих уроков по существу нет, а есть всякие разговоры, шутки-прибаутки и пустяковые задания на дом.
Однако всё это продолжалось недолго. Немец уже овладел Украиной, Белоруссией, Прибалтикой, Кавказом и Крымом. Юрьевец глубоким тылом назвать было уже нельзя. Германское нашествие полным ходом приближалось к Волге.
Елена Емельяновна решила перебазироваться на Урал. В одну из ненастных ночей нас всех погрузили на пароход — вероятно, на один из последних, — который пошлёпал своими плицами вниз по течению к Казани. Там мы должны были перегрузиться на поезд, идущий на Урал.
На пароходике народу было битком. Спать никто не мог. Мы с Владиком заглянули в машинное отделение и с интересом наблюдали работу огромных маслянистых шатунов. В каютах была духота, а на палубе — холод и мокрота.
Утром в Казани на огромной пристани мы долго сидели на мешках и ждали, когда уладятся наши дела с железной дорогой.
Мама куда-то ушла, Лида, покладистый спокойный ребёнок, улыбалась ясному утру на руках у Лены, мы с Владиком бродили вокруг чемоданов и тюков, томясь в ожидании. Вдруг появилась моя взволнованная мама в сопровождении какой-то незнакомой женщины с потрясающим сообщением: мы дальше не едем, мы остаёмся в Казани — здесь Наркомфин, здесь наш отец!
В первых числах августа мы в Юрьевце. Это маленький городишко на высоком берегу Волги. Двухэтажные домишки (низ каменный, верх деревянный) в пыльной зелени садиков спускаются ступеньками к воде. У ветхого дебаркадера изредка швартуются допотопные пароходики с колёсами по бортам. Над городом торчит единственная труба пивного завода.
Нас размещают в частных домах. Местные обыватели покорно принимают «вакуированных». Здесь не чувствуется паники — тихая, почти мирная жизнь, на рынке продают кур, много ягод, особенно малины. По улицам бродят козы. Дети купаются возле пристани на мелком месте. Волга кажется невероятно широкой, такую мощную реку я вижу впервые.
Наши хозяева отвели нам опрятную горницу с комодом, покрытым кружевной накидкой, и с зеркалом в чёрной затейливой раме. Я с большим интересом обследовал весь дом и двор. Впервые разглядывал таинственные домашние иконы, дивился кроватям с подзорами, глиняной посуде, станку кружевницы.
Мне нравился весь этот устоявшийся уютный быт, эти чудные запахи, особенно когда топилась плита при печке.
И сад был прелестный, заросший высокой травой. Единственное существо, которое оказалось негостеприимным, — коза, подошедшая ко мне и крепко поддавшая меня под зад рогами. Я не ожидал такого коварства и едва спасся от неё постыдным бегством.
Нас в горнице четверо. Маме в этот момент 34 года, няне Лене — 22, мне — 10, Лиде — шесть месяцев. Вид у мамы озабоченный, тревожный. По вечерам она пишет письма. Папа наш — на войне. Единственное письмо от него мы получили ещё в Москве. Он писал из-под Вязьмы. Дед с бабушкой остались в голодной Москве, писем от них ещё нет (они не знают пока нашего адреса).
В сентябре нас с Владиком приняли в местную школу. Школа — это одноэтажный бревенчатый дом, дощатые щелястые полы, парты стародавнего образца. Класс один. В нём дети разного возраста. Учительница тоже одна, она пытается совместить обучение и десятилетних (третий класс) и восьмилетних (первый класс). Настоящих уроков по существу нет, а есть всякие разговоры, шутки-прибаутки и пустяковые задания на дом.
Однако всё это продолжалось недолго. Немец уже овладел Украиной, Белоруссией, Прибалтикой, Кавказом и Крымом. Юрьевец глубоким тылом назвать было уже нельзя. Германское нашествие полным ходом приближалось к Волге.
Елена Емельяновна решила перебазироваться на Урал. В одну из ненастных ночей нас всех погрузили на пароход — вероятно, на один из последних, — который пошлёпал своими плицами вниз по течению к Казани. Там мы должны были перегрузиться на поезд, идущий на Урал.
На пароходике народу было битком. Спать никто не мог. Мы с Владиком заглянули в машинное отделение и с интересом наблюдали работу огромных маслянистых шатунов. В каютах была духота, а на палубе — холод и мокрота.
Утром в Казани на огромной пристани мы долго сидели на мешках и ждали, когда уладятся наши дела с железной дорогой.
Мама куда-то ушла, Лида, покладистый спокойный ребёнок, улыбалась ясному утру на руках у Лены, мы с Владиком бродили вокруг чемоданов и тюков, томясь в ожидании. Вдруг появилась моя взволнованная мама в сопровождении какой-то незнакомой женщины с потрясающим сообщением: мы дальше не едем, мы остаёмся в Казани — здесь Наркомфин, здесь наш отец!
Встреча и разлука
В помещении какого-то училища разместилось эвакуированное из Москвы министерство финансов (Наркомфин). Нам предложили временно пожить в большой аудитории, наполовину заваленной пачками документов и бланков. Мебели не было, мы сидели на этих пачках. Папы не было. Нам сказали, что наш отец, каким-то чудом оказавшийся в тылу, узнал наш юрьевецкий адрес, помчался нас забирать, и мы с ним разминулись. Потом, при встрече, он рассказывал, как нашёл наших хозяев в Юрьевце, которые сообщили ему, что мы уехали на Урал, в каком подавленном состоянии добирался до Казани. Рассказывал свою военную эпопею — как его с постоянными носовыми кровотечениями забрали в медсанбат, комиссовали и отправили в Москву. Там он узнал у бабушки наш адрес и поехал в Казань догонять свой Наркомфин. В общежитии на окраине Казани на берегу реки Казанки мы встретили многих соседей по московскому ведомственному дому. Здесь была наша соседка по квартире Люся Кайдалова с дочкой Эллой, семейства Шарыгиных, Беловых, Марьяхиных, Дымшиц и др. Наркомфин — мощная организация — побеспокоился о семьях своих сотрудников. Отец с группой сослуживцев на грузовой машине съездил в район. Они привезли несколько мешков картошки и лука на зиму. Мы зажили почти счастливо, не переставая благодарить судьбу за такое чудесное воссоединение семьи. Вместе мы встретили новый 1942 год. Некоторые успехи Красной армии, разгром немцев под Москвой и то, что ни Москву, ни Ленинград врагу захватить не удалось, — всё это давало некоторую надежду, рождало оптимизм. Однако немцы подошли к Волге, к Сталинграду. Это был факт грозный, и Наркомфин решено было перебросить в Куйбышев. Сотрудники собрались в дорогу, а семьи оставались в Казани. И вновь нам с отцом пришлось расстаться.
«Степь да степь кругом…»
Зима 1942 года была и холодной, и голодной. Конечно, с лютым голодом блокадного Ленинграда Казань сравнивать нельзя, но всё же, всё же, всё же… Белый хлеб исчез. По карточкам давали 400 граммов чёрного хлеба — иждивенцам и детям, 500 граммов — служащим, 600 граммов — рабочим. На оборонных заводах было особое, повышенное снабжение. В магазинах отоваривали по талонам. К середине зимы исчез сахар, мяса давно уже не было. «Выбрасывали» иногда селёдку и консервы. Некоторое время бывала вместо сахара помадка, но и она вскоре пропала. Пока у нас был лук, его жарили и пили кипяток (чая уже не было) с бутербродами с жареным луком. Он казался сладковатым. В один несчастный день и лук закончился. Плохо было и с дровами. Печи топили чем попало. В эту зиму мы сдружились с Вовкой Шарыгиным. Мы вместе ходили по дрова. Разбирали заборы по ночам; разобрали даже мост через Казанку — правда, мы опоздали: его разобрали до нас, нам досталось лишь несколько досок. В нашем двухэтажном общежитии была коридорная система расположения комнат. Печи топились из коридора. Пока дрова имелись, мы, дети, устраивали возле топящихся печей посиделки с песнями. Взрослые давали нам молотые в мясорубке очистки картошки и капельку муки, и мы жарили в печках блинчики. У печки собирались дети разных возрастов. Старшей, Вале Беловой, было лет 15, младшему — Зорику Дымшицу — восемь. Этот Зорик, тем не менее, знал наизусть первую главу «Евгения Онегина» и читал её, картавя и шепелявя. Был среди нас мальчик лет 12–13. (Назову его условно Колей, ибо имени настоящего не помню.) Он замечательно пел ямщицкие песни. От него я впервые услышал «Степь да степь кругом…» и редкую песню, которую никогда больше не слышал:
Коржик
Нашей Лиде исполнился год. Она начинала ходить. Всё общежитие её баловало и нянчило. Она неуклюже ковыляла по одной половице из рук в руки. Часто город отключал электричество. Тогда зажигались коптилки. Как-то вечером, когда погас свет, Лида выдала первую в своей жизни фразу: «Сету-нету, сё в порядке». Это стало семейной поговоркой. Наша улица называлась Подлужной. Местные говорили, что по весне иногда Казанка, разлившись, доходила до крайних домов нашей улицы и оставляла на ней большие и долгие лужи.

Сестра Лида 1941 г.Никакого городского транспорта в этом районе не было. «В город» ходили только пешком. Казань стоит на холме, поэтому, идя в город, нужно было пройти довольно длинный и крутой подъём. Этим путём я ходил два года. По всяким делам: и в школу, и в детскую молочную кухню за грудным молоком для Лиды, и в кино, и в цирк. У меня были коньки. Я взбирался, пока был снег и лёд, до самого верха и лихо катил весь спуск около полукилометра, совсем не тормозя, до самого угла Подлужной. К весне 1942 года стало невыносимо голодно. А у меня вытащили хлебные карточки — слава богу, был конец месяца. Лиде больше уже не полагалось грудного донорского молока, а на взрослой еде она стала болеть и чахнуть. У неё развился какой-то серьёзный недуг и дистрофия. Врачи говорили, что её может спасти только пенициллин. Но достать его нельзя было ни за какие деньги. Мы были в отчаянии. Люся Кайдалова, очень красивая молодая женщина, в эту зиму стала предметом ухаживания некоего майора медицинской службы. Этот майор очевидно был безуспешен в своей страсти, но был упорен и терпелив. Он таскался за Люсей постоянно. Я не понимал, когда же он работает. Когда у нас возникла проблема с пенициллином, Люся очень отзывчиво этим прониклась и поставила перед майором задачу: раздобыть пенициллин. Он, в надежде на награду в сердечных делах, взялся достать лекарство и, правда, нескоро, достал его. Лида была спасена. Однажды я был послан в город с каким-то поручением. Идя в центре по многолюдной улице, я вдруг учуял полузабытый довоенный запах. Пахло чем-то кондитерским, мирным и вожделенным. При постоянном ощущении голода, которое я испытывал в ту пору, запах сей возбудил во мне неистовую решимость доискаться его источника. Я стал оглядываться кругом, заглядывать в двери магазинов, но запах явно шёл не оттуда. Наконец я обратил своё внимание на телегу, которая ехала по мостовой и везла нечто, покрытое брезентом. Я пошёл за ней. Запах дурманил мой мозг. Вдруг я неожиданно для самого себя, почти не сознавая, что я делаю, прицепился к телеге, запустил руку под брезент и ощутил нечто тёплое и мучное, лежавшее в деревянном плоском ящике. Рядом с моим лицом шлёпнул по брезенту кнут возницы. На миг я увидел его красное лицо, повёрнутое ко мне. Я соскочил с задка телеги и бросился бежать в страшном испуге. Мне казалось, что за мною гонятся. Я опрометью свернул в какой-то двор или закоулок, забежал ещё за какой-то угол. Не слыша звуков погони, я наконец остановился, тяжко дыша. В руке моей оказался зажат чудесный довоенный коржик в виде зубчатого кружка с маленькой дырочкой посередине. Я спрятал его за пазуху и стал искать выход обратно на улицу, но никак не мог найти. Потом я всё-таки выбрался из этих дворов, но это была какая-то другая улица. Я заблудился. Я долго блуждал по городу. Коржик грел мне грудь. Я думал принести его и угостить Лиду. Но голодное вожделение было необоримо. Я потихоньку отламывал маленькие кусочки, которые таяли во рту. Я думал: вот осталось полкоржика, принесу, пожалуй, и дам Лиде попробовать хоть немного. Но голод был сильнее меня. К тому же я подумал: «Что скажет мама? „Ты украл?“» — и проглотил остатки. Это была первая и, кажется, единственная кража в моей жизни.
Спасение
В марте наша мама, собрав некоторые ценные вещи: свою довоенную котиковую шубу, стёганое ватное одеяло, крытое розовым шёлком, и отрез блескучего атласа, — поехала в деревню под Казанью менять это богатство на муку. Хорошо помню, как она, грязная и загорелая на первом весеннем солнце, появилась в нашем дворе на деревенских розвальнях, которые волочила лошадёнка по уже почти лишённой снега земле. В санях лежал мешок спасительной чёрной муки. Из этой муки получались чёрные твёрдые лепёшки. Но проблему питания они не решали. Наше спасение пришло самым чудесным образом — и не только наше. Где-то в городе мама встретила своего давнего московского знакомого, сослуживца по 17-му универмагу, где она работала бухгалтером до войны. Этот пожилой человек устроил маму работать счетоводом на военный аэродром в столовую. Вот тут мы ожили. Мама не только обедала там, но и приносила в судках очень питательные, из настоящих дефицитных продуктов, обеды на дом. Мы отдали соседям остатки муки, а с Марьяхиной, у которой погиб муж и на руках остались малые дети, делились этими аэродромными обедами. Мама рассказывала, что на аэродром иногда прилетал Вася Сталин, и тогда в столовой начинались пиры и пьяные оргии.
Новая школа
Казань — татарско-русский город. Все уличные вывески — на двух языках. Татарские названия писались кириллицей и звучали смешно: к русским словам в конце привешивались татарские окончания «лары» или «ясы». Например, «Культтоварлары». Я ходил в русскую школу, но в нашем классе были и татарские дети, пожелавшие учиться на русском языке. Они хорошо учились и говорили почти без акцента. В Казани не чувствовалось никакого национального антагонизма. Много было смешанных браков. Татары отличались большой обстоятельностью в хозяйстве, большой опрятностью. Пожилые татарки ходили «на двор» обязательно с водой в медных кувшинах. Женские головные платки были не как у русских, треугольной формы, а квадратные. На ногах носили толстые шерстяные носки и кожаные чувяки или резиновые глубокие галоши. В школу я ходил далеко, вставать приходилось очень рано. Помню себя ползущим вверх по нашей горе, сильно наклонённым вперёд, почти ещё спящим. В классе, окружённый бодрыми одноклассниками, я окончательно просыпался. Учился я легко. У меня сохранились похвальные грамоты того времени. Учительница, ни имени, ни лица которой я, к сожалению, не помню, почему-то меня отличала, зачем-то приводила другим в пример, тем самым принося мне ощутимый вред — это делало меня каким-то любимчиком и портило отношения с одноклассниками. В перемену мы часто в коридоре «давили масло» — то есть, стоя в шеренге вдоль стены, что есть силы нажимали плечом друг на друга, стараясь выдавить из шеренги. Как-то в такой забаве я слишком сдавил своего щуплого соседа Марата Шакирова, ему сделалось больно, и он, выйдя из шеренги, пнул меня ногой, я не остался в долгу, и мы подрались. Наша учительница, внезапно появившаяся, решила наказать Марата и отправила его домой за родителями. Я же отделался лёгким замечанием. Это выглядело как явная несправедливость. Марат, забирая свой портфель и уходя, погрозил мне кулаком. Когда кончились уроки и мы шумной толпой вывалились в раздевалку, ко мне подошёл старший брат Марата, шестиклассник, и затащил меня за угол. От страха я завизжал как поросёнок. Он, насладившись моим страхом, бить меня не стал, а просто презрительно ткнул взашей и ушёл. Мы очень близко сошлись с Фридрихом Нацибуллиным, мальчиком впечатлительным и очень добрым. Он был сыном партийного работника. Жили они в привилегированном доме на улице Карла Маркса. Я был у него как-то в гостях, и мне предложили пообедать. Да! Это была довоенная, обильная и вкусная еда, на белой скатерти, со столовым серебром и крахмальными салфетками. В доме этом было много книг, на стенах висели картины в рамах. У Фридриха, который был назван, конечно, в честь Энгельса, была своя отдельная комната с ковром и письменным столом. Он увлёк меня французской борьбой как спортивным зрелищем. Мы ходили с ним в Казанский цирк, где проходили показательные выступления заезжих и местных борцов. Это были не просто спортивные турниры, а именно представления, чувствовалась специальная режиссура. Вначале выходила пара ковёрных, которых объявляли с особой помпой, присовокупляя к их именам какие-то смешные пышные звания за их неимоверные заслуги. Они боролись весьма потешно, кривляясь, громко шлёпая друг друга по голым местам, искусственно падая или валясь от пустякового толчка. Зал ревел от хохота и удовольствия. Потом выходили уже настоящие борцы и боролись всерьёз. Они представляли разные города. Помню одного из Ростова-на-Дону. В тот момент город этот был под немцем. Ростовчанин победил своего соперника, и публика неистово ему аплодировала, как бы символически обещая победу над врагом и освобождение Ростова. Эти представления в цирке породили моду на французскую борьбу. Во дворах мальчишки устраивали турниры. Старались бороться по правилам, выбирали судью-рефери. У нас во дворе отличались два брата-татарина. Они побеждали всех, но когда они схватились друг с другом, победитель не выявился. Силы их были велики, но равны, и хоть боролись они немыслимо долго, никто на лопатках не оказался. Ходили мы с Фридрихом в кино на знаменитые киносборники. Они значились под номерами и состояли из нескольких новелл. Помню новеллу о югославских партизанах. Собственно, запомнилась песня: «Ночь над Белградом тихая вышла на смену дня…» «Киносборник № 7» — это юмористическая новелла о Швейке, которого играл Борис Тенин, и Гитлере в исполнении Сергея Мартинсона. В ней Швейк, чешский патриот, устраивает глупому доверчивому Гитлеру хитроумные каверзы, ведущие его к разным видам гибели. И каждый раз, когда Гитлер попадается на уловку и тонет или сгорает, возникает наплывом лицо Родины-матери и она говорит: «Мало!» — дескать, слабовато наказание, изверг рода человеческого заслуживает большего. Тогда бедный Швейк сломя голову спешит спасать свою жертву. Чем это кончается, я не помню. Был ещё очень смешной американский фильм «Три мушкетёра» — однако не помню, в Казани ли я его смотрел или уже в Москве.
Госпиталь
Лето 42 года. Тёплое, даже жаркое. Началось купание в Казанке. Мост через реку восстановили. Мы с Вовкой Шарыгиным иногда наведываемся на ту сторону — там зреет горох и наливается капуста. Мы осторожно прячемся в кустах — следим за сторожем, который время от времени обходит с ружьём доверенные ему посевы. Недалеко от нас, на улице Красина, открылся госпиталь. Легко раненные разгуливают в халатах или просто в рубахах и кальсонах. Иногда они забредают и к нам на Подлужную. Как-то небольшая группа их перешла мост и гуляла по краю поля. Мы с Вовкой в это время сидели в кустах. Мы видели, как сторож забеспокоился и стал издали махать раненым, чтоб они уходили прочь, но те не поняли и, как свободные люди на своей советской земле, продолжали прогулку. Однако сторож, верный инструкции, скинул с плеча ружьецо и, угрожая, прицелился. Это защитникам Отечества не понравилось, и они решительно направились навстречу угрозе. Вдруг раздался хлопок, затем другой. Раненые, хромая, бросились догонять обидчика, который повернулся и пустился наутёк. Они его, конечно, не догнали и, перейдя мост, вышли на Подлужную. Мы тоже перешли. Один громадный детина с забинтованной рукой страшно матерился и, подняв рубаху, показывал свой розовый живот, усыпанный чёрными точками мелкой дроби. Вместе с нами трое раненых зашли к нам в общежитие. Лена наша, будучи комендантом, выказала защитникам Родины полное радушие. Она достала спирт и стала промывать ранки на животе у дважды раненного. Но трое молодцов, увидев спирт, попросили не расходовать его на пустяки, а дать им принять его внутрь, что и было сделано. И тут начался пир. Захмелев, верзила шутливо просунул свою здоровую руку мне под зад и поднял меня под самый потолок. Я судорожно схватился за его стриженую голову, боясь, что он меня уронит. Силы этот мужик был неимоверной. Я решил, что если такие силачи защищают нашу страну, то Победа недалека.
Шарыгины
В июле Казанка сильно обмелела. На середине реки воды было по колено, но течение, особенно на перекатах, было довольно быстрое. От нашего дома до реки ходу — две минуты. Я в возрасте 11 лет не считал зазорным выбегать из дома на улицу в одних трусах, но Вовка Шарыгин, который был старше меня на три года, ввиду такой своей солидности надевал брюки. Как-то мы брели по мелководью, я — в трусах, а он — в подвёрнутых брюках. Мне было поручено следить за глубиной: если выше колена — туда не ходить. Так мы брели в прохладной воде по мягкому песчаному дну, ища удобный выход на берег. Вдруг я почувствовал под ногами резкое углубление. Ступни заскользили по наклонному дну, и я сразу погрузился по пояс, потом по горло, и вот я вмиг очутился полностью под водой. Плавать я не умел. Успел только крикнуть: «Спа!..» — и тем самым выдохнул часть необходимого запаса воздуха. Внезапная паника… я начал непроизвольно глотать воду, барахтаться, тратить впустую силы. Потом наступило полуобморочное состояние, я перестал биться и отдался судьбе. Стало даже как-то легко и безразлично. В это мгновение я почувствовал прикосновение к моему телу Вовкиных рук. Я сразу очнулся и судорожно взгромоздился ему на спину, он покорно позволил мне это сделать. Наконец я высунул голову на поверхность, вдохнул воздух жизни и увидел перед собой ветки берегового кустарника, за которые тут же и ухватился. Потом мы лежали на берегу. Я приходил в себя и с ужасом вновь переживал всё только что произошедшее. Я понял, что был на краю гибели и что Вовка меня спас. И ещё я испытывал жуткий стыд и страх: как я расскажу маме? Я умолял Вовку никому не рассказывать о моём спасении, но он, гордый своим подвигом, желал получить полагающиеся в таких случаях почести и, конечно, рассказал всем, широко и во всех подробностях. Меня он спас, а родного брата своего чуть не погубил. Большое семейство Шарыгиных занимало комнату на первом этаже. У Вовки был младший брат Гарик пяти лет, и уже тут, в Казани, его мамаша родила девочку Наташку. Вовка уже тогда обожал электротехнику (взрослым он стал электриком и работал на метрополитене). Он придумывал всякие электрофокусы, делал электрогирлянды и пр. Местные татарские ребятишки не отходили от их окна на первом этаже, забранного железной решёткой. Целыми днями они глазели на гирлянду из цветных лампочек и не отставали, сколько бы их ни гнали. Вовка решил их отвадить раз и навсегда. Заметив, что ребятишки эти таращатся в комнату, приложив мордочки к железной решётке, Вовка провёл к ней электричество. Это был плюс, а минус — сырая земля, на которой стоят зрители. Когда он подвёл провод к решётке, детишек почему-то не было, и Вовка попросил своего брата Гарика пойти во двор и заглянуть в их комнату. Тот послушно пошёл и приложил свою физиономию к железным прутьям. Его, конечно, сильно тряхнуло. Счастье, что Вовка быстро выдернул вилку из штепселя, иначе Гарик бы погиб. Впоследствии Игорь Фёдорович Шарыгин стал известным математиком.
«Швейцария»
Выше по течению Казанки, на нашем, высоком берегу располагался парк под названием «Швейцария». Он в основном состоял из лесистой части, но небольшая огороженная площадка с летней эстрадой и аттракционами и была, собственно, парком. Летом 1942 года там можно было покачаться на качелях-лодочках, покрутиться на «гигантских шагах» и карусели, и ещё там был небольшой сарайчик, где торговали немудрёным угощением: жмыхом, патокой и чёрными пряниками. Ради этого угощения в парк набивалось много желающих и выстраивалась огромная очередь. Жмых (если кто не знает) — это отходы от производства подсолнечного масла. Неочищенные семечки давят сильным прессом, масло отходит и остается жёсткий брикет — жмых. Фактически это спрессованная шелуха, пахнущая маслом. Патока получается при производстве сахара из свёклы. Это вязкая жидкость тёмно-бурого цвета, она сладкая. Пряники пеклись из грубой тёмной муки на патоке. Всё наше общежитие целую неделю жевало жмых и лакомилось пряниками. У многих болели животы. Но через неделю весь запас этого товара был исчерпан. Правда, патоку ещё какое-то время продавали, но уже по сахарным талонам. За пределами парка шёл перелесок, а за ним открывалась большая поляна, где гарцевали на лошадях юноши и девушки, — конно-спортивная школа. Мы подолгу там торчали и могли наблюдать весь процесс обучения верховой езде. К концу лета мы уже сносно разбирались в профессиональной терминологии (шенкеля, трензеля, разные аллюры), в принципе знали, как седлается, как управляется лошадь. В самом начале меня очень удивило, что поворачивать лошадь можно не трогая повод, одним наклоном корпуса всадника. Это наглядно продемонстрировал статный старик-инструктор. Команда: «Манежным галопом ма-а-а-рш!» В лесу мы встречали иногда худого человека с малокалиберной винтовкой и со стыдливым выражением лица. Он охотился на скворцов. Это, как мы все понимали, постыдное занятие, но на что только человек не решается с голоду. Дела наши военные вроде бы поправились. Немецкое наступление потеряло стремительность. Под Сталинградом их остановили так же, как под Ленинградом и под Москвой. Блицкриг провалился, пошли позиционные бои и длительные осады городов. Прошёл слух, что Наркомфин возвращается в Москву. Некоторые семьи стали возвращаться. Уехали Дымшицы-Карлины. Жена Дымшица почему-то оставила в Казани своего старика отца. Старик Карлин жил тем, что у него имелся запас табака и папиросные гильзы, привезённые ещё из Москвы. Он набивал папиросы и продавал их на толкучке. К концу лета этот запас у него, по-видимому, иссяк, и он стал голодать. Всё общежитие с горечью наблюдало агонию этого человека, но помочь ему никто не мог. От голода он помешался. Однажды утром он выволок на двор своё бельё и начал какое-то непонятное действо. Он связывал узлом рукава рубашек, штанины кальсон и штанов, углы простыней. Всю эту вереницу белья он натянул на забор. После этого старик удалился в свою каморку и к вечеру умер. Лена-комендант вызвала перевозку с врачом, который, почти не взглянув, зафиксировал смерть, и труп куда-то увезли.
Возвращение
Осенью, с наступлением дождей и холодов, из-за отсутствия дров мы вместо печей стали пользоваться буржуйкой. В нашей большой комнате проживали три семьи. Мы вскладчину заказали себе буржуйку с длинной многоколенчатой трубой, проходившей по всей комнате и выведенной в окно. Эту печурку можно было топить мелкими чурками и щепками, собираемыми по всей округе. Она быстро нагревала комнату, раскаляясь докрасна, но с прекращением топки комната так же быстро остывала, и к утру вода в чайнике порой замерзала. На трубе не раз сгорали просыхающие пелёнки и варежки. Зимой уехали в Москву Беловы, и мы перебрались в их маленькую отдельную комнату. Здесь мы прожили последнюю томительную казанскую зиму. В ноябре или декабре (точно не помню) в нашем общежитии появились старик со старухой, которые пешком шли «из-под немца» откуда-то с запада. Всю дорогу они гнали перед собой свинью. Они рассказывали, что уходили с насиженного места и с другим скотом, но по дороге всё съели и распродали и вот… осталась последняя свинья. Они попросились на постой. Лена разрешила, но предупредила, что содержать здесь свинью не получится — нет условий. Усталые старики согласились её заколоть. Несколько дней туша свиньи висела в холодной кладовке, а Вовка голодным волком кружил возле двери. На третью ночь он потребовал у Лены ключи. Меж ними состоялся преступный сговор, в результате которого от туши был отхвачен порядочный кусок. Во втором часу ночи я проснулся от какого-то дивного довоенного запаха и от шкварчащего звука поджариваемого свиного мяса. Но проснулся я не один. Две огромные крысы, привлечённые столь обворожительным ароматом, тоже нахально, никого не стесняясь, вскочили на стол, где стояла электроплитка. Лена хлестала их тряпкой, но они не уходили. Проснулись и ближайшие соседи. Это была преступная ночная оргия. Той зимой наши войска перешли в решительное наступление. Под Сталинградом две наши армии, соединившись, совершили грандиозное окружение огромной немецкой группировки. Такой победы никто не ожидал. В плен попали 22 немецкие дивизии во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Кинохроника показала бесконечную вереницу немецких пленных. Все мы злорадно наслаждались этим зрелищем. Боже, в каком они были виде, эти вояки! В лёгких летних шинелях, замотанные случайным тряпьём, с чёрными обмороженными мордами, с какими-то плетёными корзинками вместо обуви. А эти огромные поля, покрытые ровными однообразными рядами немецких крестов! Стало понятно, что дух немецкого нашествия окончательно сломлен, что Победа действительно «будет за нами». Возродилась надежда на открытие союзниками второго фронта на Западе. Появились американские грузовики-студебекеры, штабные виллисы, яичный порошок и знаменитая свиная тушёнка. Народ вздохнул с облегчением. Мы засобирались домой в Москву. Но для этого нужно было получить особое разрешение. Его почему-то долго не давали, мы истомились, ожидая. Разрешение было получено только в конце апреля. Детали сборов и вся обратная дорога начисто выпали из моей памяти. Помню, что в школе, не дожидаясь окончания учебного года, мне всё-таки выдали аттестат об окончании четвёртого класса. В начале мая 1943 года мы прибыли в Москву. Тут мы узнали, что за неделю до нашего возвращения умерла наша бабушка. Официальная причина смерти — менингит. Но истинная причина, мы понимали — это голод. Похорон не было. Её просто кремировали, могилы никакой не осталось.
Художественная школа
Мой приятель и соученик по МСХШ Григорий Дервиз в своей монографии вспоминает с благодарностью нашего первого учителя — Михаила Алексеевича Славнова. Славнов — сухощавый, высокий, седой человек с ноздрями, заросшими жёстким волосом. Он никогда ни на кого не сердился, не одёргивал, даже не повышал голоса. Его ровный характер многих пленял. Гриша Дервиз считает его «крупным детским педагогом, который поставил на дорогу служения изобразительному искусству целую плеяду современных художников 1928–1945 годов рождения». Мы с Гришей в 1943 году поступили в Московскую среднюю художественную школу, которая только что вернулась из эвакуации. Гриша был на год старше меня и более подготовлен к такой школе, ибо до войны посещал студию при Доме пионеров, где преподавал Михаил Алексеевич; кроме того, он рос и воспитывался в художественной среде. Его родственниками были Нина Яковлевна Симонович-Ефимова и её муж, скульптор Иван Семёнович Ефимов, и вообще Дервизы связаны родством с Валентином Александровичем Серовым и Владимиром Андреевичем Фаворским. Я же был чистокровный дилетант. Мои родственники были далеки от мира искусства. У нас в доме полностью отсутствовало что-либо, связанное с таковым, — ни картин, ни репродукций, ни книг по искусству. Не помню, чтобы меня в детстве водили в музеи — кроме, конечно, дворца Шереметева в Останкине. До поступления в МСХШ живых художников мне приходилось видеть только дважды: это наш сосед, художник-любитель Павел Гевелинг, и какой-то студент-архитектор, писавший акварелью вид Шереметевского дворца, которого (студента) я наблюдал, случайно проходя мимо. Первый профессионал, которому показали мои детские рисунки, был Шорчев. Он и допустил меня до приёмного экзамена. Этот экзамен проходил где-то на Сретенке, кажется, в помещении Строгановки. Наша школа в тот момент ещё не имела своего постоянного помещения — таковое мы получили уже в октябре, в одном из переулков Переяславки. Я плохо помню, что я рисовал на экзамене; кажется, белые геометрические фигуры и какой-то натюрморт. Настоящих художественных акварельных красок у меня не было. Помню, что я ходил между рисующими, смотря из-за спин, и дивился их умению изображать предметы. Я этого не умел, я вообще впервые в жизни пытался рисовать с натуры. Я испытал полное отчаяние: не видать мне школы как своих ушей!
Выпускной класс Художественной школы. Я второй справа, 1950 г.Был экзамен и по композиции на свободную тему. Что-то, вероятно, я нацарапал, хотя уже был полностью убеждён в своём провале. Сколько народу было принято, сколько отсеяно — не знаю. Момент, когда я узнал, что принят, абсолютно выпал из моей памяти. Я помню себя уже на уроке в классе Михаила Алексеевича Славнова. Если задать себе откровенный вопрос, кем и чем я был в 1943 году, то честным ответом было бы следующее: невежественный инфантильный подросток, попавший в абсолютно непривычную жизненную ситуацию, требовавшую от него большого усилия воли, чтобы в ней освоиться и занять подобающее положение. Я стал оглядываться вокруг и увидел, что такой наивный недоросль и неумейка не я один. Подобных мне абсолютных новичков, детей, не прошедших подготовку для занятия трудным делом профессионального рисования, в классе было немало. Это давало мне некоторое успокоение и надежду, что я со временем подтянусь и догоню далеко вперёд ушедших. Одним из умелых, в отношении которого я испытал почти благоговейное восхищение, был паренёк очень смешной внешности, с большим носом и большим ртом с тесным рядом налезающих друг на друга зубов. Он был очень общителен, добродушен и комичен, умело всех смешил и забавлял. Его звали Коля Рожнов. Его я заметил ещё на экзамене. Я помню его, как мне казалось, замечательно исполненный натюрморт. В нашем классе оказалось немало детей известных художников: Миша Соколов, сын Николая Соколова (Кукрыниксы), Юра Горелов, сын известного исторического живописца. У большинства были настоящие акварельные краски в фарфоровых кюветках, а у меня какие-то лепёшки, наклеенные на картонку, что мне купили родители в писчебумажном магазине. Не сразу у меня появились настоящие краски, но и карандашом я рисовал по-детски, в основном контуром, а все штриховали, добиваясь тона. Михаил Алексеевич оказался очень спокойным и терпеливым наставником. Он иногда присаживался за мой мольберт и говорил мне о моих задачах. Я, признаться, плохо его понимал. Более понятно, что надо делать, мне становилось, когда я смотрел работы других, более продвинутых учеников. Вообще, должен признаться, обучение шло не столько от педагога, сколько от рядом сидевших соучеников, от замечательных работ старшеклассников на стенах в коридоре школы, от репродукций мастеров живописи, от посещений выставок и музеев, от книг в школьной библиотеке. Когда я впервые зашёл в библиотеку, то стоял в нерешительности и оглядывал стены, на которых висели большие чёрно-белые репродукции с картин европейских и русских художников. Меня привлекла одна — это был фрагмент какой-то картины. Собственно, там была лишь женская обнажённая рука на тёмном фоне, но рука совершенной формы и буквально излучающая свет. Библиотекарша Екатерина Михайловна Малиновская, сидевшая за прилавком, подняла голову и внимательно посмотрела на меня. Она поняла, что этот мальчик — новичок и феномен невежества, и спросила меня, не хочу ли я посмотреть книги по искусству. Увидев, что я пялюсь на репродукцию с рукой, она достала с полок большой потрёпанный том Рембрандта и подала мне. Но тут звонок заставил меня удалиться. После уроков я вернулся и долго листал этот том. Я был поражён увиденным. Позже я не раз брал именно эту монографию. Теперь я уже знал, что поразившая меня рука принадлежала Данае. Ещё несколько лет отделяло меня от того момента, когда я впервые окажусь в Ленинграде и в Эрмитаже наконец увижу оригинал. Наш класс был разделён пополам. На специальных занятиях одну половину (А) вела пожилая художница Сергеева, а вторую (Б) — Славнов. Собирались вместе мы на общеобразовательных уроках. В классе было нас около 30 человек, стало быть, в специальных группах — примерно по 15. В нашей группе (Б) из 15 учеников Славнов выделял двух-трёх наиболее перспективных и ставил их в пример остальным. Этим остальным (в том числе и мне) он уделял гораздо меньше своего времени. Что собой представлял Михаил Алексеевич как художник, мы долгое время не знали. Мы не видели его работ на выставках, не были у него дома. Впервые его собственное творчество мы обнаружили в 1944 году, когда он вывез группу учеников разных классов в Новый Афон. Тогда ещё шла война, было очень голодно, но я впервые увидел море, и это лето стало заметным рубежом в моей жизни. Михаил Алексеевич писал закат на море, а мы стояли полукругом и смотрели, как он справляется с трудной задачей захватить цвет быстро гаснущей зари. Помню, что это ему так и не удалось. Один из учеников, Боря Павлов, писал акварелью кипарисы. Они у него были коричневые. Михаил Алексеевич его похвалил. Я наивно спросил учителя, почему ему нравятся коричневые кипарисы, ведь они зелёные. Он долго экал и мекал, но вразумительно не смог мне это объяснить. Среди специальных дисциплин была и композиция. Возможно, среди нас были способные композиторы, но моя память, к сожалению, не сохранила ничего выдающегося. В школе не завели мастерских — ни офортных, ни литографских, ни керамических, не преподавали ни техники фрески, ни техники мозаики — ничего такого, что неизбежно побуждает к композиторству. Скульптурное отделение появилось лишь в 1950 году. Композиция у нас существовала только на бумаге и холсте. Образцы таких работ попадали на стены коридоров. Эти образцы служили нам наглядным пособием по композиции. У нас не было специальных преподавателей композиции, а педагоги, которые вели нас по живописи, так, иногда, между прочим, что-то говорили о диагонали в «Боярыне Морозовой». Настоящее, серьёзное обучение началось уже в институте. Впрочем, думаю, что этому научить нельзя. Это от бога. Наш первый класс 1943–1944 годов в дальнейшем пополнялся новыми учениками и убывал отчисляемыми. Николай Августович Карренберг, наш грозный директор, немец по национальности, благодаря какой-то таинственной случайности избежал судьбы своих соотечественников, которым возглавлявший страну великий параноик с начала войны не доверял, считал потенциальными предателями и ссылал их в Казахстан, в Сибирь и ещё куда подальше. Наоборот, Карренберг пользовался уважением властей, сумел получить помещение для школы, набрать очень приличный корпус педагогов по общеобразовательным дисциплинам, получить ряд привилегий для учащихся в условиях войны и карточной системы. Мы имели продовольственные карточки высшей (рабочей) категории, были прикреплены к столовой УДП (усиленного диетпитания), при школе существовал интернат для приезжих с полным государственным пансионом. По соображениям гуманности учеников из-за неуспеваемости отчисляли редко, ибо человек в случае изгнания теряли рабочую карточку, а с нею порой и способ существования. Нужно было стать отъявленным прогульщиком или нерадивым бездельником, чтоб тебя официально отчислили. Чаще ученики уходили из школы сами по разным причинам. Первые годы и я подумывал о добровольном уходе. Дела мои по спецпредметам шли из рук вон. Я получал низкие оценки, и это не способствовало моему благосознанию. Однако мне нравилось в школе всё. Она значительно отличалась от тех школ, где мне случалось учиться до неё. Это была привилегированная школа, где интеллектуальный уровень и педагогов, и учеников был много выше, где все ученики имели перед собой одну великую цель, где существовал культ искусства, где все были увлечены и напряжены, где обворожительно пахло масляными красками. С некоторыми соучениками первого года обучения я сблизился и подружился. Какое-то время моим соседом по парте был Вадик Смирин. Это был красивый и тихий мальчик, казавшийся моложе своих тринадцати лет. Меня привлекали люди, имеющие какое-либо индивидуальное увлечение. К таким я быстро попадал в сферу влияния, поддаваясь ему. Вадик уже тогда был увлечённым зоологом. Он не вылезал из зоопарка; дома, в его коммунальной квартире жили его питомцы, разные грызуны: хомяки, морские свинки. Их он кормил, лелеял и рисовал. Всё прочее он рисовал хуже, а цвет в акварели у него отсутствовал. Попав под его обаяние, я потянулся за ним и в зоопарк, стал рисовать животных и даже держал экзамен в КЮБЗ (Кружок юных биологов зоопарка) вместе с Вадиком. Нас спросили, каких мы знаем львов. Я сказал: — Рыжих, гривастых и свирепых. Вадик сказал: — Кентерберийских… (и ещё каких-то, не помню). Но, невзирая на такое моё невежество, нас обоих приняли. Мне поручили наблюдать за лисами и записывать в дневник их поведение и привычки. Пару дней я ходил в зоопарк к клетке лисы. Но в моей тетради значилось лишь:
1-й день. Лиса бегала из угла в угол. 2-й день. Лиса бегала из угла в угол.И так далее. Вскоре мне это надоело, и я перестал ходить в КЮБЗ. А Вадик ходил туда несколько лет. Он был большим поклонником Ватагина и под его влиянием занялся анималистической скульптурой. В 1944 году летом на Кавказе мы оказались с Вадиком в группе учеников, которых Михаил Алексеевич Славнов вывез на практику к морю. Нас поселили в бывшей водолечебнице, спрятанной в мандариновом саду. В зале ванн не было, в месте, где они раньше стояли, из бетонного пола торчали обрезки труб. Моя и Вадикова раскладушки были рядом. Днём мы рисовали, купались. По утрам, по договорённости с начальством местного пионерлагеря, нам давали по тарелке геркулесовой каши. И это была единственная в сутки наша еда. Остальное мы добирали воровством по окрестным садам и кукурузным плантациям. Мандарины были ещё зелёными, но мы, морщась, ели и их. Некоторые серьёзно болели животами. Энар Стенберг (будущий знаменитый театральный художник) был отправлен домой в состоянии дистрофии в крайней степени. Родители дали нам в дорогу некоторую сумму денег. Вначале мы ходили по выходным на местный базар. Там спускавшиеся с гор абхазы торговали лепёшками и мацони на виноградном листе. Это было объедение, на наш голодный взгляд. Но вскоре деньги кончились, а из Москвы на наши отчаянные просьбы денег нам не слали. Вот тут голод стал нашим постоянным спутником. Как мы выжили эти два месяца? До сих пор дивлюсь. Однажды ночью я проснулся от шороха серебряной бумажки и сладкого запаха какой-то еды. Вадик выглянул из-под одеяла и, увидев при лунном свете мой голодный взгляд, отрезал мне перочинным ножиком кусочек плавленого сырка, привезённого ещё из Москвы, который ему удалось экономно растянуть на пару недель. По общеобразовательным предметам Вадик учился блестяще, но в живописи он не тянул. Поэтому он доучился только до выпускного класса и ушёл из школы. Закончив среднее образование экстерном и получив аттестат зрелости на год раньше нас, он поступил на биофак Московского университета и надолго исчез из моего поля зрения.
Юра Злотников — мальчик на год старше меня, которого в первом классе я считал законченным мастером и которому нечему было учиться в школе. Он всё умел. В Новом Афоне, когда я приходил в отчаяние из-за своего неумения отражать на бумаге виденное, неспособности справиться с формой, пропорциями, цветом, он блестяще и легко рисовал по памяти пожилых абхазов с рынка. Экономно, минимальным количеством линий, очень элегантно и по-взрослому эстетично. Я тогда это чётко ощущал, но не мог сформулировать. В классе он умел очень красиво начинать акварельную работу. Я любовался началом его натюрмортов. Краски были положены легко, прозрачно, очень красиво и уже при первых прикосновениях это впечатляло. Правда, этот эстет быстро удовлетворялся достигнутым, и ему не хотелось продолжать и добиваться большей материальности. Доводить свои работы до требуемой законченности он не умел. Надо сказать, что у нас было больше умельцев красиво начинать и гораздо меньше — красиво завершать. Акварель вообще весьма капризная техника, без сомнения, труднее масла. Мы не умели сохранять до конца акварельную свежесть. Наши работы в итоге казались безнадёжно замученными. Такое мастерство достигается долгим опытом, и никакой педагог, в том числе и Славнов, не в силах этому научить.
На первой парте сидел долговязый кудрявый малый с длинным подбородком и хитрыми глазами, Володя Медведев. Это был талантливый остряк и имитатор. Подражая голосу нашей химички Зои Вениаминовны, он вещал: — Тифе, тифе, опыт не вышел, колба испугалась! На уроке французского он прочёл заданный нам стишок, который в переводе означал: «Тук-тук, кто стучится в моё окно? Это я, маленькая птичка». В его исполнении: — Ток-ток, ки фрапп а мон каро? КГБ! Это было весьма безрассудно по тем временам. Его родители-журналисты, услышь они такое, наверняка бы вздрогнули.
Удис Межавилкс, латышский юноша, бежавший из-под немцев, жил в интернате. В первые годы он был молчалив, плохо говорил по-русски, но к концу семилетнего образования говорил почти без акцента, много прочёл и был образованней многих. Художник он был замечательный. У него был свой, особый колорит в живописи и замечательное чувство юмора. Закончив МСХШ, он уехал к себе в Ригу и поступил там в Академию художеств на живописный факультет. Однако, как мне известно, в основном он стал заниматься графикой в юмористическом журнале «Дадзис», а со временем возглавил его. Происходил он из небогатой семьи. Таких людей советский режим ласкал и вознаграждал, в отличие от состоятельных буржуа. Власти предоставили ему с матерью и братом роскошные хоромы с зеркальными стенами и потолками на улице Стучки (сейчас она наверняка получила старое название). Я у них временно останавливался, когда поступал в Рижскую академию. Эти люди, как мне показалось, несколько стеснялись и чувствовали себя в зеркальных хоромах неловко.
В конце войны появился мальчик в погонах — сын полка Миша Сошкин. Этот деревенский паренёк не прижился в МСХШ и вскоре исчез. Еще из «перемещённых лиц» был Игорь Пчельников, переживший немецкую оккупацию. Ему оказывала покровительство и поддержку Зоя Вениаминовна, наша химичка. Володя Андриенко — из Белоруссии. Из Белоруссии прибыл и Э. Вайсман. Это был еврейский парень из провинции, несколько старше нас. Он плохо говорил по-русски. Однажды на уроке, когда все писали диктант, он нас сильно удивил и позабавил. Учительница диктовала: «Снег лежал на деревьях и бахромой висел на карнизе…» Вайсман написал: «…ибо хромой висел на карнизе». Он учился с нами недолго. Бушин, весёлый паренёк маленького роста, читал перед классом Лермонтовское «Бородино». Одна из строф у него звучала так:
Педагоги у нас были выдающиеся. Физик Семён Сакатун был предельно ясен в своих объяснениях, но и требователен к ученикам; географ Терехов, почтенный красивый старик, оказался автором учебника; был у нас и весьма колоритный военрук Назаров — к сожалению, забыл его имя. Он водил нас строем по улицам на УДП и велел «запевать». Мы пели «Броня крепка и танки наши быстры» и «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“». По окончании каждой песни он кричал: «Благодарю, товарищи, за песню!» Нам было велено ритмично хором на шаг левой ноги отвечать: «Служим! Советскому! Союзу!» Прохожие оборачивались и глядели с одобрением. На уроках мы бесконечно учились разбирать и собирать затвор боевой винтовки образца 1893–1930 годов, называя все её части. Некоторые насобачились это делать почти вслепую. За баловство и нерадивость военрук нас наказывал тем, что на весь урок ставил в угол «под ружьё» (ту же винтовку в положении «на плечо»). Была у его уроков и теоретическая часть. В словесности он был не силён. Объясняя, что такое «траектория», забыл определение «воображаемая линия» и сказал: «Траектория — это как бы есть и как бы нет». Чаще на теоретических занятиях он рассказывал случаи из своей военной жизни. Героем одного из рассказов был некий капитан Волошин, который, находясь в окружении, вызвал огонь нашей артиллерии на себя. Эту историю мы слышали несколько раз, и в нашей памяти засела её последняя фраза: «Эрэсы[4] пробили, и так погиб капитан Волошин!» Биологию преподавал Константин Иванович Карчевский по школьной кличке Циста. Это был милейший малоросс, человек лет пятидесяти, хромой, весёлый и шутливый. Нам он очень нравился. Уроки биологии и ботаники были легки и интересны. На дом он задавал нам прорастить фасольку так, чтобы корешок заворачивался спиралью. Для этого растение нужно было поворачивать кверху, но корешок упрямо стремился вниз. Получалась спираль. Всё это нужно было постадийно зарисовывать. Прозвище «Циста» дали учителю не мы, он носил его давно; мы получили это прозвище в употребление от старших классов по наследству. Циста — это биологическое понятие, что-то вроде инкубационной формы существования биологического объекта в неблагоприятных условиях. Наш учитель произносил это слово как-то особенно по-хохлацки: после «ц» у него звучало не твёрдое русское «ы», а мягкое украинское «и». Сам он, скорее всего, не знал о своём прозвище, которое звучало всегда заглазно. Наконец настал тот несчастный день, когда мы по программе дошли до этой злополучной цисты. И тут, стоило учителю произнести это слово, как весь класс расхохотался, да так неистово, что никак не мог остановиться. Циста был в недоумении, он не понимал, что происходит, сидел и ждал конца этого безобразия. Мы все были в каком-то диком возбуждении и никакими силами не могли успокоиться. Хохот стоял так долго, что учитель встал и, опустив голову, захромал из класса вон. Тут только наступило отрезвление: мы поняли, что натворили. Вернулся Циста уже с директором, и началась экзекуция. Выбрали несколько человек в качестве зачинщиков (как водится), в том числе и меня. Мы были исключены из школы на неделю, нам снизили оценки по поведению. Но главное — нас мучил стыд, ведь мы обидели ни за что нашего любимого учителя, и наказание не казалось нам чрезмерным. Много лет спустя я узнал, что этот преподаватель дарвинизма был впоследствии рукоположён в сан священника и погиб при загадочных обстоятельствах, сгорев в церкви. Шалости на переменах были неизбежны, как в любой школе среди здоровых увальней 12–15 лет. Здесь тоже «давили масло», устраивали «конные» турниры — ребята покрупнее брали на закорки мелких и хлипких и налетали на такую же пару, стараясь её уронить. Долговязые Федорович и Баулин таскали на себе Канаяна и Смирина. Вадика называли «верным конём», хотя он бывал из-за своего роста всегда всадником, а звание своё он получил благодаря Пушкину. Когда мы проходили «Полтаву», нам попалась знаменательная фраза «могуч и смирен верный конь». Ну конечно, «смирен» тут же превратилось в Смирина. Не помню, кто принёс в класс новую забаву: рисованное кино. Это не что иное, как покадровое рисование на полях учебников фигурок человечков. При быстром листании они начинали двигаться. Забава эта среди заядлых рисовальщиков мигом превратилась в эпидемию. Особенно отличался Коля Рожнов. Он поставил это дело на широкую ногу. У него в производстве получались тематические серии, а рисунки стали цветными. Уроки он, конечно, совсем забросил, а учебники употреблял только для серийного кино. Помню его серию «Багдадский вор» по мотивам только что вышедшего на экраны американского фильма. Коля стал главой всех киношников. Его фильмы оказались самыми совершенными. Всё, чем он был увлечён, он делал самозабвенно, а остальные обязанности игнорировал. Это и послужило поводом к его исключению из школы… В эти военные наши школьные годы (1943–45) Коля был моим кумиром. Меня очаровывала его музыкальность. Он моментально запоминал мелодии из шедших тогда «трофейных» кинофильмов: «Джордж из Динки-джаза», «Три мушкетёра», «Серенада Солнечной долины» с музыкой Глена Миллера, «Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк. Он запоминал и английский, и немецкий текст. С этого времени он увлёкся немецким языком и самостоятельно выучил его. Вообще, как бы это ни было антипатриотично, ему нравилось всё немецкое — немецкая военная форма, например, а позднее он собирал игрушечные модели немецких самолётов. С его уходом из художественной школы моя связь с ним не прервалась. Он был всегда в поле моего зрения до самой его смерти в глубокой старости. Его исключение и сейчас кажется чрезмерно жестоким по отношению к такой неординарной личности, как Николай Рожнов. Я думаю, что его жизнь сложилась бы более плодотворно, если бы он прошёл весь курс обучения в МСХШ.
А ведь наш директор Николай Августович Карренберг, по существу, не был ни жестоким, ни мстительным человеком. Его очень любили и ценили старшие ученики, принятые в школу при её открытии ещё до войны и прошедшие с ней эвакуацию в Башкирию (1941–43 годы); нашему поколению он казался Николаем Грозным. Мы редко видели его улыбающимся, на его лице чаще бывала маска озабоченности и недовольства. Не знаю, каким он был художником и педагогом, — я никогда не слышал от него ничего, кроме хозяйственных распоряжений и дисциплинарных разносов. Признаюсь, я боялся его. Его холодный взгляд действовал на меня паралитически. Все мои соприкосновения с ним носили почти криминальный характер, за исключением одного. Это был случай в Новый год. Под Новый год (кажется, 1948-й) в школе решили устроить весёлый вечер с капустником. Для этого на сцене предполагалось вывесить панно с шаржами на всех педагогов. За основу было решено взять фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», переименовав её в «Педсовет». Я тогда уже учился в четвёртом классе, был активным общественником и даже успел проявить себя, рисуя со сходством своих друзей и учителей. Делать панно привлекли меня, Лёву Дурасова и ещё несколько человек. Нам дали огромный лист рулонной бумаги. Мы расстелили его на полу и приступили к делу. Мы решили, что наши педагоги должны быть изображены в виде апостолов, а роль Христа, естественно, была отдана Карренбергу. Поначалу дело пошло весьма бойко. Уже появились на нашем панно апостол Пётр в виде Ашота Григорьевича, Иуда — химичка Зоя Вениаминовна и далее (уже не помню кто). Однако центральная фигура нам не удавалась. Директор упирался и никак не хотел становиться похожим. Тогда кто-то из учителей, наблюдавших за нашим занятием, ушёл и вскоре вернулся с Николаем Августовичем. Директор, как всегда, был серьёзен. Он ознакомился с нашей работой без улыбки, одобрительно кивнул и застыл в неподвижности. Это мы поняли как сигнал и взялись за карандаши. Все мы рисовали в напряжённом волнении минут пять. Затем Николай Августович, не взглянув на наши листки, кивнул и удалился. Панно имело большой успех. Второе соприкосновение — это исключение на неделю в связи с Цистой. О третьем стоит рассказать подробнее. Это случилось во время летней практики в селе Бёхово на Оке. Я тогда очень сблизился с Кириллом Соколовым. Мы вместе с ним уходили из лагеря далеко по берегу реки, писали этюды, купались и наслаждались полной свободой. Порой мы даже не являлись на обед, ибо нам можно было брать кое-какую провизию сухим пайком и готовить себе на костре. Рядом с нашим лагерем располагался лагерь пленных немцев, которые были заняты строительными работами. Им начальство выдавало табак, всем, даже тем, кто не курил. Мы иногда меняли свой сахар на их табак. И вот однажды мы с Кириллом, проходя к нашему излюбленному месту, где мы писали и разжигали костёр, остановились в какой-то деревне. У нас не было спичек для костра. Мы присели на завалинку крайней избы, свернули самокрутки с «немецким» табаком и постучали в окно избы: «Хозяйка, нет ли спичек?» Окно открылось и — о, ужас! Пред нами в окне показался Николай Августович! Мгновение мы и он стояли с открытыми ртами, а мы ещё и с самокрутками в руках… Он первый вернулся к реальности и велел нам идти в лагерь. В наказанье нас досрочно отправили домой. Прибыв в Москву с вещами и этюдником, я заночевал на подоконнике лестничной площадки, ибо в квартире никого не оказалось: и наши, и соседи разъехались на лето в отпуска. Утром я поехал в школу, но и там никого не застал. Там, правда, кто-то дал мне адрес нашего завуча Натальи Викторовны, у которой я переночевал и с её запиской уехал обратно в лагерь. Кирилл так и не вернулся. А вот четвёртый случай. В последнем, выпускном классе нам объявили, что каждому предоставляется возможность улучшить свой аттестат. Можно подготовиться и пересдать те предметы, где оценка была ниже желаемой. У меня стояла тройка по географии, и я решил подготовиться и пересдать. В назначенный день мы с Севой Мухиным явились для пересдачи. Он шёл на медаль, и ему нужно было вместо четвёрки получить пятёрку. Он отвечал первым, ответил блестяще и ушёл, получив свою пятёрку. Когда вышел к карте я, дверь открылась, и в класс вошёл Николай Августович. Нужно ли говорить, что с моей пересдачей ничего не вышло? Хорошо ещё, что мою тройку не исправили на двойку. Я был в шоке. Не мог отыскать на карте Новую Гвинею. У меня помутилось в голове и неожиданно пошла носом кровь. Когда же я пришёл домой и, успокоившись, открыл атлас, то моментально нашёл Новую Гвинею и вспомнил всё, что нужно. И последняя встреча. Не помню в каком году, вероятно, в 1970-х, я, уже будучи зрелым художником, встретил Карренберга в метро. Он тогда уже жил на покое, директором школы был Николай Иванович Андрияка. Я поздоровался с ним. Он меня, конечно, не узнал. Не признал даже, когда я назвал свою фамилию. После минуты неловкого молчания он попросил назвать несколько фамилий тех, с кем я учился, в надежде обнаружить хоть какую-то зацепку для дальнейшего разговора. Я назвал несколько имён наиболее успешных художников: Ирину Лаврову, Игоря Пчельникова, Гришу Дервиза и ещё кого-то. На лице Карренберга ни разу не показался знак узнавания. На этом мы и расстались, уже навсегда. Печально это! У Славнова мы проучились один год. Уже со второго класса нас подхватил целый ряд наставников, однако я не в силах вспомнить ни одного. Они менялись почти каждый год. Впрочем, одного я помню. Это Николай Константинович Соломин. Он много рисовал сам, и мы хоть видели, что он собой представляет. Рисовал он быстро и очень грамотно, хорошо понимал и знал перспективу. Но всё это было холодно и без эмоций. Помню, что как-то летом он свозил нас на пароходе в Углич. Это было мероприятие не без приключений, но полезное, и мне оно запомнилось. Ученики других классов с уважением вспоминают некоторых педагогов нашей школы, к которым мне не повезло попасть: Барщ, Михайлов, Добросердов, Почиталов. Был ещё один — Ашот Григорьевич Сукиасян, заместитель директора школы. Он в своём всегда чистом, без следа красок, халате постоянно сновал по школе по хозяйственным делам. Все семь лет я слышал, что он пишет картину под названием «Стрижка барашка», но никогда ни на какой выставке его работ не видел. После войны появился светловолосый капитан в военной форме — Николай Андрияка. Он начал преподавать, но долго не снимал погон. В это же время в школе появилось много музейных полотен западноевропейской живописи, но всё это были художники неизвестные. Эти чёрные картины (вероятно, не позднее XVIII века), висели по мастерским, в библиотеке и коридорах. Видимо, они достались нам из разорённых коллекций немецких музеев. На стенах коридоров, на трёх этажах, была периодически сменяемая выставка лучшего, что создавалось учениками, из фондов школы. Там, как мне казалось, попадались и подлинные шедевры. На этих образцах мы учились. Были работы, привезённые из эвакуации, — пейзажи Башкирии, портреты и учебные работы, этюды животных, интерьеры изб. Чаще всего в сером, очень сдержанном колорите в традиции русской живописи конца XIX века. Живопись Александра Суханова, Клары Власовой, Виктора Бабицына, Виктора Иванова, Владимира Стожарова, Андрея Тутунова, Тани Плигиной, Пети Смолина. Рисунки Игоря Година — лошади, коровы, овцы. Тончайшие перовые иллюстрации Ивана Кускова, рисунки Льва Котлярова к «Капитанской дочке», Павла Бунина на тему Великой французской революции и т. д. Школа держалась традиции реализма русского искусства XIX века. Кумиром был Василий Иванович Суриков. Западный модерн был под запретом. Даже импрессионизм считался предосудительным. То же самое можно сказать и о русском авангарде 1920-х годов. Правда, мне вспоминается лекция Василия Васильевича Почиталова об Аристархе Лентулове. Он восторженно, буквально захлёбываясь слюной, говорил о его живописи, показывая дореволюционную монографию. Иногда к нам приглашали знаменитых родителей. Приходили Кукрыниксы. Несколько раз был Исаак Дунаевский с концертами. Драмкружок у нас вела одна из дочерей Василия Поленова, она ставила какую-то пьесу Михаила Светлова. Помню, как мы целой делегацией ходили домой к Александру Фадееву приглашать его к нам в школу. Автор «Молодой гвардии» отказаться не мог, но так и не пришёл, объяснившись занятостью. Последний, дипломный год, мы учились уже в новом здании в Лаврушинском, напротив Третьяковки.
Один год в Риге
К 1950 году я изнывал от накопившейся за 12 лет неимоверной усталости. Помню, по окончании последнего экзамена на аттестат зрелости мы с друзьями шли пешком из Замоскворечья через Большой каменный мост. На середине моста мы остановились и стали смотреть вниз на воду. Вдруг одновременно раздался хоровой вздох, и в воду, трепеща страницами, полетели все наши учебники и тетради. Раздался спонтанный вопль освобождения! Но вопить было ещё рано. Предстояло ещё одно усилие, ещё один экзамен — вступительный, в институт имени Сурикова. Правда, общеобразовательные дисциплины здесь не играли решающей роли. Здесь был серьёзный конкурс, здесь нужно было не сплоховать по предмету будущей профессии. Я сплоховал, и самым нелепым образом. Уже сейчас я не помню, как я рисовал и писал с натурщика, но, кажется, это прошло благополучно. Но вот настал черёд композиции. Этот экзамен был рассчитан на два дня, причём он попадал на субботу и понедельник. В воскресенье был перерыв. Большинство экзаменуемых не надеялись на импровизацию, да это и не требовалось, — занялись воспроизведением каких-то своих школьных работ. Я же, недавно прочитав «Фому Гордеева» Горького, решил сделать иллюстрацию. Работал я весело и увлечённо. Двух часов, естественно, не хватило, чтоб закончить, но у меня был ещё в запасе понедельник. Моим друзьям-конкурентам пришла в голову блажная мысль — вынести незаконченные листы и поработать над ними в воскресенье дома. Я зачем-то поддался всеобщему порыву, хотя у меня для этого большой нужды не было. Просто стадное чувство. Когда мы со своими папками явились в понедельник, нам велели эти папочки оставить у вахтёра. В классе нам пришлось на чистых листах всё делать заново. Настроение было соответствующее, и вдохновение не то. Как впоследствии выяснилось, никто всерьёз не рассматривал наших экзаменационных работ: сам факт выноса из института своих композиций во время конкурса являлся достаточным криминалом, чтоб оставить нас за бортом. Однако я ещё на что-то надеялся и, придя в день зачисления, судорожно пробегал глазами списки зачисленных. На какое-то мгновение я с облегчением увидел свою фамилию, но, рассмотрев внимательнее, понял, что это ошибка зрения: там стояло не ИТКИН, а ШИКИН. Попали в Суриковский институт только живописцы, которые не могли вынести с экзамена свои громоздкие холсты, а почти все бедолаги-графики, увы, остались с носом. Говорят, на графическом факультете в том году был даже недобор, и туда «ссылали» не слишком успешных живописцев. Дух мой был подавлен, тем более что сразу же обозначилась перспектива загреметь в армию. Да, в девятнадцать лет я не обладал ни умом, ни основательностью характера; впрочем, подозреваю, что эти свойства оставались со мною и в дальнейшем. Домашние мои очень меня жалели, но уехали на дачу, а я бродил по городу без нужды и без цели. Вскоре среди потерпевших фиаско распространилось сообщение, что в Прибалтике вступительные экзамены проводятся на месяц позднее, чем в Москве, и есть ещё шанс попытать там счастья. Так я с Володей Циммерлингом и Машей Чернышовой оказался в Риге. Нас, иногородних абитуриентов, разместили временно в общежитии. Среди поступающих было несколько «переростков», людей солидных, воевавших в Великую Отечественную, женатых, имевших уже детей. Со мной в комнате разместили такого фронтовика — Евгения Скульского. Это был одессит-еврей, с фамилией, похожей на польскую. Такими людьми, благодаря их фамилиям, укомплектовывали польские части, воевавшие против немцев с нашей стороны. Он имел даже какой-то польский наградной крестик. Этот человек мне очень нравился, но, к сожалению, в Латвийскую академию художеств он не попал и исчез из моей жизни. Первым экзаменом был рисунок. Вне зависимости от специальности (факультета), все рисовали вместе в большой аудитории. Программа: портрет и обнажёнка. Эту часть экзамена я плохо помню. Потом, после двухдневного перерыва, шла живопись маслом. Холсты и подрамники не выдавались, нужно было позаботиться об этом самому и заранее. Я, конечно, ничего не имел. Но за эти два дня я развил лихорадочную деятельность: нашёл какой-то ящик, разломал его, из досок соорудил подрамник, натянул холст, загрунтовал его в каком-то подвале Академии и с этой самоделкой явился на экзамен. Вначале был портрет. Сидела пожилая натурщица в ярко-жёлтой блузке и чёрном жилете. У неё были крашеные рыжие волосы и красноватые тени вокруг почти бесцветных глаз. Я с первого взгляда на неё утвердился в определённом плане — как я её изображу. Её смугловатое лицо очень хорошо контактировало с жёлтой блузкой. Фон в натуре был какой-то неопределённый, я придумал свой — серо-зеленоватый. Он хорошо подходил к её рыжим волосам. Как в старинных портретах, рядом с освещённой частью фигуры я фон утемнил, а рядом с теневой — немного усветлил. Дама эта получилась очень похожей и выразительной. Во время работы я слышал за спиной некое движение и шёпот. Подходили и конкуренты, и педагоги, смотрели молча. На экзаменах никаких советов подавать нельзя — запрещено. Но шёпот этот был явно одобрительный. Дальше была мужская обнажённая модель, она у меня явно не получилась. Натурщик был загорелый; в своей школе я писал белотелых и видел множество оттенков, а здесь я намазал, в основном, одной охрой. Композицию я сделал акварелью, ибо шёл на графику, да и холста у меня больше не было. Плохо помню, что я изобразил. Что-то с лошадьми. К концу экзаменов по специальности настроение моё было на нуле. Всё, что я сделал, кроме портрета, было так плохо, что я приуныл всерьёз. Однако скоро выяснилось, что я допущен к общеобразовательным, а это уже ни на что не влияло — это означало, что я прохожу в Академию. Запомнился мне экзамен по латышскому языку. Мы, приезжие, недоумевали — к чему этот формализм? Ведь всем известно, что мы этим языком не владеем. Перед экзаменом нам всем выдали текст четверостишия о Ленине (пишу его русскими буквами):
Я и Удис Межавилкс, Рига, 1958 г.Мой экзаменационный портрет пожилой женщины был как-то особо отмечен. Сам ректор Отто Скулме предложил зачислить меня на живописный факультет, но я отказался и поступил на графику, как и указывал в своём заявлении первоначально.
Итак, к моей фамилии прицепили в хвосте букву «с» — Иткинс, — и я стал студентом первого курса WMA («Валет мокслас академи»). Правда, места в общежитии мне не нашлось. Нужно было снимать что-то в частном секторе, но в этом деле мне помог мой отец. Он связался из Москвы со своим знакомым рижским финансистом, и тот устроил меня в общежитие Рижского финансового техникума. Тогда это называлось блатом. Мне назначили стипендию — 220 рублей. Питался я в столовой Академии художеств. Еда там была весьма скудная и однообразная. Иногда я позволял себе шикануть и съесть ромштекс в городе. Ресторан мы часто посещали вдвоём с Володей Циммерлингом, у которого, как правило, денег не было, а если появлялись, то он предпочитал тратить их на книги. В Риге на книжных прилавках по сравнению с Москвой была несколько большая свобода и несколько меньший дефицит. Конечно, мои 220 рублей таяли мгновенно. Слава богу, родители высылали мне регулярно ещё 400, но и эти деньги не доживали до очередной стипендии. За этот год я очень сблизился с Циммерлингом, человеком чрезвычайно интеллектуально развитым. Он значительно лучше меня ориентировался в мировом искусстве. Это он открыл для меня графику Франса Мазереля. Правда, должен признаться, его собственные идеи (он учился на скульптурном факультете) были мне малопонятны, и его вкусы я не разделял. Володя, в отличие от меня, проявлял большой интерес к марксистской философии, и в этой области он имел значительный успех у профессора, преподававшего диамат. Я в этих дисциплинах не блистал и в первом же полугодии так всё запустил, что отказался от зачётов и умолил начальство отпустить меня на каникулы в Москву — мол, сдам все хвосты по возвращении. Такого со мною ещё никогда не бывало, чтоб я сидел и ничего не понимал, о чём толкуют в аудитории. Меня больше привлекала так называемая студенческая богемная жизнь — душа просила отдыха после школьной каторги. С вольнослушателем Валькой Радчуком под его гитару на вечерах самодеятельности мы распевали неаполитанские песни и цыганские романсы. Когда Ригу посетил недавно вернувшийся из эмиграции Александр Вертинский и дал концерт в филармонии, мы не преминули побывать на нём. Его песни немедленно пополнили наш репертуар. Рисовал я и в стенгазете разные шаржи на студентов и профессоров. В канун Первомая меня попросили участвовать в оформлении нашей колонны на демонстрации. Это было в разгар холодной войны и «борьбы за мир». Газеты и юмористические журналы заполнялись карикатурами, бичующими американский империализм. Сейчас стыдно вспоминать, но я предложил изготовить муляж огромного карандаша, пронзающего «поджигателей войны». Начальство Академии, желая выслужиться перед высшим начальством, всячески поощряло меня. Сделанный по моему эскизу пятиметровый карандаш с нанизанными на него корчащимися «поджигателями войны» водрузили на двухколёсную тачку и покатили на демонстрацию. Трудящиеся с удивлением смотрели на нашу колонну. Видно, эта московская штуковина для них была в диковинку. Студентов на графическом факультете было, как мне кажется, не более десяти человек. Представителей нетитульной национальности — я один. Преподаватели по-русски говорили только со мной, и вообще очень мало говорили. Я был предоставлен сам себе и ничуть не сетовал на это. Пока, на первом курсе, мы занимались просто рисованием одетых натурщиков. До графических техник, которыми славится Прибалтика, мы ещё не доросли. Постигали лишь премудрость акварели. Здесь впервые меня научили натягивать бумагу на планшет, планшет класть на подставку с наклоном в 30 градусов, чтоб вода не катилась стремглав вниз, а сползала медленно. Лист предлагалось крыть цветом широко, обобщённо и методично. Была целая теория о многослойной акварели. Это были, пожалуй, самые ценные уроки. По поводу композиции не помню никаких указаний. Я прочёл случайно «Барсуков» Леонида Леонова и делал к ним иллюстрации, но делал их дома и никому не показывал (а никто и не требовал). Я не помню, занимался ли кто-нибудь из студентов композицией. Вообще со своими однокурсниками-латышами я почти не общался. Была одна очень талантливая студентка Рита Валнере, однако она страдала частыми депрессиями, и однажды мне пришлось её утешать, доказывая ей, что она не бездарна. Впоследствии она стала очень известной художницей. В общежитии мой напарник по комнате, добродушный белорус Савицкий, уезжая домой на каникулы, возвращался с домашней, очень вкусной колбасой и устраивал в первый день по возвращении роскошное пиршество. Бывал у меня в гостях и Валька Радчук (вольнослушатель), который никак не мог устроиться с жильём и ночевал чёрт-те где, иногда даже на вокзале. В нашем финансовом общежитии было строго запрещено принимать посторонних. Однажды, когда у меня гостил Радчук, кто-то предупредил нас, что идёт начальство. Я затолкал Вальку под свою кровать. Вошёл комендант. Он, видимо, был кем-то уведомлён, что у меня гость, но впрямую заявить об этом не мог, поэтому очень долго сидел у нас, беседуя на разные отвлечённые темы. Я старался не выдать своего волнения, и это мне вполне удалось. Когда он, наконец, ушёл, я с трудом вытащил своего друга из-под кровати; он там, бедняга, уснул: сказалось хроническое недосыпание на вокзалах. Академическое начальство Вальку не жаловало, он не считался студентом, но ему разрешалось присутствовать на занятиях. Это был очень весёлый и легкомысленный парень родом из Казани — там осталась его любимая девушка Люба, которой он часто писал письма, уверяя, что он студент и процветает. Вообще надо признать, что администрация Академии была весьма либеральна. Она ничуть не делала различия меж латышами и прочими. А этих прочих, то есть русских, хохлов, евреев, татар было, пожалуй, больше половины. Здесь весьма гуманно относились и к своим недотёпам, и к чужим. Помню, на защите дипломов один весьма пожилой студент показал странный опус. Эта была серия иллюстраций к какому-то роману. Картинок было множество, но все они были очень похожи. Во всех стояли четыре фигуры на равных расстояниях друг от друга, стояли без жестов, по стойке смирно, с открытыми ртами, различие по признакам пола было почти неуловимо, и т. д. Комиссия не знала, что ей делать с этим студентом. Его в Академии держали, видимо, много лет, но в этом году наконец решили выпустить на волю или просто от него избавиться. Профессор Упит неважно говорил по-русски, но, чтобы как-то защитить этого студента, сказал: — Это наш самый… Самый… Наш… (он забыл слово «ветеран»)… Инвентар. И хотя мы давно его знаем, будем надеяться, что он в жизни себя покажет. Ему дали диплом. Среди латышей я различал людей двух сортов: одни были абсолютно лояльны режиму, хорошо владели русским языком, держали себя с некоей бодрой официальностью. Другие молчаливо презирали всё «привозное», «советское», «российское». Эти по-русски говорили нехотя, общались только с себе подобными, были во всём оппозиционны и скрытны. Антагонизм был весьма заметен, но он носил не социальный, а национальный характер. Удис Межавилкс, мой товарищ и одноклассник по Московской художественной школе, закончив нашу школу одновременно со мной и вернувшись в свою родную Ригу к матери и старшему брату, жил в бывшей роскошной купеческой квартире в центре города. Я уже упоминал о том, что вся эта квартира была в зеркалах, даже потолок был зеркальным. Бедное семейство Удиса советской властью было переселено из каких-то трущоб в квартиру богача, выселенного, а может быть, и расстрелянного. Казалось бы, они должны были быть лояльны режиму. Но и в них чувствовался скрытый ропот и недовольство.
К весне 1951 года я уже начал не только понимать латышскую речь, но даже примитивно изъясняться. Однако время от времени на меня наваливалась тоска по Москве, тоска по дому, по родителям, по большой, как мне представлялось, жизни. Здесь, в Латвии, жизнь казалась мелкой, провинциальной, скучной. Учебный год я закончил успешно. В моей зачётке стояли отличные отметки. И хотя, по правде сказать, я год провалял дурака, руководство Академии, сам не знаю почему, отнеслось ко мне весьма уважительно. Предстояла ещё практика на природе. Место для неё было выбрано на востоке от Риги, в 70 километрах. Деревня называлась Лиелварде, в районе Огре на берегу широкой в этом месте Даугавы. Руководство местного совхоза выделило нам комнату в сельском клубе. Матрасы тоже дали, но не было кроватей. Мы спали как в гареме, на полу среди пуховиков и подушек. Командовал нами художник Кириллов — человек, увлечённый искусством. Вставал он очень рано и шёл на берег Даугавы писать сирень. Бесконечные заросли сирени тянулись на много километров вдоль берега реки. Этот Кириллов был вечно недоволен плодами рук своих. Что бы он ни делал — и довольно удачно на наш взгляд, — вечером он всё сдирал мастихином и наутро шёл рисовать заново. Всё ему казалось мелко и ничтожно на холсте по сравнению с природой. Поэтому он всё увеличивал и увеличивал размер холста, делал целую ширму на петлях. Мы ждали, что это кончится ширмой во всю Даугаву. Мой друг Удис Межавилкс ходил довольно далеко в поисках мотива для своих пейзажей. Чтобы облегчить себе жизнь, он решил привезти из Риги свой велосипед. Мы вдвоём с ним отправились за велосипедом. Когда на обратном пути мы пытались внести машину в вагон электрички, нам заявили, что это запрещено. Можно везти такие вещи лишь в разобранном виде. Но у нас, к сожалению, не было с собой ни ключей, ни прочих инструментов, и разобрать велосипед пальцами мы не могли. Я с легкомыслием молодости предложил: — Ты езжай, а я приеду в Лиелварде на велосипеде. Подумаешь, 70 километров! За три часа буду на месте. В этот момент было уже часов шесть вечера. Он уехал, а я сел на велосипед и начал кружить по Риге в поисках выезда на нужную дорогу. Только на это ушло два часа. Когда я начал движение по Московскому шоссе, было уже четверть девятого вечера. Сначала я мчался довольно быстро, вероятно, километров 25 в час, но потом начал уставать и захотел есть. По пути попался какой-то магазин. Я купил хлеба и колбасы, сделал бутерброд и поехал, жуя, чтобы не тратить времени. Стало слегка темнеть. Во время еды и езды мой велосипед ехал зигзагом, виляя, то выезжал на середину шоссе, то прижимался к обочине. Вдруг я услышал тревожное приближающееся гудение, и мимо пронёсся мотоцикл. Обходя меня справа, он не мог меня не задеть. Я со своей колбасой вмиг оказался на асфальте, а он свалился в кювет. Поднявшись, он отругал меня на латышском, но поняв, что я русский, махнул рукой, отряхнулся и уехал. Я себя оглядел, ощупал, поднял колбасу. Вроде цел и невредим. Всё произошло так мгновенно, что я даже не успел испугаться. Я поднял велосипед, сел и поехал дальше. Однако через несколько метров я заметил какой-то непорядок в переднем колесе. Оказалось, что после падения из-под покрышки слегка вылезла, в виде опухоли, туго накачанная камера и начала шаркать по вилке. Я понял: несколько таких шарканий — и она протрётся и лопнет. Мне пришлось открыть ниппель и приспустить воздух. Камера обмякла, и мне удалось запихнуть её под покрышку. После этого я поехал дальше. Стало быстро темнеть и пошёл дождь. Я теперь ехал по мокрому асфальту. Обгонявшие меня машины сигналили и обдавали меня брызгами, заставляя всё время съезжать на грунтовую обочину. У этого велосипеда отсутствовало крыло над задним колесом. Я чувствовал, как грязь от него летит по касательной и хлещет меня в спину. Мой пиджак намок и потяжелел. Я совсем выбивался из сил, но на столбах уже шли шестидесятые километры. Уже не помню, как я нашёл в темноте наш совхоз, как ввалился в «гарем». Была уже глубокая ночь. Не спал только Удис — он переживал по поводу велосипеда.
В это время я попросился домой, и отец мой попытался поспособствовать переводу моему в институт Сурикова. Действовал он через своего шефа, замминистра финансов Урюпина. Поскольку у меня был отличный аттестат, Урюпин дал распоряжение своему референту по финансированию высших учебных заведений сделать запрос в институт. На запрос пришёл положительный ответ, и я стал собираться восвояси. Требовалось только завершить уж не помню какие формальности в Латвийской академии. Я отпросился у Кириллова на денёк и поехал в Ригу. Там я, конечно, никого на месте не застал, ведь наступило предканикулярное время. В администрации мне сказали, что нужный мне чиновник будет завтра. Ехать на ночь в Лиелварде не имело смысла, и я решил заночевать в Риге. Однако в общежитии, сколько я ни барабанил в дверь, мне никто не открыл. С моимжильём в финансовом техникуме я уже распрощался и решил — делать нечего — погулять эту ночь в городе. Шлялся я без цели до полуночи, побывал в кино, дважды ел в закусочной, но где-то пора было прилечь — я ужасно устал. В центре города Риги имеется декоративная горка с широкими лавочками, подсвеченными тропинками и высокими деревьями. На эту горку я взошёл и присел на лавочку. Надо мной возвышалось большое старое дерево, на котором, на высоте пяти метров, я прочёл вырезанную ножом надпись: «Здесь мы с Колькой ели халву 4 килограмма». Тут я испытал острое чувство бездомности. Дождался, когда горку покинет последняя любовная парочка, и улёгся. Меня разбудил уборщик, который шаркал метлой под моей скамейкой. Рассвело, но, поскольку идти в академию было ещё рано, я побрёл куда мои сонные глаза глядели. Очнулся я снова возле дверей общежития, но теперь они оказались открытыми. Я вошёл в первую же комнату, повалился на пустую пружинную кровать и проспал до полудня. Дальше помню себя в кабинете ректора академии Отто Скулме. Этот высокий пожилой господин был весьма со мной любезен, хотя не знаю, чем я это заслужил.
Итак, в Риге я проучился всего год. Мне удалось перевестись в Москву, на отделение графики Суриковского института. Моя судьба книжного иллюстратора сложилась благополучно. Сейчас мне 85 лет. Я стал тем, кем я стал. Но иногда я размышляю — а что бы со мной стало, если б я остался в Риге на все шесть лет обучения? По судьбе, по воспитанию, по культуре я, конечно, русский художник. Превратиться в латышского я бы не смог, да в этом и не было нужды. Ведь многие русские графики учились не в России (Фаворский, Добужинский), но это не помешало им стать русскими художниками. Скорее, помогло. Рига середины XX века, конечно, не Мюнхен начала века. Но латвийская графика обладала рядом передовых качеств европейского значения. И хотя я не могу назвать имён выдающихся преподавателей 1950-х годов — таковых я там не застал, — однако общая атмосфера и состояние латвийской графики отличались от московских того же времени значительным своеобразием. Мне нравилось учиться в WMA. Там хорошо преподавали акварель, там были замечательные условия в офортной и литографской мастерских. Но меня, домашнего мальчика, тянуло на родину, в семью, в Москву. Я полагал, что Латвия — провинция, что настоящая жизнь идёт в Москве. Скорее всего, эти настроения ни на чём существенном не были основаны, а пришли мне в голову благодаря бытовой неустроенности моей рижской жизни. Прощаясь со мной, Отто Скулме спросил: что мешает мне остаться и закончить WMA? Я ответил, что хочу домой, скучаю по Москве, по родным. Тогда он сказал: — Ну что ж, нам очень жаль, что вы нас покидаете, но, как говорится, большому кораблю — большое плавание. И хотя «большой корабль» после бездомной ночи имел весьма помятый вид, я поблагодарил его, сказав, что этот год, прожитый под гостеприимным кровом Академии, был для меня полезен, и мы расстались, обменявшись рукопожатием. Сейчас я думаю: а что было бы, если бы я попросил дать мне место в общежитии Академии? Вероятно, это смогли бы как-то утрясти. Но… что было, то было! Судьбу не перепишешь!
О друзьях детства
Я не могу найти причину, определить закономерность, почему люди становятся друзьями — друзьями на всю жизнь. У меня было двое друзей, самых близких мне. Наша дружба зародилась во время войны и продолжалась до самой глубокой старости, до смерти обоих моих друзей. Это были Владимир Шарыгин и Николай Рожнов. С первым мы познакомились мальчиками ещё до войны, но дружеское сближение произошло в Казани, в эвакуации. Второго я увидел на вступительных экзаменах в художественную школу. С ним мы учились в одном классе два года, на третий Коля был исключён за неуспеваемость, но наша дружба не прервалась и продолжалась вне школы. В какой-то момент я познакомил их друг с другом, и эта связь оказалась долговечной. Общей чертой их характеров была бесшабашность — вероятно, она их и сблизила. Не могу до сих пор понять, на какой основе возникла эта дружба в моём случае. Профессиональные интересы? С Володей у нас их не могло быть. Он был технарь, с детства увлекался электротехникой, школу не закончил, после войны пошёл работать в метро. Я рано определился с профессией, далёкой от техники, а Володя был весьма далёк от искусства. Мой отец не одобрял дружбу с Шарыгиным: «Чему он может тебя научить? Только курению и пьянству!» Коля Рожнов, уйдя из школы, поступил на авиационный завод. Тогда ему шёл уже семнадцатый год. Он красил по трафарету звёзды на крыльях самолётов. На этой работе он не закрепился и вскоре стал маляром в какой-то коммунальной организации, где его оценили: он умел красить «под мрамор», «под дерево», «под шёлк». Там он проработал несколько лет, но и оттуда его уволили. Потом он служил в армии в Калининграде, откуда привёз жену. Какое-то время он был без работы, пока не устроился в производственные мастерские кукольного театра Образцова. В это время он увлекался изготовлением тростевых кукол и собирался сделать спектакль. Эта затея закончилась ничем. Следующим его увлечением была фотография, потом любительское кино: он купил камеру АК-8. У нас на даче в Челюскинской он снял фильм со мной в главной роли — «Дачник-неудачник».
Коля РожновПотом увлёкся подводным плаванием и подводной охотой. Потом он снял своим АК-8 фильм о море под музыку Первого фортепианного концерта Чайковского. Продолжая служить в театре Образцова, он ещё дважды женился и разводился. За его колоритный облик Сергей Владимирович Образцов дал ему кличку «Адольф Менжу»[5]. Увлекаясь, Рожнов забывал о своих основных обязанностях, прогуливал рабочие часы и даже дни. Такова уж была его природа. Начальству это не нравилось, и приходилось расставаться с нерадивым работником. После очередного увольнения мне удалось познакомить Николая с моим приятелем Колей Вечкановым, художественным редактором журнала «Техника — молодёжи». Там поначалу он пришёлся весьма ко двору. Благодаря своей общей талантливости Коля мог делать многое в области популяризации техники. Вскоре он стал в этом журнале незаменимым. Он выполнял там самые мудрёные задания. Вечканов был очень доволен, благодарил меня за такое удачное знакомство. Но — «недолго музыка играла». Колины увлечённость и безответственность и на сей раз его подвели. Работу в журнале нужно сдавать вовремя, очередной номер должен выходить точно по графику. Вечканов стал мне звонить с жалобами на моего протеже: подводит, затягивает, горим! А Коля, как он мне потом объяснял, получив какое-то сложное задание по конструкции вагонных тележек, просиживал недели на вагонном дворе Рижского вокзала и что-то там выяснял, не торопясь. В конце концов ему пришлось уйти из «Техники — молодёжи». Пытался я приобщить его и к книжной иллюстрации. В издательстве «Малыш» мне дали какую-то научно-популярную книжицу для маленьких про химию. Я пригласил Колю для совместной работы. Но тут выяснилось, что в свободном рисовании без натуры он не тянет. Здесь, видимо, помимо способностей и таланта важен и длительный опыт. Эту книжку мы кое-как сварганили, свою половину гонорара Коля получил, но дальнейшая работа с таким напарником оказалась невозможной. Ещё раз я привлёк его к работе в детской энциклопедии в 1990-х годах, куда меня пригласили поработать в группе с Вениамином Лосиным, Евгением Мониным, Николаем Устиновым. В этом деле Коля оказался вполне успешным, но предприятие это было разовым. Мы продолжали с ним встречаться у Володи Шарыгина, с которым Коля был очень близок. Каждая такая встреча сопровождалась застольем. Я не большой любитель этого дела, но мои друзья тут оказались единомышленниками. Их встречи всё чаще случались и без меня. Выросли у Коли сыновья от его третьей жены, стали дизайнерами. Коля жил уже на пенсии, увлекался мистической философией, собирал модели немецких военных самолётов Второй мировой войны, пластинки с немецкими военными маршами, побаливал, жаловался на сердце. Помню последнюю нашу встречу. Он как-то пригласил меня к себе в Выхино. Я там бывал очень редко. Там каждый год всё застраивалось новыми кварталами и я боялся, что не найду дорогу. Коля обещал меня встретить у метро. Мы встретились в назначенное время. Коля выглядел усталым. Пока мы дошли до дома, он останавливался несколько раз, присаживался то на какую-нибудь тумбу, то на загородку, тяжко дышал и держался за сердце. Уже ближе к дому ему полегчало, и он зашёл в магазин. Там его, видимо, знали. Он весело шутил с продавцами и кассиршей. О последних его днях мне рассказали его близкие. Вскоре после этой нашей встречи он попал в районную больницу с острейшим сердечным приступом, лежал в реанимации под капельницей в одиночестве. Внезапно ему стало значительно хуже, началось удушье. Он еле дотянулся до звонка, но на его зов никто не пришёл. Тогда он сорвал с себя все шланги, свалился на пол и пополз к двери. Выглянув в коридор, он увидел двух санитарок, распивавших спиртное в отдалении. Наконец они его заметили, не торопясь подошли и хотели водрузить его на место, но он воспротивился и велел отнести себя в общую палату, где рядом есть люди. На следующий день к нему приходил сын, они поговорили. Ночью Коля скончался. Шарыгин на его похоронах не был. Он тогда уже лежал в параличе. Прислал своих сыновей, они помогли нести гроб.
В детстве Вовка был лукавый и изобретательный пакостник, а такие подростки мощно притягивают к себе младших и всегда возглавляют хулиганистую компанию. Под его руководством мы устраивали порой и не совсем безобидные шалости. Чего стоит хотя бы шутка с соседями по лестничной клетке. Это делалось так: к ручке двери одной квартиры мы привязывали верёвку, а другой её конец, с небольшим провисом, привязывали к ручке двери противоположной квартиры, затем нажимали звонок и в той и в другой, а сами убегали в укрытие и ждали, что будет. А бывало следующее. В первой квартире открывалась дверь и выглядывал хозяин, ища, кто звонил. В это время открывалась дверь напротив, верёвка натягивалась и дверь прищемляла голову первого соседа. Мы тряслись от смеха и удовольствия. Володя Шарыгин, мой спаситель, вытащивший меня в 1942 году из реки Казанки, был смекалистый и изобретательный электрик-самоучка. Не имея даже среднего образования, он работал в московском метро рабочим по надзору и ремонту электрооборудования. Это была исключительно ночная работа, она проводилась, когда поезда переставали ходить и с путей снималось напряжение. Уходил на работу Володя, перекусив и захватив свой мощный батарейный фонарь, уже в двенадцатом часу ночи. Возвращался домой на рассвете и спал потом полдня. Так он трудился долгие годы и вконец расшатал своё здоровье.

Володя ШарыгинОтец Володи, Фёдор Гаврилович, майор, вернувшись с победой из Германии, понавёз много всякого трофейного добра. Помимо всякой одежды, ковров, посуды и разных случайных предметов (часы с кукушкой), было там малокалиберное изящное ружьецо с коробочкой патронов к нему (наши не подходили по калибру). Когда я оказывался у них дома в отсутствие взрослых, нам предоставлялась возможность пострелять из этого ружьеца. Но где пострелять? Таким сокровенным местом был чердак нашего дома. Чердак в жизни многих подростков играл какую-то особую роль. В воспоминаниях художника Владимира Милашевского («Вчера, позавчера») мне попалось такое место: «Как много значили эти чердаки в жизни нас, мальчишек! Есть „чувство чердака“, кто его открыл? Константин Федин? Может быть, я? Оно есть, как и „чувство подполья“, которое открыл Достоевский. Там, наверху — отсутствие контроля старших, может быть, и контроля над собой. На чердаках мы начинали курить… И какое паренье надо всем, в этой голубизне!» Очень похожие ощущения испытывали и мы в свои 14–15 лет, на нашем чердаке. Мы там тоже иногда курили, глядя в слуховое окно на трубу фабрики «Ява». Там мы постреливали из немецкого ружьеца, но однажды обнаружили, что Фёдор Гаврилович, вернувшись с войны, ещё не сдал свой «ТТ». Мы взяли его на чердак. Тянули спички, кому стрелять. Короткую вытянул я. Сняв пистолет с предохранителя, я сказал: «Сейчас я буду целиться в трубу фабрики, а вы смотрите внимательно: пойдёт ли красный кирпичный дымок. Если да — значит, попал». Я прицелился и нажал спуск. Дикий грохот нас оглушил. Такого мы не ожидали. Мне подумалось, что, пожалуй, это услышат все, даже, может быть, в нашем отделении милиции. Все мы бросились бежать вниз по лестнице. У меня в руках был огромный пистолет, ибо патрон в нём был единственный, а значит, откатившийся кожух на своё место не вернулся, и пистолет увеличился почти вдвое. А вот ещё одна весёлая шуточка Вовки Шарыгина. Там, на чердаке, он обнаружил телефонные кабели. Он принёс свой телефонный аппарат и подключился к одному из них. Некоторое время он подслушивал разговоры, но потом ему это наскучило, и он, выяснив, чей это телефон, дождался, когда в квартире никого не было, подключился и позвонил на фабрику «Большевик» в отдел заказов. Когда ему ответили, он сказал, что желает заказать праздничный, по случаю свадьбы, торт с доставкой на дом. Ему сказали: «Положите трубку, мы вам перезвоним». Через минуту раздался звонок — видимо, на фабрике хотели убедиться, что звонит серьёзный заказчик: «Вы подтверждаете свой заказ?» Вовка ответил: «Конечно, подтверждаю». После этого пошла договорённость: какой торт, в какую цену, куда доставить. Закончилась эта история большим скандалом. Не помню, пришлось ли соседям заплатить за доставленный торт или нет. Была ещё и такая шалость: Вовка принёс откуда-то несколько запалов от ручной гранаты. Один такой запал он сбросил с балкона во двор. Раздался мощный хлопок. Кто-то из соседей всполошился — ведь во дворе гуляли дети — и позвонил в милицию. Милиционер прибыл и пошёл по квартирам искать нарушителей порядка. Позвонивший сосед точно не заметил, с какого этажа бросили взрыватель, поэтому, пока милиционер шёл до Вовкиной квартиры, тот успел спрятать оставшиеся взрыватели в вытяжную трубу газовой колонки в ванной. Газа тогда не было. Его поставки, прерванные войной, возобновились позднее. Беда миновала, страх прошёл, и Вовка забыл за суетой про эти запалы. Но вот через какое-то время газ дали, и пожилой сосед по коммуналке отправился мыться. Он включил колонку, наполнил ванну, а когда намылился, раздался большой ба-бах! Старик выскочил голый, в мыле и саже.
Шли годы, мы взрослели, я уже учился в художественной школе. У Вовки со школой ладу не было; он много пропускал, всё страшно запустил и наконец бросил школу, кажется, не закончив восьмой класс. Какое-то время он болтался без дела, но потом устроился на метрополитен учеником электрика. Это дело ему нравилось, он почувствовал себя в родственной атмосфере, к тому же у него появились собственные деньги, и это примирило с ним его семейство. Родители его уважали, не вмешивались в его жизнь и не лезли в его отдельную шестиметровую комнату. Эта шестиметровка стала своеобразным мужским клубом. И её неприкосновенная отдельность, и обаяние хозяина оказались привлекательными для множества приятелей Володи. Тут спокойно курили, развалясь на его лежанке, и непринуждённо беседовали часами разные люди. Здесь царило чувство свободы, неподнадзорности и дружества, царило вот это самое «чувство чердака». О чём мы говорили, не могу вспомнить. Наверное, обо всём, что могло интересовать и волновать юношей послевоенных лет. Обо всём, кроме политики. Среди завсегдатаев шестиметровки были, как я, соседи по нашему ведомственному дому, знакомые соседей, знакомые знакомых. Помню толстого армянина из соседнего дома, к которому мы относились несколько иронично из-за его излишнего интереса к коммерции; какое-то время нас посещал молодой студент-юрист «белый Коля», альбинос с бесцветными волосами и красными глазами. Он был весьма по-взрослому рассудителен. Приходили двое сыновей финансового начальства. Это были ребята из весьма обеспеченных семейств, так называемая золотая молодёжь. Часто появлялся юноша в форме службы госбезопасности. Этот только улыбался, но о себе ничего не рассказывал. При нём разговор становился сдержанным. Часто приходил Шурик Колесников — сын полка. О нём — чуть подробней. Во время войны этот подросток с характером авантюриста сбежал на фронт и стал там сыном полка. Судя по его рассказам, он в боях не участвовал, а состоял при частях, как забавный котёнок. Больше всего его интересовали знаки боевых наград. Вернулся он в 1945 году загорелым пятнадцатилетним ефрейтором с целым иконостасом орденов и медалей на груди. Откуда он их взял — неизвестно. Наградных документов у него не было. О дальнейших его «подвигах» я расскажу в другом месте. С какого-то времени и Коля Рожнов стал здесь появляться. Я жил по соседству. В нашей коммуналке было четыре семейства. Мы впятером занимали шестнадцатиметровую темноватую комнату. Атмосфера у нас дома всегда была напряжённая. Во время учебы в МСХШ мне негде было заниматься — у меня просто не было места. Мама шила. У неё вечно торчали заказчицы, и во время многочисленных примерок меня высылали за дверь. Свои композиции я вынужден был сочинять ночью на кухне, а днём, после школы, я досыпал. К сестре приходила учительница музыки. Хотя моя сестра не давала повода считать её музыкально одарённой, родители учили её музыке по традиции. Поэтому я не любил находиться дома, и в любой свободный час мчался в соседний подъезд к Шарыгину. Пьянства в шестиметровке не было, но однажды, в 1947 году, когда Москва праздновала свой 800-й день рождения, наш изобретательный хозяин накануне торжеств изготовил при помощи дрожжей знатную брагу. Ночью бидон с этим зельем даже бабахнул у него под лежанкой. Однако тем, что в нём осталось, мы угостились вечером после долгого гуляния по торжествующей Москве. Результат был таков: после головокружительной эйфории наступило чудовищное похмелье, больше похожее на тяжёлое отравление. Меня рвало всю ночь и весь следующий день. Я судорожно пил из-под крана и тут же отдавал выпитое. Под конец рвать было уже нечем, но рвотные конвульсии сотрясали меня ещё несколько часов. Наконец я заснул. Мой папа при сём присутствовал. Видя мои страдания, он перестал меня ругать и наблюдал с молчаливым сочувствием. Этот случай сыграл в моей жизни положительную роль, привив мне стойкое многолетнее отвращение к спиртному, но это не отвадило меня от посещений шарыгинской шестиметровки. Вскоре и Шарыгин, и Рожнов почти одновременно пошли по призыву в армию. Володя — в Подмосковье, Коля — в Калининград. Мужской «клуб» на пару лет закрылся.
В моей молодости был и другой «клуб». Ученики МСХШ часто собирались у Гали Мандрусовой. Отец её, художник-дизайнер, рано умер. Мать, Евдокия Семёновна Буланова, тоже художница-график, занималась созданием почтовых марок. Это было гостеприимное семейство. Мы, одноклассники Гали, чувствовали себя там весьма свободно. Нам всегда были рады. Наша группа была немногочисленна, да и являлись мы обычно неполным составом. Кроме меня здесь бывали Сева Мухин, Лёва Тюленев, Гриша Дервиз и ещё кое-кто. Евдокия Семёновна как бы равноправно входила в нашу компанию, всегда была в курсе наших дел, и порой мы пользовались её советами. Свою работу она, не скрывая, делала при нас. Правда, это была узкоспециализированная деятельность, статья дохода, средство к существованию. Большим искусством и сама художница её не считала и демонстрировала неохотно и только по просьбе. В этом доме нас держала атмосфера доброжелательности, интеллектуальности, простоты общения и лёгкая влюблённость в нашу соученицу. Мы делились впечатлениями от выставок, театральных постановок, кинофильмов того времени, прочитанных книг. И тот и другой «клуб» были мне полезны. Я благодарен судьбе и считаю, что я как личность стал тем, кем я являюсь, в том числе и благодаря этим двум «клубам». Однажды я случайно оказался на даче у Иры Лавровой. Её отец и его приятели стали читать по памяти некие стихи. Они знали их уйму. Читали они, явно соревнуясь друг с другом, кто больше помнит. Это была поэзия их юности. Стихи лились сплошным потоком без перерывов. Что они читали, я не знал. Они не объявляли авторов, полагая, что слушатели в курсе дела. Я был заворожён. Много позднее я, вспоминая тот вечер, понял, что там звучала поэзия Серебряного века: акмеисты, футуристы и ранние стихи советских поэтов (1920-х годов). Нам на уроках литературы давали только позднего Маяковского, «Двенадцать» Блока, а Есенин был под запретом. Я понял тогда, каким богатством нас обделили.
Сан Саныч
Шурик Колесников, сын приятельницы Фёдора Гавриловича, приходил вместе с матерью в гости к Шарыгиным. Он был на несколько лет моложе меня, но отличался исключительной активностью и авантюрностью. В 1944 году ему было около двенадцати лет. Летом 1944-го наши дела на фронте были обнадёживающими, никто уже не сомневался, что победа близка. В один из дней мы вдруг узнали, что Шурик исчез. У него не было отца, а матушка спокойно отнеслась к его исчезновению, ибо такое случалось и раньше. Он был паренёк весьма самостоятельный и частенько исчезал и возвращался по собственной воле. Однако на сей раз он исчез основательно. Его не было около месяца. Все заволновались и стали его разыскивать уже с помощью милиции. Но вскоре пришло письмо со штемпелем военно-полевой почты, в котором Шурик сообщал, что находится на Западном фронте и зачислен на довольствие в каком-то полку в качестве сына данного полка. Все вздохнули с облегчением. После Победы, летом 1945 года, он появился в форме ефрейтора с целым иконостасом наград на гимнастёрке. Мы очень его зауважали. Правда, было несколько сомнительно — как он успел за один год навоевать такое количество наград? Значительно позднее мы узнали, что Шурик служил при наградном отделе полка писарем. У него был очень выразительный и красивый почерк: крупные буквы, небольшой наклон влево. Несколько лет он был за пределами моего внимания. Порой какие-то сведения о нём сообщал мне Володя Шарыгин. Так я узнал, что Шурик лет в 16 или 17 стал отцом. Его активность по всем статьям с годами не убывала. Не знаю, закончил ли он школу. Кажется, он учился в военном училище. Значительно позднее, помню, он появился в форме лейтенанта. Но форма эта была какая-то помятая, неопрятная. Вообще тогда он произвёл впечатление человека изнурённого и мрачного. Видимо, его честолюбие было неудовлетворено и с карьерой не всё ладно. Прошло ещё немало лет, и вдруг в центральной газете появилась большая статья Сергея Сергеевича Смирнова, разыскивавшего героев Великой Отечественной войны, под названием «Сан Саныч», с фотографией юноши в солдатской форме. Эта фотография показалась мне знакомой, будто бы я раньше её видел. В статье говорилось, что автор получил письмо из мест «не столь отдалённых» от некоего заключённого, который не пожелал назвать своего имени. Он сообщал, что «оступился» в жизни и загремел в отсидку, но говорить желает не о себе, а о сыне полка, которого он помнит с войны, которого знал по фронту, с которым воевал рядом и наблюдал его подвиги. А подвиги Сан Саныча (так его звали солдаты), судя по описанию, были выдающиеся. Этот юный герой и пускал немецкие составы под откос, и прыгал на ходу с военного эшелона, проходящего по мосту, в пролёт балок с огромной высоты прямо в реку, был пойман немцами и распят на брёвнах избы, так что у него имеются следы гвоздей на ладонях, и пр., и пр. Далее «инкогнито» просил Смирнова разыскать Сан Саныча и содействовать награждению этого скромного героя. И если это произойдёт, то он, «инкогнито», будет спокойно отбывать свой срок с чувством исполненного долга перед памятью фронтового друга. Я прочёл эту статью, будучи на даче под Звенигородом. Через день ко мне примчался из Москвы Володя с такой же газетой в руках. У нас не было ни минуты сомнения, что это очередная проделка Шурика. Мы решили не допустить осуществления этой авантюры и вскоре, узнав адрес и телефон Смирнова, напросились к нему в гости. Он нехотя согласился нас принять. Я пишу «нехотя», потому что Смирнов уже развернул кипучую деятельность вокруг этого дела. Он разыскал героя, видел стигматы на его ладонях, полностью уверовал во всю эту галиматью, и собственное честолюбие рисовало ему завлекательные картины всяческих торжеств. У Смирнова мы оказались не сразу. То он был в командировках, то занят, то ещё что-то препятствовало встрече. Однако наконец она состоялась. Журналист принял нас в своей огромной квартире где-то в районе проспекта Мира. Мы рассказали ему, что знаем Шурика с детства, были свидетелями его ранних проделок, его исчезновений, рассказали о его характере, о том, что видели его почерк, и попросили показать нам это знаменитое письмо. Понимая, что Смирнов может заподозрить нас в зависти к «Сан Санычу», мы заранее, ещё не видя письма, сказали, что почерк его крупный, а наклон влево. Когда перед нами появилось письмо, мы убедились, что абсолютно правы. Володя сказал, что его отец воевал, был ранен и что ему обидно видеть, как обманщики и фальсификаторы пользуются незаконными почестями наряду с подлинными героями. Смирнов был явно смущён. Он оправдывался тем, что штемпель на конверте говорил, что письмо опущено в ящик на почтамте Новосибирска. Однако обещал всё тщательно проверить — и, если подтвердится всё, что мы говорим, он отзовёт своё ходатайство о присвоении Шурику звания Героя Советского Союза. Так всё и получилось. Дело это замяли, и Шурик остался с носом. Давно уже нет в живых Сергея Сергеевича Смирнова, ушёл из жизни Володя. Что стало с Шуриком — мне неизвестно.
«Детгиз»
В 1950-е годы для меня стало привычным посещение «Детгиза» в Малом Черкасском переулке. В коридоре толпилась очередь к «главному». Молодые художники со своими папками: Дувидов, Збарский, Лосин, Юрлов, Коштымов и др. Тут же в определённые дни открывалось окошко кассы. К худредам проходили направо без очереди. Иногда толпа почтительно и молча расступалась перед бородой Фаворского. Довольно редко приезжали и ленинградцы. Обычная, проходная литература делалась и в ленинградском филиале «Детгиза», но какие-то значимые книги — в Москве. Помнится визит Алексея Фёдоровича Пахомова. Когда он в кабинете Дехтерёва показывал свою привезённую работу, нас, молодых, пригласили присутствовать. Точно не помню, что это была за книжка, но какого-то современного автора. На листах изображался город, улицы, транспорт, люди, очень выразительно нарисованные. Алексей Фёдорович — невысокий, крепкий мужичок, очень темпераментный и подвижный. Что-то объясняя, он вскакивал со стула, становился одним коленом на пол, не жалея своих тёмно-синих брюк. Говорил очень громко и азартно. Дехтерёв, вероятно из педагогических соображений, просил и нас высказаться по поводу этих иллюстраций. Мы робко бормотали что-то хвалебное. Когда очередь дошла до меня, я тоже выразил своё восхищение работой Великого мастера, но между прочим усомнился в одном пустяке: на картинке был изображён городской светофор, но среди трёх его ламп зелёная была выше жёлтой, а красная — ниже. Я робко сказал, что вроде бы красная должна быть наверху. Пахомов встрепенулся и замер. Дехтерёв, улыбаясь, ждал, что он ответит на критику. Пахомов вскочил и бросился к двери. Его остановили и сказали: если он хочет это проверить на улице, то ему незачем самому туда бежать, мы пошлём кого-нибудь помоложе. Уже позднее, в 1960-х годах, помню, застал в «предбаннике» у кабинета главного ожидавшего его Владимира Михайловича Конашевича. Я видел его впервые и узнал по фотографиям. Он сидел в пальто, нахохлившийся маленький воробышек, молчал и безучастно посматривал кругом. Никто почему-то с ним не заговаривал, не развлекал его. Я, естественно, не посмел с ним заговорить. Это, видимо, был последний его визит в Москву. Иногда художественную редакцию посещали и писатели. Однажды, поднимаясь по лестнице, я услышал оживлённый шум, смех и голоса. Оказалось, в редакцию зашёл Ираклий Андроников. Окружённый дамами-редакторами, он «выступал». Это был блестящий эстрадный номер. Не вспомню, о чём шла речь, но Ираклий Луарсабович имитировал чужие голоса, шумел, кричал, хохотал и заставлял млеть в восхищении свою многочисленную аудиторию. Когда заходил Сергей Михалков, молодые художники, ожидавшие в коридоре, с печалью переглядывались. Он сидел у Дехтерёва долго, часами, болтал о пустяках, а очередь томилась и изнывала. Орест Верейский очень демократично здоровался со всей очередью и робко протестовал, когда ему уступали дорогу. Бывали Шмаринов, Горяев, Дубинский. Эти шли привычно без очереди. Мы были к ним почтительны.
Борис Александрович Дехтерёв
На третьем курсе Суриковского мы разошлись по мастерским. Их было три: плакат, станковая графика и книга. Я выбрал книгу. Эту мастерскую вёл Борис Александрович Дехтерёв. Помню первое своё впечатление о нём. Он появился перед нами в элегантном тёмно-синем костюме с медалькой лауреата в петлице, самоуверенный шутливый человек. Ему тогда было 45 лет. После множества ничем не примечательных наставников, наблюдавших нас в средней художественной школе, Дехтерёв был первый, кто внушал уважение. Это был умный, образованный, рафинированно культурный учитель. Я понял, что не ошибся с выбором мастерской и наставника, что именно здесь я смогу совершенствоваться в искусстве иллюстрации.
 Позднее мы узнали, что Борис Александрович был ещё и главным художником «Детгиза», что ещё до войны наряду с Дементием Алексеевичем Шмариновым был обласкан Горьким, признан правительством и был неприкасаем для критики.
Мне нравилась его манера общения. Он был ровен и шутлив со всеми. Никого поначалу не выделял, внимательно оценочно присматривался к ученикам, умеренно поощрял, отмечал успехи, в замечаниях был деликатен.
Учиться здесь для меня было наконец интересно и увлекательно.
В то время Борис Александрович производил впечатление счастливого человека, а попадая в его орбиту, ты и сам становился счастливым. Всё это было для меня удивительно ново и многообещающе, я испытывал духовный подъём, и это способствовало успешному совершенствованию.
Вообще следует сказать, что преподавание Дехтерёва заключалось не столько в каких-то практических указаниях, поправках, предостережениях, сколько в беседах общекультурного свойства. Он умело расширял наш культурный кругозор. Его эстетические оценки были для нас бесспорны и поучительны. Он всегда воздействовал лишь словом, не вмешивался своей рукой в наши опусы.
Как-то, уже на втором или третьем году обучения, я спросил у него, почему он никогда не находит нужным говорить о типаже, о психологии героя литературы. Ведь для иллюстратора это важнейшая проблема, тем более что сам Дехтерёв в своё время был поощрён Горьким за удачу с образом к его рассказу «Хозяин», притом именно за то, что по намёку автора создал образ, почти полностью соответствующий прототипу.
Борис Александрович ответил, что говорит лишь о том, чему можно научить. Но такие дела, как выбор момента в тексте для изображения, тип героя, психология, мимика, — это не поддаётся обучению, это зависит от одарённости человека, его наблюдательности, жизненного опыта. Либо все это у него есть, либо нет.
Ему не нравилась слишком откровенная стилизация, то есть прямое использование чужих художественных форм. Высшей его похвалой была фраза: «Хорошо сочинено!»
В учебных целях нам предлагались для работы произведения высокого литературного уровня: сказки Гофмана, «Суждения господина Жерома Куаньяра» Анатоля Франса, «Драма на охоте» Чехова. Это было и трудно, и чрезвычайно увлекательно.
Для изучения исторического материала Борис Александрович давал нам надолго на дом свои бесценные книги.
Работая над предложенными нам произведениями, я испытывал огромное удовольствие. В результате появились кое-какие достижения. Дехтерёв их отметил. Я блаженствовал.
Позднее мы узнали, что Борис Александрович был ещё и главным художником «Детгиза», что ещё до войны наряду с Дементием Алексеевичем Шмариновым был обласкан Горьким, признан правительством и был неприкасаем для критики.
Мне нравилась его манера общения. Он был ровен и шутлив со всеми. Никого поначалу не выделял, внимательно оценочно присматривался к ученикам, умеренно поощрял, отмечал успехи, в замечаниях был деликатен.
Учиться здесь для меня было наконец интересно и увлекательно.
В то время Борис Александрович производил впечатление счастливого человека, а попадая в его орбиту, ты и сам становился счастливым. Всё это было для меня удивительно ново и многообещающе, я испытывал духовный подъём, и это способствовало успешному совершенствованию.
Вообще следует сказать, что преподавание Дехтерёва заключалось не столько в каких-то практических указаниях, поправках, предостережениях, сколько в беседах общекультурного свойства. Он умело расширял наш культурный кругозор. Его эстетические оценки были для нас бесспорны и поучительны. Он всегда воздействовал лишь словом, не вмешивался своей рукой в наши опусы.
Как-то, уже на втором или третьем году обучения, я спросил у него, почему он никогда не находит нужным говорить о типаже, о психологии героя литературы. Ведь для иллюстратора это важнейшая проблема, тем более что сам Дехтерёв в своё время был поощрён Горьким за удачу с образом к его рассказу «Хозяин», притом именно за то, что по намёку автора создал образ, почти полностью соответствующий прототипу.
Борис Александрович ответил, что говорит лишь о том, чему можно научить. Но такие дела, как выбор момента в тексте для изображения, тип героя, психология, мимика, — это не поддаётся обучению, это зависит от одарённости человека, его наблюдательности, жизненного опыта. Либо все это у него есть, либо нет.
Ему не нравилась слишком откровенная стилизация, то есть прямое использование чужих художественных форм. Высшей его похвалой была фраза: «Хорошо сочинено!»
В учебных целях нам предлагались для работы произведения высокого литературного уровня: сказки Гофмана, «Суждения господина Жерома Куаньяра» Анатоля Франса, «Драма на охоте» Чехова. Это было и трудно, и чрезвычайно увлекательно.
Для изучения исторического материала Борис Александрович давал нам надолго на дом свои бесценные книги.
Работая над предложенными нам произведениями, я испытывал огромное удовольствие. В результате появились кое-какие достижения. Дехтерёв их отметил. Я блаженствовал.
Я довольно рано осознал, что так называемая наблюдательность — это, скорее, полусознательная, интуитивная деятельность мозга, свойство, с годами благоприобретаемое. У художника этот механизм должен работать постоянно. Сущность этой работы состоит в следующем: прочитанный текст должен моментально рождать в воображении убедительный жизненный образ. Иногда это происходит сразу, по вдохновению и в конкретных деталях, при этом холодный рассудок должен постоянно контролировать этот стихийный процесс. Однако так бывает не всегда. Порой воображение отказывается покорно служить. Причиной может быть усталость, различные отвлекающие обстоятельства. В этих случаях упорство неуместно. Нужно отложить работу, дать воображению отдохнуть, заняться чем-то другим — например, разглядыванием подсобного материала, он тоже способен побудить воображение к действию. Нужно верить, что рано или поздно, коли материал ваш и тема вам близка, работа будет сделана успешно. Способность творить — вещь таинственная, этому никого нельзя научить. Талант! Либо он есть, либо его нет. Борис Александрович хорошо это понимал, но что он мог делать, и делал с успехом, — это путём оценок, суждений и критики воспитывал вкус. Воспитывать вкус, ввести неофита в большую культуру — в этом он видел свою задачу. В процессе каждодневного общения с нашим педагогом у нас возник естественный интерес к его собственному творчеству. В этой части Борис Александрович был вполне доступен. Он иногда приглашал нас к себе в мастерскую, и мы видели его работу в процессе. Он тогда работал над сказками Пушкина. Мы видели его ранние, 1930-х годов иллюстрации к рассказам Максима Горького. К 1950-м годам его манера сильно изменилась. Если раньше это были спонтанные смачно-реалистические рисунки углем безо всякой заботы о книжной специфике, рисунки, скорее предназначенные для выставочной экспозиции, то теперь его иллюстрации делались для конкретного издания с учетом книжного пространства. Рисунок стал суше, мельче, композиции усложнялись, появились мизансцены, условно-пространственные решения. Правда, в живости они уступали его ранним работам, их непосредственность исчезла. В юности Борис Александрович некоторое время посещал мастерскую Дмитрия Николаевича Кардовского и считал себя его последователем вместе с Василием Яковлевым и Василием Шухаевым, а последние определяли своё направление как неоклассицизм. Стало быть, и Дехтерёва следует отнести к этой школе? Однако с Яковлевым и Шухаевым у него мало общего. Скорее его можно сравнить с французским неоклассиком Морисом Дени, если вспомнить его картоны для росписи на тему «Амур и Психея». Это мое предположение. Высказываний самого Бориса Александровича о Дени я не помню. Он с пиететом относился к художникам «Мира искусства», о них разговоров было много. Часто упоминались французские художники XVIII века времён Просвещения: Жан Оноре Фрагонар, Жан Батист Симеон Шарден, Франсуа Буше. Вообще в своём творчестве Борис Александрович шёл от искусства предшественников, а не от жизни. Признаки жизненных наблюдений в его работе минимальны. Я никогда не видел в его мастерской этюдов с натуры, однако я не склонен его в этом упрекать. Есть мастера, работающие исключительно по воображению, и Бог им в помощь. Как-то, собрав нас в своей мастерской, он показывал «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях», бывшую в работе. В разговоре он заметил, что один его знакомый снял эти его иллюстрации на слайды и показал их художнику на большом, во всю стену экране. Борис Александрович уверял нас, что эти картины обладают монументальными свойствами, и якобы в этом его наглядно убедили их увеличенные проекции. Нам, как почтительным ученикам, надлежало с ним согласиться. Знакомясь ближе с работами учителя, мы обнаружили его последовательность, основательность и мастерство. Его циклы иллюстраций к сказкам Андерсена, Перро, Пушкина нам нравились. Особенно я могу отметить в памяти своё восхищение его изобретательным и прихотливым оформлением. Запомнились обложки к «Истории свечи», «Дюймовочке» Андерсена, позднее замечательная обложка к книге «Мальчик-с-пальчик», изящные декоративно-растительные украшения и т. д. Его иллюстративный цикл к произведениям Максима Горького, за который он был отмечен Сталинской премией, был выполнен карандашом; но поскольку в те времена полиграфия не умела качественно воспроизводить карандаш, пришлось отдать эти рисунки под штихель ксилографа, отчего они сильно проиграли. Должен признаться, некоторые свойства рисунка Дехтерёва у меня вызывали недоумение, если не отторжение. Это явная театральность в его композициях, некоторая нарочитая условность мизансцен, поз и жестикуляции персонажей. В чём тут дело, мы тогда разобраться не могли. Сейчас я это объясняю его неоклассицизмом. Он был очарован XVIII веком, а любимыми его художниками были Буше, Антуан Ватто, Фрагонар. «Для живописи XVIII века особенно характерен тот факт, что содержание мизансцен часто представляло прямое воспроизведение соответствующей театральной экспозиции или сценического эпизода… В соответствии с жанром таким посредствующим текстом-кодом может являться сцена из трагедии, комедии или балета… На разных этапах культуры таким посредствующим кодом может являться этикет или ритуал. Однако особенно активен в этом отношении театр»[6]. Этим объясняется своеобразие иллюстраций Бориса Александровича. В конце жизни, уже в 1980-х годах, Дехтерёв, уйдя из руководства издательством и отойдя от иллюстрирования, занялся станковой живописью. Он стал переносить темперой на холст большого размера некоторые свои иллюстрации («Гамлет»), придавая им форму картин или «портретов в театральных костюмах». Композиции иллюстраций были такими же и на холстах, и пространственные решения тоже остались без изменений. Всё было сохранено, как на слайдовой проекции. Помимо этого он делал некие стилизации в духе Ватто или Буше («Сорока-воровка») вопреки тому, что говорил нам в процессе обучения: тогда он был убеждённым противником прямой стилизации. В этом новом качестве он устроил последнюю свою крупную выставку в Академии художеств, которая вызвала к себе весьма прохладное отношение большей части художественной общественности. С этого момента Дехтерёв постепенно становится маргиналом-отшельником. Я убеждён, что каждый жанр обладает присущими ему специфическими свойствами. Диктуется это здравым смыслом. То, что предназначается для украшения книги, делается в особых условиях, обладает спецификой данного жанра и не годится ни для чего иного. И когда видишь книжный рисунок величиной в полтора метра, воспринимаешь это как нелепость. Конечно, можно тему любого рисунка использовать в других целях, но для этого требуется значительная переработка. Всё это, бесспорно, элементарная истина. Благотворное влияние моего учителя я испытывал долгие годы и после окончания института, ведь через его руки проходило всё, что я делал для издательства «Детская литература». Он был свидетелем моих достижений и неудач. Его одобрения и порицания были для меня бесспорны. Вспоминаю наше последнее общение в его мастерской году, кажется, в 1992-м или 1993-м. Не помню зачем, мне нужно было его повидать. Это случилось за год до его смерти, значит, ему было лет 85. Выглядел он плохо, передвигался с трудом, руки тряслись, но он ещё работал, и ему хотелось показать свою последнюю вещь. Это был большой холст, на котором изображался юноша Ганимед с орлом на фоне горного пейзажа. Борис Александрович уверял, что видел эти горы (Олимп) в Греции, но я знал, что с натуры он никогда ничего не писал, этюдов я у него ни разу не видел, значит, этот пейзаж был создан по памяти. Орёл был нарисован так себе, скорее, срисован откуда-то, а юноша, занимавший крупно весь центр холста, сделан очень академично в весьма трепетной наготе. Поговорили о мифе. Я вспомнил про эту тему у Рембрандта, но Борис Александрович выразил негодование его сатирической трактовкой. Он говорил о Ганимеде очень нежно и любовно, как о родственнике. Я глядел на этот холст и думал, что наши с ним вкусы уже давно и кардинально не совпадают. Сейчас, когда я сам приближаюсь к его позднему возрасту и вспоминаю этого человека, могу сказать откровенно, что я в нём безусловно ценю и что мне не нравится в нём как в художнике. Не нравится: отсутствие непосредственности, архаичность, манерность, неестественная жестикуляция персонажей, вялый и неумелый гротеск, неумение рисовать животных. Нравится: безусловная культурность, историчность, изящество, остроумное решение некоторых обложек и форзацев, умелое построение мизансцен, красота и изящество украшений, стильность. Одна из бесспорных его удач — «Гамлет». Дехтерёв не новатор, он добросовестный архаист. Очевидно, следует судить о его творчестве в этих пределах. И тут нельзя не признать бесспорного качества его обобщений, выразительности его композиций. Некоторые рисунки кажутся мне безупречными — например, умерщвление короля, отца Гамлета. Для меня Борис Александрович прежде всего ценен как педагог и редактор. Он сыграл важную и положительную роль в моём развитии, и я ему глубоко благодарен.

Георгий Евлампиевич Никольский
Это был очень весёлый пожилой мужчина с шепелявой из-за отсутствующих передних зубов речью. Он часто приходил в «Детгиз» в гимнастёрке, а порой и в телогрейке, пыльных сапогах и с вещевым мешком. Видимо, прямо из лесу. Это замечательный художник-анималист, по известности следующий за Василием Алексеевичем Ватагиным. Но последний был скорее учёным и скульптором, а Никольский — охотником. Как почти все анималисты, он рисовал исключительно зверей, изображал их мастерски, знал все их особенности и повадки, а людей рисовать либо избегал, либо изображал весьма принуждённо. Однако это вовсе не значит, что он не любил людей. Любил, любил — особенно крупных дам. Одной из таких его пассий оказалась молодая, но очень крупная редактор, которуюкто-то в «Детгизе» прозвал «трёхдюймовочкой». Этот роман с умилением наблюдало всё издательство. Никольский — балагур и рассказчик; когда он появлялся в редакции, становилось шумно и оживлённо. Рассказы его изобиловали парадоксами. Однажды он говорил, что боится хорошей бумаги: «Самые лучшие, самые живые и непосредственные вещи у меня получались на случайно подвернувшихся под руку клочках плохой бумаги, а на отличном ватмане выходило как-то робко. С некоторых пор я решил, что буду работать на дряни, а дорогой ватман не пожалею на паспарту». Я пришёл в «Детгиз» ещё студентом и, как сейчас понимаю, мои дебюты были далеко не блестящими. Однако до сих пор удивляюсь такому доброму, снисходительному отношению ко мне тогдашних художественных редакторов. Иногда в работе мне приходилось изображать животных, но в этом деле я совсем не тянул. В таких случаях худреды обращались к Никольскому, чтоб он меня поучил. Он это делал весьма неохотно, ибо понимал, что «с рук» этому делу не научишь: нужно ходить в зоопарк и самому на натуре постигать сложную премудрость. Помню, однажды в какой-то работе мне нужно было изобразить льва. Когда-то давно, ещё школьником, я рисовал львов в зоопарке и даже был членом КЮБЗа, но серьёзного умения так и не приобрёл. Нарисованный мною лев С. И. Нижнюю, худреда, с которой я работал, не удовлетворил, и она обратилась к Никольскому, случайно зашедшему в комнату редакции, с просьбой спасти положение. Он присел за её стол, посмотрел на мой рисунок, сморщился и, не говоря ни слова, на полях паспарту ручкой за две минуты нарисовал совершенно живого льва. Я ахнул, а пока жадно разглядывал этот шедевр, Никольский исчез. Так же тихо он исчез из жизни. Этот его уход мало кем был замечен, и очень характерно, что ему не нашлось места в огромном томе «Век русского книжного искусства», изданном в 2005 году. Ватагин там есть, Комаров есть, а Никольского нет. В моей памяти хранится где-то виденная его гуашь: щелястый пол избы ночью. В лунном пятне — малюсенький мышонок лакомится специально оставленным ему угощением. Сейчас появился на выставках новый анималист, некто Вадим Горбатов. Я с ним, к сожалению, не знаком, но должен сказать, что уровень его мастерства приближается к Никольскому.
Геннадий Владимирович Калиновский
Это был, несомненно, человек выдающихся способностей и воли. Все мы — его друзья и знакомые — сознавали, что рядом с нами ходит гений. Это чувствовалось ещё со времен его «Спартака» Говарда Фаста. При подходе художника к иллюстрированию авторского текста лозунг должен быть, как у медика: «Не навреди». Успех дела зависит от адекватности формы, соответствия визуального ряда тексту. Калиновский был очень гибок и изобретателен в выборе формы. Он сам рассказывал, как начинает работу над книгой. Ознакомившись с текстом, изучив исторический материал, он запирается в комнате, занавешивает окна, чтоб ничто внешнее его не отвлекало, ложится на диван и начинает думать. Мысленно он перебирает массу вариантов подхода к теме, останавливается на одном, обдумывает всё до деталей, до характера штриха. На это уходит иногда несколько дней. Когда образ будущей книги в его мозгу приобретает устойчивость, он садится за работу и неукоснительно следует задуманному плану. Тут уже необходима воля, не дающая уклониться в сторону. Мало кто может этого достичь, но Калиновский достигал в большинстве случаев. Всё, что он иллюстрировал, приобретало его личностную окраску, и почти всё совершенно. Я не вижу у него неудач. Его книжки при этом очень разные: «Сказки дядюшки Римуса», «Мэри Поппинс», «Гулливер», «Алиса», «Мастер и Маргарита», — сложные организмы, полные доброго юмора, разнообразной изобретательности, иронии. Перечислять их свойства и особенности нет смысла: работы эти общеизвестны. Во времена перестройки и распада СССР у всех у нас были проблемы с работой. Разваливались издательства, но возникали и новые, частные предприятия, порой весьма сомнительного свойства. Рвачество, обман, пиратство… В «Доме детской книги» на Тверской была организована выставка-продажа. Обедневшие художники продавали свои варианты иллюстраций. Гена тоже выставил много всего. Среди эскизов были и вполне завершённые иллюстрации к «Мастеру и Маргарите». Он оценил их очень дёшево. Выглядел он больным, говорил невнятно — выпали передние зубы. Он собирал деньги на протезы. Все его рисунки были моментально раскуплены. Через несколько лет, уже после смерти Калиновского, я увидел эти и многие другие рисунки на выставке в редакции журнала «Наше наследие». Двое частных коллекционеров сосредоточили в своих руках солидный объём его работ. Вот выдержка из моего дневника за декабрь 2008 года. «Вчера у нас в гостях была Нина Михайловна Демурова. Она еле ходит (что-то с ногами), но дух её молод по-прежнему. Она рассказала забавный эпизод о Калиновском. Некий литературовед и собиратель иллюстраций к „Алисе в Стране чудес“ долгое время приставал к Гене, желая получить его рисунки. Гена никак не шёл навстречу его пожеланиям. Тогда этот собиратель попытался завлечь его к себе для демонстрации имеющихся у него рисунков Ващенко к „Алисе“. Калиновский долго отнекивался, ибо он, по-видимому, уже тогда плохо себя чувствовал. Наконец собирателю удалось его вытащить к себе. Разложив перед Геной работы Ващенко, хозяин неумеренно суетился, постоянно и назойливо комментировал каждый лист. Гена терпел некоторое время, но потом сказал: „Пошли бы вы, друг мой, на кухню, я привык общаться с искусством в полном одиночестве“. Хозяину пришлось уйти на кухню и оставить художника в покое».
Камир
Агния Барто
 Помню другой, более серьёзный случай.
Уже в конце 1960-х годов мне поручили иллюстрировать повесть Льва Рубинштейна «В садах Лицея». С этой работой всё обстояло благополучно. И повествование о лицейской жизни Пушкина и Пущина, и мои рисунки были приняты в издательстве весьма благожелательно. Позднее, уже в 1970-х годах, Рубинштейн написал продолжение этой повести. Естественно, мне дали на иллюстрацию и эту книжку. Я очень ответственно изучил исторический материал о декабристах и полгода работал над иллюстрациями. Книга теперь называлась «Вечно юный Жанно».
И на сей раз рисунки были одобрены, я получил гонорар, а книга пошла в набор. Я уже занялся какой-то другой работой, как вдруг меня вызвал Камир для беседы. Оказалось, что Рубинштейн, с которым я лично не был знаком и никогда его не видел, подал прошение в правительство об эмиграции в Израиль, где уже жила его дочь. В те времена к таким «гражданам еврейской национальности» у нас относились как к предателям Родины, а посему набор «Вечно юного Жанно» был рассыпан, моим картинкам не дали хода, а издательство понесло убытки.
Камир был суров. Он метал громы и молнии по адресу своего бывшего друга (оказывается, он дружил с Рубинштейном), говорил, что он подвёл людей, а издательство чуть ли не обанкротил. Потом он вышел из-за стола, встал передо мной, расставив ноги, и спросил в упор: «Вы патриот?!» Я робко ответил: «Да». «В таком случае, — продолжал он, — вы должны отказаться от вознаграждения и вернуть издательству свой гонорар!»
Это уже было смешно. Я сказал: «А вы — патриот?!» Он не ответил. «В таком случае, — продолжал я, — вы, как бывший друг предателя Родины, должны разделить со мной ответственность и покрыть половину убытков издательства из своей зарплаты, а я верну половину своего гонорара. Это будет справедливо, не так ли?» На этом наш разговор закончился. Я ушёл, но дело это имело продолжение.
Камир продолжил искать способы покрыть убытки «Детгиза». Он предложил найти писателя, который бы заново создал текст на эту тему с тем, чтоб приспособить к нему мои рисунки. И такой литератор был найден, — Владимир Порудоминский, человек, хорошо ориентирующийся в декабристской теме, согласился взяться за это дело.
Прошло довольно много времени, и вот мне был дан новый текст. Я прочёл и обнаружил, что события жизни Пущина, отражённые в моих рисунках, относятся к последней главе повести Порудоминского. Как уважающий себя автор, он не стал подлаживаться под мои условия, а написал вещь по своему плану. Основную часть текста занимали эпизоды лицейского периода жизни Жанно, а на каторгу и ссылку пошла последняя глава. Я сказал Камиру, что рисунки в любой книге должны равномерно распределяться по всему тексту, а в данном случае первая и большая часть книги будет пустой, а в конце — набита рисунками. Это не годится. Тогда он предложил издать мои рисунки отдельно и дать их в конверте в качестве приложения. Но я от всех этих ухищрений отказался. На том дело и кончилось. Как уж вышла эта книжка и с чьими рисунками — я не знаю.
Через много лет, уже после распада СССР, я встретил случайно на мосту у Савёловского вокзала постаревшего, грустного Камира. Он уже был не у дел. От его грозного облика ничего не осталось. Разговаривать было не о чем. Мы постояли минуту и разошлись навсегда.
Помню другой, более серьёзный случай.
Уже в конце 1960-х годов мне поручили иллюстрировать повесть Льва Рубинштейна «В садах Лицея». С этой работой всё обстояло благополучно. И повествование о лицейской жизни Пушкина и Пущина, и мои рисунки были приняты в издательстве весьма благожелательно. Позднее, уже в 1970-х годах, Рубинштейн написал продолжение этой повести. Естественно, мне дали на иллюстрацию и эту книжку. Я очень ответственно изучил исторический материал о декабристах и полгода работал над иллюстрациями. Книга теперь называлась «Вечно юный Жанно».
И на сей раз рисунки были одобрены, я получил гонорар, а книга пошла в набор. Я уже занялся какой-то другой работой, как вдруг меня вызвал Камир для беседы. Оказалось, что Рубинштейн, с которым я лично не был знаком и никогда его не видел, подал прошение в правительство об эмиграции в Израиль, где уже жила его дочь. В те времена к таким «гражданам еврейской национальности» у нас относились как к предателям Родины, а посему набор «Вечно юного Жанно» был рассыпан, моим картинкам не дали хода, а издательство понесло убытки.
Камир был суров. Он метал громы и молнии по адресу своего бывшего друга (оказывается, он дружил с Рубинштейном), говорил, что он подвёл людей, а издательство чуть ли не обанкротил. Потом он вышел из-за стола, встал передо мной, расставив ноги, и спросил в упор: «Вы патриот?!» Я робко ответил: «Да». «В таком случае, — продолжал он, — вы должны отказаться от вознаграждения и вернуть издательству свой гонорар!»
Это уже было смешно. Я сказал: «А вы — патриот?!» Он не ответил. «В таком случае, — продолжал я, — вы, как бывший друг предателя Родины, должны разделить со мной ответственность и покрыть половину убытков издательства из своей зарплаты, а я верну половину своего гонорара. Это будет справедливо, не так ли?» На этом наш разговор закончился. Я ушёл, но дело это имело продолжение.
Камир продолжил искать способы покрыть убытки «Детгиза». Он предложил найти писателя, который бы заново создал текст на эту тему с тем, чтоб приспособить к нему мои рисунки. И такой литератор был найден, — Владимир Порудоминский, человек, хорошо ориентирующийся в декабристской теме, согласился взяться за это дело.
Прошло довольно много времени, и вот мне был дан новый текст. Я прочёл и обнаружил, что события жизни Пущина, отражённые в моих рисунках, относятся к последней главе повести Порудоминского. Как уважающий себя автор, он не стал подлаживаться под мои условия, а написал вещь по своему плану. Основную часть текста занимали эпизоды лицейского периода жизни Жанно, а на каторгу и ссылку пошла последняя глава. Я сказал Камиру, что рисунки в любой книге должны равномерно распределяться по всему тексту, а в данном случае первая и большая часть книги будет пустой, а в конце — набита рисунками. Это не годится. Тогда он предложил издать мои рисунки отдельно и дать их в конверте в качестве приложения. Но я от всех этих ухищрений отказался. На том дело и кончилось. Как уж вышла эта книжка и с чьими рисунками — я не знаю.
Через много лет, уже после распада СССР, я встретил случайно на мосту у Савёловского вокзала постаревшего, грустного Камира. Он уже был не у дел. От его грозного облика ничего не осталось. Разговаривать было не о чем. Мы постояли минуту и разошлись навсегда.
Всеволод Вячеславович Иванов
Курьёзный случай у меня произошёл со Всеволодом Ивановым. В конце 1950-х годов мне поручили в «Детгизе» иллюстрировать его повесть «Бронепоезд 14–69». Работал я долго, добросовестно собирал материал в библиотеке. Когда работа подошла к концу, редактор устроил мне встречу с автором. Смутно помню, где это произошло, — кажется, на даче. Хозяин принял меня любезно, подивился моей молодости, к работе отнёсся если не одобрительно, то снисходительно. В разговоре зашла речь о постановке в МХАТе «Бронепоезда» в сценическом варианте. И тут я заявил, что видел эту пьесу. Иванов поднял удивлённо брови: «Позвольте, а сколько вам лет? Судя по вашему возрасту, вы никак не могли видеть пьесы, которую сняли с репертуара, когда вам было не более пяти». Но я настаивал, вопреки очевидности, что помню сцену на крыше церкви, речь Вершинина, сцену с допросом пленного американца и т. д. Я ушёл, оставив автора в полном недоумении. Значительно позднее я увидел в кино экранизацию некоторых сцен из этого спектакля и догадался, что видел её и раньше, и что именно она застряла в моей памяти.

Мой друг Вениамин Лосин
Это был патриарх, один из самых значительных мастеров-иллюстраторов среди нас, рождённых в начале 1930-х годов. Он считался одним из самых одарённых учеников МСХШ военного времени. Однако по школе я его плохо помню. Он учился в параллельном классе, я не видел его работ. Правда, уже в выпускном классе мне на глаза попалась его акварель, которая отличалась каким-то странным колоритом. У него был любимый цвет — хаки. Этот цвет ассоциировался и с ним самим. Он носил костюм такого же цвета, и даже волосы его пушистой причёски мне казались тоже цвета хаки.
 При поступлении в Институт им. Сурикова он был принят на живописный факультет, однако попросил перевести его к нам на графику. Оба мы к третьему курсу распределились в книжную мастерскую, руководимую Борисом Александровичем Дехтерёвым. С этой поры наши жизни пошли параллельно, на виду друг у друга. Тогда же его богатое художественное дарование стало мне очевидно — и не только мне.
Веня на зависть всем соученикам уже тогда обладал незаурядным мастерством. Он свободно, без помощи натуры, компоновал и рисовал весьма убедительно. По воображению он рисовал азартно, а натурные штудии были ему скучны. Дехтерёв наблюдал за ним не только на уроках композиции, но и приходил посмотреть в часы натурного рисунка, который вёл у нас Юрий Петрович Рейнер. Однажды Дехтерёв подсел на Венино место. Позировала полная натурщица в бусах. Борис Александрович созвал нас всех и сказал: «Посмотрите на рисунок этого человека, ему не интересен объект, ему скучно рисовать с натуры, такое впечатление, что он смотрит на натуру одним глазом или вообще не смотрит. Характер и особенности фигуры натурщицы его не интересуют. Взгляните на эти бусы на её шее, ведь они круглой формы — шарики, а у Лосина — продолговатые леденцы. Так можно рисовать, повернувшись к натуре спиной».
Но композиционное рисование Вени Дехтерёв высоко ценил, хотя из соображений педагогической этики вслух его хвалил редко.
Веня отдавал должное Дехтерёву как культурному человеку и педагогу, однако меж ними чувствовалась некая психологическая несовместимость. Среди учителей он был близок с Юрием Петровичем Рейнером, который нравился ему и как человек, и как художник.
На третьем году обучения нам предложили выбрать одну из трёх графических техник для дальнейшего совершенствования в ней. Сначала мы попробовали все три: литографию, ксилографию и офорт. Я остановился на литографии, Веня — на гравюре.
Михаил Владимирович Маторин дал ксилографам в качестве первого задания резать гравюру по рисунку Александра Агина: портрет Плюшкина. Эталоном, конечно, была работа Валентина Бернардского. Нужно было сделать не хуже. Они резали с большим азартом. У всех, на мой взгляд, получилось довольно прилично, но очень одинаково. Позднее, когда они гравировали свои собственные композиции, Веня отличился. Его иллюстрации к «Щелкунчику» Гофмана, резанные на дереве и линолеуме в два цвета, были сделаны мастерски. Сцена, где Дроссельмейер демонстрирует детям нарядную ёлку, запомнилась надолго — и не только мне одному.
К концу третьего года обучения Борис Александрович Дехтерёв, будучи одновременно главным художником «Детгиза», нашёл, что некоторые его ученики, в том числе и Веня Лосин, обладают уже навыками рисования, пригодными для реального производства, и предложил Вене работу в детском издательстве.
Первая книжка с иллюстрациями Вениамина Лосина, вышедшая в свет в 1954 году, была сборником сказок Рахили Баумволь «Голубая варежка». Я думаю, что в ней уже ясно обозначилось своеобразие этого художника, его умение изображать всё на свете — особенно детей — тепло и трогательно.
Первые годы после окончания учёбы, завершившейся в 1956 году дипломной серией иллюстраций к «Трём толстякам» Юрия Олеши и красным дипломом, Веня успешно работал в «Детгизе», получая заказы почти без перерывов. Однако его творческое своеобразие, вероятно, не всегда совпадало с господствующим в этом издательстве вкусом, и стиль работ самого Дехтерёва Вене не нравился. Когда рядом с монополистом «Детгизом» возникли новые издательства — «Малыш» и «Советская Россия», — Веня стал охотнее работать в них. В это же время он сотрудничал с журналом «Мурзилка» и др.
С этой поры наши с Веней пути несколько разошлись. Я оставался верен «Детгизу», а он перекочевал в «Малыш». Там образовалось знаменитое содружество Лосин — Монин — Перцов — Чижиков.
При поступлении в Институт им. Сурикова он был принят на живописный факультет, однако попросил перевести его к нам на графику. Оба мы к третьему курсу распределились в книжную мастерскую, руководимую Борисом Александровичем Дехтерёвым. С этой поры наши жизни пошли параллельно, на виду друг у друга. Тогда же его богатое художественное дарование стало мне очевидно — и не только мне.
Веня на зависть всем соученикам уже тогда обладал незаурядным мастерством. Он свободно, без помощи натуры, компоновал и рисовал весьма убедительно. По воображению он рисовал азартно, а натурные штудии были ему скучны. Дехтерёв наблюдал за ним не только на уроках композиции, но и приходил посмотреть в часы натурного рисунка, который вёл у нас Юрий Петрович Рейнер. Однажды Дехтерёв подсел на Венино место. Позировала полная натурщица в бусах. Борис Александрович созвал нас всех и сказал: «Посмотрите на рисунок этого человека, ему не интересен объект, ему скучно рисовать с натуры, такое впечатление, что он смотрит на натуру одним глазом или вообще не смотрит. Характер и особенности фигуры натурщицы его не интересуют. Взгляните на эти бусы на её шее, ведь они круглой формы — шарики, а у Лосина — продолговатые леденцы. Так можно рисовать, повернувшись к натуре спиной».
Но композиционное рисование Вени Дехтерёв высоко ценил, хотя из соображений педагогической этики вслух его хвалил редко.
Веня отдавал должное Дехтерёву как культурному человеку и педагогу, однако меж ними чувствовалась некая психологическая несовместимость. Среди учителей он был близок с Юрием Петровичем Рейнером, который нравился ему и как человек, и как художник.
На третьем году обучения нам предложили выбрать одну из трёх графических техник для дальнейшего совершенствования в ней. Сначала мы попробовали все три: литографию, ксилографию и офорт. Я остановился на литографии, Веня — на гравюре.
Михаил Владимирович Маторин дал ксилографам в качестве первого задания резать гравюру по рисунку Александра Агина: портрет Плюшкина. Эталоном, конечно, была работа Валентина Бернардского. Нужно было сделать не хуже. Они резали с большим азартом. У всех, на мой взгляд, получилось довольно прилично, но очень одинаково. Позднее, когда они гравировали свои собственные композиции, Веня отличился. Его иллюстрации к «Щелкунчику» Гофмана, резанные на дереве и линолеуме в два цвета, были сделаны мастерски. Сцена, где Дроссельмейер демонстрирует детям нарядную ёлку, запомнилась надолго — и не только мне одному.
К концу третьего года обучения Борис Александрович Дехтерёв, будучи одновременно главным художником «Детгиза», нашёл, что некоторые его ученики, в том числе и Веня Лосин, обладают уже навыками рисования, пригодными для реального производства, и предложил Вене работу в детском издательстве.
Первая книжка с иллюстрациями Вениамина Лосина, вышедшая в свет в 1954 году, была сборником сказок Рахили Баумволь «Голубая варежка». Я думаю, что в ней уже ясно обозначилось своеобразие этого художника, его умение изображать всё на свете — особенно детей — тепло и трогательно.
Первые годы после окончания учёбы, завершившейся в 1956 году дипломной серией иллюстраций к «Трём толстякам» Юрия Олеши и красным дипломом, Веня успешно работал в «Детгизе», получая заказы почти без перерывов. Однако его творческое своеобразие, вероятно, не всегда совпадало с господствующим в этом издательстве вкусом, и стиль работ самого Дехтерёва Вене не нравился. Когда рядом с монополистом «Детгизом» возникли новые издательства — «Малыш» и «Советская Россия», — Веня стал охотнее работать в них. В это же время он сотрудничал с журналом «Мурзилка» и др.
С этой поры наши с Веней пути несколько разошлись. Я оставался верен «Детгизу», а он перекочевал в «Малыш». Там образовалось знаменитое содружество Лосин — Монин — Перцов — Чижиков.

В Доме творчества художников на Челюскинской. Я крайний справаВоспоминания о деятельности и дружбе этой четвёрки естественно ждать от ныне здравствующих Владимира Валерьевича Перцова и Виктора Александровича Чижикова, я же хочу поговорить о Вене Лосине отдельно. Вениамин Николаевич обладал феноменальной зрительной памятью и наблюдательностью. Кладовая его наблюдений пополнялась без особых усилий, органично, просто благодаря естественному интересу к повседневной жизни. То, что иные мастера накапливали постоянным рисованием с натуры, набросками, зарисовками и штудиями, Лосин запоминал без усилий. В его наследии нет карманных альбомчиков, записных книжек и прочих атрибутов обычных художников. Когда, начиная работу, он оказывался перед чистым листом бумаги, воображение выдавало само собой нужные типические образы персонажей услужливо, без особых понуканий. Оставалось лишь грамотно, толково и красиво это изобразить. Одним словом, специфическим даром иллюстратора Веня обладал в совершенной степени и очень рано. Войдя в зрелый возраст, он обнаружил тяготение и интерес к древней истории: русской и мировой. В связи с этим его библиотека наполнилась множеством научных книг по данной теме. Мы, его друзья, постепенно начали замечать, что он становится экспертом-историком по средневековой Руси. Заявив таким образом о себе в издательских кругах, он стал получать соответствующие заказы на иллюстрирование. Таким образом наряду с весёлыми и забавными русскими сказками «Репка», «Курочка Ряба» и «Денискиными рассказами» Драгунского стали появляться монументально-поэтические «Былины», «Слово о полку Игореве», пушкинское «Сказание о вещем Олеге», «Снегурочка» Александра Николаевича Островского. В быту это был первоклассный остряк, центр весёлой компании, мастер каламбуров, застольных шуток и розыгрышей. Его bon mots[7] многократно повторялись всеми знакомыми и незнакомыми. Помню, в 2005 году мы с женой были приглашены на его с Татьяной золотую свадьбу. В тот вечер Веня был особенно оживлён. Он сказал: «Когда муж бьёт свою жену в день золотой свадьбы, это называется золотое сечение». Этот человек, богато одарённый и умный, умел хорошо и красиво дружить, был справедлив и несуетен. Казалось бы, такой остряк, весёлый балагур и оптимист должен легко сходиться с людьми, быть неуязвимым для обид и полным благодушия. Но это не так. Однажды Веня попал в Боткинскую больницу на некую операцию. Я там его навестил. Идя по коридору, я увидел его сидящим у окна в угрюмом одиночестве. Он был рад моему появлению, которого не ожидал. Он рассказал, что не в силах ни с кем общаться. Вся эта публика — и врачи, и сёстры, и особенно больные — вызывает у него отвращение: что ни слово, то пошлость. А на пошлость у него был беспощадно намётан глаз. Он не щадил даже невинной пустяковой пошлости. Одним из любимых его изречений было: «Будь только умницей, остальное у тебя есть!» Я считаю его крупнейшим мастером книжной иллюстрации. Его творчество хорошо известно за рубежами России, в частности в Японии, для которой он много работал. Японские дети через рисунки Вени воспринимают образы русских сказок «Репка», «Курочка Ряба» и многих других. По тому объёму художественной литературы, что Вениамин Николаевич проиллюстрировал за свою долгую жизнь, культурная часть общества должна бы знать и благодарно помнить его имя. Однако художник — не артист, что вечно маячит на экранах кино и телевидения. Когда умирает актёр даже средней одарённости, этот факт подлежит всенародному оглашению. Газеты, радио и ТВ извещают о дате панихиды и похорон. Из художников у нас мало кто удостоился такой чести. Чаще они уходят втихую. Вот и Вениамин Николаевич Лосин, к сожалению, на своей родине не получил сполна всех почестей, что ему причитаются по справедливости.
Женя Монин
Женя Монин, также учившийся в нашей школе — прирождённый сказочник. Кажется странным, что после художественной школы он поступил и прошёл полный курс архитектурного института. Говорят (я не видел), что он участвовал активно в ряде архпроектов и конкурсов, — и это во времена типовой застройки городов. В школе он учился в параллельном классе, и я не помню его работ; его архитектурный период мне также неведом. Я узнал его творчество, когда он стал иллюстратором. В книжной и журнальной иллюстрации он с самого начала выступил как мастер весёлого гротеска, причём появился в книге сразу со своим готовым, неповторимым наивно-ироническим стилем. Его фигуры приобрели устойчивый, почти не меняющийся тип незадачливых и легкомысленных простофиль, вечно попадающих в пикантные ситуации. Это был целый мир милых дураков, проживающих в смешных кривых домиках с кривыми палисадниками. Они восседали за кривыми обеденными столами, катались на игрушечных пароходиках, летали по небу на расставленных руках, жили в комнатах со срезанной передней стеной на виду у зрителей, наступали на свои игрушечные тени, лукаво выглядывали из-за рамки иллюстраций.

С Евгением МонинымВ издательствах Монин получал соответствующую литературу. Если это были сказки разных народов, то он наряжал своих любимцев в национальные костюмы, при этом без особой заботы о точности. Так им были исполнены немецкие, итальянские, армянские и прочие сказки. Помимо вышеназванных особенностей для него характерна декоративность, плоскостность и своеобразная условная перспектива. Как фантаст с гипертрофированным воображением он редко рисовал с натуры, а когда это случалось, чаще уже к концу жизни, его пейзажи больше были похожи на рисунки по воображению, чем на натурные штудии. Я иногда работал рядом с Женей и замечал, как редко он смотрит на натуру. Поэтому его пейзажи, всегда очень красивые, имеют условно-неконкретный характер. Казалось, что всё его творчество — весёлая игра, забава весёлого, счастливого человека. На самом деле это была ширма — за ней скрывался тяжёлый долголетний недуг, причинявший ему неимоверные страдания. После перестройки в 1980-х годах Монин понемногу начал отходить от книжной работы, и его мастерская стала наполняться удивительными темперными и акриловыми картинами. На них ожили те же простаки, но в богатом живописном пространстве. Теперь художник, не скованный полиграфическими запретами, смог развернуть в полной мере свой живописный талант и, свободный от книжных сюжетов, стал придумывать свои или использовать известные латинские изречения. В иллюстрациях к последним Женя показал незаурядные остроумие и изобретательность. Эти картинки — настоящие шедевры. Они просты по замыслу, игривы по содержанию и удивительно гармоничны по цвету. В них он абсолютно оригинален. За 20 лет их накопилось огромное количество. Много их было раздарено врачам, которые, к сожалению, не проявили аналогичного таланта и не сумели продлить жизнь замечательного мастера.
Поездка на Байкал
Летом 1963 года у Лосина, Монина, Перцова и меня случилась официальная командировка (за наш счёт) на строительство Братской ГЭС. В Союзе художников готовилась выставка на тему «Стройки коммунизма», и такие командировки выдавались всем желающим. Нашей целью было посетить Иркутскую ГЭС и строившуюся Братскую. После многодневного путешествия на поезде мы оказались в Иркутске. Этот город ничем особенно нас не заинтересовал. Центр его — обычный центр любого промышленного города, действующая Иркутская ГЭС и пр. Но окраины очень нам понравились своей деревянной архитектурой. Двухэтажные бревенчатые жилые дома, целые улицы таких домов, с обильно украшенными затейливой резьбой наличниками, карнизами и крыльцами. Создавалось впечатление, что хозяева, соперничая друг с другом, украшали всё, что можно украсить. Помимо деревянной резьбы — резьба по жести, настоящие железные кружева на воронках водосточных труб и навершиях дымоходов. Однако главным предметом нашего вожделения был, конечно, Байкал, где вскоре мы и оказались. В Листвянке, на берегу Байкала, мы жили около недели; рисовали пристань, рыболовецкие сейнеры, катера, лодки, матросов, грузчиков и даже какого-то капитана. Некоторые акварели у меня сохранились. Ребята эти, праздно шатавшиеся по пристани, охотно позировали, особенно узнав, что их портреты будут представлены в Москве на выставке. Однажды утром мы обнаружили у причала странный пароходик с низкой кормой и сильно задранным носом с надписью «Комсомолец». Мы узнали, что он вскоре отходит на остров Ольхон. Места ещё есть. К полудню мы отчалили и медленно поползли по Байкалу. Сейчас я уже плохо помню, были ли на этом корабле каюты, но буфет со столиками там точно был. Мне запомнился обед с каким-то довольно вкусным супом. За соседним столиком оказалась удивительная компания туристов: очень тучный человек, которому трудно было есть, склонившись над тарелкой, стоявшей на столе, поэтому он поставил её на верхнюю часть своего живота; ещё там сидели какие-то две женщины, в дальнейшем исчезнувшие, а четвёртым был худощавый элегантный господин, говоривший с сильным английским акцентом.
Байкал, гуашьНа Ольхон мы прибыли к вечеру. К моему удивлению, пристани там не было. «Комсомолец» встал на якорь метрах в 200 от берега: ближе было мелко. На остров нас доставляли на лодках. Потешный эпизод мы наблюдали при перегрузке публики на лодки. Когда очередь дошла до толстяка — доктора Лори (его имя мы узнали позднее), — он стал спускаться по навесной железной лестнице спиной к ожидавшей внизу лодке; на последней ступеньке он отставил одну ногу назад, надеясь, что под неё подведут борт лодки, сказал: «Принимайте меня», — и отпустил поручни. Матрос в лодке в ужасе что-то закричал, но доктор всей тушей упал на него. Лодка сильно накренилась, черпнула изрядно воды; публика, уже занявшая часть сидений, тоже подняла крик ужаса, но, как ни странно, всё обошлось. Лодка с туристами не утонула и все благополучно достигли берега острова Ольхон. Гостиницы в обычном смысле там тоже не оказалось. Стояли бараки, на столбах сушились сети. Это было хозяйство рыболовецкой артели. Нас разместили в одном из бараков. Хозяйка, женщина средних лет, крестьянского вида, выдала нам постельное бельё… впрочем, я плохо помню, как и где мы спали, что мы там ели — кажется, омуля во всех видах. Помню, что мы рисовали живописные скалы, купались в очень холодной воде, загорали. Англичанин назвался Марком Петровичем Фрезером. Он не купался, лежал одетым на берегу. Мы ему почему-то очень понравились, как и он нам. Вскоре наши отношения стали доверительными, почти дружескими. Доктор Лори, педиатр, в первый же день искупался в холодной воде, перегрелся на солнце и занемог. Он лежал с высокой температурой в бараке на железной кровати, её пружинный матрас провисал до полу. Слава богу, у него оказался полный набор лекарств на все случаи жизни и смерти, а кроме того — большой арсенал сиропов, которые он примешивал в воду и чай. Хозяйка ему во всём помогала, мы навещали его по многу раз на дню. Он стонал и жаловался, состояние духа его пало совсем низко. Марк Петрович показал нам, как заваривать чай по-английски. Это просто: в очень крепкую горячую заварку, не разбавляя её кипятком, надо добавить горячее молоко и сахар. Этот вкусный и сытный напиток сильно отличается от нашего понимания чая. Мы почему-то не смели спросить англичанина, как он оказался в России и почему хорошо говорит по-русски; но он сам рассказал нам свою историю. Ещё в студенчестве он проникся социалистическими идеями и симпатиями к «стране социализма», подобно многим либеральным деятелям культуры Запада — таким как Бернард Шоу, Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, Андре Жид (до поездки в СССР) и другим. Но Марк Петрович был гораздо более радикален по молодости лет. Когда Гитлер напал на Советский Союз и поначалу наша армия терпела неудачи, а союзники не торопились с открытием второго фронта, в Англии возникла группа шпионов в пользу СССР во главе с Кимом Филби — так называемая «кембриджская пятёрка». Марк Петрович был одним из них. Мы этого не знали, это была государственная тайна, и рассказы Марка Петровича оказались для нас неожиданным и полным откровением. Он рассказал, что после того как они оказались в СССР и познакомились с действительностью сталинского времени, им пришлось расстаться со своими социалистическими иллюзиями. Однако КГБ вовсю использовал их в качестве шпионов и засылал в капиталистические страны. Так Марк Петрович попал в Америку. К этому моменту он уже был полностью разочарован в сталинском социализме, и положение его оказалось тяжёлым. Он не желал служить КГБ, с другой стороны, он не ждал помилования и от своей родной страны. От безнадёжности он крепко запил. На каком-то дипломатическом рауте он, пьяный, объявил во всеуслышание, что является агентом советской разведки и готов сдаться. Это заявление было принято за оригинальную шутку, но наш резидент схватил его и срочно переправил в Союз, — а там он, естественно, попал в места не столь отдалённые. Вероятно, столь откровенные признания спровоцировало ощущение отсутствия здесь, на Ольхоне, суетной цивилизации. В нашей жизни к этому моменту ещё не растворилось веянье хрущёвской оттепели. Нам в разговорах не было нужды задумываться и остерегаться, как бы чего не вышло. Говорили мы обо всём смело и свободно, — я, очевидно, смелее других, поэтому Марк Петрович сказал моим друзьям, чтоб они меня берегли.

МаклинВ те времена все культурные люди нашей страны впервые прочли «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Естественно, возник разговор о нём, но я был немало удивлён, когда Марк Петрович, безнадёжно махнув рукой, заявил, что этот автор «исписался». Я не поверил. Все мы четверо этому умному, бывалому человеку очень нравились, но я, как мне показалось, пользовался его особым благоволением. Он называл меня «профессор Хиггинс». Это потому, что однажды при нём, в разговоре с нашей хозяйкой, я по её говору определил, что она родом из Белоруссии, и не ошибся. Доктор Лори понемногу стал выздоравливать. Мы знали, что в Москве он жил одиноко и никто в подобных случаях дома помочь ему не мог. Момент отъезда с Ольхона выветрился из моей памяти. Единственное, что возникает в ней фрагментарно, — это эпизод с доктором Лори на каком-то маленьком аэродроме, где мы долго ожидали биплана По-2 (так называемого кукурузника). Перед посадкой шутники-лётчики заставили доктора встать на амбарные весы. Он долго сопротивлялся, но его напугали тем, что если лётчики, не зная точно его веса, неправильно усадят его в самолёт, то может произойти авария, самолёт накренится на бок, поломает о землю крыло и т. д. Лори поверил в эту чушь и дал себя взвесить. На сколько он потянул — не помню, но, кажется, на очень много. С Марком Петровичем мы встречались и в Москве. Он оказался ближайшим соседом Жени Монина. Служил он в Министерстве иностранных дел. Через несколько лет его жена Мелинда и сыновья вернулись в Англию, а он остался здесь. Каков был его конец, я не знаю. Много позднее история «кембриджской пятёрки» была обнародована, и мы узнали настоящее имя этого человека: Дональд Маклин.
Средняя Азия
В августе 1964 года мы с художником Владимиром Перцевым и архитектором Игорем Пяткиным собрались путешествовать по Средней Азии. Мой московский сосед, искусствовед Генрих Бочаров, побывавший в этих краях незадолго до этого, дал мне множество адресов, советов и наставлений, а поскольку мы со сборами дотянули до октября, передал мне ещё свою тёплую робу, предупредив, что ночи могут быть в Бухаре холодными. Генрих советовал посетить в Бухаре некоего Юренева, учёного, почему-то попавшего в немилость к КГБ и уехавшего в Среднюю Азию подальше от этих суровых органов. Бочаров описал нам его как человека, который хорошо знает Восток и наверняка может оказаться полезен нам. Кроме того, посоветовал нам обратить внимание на прикладное народное искусство узбеков, которое, по его словам, сохранилось в первозданном виде с незапамятных времён. Я жадно его слушал, возгорелся интересом и, таким образом, наше путешествие обрело смысл и цель. Первый раз я посетил Среднюю Азию ещё студентом в 1955 году. Тогда нас послали на целину в виде летней практики Суриковского института. Та поездка была недолгой и просто ознакомительной. Практика проходила в восточном Казахстане в городе Усть-Каменогорске в предгорьях Алтая. По окончании её, вместе с другими студентами, у кого ещё оставались деньги, мы решили отправиться в путешествие на юг. Добрались до Самарканда. Там я остался один — другие улетели в Москву, а я продолжил свой путь через Туркмению. Из Красноводска перелетел на «Дугласе» через Каспий в Баку и далее поездом на Кавказ, к Чёрному морю, где в это время отдыхали в Хосте мои родители. На этот раз, через 9 лет, уже будучи профессиональным художником в компании таких же профессионалов, я оказался в знакомых местах. Надо сказать, что застылый Восток мало изменился за эти годы. Те же арыки, саманные строения, те же халаты, тюбетейки и чалмы, те же пёстрые женские одежды, те же живописные базары, ишачки, чайханы и т. д. Мы проехали через весь Узбекистан: были в Ташкенте, Самарканде, на Иссык-Куле, Янгиарыкском районе, в Бухаре, Хиве, в Каракалпакии (город Нукус). Летели над долиной Сырдарьи, и через Урал вернулись в Москву. Ещё в Москве нас предупреждали, что в этих городах может быть проблема с гостиницами. Поэтому мы заранее озаботились официальными направлениями от Союза художников, хотя это путешествие было нашей частной инициативой. В Ташкенте, вполне цивилизованном городе, мы посетили (теперь уж не помню, какие именно) учреждения культуры, где нас уважительно приняли и направили в художественные институты. Там мы познакомились с уважаемыми и признанными народными художниками. Они нам показали образцы своего творчества, образцы торжественных декоративных шрифтов, керамики и прочего декоративного и прикладного искусства. Один керамист с регалиями и званиями продал нам несколько своих тарелок — очень дорогих и, на наш взгляд, не имеющих никаких достоинств, — далеко отошедших от народной традиции. Рисовать в Ташкенте нам не хотелось. Мы даже ещё не доставали своих альбомов и красок. Наконец по совету Бочарова мы забрались в глушь, и нашли аул, где жила знаменитая народная мастерица — Хамро Рахимова. Она была очень стара, но ещё лепила свои изумительные свистульки и обжигала их в тандыре. Мы увидели целую выставку обожжённых белых глиняных и раскрашенных анилином фигур фантастических животных. Тут были ишачки, собаки, кони, бараны и даже слоны. Она при нас загрузила в печь целую партию таких фигурок. Купили мы много всего, зная, что в Москве нам будут завидовать, а мы будем щедро дарить подарки.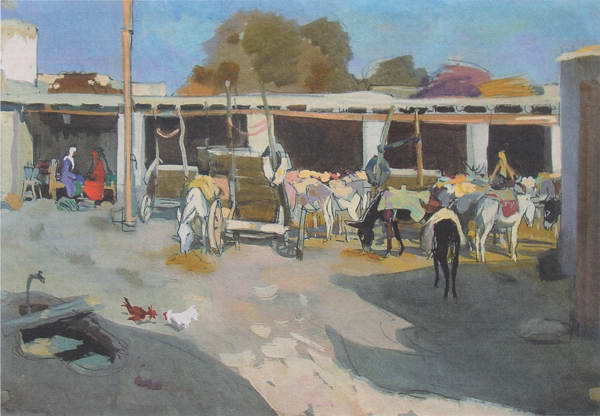
«Ослиный двор в Ташкенте», гуашьПредупреждение по поводу гостиниц после Ташкента начало оправдываться. Все последующие города оказались весьма негостеприимными. Наши документы сразу потеряли свою силу. Ночевать было негде. В Самарканде на площади Регистана мы решили осмотреть кельи бывшего медресе. Эти сооружения представляли собой каменные балкончики с небольшими углублениями в стене. Сначала мы использовали их как удобные пункты уединённого наблюдения и рисования: никто не стоит за спиной, не мешает творить, солнце не слепит глаза и не падает на бумагу, не жарко (в это время мы ещё застали тепло, почти жару), было хорошее чувство защищённости. В таких кельях нам и пришлось ночевать. В старой части города дома сплошь саманные (глиняные), буквально слеплены руками. На деревянный каркас, кое-где заложенный обожжёнными кирпичами серого цвета, нашлёпывалась жидкая глина, и заравнивалась без всякого инструмента, ладонями. Выглядело это примерно следующим образом: один строитель месит в лохани глину, другой стоит на лестнице у стены. Нижний подбрасывает комок сырой глины, верхний ловко его ловит, кидает на стену и разравнивает руками. Поэтому стены домов выглядят неровными, кажется, будто бы живые. На мой взгляд, это не архитектура, а почти скульптура. Строения почти без окон, только кое-где торчат деревяшки от каркаса. Выходящая на улицу стена — это тыльная часть дома, а вся жизнь проходит в квадратном закрытом внутреннем дворике под навесом, подпёртым изящной деревянной колонной. Питались мы в живописных харчевнях почти одной бараниной. В меню, в основном, присутствовали бешбармак, манты, узбекский шашлык (бараний фарш лепят на шампур и жарят на углях) и виноград. Жажду мы утоляли зелёным чаем, сидя по-узбекски на ковре чайханы. Проходя по очередной улице в поисках мотива для рисования, мы увидели дым костра и многочисленную группу молодых людей, сидевших на разостланных кошмах и готовивших грандиозный плов. Мы с ними быстро познакомились, это были студенты, решившие отметить начало учебного года. Узнав, что мы художники из Москвы, нас пригласили принять участие в таком замечательном мероприятии. Мы были предупреждены, что плов будет готовиться долго, и мы можем прийти часа через два. Мы ушли писать этюды, и вернулись к студентам спустя продолжительное время, прихватив в магазине бутылку коньяка. Однако плов ещё не был приготовлен. На больших листах фанеры лежали горы нарезанной моркови (жёлтой, а не красной), горы чеснока, горы риса, зелени, куски баранины. Наконец, уже при нас, всё это загрузили в огромную полусферу-казан и поставили на огонь. Уже вечерело, когда было объявлено, что плов готов, и все расселись на кошмах с керамическими чашами на коленях в предвкушении вкусного блюда.

«Саманная Бухара», гуашьПлов был изумительный, а мы — сильно голодные. Ничего вкуснее ни до, ни после я не пробовал. Ели долго, но плова было так много, что в казане оставалось ещё изрядное количество. От нашего коньяка ребята отказались: у мусульман это не принято. А вскоре начались шутки и игры. Оставшийся плов нужно было доесть, и студенты начали принудительное кормление нерадивых «малоежек». Плов в Средней Азии едят, как известно, руками. Принудительное кормление заключалось в следующем: «палач» набирал в казане на ладонь горстку плова, пригибал голову «жертвы» к земле, и снизу взмахом руки, пытался накормить её изрядной порцией. Человек давился, кашлял, но обязан был проглотить. Всё это проделали и с нами. Мы были в благодушном настроении, и не смогли отбояриться от этого «наказания». В Самарканде мы рисовали на базаре и писали пейзажи с историческими развалинами. В Бухаре незадолго до нашего приезда случилось землетрясение, обвалившее часть фасадов мечетей. На земле валялись красивые обломки голубой глазурной облицовки. И мы стали собирать эту восхитительную бирюзу.

«Самарканд», гуашьВ этот момент Володя Перцев обратил внимание на высокого сутулого человека, наблюдавшего за нами. Он подошёл ближе, и у нас завязался разговор. Мы поняли, что этот человек большой знаток Востока и, несомненно, наш соотечественник. Я спросил его, не знает ли он Юренева. Он удивился, но ответил положительно, и поинтересовался, откуда нам известна эта фамилия. В его интонации замечалась некоторая подозрительность, но узнав, что мы от Бочарова, признался, что он и есть Юренев. Жил он в Бухаре, что называется, на птичьих правах. Рассказывал о себе мало, не вдаваясь в подробности. Руководство района им не интересовалось, жил в какой-то комнатёнке без двери, питался за счёт подаяния. Местные жители относились к нему как к дервишу, часто обращались за юридическими, медицинскими и прочими советами, уважали его. Он был, видимо, достопримечательностью Бухары. Генрих передал для него трубочный табак. Юренев принял подарок с печальной улыбкой: оказывается, он недавно бросил курить. Он пригласил нас «к себе». Его жилище оказалось каким-то углублением в стене медресе, действительно без двери, за занавеской. Имущества не было, если не считать тюфяка у стенки и ящиков, на которые нам было предложено присесть. Он полулежал на своём тюфяке, поглаживая приблудного котёнка, и рассказывал нам об истории отношений Бухарского эмира к России и царскому правительству; показывал старинные (XVII века) бронзовые чернильницы русских дьяков, которые он где-то обнаружил, доказывающие, по его мнению, древние связи наших стран. Мы стали часто захаживать к нему по вечерам, приносить с собой кое-какое угощение и слушать его рассказы. Времена были уже, как говорила Анна Ахматова, вегетарианские. Мы спросили, не собирается ли он обратно в Россию, ведь в Москве у него был брат — кинематографист, которого мы часто видели на экране телевизора, но Юренев ответил, что привык к своей бухарской жизни и менять её не намерен. С гостиницей в Бухаре тоже ничего не вышло; бухарские власти предложили нам разместиться в школе, разорённой по случаю капремонта. Там, среди разгрома и мусора, мы обнаружили железные кровати с пружинными сетками; при этом рамы в оконных проёмах отсутствовали, а непуганые мыши бегали под ногами.

Девушка из БухарыМы повесили наши рюкзаки повыше на стены, однако ночью голодные мыши бегали по нашим спинам и даже пытались прыгать вверх, чтоб достать до рюкзаков, где хранились остатки московской копчёной колбасы. Нас вдохновила необычность, своеобразие местного быта. Рисовали мы взахлёб, соревнуясь друг с другом. С утра мы расходились в разные стороны, работали весь день. Собирались вечером где-нибудь в харчевне или чайхане, показывая свой дневной «улов». Как-то раз мы набрели на цыганское поселение в глубоком овраге. Тут был свой особенный быт. Потом, по пути нам попался еврейский квартал. Одного старого бухарского еврея мы с большимтрудом упросили нам позировать, пообещав ему подарить его портрет. Он неохотно согласился. Правда, он подумал, что мы его сфотографируем, и это произойдёт быстро, но трудно описать его разочарование и досаду, когда мы заставили его сидеть около часа неподвижно. К сожалению, нам не хватило времени, чтобы закончить портрет, и мы попросили его продолжить позирование на следующий день. Но на другой день мы застали его «больным», лежащим под одеялом. Однако после долгих уговоров, он всё-таки нам уступил, и вылез из-под одеяла… в сапогах.

КаракалпакВезде мы искали узбекскую народную керамику, но в основном попадались только скучные однотипные фабричные изделия. На наши вопросы нам отвечали, что промысел этот давно зачах, что Узбекистан давно перешёл на фабричный стандарт, но возможно, где-то в провинции ещё что-то можно обнаружить, и нас направили в «захолустье» — в Янгиарыкский район. Добравшись до района, мы узнали, что единственный магазин, когда-то торговавший подобными изделиями, закрылся, а непроданный товар хранится на складе. Мы проявили настойчивость, нашли склад и кладовщика, открыли помещение, и были вознаграждены за своё упорство. В тёмном сарае на полу была навалена груда тарелок, стоявших одна на другой. Наконец мы нашли именно то, что нужно. Это живое рукоделие поразило нас тонкостью работы и большим разнообразием. Среди утвари не нашлось двух одинаковых тарелок, они отличались друг от друга орнаментом, мотивом, размером, формой и даже цветом. Тут были и средние тарелки под плов, и маленькие пиалы, и огромные блюда для торжественных случаев. Чаще всего в основе украшения блюда использовались крестообразный орнаментальный узор и круговое бортовое украшение. Но помимо орнаментов иногда попадались и изображения (очень условные) рыб и даже пауков.

Из домашней коллекции керамикиМы набрали много керамики. Стоило это очень дёшево, кое-что — бесплатно. Но встал вопрос — как хрупкую посуду доставить в Москву. В этом нам помогли, дали ящики и много хлопка для сохранности. Разложив тарелки по ящикам, с трудом перенесли их на почту, и отправили в столицу медленной скоростью. Вернувшись в Москву, мы около месяца ждали ценный багаж. И из тридцати тарелок разбилась только одна, что не могло нас не порадовать. Последним крупным городом Узбекистана на нашем пути была Хива. Здесь мы задержались до ноября. Город находится в стороне от европейской цивилизации, поэтому он наиболее полно сохранил свои средневековые черты. В то время стояла ясная солнечная погода. В пейзаже была видимость жаркого лета, но в действительности было уже прохладно, а по ночам температура опускалась до отрицательных значений. Огромные многовековые деревья стояли в ржавой бронзе. Красота поразительная. Мечети и отдельные столбы минаретов создавали причудливый силуэт на фоне почти прозрачного неба. Дома, сросшиеся друг с другом боковыми стенками, смотрели на нас тёмными нишами с одной резной колонной посередине в виде буквы «Т». Множество разных саманных перегородок — всё это переплеталось в затейливом ритме.

Узбекские гончарыКак ни странно, керамический промысел здесь процветал, а фабричный фаянс был в дефиците. На базаре можно было свободно купить любую глиняную посуду, украшенную голубым рисунком. Мы сразу познакомились с местными мастерами-керамистами. Эти мастера подразделялись на тех, кто создаёт тарелки на гончарном круге, и тех, кто потом эти тарелки расписывает и обжигает. Один из них, по имени Малдарбек, приютил нас в своём доме. Он оказался «художником». У него во дворе стояла печь, которую разжигали только по мере надобности, перед большим базарным днём. Наш хозяин жил в довольно просторном жилище вдвоём с женой. Это была бездетная пара. В таких случаях на Востоке мужчина может взять в жёны вторую жену, поскольку для них престижно иметь много детей. Но Малдарбек смирился с отсутствием детей. Он был к нам очень расположен, кормил вкусно, при этом денег не брал, поскольку чтил Коран. Мы писали и рисовали весь световой день и возвращались к Малдарбеку уже под вечер. Рассаживались на войлочных кошмах, пили чай и вели долгие разговоры с любезным хозяином, который расспрашивал нас о Москве всё больше с коммерческим уклоном. Предметом его интересов была фаянсовая чайная посуда. Он предлагал нам заняться бизнесом. В Хиве этот предмет был почему-то в большом спросе. Его тихая и скромная жена ухаживала за нами за столом, но ни в трапезе, ни в беседах не участвовала.

Хива. ОсеньНаконец настал день, когда растопили гончарную печь, и начали расписывать тарелки. Краска была коричневая, но нас предупредили, что после обжига рисунок приобретёт голубой цвет. Всю посуду красили только в один цвет. Малдарбек с приятелем-подмастерьем взялись за работу; обмакнув кисть с длинным ворсом в плошку, мастера создавали узор в ложе блюда и орнамент по краям. Большого разнообразия мы не заметили. Менялись варианты только крестообразного цветка. Мы захотели попробовать свои силы в этом искусстве. Нам великодушно разрешили. К сожалению, ничего путного ни у одного из нас не получилось. Всё, что мы изобразили, оказалось чуждо и неорганично данному жанру. Однако хозяева обожгли и наши тарелки.

Малдарбек с подмастерьемВ день отъезда мы расстались большими друзьями. Обменялись адресами, обещали писать друг другу. Правда, Малдарбек был не силён в русской грамоте. Из Москвы я отправил ему посылку с фаянсовым набором чайников и пиал. Посылку он получил, и в ответ написал, что одного набора мало и он ждёт от меня большую партию. На следующий год, летом, он проездом был в Москве; но не застал меня в квартире (в это время я жил на даче). Через несколько дней мне пришлось заехать домой, и я обнаружил на ручке своей двери большую дыню в оплётке и записку с сожалением, что встреча не состоялась.
Воспоминания о Седневе
В советское время все мы, члены Союза художников, могли бесплатно отдыхать и работать в домах творчества. Их было несколько: Сенеж, Челюскинская, Паланга, Дзинтари, Гурзуф, Хоста. Осенью 1980 года Владимир Перцов позвал всех нас в украинский Дом творчества в Седнев Черниговской области. На этот призыв откликнулись Владимир Чапля и я. На Украине я не бывал с детства, а на Северной Украине — никогда. Сентябрь и октябрь 1980 года были ясными и тёплыми. Очарование и блаженство — украинская осень. Тепло, но не жарко, в воздухе золотится тонкая паутинка, под яблонями ковёр падалиц, божественные запахи фруктов, увядающих трав. Река Снов плавно катит свои воды в Припять, рыбаки в резиновых высоких сапогах стоят со своими спиннингами почти по пояс в воде. Гуси гуртятся, забывая, что они домашние, готовятся к дальнему перелёту. Однажды солнечным утром я с удивлением наблюдал, как огромная их стая тяжело поднялась в воздух, они сделали большой круг над рекой, но вскоре поплюхались в воду, не в силах бороться с набранным за лето весом. Я тогда работал над повестью Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», делал чёрно-белые перовые иллюстрации для издательства «Детская литература». Работа уже шла к концу, я предполагал, что за эти два месяца смогу закончить её. Рука за долгие месяцы работы привыкла к туши и перу и, хотя глаза видели в Седневе тонкий и своеобразный осенний колорит, я почему-то акварель так и не распаковал, а начал с увлечением работать пером с натуры.
В этом заезде в Доме творчества были две группы: живописная и книжно-графическая. Последней руководил Георгий Якутович. Он тут был со всем своим семейством: женой Асей и двумя сыновьями. И Ася, и сыновья — тоже художники. Старший — Сергей — талантливый иллюстратор, а младший — юный начинающий живописец. Этот юноша, окружённый родственной и всеобщей любовью, казался святым. Работал он неистово и делал заметные успехи. По развитию он был кристально наивен, но с удивительно верными и ясными моральными суждениями. Например, о Печорине он отзывался как об очень плохом, злом человеке и недоумевал, почему автор назвал его «героем». И с этой его, хоть и наивной, прямолинейной оценкой трудно было не согласиться.
Мы с Чаплей были новыми людьми в среде украинских художников, людей, много лет знающих друг друга. Видимо, поэтому к нам чувствовался особый, доброжелательный интерес. Кроме того, я в те годы играл на гитаре и пел песни Высоцкого и Окуджавы, старинные русские романсы, а такие поющие люди часто становятся особо ценными для компании.
Пения в этот заезд было с избытком — пения и застолий. Даже без учёта многочисленных дней рождения водка на обеденных столах не переводилась. Её и в обычные дни пили, и без поводов: просто от хорошего самочувствия и ради дружества.
Главной певуньей с украинской стороны была Лариса Иванова. Какая она была художница, я так и не узнал, ибо она почему-то не показывала своей работы, но народные украинские песни она пела задушевно и мастерски.
У нас, в России, художественная богема редко поёт народные песни, а на Украине это очень принято.
Песен украинских было много, и не только мне известных. Полный смысл их текстов от меня ускользал, но мелодии и манера исполнения завораживали.
Жили мы рядом с очень сильными украинскими мастерами и редакторами издательств «Дніпро» и «Веселка» — такими как Николай Пшинка, Николай Компанец, Александр Данченко, Слава Дозорец, Сергей Якутович…
Георгий Вячеславович Якутович — руководитель группы, очень авторитетный и умный человек, блестящий художник. Однако наши постоянные застолья сильно отразились на его в то время уже пошатнувшемся здоровье.
Рядом в живописной группе руководитель (не помню его фамилии), живой и активный человек, приводил к нам на двор из ближайшего хозяйства лошадей, запряжённых и распряжённых, для рисования с натуры.
Мне тоже было полезно порисовать лошадей, внимательно изучить упряжь и устройство телеги.
Рисовали местных крестьян, каких-то девиц и друг друга.
Ходили пешком и ездили мы далеко за пределы нашей усадьбы. Соседние сёла выглядели вполне зажиточными и ухоженными, чего нельзя сказать о нескольких храмах, стоявших в полном небрежении, полуразрушенными. На крышах некоторых при отсутствии жести меж рёбер стропил росли кусты и целые деревца.
Одна церковь, деревянная, впрочем, была хоть и закрыта, но цела. Мне сказали, что Параджанов в ней снимал «Тени забытых предков».
Заходили мы в хаты, которые показались мне светлее, веселее и чище наших подмосковных домов. Видели мы и народную роспись в интерьерах, и рушники над иконами в красном углу. Я раньше думал, что рушник — это полотенце. Оказалось, что это весьма длинные полотнища, иногда более двух метров, расписные или вышитые, с пристрочкой кружев, и служат они не для вытирания рук, а для украшения хаты. Ими украшали даже кресты на кладбище.
Я тогда работал над повестью Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», делал чёрно-белые перовые иллюстрации для издательства «Детская литература». Работа уже шла к концу, я предполагал, что за эти два месяца смогу закончить её. Рука за долгие месяцы работы привыкла к туши и перу и, хотя глаза видели в Седневе тонкий и своеобразный осенний колорит, я почему-то акварель так и не распаковал, а начал с увлечением работать пером с натуры.
В этом заезде в Доме творчества были две группы: живописная и книжно-графическая. Последней руководил Георгий Якутович. Он тут был со всем своим семейством: женой Асей и двумя сыновьями. И Ася, и сыновья — тоже художники. Старший — Сергей — талантливый иллюстратор, а младший — юный начинающий живописец. Этот юноша, окружённый родственной и всеобщей любовью, казался святым. Работал он неистово и делал заметные успехи. По развитию он был кристально наивен, но с удивительно верными и ясными моральными суждениями. Например, о Печорине он отзывался как об очень плохом, злом человеке и недоумевал, почему автор назвал его «героем». И с этой его, хоть и наивной, прямолинейной оценкой трудно было не согласиться.
Мы с Чаплей были новыми людьми в среде украинских художников, людей, много лет знающих друг друга. Видимо, поэтому к нам чувствовался особый, доброжелательный интерес. Кроме того, я в те годы играл на гитаре и пел песни Высоцкого и Окуджавы, старинные русские романсы, а такие поющие люди часто становятся особо ценными для компании.
Пения в этот заезд было с избытком — пения и застолий. Даже без учёта многочисленных дней рождения водка на обеденных столах не переводилась. Её и в обычные дни пили, и без поводов: просто от хорошего самочувствия и ради дружества.
Главной певуньей с украинской стороны была Лариса Иванова. Какая она была художница, я так и не узнал, ибо она почему-то не показывала своей работы, но народные украинские песни она пела задушевно и мастерски.
У нас, в России, художественная богема редко поёт народные песни, а на Украине это очень принято.
Песен украинских было много, и не только мне известных. Полный смысл их текстов от меня ускользал, но мелодии и манера исполнения завораживали.
Жили мы рядом с очень сильными украинскими мастерами и редакторами издательств «Дніпро» и «Веселка» — такими как Николай Пшинка, Николай Компанец, Александр Данченко, Слава Дозорец, Сергей Якутович…
Георгий Вячеславович Якутович — руководитель группы, очень авторитетный и умный человек, блестящий художник. Однако наши постоянные застолья сильно отразились на его в то время уже пошатнувшемся здоровье.
Рядом в живописной группе руководитель (не помню его фамилии), живой и активный человек, приводил к нам на двор из ближайшего хозяйства лошадей, запряжённых и распряжённых, для рисования с натуры.
Мне тоже было полезно порисовать лошадей, внимательно изучить упряжь и устройство телеги.
Рисовали местных крестьян, каких-то девиц и друг друга.
Ходили пешком и ездили мы далеко за пределы нашей усадьбы. Соседние сёла выглядели вполне зажиточными и ухоженными, чего нельзя сказать о нескольких храмах, стоявших в полном небрежении, полуразрушенными. На крышах некоторых при отсутствии жести меж рёбер стропил росли кусты и целые деревца.
Одна церковь, деревянная, впрочем, была хоть и закрыта, но цела. Мне сказали, что Параджанов в ней снимал «Тени забытых предков».
Заходили мы в хаты, которые показались мне светлее, веселее и чище наших подмосковных домов. Видели мы и народную роспись в интерьерах, и рушники над иконами в красном углу. Я раньше думал, что рушник — это полотенце. Оказалось, что это весьма длинные полотнища, иногда более двух метров, расписные или вышитые, с пристрочкой кружев, и служат они не для вытирания рук, а для украшения хаты. Ими украшали даже кресты на кладбище.
 На ярмарке, которую посетили вскоре, мы накупили этих рушников в Москву, для подарков и натюрмортов.
Недалеко от нас находилось имение Лизогубов (мы застали там музей, постоянно закрытый), весьма своеобразной архитектуры.
Седнев расположен меж невысоких холмов, подходящих к плоской пойме реки Снов. Река эта неширокая, но полноводная и довольно быстрая. Я не рискнул в неё залезть, а Чапля смело плюхнулся, разогнав уток, но вскоре выскочил: вода холодная. Кстати, Чапля — украинская фамилия, по-русски — это цапля.
На ярмарке, которую посетили вскоре, мы накупили этих рушников в Москву, для подарков и натюрмортов.
Недалеко от нас находилось имение Лизогубов (мы застали там музей, постоянно закрытый), весьма своеобразной архитектуры.
Седнев расположен меж невысоких холмов, подходящих к плоской пойме реки Снов. Река эта неширокая, но полноводная и довольно быстрая. Я не рискнул в неё залезть, а Чапля смело плюхнулся, разогнав уток, но вскоре выскочил: вода холодная. Кстати, Чапля — украинская фамилия, по-русски — это цапля.
 По воскресеньям из Киева приезжали родственники и друзья и возобновлялось приутихшее было пьянство.
Столовая превращалась в банкетный зал. Никто, конечно, в такие дни не работал. Начиналась суета, приготовление столов, на которые выставлялись привезённые изысканные яства и выпивка.
Хотя пока трудно было обнаружить какие-либо достижения в нашей работе, но похвалы и поощрительные оценки выдавались, так сказать, авансом. Тосты провозглашались один за другим и один другого пьяней.
По воскресеньям из Киева приезжали родственники и друзья и возобновлялось приутихшее было пьянство.
Столовая превращалась в банкетный зал. Никто, конечно, в такие дни не работал. Начиналась суета, приготовление столов, на которые выставлялись привезённые изысканные яства и выпивка.
Хотя пока трудно было обнаружить какие-либо достижения в нашей работе, но похвалы и поощрительные оценки выдавались, так сказать, авансом. Тосты провозглашались один за другим и один другого пьяней.
 Я тоже посмел отличиться.
Когда до меня дошла очередь «тостовать», я под влиянием, оказанным на меня хорошей погодой, поэтичностью местной природы и прочего, сказал, что река Снов воспринимается мною с новым смыслом: река снов (сновидений). Этим я всех удивил. За долгие годы местные люди употребляли эти слова лишь в одном, обычном их значении. Затем я прочёл несколько своих стихотворений, сложенных накануне. Одно из них — «Журба», вариант часто певшейся песни на стихи Леонида Глибова:
Я тоже посмел отличиться.
Когда до меня дошла очередь «тостовать», я под влиянием, оказанным на меня хорошей погодой, поэтичностью местной природы и прочего, сказал, что река Снов воспринимается мною с новым смыслом: река снов (сновидений). Этим я всех удивил. За долгие годы местные люди употребляли эти слова лишь в одном, обычном их значении. Затем я прочёл несколько своих стихотворений, сложенных накануне. Одно из них — «Журба», вариант часто певшейся песни на стихи Леонида Глибова:
Заметки о книжной иллюстрации
Об иллюстрировании классики
На моей последней выставке ко мне подходили зрители и спрашивали, как делаются иллюстрации. Некоторые интересуются, откуда я срисовываю. Они недоумевают, когда я говорю, что ниоткуда не срисовываю, а рисую по воображению. Эта статья — ответ таким зрителям и читателям. В изобразительном искусстве существуют художники двух типов: одни рисуют то, что видят, другие — то, что воображают. Это не значит, что у первых отсутствует воображение, а вторые игнорируют натуру. Просто речь идёт об их специализации, и вовсе не значит что одни хорошие, а другие плохие. И те и другие могут быть гениальными. Художниками первого типа можно считать Жана Батиста Симеона Шардена, Джорджо Моранди, импрессионистов; портретистов Валентина Серова, Франса Хальса и т. д. Это по преимуществу рисовальщики с натуры. К мастерам второго типа относятся, к примеру, все те, для кого толчком к возникновению образа чаще всего является литература. Это может быть чужой текст или свой собственный. Речь идёт о сюжетных композициях. Таких мастеров много. К примеру — все, кто избрал для себя библейские сюжеты. Перечислять их нет смысла. Это и есть, по существу, иллюстраторы. В мозгу иллюстратора почти непроизвольно откладываются жизненные впечатления в совершенно конкретном виде и хранятся там всю жизнь. Когда у него появляется потребность изобразить какую-то сцену, он профессионально включает воображение, и оно само извлекает из памяти запасы впечатлений и конструирует из них жизнеподобные композиции. Это таинственное свойство в сильной степени присуще художникам второго типа. Хорошими иллюстраторами редко становятся, чаще — рождаются. Мало вызвать в воображении конкретную жизненную ситуацию. Эту сцену нужно ещё умело и убедительно перенести на бумагу. Иллюстратор должен хорошо рисовать без натуры. Этому невозможно научить. Эта способность обычно бывает дана человеку от природы.
Что же такое книжная иллюстрация? Мне представляется, что литература — это искусственная жизнь, идущая рядом с подлинной жизнью и объясняющая последнюю. Иллюстрация — это тоже искусственная жизнь, идущая рядом с литературой, дополняющая последнюю; и чем при этом иллюстрация ближе к подлинной жизни, тем она лучше. Побудителем возникновения образа в голове иллюстратора всегда является литературный текст, а дальше — воображение. Каких правил, на мой взгляд, необходимо придерживаться в работе над классическим текстом? Я полагаю, что прежде всего художник должен быть профессионально состоятельным и культурным человеком. Он должен основательно знать исторический материал о том времени, с которым он собирается иметь дело. Во-вторых, необходимо уважать автора-классика. Он, без сомнения, — хозяин книги. Роль художника вторична. Его вклад в произведение должен идти в унисон с текстом.

В Польше, 1979 г.Чаще всего бывает, что классическое литературное произведение уже иллюстрировалось, а порой и не раз, прежде чем попасть на стол к современному иллюстратору. Естественно, отношение к историческому произведению со временем меняется, но не настолько, чтоб чёрное становилось белым, и уважение к автору должно быть обязательным, иначе не стоит за таковое произведение браться. Поэтому я считаю, что и современная иллюстрация должна быть адекватна своему литературному источнику. Считается, что художник обладает правом на свою трактовку произведения литературы. Считается также, что художника следует судить по законам, им самим для себя принятым. И это справедливо. Кроме того, необходима новизна, иначе работа не будет иметь интереса у нового потребителя. Всё это так, но и от общих законов восприятия никуда не денешься. Художественные достижения некоторых наших предшественников так значительны, что, я думаю, современный художник едва ли сможет что-либо добавить. Например, никто не возьмётся после Михаила Врубеля иллюстрировать «Демона» или после Евгения Лансере — «Хаджи-Мурата». За «Дон Кихота» после Доре брались многие, но просто варьировали созданный им образ. В сущности, мы создаём некие «ремейки», смысл которых в том, чтобы выразить современное отношение к классическому тексту. Но для этого необходимы новые оригинальные идеи. Кардинальным образом «осовременивать» классику удаётся немногим (Геннадий Калиновский, Андрей Костин). Вот в театре и кино это стало обычным делом. Чего добивается добросовестный иллюстратор, берущийся за историческую тему? Прежде всего — убедительного воссоздания духа исторической атмосферы классического произведения.

В литографической мастерской, 1970 г.Когда художник решит, что он готов во всеоружии всяческих познаний приступить к иллюстрированию, тут он порой надолго задумывается и медлит браться за кисть. Ведь совсем не всё равно, кто перед тобой: Карамзин или Пушкин, Гончаров или Тургенев, Толстой или Диккенс. На этом этапе необходимо избрать особый подход к данному автору (систему, стиль), и это очень непростой момент. Это могут немногие. Обычно художник по свежему впечатлению от чтения начинает рисовать. Убедившись, что заехал не туда или впал в банальность, он рвёт эскизы, переводит много бумаги, идёт ощупью, пока не натолкнётся случайно на некое более-менее приемлемое решение. На этом пути его подстерегают капканы. Если он пользуется как материалом искусством прошлого времени, то одним из капканов может стать стилизаторство. Очень легко поддаться искушению взять напрокат чужую художественную форму. Часто это происходит непроизвольно. Это особенно опасно для тех, кто не очень силён в своём фирменном стиле или же слишком гибок и податлив на разные сомнительные соблазны. Обычно, прожив большую и успешную жизнь с благодарным признанием современников, пережив заслуженный успех и даже славу, перейдя за пределы своей эпохи, мастер тихо доживает иной раз в полном забвении. Он не может измениться в угоду новым веяниям, порой даже страстно желая этого. У меня на памяти два примера успешной эволюции моих современников. Это Дмитрий Митрохин и Моисей Фейгин. Есть мастера — их очень мало, — которые приходят в искусство со своей философией и очень рано становятся на собственный путь. Есть другие — их больше, — которые вырабатывают свой язык годами. Есть иллюстраторы — имя им легион, — которые до конца не могут выбиться из русла заимствований, модной суеты и рутины. Митрохин, например, порвав со своим ранним стилем, создал свои лучшие вещи лишь на девятом десятке. Будучи вполне известным мирискусником, он почувствовал закат этого направления к концу 1920-х годов и, как можно подумать, глядя на его новую манеру, — сломался. Он коренным образом изменил свой стиль чёткой аппликативной силуэтности и «чистописания». У него появилась спонтанность, случайность, необязательность. Его рисунок стал как бы неумелым, небрежным. Но эта новая его манера не пришлась ко двору новому насаждаемому реализму. Однако мастер оставался верен своей идее, хотя долгий период, будучи недоволен собой, упорно совершенствовал свой метод, пробуя различные графические техники. Но самое удивительное произошло с ним в последнее десятилетие его долгой жизни. В своём болезненном отшельничестве, годами не выходя из убогой квартирки, он набрёл на третью свою манеру — остро декоративного и сугубо камерного рисунка, сродни китайской гравюре XVIII века. И это чудесным образом совпало со вкусом нового времени. Так он, умирая в 90 лет, познал настоящую славу. Фейгин был в 1930-е годы логическим последователем своего учителя Александра Осмёркина. С начала Великой Отечественной войны и до конца её прослужил в армии. За это время его довоенная живопись пропала — кажется, сгорела вместе с мастерской. Вернувшись, он начал с пустого места в духе вроде бы соцреализма, но с отвращением и без успеха. Ради хлеба насущного ему приходилось даже делать портреты вождей «сухой кистью». Но в хрущёвское время, после посещения американской выставки в Сокольниках, у него открылось новое зрение и появился новый смысл существования. Его живопись приобрела характер полупредметной абстракции. Он придумывал ограниченное количество литературных сюжетов: Арлекин, Чарли Чаплин, Дон Кихот, цирк. Но эти сюжеты не имели серьёзного значения, а просто были поводом к цветовой абстракции. Обретя таким образом полную свободу, он смог наслаждаться самим живописным процессом. Лучшие его работы, на мой взгляд, возникли в самом конце его сверхдолгой (104 года!) жизни, когда он на миг вернулся к серьёзному сюжету: написанные по памяти портреты родителей. Недавно его выставка с успехом прошла в Музее частных коллекций. Его живопись продаётся на аукционе «Кристи».

Моисей ФейгинЯ вспомнил об этих людях, ибо сам подошёл к серьёзному возрастному рубежу, но со мной подобной эволюции не случилось. Моя молодость и становление прошли в 1950–60-х годах прошлого века в разгар «социалистического реализма». Я наблюдал и учился у художников старшего поколения: Евгения Кибрика, Бориса Дехтерёва, Дементия Шмаринова, Владимира Лебедева, Владимира Конашевича, Алексея Лаптева, Давида Дубинского, Владимира Фаворского, Михаила Родионова и др. Сейчас художников моего поколения осталось несколько человек: Николай Устинов, Анатолий Елисеев, Владимир Винокур, Виктор Чижиков, Герман Мазурин. С возрастным интервалом в 10–15 лет возникла новая формация художников. Нынче они уже не молоды, некоторых уже нет, но как явно они отличаются от нас! Это Валерий Васильев, Александр Кошкин, Михаил Фёдоров, Александр Антонов, Андрей Костин. Их работы мне очень нравятся. Мне импонирует их свобода от многих канонов, весёлый скепсис и ирония, постоянный гротеск. Однако вставать на эти рельсы я не хочу, да и не могу, честно говоря. Моя продукция пока имеет спрос. Думаю, нужно честно делать своё дело пока есть силы, пока глаза глядят, руки действуют, голова работает. Часто удача приходит не в результате усилий, а в виде некоего озарения, логически труднообъясняемого. Для разных литературных жанров появляются особые иллюстраторы. Абсолютно универсальных художников почти не бывает. Я вспоминаю, пожалуй, только одного — Владимира Лебедева. Этот мог всё: и сказки, и стихи, и о животных, и о предметах быта. В научно-популярном жанре работали многие мастера в 1920–30-х годах. Они создали свой определённый стиль. В моё время были серьёзные достижения в этом жанре у Бориса Кыштымова, Ильи Кабакова, Леонида Нижнего. Их работы, помимо научных познаний, содержат особую эстетику. Особый жанр — анималистика. Здесь специализация серьёзная. Василий Ватагин, Алексей Комаров, Евгений и Никита Чарушины, Георгий Никольский. Эти мастера особого таланта и выучки, всю жизнь положили на изучение природы, животных. Их умение настолько специфично, что изображать человека они избегали. Вообще я высоко ценю знатоков и умельцев в любом жанре. Очень непросто иллюстрировать поэзию. Обычно художники ограничиваются украшениями в виде цветочков, листочков, птичек или по примеру XIX века придумывают забавные политипажи. Лирическая поэзия не требует капитальных полосных иллюстраций. Даже роман в стихах «Евгений Онегин», на котором попробовали себя многие мастера, особую популярность имел в оформлении Николая Кузьмина с его лёгкими перовыми рисунками на полях в духе рисунков самого Пушкина. Замечательны ксилографии Фаворского к стихам Роберта Бёрнса. Стихотворные произведения эпического жанра дают, конечно, возможность художнику развернуть весь свой арсенал. Несколько слов стоит сказать о фантастике. В этом жанре открывается широкое поле для всяческих чрезмерностей. Он просто требует особой эксцентрики. Здесь есть где разгуляться буйной изобразительной фантасмагории. Но и в этом деле, как и в прочих жанрах, необходимо не выходить за границы художественного вкуса. Моя юность пришлась на суровые военные годы. Эвакуация сорвала меня с насиженного привычного места и лишила условий обычного типового развития юноши. Приключенческая литература, благотворно влияющая на такое развитие, к сожалению, обошла меня стороной. Я не прочёл в нужном возрасте всего комплекта такой литературы: Майн Рида, Александра Дюма, Вальтера Скотта, Роберта Стивенсона, Фенимора Купера, Жюля Верна и др. Случайно я прочёл лишь «Отверженных» Виктора Гюго в 11 лет и «Завещание чудака» Жюля Верна. Мне пришлось наверстать это упущение уже будучи взрослым, когда эмоциональное воздействие такого чтения значительно ослабевает. Теперь я видел общий для всех этих авторов сюжетный шаблон: в борьбе добра со злом обязательно участвуют выдуманный простодушный юноша и коварный злодей на фоне исторической, географической или научной экзотики. Однако я понимал, что это, вопреки своей простоватости, безошибочно воздействует на юношеское воображение. А поскольку мне пришлось ещё и иллюстрировать эту малую литературу, я, понимая нужность, полезность и популярность её во все времена, отнёсся к этому делу серьёзно. Начиналось всё с «Айвенго» Вальтера Скотта, заказанного мне немецким издателем Шнайдером; потом — «Принц и нищий» Марка Твена и «20 000 лье под водой» Жюля Верна. Поскольку эти издания имели известный успех, мне стали заказывать эту приключенческую классику и в России. Постепенно я стал вроде бы специалистом в этом жанре. Я убеждён, что новизна, новое прочтение классики необходимы, но я также убеждён, что, иллюстрируя классику, современный художник, помимо обновления взгляда на её предмет, должен сохранить аромат её родового времени. Иначе это её сильно обеднит или вообще превратит в новое, независимое произведение на ту же классическую тему. Поэтому мне представляется вполне законным, если, скажем, в иллюстрациях к Роберту Стивенсону или Жюлю Верну, современный художник сохранит что-то от Брока или Уайетта-старшего. В таких случаях поддержание традиций, по-моему, не возбраняется. Трудно не согласиться с Михаилом Леоновичем Гаспаровым, который сказал, что поэзия, на 100 % лишённая новизны, — плохая литература; поэзия, на 100 % лишённая традиций, — вообще не литература; хорошая литература должна быть на 50 % новой и на 50 % — традиционной. Это, на мой взгляд, полностью относится и к иллюстрации. Новизной ради новизны отличается современный театр. Опера как жанр имеет в своей литературной основе мелодраму. Поэтому Пётр Ильич Чайковский, задумавший писать оперы на темы Пушкина, пригласил своего брата сделать из романа «Евгений Онегин» и из повести «Пиковая дама» удобные для оперы либретто. Модест смело вмешался в пушкинский замысел. У Пушкина Герман не любил Лизу, он использует её лишь в целях своей страсти к обогащению. У Модеста — любовная драма. Иначе не было бы оперы. Не случайно на афише опер Чайковского нет имени Пушкина, а время действия перенесено из XIX-го в XVIII век. Современные обновители «устаревающих», по их мнению, опер применяют кардинальные изменения в сюжетах, при этом оставляют в неприкосновенности партитуру. И получается вопиющая нелепость. Недавно ушедший совсем молодым замечательный художник Андрей Костин дал смелые примеры современной трактовки классики. Его иллюстрации к «Избранному» Гофмана очень выразительны. Совершенно неожиданно решение «Детства» Льва Толстого. Это почти упрощённый линейный рисунок, некий минимализм. Казалось, психологизм автора требует чего-то более основательного, но Костин всё упростил, и это, как ни странно, убеждает. Он, видимо, попытался в своём рисунке представить картину действительности как бы глазами маленького человека — отсюда упрощённость. А иногда он использовал низкий горизонт, как мог бы видеть маленький человек. Склонный к крайним экстравагантным фокусам модернизма, Костин, обращаясь к классике, проявляет уважение к авторам и переходит к реалистической манере рисования, хоть и модернизированной. Правда, его иллюстрации к «Евгению Онегину» мне кажутся сомнительными. Когда я вижу портрет Онегина с большим количеством различных голов на одной шее, это скорее не иллюстрация к роману Пушкина, а иллюстрация к критическому очерку Киреевского, где говорится о многоликости собирательного образа Онегина. Во всяком случае, эти работы Андрея Костина — несомненно свежее явление в работе с классическим текстом.
Возможен и чисто дизайнерский подход к книге. Можно воспринимать книгу как предмет искусства, как шкатулку, как вазу и стараться сделать этот предмет совершенным. Тогда внимание к содержанию книги заменяется вниманием к её полиграфической структуре: пропорциям, качеству набора, шрифтам, переплёту и т. д. Что ж, есть блестящие примеры такого подхода, но, к сожалению, часто такую работу исполняют мастера узкой специализации и иллюстрация не входит в сферу их интересов. Есть удачные опыты совместной работы иллюстратора и дизайнера. В старом «Детгизе» хорошие «подарочные» книги выходили в свет под двумя именами: художников-иллюстраторов и дизайнеров. Телингатер, Ильин, Лазурский, Фомина умели уложить картинки в стройную книжную систему. Позднее в издательстве «Малыш» и других издательствах выходили замечательные книжки для младшего возраста с иллюстрациями М. Митурича, Е. Монина, В. Лосина, В. Чижикова и др. в шрифтовом оформлении В. Перцова. Однако в идеале самое совершенное и органичное решение книги получается в том случае, когда и картинки, и шрифт исполняет одно лицо. Таковы, например, книги Фаворского или художников «Мира искусства». Надеюсь, что я подробно и добросовестно ответил тем читателям, которые интересовались, как делаются иллюстрации.
По поводу гротеска
В середине кровавого XX века, после смерти Сталина и развенчания его культа, общество постепенно стало приходить в себя, избавляться от тотального страха. Началась реабилитация невинно репрессированных, оклеветанных граждан. Стали печататься ранее запрещённые произведения литературы. Появилась плеяда новых молодых поэтов-протестантов, но это продолжалось не так уж долго. Власть напугало новое движение к свободе. Гайки вновь стали закручивать. Вновь протестанты перекочевали из залов на кухни. Гонения и преследования разоблачителей сталинского режима продолжались. Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Василий Гроссман, Юз Алешковский, Андрей Синявский, Юлий Даниэль, певцы Александр Галич, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий — всё это запрещалось, всему протестному не давали хода. Вспомним Хрущёва и его манежный разнос живописи, «Бульдозерную выставку». При Брежневе стало ещё хуже. Однако страха уже не было, джинн оказался выпущен из бутылки. Соц-арт, нонконформизм, концептуализм; Э. Булатов и Ю. Васильев, Комар и Меламед, И. Кабаков, Э. Неизвестный, Лианозовская группа и прочие. Вся культурная часть общества перешла к иронии, скепсису, насмешке, анекдоту, глумлению и прочим формам протеста. Союз доживал последние дни. С той поры ирония стала обязательной компонентой любого произведения искусства. Серьёзно что-то утверждать стало как-то неприлично. Даже уважаемые классики русской литературы подверглись ревизии. Этим особенно отличались театры. «Вишнёвый сад» на Таганке шёл уже с купюрами якобы «устаревшего» текста. Если некоторые места чеховского текста ещё не смели совсем опустить, то заменяли их мычанием или быстро и невнятно проговаривали. После похорон Союза ССР, при Ельцине, цензуру в искусстве упразднили, но ирония, насмешки, эпатаж остались. В изобразительном исполнении началась эпоха гротеска. Гротеск — это сознательное, волевое искажение форм действительности. Его применяют с целью и без цели. Я уважаю нацеленный гротеск. Он мне понятен и приемлем, когда художник с его помощью выражает чувство скепсиса, иронии, шутливости, комизма и пр., вплоть до ненависти и глумления. Иногда гротеск используется просто из озорства или по профессиональной привычке так реагировать на любое явление. Гротеском высшего порядка я считаю приём, содержащий не только остроумную метафору, но и особую художественную пластику, особый комический эффект, основанный на жизненном наблюдении, эффект жизненной правды.

Дружеский шарж Николая УстиноваПримером такого гротеска может служить творчество Оноре Домье. Он умел в своих карикатурах и шаржах подметить типичные черты характера персонажа. Его типы остросоциальны. Хотя мы порой не имеем иных изображений этих лиц, но всегда уверены, что они у него очень похожи и узнавались современниками с первого взгляда. Одновременно с Домье работали и другие карикатуристы, которые использовали приём, на мой взгляд, лишённый художественности. Это — огромная голова и маленькое тельце. Чаще всего эта голова копировалась с дагерротипа или фотографии весьма натурально. Может быть, в те времена это имело комический эффект. Такой приём используется до сих пор. Мне с подобной гиперболой трудно согласиться — мне не смешно. Это аттракцион низшего порядка — «комната смеха» на ярмарке. Помимо смеха хороший юмористический рисунок должен вызывать и положительное эстетическое переживание. В последнее время на выставках книжного искусства преобладают работы, созданные в тоне иронии, которая выражается средствами гротескного преувеличения, искажения и всяческой странности. Некоторые образцы граничат уже с сумасшествием. Причём часто литературный текст не даёт для этого повода. Кажется, что художник озабочен не иллюстрированием данного текста, а скорее показом своей личной оригинальности. Когда таких единицы, это ценится; но перебор подобных «ярких индивидуальностей» вызывает недоумение, а порой и отвращение.

Ника Гольц и Лев ДурасовКогда перед иллюстратором сатирический текст, он, естественно, должен действовать адекватно. В этом случае уместно искажение, гротеск, повышенная экспрессия и прочий арсенал иронии; но иногда видишь, как нелепо и претенциозно выглядит чрезмерный гротеск в иллюстрациях к вещам лирическим, где уместен лишь мягкий юмор.
Сейчас есть хорошие юмористы. Их мало (хорошего всегда мало). В. Чижиков, Г. Басыров, С. Тюнин. Некоторые в своей юмористике поднимаются до философских высот. По их работам в будущем, вероятно, будут судить об умонастроении наиболее умной, честной и оппозиционной части нашего общества. Гротеск вошёл в книжное искусство и главенствует в нём. И не только в фантастической литературе, где без него этот жанр вообще немыслим. Он присутствует почти везде, даже в классике, даже в тех случаях, когда текст произведения не даёт для этого повода. Всюду, к месту и не к месту, — едкая кислота иронии или скептическая ухмылка. Появилось какое-то фамильярное отношение ко всегда ценимым и уважаемым литературным именам. Часто попадаются пошлые смехачи и осовремениватели классического текста. Серьёзные художники, как правило, деликатно подходят к классическому тексту, и если и осовременивают его иногда, то делают это остроумно и талантливо. Таковы, например, иллюстрации Ники Гольц к Гофману, Геннадия Калиновского к Свифту и «Алисе» Кэрролла. Интересны работы Юрия Ващенко, Николая Попова, Андрея Костина и др. Эти мастера предлагают новые, не бывшие в употреблении приёмы трактовки классического текста.
От издательства
У признанного мастера книжной иллюстрации Анатолия Зиновьевича Иткина давно сложился свой особенный художественный стиль. Его классическому реализму не свойствен ни причудливый гротеск, ни чрезмерные эмоциональные излишества. Слагаемыми его успешного творческого пути являются правдивость, достоверность и выразительность созданных им художественных образов. Поэтому работы мастера и отличаются безукоризненной композицией и тщательной прорисовкой. Часто вдохновение приходит к художнику в тот момент, когда он начинает собирать материал для работы, погружаясь в атмосферу книги. Виртуозное мастерство Анатолия Иткина заключается в том, что он чутко улавливает авторскую интонацию. Его иллюстрации настолько живые и искренние, что позволяют читателю полностью погрузиться во внутренний мир автора. Анатолий Зиновьевич Иткин — один из выдающихся советских художников-иллюстраторов. К счастью для всех нас, солидный возраст художника не мешает ему активно сотрудничать со многими столичными издательствами. Только в нашем издательстве за последние три года вышло более 15 книг с иллюстрациями Анатолия Иткина. Интерес читателей и поклонников мастера к его творчеству по-прежнему весьма велик. В нашу редакцию приходили многочисленные письма с предложениями издать книгу, посвящённую продолжению воспоминаний известного художника, и в связи с этим, в издательстве созрел замысел издать книгу Анатолия Зиновьевича «Вдоль по памяти». Мы знаем, что есть ещё одна область, где художник черпает своё вдохновение, — это его детство, пропитанное запахом хвои и мандаринов, очиненного карандаша и типографской краски, медовым запахом одуванчиков и терпким запахом тополиной листвы. И начинается книга именно с воспоминаний о детстве, ведь его отголоски остаются у нас в памяти навсегда, и главное — не забыть о них. В книгу также вошли воспоминания о войне, эвакуации, многочисленных поездках по стране. Анатолий Иткин написал о своём поколении, друзьях-художниках: Евгении Монине, Вениамине Лосине, Геннадии Калиновском и дал оценку различным направлениям в искусстве. Воспоминания этого уникального художника проиллюстрированы фотографиями из семейного альбома, пейзажами, выполненными во время поездок по стране, портретами, станковыми литографиями и рисунками, созданными в разные годы творчества. Книга получилась оченьжизненной и светлой, с тонким юмором и лёгкой долей иронии, свойственной автору. Прочитав эту книгу, читатели с удовольствием вспомнят знакомые с детства книги с иллюстрациями Анатолия Иткина, выполненные в акварельной и графической технике. Это Жюль Верн и Александр Дюма, Марк Твен и Фенимор Купер, лирика и проза А. С. Пушкина, произведения А. Н. Толстого, поэзия М. Ю. Лермонтова, И. А. Некрасова, А. А. Блока. По словам яркой и талантливой художницы Ники Гольц, Анатолий Иткин «удивительно как-то вникает именно в того автора, именно в ту книгу, которую иллюстрирует в данный момент… Что касается культуры вообще, Анатолий Зиновьевич ею пропитан до мозга костей. И вкус, и культура — это его очень высокие качества. Но вот что меня всегда поражало — какая-то его ответственность, что ли. Он не может сделать плохо, он не может сделать небрежно, он не может сделать „чего изволите“». Анатолий Зиновьевич Иткин — член Союза художников СССР, Заслуженный художник России, лауреат множества конкурсов, его работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном музее А. С. Пушкина, в Центральном музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях России, Югославии, Израиля, США, Германии и Южной Кореи.Анатолий Иткин — знакомый и неожиданный
Все, кто любит читать, знают, как много значит то, в каком обличье впервые приходит к нам любимая книжка. Особенно это важно в детстве. Образ времени остаётся в книгах, а лицо книги определяет художник. Если постараться вспомнить хотя бы самые известные издания, которые в разные годы иллюстрировал Анатолий Иткин, получится не просто список хороших книг. Почти каждая из них была событием, а рисунки и даже обложки навсегда запомнились читателям. Судите сами: Александра Бруштейн, «Дорога уходит в даль» (1957); Михаил Ильин, «Воспоминания юнги Захара Загадкина» (1959); Алан Маршалл, «Я умею прыгать через лужи» (2-е изд., 1965); Булат Окуджава, «Фронт приходит к нам» (1967); Иван Ефремов, «Сердце Змеи» (1970); Ирина Пивоварова, «Рассказы Люси Синицыной» (1975), — и много других, столь же памятных. Ни одна из этих работ не похожа на другую; для каждой из них художник нашёл своё неповторимое решение, графическое воплощение замысла автора, внешности персонажей, передал даже атмосферу книги. Анатолий Иткин рано стал мастером. Рано определилась и одна из главных особенностей его таланта — умение «перевоплощаться» вместе с книжными героями; переноситься в разные времена и страны; менять стиль рисования в зависимости от жанра повествования и т. д. При этом все подробности быта, одежды, вооружения, пейзажа точно соответствуют эпохе и месту действия. Обладая такими возможностями, художник справился с задачей, которая была бы непосильна для другого, менее образованного и гибкого мастера. Он проиллюстрировал почти всю русскую классику, от Николая Михайловича Карамзина и Дениса Ивановича Фонвизина до Антона Павловича Чехова и Алексея Николаевича Толстого. Он сделал оригинальные и красивые рисунки к «Сказкам» Шарля Перро и «Волшебным сказкам Англии»; романам Вальтера Скотта «Айвенго» и «Квентин Дорвард»; повестям Марка Твена «Принц и нищий» и «Приключения Тома Сойера»; романам Фенимора Купера «Зверобой» и «Последний из могикан». К некоторым произведениям художник возвращался не раз, делая новые варианты для новых изданий (Александр Дюма, «Асканио»; Герберт Уэллс, «Человек-невидимка»). Иногда любимая работа целые десятилетия ждала публикации. Так было с иллюстрациями к роману Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени», ради которых Анатолий Иткин изучил Пятигорск и проехал по Военно-Грузинской дороге. Любимая техника Иткина — акварель и рисунок пером. Но как по-разному звучит акварель в его работах! В «Приключениях Оливера Твиста» Чарльза Диккенса острая лаконичная графика, подсвеченная синеватым или жёлтым, передаёт сумрак старого Лондона, подчёркивает жутковатые и комические положения героев. В иллюстрациях к романам Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и «Пятнадцатилетний капитан» — все оттенки синевы и белизны дышат морем; на далёком горизонте синеют горы и просветы неба среди облаков. Мягкие, слегка размытые контуры, рыжеватые тона, неяркий свет преобладают в картинках к повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова-внука», где жизнь течёт среди степей и лесов в согласии с природой. Через всю творческую жизнь художник пронёс любовь к Александру Сергеевичу Пушкину, окружению поэта и его эпохе. Началось всё с иллюстраций к книге Льва Рубинштейна «В садах Лицея» (1967). Потом возник удивительный цикл литографий, навеянный романом Юрия Тынянова «Пушкин». В конце 1960-х — 1970-е годы Иткин делает рисунки к «Дубровскому», «Капитанской дочке»; издается «Лирика» Пушкина и «Лирика» Петра Вяземского в его оформлении. Новой ступенью мастерства стали изысканные, слегка тонированные рисунки к «Прозе» Пушкина (2008). И, наконец, вышел роман в стихах «Евгений Онегин» с цветными акварелями Анатолия Иткина (2010). Едва ли не первым из известных художников Иткин обратился к прозе Тынянова. Повесть «Кюхля»; тонкие черно-белые рисунки к роману «Смерть Вазир-Мухтара» (консультантами были специалисты по Персии); остранённые композиции к «Подпоручику Киже» и «Малолетному Витушишникову», — это скромный подвиг художника, каких немало в творческой жизни мастера. Принципы его работы, которых он придерживается всю жизнь, — не стоит заниматься самовыражением, лучше постараться раскрыть текст. «Хозяин в книге — автор», — говорит художник. Возможно, именно потому, что Анатолий Иткин прислушивается к голосу писателя, ему удаётся совершать открытия. Новая жизнь началась для героев повестей Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце» и «Роковые яйца», когда их нарисовал Иткин (2015). Изумительное сочетание реализма и гротеска, разума и абсурда, смешного и страшного отражено в иллюстрациях и полностью соответствует стилю Булгакова. Внимательный читатель заметит кроме всего прочего и черты старой Москвы в новой столице середины 1920-х годов, которые мог найти и передать только человек, хорошо знающий историю города. Это знание и любовь проявились и в замечательной серии акварелей «Москва, которой нет» (2012). Город конца XIX — начала XX века, с его старинными особняками, церквами, пешеходами, извозчиками, булыжной мостовой, — глядит на нас с этих листов, как живой. Вот водонапорные башни на Ярославском шоссе; между ними по рельсам идёт конка — первый трамвай: один вагон, который везут две лошадки… Такой же трамвай в один вагончик, но уже электрический, ходил из центра Москвы в Останкино, бывшее когда-то пригородом. О своём детстве в деревянном доме, где жили в тесноте, да не в обиде; о друзьях-мальчишках, обо всей довоенной жизни, скудной и тревожной, но всё равно счастливой, рассказал Анатолий Иткин в первой части своей книжки «Детство в Останкине» (2010). Он сомневался, сможет ли продолжить разговор и вспомнить о войне, эвакуации, голоде… К счастью, это получилось. Рассказ вышел точный и правдивый, простой и в то же время сложный. Автор владеет словом не хуже, чем кистью. Ему удалось передать впечатления ребёнка, подростка, юноши; события и их отражение в сознании будущего художника, запоминающего детали, образы, краски; делающего мгновенные зарисовки лиц и характеров… Книжка получилась разнообразная и светлая, даже весёлая. Но как же так? Ведь на детство и юность художника, родившегося в 1931 году, пришлись и годы репрессий, и война, и послевоенное трудное время. В книге есть глава «1937 год»; есть рассказ о дяде, сгинувшем в лагерях. Есть потрясающие страницы о том, что с человеком делает голод. Но зато папа, ушедший добровольцем на фронт, вернулся живым и здоровым! И в голодном 1943 году мальчик начал учиться рисовать в художественной школе и получил продуктовую карточку… Автору удалось показать, как ребёнок, для которого рисунок — это игра, шаг за шагом постепенно превращается в художника. В главе «Детгиз» Иткин даёт портреты своих друзей-художников: Евгения Монина, Вениамина Лосина, Геннадия Калиновского. Он рассказывает о своём поколении, пришедшем в книжное искусство в годы «оттепели»; и о мастерах старшего поколения, таких как Георгий Евлампиевич Никольский и Алексей Фёдорович Пахомов. В заключительных главах помещены размышления художника о работе над классикой, о художественных приёмах в книжной графике. Умение говорить просто о сложных вещах, уважение автора к разным направлениям в искусстве и к разным мастерам, если они того достойны, делают и эти главы интересными для всех. Книга Анатолия Зиновьевича Иткина, как и всё его творчество, — это школа мастерства и человечности.Маргарита Переслегина
Основные книжно-иллюстративные работы
1954
Л. Соболев. «Батальон четверых» (Детская литература)1955
Н. Томан. «В погоне за призраком» (Детгиз)1956
Д. Бродская. «Марийкино детство» (Детская литература) B. Иванов. «Бронепоезд 14–69»1958
А. Маршалл. «Я умею прыгать через лужи» (Детгиз) Н. Томан. «Что происходит в тишине» (Детгиз)1959
М. Ильин. «Воспоминания юнги Захара Загадкина» (Детгиз) М. М. Додж. «Серебряные коньки» (Детгиз) Е. Пермяк. «От костра до котла» (Детгиз)1960
А. Гайдар. «Судьба барабанщика». Повести: «Синие звёзды», «Бумбараш» (Детгиз) Г. Цирулис, А. Имерманис. «Товарищ маузер» (Детгиз)1961
В. Коржиков. «Первое плаванье» (Детгиз)1962
А. Дюма. «Асканио» (Художественная литература) Ю. Яковлев. «Автобус без кондуктора» (сборник стихов) (Детгиз)1963
А. Кулешов. «„Мартини“ может погаснуть» (Детгиз)1964
Й. Дик. «Железная воля» (Детская литература)1966
М. Емцев, Е. Парнов. «Зелёная креветка» и другие рассказы (Детская литература) Н. Карамзин. «Избранные произведения» (Детская литература) А. Слонимский. «Юность Пушкина» (Детская литература) И. Тургенев. Избранное1967
Б. Окуджава. «Фронт приходит к нам» (Детская литература) Г. Цирулис, А. Имерманис. «Квартира без номера» (Детская литература)1968
А. Пушкин. «Дубровский»1969
Александр и Сергей Абрамовы. «Рай без памяти» (Детская литература) C. Баруздин. «Шёл по улице солдат. Рассказы о нашей армии» (Детская литература) А. Куприн. Избранные произведения (Детская литература) Л. Рубинштейн. «В садах Лицея» (Детская литература)1970
И. Ефремов. «Сердце Змеи» (Детская литература)1971
Сборник «Родная природа. Стихи русских поэтов» (Детская литература) С. Могилевская. «Поварёнок Люлли» (Детская литература)1972
Ю. Тынянов. «Кюхля» (Детская литература)1973
Д. Фонвизин. Комедии (Детская литература)1974
А. Пушкин. «Капитанская дочка» (Советская Россия)1975
Е. Войскунский, И. Лукодьянов. «Ур, сын Шама» (Детская литература)1976
С. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» Н. Некрасов. Лирика (Детская литература)1977
Г. Уэллс. «Человек-невидимка» (Детская литература)1978
П. Вяземский. Лирика (Детская литература) Б. Орешкин. «Меч-кладенец» (Детская литература)1979
И. Пивоварова. «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса» (Детская литература)1980
А. Блок. Поэмы (Детская литература) Л. Пантелеев. «Честное слово» (Детская литература) А. Толстой. «Детство Никиты» (Советская Россия)1981
А. Дюма. «Учитель фехтования». «Чёрный тюльпан» (чёрно-белые иллюстрации) (Правда)1982
Прево. «Манон Леско». Ш. де Лакло. «Опасные связи» (Правда) А. Чехов. «Мальчики» и другие рассказы1983
Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара»1984
А. Толстой. Повести и рассказы (Киев, Дніпро)1985
А. С. Новиков-Прибой. «Цусима». Книга 1. Книга 2 (Правда) Н. Эйдельман. «Братья Бестужевы» (Малыш) А. Эртель. «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (Художественная литература)1986
Харпер Ли. «Убить пересмешника» (Детская литература) М. Лермонтов. «Герой нашего времени» И. Гончаров. «Обыкновенная история» Ф. Кнорре, В. Распутин, Г. Семёнов. Повести (Детская литература)1988
Сборник «Слава герою-бойцу» (Детская литература)1989
«Джек и золотая табакерка. Сказки народов Великобритании и Северной Ирландии» (Детская литература) С. Могилевская. «Сказка о громком барабане» С. Голицын. «Сорок изыскателей». «За берёзовыми книгами». «Тайна старого Радуля». Повести (Детская литература)1990
Для издания в Южной Корее: М. Твен. «Принц и нищий». «Том Сойер» Уида. «Нелло и Патраш» «Я выхожу замуж за белого медведя» (шведская сказка) Л. Толстой. «Путь жизни»1992
М. Твен. «Принц и нищий» (переиздание)1993
Ж. Верн. «Южная звезда». «Найдёныш с погибшей „Цинтии“» (Ладомир)1994
В. Скотт. «Квентин Дорвард». «Айвенго»1995
С. Алексеев. «Александр Суворов» (Сельская Новь)1996
В. Коржиков. «Александр Пушкин» (Сельская Новь)1999
В. Гюго. «Собор Парижской богоматери»2000
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (переиздание)2001
Ж. Верн: «Двадцать тысяч лье под водой» «Таинственный остров» «Дети капитана Гранта» «Пятнадцатилетний капитан»2002
Ф. Купер. «Зверобой». «Последний из Могикан» Ш. Перро. Сказки2008
А. Пушкин. Проза (Московские учебники и Картолитография)2009
Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» (Пан Пресс)2011
«Волшебные сказки Англии» (Рипол Классик)2012
«Волшебные сказки Шотландии» (Рипол Классик) Д. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик» В. Гюго. «Гаврош». «Козетта» В. Короленко. «Дети подземелья» «Святители земли русской»2013
М. Горький. Рассказы для детей (Махаон)2014
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (Махаон) Чехонте: Рассказы А. П. Чехова (Москвоведение)2015
М. Булгаков. «Собачье сердце» (НИГМА) А. Дюма. «Асканио». Переиздание с добавлением новых иллюстраций (НИГМА) И. Тургенев. «Записки охотника» (Махаон) А. Чехов. «Рассказы» (НИГМА)2016
А. Линдгрен. «Черстин и я» (Махаон) Ф. Купер. «Последний из Могикан». Переиздание с добавлением новых иллюстраций (НИГМА)2017
Ф. Купер. «Зверобой». Переиздание с добавлением новых иллюстраций (НИГМА) А. Дюма. «Чёрный тюльпан». Переиздание с добавлением новых иллюстраций (НИГМА) Р. Л. Стивенсон. «Чёрная стрела» (НИГМА)
Основные выставки
1974
Выставка совместно с Н. Гольц и Л. Дурасовым в Доме детской книги (г. Москва)1978
Выставка совместно с Н. Гольц, О. Зотовым, М. Успенской в Центральном доме литераторов (г. Москва)1987
Выставка совместно с Н. Гольц и Б. Кыштымовым в Центральном доме литераторов (г. Москва)1993
Персональная выставка в Российской государственной детской библиотеке (г. Москва)1999
Персональная выставка в журнале «Наше наследие» (г. Москва)2002
Персональная выставка в Российской государственной детской библиотеке (г. Москва)2004
Персональная выставка в Государственном литературном музее (г. Москва)2011
Персональная выставка к 80-летию художника в ГМИИ А. С. Пушкина (г. Москва)2012
Выставка «Анатолий Иткин. Акварель, литография, книжная иллюстрация» в Школе акварели Сергея Андрияки (г. Москва)2016
Выставка «Мастер книжной иллюстрации: Анатолий Иткин» в Российской государственной детской библиотеке (г. Москва)
Книжные иллюстрации Анатолия Иткина



А. Пушкин. Капитанская дочка. 1974. Бумага, акварель


М. Додж. Серебряные коньки. 1959. Бумага, акварель



Ш. Перро. Сказки. 1998. Бумага, акварель




Ш. де Лакло. Опасные связи. 1982. Фломастер, сепия




А. Пушкин. Дубровский. 1972. Бумага, акварель




А. Дюма. Асканио. 1957, 2015. Бумага, тушь, перо


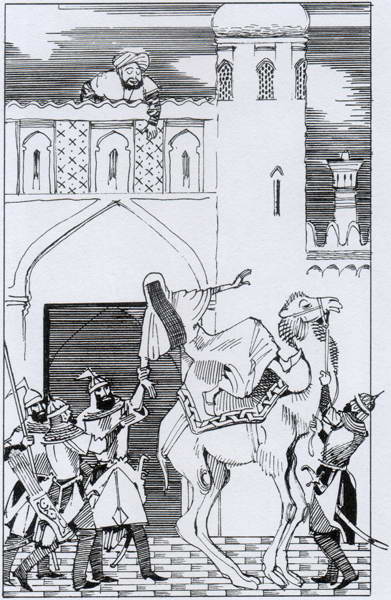

Л. Соловьёв. Повесть о Ходже Насреддине. Бумага, тушь, перо




А. Толстой. Детство Никиты. 1985. Бумага, акварель









А. Пушкин. Евгений Онегин. Бумага, акварель




И. Тургенев. Записки охотника. Певцы. 2013. Бумага, акварель



Д. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 2012. Бумага, акварель


М. Твен. Принц и нищий. 1990. Бумага, акварель

В. Скотт. Айвенго (обложка). 1990. Бумага, акварель




М. Булгаков. Собачье сердце. 2015. Бумага, акварель, карандаш



М. Булгаков. Роковые яйца. 2015. Бумага, акварель, карандаш



Ж. Верн. Двадцать тысяч лье под водой. 2001. Бумага, акварель


М. Твен. Том Сойер. 1990. Бумага, акварель


А. Дюма. Три мушкетера. 2013. Бумага, акварель

Ж. Верн. Таинственный остров (обложка). 2013. Бумага, акварель



М. Лермонтов. Герой нашего времени. 1986. Бумага, акварель
Содержание
Предисловие … 5 Детство в Останкине … 8 Эвакуация … 88 Художественная школа … 104 Один год в Риге … 120 О друзьях детства … 132 «Детгиз» … 144 Поездка на Байкал … 166 Средняя Азия … 172 Воспоминания о Седневе … 188 Заметки о книжной иллюстрации … 196 От издательства … 210 Анатолий Иткин — знакомый и неожиданный … 212 Основные книжно-иллюстративные работы … 216 Основные выставки … 219 Книжные иллюстрации Анатолия Иткина … 220





Последние комментарии
19 часов 31 минут назад
19 часов 48 минут назад
20 часов 36 секунд назад
20 часов 6 минут назад
22 часов 37 минут назад
22 часов 41 минут назад