Екатерина Великая [Вирджиния Роундинг] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
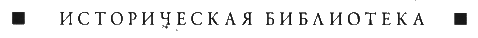 Вирджиния Роундинг
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
Вирджиния Роундинг
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

* * *
Virginia Rounding CATHERINE THE GREAT
Перевод с английского Н. Тартаковской Компьютерный дизайн Ж. А. Якушевой
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Gillon Aitken Associates Ltd и Synopsis.
© Virginia Rounding, 2006 © Издание на русском языке AST Publishers, 2010
От редакции
Книга о русской истории, написанная иностранцем, всегда вызывает некоторые сомнения — что такого он может сказать про нас, чего мы сами не знаем? С другой стороны, период второй половины XVIII века в современной отечественной популярно-исторической литературе освещен не так уж хорошо (об академических работах мы не говорим). Петровской эпохе посвящена масса книг — и художественных, и документальных. Елизаветинскую эпоху мы знаем хотя бы по великолепным «Гардемаринам» и фильму «Михайло Ломоносов». Реформы и контрреформы Александра I, войны с Наполеоном, восстание декабристов, николаевская эпоха — все эти периоды мы представляем себе гораздо лучше, нежели эпоху Екатерины II, из которой хорошо помним разве что про восстание Пугачева. В последнее время популярным стало короткое и печально закончившееся царствование Павла I — но его корни тоже лежат в екатерининском времени, и понять Павла без знания атмосферы, в которой он вырос, просто невозможно. Конечно, в школе проходят основные вехи и события екатерининской эпохи — но сам дух ее от многих остается скрыт, теряясь за разрозненными фактами, иногда противоречащими друг другу. Переписка с Вольтером и Дидро, либеральные разговоры и прожекты — и тут же жестокие преследования за «невосторженный образ мыслей», не только Радищева, но и вполне безобидного Новикова. Даже само происхождение Екатерины не может не вызывать удивления у современного человека, привыкшего трепетно относиться к национальному происхождению. Каким образом принцесса София-Фредерика-Августа Ангальт-Цербстская, дочь правителя мельчайшего германского государства, смогла не только стать российской императрицей, но и по-настоящему ощутить себя русской? Не просто перейти в новую религию — но сделаться убежденной и настойчивой поборницей православия. Впрочем, нетрудно догадаться, чем Екатерину привлекло православие — именно своей пышностью, театральностью, публичной обрядностью, составлявшими разительный контраст со скупостью германского лютеранства. Оценивать эпоху Екатерины II достаточно тяжело. С одной стороны, это было время величайших внешнеполитических достижений и громких побед русского оружия. Именно тогда — и во многом благодаря именно Екатерине — Россия стала восприниматься в Европе как по-настоящему европейское государство. С другой стороны, именно при Екатерине страну потрясла крупнейшая за сто лет крестьянская война. При ней была вновь введена смертная казнь, отмененная Елизаветой, а в обязанности политического сыска вошла не только борьба с заговорами и антигосударственной деятельностью, но и идеологический контроль. Более того, именно Екатерина ввела в практику политические убийства. То есть конкурентов в борьбе за престол в России устраняли и ранее, но происходило это от случая к случаю. Екатерина впервые начала делать это массово: Петр III, Иван Антонович, «княжна Тараканова». В последнем случае, кроме всего прочего, имело место похищение иностранного подданного за границей — то есть, выражаясь современным языком, акт терроризма. Наконец, если внимательно вчитаться в эту книгу, можно обратить внимание на самый распространенный способ награждения екатерининских фаворитов и просто отличившихся лиц — крепостными из государственной казны. Если учесть, что социальный статус государственного крестьянина был значительно выше статуса крестьянина господского, то подобную практику можно охарактеризовать лишь как целенаправленное усиление крепостного рабства. А тогда приходится признать, что многие «либеральные» рассуждения и устремления Екатерины являлись не более чем демагогией — возможно, попытками обмануть в том числе и саму себя. В любом случае Екатерина стремилась укрепить свою власть путем обеспечения лояльности дворянства — которому, кроме всего прочего, было даровано освобождение от обязательной государственной службы. А ведь такая служба изначально была обязанностью любого дворянина, главным обоснованием его привилегий! Таким образом, именно при Екатерине (и во многом благодаря ей) российское дворянство начало превращаться в паразитический класс, что весьма сильно сказалось на дальнейшей истории страны… Работа Вирджинии Роундинг носит весьма апологетический характер. Автор заостряет внимание далеко не на всех перечисленных выше темах и проблемах. Но как профессиональный историк она не смогла обойти и щекотливые темы — пусть и уделив им гораздо меньше внимания, нежели они заслуживают. Поэтому, как говорилось в предуведомлениях к старинным книгам, «проницательный читатель найдет здесь немало пищи для размышлений».
ВИРДЖИНИЯ РОУНДИНГ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
ЛЮБОВЬ, СЕКС И ВЛАСТЬ

С благодарностью — MR и PER, которые первыми одобрили мой интерес к России
Можете быть уверены: я никогда ничего не предпринимала, пока меня основательно не убеждали в том, что мои действия принесут пользу моей империи. Империя дала мне все, и я верю, что все мои личные способности постоянно работают на благо империи, для ее процветания, в ее высших интересах — насколько меня хватает для посвящения себя ей.Екатерина II, 16 июня 1791 года{1}
Предисловие
Перед лицом огромной задачи описания жизни Екатерины Великой — огромной как из-за продолжительности ее правления, так и из-за количества материала, который необходимо было обработать, а также из-за выдающихся способностей тех, кто писал о ней прежде — я черпала мужество в двух замечаниях Нэнси Митфорд, сделанных в ее письмах к другу, владельцу книжной лавки Хейвуду Хиллу. Первое было сделано при обсуждении проекта книги о мадам де Помпадур: «Мисс М. Траунсер [Маргарет Траунсер, биограф-франкофил] пришла ко мне в библиотеку в ужасе и дикой ярости, заявив, что я, должно быть, сошла сума, ибо по этому предмету сказать больше нечего»{2}. Второе относилось к написанию ею биографии Людовика XIV: «В сущности, за исключением общего предмета интереса, моя книга полностью отличается от книги [Винсента] Кронина. Мы мало касаемся одних и тех же тем. Такое интересное и хорошо задокументированное царствование делает обращение к теме почти неизбежным — но каждый работает над тем аспектом, который ему интересен»{3}. Необычайно ценя способность мисс Митфорд увлекать читателей и облекать свою эрудицию в легкую, занимательную форму, соглашаясь с нею, что каждый писатель, обратившись к общеизвестному предмету, создает нечто совершенно самобытное, я не вижу нужды извиняться за то, что обратилась к заинтересовавшему меня ракурсу жизни русской императрицы Екатерины II, которую звали также Великой. Данная работа не претендует на звание всеобъемлющей и окончательной биографии Екатерины. Она — человек, о котором, вероятно, будут писать, пока люди интересуются историей. Я намеренно не вникаю в высокие материи русской внешней дипломатии XVIII века, отсылая читателей, если их интересует эта тема, к другим книгам — таким, как «Россия в век Екатерины Великой» Изабель де Мадарьяга. А я постараюсь изобразить Екатерину многогранной личностью, типичной представительницей XVIII века, через высказывания — как ее собственные, так и ее современников, — взятые из многих томов материалов, содержащих в том числе и написанное самой императрицей, из обстоятельных наблюдений, комментариев и бесед, которые позволили ей предстать перед нами наиболее ярко. Я выбрала изложение в хронологическом порядке, а не тематическое повествование, потому что наблюдая жизнь Екатерины день за днем, легче представить себе эту жизнь в истинном масштабе, а также широту задач, которые она ставила перед собой, и области деятельности, которые ей удавалось охватить. Стараясь рассмотреть Екатерину настолько детально, насколько это возможно с расстояния более чем в двести лет, я не хочу навязывать читателям собственное виденье. Однако я хочу обратить их внимание на наиболее непристойные слухи, которые так несправедливо пятнали ее репутацию еще при жизни, но в особенности же — после смерти императрицы. И добиться понимания, что она — самая культурная женщина из всех известных широкой публике, в отношении которой постыдная и полностью лживая «жеребячья история» является одной из величайших исторических несправедливостей.Перевод русских имен
Моей целью было уменьшить сложность восприятия текста для нерусского читателя. Поэтому там, где это возможно, я использовала наиболее известные варианты имен, а не придерживалась жестко системы транслитерации. Поэтому я использовала имя «Александер» вместо «Александр», «Питер» вместо «Петр», а в случае самой императрицы «Кэтрин» вместо «Екатерина». Чтобы отличать императрицу Екатерину от других женщин с таким же христианским именем, я называла их «Екатеринами». При цитировании из современных французских или английских источников я сохраняла транслитерации соответствующих имен в оригинале — а они могли варьироваться даже внутри одного документа. Там, где оригинальная транслитерация оказывалась особенно смущающей, я давала правильное написание в квадратных скобках. Стремление к простоте заставило меня также опускать отчества — за исключением членов императорской семьи и случаев, когда имя является частью прямой цитаты. Надеюсь, такой подход поможет читателю при узнавании людей и мест, если они появляются не единожды.[1]Календарь
Даты в России XVIII века исчислялись по Юлианскому календарю («по старому стилю»), который в рассматриваемый период на 11 дней отставал от Григорианского календаря (нового стиля), постепенно введенного в большинстве европейских стран (в настоящее время эта разница составляет 13 дней). В этой книге даты всегда даются по старому стилю, если иное специально не помечено аббревиатурой «НС».Деньги
Покупательная способность рубля 1780 года в очень большом приближении соответствовала примерно 20 фунтам стерлингов по сегодняшним ценам.Если это не указано отдельно в примечании, переводы с французского и русского языков сделаны мною (В. Р.).


Основные персоналии
Императрица Екатерина II (Великая) — ранее великая княгиня Екатерина Алексеевна, первоначально — принцесса София Фредерика Августа Ангальт-ЦербстскаяСемья Екатерины[2]
Князь Христиан Август Ангальт-Цербстский — отец Екатерины Княгиня Иоганна Элизабет Голштин-Готторпская — мать Екатерины Князь Георг Людвиг Голштин-Готторпский — дядя Екатерины Император Петр III— муж Екатерины, ранее великий князь Петр Федорович, первоначально Карл Петер Ульрих, герцог Голштин-Готторпский Императрица Елизавета — тетка Петра III и дочь Петра I (Великого) Великий князь Павел Петрович — сын Екатерины, позднее император Павел I Великая княгиня Наталья Алексеевна — первая жена Павла, первоначально принцесса Вильгельмина Дармштадтская Великая княгиня Мария Федоровна — вторая жена Павла, первоначально принцесса София Доротея Вюртембергская Великий князь Александр Павлович — старший внук Екатерины, позднее император Александр I Великая княгиня Елизавета Александровна — жена Александра, первоначально принцесса Луиза Баден-Дюрлахская Великий князь Константин Павлович — второй внук Екатерины Великая княгиня Анна Федоровна — жена Константина, первоначально принцесса Юлия Сакс-Кобургская Великие княгини Александра Павловна, Елена Павловна, Мария Павловна, Екатерина Павловна, Ольга Павловна, Анна Павловна — внучки Екатерины Великий князь Николай Павлович — третий внук Екатерины, позднее император Николай I
Представители других императорских или королевских дворов
Фридцих Вильгельм I — король Пруссии 1713-1740 Фридрих II (Великий) — король Пруссии 1740-1786 Густав III — король Швеции 1771–1792, двоюродный брат Екатерины Густав IVАдольф — король Швеции 1792-1809 Иосиф II — Император Святого Рима 1765-1790
Любовники и фавориты Екатерины (в хронологическом порядке)
Сергей Салтыков Станислав Понятовский, впоследствии король Станислав II Август Польский Григорий Орлов Александр Васильчиков Григорий Потемкин (впоследствии получивший титул Потемкин-Таврический) Петр Завадовский Семен Зорич Иван Римский-Корсаков Александр Ланской Александр Ермолов Александр Дмитриев-Мамонов Платон Зубов
Главные придворные, чиновники и военные (в алфавитном порядке)[3]
Барятинский Федор Сергеевич (1742–1814) — участник переворота 1762 года и покушения на Петра III, впоследствии камергер Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693–1768) — канцлер Елизаветы Бецкой Иван Иванович (1704–1795) — камергер при дворе Елизаветы, соавтор Екатерины в разработке проекта реформы образования Безбородко Александр Андреевич (1746–1799) — секретарь Екатерины; впоследствии канцлер, князь, видный деятель в области российской внешней политики Бибиков Александр Ильич (1729–1774) — капитан артиллерии, поддержавший переворот Екатерины, прзднее председатель комиссии по составлению Уложения Брюс Прасковья Александровна (1729–1785) — подруга и доверенное лицо Екатерины; ранее Прасковья Румянцева; сестра фельдмаршала П. А. Румянцева; супруга Якова Александровича Брюса Брюс Яков Александрович (1732–1791) — сделал карьеру от рядового лейб-гвардейского Семеновского полка до генерал-губернатора Москвы Волконский Михаил Никитич (1713–1788) — поддержал переворот Екатерины и сменил Петра Салтыкова на посту генерал-губернатора Москвы Воронцов Александр Романович (1741–1805) — президент Торгового колледжа Воронцов Михаил Илларионович (1714–1767) — канцлер во время переворота Екатерины, дядя Екатерины Дашковой и Елизаветы Воронцовой Воронцов Роман Илларионович (1707–1783) — сенатор; отец Екатерины Дашковой и Елизаветы Воронцовой Воронцова Елизавета Романовна (1739–1792) — любовница Петра III Вяземский Александр Алексеевич (1727–1793) — генерал-прокурор при Екатерине Глебов Александр Иванович (1722–1790) — назначен генерал-прокурором при Петре III, впоследствии обер-прокурор сената, генерал-аншеф Голицын Александр Михайлович (1723–1807) — вице-канцлер во время переворота Екатерины, ранее посол России в Лондоне; вице-президент Коллегии иностранных дел, сенатор Голицын Александр Михайлович (1718–1783) — гофмаршал двора Екатерины и генерал-губернатор Санкт-Петербурга Голицын Дмитрий Алексеевич (1734–1803) — русский посол в Париже, затем в Гааге Головина Варвара Николаевна (1766–1819) — графиня, урожденная княжна Голицына, любимая племянница Ивана Шувалова, писательница и мемуаристка, одна из придворных дам Екатерины Грейг Самуэль Карлович (1736–1788) — шотландский морской капитан на службе у Екатерины, адмирал с 1782 г. Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810) — сестра Елизаветы Воронцовой, поддержавшая переворот Екатерины; первый директор Российской Академии наук Зотов Захар Константинович (?-?) — камердинер Екатерины Нарышкин Александр Александрович (1726–1795) — камер-юнкер при дворе Елизаветы; обер-шенк при дворе Екатерины; обер-гофмаршал Нарышкин Лев Александрович (1733–1799) — брат Александра Нарышкина, камер-юнкер при дворе молодых Екатерины и Петра, впоследствии обер-шталмейстер при дворе Екатерины Олсуфьев Адам Васильевич (1721–1784) — статс-секретарь Екатерины, писатель Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807) — младший брат Григория Орлова, активный участник и один из инициаторов переворота 1762 года, один из убийц Петра III, морской капитан, позднее получивший титул «Орлов-Чесменский»; пожалуй, наиболее даровитый из братьев Орловых Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783) — фаворит и соратник Екатерины Орлов Иван Григорьевич (17?? — 1791) — старший из братьев Орловых Орлов Федор Григорьевич (1741–1796) — второй из вовлеченных в переворот Екатерины братьев Григория Орлова Орлов Владимир Григорьевич (1743–1831) — младший из братьев Орловых Остерман Иван Андреевич (1725–1811) — вице-канцлер при Екатерине Панин Никита Иванович (1718–1783) — гувернер великого князя Павла и старший чиновник коллегии Иностранных дел Панин Петр Иванович (1721–1789) — брат Никиты Панина и армейский генерал Перекусихина Мария Савишна (1739–1824) — горничная Екатерины и ее доверенное лицо Протасова Анна Степановна (1745–1826) — подруга Екатерины и ее фрейлина Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771) — фаворит императрицы Елизаветы; обер-егермейстер Разумовский Кирилл Григорьевич (1728–1803) — младший брат Алексея Разумовского, президент Российской Академии Наук, затем гетман Украины; поддержал переворот 1762 года, после ликвидации гетманщины получил чин генерал-фельдмаршала Репнин Николай Васильевич (1734–1801) — племянник Никиты Панина по линии жены; боевой генерал, удачливый дипломат, один из виднейших деятелей своей эпохи Румянцев Петр Александрович (1725–1796) — фельдмаршал, сыгравший главную роль в обеих русско-турецких войнах; получил титул «Румянцев-Задунайский» Салтыков Николай Иванович (1736–1816) — участник многих военных кампаний, затем вице-президент военной коллегии, гофмейстер при дворе наследника престола, позже — гувернер великих князей Александра и Константина Салтыков Петр Семенович (1698–1772) — участник нескольких войн, фельдмаршал; генерал-губернатор Москвы, покинувший город в разгар эпидемии чумы Самойлов Александр Николаевич (1744–1814) — племянник Потемкина, генерал-прокурор после Александра Вяземского Суворов Александр Васильевич (1729–1800) — фельдмаршал, который подавил Польское восстание и получил титул «Суворов-Рымникский»[4] Теплое Григорий Николаевич (1717–1779) — заместитель Кирилла Разумовского, поддержавший переворот Екатерины; писатель и государственный деятель Храповицкий Александр Васильевич (1749–1801) — один из статс-секретарей Екатерины, сенатор, автор записок Черкасов Александр Иванович (1728–1788) — секретарь кабинета Елизаветы и президент Медицинской коллегии при Екатерине Чернышев Андрей Гаврилович (1720–1797) — кузен Захара и Ивана Чернышевых; генерал-аншеф, комендант Санкт-Петербурга[5] Чернышев Иван Григорьевич (1726–1797) — генерал-фельдмаршал флота и президент Морской коллегии при Екатерине Чернышев Захар Григорьевич (1722–1784) — брат Ивана Чернышева, камер-юнкер великой княгини Екатерины, впоследствии президент Военной коллегии Чоглокова Мария Симоновна (1723–1756) — статс-дама, наперсница и двоюродная сестра императрицы Елизаветы; гувернантка великой княгини Екатерины Шешковский Степан Иванович (1727–1794) — секретарь сената и глава Секретного отдела при Екатерине Шкурин Василий Григорьевич (7-1782) — камердинер Екатерины; позднее камергер и тайный советник Шувалов Александр Иванович (1710–1771) — брат Петра Шувалова и кузен Ивана Шувалова, начальник Канцелярии тайных розыскных дел при Елизавете Шувалов Иван Иванович (1727–1797) — кузен Александра и Петра Шуваловых, преемник Алексея Разумовского на посту фаворита императрицы Елизаветы, впоследствии великий камергер при дворе Екатерины Шувалов Петр Иванович (1711–1762) — брат Александра Шувалова, генерал-фельдмаршал артиллерии при Елизавете
Пролог
Город Санкт-Петербург, где Екатерина провела самую значительную часть своей жизни, — город сверкающих шпилей и куполов, ярко выкрашенных фасадов, длинных проспектов для променадов, европейская столица, основанная как «окно России на Запад», — уже был готовой сценой, как признавали все писатели, которые жили тут, создавая свои произведения. Санкт-Петербург был городом Екатерины — быть может, даже больше, чем городом Петра Великого — не только потому, что она внесла огромный вклад в создание его архитектуры, но и потому, что он значительно отвечал ее убеждениям. Убеждениям, что природу можно исправить искусством, человеческие существа могут стать лучше, если улучшить их окружение и образование, а порядок, красота и доброта связаны друг с другом и питают друг друга. Санкт-Петербург был также ее сценой. В XVIII веке мало что (если вообще что-либо) могло оставаться тайной в жизни женщины, являющейся одной из центральных фигур имперского двора, и едва прибыв в Россию, Екатерина немедленно поняла, что она — лицо общественное. Живя с этим осознанием, она делала все что могла, дабы контролировать свой сценический образ. Одним из принципиальных способов создания означенного образа стало написание (или «шкрябание», как она это называла) не только нескольких вариантов ее воспоминаний, но также бесконечного числа писем — друзьям, любовникам, членам семьи, чиновникам и философам, о которых ей приятно было думать как о своих наставниках. Многие из ее писем явно рассчитаны на гораздо более широкое прочтение, нежели только получателем. Рутинное посредничество почты при переписке между дворами Европы использовалось как форма пропаганды — иными словами, если монарх, или посол, или придворный отправлял сообщение через обычную почту, а не посредством личного курьера, это делалось с уверенностью, что письмо перехватят и его содержание будет передано заинтересованным партиям. Хотя Екатерина не хотела, чтобы, например, ее письма к Вольтеру были официально опубликованы (она не считала, что они написаны достаточно умно для этого), — она знала, что он не сохранит их содержание в тайне. Она надеялась, что эта переписка сослужит добрую службу, придав ей облик просвещенной королевы-философа, и приобретая поддержку Вольтера в качестве таковой, она знала, что именно такое мнение о ней сложится при дворах и в салонах Европы. Точно так же, как персонам мира медиа и знаменитостям в наши дни, в XVIII веке всякому, кого влиятельное общественное мнение признавало за личность, приходилось платить определенную цену и быть неутомимым в создании своего образа при помощи средств массовой информации — что и делала Екатерина. А это вело к тому, что молва выдвигала свои собственные версии «правды», превращая видных людей в мишени своего обсуждения. Екатерина была не единственной, кто писал мемуары, рассылал частные, а на деле открытые письма и помещал в газетах анонимные отрывки, и слухи, которые роились вокруг нее (часто непристойные по природе), были в чем-то просто обратной стороной саморекламы. Однако в своих сочинениях Екатерина была озабочена не только саморекламой. Для нее сам процесс писания стал привычкой и одним из главных способов сбросить напряжение ежедневной жизни. Порой в переписке, в особенности с самым преданным другом по эпистолярному жанру Фридрихом Мельхиором Гриммом, она могла забыть о необходимости всегда показывать себя в наилучшем свете. Она называла Гримма своим «souffre-douleur» — то есть козлом отпущения или мальчиком для битья, тем, кто спокойно воспримет все, что она сочтет необходимым рассказать. Этому человеку она могла высказать свои тревоги и печали, а также поделиться тем, что ее развеселило, рассказать о причудах и характерах окружающих, о радости, которую доставляют ей внуки, собачки, разнообразные художественные и архитектурные проекты. Именно в переписке с Гриммом мы видим отражение человеческого лица Екатерины — обнаруживаем, какой смешливой она могла быть, каким тонким наблюдателем являлась, начинаем понимать, каким образом добивалась она такой преданности друзей и слуг. Но поскольку от Гримма она не прячется, мы видим, насколько она восприимчива к людям и темам, как требовательна и сложна в общении, как лицемерна в отношениях с сыном — и как похожа на опьяненного счастьем подростка в начале отношений с новым фаворитом. Она верила, что Гримм никогда не употребит во зло то, что она рассказывает ему, и распространит только то, о чем она его попросит. В этой книге я часто отталкивалась от писем Екатерины к Гримму, позволяя ей где возможно говорить собственным голосом. Предполагали ли они с Гриммом возможность публикации этой переписки? Оба они писали, во всяком случае в течение некоторого времени, помня о последующих поколениях и хорошо понимая, как интересны будут их письма историкам в свете их жизней и эпохи. Они ожидали, что большую часть писем со временем будут читать другие. Но тон многих писем Екатерины заставляет предполагать, что понимание это не отражалось на характере изложения. По крайней мере, тексты не кажутся подвергнутыми внутренней цензуре. Императрица дала ясные инструкции: пока она жива, письма не должны публиковаться или прочитываться кем-либо еще, и хотя иногда Гримму казалось, что расточительно тратить ее письма на него одного, в то время как они должны быть доступны более широкой аудитории (однажды он даже написал ей по этому поводу), он уважал ее решение не допускать публикации. Он ценил переписку с Екатериной слишком высоко, чтобы рисковать ею, ослушавшись. Другим полезным и интересным источником детальных описаний жизни европейского двора XVIII века были посольские депеши и отчеты иностранных посланников, хотя к ним стоит относиться с осторожностью и не все принимать за чистую монету. Дипломатические депеши, без сомнения, были неприкосновенны для перехвата — но часть каждодневной работы Екатерины и ее секретарей включала просмотр расшифровок вскрытых депеш и другой иностранной корреспонденции. Работа с ежедневной порцией этих депеш даже имела особое название: перлюстрация (слово больше не употребляется и означает неофициальное или секретное копирование официальных документов или частных писем). Знание о вероятности такого вскрытия имело ряд последствий. Иногда депеша писалась с учетом вскрытия и прочтения государем или доведения до него ее основных положений. Такая корреспонденция могла содержать информацию, которую посол хотел донести до государя, но не видел способа сделать это иначе, в особенности из-за того, что официальные сообщения обязательно шли через министерские каналы и вполне могли не дойти до главы государства. Также посол мог использовать депешу просто для передачи лести: отправляя на родину информацию о последних событиях и достижениях при дворе, где он служит, он окрашивал свою роль таким образом, чтобы доставить удовольствие подглядывающим. Конечно, иностранные посланники должны были порой и лично общаться со своими политическими хозяевами, и не только для того, чтобы получить от них конфиденциальные инструкции. Депеши писались рутинным шифром и легко расшифровывались: при каждом дворе существовали официальные лица для вскрытия шифров. В обе стороны интенсивно ездили курьеры, сопровождая послания из страны в страну, а также купцы или другие люди, путешествовавшие по собственной надобности, которые соглашались взять с собой пакет. Но даже депеша, написанная шифром и посланная с курьером, не была стопроцентной гарантией того, что информация дойдет до цели нетронутой, не прочитанной кем-либо до получателя. Поэтому самую взрывоопасную информацию нельзя было отправлять даже с курьером: необходимо было ждать возможности поговорить с высшим руководством с глазу на глаз или отзыва посла. Однако если иметь в виду все эти предостережения, а также уловки, которых можно ожидать от людей, хранящих в сердце интересы собственной страны и переполненных множеством обычных предубеждений своего времени — против женщин, иностранцев и так далее, — депеши некоторых наиболее проницательных иностранных посланников при дворе Санкт-Петербурга XVIII века (таких, как прусский граф Солмс, а также утонченный и «общительный» англичанин сэр Джеймс Харрис) дают прекрасное живое описание придворной жизни и представляют собой детальный взгляд современника на императрицу и на то, как она подавала свою жизнь и империю. Потери, обусловленные отсутствием объективности, отчасти возмещаются непосредственностью, и даже наиболее предвзятые и пристрастные дипломаты не могли полностью скрыть того, как в действительности протекала жизнь при дворе, являющемся местом их службы. Мемуары более проблематичны, чем письма и депеши, из-за большего промежутка времени, пролегающего между событием и записью о нем, и из-за желания пишущего облечь свои воспоминания в четкую форму, что неизбежно ведет к перестановкам, пропускам, может быть, даже к некоторым выдумкам — не говоря уже о желании расцветить и интерпретировать события и личности, чтобы показать мемуариста в наилучшем свете и подкрепить собой его или ее собственную точку зрения. Написание (и переработки) Екатериной собственных мемуаров, без сомнения, частично выполняло пропагандистские задачи, хотя она была, безусловно, прирожденным писателем и не могла противиться желанию писать. И все-таки мемуары (особенно сверяемые с другими источниками и сопоставляемые с другими произведениями) могут быть необычайно ценны — тем, что помогают воспроизвести животрепещущую мозаику из людей, мест и событий. Не менее интересна непроизвольно возникающая картина ценностей, убеждений, особого взгляда на вещи самого пишущего. Вот что написал Ричард Олдингтон в своем введении к книге «Частная жизнь первого министра герцога Ришелье»:«Если мемуары и не историчны, они могут считаться литературой, содержащей все милые неточности человеческой природы. Они способны излагать факты с четкостью и беспристрастной точностью, но при этом нести отпечаток личности… Мемуары не помогут нам сдать экзамен или считаться экспертами по истории, но расскажут много интересного — ведь это единственные сплетни поколений, давным-давно превратившихся в пыль»{4}.
В век, который так много мнил о себе, прекрасно зная о том, как должны выглядеть архитектура, одежда, волосы, парики, жесты, обряды, манеры и о воздействии всех этих физических аспектов на жизнь, где был так важен «спектакль» и ни один праздник не завершался без фейерверка, где чин и наряд имели глубокое значение, — способ, которым люди представляли себя, был существенной частью духа времени. Каждый, кто прошел через повествование Екатерины Великой, играл на сцене свою роль с большей или меньшей степенью осознания того, что он делает. Некоторые — такие, как сама Екатерина, ее наиболее известный супруг Григорий Потемкин, ее мать Иоганна, принцесса Голштин-Готторпская, ее предшественница императрица Елизавета и иностранные посланники, такие как принц де Линь и граф де Сегюр, — четко осознавали себя актерами. Другие, похоже, меньше понимали, что за ними наблюдают, — такие, например, как супруг Екатерины, Петр III, который никогда не понимал своей аудитории и даже того, что имеет таковую. Некоторые, такие, как сын императрицы Павел, чувствовали, что их задвигают за кулисы, и сопротивлялись этому. Эти жизни-роли тщательно отыгрывались под взглядами придворных, агентов, шпионов и послов — каждая на фоне такого задника, как Петербург, Версаль, Вена, Берлин, Лондон, — и факты рассеивались с различной степенью искажения по обширной сцене Европы с ее постоянно меняющимися границами и вассальной зависимостью. Эти жизни — вот что отражалось в письмах, дневниках и мемуарах различных игроков. Читая, что они говорят друг о друге и о самих себе, будто занимаешь место в обществе, взвешиваешь суждения, понимаешь, что не все о человеке может быть известно, проникаешься духом Европы XVIII века и наблюдаешь за одной из самых замечательных женщин того времени, которая во многом реализовала принципы своего века, разыгрывая непростой спектакль своей жизни.
1. Из феодального муравейника — ко двору России (1729–1744)
Ее манера вести себя была отмечена таким благородством и грацией, что я восхищалась бы ею, даже если бы она не была для меня тем, чем являлась.Женщина, которая стала Екатериной II Великой, императрицей Всея Руси, родилась Софией Фредерикой Августой Ангальт-Цербстской 21 апреля по старому стилю (2 мая по новому стилю) 1729 года в прибалтийском портовом городе Штеттин в Померании (теперь Щецин на северо-западе Польши). Она была первым ребенком у своего 39-летнего отца принца Христиана Августа Ангальт-Цербстского и 17-летней матери принцессы Иоганны Элизабет Голштин-Готторпской. София и Августа были именами одной из прабабушек ребенка с отцовской стороны, а Фредерика — которое, вероятно, было выбрано как знак уважения к покровителю принца Христиана Августа королю Фридриху Вильгельму Прусскому — было именем и старшей сестры ее матери, и бабушки матери со стороны отца. Ангальт-Цербст и Голштин-Готторп были двумя из порядка сотни крохотных суверенных государств или княжеств, которые в XVIII веке занимали примерно территорию современной Германии. Дореволюционный российский историк В. О. Ключевский описывает эти бесконечно дробящиеся и разделяющиеся государства с их «принцами Бруншвик-Люнебергскими и Бруншвик-Вольфенбюттельскими; Сакс-Ромбургскими, Сакс-Кобургскими, Сакс-Готскими и Сакс-Кобург-Готскими; Мекленбург-Шве-ринскими и Мекленбург-Стрелицкими; Шлезвиг-Голштинскими, Голштин-Готторпскими и Готторп-Эйтинскими; Ангалът-Дессаускими, Ангалып-Цербстскими и Цербст-Дорнбургскими» как «архаичный феодальный муравейник»{5}. Похоже, что все в этих благородных семействах находились в родстве друг с другом, хотя бы через браки, и не в одном поколении. Многие из них носили также одинаковые христианские имена в различных комбинациях, что иногда становилось очень неудобным. Также существовало множество вассальных зависимостей за рубежом, когда члены одного княжеского дома служили в армии или на государственной службе более могущественного дома и вознаграждались там деньгами, положением или влиянием. Отец принца Христиана Августа, умерший в 1704 году, был принцем Иоганном Людвигом Ангальт-Цербстским, сыном принца Иоганна Ангальт-Цербстского и принцессы Софии Августы Голштин-Готторпской. Материнская линия семьи Софии Фредерики была более благородной, достаточно близко связанной с обитателями трона: один из прадедов Иоганны был королем Фридрихом III Датским. Отцом ее был Христиан Август, герцог Голштин-Готторпский, который также был епископом в Любеке до самой смерти в 1726 году. (Титул «епископ Любека» был наследным; епископство оставалось во владении дома Голштин-Готторпов до секуляризации в 1803 г.[6]) Его родителями были герцог Голштин-Готторпский и Фредерика Амалия Ольденбургская, принцесса Дании. Матерью Иоганны была Альбертина, маркграфиня Баден-Дюрлахская, дочь Фридриха VII Магнуса, маркграфа Баден-Дюрлахского, и принцессы Августы Марии Голштин-Готторпской; она вышла замуж за Христиана Августа в 1704 году. Альбертина единственная из бабушек и дедушек Софии Фредерики была жива, когда та родилась. Любую девочку, родившуюся в этом «феодальном муравейнике», ожидала жестокая конкуренция при поисках хорошей партии, дабы посредством брака приподнять свою семью на следующую ступень неофициальной иерархии. София всегда чувствовала, что ее родители хотели иметь первенцем мальчика, однако отец все-таки был рад ее приходу в этот мир. На всю жизнь она сохранила глубокое уважение к принцу Христиану Августу, считая его образцом прямоты, честности и эрудиции. Одним из кузенов Христиана Августа был принц Леопольд Ангальт-Дессау (известный как Д ессауский Старик), который имел репутацию чрезвычайно храброго солдата. Он помог стороннику строгой военной дисциплины королю Фридриху Вильгельму изобрести 54 движения прусской муштры, включая церемониальный шаг с прямой ногой, который стал известен как «гусиный шаг». Принц Леопольд был самым доверенным генералом короля Фридриха — да и Христиана Августа, который также отлично послужил прусской армии, король уважал не меньше. Когда родилась София Фредерика, отец ее был комендантом Штеттина, куда король Фридрих назначил его командовать гарнизоном в 1727 году — сразу после свадьбы. Он был серьезным и чистым человеком, истинным лютеранином, который предпочитал компанию книг общественным сборищам. Его молодая жена Иоганна — с орлиным носом, изогнутыми бровями и белокурыми вьющимися волосами — имела совсем другой характер. Она была воспитана при Брауншвейгском дворе крестной матерью и тетей Елизаветой Софией Марией, герцогиней Брауншвейг-Люнебергской, которой герцог Голштин-Готторпский с радостью отдал одну из семи своих дочерей. Иоганна воспитывалась так же, как и собственная дочь герцогини Брауншвейг-Люнебергской, и именно герцогиня организовала ее замужество в возрасте пятнадцати лет и обеспечила ей приданое. Было бы анахронизмом делать какой-либо психологический вывод из того факта, что в 1727 году юная Иоганна вышла замуж за человека достаточно взрослого, чтобы быть ей отцом, который имел те же христианские имена, что и ее отец, умерший в предыдущем году. Тем не менее правильным было бы признать, что между плохо подходящими друг другу родителями Софии все-таки существовал некоторый род отношений «отец-дочь». Иоганна находила свое существование с рассудительным мужем среднего возраста в туманном, сером городе Штеттин в устье реки Одер слишком отличным от той живой атмосферы, к которой она привыкла при брауншвейгском дворе. В Штеттине комендант с семьей жил в герцогском замке, стоящем на центральной площади (ныне известном как замок Померанских принцев), гранитном строении XVI века. Город мог предложить мало возможностей молодой женщине, жаждущей активной общественной жизни. Ничего не изменило и рождение первенца: ребенок не принес Иоганне особой радости. Ее отношение к Софии всегда было противоречивым. Роды были трудными, и похоже, Иоганна считала, что награда за перенесенные ею испытания недостаточна. Что же касается дочери — она чуть не умерла в процессе, и ей потребовалось девятнадцать недель, чтобы поправиться. Ребенком София, которая имела очень белую кожу, светлые волосы и голубые глаза, была отдана кормилице и помещена под постоянное наблюдение «вдовы — некоей герр фон Гогендорф»{6}, которая стала вести себя как подруга Иоганны. Фрау фон Гогендорф недолго продержалась на своей должности, не наладив отношений ни с ребенком, ни с его матерью. Девочку оставляли кричать, в результате чего малышка привыкла игнорировать любое замечание, если его не повторяли несколько раз и очень громким голосом. Однако от начинающейся бесконтрольности Софию спасло появление сестер Кардель из семьи беженцев-гугенотов. Старшая сестра, Магделина, которая ухаживала за ребенком почти до четырех лет, не преуспела в завоевании любви малышки, но ее преемница, младшая сестра, Элизабет, которую обычно звали Бабет, смогла завоевать симпатии девочки и надолго сохранилась в ее памяти среди людей, которые, по ее мнению, хорошо на нее повлияли. София мало видела отца, хотя, похоже, была уверена в его любви издалека («[он] считал меня ангелом»{7}) и гораздо меньше — в любви матери, которая, как ей помнилось, «не особенно беспокоилась обо мне»{8}. Она была вытеснена из сердца матери (если вообще пребывала там когда-либо) долгожданным сыном Вильгельмом Христианом Фридрихом, который родился через 18 месяцев после ее появления на свет. Ее, как ей казалось, «просто терпели»{9} — а временами не было и этого. Бабет Кардель возмещала маленькой девочке отсутствие родительской заботы, не позволяя отвергнутому ребенку стать испорченным. Она научила ее читать и посещала с ней учителей, дававших начальные уроки письма и танцев. Когда Софии исполнилось три года, родители взяли ее к бабушке Альбертине в Гамбург. Еще более впечатляющее событие произошло, когда ей исполнилось четыре года: король Фридрих Вильгельм Прусский приехал навестить маленький двор в Штеттине, и малышку Софию проинструктировали, что приветствовать короля положено, целуя край его плаща. Однако она оказалась слишком маленькой для этого. Горько посетовав на это обстоятельство, София Фредерика упрекнула короля в том, что он не надел более длинного плаща. Инцидент остался в памяти у Фридриха Вильгельма, так что впоследствии он всегда спрашивал о ней. София перенесла все обычные детские несчастья, включая и случаи, когда на нее упал шкаф с игрушками и когда ей в глаз чуть не воткнулись ножницы. В раннем детстве она перенесла вспышку кожной болезни, которую теперь назвали бы импетиго[7]. Когда на ее руках появлялась сыпь, она носила перчатки — до тех пор, пока корочки не отпадали; когда сыпь появлялась на голове, ей приходилось сбривать волосы и носить чепчик. Процессобучения, которому подвергалась юная София, состоял в основном из заучивания наизусть, что она позднее презирала как вредное для памяти занятие и пустую трату времени: «Какой смысл заучивать предметы наизусть, — удивлялась она, — когда можно спокойно пойти и заглянуть в книгу?» Она учила французский и немецкий языки. Кроме того, ее обучал религии, истории и географии лютеранский пастор по имени Вагнер, с которым она имела несколько стычек по такому вопросу, как, например, действительно ли навечно прокляты «Тит, Марк Аврелий и все остальные великие люди древности»{10}, просто еще не имевшие возможности слышать Евангелие, или по поводу природы хаоса, который предшествовал созданию мира. Образ, оставшийся в памяти взрослой женщины — это независимо мыслящий, обладающий интеллектуальным мужеством ребенок, которого невозможно заставить принять чужое мнение. Она вспоминает также, как просила пастора объяснить, что такое обрезание. На этот вопрос даже храбрая Бабет Кардель отвечать отказалась. Хотя время от времени мать отвешивала ей шлепки из-за отсутствия терпения и общей раздражительности характера (полагаю, у обеих), телесные наказания не были неотъемлемой частью детства Екатерины. Пастор Вагнер, признается она, хотел, чтобы ее пороли за дерзость, так как она задавала слишком много вопросов — но Бабет Кардель не имела права осуществлять такого рода экзекуции. Лишенный права на прут, пастор перешел к применению вместо этого психологических пыток, пугая ребенка рассказами об аде и проклятии, пока Бабет не заметила, что ее подопечная плачет у окна и уговаривает его перестать. Чувствительная Бабет предпочитала пользоваться морковкой, а не палкой, награждая Софию за хорошую работу и прилежное поведение чтением вслух. Взрослая женщина вспоминала себя бойкой девочкой, которая только делала вид, что идет спать, а сама, как только оставалась одна, садилась в кровати и превращала подушку в лошадку, прыгая на ней до тех пор, пока не уставала. (Иногда высказывалось мнение, что на самом деле она так мастурбировала{11}. Дети и правда иногда делают это — но что им мешает в самом деле представлять подушку лошадкой?..) Другой ночной трюк, доставлявший ей удовольствие, когда семья оставалась в загородном имении отца в Ангальте, состоял в том, чтобы как только Бабет уйдет к себе, в дальний конец короткого коридора, успеть пробежать вверх через четыре пролета каменной лестницы, а затем промчаться вниз и броситься под одеяло до того, как полная и медленно передвигающаяся женщина вернется. По мере того как София взрослела, Иоганна стала находить общество дочери более приемлемым для себя. В 1736 году она впервые взяла ребенка ко двору в Брауншвейг, чтобы встретиться с женщиной, которой была обязана собственным воспитанием и замужеством — с герцогиней Элизабет Софией Марией Брауншвейг-Люнебергской. Всего лишь семи лет от роду, София по-настоящему радовалась и без умолку болтала; ее, как говорит она сама, набаловали и испортили «надолго вперед»{12}. Иоганна имела привычку оставаться при дворе своей покровительницы каждый год на несколько месяцев (спасаясь от скуки Штеттина), и отныне София всегда отправлялась с ней. Именно там она впервые познакомилась с рутиной и ритуалами формальной придворной жизни. Эта тренировка оказалась для нее бесценной. Во время того первого визита она узнала, какое будущее может ожидать ее, и о возможности целиться высоко. В своих воспоминаниях она приписывает это понимание некоторым замечаниям, сделанным доктором Лаврентиусом Больхагеном, близким другом и советником ее отца. Больхаген читал газету, содержавшую сообщение о свадьбе (в апреле 1736 года) принца Уэльского и принцессы Августы Сакс-Гота-Ольтенбургской, одной из двоюродных сестер Софии. Заметив Бабет Кард ель, он заговорил с ней на эту тему: «Но эта принцесса была гораздо менее тщательно воспитана, чем наши. Кроме того, она некрасива. И вот вам пожалуйста — ей выпала судьба стать королевой Англии! Кто знает, какое будущее ждет наших девочек?»{13} Год этот был тяжелым для семьи: Иоганна пережила смерть младенца — дочери Августы. А София тогда же перенесла свою первую серьезную болезнь. По симптомам, которые она описывает — с самого начала неистовый кашель и резкая боль в груди, — это была какая-то форма пневмонии. София три недели провела с лихорадкой в постели. Кашель и боли в груди продолжались, позволяя лежать только на левом боку. Оказываемая ей медицинская помощь была чистым экспериментом. Как она вспоминала, ей «давали много микстур, но один Бог знает, из чего они были!»{14}Когда она поправилась настолько, что смогла встать с постели, стало ясно, что у нее развилось явное искривление позвоночника. Похоже, это напугало ее родителей, которым уже пришлось смириться с одним ребенком-калекой: старший из двух братьев Софии (ее второй брат, Фридрих Август, родился в 1734 году) мог передвигаться только при помощи костылей. Очень похоже, что оба ребенка пострадали от рахита, при котором имеет место деформация скелета из-за недостатка витамина «D» и отсутствия прямого солнечного света. Известие о болезни Софии постарались сохранить внутри семьи: если бы оно стало достоянием широкой публики, это наверняка серьезно испортило бы ее брачные перспективы. Страшный испуг родителей не поколебал уже зародившейся самоуверенности Софии. Как и причудливое лечение, в конце концов найденное для нее. Единственным человеком с репутацией специалиста по выправлению «смещений», которого удалось обнаружить, оказался городской палач. После осмотра Софии в обстановке страшной секретности он велел, чтобы ее спину и плечи каждый день растирали слюной служанки, которой было строжайше приказано ничего перед этим не есть. Возможно, массаж оказался Софии на пользу — но кроме того, ее заставили днем и ночью носить неудобный корсет. Любопытно, что палач велел ей также носить вокруг правой руки и плеча черную ленту. Примерно через восемнадцать месяцев позвоночник Софии начал выправляться, и к одиннадцати годам ей разрешили снять корсет. Впрочем, для девочки ее лет в то время было нормой носить хотя бы усиленный лиф для формирования правильной осанки — с развернутыми плечами и прямой спиной. Похоже, родители Софии не слишком верили в слабое здоровье своей маленькой девочки. И вели они себя тоже без нежностей. Примерно в то время, когда она заболела, они решили, что ребенок уже перерос кукол и игрушки, поэтому их убрали. Взрослая женщина пишет, что не особенно страдала от этого, так как у нее было достаточно хорошее воображение, чтобы превращать в игрушки все попадавшие ей в руки предметы. Возможно, именно тогда она впервые научилась извлекать максимум пользы из любой проигрышной ситуации, дожидаться своего часа, быть наблюдательной, уходить в себя и готовиться к моменту, когда сможешь действовать, хотя в возрасте семи лет это вряд ли была осознанная стратегия. В 1737 году Иоганна с Софией провели зиму при берлинском дворе, где София познакомилась с женой кронпринца Фридриха (позднее Фридриха Великого) и его младшим братом принцем Генрихом — принцем королевской крови. Двумя годами позднее мать и дочь нанесли визит в Эйтин, где старший брат Иоганны и теперешний епископ Любека Адольф Фридрих Голштин-Готторпский имел официальную резиденцию. Во время этого визита десятилетняя София впервые познакомилась со своим будущим мужем — одиннадцатилетним Карлом Питером Ульрихом, герцогом Голштин-Готторпским. Карл Питер Ульрих был внуком Петра Великого Российского. Его мать, Анна Петровна Романова, была дочерью Петра от второй жены, Екатерины. Она умерла от туберкулеза в возрасте двадцати лет, всего через два месяца после рождения сына. Отцом мальчика был Карл Фридрих, герцог Голштин-Готторпский, племянник Карла XII Шведского. Он скончался в июне 1739 года в возрасте тридцати девяти лет. После смерти отца Карла Питера Ульриха отдали под покровительство кузена его отца и дяди Софии — Адольфа Фридриха. Они с Софией были кузенами. Недавно осиротевший мальчик считался в это время чем-то вроде чуда. Он был хорошеньким, обходительным, с приятными манерами. Карл Питер Ульрих чувствовал себя одиноким и потерянным. Тоскуя по любви и по какой-нибудь женской компании, он сразу же принял живую и привлекательную Иоганну и очень ревновал ее к Софии. Хотя сама София едва замечала его, родственники детей уже склонны были видеть в них будущую пару. Ожидалось, что юный герцог станет однажды королем Швеции. И естественно, София не питала отвращения к мысли, что может однажды стать королевой. Она все-таки была воспитана в предположении, что выйдет замуж в какую-нибудь правящую семью, и чем выше может стать ее положение, тем лучше. Но ее перспективы разумно распространялись лишь на область связей ее родителей, и она сомневалась относительно своих личных качеств. Она не считала себя красивой (ни Бабет, ни родители не расточали непомерных похвал и лести), и рано начала понимать, что должна научиться делать себя привлекательной другим способом, если хочет преуспеть в искусстве обольщения. Но пока планы на замужество были еще не актуальны. Вернувшись в Штеттин, она продолжила заниматься с учителями и с Бабет и не особенно торопилась взрослеть. Ее семья время от времени обсуждала различных возможных поклонников, среди них и принца Генриха Прусского, но она считалась еще слишком юной для серьезных планов на будущее. В 1742 году, когда Софии исполнилось 13 лет, произошло несколько важных семейных событий. Принц Христиан Август перенес удар, от которого пострадала левая сторона тела, хотя выздоравливал он довольно быстро. Еще большим несчастьем стала смерть двенадцатилетнего брата Софии, Вильгельма. Иоганна была безутешна; ее горе лишь отчасти смягчилось после рождения через несколько месяцев еще одной дочери. Малышке дали имя Элизабет в честь императрицы России, которая стала ребенку крестной матерью. Императрица Елизавета, захватившая российский престол во время переворота 1741 года, имела давние связи с Голштин-Готторпами. Не только ее сестра Анна Петровна вышла замуж за герцога Карла Фридриха, но и сама она была помолвлена со старшим братом Иоганны принцем Карлом Августом. Однако эта свадьба не состоялась, поскольку Карл Август умер в России от оспы в мае 1727 года в возрасте всего лишь двадцати лет. Елизавета, женщина очень сентиментальная, сберегла романтическую память о своем молодом женихе, и Иоганна, стараясь сохранить семейные связи, вскоре после того, как она захватила власть, написала ей поздравительное письмо, пожелав долгого царствования. Императрица ответила на наречение ребенка ее именем, прислав Иоганне маленькую копию собственного последнего портрета в обрамлении из бриллиантов. Инсульт принца Христиана Августа, смерть Вильгельма и рождение маленькой Элизабет сопровождались сменой резиденции. В ноябре 1742 года Христиан Август совместно со своим старшим братом стал править Ангальт-Цербстом — маленьким суверенным княжеством с населением всего 20 000 человек. Чтобы занять свое новое положение (его брат являлся соправителем только номинально), Христиан Август уходит в отставку из прусской армии в чине фельдмаршала и со всей семьей совершает переезд на 150 миль — в средневековый городок Цербст, который обнесен стенами, башнями и рвом и представляет собою приятный контраст со Штеттином. Их новой резиденцией стал маленький дворец в стиле барокко, построенный в 80-х годах XVII века. Еще одним человеком, чья жизнь кардинально изменилась в ноябре 1742 года, был молодой герцог Голштин-Готторпский, Карл Питер Ульрих. Вытребованный в Россию бездетной тетушкой, императрицей Елизаветой, он был объявлен ее наследником, перекрещен в православие и пожалован новым именем и титулом — «Его императорское высочество великий князь Петр Федорович». Такая перемена в обстоятельствах сделала его бесконечно более желанным мужем для молодой принцессы, ничуть не изменив его собственного чувства дезориентации и одиночества. Став наследником русского трона, он вынужден был отказаться от своих прав на шведский трон, и при поддержке императрицы Елизаветы брат Иоганны Адольф Фридрих был избран кронпринцем Швеции. В результате к концу 1743 года все связанные с Софией люди поднялись в «феодальном муравейнике» значительно выше, и в правящем доме Ангальт-Цербстских не прошло незамеченным, что у мальчика, чье имя в шутку связывали с Софией несколько лет тому назад, теперь по-настоящему великое будущее. Копия портрета Софии, написанного Бальтазаром Деннером, была отправлена другим братом Иоганны, принцем Фридрихом Августом, императрице Елизавете, чтобы та не забыла племянницу своего бывшего жениха. Вскорости вслед за тем сложилась странная интерлюдия, замешанная на великих амбициях. Она предполагает отсутствие надзора за Софией Фредерикой и, возможно, даже некоторое попустительство со стороны Иоганны, но в некоторой степени и двойственность амбиций, которые та лелеяла относительно своей дочери. Иоганна, невзирая на заинтересованность в возвышении своей семьи, так никогда до конца и не простила Софии способность затмить ее самоё, возможность проникнуть в более могущественный, более блестящий, более волнующий мир, нежели тот, в котором вынуждена была существовать она сама. История вращалась вокруг младшего брата Иоганны, принца Георга Людвига Голштин-Готторпского, который находился на службе у короля Пруссии и наслаждался жизнью, проводя время в обществе сестры и ее семьи. Георг Людвиг был на 10 лет старше Софии. Он наведывался ее в ее комнату, когда матери не было дома или она была чем-нибудь занята. Сначала София была слишком неискушенной, чтобы ей пришла в голову мысль о природе этих посещений. Георг Людвиг был лишь любимым дядей, которому нравилось проводить с ней время. Однако Бабет Кардель была не глупа. Она не одобряла визитов и жаловалась, что они мешают учебе Софии. Вскоре после того, как Бабет выразила свое беспокойство, принц Георг Людвиг покинул Цербст. Но когда он вновь встретил Софию — в Гамбурге, по пути в Брауншвейг, куда Иоганна с дочерью ездили с визитом ежегодно, — Бабет с ней не было, и принц мог проводить в компании Софии столько времени, сколько хотел. Однако в Брауншвейге он был осмотрительнее: мало общался с Софией на публике и разговаривал с нею только по вечерам в комнате ее матери. София — по крайней мере, в своих мемуарах в зрелом возрасте — утверждала, что общалась с ним лишь как с добрым другом и родственником и не вполне поняла записку, где он оплакивал факт, что является ее дядей. Когда она спросила, почему он чувствует себя из-за этого несчастным, он попросил ее пообещать выйти за него замуж. Просьба эта удивила Софию, но одновременно открыла ей глаза на природу чувств дядюшки. Поначалу смущаясь, она постепенно привыкла к проявлениям страсти, которую Георг Людвиг мог теперь выказывать ей свободно, и решила, что он привлекает ее достаточно, чтобы она согласилась выйти за него замуж — но только если ее родители дадут согласие. (Столь близкое семейное родство требовало также согласия на заключение брака со стороны лютеранской церкви.) Позднее София поняла то, что было очевидно любому внимательному наблюдателю: ее мать прекрасно знала, что происходит, и санкционировала поведение своего брата. Раз девушка принципиально согласилась на предложение принца Георга Людвига, он позволил себе преследовать ее как физически, так и психологически, используя каждую подвернувшуюся возможность, чтобы поцеловать ее. В других обстоятельствах он бы вздыхал и стенал, забывал есть и пить, играл бы романтическую роль безнадежно влюбленного, боялся, что другой поклонник перехватит его приз прежде, чем он сумеет получить согласие ее родителей. Но он не предпринимал никаких действенных шагов, чтобы закрепить свое положение. Может быть, Иоганна посоветовала ему дожидаться своего часа, зная, что отец Софии не будет сговорчивым? Когда София и Иоганна вернулись в Цербст, принц Георг Людвиг покинул Брауншвейг тоже, но вскоре события сложились так, что положили конец этому эпизоду. В первый день нового 1744 года Иоганна получила из Санкт-Петербурга письмо, написанное Брюммером, обер-гофмаршалом великого князя Петра, в котором она и ее дочь София по приказу Елизаветы, императрицы Всея Руси, приглашались к русскому двору. София украдкой бросила взгляд в письмо, когда мать вскрыла его. Этого ей оказалось достаточно, чтобы уловить его важность. Ей ничего не говорили о письме в течение трех дней. Последнее время мать уделяла ей больше внимания. Отчасти из-за шведского дипломата, графа фон Гюлленбурга, который, встретив их обеих осенью 1743 года, попытался объяснить матери, что ее дочь стоит гораздо большего внимания, чем она думает (он имел с Софией разговор на темы культуры; они обсуждали некоторые взгляды и книги), отчасти из-за отношения к Софии ее брата Георга Людвига она начала смотреть на девушку по-другому. Иоганна предпочитала считать свою дочь будущей невесткой — человеком, который будет другом и не будет больше представлять угрозы ее собственной значимости. Письмо из России разрывало Иоганну пополам. С одной стороны — как могла она сопротивляться соблазну совершить путешествие в место, которое считается двором чудес, и чести, которой она будет удостоена как близкая к императрице персона? Но с другой стороны — как могла она перенести одно лишь осознание того, что никто иной как ее дочь является главным объектом интереса императрицы и что супруга наследника русского престола, конечно, куда более важная персона, чем теща? Более того: если (а на это похоже) она уже дала слово своему брату, что сделает все от нее зависящее, дабы София стала его невестой, она оказывалась в затруднительном положении. София, прекрасно понимая нерешительность матери и необычайно повзрослев за последние несколько месяцев, решила взять дело в собственные руки. Соответственно она объявила матери, что знает о содержании письма, что весь дом только об этом и говорит, и сказала, что приглашение нельзя игнорировать, так как на карту поставлено ее будущее. Иоганна, захваченная врасплох прямой атакой, запуталась, попыталась сказать, что политическая нестабильность делает Россию опасным местом, а также впервые упомянула дядю Софии как человека, который имеет интерес к ее будущему. София при упоминании о нем вспыхнула, но она уже все для себя решила и ответила, что принц Георг Людвиг может желать ей только добра. И Иоганна выбрала самый легкий путь, сказав: «Спроси своего отца». Христиан Август намеренно был исключен из числа приглашенных в Россию. (В этом не было ничего необычного. Став императрицей, София следовала тому же правилу: выписывая невест для знакомства и представления сыновьям и внукам, приглашала с ними только матерей. Важно было, чтобы такие визиты не выглядели слишком официальными — на случай, если планы не осуществятся.) Иоганне были выданы необходимые для путешествия средства и инструкции о соблюдении строжайшей секретности относительно цели поездки: до Риги (которая стояла на границе между польской Литвой и Российской империей) следовало ехать инкогнито, под именем графинь Рейнбек. В Риге предстояло открыть себя: там их с Софией встретит эскорт. Оказавшись в империи, они должны будут объяснять свой визит желанием лично поблагодарить императрицу за честь, оказываемую семье Иоганны. Видимость простого дружеского визита дальних родственников к своей благодетельнице разыгрывалась для посторонних; ни дома, ни за границей этому никто не поверил. В своих мемуарах София писала, что именно она уговорила Христиана Августа позволить жене и дочери принять приглашение — на том сомнительном основании, что путешествие ни к чему их не обязывает, и если по прибытии в Россию им там совсем не понравится, они развернутся и уедут домой. Христиан Август испытывал сильные сомнения: стоит ли позволять своей дочери-лютеранке отправиться в качестве предполагаемой царской невесты в страну, где государственной религией является православие — хотя часть его души принимала вызов. Впрочем, оба родителя понимали, что правитель крохотного немецкого княжества не может безнаказанно отвергнуть предложение императрицы России — которое звучало почти как приказ. Подавив сомнения с помощью письменных наставлений дочери по поводу ее будущего поведения, Христиан Август позволил дамам семейства отправиться в путешествие. Делая перед окружающими вид, что семья отправляется в Берлин, он покинул Цербст вместе с женой и дочерью. Бабет Кардель оставили в Цербсте. Они с Софией не очень ладили последние несколько дней, так как воспитанница отказывалась рассказать, что затевается. Но когда подошел момент прощания, они обнялись, рыдая: обе понимали, что не увидятся вновь, несмотря на попытки Софии придерживаться официальной версии относительно поездки в Берлин. Одной из причин пролегания маршрута через Берлин было то, что Фридрих II Великий, в 1740 году ставший королем Пруссии, хотел проинструктировать Иоганну, как наилучшим образом послужить его интересам при русском дворе. Платой было согласие Фридриха использовать свое влияние для назначения старшей сестры Иоганны главой принадлежащей Пруссии религиозной общины в Кведлинбурге. Фридрих прекрасно знал о реальной причине путешествия. Он приветствовал возможную свадьбу, надеясь, что она послужит росту влияния Пруссии на Россию. Он хотел, естественно, сам повидаться с Софией, но Иоганна непримиримо противилась этой идее — похоже, она чувствовала, что ее дочь слишком быстро отбирает у нее сияние — и выдвинула все пришедшие ей в голову извинения (у Софии нет приличного платья, София больна), чтобы избежать появления той при дворе. Однако король настаивал, и в конце концов Иоганне пришлось сдаться. Софии подали знак (без сомнения, к досаде Иоганны) сесть на обеде рядом с Фридрихом, чтобы он мог побеседовать с ней. Она проявила себя хорошо и, похоже, получила одобрение короля. Покинув Берлин, Христиан Август повернул на Штеттин, а Иоганна с Софией направились в сторону России. Это было еще одно трудное расставание, так как отец и дочь прощались навсегда, о чем, должно быть, догадывались. За многие последовавшие годы Софии достанется мало любви, и ей наверняка гораздо больше, чем она признавала, не хватало ее надежного, честного отца. София находила долгое путешествие в середине зимы из Берлина в Санкт-Петербург через Митаву и Ригу очень мучительным: опухали ноги, и на каждой остановке ее приходилось выносить из кареты и вносить обратно. Сначала группа не была особенно большой: кроме Софии и Иоганны, она состояла из камергера Иоганны, ее компаньонки фройляйн фон Кайн, четырех горничных, камердинера, нескольких лакеев и повара. Приготовления, которые сопутствовали такому путешествию, как и подготовка к прибытию путешественников в различных точках вдоль маршрута, были сложными. По прибытии в Митаву (теперь Елгава в Латвии, тогда столица Курляндии[8]) Иоганне сообщили, что с нею хочет познакомиться полковник — командир гарнизона замка. Она согласилась принять его (в своих мемуарах София дополнительно сообщает, что Иоганна поместила ее в отдельной комнате, не допустив на встречу. Полковник доложил, что послал в Ригу (где уже целую неделю дожидается кортеж императрицы) курьера с новостью о ее приближении и хочет знать, нет ли у нее каких-либо приказаний. При отъезде из Мита-вы на следующий день в десять утра полковник не только придал им. эскорт из шести военных, но настоял также на сопровождении их собственной персоной с двумя офицерами дополнительно. В гостинице между Митавой и Ригой их встретили представители русского двора — обер-гофмаршал князь Нарышкин, обер-егермейстер и камергер. Нарышкин передал письма и приветствия от императрицы и взял организацию оставшейся части путешествия в свои руки. Когда они оказались в миле от Риги, им навстречу выехал вице-губернатор города князь Владимир Долгорукий в сопровождении всех свободных от дежурства офицеров гарнизона, различных городских сановников и представителей знати. (Невозможно удержаться и не вспомнить гоголевского «Ревизора», по ходу сюжета которого всех выгоняют встречать важную персону, кем бы она ни была…) Иоганна, которая вела записи об этом путешествии для остальной семьи и повсюду уверяла, что была центральным лицом происходящего, вполне предсказуемо описывает это так: «Меня принимали…» Князь Нарышкин представил старшей гостье собравшихся сановников, а затем их с Софией пригласили перейти в экипаж, который был прислан специально за ними из Петербурга. Итак, первая из множества великих процессий в жизни Софии началась. Она состояла из верхового ротмистра-квартирмейстера, ротмистра с отрядом кирасир одного из корпусов великого князя Петра, князя Нарышкина, полковника, сопровождавшего княгинь от Митавы, князя Долгорукого, коменданта Риги, еще одного ротмистра-квартирмейстера, двух офицеров Финского полка, кареты, везущей Иоганну, Софию и фройляйн фон Кайн, «повозок» с одеждой и другими необходимыми принадлежностями, а также карет, везущих представителей знати и чиновников различных правительственных департаментов. Конвой пересек по льду реку Двину. Когда экипаж с Иоганной и Софией переехал большой мост недалеко от Риги, с крепостного вала выстрелили пушки. В воротах выстроился большой отряд под командованием двух офицеров. Под рев фанфар и рокот барабанов путешественницы ехали по узким улочкам мимо домов под островерхими крышами. Именно тут они перестали называть себя графинями Рейнбек, а календарь передвинулся на одиннадцать дней назад — к старому стилю. У поворота на улицу, где они должны были остановиться, располагался отряд гвардейцев, а еще сотня (согласно свидетельству Иоганны) выстроилась возле предназначенного для них дома. Иоганну и Софию препроводили в жилище богатого купца, принадлежавшего к знати, а не в императорский дворец или замок, так как ни один из них не был достаточно хорошо прогрет для их краткой остановки. Вдоль улиц выстроились толпы людей. Экипажи, следовавшие за конвоем, решили двигаться альтернативным маршрутом и присоединиться к княгиням на въезде. Еще сорок солдат разместились внутри возле парадного входа; два кирасира стояли у двери столовой. Дом оказался чистым и красиво меблированным. Иоганна с одобрением заметила, что мебель была английская и «такую можно найти в Гамбурге»{15}. И вновь множество людей явилось представиться новоприбывшим и приветствовать их. Происходило все в столовой — единственной комнате, размеры которой позволяли принять всех, кто хотел познакомиться с Иоганной. (По-видимому, они также хотели познакомиться и с Софией, но из записок Иоганны этого не видно.) Потом Нарышкин и Долгорукий проводили княгинь в приготовленные для них комнаты, где их приветствовали люди, посланные Елизаветой им в услужение. Тут им подарили новую одежду на остаток путешествия. Каждая получила роскошную соболью шубу (или плащ), покрытую золотой парчой, палантин (широкая накидка с капюшоном) из того же меха и меховое одеяло, подбитое богатой тканью с рисунком на золотом фоне. Этим одеялом нужно было укутываться в санях, в которых им предстояло проделать оставшуюся часть пути. Затем им подали кофе и состоялся разговор с Нарышкиным и Долгоруким — в основном по-французски, который оказался общим языком, хотя Нарышкин знал также и немецкий. Иоганна отправила к императрице курьера, информируя ее о своем прибытии в Ригу, а также благодаря за щедрость. Далее последовал ужин, на котором звучали тосты в честь императрицы и Его императорского высочества великого князя. Иоганна составила список людей, присланных императрицей сопровождать их с Софией и удовлетворять все их потребности в Риге и на оставшемся отрезке путешествия. Он звучит как «Двенадцать дней Рождества».Принцесса Иоганна Голштин-Готторпская —о своей дочери, будущей Екатерине II
«1. Отряд кирасир с лейтенантом из Голштинского полка великого князя. 2. Камергер князь Нарышкин. 3. Шталмейстер. 4. Офицер Измайловской гвардии, выполнявший функции слуги; 5. Дворецкий. 6. Заготовитель. 7. Не знаю сколько поваров и их помощников. 8. Ответственный за напитки и его помощник. 9. Человек, готовивший кофе. 10. Восемь лакеев. 11. Двое караульных — гренадеры Измайловского полка. 12. Два сержанта-квартирмейстера. 13. Не знаю сколько саней и конюхов»{16}.
Несколько следующих дней княгини провели в Риге; шталмейстер императрицы объяснил через переводчика, что задержки избежать невозможно. Это означало, что образовалось время на обзаведение новыми знакомствами, и в полдень все знатные дамы города пришли навестить путешественниц. Каждый раз, когда княгини выходили к трапезе, звучали трубы, барабаны, флейты и гобои. Иоганна лицемерно заявляет: «У меня не укладывалось в голове, что все это устраивалось для меня, бедняжки, для которой в некоторых местах едва ударяли в барабан, а в других и вообще не раздавалось ни звука»{17}. Приблизительно за час до отъезда княгинь из Риги все сановники, приветствовавшие их по прибытии, пришли снова — проводить их, и Иоганна столкнулась с тем, что ей без конца целуют руку. Затем общество расселось по саням. Сани, в которых должны были ехать Иоганна с Софией, были особенно хитроумными. Построенные еще Петром Великим и обычно используемые самой императрицей, они представляли собой что-то вроде спальни с прихожей, поставленной на полозья и запряженной лошадьми. Снаружи обтянутые пурпурной с серебром парчой, внутри они были обиты мехом. Там находились пуховые перины, шелковые матрасы и одеяла, дамасские подушки и атласные покрывала, поверх которых путешественники должны были лежать. В санях лежало также множество подушек, чтобы устраивать их под голову, и все было закидано меховыми одеялами, усиливая ощущение огромной постели. (Софии пришлось научиться забираться в этот экипаж и выбираться из него.) Еще внутрь помещали нагретые камни — чтобы ноги путешественника оставались теплыми, — а с потолка свисала лампа с восковыми свечами. Пространство между спальным отделением и местом кучера использовалось для перевозки багажа. Там же находился в дневное время дворянин сопровождения, а ночью — служанки. Фройляйн фон Кайн были предоставлены отдельные, менее роскошные сани. А сзади, за огромной вереницей саней, следовал колесный экипаж — на случай, если Иоганна и София поймут, что не в состоянии переносить непривычный для них вид транспорта. Конвой тронулся поздним утром — и снова Иоганна дает полное описание порядка следования:
«1. Эскадрон полка Его императорского высочества. 2. Мои сани, впереди которых едут камергер князь Нарышкин, конюший Ее императорского величества, офицер измайловского отряда и монсеньор Латорф; позади меня — два лакея Ее величества и два преображенца. 3. Отряд полка, который всегда движется перед правителями. 4. Сани с вице-губернатором и его комендантом. 5. Сани «ла Кайн». 6. Сани камергера и гофмейстера. 7. Сани магистрата, помощников, знати и тех офицеров, которые не скакали в этот момент на лошадях вокруг моих саней»{18}.
Примерно за милю до города основная часть партии попрощалась с седьмой категорией в списке Иоганны. Однако вице-губернатор и комендант, а также несколько офицеров сопровождали княгиню с дочерью до ужина, после чего сократившийся кортеж поспешил в ночь, на следующий день остановившись пообедать в Дерпте в Ливонии (современная Литва[9]), где им снова были оказаны все воинские почести. Поздней ночью с пятницы на субботу путешественники прибыли в Нарву (современная Эстония), на несколько миль отстоящую от Финского залива. Улицы, по которым им предстояло проехать, были иллюминированы, но из-за позднего часа и усталости любознательные дамы не сумели как следует осмотреться. Они двинулись дальше в середине следующего дня, ехали всю ночь и прибыли в Санкт-Петербург под пушечные залпы в час дня 23 февраля, в краткие часы зимнего светового дня этого самого северного из городов. Было бы ошибкой воображать Санкт-Петербург 1744 года таким же великолепным городом, каким он стал позже. Он еще строился — многие дома были лишь бревенчатыми хижинами, — хотя итальянский архитектор Доменико Трезини возвел уже Петропавловский собор, Летний дворец, Двенадцать коллегий и Биржу. Шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора уже существовали, но не были еще позолочены. Большая часть города была деревянной, регулярно случались пожары — впрочем, как и наводнения. Вдоль Невы на запад от Адмиралтейства строились дома из дерева и камня для русской аристократии и видных иностранцев. Зимний дворец Елизаветы находился на месте, занимаемом им по настоящее время, хотя был меньше (и продувался насквозь), но пространство за ним, ставшее в конце концов Дворцовой площадью, было обычным полем. На деле большая часть Санкт-Петербурга все еще была необжитым пространством, кое-где — с волками и медведями. Тем не менее этот город на берегу Финского залива, население которого вдвое превышало население Берлина, произвел огромное впечатление на княгинь Ангальт- Цербстских. Санкт-Петербург не был окончательной целью их поездки, так как двор время от времени пребывал в старой столице — Москве. Идея состояла в том, чтобы после краткой передышки в Петербурге принцессы отправились в Москву, где их ждали в феврале — к шестнадцатилетию великого князя Петра. Императрица велела нескольким придворным дамам сопровождать гостей в Москву, и четыре из них встречали прибывших у подножия лестницы Зимнего дворца, вместе с вице-губернатором князем Репниным и «тысячами»{19} (согласно Иоганне) других сановников различных рангов. Воспоминания Иоганны таковы, что можно простить любого, кто подумает, будто ее дочь выпала из саней где-то на маршруте:
«Граф подал мне руку; мне были предназначены покои великого князя. Когда я вышла из саней, меня приветствовали залпы пушек с Адмиралтейства… По прибытии в апартаменты мне представили сотни людей. Язык застывал от холода, но тем не менее мне приходилось отвечать на любезности. Обедала я одна с дамами и господами, приданными мне императрицей; обслуживали меня как королеву. Дамы пришли повидать меня вечером… На следующий день, который был вчера, я принимала приветствия священников и монахов. Целый день вокруг толпились люди. Я уже почти теряла сознание, когда вернулась во внутренние покои{20}».
После обеда Нарышкин организовал для гостей представление: у него была труппа из четырнадцати слонов, подаренных императрице Елизавете Надиром, шахом Персии. Их (и гостей, и животных) привели во двор Зимнего дворца, где слоны показывали различные цирковые трюки. Княгини провели в Санкт-Петербурге более двух дней, в течение которых ряд придворных, не поддерживавших предполагаемого брака, сделал вялые попытки задержать их и не дать прибыть в Москву вовремя — ко дню рождения великого князя, что дискредитировало бы их в глазах императрицы. Иоганна была начеку. Узнав о заговоре от своего старого знакомого маркиза де ла Шетарди, она настояла на как можно более раннем отъезде в Москву. Отправление состоялось в ночь с пятого на шестое февраля. На этот раз кортеж состоял из двадцати-тридцати саней. Смены лошадей ждали на каждой почтовой станции, где приезжим подавали также утренний кофе, обед или ужин и обеспечивали «всеми мыслимыми удобствами». На этом этапе путешествия Иоганна слегка пострадала, когда ночью длинные спальные сани задели задом за угол огибаемого дома. Ее описание события крайне драматично:
«Удар, полученный санями, привел к тому, что большой железный прут, который удерживал кожух и использовался для его откидывания, если вы желали остаться на открытом воздухе, упал внутрь. Этот прут потянул за собой меньший, который удерживал занавеску, заслонявшую от солнца. Оба прута рухнули мне прямо на голову. Удар разбудил меня; я попыталась выбраться из-под накидки. Тогда оба прута скатились мне на грудь и на руку. От страха и боли я едва могла дышать. Все, что я сумела сделать, — это растолкать дочь, которая спокойно спала рядом. На нее ничего не свалилось. Пока она кричала кучеру остановиться, я смогла высвободиться. Я думала, что ранена, но ран не оказалось — накидка защитила меня от удара в полную силу; иначе мне наверняка разбило бы голову, грудь и руку. Меня вынули из саней, растерли водкой, и я отделалась несколькими синяками»{21}.
Описание инцидента, сделанное дочерью, гораздо точнее:
«Когда мы покинули Петербург, сани, в которых ехала моя мать, ударились при повороте о дом, и железный крючок, прикрепленный к экипажу, упал ей на голову и плечо. Она кричала, что получила смертельные раны, хотя ничего не было видно — не было даже синяков. Инцидент задержал наше путешествие на несколько часов»{22}.
На деле Иоганна получила гораздо меньше ушибов, чем другие участники поездки. Одному из гренадеров охраны ударом о дом разбило нос и подбородок, а «одного из кучеров… сбросило с облучка; он упал на сержанта-квартирмейстера, пажей и скороходов, которые находились в передней части саней, и просто счастье, что никто ничего не сломал»{23}. Несмотря на несчастный случай, конвой быстро продвигался вперед, и к четырем часам пополудни девятого февраля был уже в двадцати пяти милях от Москвы. В этом месте их встретил курьер, прибывший, чтобы проинструктировать Иоганну о том, как следует войти в город. Приходилось поторапливаться, так как Ее императорское величество находилась в состоянии нервозного ожидания. Княгини быстро переоделись (София вспоминала, что на ней было тесно облегающее платье из розового с серебром муара — тяжелый, с разводами шелк крупного плетения), быстро поели (хотя Иоганна заявила, что слишком нервничает, чтобы проглотить хоть кусочек) и, выслав вперед курьеров, отбыли. На этот раз сани тянуло шестнадцать лошадей, так что оставшееся расстояние они покрыли за три часа. За пару миль до города их встретил лично камергер двора Ее императорского величества, который передал приветы от императрицы и великого князя и сообщил, что оба с нетерпением ждут встречи с ними. Камергер занял переднее место в санях, откидной верх которых сдвинули назад, и путешественницы были наконец-то доставлены к дворцу Анненгоф[10], где расположилась резиденция двора. Минуя роскошный въезд, сани проследовали мимо апартаментов императрицы. Та вышла в маленький коридорчик со множеством окон, откуда могла кинуть взгляд на посетительниц, оставаясь невидимой. Выбирающихся из саней Иоганну и Софию приветствовал гофмаршал Брюммер с несколькими камергерами, гофмейстерами и офицерами охраны. Затем их провели в покои, где дамы избавились от верхней одежды. Когда Иоганна снимала головной убор, появился великий князь Петр и представил ей фельдмаршала князя Гессен-Гомбургского — адъютанта императрицы. Приближался момент встречи с самой императрицей, которая пригласила прибывших в свои апартаменты. «И мы отправились, — рассказывала потом Иоганна. — Никто не скрывал любопытства и того, что немецких дам разглядывают от макушки до пяток и от пяток до макушки. Ее величество сделала несколько шагов и оказалась в помещении, известном как примыкающая к спальне приемная. Я сняла перчатки, и она удостоила меня поцелуя, который я не могу назвать иначе чем нежный»{24}. Затем Иоганна поцеловала императрице руку, произнесла формальные слова благодарности за «блага, которые она излила намою семью», и попросила о дальнейшей защите «для себя, остальной семьи и ребенка, которого Ее величество удостоила чести вместе со мной присоединиться к ее двору»{25}. На Софию произвела огромное впечатление красота тридцатичетырехлетней Елизаветы и величавость ее осанки: «Императрица была крупной женщиной, несмотря на полноту ничуть не обезображенной своими размерами и не стесненной в движениях. Ее голова тоже была прекрасна»{26}. На ней был очень большой кринолин, надетый ради особого события под платье из серебряного муара, расшитого золотой тесьмой; в волосах красовалось черное перо и множество бриллиантов. Императрица, поблагодарив Иоганну за ее слова, обратила внимательный и одобрительный взгляд на Софию. Она поцеловала ее, а затем повела обеих в свою спальню (это было не настолько личное помещение, как представляется теперь — дела часто совершались в спальнях). Там стояли кресла, но ни одна из дам не села. Иоганна говорит, что из-за необычайной оживленности разговора никто не вспомнил о креслах, а София напоминает, что раз не села императрица, никто другой сесть не мог. Во время разговора Елизавета на несколько минут покинула комнату. София решила, что она вышла отдать какие-то распоряжения, но Иоганна предпочла считать, что причина была романтической: «Впоследствии я поняла, что разглядев близко мое лицо, она заметила, насколько похожа я на своего брата, и не смогла сдержать слез; именно поэтому она и вышла»{27}. Примерно через полчаса императрица решила, что Иоганна с Софией, должно быть, устали с дороги, и отпустила их. Этим вечером она не ужинала с ними, как и в последующие дни, так как был Великий пост, и набожная Елизавета воздерживалась от мяса, которое подали гостям. Однако великий князь был освобожден от соблюдения постов. Он часто делил стол с княгинями — или в их апартаментах, или в собственных. На первом ужине София сидела слева от великого князя, а граф Миних, гоф-интендант императрицы, с другой стороны от нее. Ее поразил тот факт, что он имел привычку очень медленно говорить с закрытыми глазами. Она запомнила, что у великого князя Петра длинное бледное лицо, прямой нос, твердый подбородок, довольно маленький для его возраста, и огромное количество нервной энергии. Во время ужинаимператрица незамеченной подошла к дверям, чтобы проверить первое впечатление, сложившееся у нее о гостях. На следующий день императрица и великий князь прислали через гофмейстеров свои комплименты новоприбывшим. Как только дамы оделись, им были представлены лица, назначенные в их свиту. Сюда относились два камергера и два гофмейстера, четыре пажа и «не знаю сколько прочих — в общем, очень многочисленный двор»{28}. Им были представлены также и другие знатные персоны, а затем, около одиннадцати часов утра, прибыл князь Гессен-Гомбургский с приглашением присоединиться к императрице в ее апартаментах. «Этот день, — записала Иоганна, — был праздничным для великого князя. В передних толпилось множество людей, так что едва можно было протиснуться. На мне была тяжелая одежда, я устала с дороги, поэтому ко времени, когда я пробилась к Ее величеству, ноги подо мной подгибались»{29}. По этому случаю императрица наградила обеих, и Иоганну, и Софию, орденом Святой Екатерины. После того, как ленты и звезды оказались на местах, все они отправились навестить великого князя. Императрица, чью голову, шею и грудь украшали драгоценности и которая была одета в коричневое платье, расшитое серебром, вскоре покинула их, чтобы идти в церковь. Княгини быстро освоились с придворной рутиной, ведя сравнительно тихую жизнь, так как был Великий пост: одевались к обеду в середине дня и встречались с различными придворными за вечерним кофе. Остаток послеполуденного времени проводился в одиночестве, а вечерами они посещали апартаменты великого князя Петра или он приходил к ним (в обоих случаях его сопровождали гофмейстерины и гофмейстеры). У императрицы много времени занимали молитвы. Елизавета была необычайно религиозной и во многом даже суеверной женщиной. Софии приходилось очень быстро впитывать огромное количество информации, ибо она хотела выжить и преуспеть при русском дворе. Прежде всего она должна была выяснить, кто есть кто и чье расположение жизненно важно заслужить. Одним из самых могущественных людей был вице-канцлер Елизаветы граф Алексей Бестужев-Рюмин (часто называемый просто Бестужевым). Позднее София описывает его как человека, которого «определенно более опасались, чем любили… великого интригана, подозрительного, жесткого и беспринципного, иногда тираничного, беспощадного к врагам, но преданного друга»{30}. Бестужев не был сторонником Софии в качестве невесты для Петра — он предпочел бы девушку из австрийской или английской королевской семьи. Против Бестужева выступали придворные, поддерживавшие интересы Франции, Швеции и Пруссии. Их возглавляли маркиз де ла Шетарди и граф Лесток — лейб-хирург Елизаветы и первый сторонник переворота, приведшего ее к власти. К тем, с кем Софии необходимо было научиться поддерживать отношения, относился также сам великий князь Петр. Он не выглядел особенно счастливым молодым человеком. Воспитывавшийся целым рядом мужчин-учителей, он чувствовал себя при дворе Елизаветы одиноким и запуганным, неуверенным в себе из-за навязанной ему новой религии. Он не испытывал также особого энтузиазма по поводу России и перспективы править ею. Поначалу прибытие Софии показалось ему желанным разнообразием — появился товарищ почти что его лет, кто-то еще, выдернутый из окружения, сходного с его собственным прежним окружением, кто-то, на кого — первоначально — он мог надеяться произвести впечатление знанием русского двора. Можно понять его облегчение — он не был больше единственным молодым человеком, постоянно находящимся в свете рампы, не понимая, как и что происходит и даже что говорят люди. Может быть, вначале он почувствовал себя защитником по отношению к Софии. К несчастью, она быстро обогнала его. Быстрота ее ума, ее внутреннее политическое чутье — вероятно, даже тот факт, что она была девушкой и могла позволить себе молча впитывать информацию, соображая, как использовать ее потом наилучшим образом, — а также ее амбиции и твердая решимость означали, что она подстроилась ко двору гораздо легче, чем это когда-либо смог бы сделать Петр. Вместо того, чтобы стать мудрым спутником своей юной будущей жены, Петр обнаружил, что все. идет не так, и ему это совсем не понравилось — в конце концов, он находился тут дольше нее, был старше, пусть ненамного, и был мужчиной. Хотя София умела приспосабливаться лучше, чем Петр, огромные изменения, которые ей необходимо было претерпеть, с трудом давались ей физически. Кроме того, что она оказалась в чужой стране, чей язык был ей совершенно неизвестен, а обычаи чужды, ей пришлось расстаться с относительно непринужденной и суверенной частной жизнью при незаметном немецком дворе, сменив ее на полную открытость, где каждое ее действие, слово и выражение лица учитывалось, интерпретировалось и докладывалось властям. Ее брак с великим князем Петром ни в коем случае не был предрешенным. Первые недели и месяцы при русском дворе были для Софии испытательным сроком, и если ей не хотелось быть с позором отосланной домой, она не имела права ни на один неверный шаг. Она получала мало помощи и не была даже уверена, что собственная мать на ее стороне. Однако к ней приставили учителей, призванных помочь ей адаптироваться как можно быстрее: отца Симеона Тодоре кого, настоятеля Ипатьевского монастыря, позднее епископа Псковского, — для подготовки к переходу в православную веру (он исполнил такую же роль для великого князя Петра); Василия Ададурова — учителя русского языка, и монсеньора Ландэ, который давал ей уроки танцев. Она так стремилась поскорее выучить русский язык, что вставала ночью и заучивала слова. Такое рвение, считала она (или решила, что так должны считать читатели ее мемуаров), привело к заболеванию плевритом. Иоганна, которая сначала была настроена не обращать внимания на озноб дочери, затем решила, что у нее может быть оспа, и по этой причине воспротивилась рекомендациям докторов пустить Софии кровь (кровопускание было в то время одним из немногих видов лечения при всех болезнях). Иоганна считала, что кровопускание явилось одной из причин смерти от оспы ее собственного брата, и побоялась, как бы то же самое не случилось с Софией. И пока доктора спорили с Иоганной и посылали отчеты императрице, которая ушла в паломничество к монастырю Святой Троицы Сергиевской, бедная София лежала в сильной лихорадке и стонала от болей в боку. Лишь на пятый день ее болезни императрица вернулась, нашла Софию уже без сознания и немедленно установила надзор. В присутствии графа Лес-тока и еще одного хирурга она настояла, чтобы Софии немедленно пустили кровь. Операция (хирург вскрыл вену на ноге) принесла девушке немедленное облегчение. Несмотря на протесты Иоганны, в течение следующего месяца ей пускали кровь шестнадцать раз. Со временем ее мать вынуждена была признать, что дочь болеет все-таки не оспой. Даже во время жестокой болезни София не забывала, что обязана сохранять правильный «сценический образ». Так, например, когда Иоганна захотела пригласить к постели дочери лютеранского пастора, София попросила привести вместо него Симеона Тодорского, который в должное время пришел и поговорил с ней. Может быть, она уже привыкла к священнику и оценила его компанию и молитвы, но независимо от того, была или не была зачтена ее просьба, выбор поднял ее статус в глазах двора и императрицы. Как и всё при дворе, болезнь проходила на публике. Софию не оставили чахнуть в одиночестве — в ее комнате постоянно находились люди, наблюдая и слушая, а она была уже достаточно умна, чтобы помнить об этом. Период своего выздоровления она также использовала для учебы: делая вид, что спит, она откровенно подслушивала разговоры гофмейстерин. Иоганна проявляла меньше мудрости, и ее поведение во время болезни Софии Фредерики никому не внушило любви к ней. Считалось, что она демонстрирует недостаточную любовь к дочери. Зато великий князь Петр проявлял заботу о Софии и, как она начала понимать, все больше привыкал проводить вечера рядом с нею и с Иоганной. Двадцать первого апреля, в день своего пятнадцатилетия, София впервые после болезни официально появилась на публике. Как она вспоминала много лет спустя, то был трудный день: «Не думаю, что мое появление произвело хорошее впечатление. Я стала худющей как скелет, подросла, но черты лица были напряжены, волосы висели, я была смертельно бледной. Я казалась сама себе уродливой как пугало и не чувствовала себя свободной»{31}. Императрица послала ей румяна (изготовленные из красного свинца, перемешанного с кармином или киноварью) и велела нанести их на щеки. К счастью, такой бледный вид был временным явлением. София успешно прошла начальную проверку и была признана императрицей и великим князем. Третьего мая она пишет отцу, прося у него официального согласия на помолвку. За языковой стилистикой (она уверяет, что ее желания всегда будут совпадать с его желаниями и никто не убедит ее свернуть с правильного пути) лежит понимание того, как действительно обстоят дела в данный момент. Речь шла о ее переходе из лютеранства в православие (или греческую церковь). Но София твердо уверена, что сомнениям отца — как, впрочем, и ее собственным — нельзя позволять становиться на пути ее амбиций. Она повторяет то, о чем писала ему прежде: что не находит различий в греческой и лютеранской религиях, и поэтому считает обращение допустимым. Однако к этому решению она пришла не без борьбы. Взгляды ее отца, в том числе религиозные, имели на нее большое влияние. Она была воспитана в преклонении перед церковью, привыкла к обязательному произнесению молитв утром и вечером и принимала религию достаточно серьезно, чтобы обращение не было для нее пустой формальностью. Симеон Тодорский, глубоко образованный священник, который учился в Галльском университете, значительно облегчил для нее процедуру, поэтому она могла искренне написать отцу, что они ошибались, так сильно боясь православия. Внешние церемонии, может быть, и различаются, рассказывала она ему, но это лишь потому, что церковь должна принимать во внимание «развитость людей»{32} — другими словами, нецивилизованные русские нуждаются во внешних проявлениях, их нужно уговаривать принимать религию всерьез. Тем не менее чтобы убедить себя в несущественности различий между лютеранством и православием, требуется некоторая умственная эквилибристика. Кроме теологических и доктринерских разногласий между западной и восточной церквями, строящихся на пункте вероучения о «filioque»[11], существует еще одна особенность, которую православие вкладывает в проведение литургии и во внешние проявления внутренней веры. Трезвомыслящий отец Софии чувствовал бы себя страшно неловко и не в своей тарелке во время православного служения литургии — среди инкрустированных драгоценными камнями икон, царских врат в центре иконостаса, позади которых могут проходить только священники, постоянно крестящихся и кланяющихся людей, множества свечей, целования икон и бородатых священнослужителей, распевающих в богатых ризах молитвы и читающих на архаичном старославянском языке, вышедшем уже из употребления. Интересно, что много лет спустя, упомянув в своих мемуарах этот шаг, София все еще чувствует необходимость оправдаться — перед другими и перед собою — за свое обращение. Вспоминая свое детство и первого учителя религии пастора Вагнера, она пишет: «Однажды я спросила этого лютеранского священника (а он являлся таковым), какая из христианских церквей самая древняя. Он сказал, что греческая, и что она наиболее близка к учениям апостолов. Он был в этом убежден. С тех пор я весьма уважала греческую церковь и с интересом изучала ее доктрины и церемонии»{33}. Когда София писала отцу, она была еще слаба после болезни, но через несколько недель ее состояние улучшилось. Улучшилась и погода, и великий князь Петр стал искать развлечений на свежем воздухе — таких, как прогулки и стрельба, — которым не помешало бы постоянное присутствие свиты. Вспоминая этот период жизни в мемуарах, София весьма критично высказывалась о своем будущем муже, лицемерно заявляя, что вышла за него замуж потому лишь, что так ей велела мать, но признавая, что ее уже тогда влекла «корона России»{34}. Петр, как она заявляла, говорил лишь о солдатах и игрушках. Пережив две серьезные болезни и душевные терзания, София страдала теперь из-за отсутствия у матери политического чутья, каковое чуть не привело все их русское предприятие к гибельному концу. Считая себя неофициальным эмиссаром Фридриха II, Иоганна завела при русском дворе целый круг знакомств, куда входил и ее старый друг маркиз де ла Шетарди, ранее бывший французским послом, но теперь находившийся при дворе как частное лицо. Они с Иоганной обменивались пренебрежительными замечаниями по поводу императрицы — с его стороны потому, что он был раздражен потерей былого влияния на нее, а со стороны Иоганны то была неуклюжая попытка подорвать влияние антипрусски настроенного Бестужева. Де ла Шетарди доложил о некоторых высказываниях Иоганны французскому двору. Его почта — неизбежно — была перехвачена самим Бестужевым, который с радостью показал ее императрице. Это стало причиной внезапного появления однажды в начале июня в апартаментах княгинь разъяренной Елизаветы. Императрица сделала Иоганне выговор, который довел ее до слез. При дворе, безусловно, нашлись люди, надеявшиеся, что этот взрыв покончит с обеими «немками», что их отправят обратно в Цербст, а для Петра найдут другую невесту. Относительно самого Петра София подозревала, что инцидент мог быть результатом его безразличия. Раз уж ему нужно на ком-нибудь жениться, этим кем-то может стать и София — но было непохоже, что он готов рискнуть своими отношениями с императрицей, поддерживая Софию, если та потеряет расположение самодержицы. Однако слезливое раскаяние Иоганны, кажется, удовлетворило императрицу, которая теперь уже хорошо знала о несходстве характеров и поведения матери и дочери. Политическим следствием интриги, включавшей маркиза де ла Шетарди, стало то, что его эскортировали до границы и приказали убираться из страны, а Бестужева назначили великим канцлером. Императрица также подписала договор с Саксонией, усиливший австро-русский альянс, который подрывал интересы Пруссии. Вот так Иоганна защитила дело короля Фридриха. Тем временем принц Христиан Август сделал все, о чем его просили, и официально благословил планы императрицы по поводу своей дочери. Похоже, это обрадовало всех участников, даже Петра. Императрица ускорила приготовления, наметив на 28 июня переход Софии в православную веру с проведением церемонии помолвки на следующий день, в праздник Святых Петра и Павла, то есть, соответственно, в день именин великого князя[12]. Подготовка Софии к церемонии была трудной: эти дни требовали значительной выносливости. Занятия с Симеоном Тодорским стали более интенсивными, и за два дня до обращения она прекратила показываться на публике. В последний день она постилась, что означало потребление только рыбы, жаренной на растительном масле. Утром двадцать восьмого числа она перво-наперво отправилась на исповедь (необходимое условие для православных перед получением причастия), а затем ее одели в апартаментах императрицы. Елизавета приказала соорудить для нее пурпурную с серебром робу (что-то вроде модного «чехла», надеваемого поверх корсета, с маленьким шлейфом и кринолином), подходившую к ее платью из розового шелка с серебряной тесьмой по всем швам. София вплела единственную белую ленту в ненапудренные волосы. Ювелирных украшений было немного — лишь те, что императрица подарила ей во время болезни. Даже Иоганна, которая считала дочь из-за удлиненного худого лица и заостренного подбородка некрасивой, решила, что на этот раз она прекрасна. Служба имела место в часовне дворца Головина, известного также как летний дворец Анненгоф, на окраине Москвы. (Слово «часовня» может ввести в заблуждение, но часовни при дворцах знати были богато украшенными церквями. Единственным их отличием от других церквей было то, что они находились внутри дворца, а не являлись отдельным строением.) Иоганна — как обычно, внимательный наблюдатель — дает детальное описание порядка процедуры от апартаментов императрицы до часовни:
«Двор шел впереди; обер-гофмейстер и гофмаршал шли перед Ее величеством. Ее императорское величество шла одна, с камергерами и дежурными камер-юнкерами этого дня по бокам. Затем шла я; меня вел великий князь; сбоку от него шел его гофмаршал и камергер этого дня монсеньор Нарышкин, а его камер-юнкер князь Трубецкой рядом со мной. Моя дочь следовала за нами одна в сопровождении нашего камергера и камер-юнкера. За ней шли графиня Гамбургская, графиня Голицына, статс-дама императорского двора Ее величества, дамы портрета[13], фрейлины, княжны и приват-дамы. Передняя была забита битком, сквозь толпу невозможно было пробиться»{35}.
В церкви их ожидал полукруг архиепископов с архиепископом Новгородским в центре. Перед ними лежала бархатная подушечка, чтобы София могла встать на колени; позади находился ковер, где должна была встать императрица. Великий князь с Иоганной стояли позади императрицы, а все остальные разместились кто где смог найти место. (На православных службах все, кроме старых и немощных, стоят.) София опустилась на колени, чтобы получить благословение архиепископа, затем поднялась, поклонилась императрице и громко, ясным голосом зачитала по-русски, не запинаясь, слова принятия веры, которые занимали не менее полусотни листов ин-кварто. В конце она процитировала наизусть Символ веры. По словам сентиментальной Иоганны, то было высоко эмоциональное событие:
«Я заранее уже была настолько перевозбуждена, что разразилась слезами еще до того, как она проговорила первое слово. Ее императорское величество закрыла лицо руками так, чтобы никто его не видел. Все, кто там был, молились вместе с нами; старики всхлипывали, у молодых в глазах стояли слезы»{36}.
София выполнила все превосходно:
«Ее поведение с момента, когда она вошла, и на протяжении всей церемонии было отмечено таким благородством и грацией, что я восхищалась бы ею, даже если бы она не была для меня тем, чем являлась»{37}.
После принятия веры вперед вышла настоятельница Новодевичьего монастыря, чтобы действовать как свидетельница помазания. Она стояла слева от Софии, которой архиепископ положил на язык соль и помазал лоб, глаза, шею, горло, обе стороны кистей миром. Затем он произнес несколько молитв и благословил новообращенную, после чего София поцеловала ему руку. Вся императорская свита, включая Софию, вышла из церкви и прошла в примыкающую длинную галерею, где они оставались, пока шла служба и пел хор. Тут императрица увела Софию назад в церковь и в момент, когда раздавалось причастие, подтолкнула ее вперед, чтобы она получила причастие от отца Симеона Тодорского. Елизавета также проследила, чтобы все жесты Софии были правильными. Было спето еще несколько литаний и псалмов, а затем молящимся объявили о появлении православной Екатерины Алексеевны. София официально стала Екатериной (так к ней с этого момента и будут обращаться). Затем, уже в покоях императрицы, Елизавета подарила Екатерине бриллиантовую застежку для корсажа и ожерелье стоимостью в 150 тысяч рублей. Следующие два часа все придворные дамы, члены Святейшего Синода, Сената и знать целовали руку Екатерине и ее матери. К завершению ритуала Екатерина устала так, что, извинившись, отказалась от обеда и ушла отдыхать. Позднее в этот день все посетили апартаменты великого князя, чтобы поздравить его накануне именин. Екатерина подарила ему охотничий нож и собачью головку из золота — то и другое украшенное бриллиантами и изумрудами. Этими подарками снабдила ее императрица, так как своих денег у нее пока не было. Императрица дала ей также кольца, которыми Екатерина и Петр должны были обменяться на следующий день. Иоганна назвала эти кольца «настоящими маленькими уродцами»{38}. Затем все участники торжеств должны были переодеться и после ужина инкогнито (то есть скорее без церемоний, чем замаскировавшись) отправиться в Кремль (примерно в двух с половиной милях от дворца Головина). Там на следующий день должно было состояться обручение — в Успенском соборе (или Успении), построенном в 70-х годах XV века Иваном Великим как центральный собор русской православной церкви. Длинный кортеж медленно двигался сквозь жару и пыль летнего вечера. В полночь зазвонили колокола Кремля, объявляя праздничный день; колокола всех других церквей Москвы зазвонили в ответ. День помолвки начался с молитв в покоях Екатерины, а затем прибыл граф Лесток и принес ей портрет императрицы, обрамленный бриллиантами, и изображение великого князя, вправленное в браслет и тоже украшенное бриллиантами. Снова началось целование рук — на этот раз послами и иностранными министрами, а также военными. Затем двор собрался в покоях императрицы и выстроился в процессию, следующую в собор в том же порядке, как и в предыдущий день, за исключением того, что на этот раз Екатерина находилась справа от Иоганны, а над императрицей, которая была в короне и в императорской мантии, восемь генерал-майоров держали серебряный балдахин. Процессия спустилась по пролету лестницы, ведущей с Красного Крыльца, и пересекла Соборную площадь. Вдоль дороги стоял полк охраны. У двери собора императрицу встретило высшее духовенство. Архиепископ с крестом в руке провел процессию в центр церкви, где находилось большое возвышение, укрытое бархатом, на котором стоял патриарший трон. Петр и Екатерина низко поклонились императрице и заняли свои места перед возвышением. Императрица встала возле аналоя, Иоганна — по другую его сторону, а остальные позади. Архиепископ Москвы и Новгорода взял два кольца, пронес их в сопровождении нескольких епископов, архимандритов и дьяконов через царские врата и положил на алтарь, где они лежали, пока епископ читал указ (или декрет) императрицы, объявляющий о предстоящей свадьбе великого князя и юной принцессы, которая с этого момента будет носить титул великой княгини всея Руси и Ее императорского высочества. Затем архиепископ принес кольца обратно, положил их на Евангелие и передал императрице, которая благословила их как глава православной церкви. Затем она надела кольца на пальцы обручающихся, а те поцеловали ей руку. После благословения архиепископа императрица обняла обоих — и Петра, и Екатерину. Как объяснила Иоганна, «вся церемония прошла до службы, чтобы великая княгиня могла быть вставлена в молитвы»{39}. В Успенском соборе у членов императорского двора не было возможности спрятаться от глаз во время литургии. Императрица заняла место на верхней галерее, принадлежащей царям, а великий князь — противоположную галерею, традиционно предназначенную для наследников. Рядом с галереей императрицы была устроена временная галерея для Екатерины и Иоганны. Вероятно, не одна Иоганна находила церемонию утомительной: «Во время обмена кольцами звонили все колокола и стреляли пушки. То же повторилось во время пения сотого псалма. За мессой последовала служба, проведенная митрополитом. Вся церемония длилась четыре часа, и присесть во время нее нельзя было ни на четверть часа»{40}. Физические испытания продолжились и после службы: «После выхода [из собора] все направились в свои покои и там принимали поздравления, казалось, от всей империи. Мало сказать, что я не чувствовала собственной спины после всех поклонов, которые пришлось совершить, обнимая несметное количество дам, а мою правую руку украсил синяк размером с немецкий флорин из-за поцелуев, которые я получила, и это вовсе не преувеличение — каждый видел это»{41}. Произошел дальнейший обмен подарками: великий князь вручил Екатерине инкрустированные бриллиантами часы и веер, а Иоганне — часы, украшенные рубинами и бриллиантами, и коробочку под нюхательный табак. Екатерина передала матери большую нитку жемчуга, а та ей — собственные рубиновые украшения. Обед был накрыт в кремлевской Грановитой Палате, причем размещение вызвало значительные дипломатические споры. По словам Иоганны, императрица сначала хотела, чтобы она присоединилась к ней и молодой паре возле трона, но ее враг (вероятно, граф Бестужев, хотя она не называет его) разместил там иностранных послов, дабы воспрепятствовать такому предпочтительному обращению, и заявил, что они тоже хотят присутствовать на обеде и не могут позволить принцессе мелкого немецкого княжества демонстрировать свое превосходство. Императрица разрешила проблему, рассеяв всех по нескольким залам. Она, Петр и Екатерина обедали одни в тронном зале, в то время как Иоганну обслуживали за отдельным столом в помещении этажом выше, откуда она видела императорское трио, а они видели ее. Дипломатический корпус сидел в другом помещении. Во время обеда было произнесено пять тостов — за императрицу, великого князя, великую княгиню, духовенство и верноподданных. Первые три сопровождались пушечными залпами. После трапезы все разошлись на двухчасовой отдых, а в девять часов вечера в тронном зале начался бал. Открывали его великие князь и княгиня. Петр взял в партнерши императрицу, а Екатерину вел датский посол. Бал продолжался около четырех часов. Избранная группа, состоявшая из императрицы, Петра, Екатерины, Иоганны, принца и принцессы Гессен-Гомбургских и послов Англии, Голштина и Дании, танцевала на ковре у трона, а остальные — в другом конце зала. В помещении необычной конструкции со сводчатым потолком, поддерживаемым одной большой колонной в центре, стало ужасно жарко и многолюдно. Во время бала Кремль сиял, все пространство вокруг него было освещено и без конца стреляли пушки. Этот утомительный день, первый в жизни Екатерины в качестве великой княгини всея Руси, наконец закончился в два часа утра ужином в узком кругу.
2. Помолвка и свадьба (1744–1745)
Я хотела быть русской, чтобы русские любили меня.На следующий день после помолвки великой княгине играли военные оркестры — трубы, тимпаны, гобои и барабаны, — а музыканты с церковными певчими исполняли итальянскую музыку. Итальянский хормейстер императрицы Франческо Арайя специально для этого случая сочинил новое музыкальное произведение. Мануфактурщики принесли ей в подарок материалы и ленты (вероятно, правильнее было бы назвать это образцами) в надежде получить новую заказчицу, а императрица подарила звезду и крест Святой Екатерины, обрамленные бриллиантами, которые, по словам Иоганны, стоили семьдесят тысяч рублей{42}. Императрица также выделила ей на содержание тридцать тысяч рублей ежегодно. Первое, что сделала Екатерина, получив независимость и относительное богатство (до того, как поняла, что тридцати тысяч рублей не хватит надолго среди экстравагантного двора Елизаветы), — это написала отцу и предложила заплатить за лечение больного младшего брата. Она также вкратце сообщила об обращении и помолвке, отправив родственникам лишь отчасти правдивую информацию — вроде того, что к ее имени императрица добавила имя «Екатерина». Она не упомянула об отчестве «Алексеевна». И это понятно, так как получение отчества означало символический разрыв ее связи с Христианом Августом{43}. В то лето устраивались «балы, маскарады, фейерверки, иллюминации, ставились оперы и комедии»{44} — как часть официальных празднеств, отмечающих мир со Швецией (последняя война временно закончилась в 1743 году). Во время этих празднеств Екатерине впервые представили ее собственный двор: императрица отобрала для нее ряд придворных. Туда входили три молодых камер-юнкера (граф Захар Чернышев, граф Петр Бестужев-Рюмин и князь Александр Голицын — все говорили по-французски и по-немецки) и три гофмейстерины (две княгини Гагарины и мадемуазель Кошелева). Роль старшей и над этими придворными, и над самой молодой великой княгиней была возложена на гофмейстерину графиню Марию Румянцеву, которую Екатерина не очень любила и к которой Иоганна испытывала особую вражду, так как графиня Румянцева была в стане тех, кто не одобрял Иоганну с ее интригами. Теперь к этим интригам относилась также и любовная связь Иоганны с сорокалетним графом Иваном Бецким, камергером при дворе Елизаветы и незаконным сыном фельдмаршала князя Ивана Трубецкого.[14] Нельзя сказать, что графиня Румянцева, давно состоявшая при русском дворе, была незнакома с такими пассажами — она сама какое-то время была любовницей Петра Великого. Зато Екатерина очень ладила с ее дочерью Прасковьей, своей ровесницей. Девушки часто спали в одной комнате и любили «играть в шумные игры чуть не до утра»{45}. В своих мемуарах Екатерина заявляет, что в период между помолвкой и замужеством гофмаршал Петра Брюммер несколько раз жаловался ей на поведение великого князя, надеясь, что она сможет оказать на него влияние. Однако она отказалась вмешиваться, боясь оттолкнуть жениха на этой ранней стадии. В целом молодые находили общество друг друга вполне занимательным — по крайней мере, по сравнению с обществом окружавших их взрослых. Екатерина описывает себя и Петра как «шумных», с «бьющим через край ощущением детства»{46}. Во время празднований по поводу заключения мира Екатерина, Петр и Иоганна отправились в Киев (путь в 420 миль). Императрица последовала за ними через несколько дней. Иоганна и молодые люди пользовались во время путешествия максимально доступной свободой, оказавшись в одном экипаже (большая карета, загруженная постелями) с людьми, которые им нравились, и без тех, кто мог бы не одобрить их веселость — таких, как графиня Румянцева, гофмаршал Брюммер и фройляйн фон Кайн. Эти трое вместе с еще одним воспитателем Петра по имени Бергхольц ехали вместе в другом экипаже, где, по словам Екатерины, они «делали свои кислые замечания о нас, в то время как мы наслаждались обществом друг друга»{47}. Они миновали Серпухов и Тулу, въехали на Украину через Глухив (важный украинский город-крепость, который Екатерина записывает альтернативно как Глухов) и прибыли в Козелец, в дом графа Алексея Разумовского — давнего и настоящего фаворита императрицы Елизаветы. Тут им пришлось ждать три недели, пока к ним не присоединилась императрица. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого от его второго брака (с бывшей служанкой и любовницей Екатериной, урожденной Мартой Скавронской), была женщиной внушительной, которая имела ряд общих черт со своим великим отцом, включая его физическую привлекательность. Трон она заняла под давлением жестокой необходимости. После смерти ее отца в 1725 году наследование русского трона оказалось делом беспокойным. Ситуацию создал в основном сам Петр. Когда ему надоела первая жена, Евдокия Лопухина, Петр заточил ее в монастырь возле Старой Ладоги. Его вторая жена, Екатерина, происходила из крестьянской семьи, и прежде чем стать любовницей Петра, была любовницей одного из его самых влиятельных придворных — князя Александра Меньшикова. В 1718 году Петр приговорил к смерти собственного двадцативосьмилетнего сына Алексея (от первой жены). Тот умер под пытками до того, как приговор смогли привести в исполнение. Преступление, за которое он был арестован и подвергнут пыткам в Трубецком бастионе Петропавловской крепости (при непосредственном участии отца), заключалось в несогласии с западническими реформами Петра, которые Алексей собирался отменить, если добьется трона[15]. Желая обеспечить своим реформам неизменность после своей смерти, Петр упразднил право наследования по первородству и провел в 1722 году новый закон о наследовании, согласно которому правящий монарх мог сам назначить наследника. К несчастью, он умер, так и не исполнив собственный указ — то есть не успев назвать себе преемника. Князь Меньшиков, прежний любовник вдовы Петра, не имел намерений отказываться от власти, которой он обладал во время царствования своего соратника и покровителя. Он понимал, что лучший способ сохранить ее — это предоставить трон своей бывшей пассии, которой Петр в 1724 году дал статус императрицы. И поэтому с его помощью и при содействии поддерживавших его гвардейцев неграмотная бывшая служанка стала Екатериной I — полноправной императрицей всея Руси. Она оставалась в основном номинальной правительницей и умерла в 1727 году, то есть процарствовав всего два года. Князь Меньшиков, которого следует уважать хотя бы за его настойчивость, решил посадить на трон внука Петра от первого брака, сына убитого Алексея — болезненного одиннадцатилетнего мальчика, тоже носящего имя Петр, — объявив себя его регентом. К несчастью для Меньшикова, юный Петр II умер от оспы всего лишь через три года, и следующим наследником трона стала Анна Иоанновна — племянница Петра Великого, а теперь вдова князя Курляндского. Верховный Тайный Совет — горстка знати, возглавляемая князем Меньшиковым, которая фактически правила империей при Екатерине I и при Петре II, — предложил Анне корону в надежде, что сможет руководить ею и что она не попытается захватить власть. До коронации казалось, что Анна приняла эти условия, но потом она разорвала договор и взяла в руки реальную, а не номинальную власть, правя с помощью своего фаворита, немца Эрнста Бирона. Анна упразднила Верховный Тайный Совет и сослала нескольких его членов, включая Меньшикова, в Сибирь. Все имущество Меньшикова — в том числе роскошный дворец в Петербурге на Васильевском острове, который Петр Великий использовал для проведения своих крупномасштабных приемов, — было конфисковано. Во время правления Анны Иоанновны Елизавета жила при дворе. Одна посетившая его англичанка описала ее как «очень миловидную, с каштановыми волосами, большими живыми голубыми глазами, прекрасными зубами и красивым ртом. Она склонна к полноте, но очень элегантна и танцует лучше всех, кого я видела. Она говорит по-немецки, по-французски и по-итальянски, очень весела, с каждым общается сообразно его рангу, но ненавидит придворные церемонии»{48}. Анна Иоанновна умерла бездетной 17 октября 1740 года, пробыв у власти 10 лет. Незадолго до смерти она назвала своим преемником князя Ивана Антоновича, младенца ее племянницы Анны Леопольдовны. Кроме того, она назначила Эрнста Бирона регентом. Последнее показалось некоторым гвардейским полкам неприемлемым. 9 ноября Бирона свергли и вместо него регентом при Иване Антоновиче (Иван VI) сделали Анну Леопольдовну. Эта политическая нестабильность заставила княгиню Елизавету (ей шел уже тридцать второй год) понять, что лишь заявив свои права на трон, она избавится от постоянной угрозы заточения в тюрьму (в лучшем случае — в монастырь), а то и смерти. Среди прочих ее уговаривал совершить переворот французский посол маркиз де ла Шетарди — тот, которого позднее выслали за совместные с Иоганной интриги. Де ла Шетарди, получив от французского двора распоряжение подтолкнуть переворот и тем самым положить конец немецкому засилью при русском дворе, обеспечил деньги на завоевание расположения влиятельной Преображенской гвардии в Санкт-Петербурге. Переворот был осуществлен руками 308 гвардейцев в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года. Ребенка-императора Ивана VI заключили в островную крепость Шлиссельбург и впоследствии вымарали изо всех официальных документов, будто его никогда и не существовало. Теперь Елизавета обладала исключительной законодательной и исполнительной властью. Русские правители — царь или царица, а с 1721 года император или императрица — принимали советы опытных государственных деятелей и учитывали мнение и желания таких влиятельных групп, как армия и знать. Но теоретически они могли править как пожелают. (Реальность могла быть совсем иной; как сообщал британский посол лорд Хайндфорд: «Хотя это самое абсолютистское из всех правительств, в мире нет другого, настолько подверженного интригам и заговорам»{49}). Царь мог вводить или отменять законы посредством именного указа (декрета, подписанного его христианским именем). Елизавета, малообразованная, ленивая и никогда не обладавшая ясным видением своей страны, была, однако, более либеральной и цивилизованной, чем предыдущие правители России. В ее царствование, например, была официально отменена смертная казнь (хотя порой люди умирали после чрезмерного телесного наказания) и введены ограничения на применение пыток. Другие законодательные акты возбраняли совместное мытье в общественных банях главных городов и запрещали водить медведей в центре столицы. Однако основную заботу об управлении государством Елизавета предоставила своему канцлеру, которым много лет оставался граф Алексей Бестужев-Рюмин. Жизнь в условиях постоянных переворотов, контр-переворотов и заговоров превратила Елизавету в очень нервную женщину, которая подавляла свои страхи посредством религиозных отправлений. Она часто совершала паломничества, ежедневно посещала заутрени, дневные службы и вечерни и неизменно соблюдала четыре ежегодных православных поста: Рождественский пост с 15 ноября до 24 декабря (немного дольше, чем западный Рождественский пост); Великий Пост с понедельника перед днем, который западная церковь называет Пепельной средой, и до Пасхи; Апостольский пост, длящийся с недели после Троицына дня до праздника святых Петра и Павла 29 июня (его длительность зависит от того, когда в данный год празднуется Пасха и, соответственно, выпадает Троица); и две недели перед праздником Успения Богородицы 15 августа. Во время этих постов нельзя есть мясо и молочные продукты, а рыбу и растительное масло можно потреблять лишь в определенные дни — такие, как дни главных святых. В начале и в конце поста вообще нельзя было ничего есть, и даже в обычное время большинство сред и пятниц оказывались постными.[16] В такие религиозные праздники, как, например, дни главных святых, нельзя было заниматься никаким нормальным делом, а это означало, что для завершения чего угодно требовалось очень длительное время. Когда Елизавета не выполняла религиозные обряды, она занималась спортом — таким, как охота и стрельба, — а также танцами. У нее был отличный аппетит на секс; список ее любовников включал французских докторов, казаков, хористов и гвардейских офицеров. В течение долгого времени ее фаворитом, получившим прозвище «Ночной император», был украинский полуказак, которого она впервые заметила еще молодым певчим в церковном хоре. Когда он стал ее любовником, она изменила его фамилию «Разум» на более благородно звучащую — Разумовский, а также дала ему и его младшему брату Кириллу графские титулы. Ходили слухи, что в 1742 году императрица заключила с Алексеем Разумовским морганатический брак — но она никогда не выходила замуж официально и не произвела законного отпрыска. Однако с самого начала своего правления она знала о необходимости добиться для империи стабильности, утвердив своего наследника — и предпочтительно более чем на одно поколение. Отсюда вызов ею великого князя Петра и впоследствии невесты для него.Воспоминания Екатерины Великой
Наконец Елизавета прибыла, и 15 августа присоединилась к Петру, Екатерине и Иоганне в Козельце. На пути от Москвы она делала частые остановки и устраивала лагерь, чтобы погулять и пострелять. Она также потешила душу, позволив себе несколько вспышек гнева и выгнав кое-кого из своего окружения. По ее прибытии был организован большой цикл балов, концертов и карточных партий, на которых много играли в «фараона» (игра, придуманная во Франции в конце прошлого века). И вот — последний участок пути по дороге на Киев. На этот раз императрица была впереди и ждала остальных участников путешествия в лагере у реки Днепр. Тридцатого августа вся компания пересекла реку и въехала в город. Духовенство вышло приветствовать императрицу. Все покинули экипажи и проделали последнюю часть пути к Печорскому (или Пещерскому) монастырю пешком, следуя процессией за распятием. Ко времени, когда Иоганну уже едва терпели при дворе, да и самой Екатерине мать не особенно нравилась; она поняла: часть проблемы заключается в том, чтобы не вести себя как мать. У последней отсутствовал всякий такт при неформальных ситуациях, хотя во время официальных мероприятий она легко и привычно соблюдала необходимый установленный протокол. «Я взяла себе за правило оказывать ей предельное уважение и почтение, но это не всегда разрешало проблему. Она постоянно делала мне и другим жесткие замечания, которые не приносили ей добра и не настраивали людей в ее пользу»{50}. Тем временем Екатерину все больше одобряли и явно любили и императрица, и великий князь. «Все объединились, — чувствовала она, — чтобы дать мне надежду на счастливое будущее»{51}. Пробыв десять дней в Киеве, двор вернулся в Москву, где светская жизнь всю осень и зиму проявляла себя серией театральных представлений и маскарадов. Екатерина тратила большую часть своей бьющей через край молодой энергии на танцы. Она брала уроки у Ландэ рано утром и в полдень перед вечером танцев где-нибудь на балу или на маскараде. Екатерина участвовала также в одном из любимых развлечений императрицы Елизаветы, которое разделяли многие европейские дворы того времени — в костюмированных балах. Императрица называла их «Метаморфозы». «Каждый вторник при дворе устраивали маскарад, что не всем было по вкусу, но мне, которой было только пятнадцать лет, они очень нравились. По приказу императрицы в маскарадах участвовали те,кого она сама отбирала; все мужчины были переодеты женщинами, а все женщины — мужчинами»{52}. Как заметила Екатерина, единственным человеком, кроме нее, кто действительно радовался этим возможностям, была сама императрица, которая с удовольствием демонстрировала свои прекрасные ноги в бриджах и чулках. Мужчины-придворные ненавидели эти вторники, так как их заставляли неловко качать бедрами в широких юбках, натянутых на обручи. Они натыкались на женщин, которые точно так же неловко, как и их партнеры, чувствовали себя в мужском платье. На одном из таких маскарадов возникло серьезное затруднение, когда Екатерина танцевала с камергером Сиверсом. Тот был одет в платье с кринолином, одолженное ему императрицей. Все оказались на полу, а Екатерина попала под юбку Сиверса. Она обессилела от смеха, пока другие танцоры пытались поставить их на ноги; но канцлеру и остальным важным придворным было не так смешно. Кроме падения на танцах, единственной серьезной проблемой, с которой столкнулась Екатерина в то время, была проблема, обычная для двора, особенно для его молодежи — растущие долги. Она обнаружила, что содержание, пожалованное ей императрицей, не покрывает неизбежных расходов на наряды для себя и подарки для других. Она прибыла к российскому двору с очень ограниченным гардеробом — а ведь это был двор, где женщины привыкли переодеваться по три раза в день. Как член императорской семьи великая княгиня не могла одеваться менее расточительно, чем другие придворные дамы. Она должна была также докупить нижнее белье, так как привезла с собой всего лишь дюжину сорочек. Затем нужно было обеспечить себя постельным бельем, потому что до сих пор она пользовалась запасами своей матери. Что касалось других крупных расходов, Екатерина быстро поняла, как вращаются колеса русского двора. «Мне сказали, что люди в России обожают подарки, и проявив некоторую щедрость, можно приобрести друзей и сделать себя желанной»{53}. Пытаясь ублажить окружающих, она ублажала не только придворных, но также жениха и свою мать. Поэтому она чувствовала, что большие расходы неизбежны — хотя, по мнению матери, Екатерина была еще слишком неопытной, чтобы распоряжаться собственными финансами, и должна обращаться к ней за советом. (Негодование Иоганны по этому поводу усилилось, когда она узнала, что другие лица при дворе так же твердо убеждены: ее дочь не должна обращаться к ней за советом ни по этому, ни по какому-либо другому поводу.) От графини Румянцевой не было никакого толка. Вот как изложила это сама Екатерина: «Самая экстравагантная женщина России… была назначена ко мне на службу. Она постоянно была окружена торговцами и что ни день советовала мне покупать у них какие-либо вещи; часто я так и делала, только чтобы отдать их ей, так как ей, казалось, безумно хотелось их иметь»{54}. И все-таки несмотря на попытки оправдать себя, Екатерина понимала, что увязание в долгах не целиком обеспечивает поставленные ею себе для новой жизни в России цели, которые она суммировала таким образом:
«1. Угождать великому князю; 2. Угождать императрице; 3. Угождать народу.{55}»
Беда заключалась в том, что три эти цели не всегда можно было выполнить одновременно. Например, покупая подарки, чтобы задобрить великого князя, Екатерина рисковала не понравиться императрице из-за расточительности. Со временем ей будет все труднее и труднее удерживать баланс этих трех целей. В ноябре великий князь заболел корью. На время болезни он и его свита были отделены от остального двора, и все вечера были отменены. После выздоровления все заметили, что он подрос и окреп, но Екатерина не обнаружила других изменений к лучшему: «Его ум все еще очень незрелый. Он проводит время, играя в своей комнате в солдатики с камердинерами, лакеями, карликами[17] и камер-юнкерами»{56}. Вскоре двор переехал из Москвы в Петербург. В пути Иоганна делила сани с Екатериной; Петр и гофмаршал Брюммер ехали в других санях. 18 декабря партия остановилась в Твери, чтобы отпраздновать тридцатипятилетие императрицы. Дальше по дороге в Петербург, в Хотилово, великий князь внезапно снова заболел, свалившись буквально за один вечер. На этот раз его болезнь явила очевидные симптомы страшной оспы. Иоганна приняла мгновенное решение: Екатерина должна немедленно покинуть Хотилово, чтобы не заразиться. Императрица уехала раньше и уже добралась до Санкт-Петербурга. Когда двору сообщили новость, демонстрируя глубину своей заинтересованности в племяннике и наследнике, она немедленно бросилась в Хотилово. Две группы, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись в Новгороде, и императрица согласилась, что Иоганна с Екатериной должны продолжить путь на Петер-бург. По прибытии в город мать и дочь расположились в доме рядом с Зимним дворцом. Каждая получила разделенные залом четыре комнаты вверху лестницы. Сам Зимний дворец был в то время слишком мал, чтобы разместить всех. Первоначально этот дворец был частным строением. Его конфисковала для собственных нужд Анна Иоанновна, когда в 1730 году стала императрицей. Она использовала примыкающий луг для выпаса собственных коров. С тех пор дворец много раз ремонтировался и расширялся. Достраивая здание в последний раз, Бартоломео Растрелли, назначенный придворным архитектором в 1738 году, более чем в два раза увеличил его первоначальные размеры. То был ужасно холодный дом, сырой и внутри, и снаружи, с треснувшими и дымящими печами. Новое обустройство — с отдельными покоями для каждой — гораздо больше понравилось Екатерине и совсем не понравилось Иоганне, которая чувствовала, что ее позиции и влияние слабеют с каждым днем. Иоганна осталась ворчать в своих покоях с маленьким кругом близких друзей, в то время как ее дочь занималась чтением, улучшала свой русский язык и училась играть на клавикордах — или скорее танцевала под аккомпанемент Франческо Арайи. Когда остальной двор прибыл в Петербург (без императрицы и великого князя), светская жизнь возобновилась. Постоянный поток посетителей бежал через апартаменты Иоганны и Екатерины, и дамы занимали себя игрой в карты, переодеваниями и снова переодеваниями. Екатерина участвовала во всех вечеринках, несмотря на то, что время было очень неспокойным для нее — ведь если бы великий князь умер, ее статус великой княгини утратил бы свой raison d'etre (смысл). Ее ветреность вызвала сильное неодобрение одного из иностранных дипломатов, присутствовавших при дворе — графа фон Гюлленбурга. Того самого фон Гюлленбурга, который повлиял на судьбу маленькой Софии Фредерики, после встречи в Гамбурге посоветовав ее матери уделять ей больше внимания. Он прибыл в Санкт-Петербург как официальный посланник — с сообщением, что брат Иоганны Адольф Фридрих, епископ Любекский и кронпринц Швеции, женился на принцессе Луизе Ульрике Прусской, сестре Фридриха II. Фон Гюлленбург укорил Екатерину за отсутствие, по его мнению, у нее серьезности. Он вручил ей список книг для самообразования, включавший работы Плутарха («Жизнеописания» и «Жизнь Цицерона») и Монтескье («Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence», то есть «Размышления о причинах величия и падения римлян»), опубликованные в Амстердаме в 1734 году. В порыве энтузиазма Екатерина распорядилась, чтобы эти книги ей достали. Великий князь Петр выжил и к концу января поправился настолько, что смог вместе с императрицей вернуться в Санкт-Петербург. Как только они прибыли, Екатерина с Иоганной отправились приветствовать их. Даже в сумеречном свете позднего зимнего дня Екатерина была шокирована видом своего жениха.
«Он сильно вырос, но стал неузнаваемым. Все черты загрубели, лицо все еще сохраняло одутловатость, и видно было, что оно, без сомнения, останется сильно изъеденным. Так как волосы были сбриты, на нем был огромный парик, в котором он выглядел еще ужаснее. Он подошел ко мне и спросил, узнаю ли я его. Я, запинаясь, поздравила его с выздоровлением, но на самом деле на него страшно было смотреть»{57}.
«Уродство» Петра прошло через несколько недель, но он долго оставался озабоченным по поводу урона, нанесенного ему оспой. Екатерина сама еще не до конца оправилась от перенесенного ранее плеврита. Она оставалась очень худой и испытывала в начале года возвратные боли в груди. В результате доктора посоветовали ей каждое утро пить молоко и зельтерскую воду. В феврале, на семнадцатилетие великого князя, Екатерина обедала лишь с императрицей и Петром, который был пока не готов появиться на публике. Императрица выразила удовлетворение прогрессом Екатерины в изучении русского языка и попрактиковала ее в разговорном русском. В течение нескольких следующих недель Екатерина проводила вечера вместе с Петром, но они не особенно искали компании друг друга. Екатерина считала, что по крайней мере отчасти причиной этого был Петр, по ее словам, «почти такой же холодный, как пушечное ядро»{58}. Он рассказал ей, что его любимые товарищи, камердинеры и другие члены двора, усиленно учат его обращению с женой — и непохоже, что их советы могут составить ее будущее счастье. Она решила, что первое время разумнее всего будет выслушивать его без возражений, не высказывая своего мнения, — дабы он видел в ней верного друга. На деле она выбрала это своей политикой по отношению ко всем, с кем сталкивалась в тот период, пытаясь при помощи уступчивости и покладистости приобрести любовь и некоторую степень безопасности. «Я пыталась быть предельно очаровательной со всеми и училась использовать любую возможность завоевать любовь тех, кто, как я подозревала, относился ко мне плохо; я не выказывала предпочтения ни одной стороне, никогда ни во что не вмешивалась, всегда держалась спокойно и проявляла ко всем внимание, приветливость и вежливость»{59}. Спокойствие и сдержанная улыбка становились ее постоянными проявлениями на публике. Во многом Екатерина была еще ребенком, и эти несколько месяцев перед свадьбой дарили ей последнюю возможность радоваться детской свободе. Чтобы облегчить вживание в новую роль, императрица назначила для ухода за ней восемь русских горничных, тем самым вынуждая ее говорить по-русски большую часть времени. Эти девушки стали ее товарищами; то, чего не хватало при словесном общении, компенсировалось играми — такими, как, например, прятки (которые остались любимой игрой на всю жизнь) и катание с горок из доски от клавикордов и кучи матрасов. Что касалось более серьезных задач горничных, Екатерина сделала попытку разделить ответственность, дав одной из любимых девушек ключ от своих украшений, поставив немецкую горничную, привезенную с собой из Цербста, заведовать постельным бельем, поручив еще одной кружева, а другой — ленты. Одна из двух ее карлиц была назначена заботиться о пудре для волос и гребнях, другая — о румянах, заколках и mouches или мушках (искусственные родинки, которые были в моде у женщин XVIII века). Но графиня Румянцева и императрица враждебно отнеслись к этому маленькому проявлению независимости со стороны Екатерины и запретили установленный ею порядок. Во время поста Екатерина и Петр разошлись по вопросу соблюдения православных обычаев. Петр разъярился, узнав, что Екатерина с горничными присутствует в своем приделе на службах с песнопениями и вместе со всеми кланяется и поет как положено. Петр воспринял это как излишнюю и бессмысленную показную набожность, в то время как на самом деле Екатерина обязана была демонстрировать правильность соблюдения ритуалов; именно это ожидалось от нее теперь, когда она стала православной. Лютеранство укоренилось в Петре гораздо глубже, чем в Екатерине; оно было частью его личности. Он видел в своем обращении в православие лишь дань обстоятельствам, но его сердце не приняло новой религии, и он не собирался придерживаться практики православия больше, чем было абсолютно необходимо. Он ожидал, что Екатерина разделяет это его отношение, и разозлился из-за того, что она ведет себя по-другому. Через несколько дней после ссоры произошел любопытный инцидент, в который оказалась вовлечена Иоганна. Видимо, она попросила пустить ей кровь — и это было сделано так неумело, что она потеряла сознание. Екатерина не могла понять, почему мать попросила сделать ей кровопускание: она всегда боялась этой процедуры. Возможно, обморок объяснялся тем, что Иоганна была беременна от графа Ивана Бецкого; у нее мог быть выкидыш, или она пыталась вызвать его кровопусканием. Во время того же поста Иоганна перенесла еще один болезненный удар: из Цербста дошло известие, что умерла маленькая сестра Екатерины, трехлетняя Элизабет. Произошло это быстро и неожиданно. Иоганна глубоко скорбела по малышке, которую не видела больше года, и Екатерина тоже «была убита горем»{60}. В марте императрица объявила, что свадьба Петра и Екатерины состоится через четыре месяца. Елизавета намеревалась сравняться в великолепии празднества с Версалем и Дрезденом, поэтому подготовка была настолько сложной, что свадьба дважды откладывалась. Наконец ее назначили на двадцать первое августа. В мае императрица и великий князь переехали в Летний дворец (построенный из бревен и окруженный прекрасным садом, цветниками и фонтанами), а Екатерина и Иоганна расположились в каменном строении у реки Фонтанки, рядом с крохотным первым летним дворцом Петра I (возведенным Доменико Трезини в 1712 году). По словам Екатерины, из-за небольшого расстояния, которое теперь отделяло ее от покоев великого князя Петра, ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы часто навещать ее. Отсутствие любви расстраивало ее, и она лила слезы в уединении, но принимала бодрый вид на людях: в конце концов, у нее была большая практика в детстве, когда она тоже обходилась без проявлений любви. У ее матери в эти недели вновь не нашлось на нее времени — она была занята собственной драмой и кризисом. И в период смущения и беспокойства для молодой девушки Екатерина получала очень мало поддержки, если вообще получала ее. «В общем, я находила жизнь очень скучной, но старалась не говорить об этом… Я все сильнее и сильнее старалась завоевать любовь и никчемных персон, и великих, не отталкивая никого и взяв себе за правило верить, что я нужна всем. Я и вела себя соответственно, чтобы завоевать всеобщее одобрение — ив этом преуспела»{61}. Она была слишком несведущей, чтобы понимать своего жениха, который, вероятно, тоже нервничал и избегал ее, потому что не знал, как вести себя с той, на которой вскоре ему предстоит жениться. Несколькими неделями позже двор переехал в императорский дворец в Петергофе — в восемнадцати милях от Санкт-Петербурга, на южном берегу Финского залива. По месту расположения главных построек парк распадался надвое. Большой (Верхний) дворец был возведен на возвышенности Иоганном Фридрихом Браунштейном со значительными последующими переделками Растрелли, а Малый (Нижний) дворец Монплезир стоял у моря. Оба дворца были заложены в 1714 году. Петергоф проектировался как обращенная к берегу единая композиция дворцов и павильонов, садов, каскадов и фонтанов. Императрица, великий князь, Иоганна и Екатерина жили в первоначально построенной части Верхнего дворца: императрица с великим князем на верхнем этаже, Иоганна с Екатериной под покоями великого князя. Каждый день дамы обедали с Петром на открытом воздухе под тентом или на террасе, примыкавшей к его апартаментам, а ужинать великий князь приходил в их апартаменты. Императрица часто отсутствовала, посещая различные загородные поместья, а Екатерина с Петром проводили время в прогулках верхом (Екатерина недавно начала брать уроки верховой езды) или совершали длительные поездки в экипаже. Петр все больше времени проводил в военных играх и упражнениях, включая обучение невесты обращению с ружьем. «Он заставлял меня стоять на часах с мушкетом у двери комнаты, расположенной между его и моими покоями»{62}. Екатерина сдерживалась изо всех сил, стараясь помнить об имперском положении персоны, за которую она вскоре выйдет замуж, а не о ее человеческих качествах. Тем временем Иоганна тоже наносила визиты в соседние загородные имения, и по возвращении бранила Екатерину за слишком большую свободу в ее отсутствие — например, за ночные прогулки с гофмейстеринами и камердинерами. Она также несправедливо упрекала дочь за рискованные посещения покоев великого князя в неурочное время. Похоже, она мучилась угрызениями совести, так как не следила надлежащим образом за молодыми людьми в отсутствие императрицы. В конце концов раздражительность Иоганны стала причиной возникновения душевной связи между Екатериной и Петром, который проникся к ней сочувствием. Иоганна все еще плела свои глупые политические интриги, продолжая тайную переписку с королем Фридрихом Прусским — и не зная, что русские чиновники прочитывают все письма. К концу июня двор вернулся в Санкт-Петербург. Теперь Екатерину переполняло ожидание свадьбы. Однажды она велела всем своим гофмейстеринам и горничным ночевать в ее комнате, дабы провести обсуждение «различий между полами»{63}. Оказалось, что ни одна из девушек, включая саму Екатерину, не сведуща в вопросе. Невеста наследника решила расспросить назавтра свою мать, но Иоганна, занятая сверх меры собственными сексуальными и эмоциональными проблемами, не захотела обсуждать этот предмет. Екатерина была не единственной, кто рвался прояснить сексуальный аспект предстоящей свадьбы. Придворные доктора пытались объяснить императрице, что великий князь еще недостаточно развит физически, чтобы жениться, что нужно подождать несколько лет. Но бесполезно. Императрица придерживалась того мнения, что нельзя терять времени. С приближением дня свадьбы у Екатерины все чаще стали происходить нервные срывы, проявлявшиеся в слезах без видимых причин. Ее женское окружение делало все возможное, дабы отвлечь ее. Кроме обсуждения с ними тайн пола, Екатерина использовала своих гофмейстерин для экспериментов с фасонами, уговорив их присоединиться к ней при выборе прически. Сама она предпочла новый французский стиль, который подразумевал короткую челку и завивку. Поскольку день свадьбы был уже назначен, одетые в кольчуги глашатаи в сопровождении конных гвардейцев и драгун три дня подряд под барабанную дробь делали публичные объявления. В день перед свадьбой двор переехал из Летнего дворца в Зимний. И в этот вечер наконец-то княгиня Иоганна явилась поговорить с Екатериной и объяснить, что будет представлять собой семейная жизнь. Доверительный разговор матери с дочерью происходил под грохот пушек и звон всех церковных колоколов, который длился с девяти до одиннадцати часов. Утром двадцать первого августа в Зимнем дворце и прилегающих зданиях все поднялись рано. Им нетрудно было проснуться, так как в пять часов утра на бастионах Петропавловской крепости, в Адмиралтействе, а также на военных кораблях и других судах, стоявших на якоре в Неве, снова начали палить пушки. Княгиня Иоганна и графиня Румянцева с гофмейстеринами явились в покои Екатерины. Сначала ее одели в простое бело-золотое déshabillé (домашнее платье) поверх маленького кринолина. В восемь часов дежурный камергер Ее величества вызвал Екатерину в спальню императрицы. Та тоже была в déshabilléее волосы были уже уложены. Перед облачением невесты в свадебный наряд обе, и Екатерина, и Иоганна, произнесли короткие формальные благодарности императрице, которая милостиво им ответила. Сначала нужно было сделать Екатерине прическу, и между императрицей и парикмахером состоялся спор по поводу новомодных кудряшек. Императрица хотела, чтобы волосы Екатерины лежали гладко — тогда украшения, которые ей следовало надеть, можно было бы надежно закрепить. Но парикмахер не хотел отказываться от взлелеянного замысла без борьбы. Графиню Румянцеву призвали в посредники. Екатерина хранила дипломатическое молчание, и императрица, раздраженная всей этой суматохой, сказала наконец парикмахеру, что он может делать что хочет. Когда волосы Екатерины уложили, они были, по словам Иоганны, черными, блестящими и без пудры. Явилась императрица, чтобы возложить ей на голову корону великой княгини и сказать, что она может надеть столько украшений, сколько хочет. Затем гофмейстерины помогли ей облачиться в очень тяжелое официальное платье из серебряной ткани, вышитое серебром по всем швам и кромкам и скроенное таким образом, чтобы подчеркнуть ее тонкую талию. На голову ей накинули серебряные кружева, а на лицо нанесли немножко румян. Иоганна признала, что дочь выглядит великолепно. Наряд великого князя, которого одевали в соседней комнате, соответствовал наряду Екатерины: он сверкал клинком и переливался бриллиантами. Гвардейские полки, включая конных гвардейцев, заняли свои посты вокруг дворца, вдоль маршрута и вокруг церкви. Начали по одному прибывать экипажи, подвозя избранных участников. Большая процессия двинулась в сторону собора Казанской Божьей матери в десять часов. Первым двигался отряд кирасир, за ним — заместитель распорядителя церемонии в открытой карете. Затем следовали экипажи камер-юнкеров великого князя и великой княгини, начиная с самых юных, и перед каждым шли четыре лакея. Перед экипажами камергеров великого князя и камер-юнкеров императрицы шли по восемь лакеев, а сопровождал карету гайдук (личный слуга в ливрее). Количество лакеев, скороходов и гайдуков возрастало пропорционально важности персоны. Перед генерал-майорами шли два скорохода и десять лакеев; главнокомандующие, министры, сенаторы и «голубые ленты» (кавалеры, облеченные знаками отличия своих орденов) удостоились двух пажей на запятках, гайдука, нескольких мавров и гусар, четырех скороходов, двенадцати лакеев и конюшего верхом. Позади обер-гофмейстеров двора императрицы и фельдмаршалов двигался за своими барабанщиками отряд конной гвардии. Двадцать четыре кареты занимали фрейлины, камер-фрау и гофмейстерины. На церемонии присутствовал епископ Любекский, брат Иоганны. Он ехал в великолепной карете с четырьмя скороходами впереди, четырнадцатью лакеями, двумя камер-юнкерами и двумя пажами, с четырьмя гайдуками у дверцы и скороходом в ливрее, шагающим перед лошадьми с четырьмя сопровождающими их грумами. Когда обер-церемониймейстер сообщил княгине Иоганне, что настала ее очередь занять свое место, она последовала за ним с принцессой Гессен-Гомбургской, а ее шлейф поддерживал монсеньор Латоф. Они с принцессой Гессен-Гомбургской ехали в одной карете, которая сопровождалась так же, как и карета епископа Любекского. Кортеж императрицы был самым замечательным из всех.
«Кортеж Ее императорского величества открывали трубачи и барабанщики. Обер-церемониймейстер следовал в открытом экипаже с жезлом в руке. Далее — гофмаршал и обер-гофмаршал двора Ее императорского величества со своими маршальскими жезлами. Затем четырнадцать сержантов, которые всегда сопровождают правителя в этой стране, когда он выходит к народу. Четыре сержант-квартирмейстера покоев, шесть простых сержант-квартирмейстеров двора. Начальник пажей верхом. Тридцать шесть пажей верхом… Камергеры Ее величества по двое, каждый с двумя скороходами перед лошадью. Два простых конюших. Главный конюший. Двадцать четыре грума верхом. Двенадцать лакеев покоев. Сорок лакеев»{64}.
Иоганна описывает императорскую карету, в которой великий князь и великая княгиня ехали вместе с императрицей, похожей «на настоящий маленький замок»{65}. Ее влекли восемь лошадей; каждую лошадь вел грум. Два пажа ехали стоя на запятках, шагали шесть мавров и двенадцать гайдуков, а два генерал-адъютанта и шталмейстер ехали по бокам. Платье императрицы была похожа на платье Екатерины, только сшито оно было из шелка цвета каштана. На ней также была корона и мантия. Когда все участники процессии прибыли на площадь перед собором, церковь начала заполняться согласно заранее распределенным местам. Княгиня Иоганна, ее брат и принцесса Гессен-Гомбургская ждали Ее императорское величество у основания высокого помоста, покрытого красной тканью, совместно со священнослужителями — епископами (в некоторых документах архиепископами) Москвы, Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Переславля, Крутиц и Иерусалима, множеством архимандритов, священников и дьяконов с кадилами, — а также хором. Когда императрица прибыла, архиепископ Новгородский протянул ей для целования Евангелие, а затем вошел в собор. За ним попарно проследовало остальное духовенство. Позади священников следовали церемониймейстер, гофмаршал и обер-гофмаршал, а затем императрица. Ее шлейф нес ее гофмейстер и четыре камергера. Обер-гофмаршал и обер-камергер Петра шли перед ним и Екатериной, которая шествовала справа от Петра; ее шлейф несли два камергера. Службу вел архиепископ Новгородский. Сначала прошла праздничная литургия, за ней — короткая молитва; по ее завершении архиепископ приблизился к императрице, низко поклонился и попросил разрешения на начало свадебной церемонии. Получив его, он ушел в царские врата. Церемониймейстер с Жезлом в руке, а также гофмаршал и обер-гофмаршал императорского двора встали по обе стороны от маленькой приподнятой платформы в центре собора, напротив царских врат. Ее императорское величество спустилась с трона, когда невеста с женихом вышли из галереи, где они слушали литургию, а княгиня Иоганна с принцессой Гессен-Гомбурской вышли из другой. Императрица взяла невесту и жениха за руки и отвела их на предписанные места: великого князя справа, а великую княгиню слева. Затем архиепископ вернулся из алтаря в сопровождении двух других епископов; каждый нес золотую корону. Первая корона, которая предназначалась для великого князя, была передана епископу Любекскому, вторая — для Екатерины — егермейстеру (и любовнику императрицы) графу Разумовскому. По обычаю православного венчания короны держали над головами невесты и жениха на протяжении всей церемонии. Иоганна заметила, что это должно было быть утомительно для брата и графа Разумовского. Когда пара, как положено, шествовала вокруг аналоя, шлейф Екатерины несли два камергера — те самые, что несли шлейф Елизаветы при входе в собор. После того, как пропели отрывок из Евангелия, архиепископ взял кольца (из чистого золота), благословил и передал императрице, чтобы она благословила их тоже. Затем он протянул кольца венчающейся паре, дабы их надели на те же пальцы, где были обручальные. В конце церемонии оба, и невеста, и жених, упали ниц перед императрицей, которая подняла их и тепло обняла. Она также поцеловала Иоганну. Затем отец Симеон Тодорский прочитал проповедь, в которой говорил о чудесах провидения в объединении этих двух потомков домов Ангальтского и Голштинского, предназначенных править русскими людьми. За службой последовал благодарственный молебен, который завершился троекратным пушечным выстрелом и звоном колоколов во всех церквях. Затем церемониймейстер по очереди вывел всех участников в том же порядке, в каком они пришли, и кортежи двинулись назад тем же путем, что и прибыли — по Большой Першпективе (название дороги, которая стала впоследствии Невским проспектом) к Адмиралтейству, проследовав под триумфальной аркой. Когда показался императорский кортеж, из Адмиралтейства поступил сигнал стрелять из всех пушек. Грохот сливался с криками войск и приветственными возгласами жителей, выстроившихся вдоль маршрута. В Зимнем дворце ждали послы и иностранные министры, чтобы поздравить императрицу в ее покоях. Она ненадолго задержалась с ними и быстро вернулась к обеду, накрытому в большой галерее. Императрица села под специально воздвигнутым балдахином вместе с великим князем и великой княгиней, которые устроились по обеим сторонам длинного стола. На этот раз Иоганне не на что было жаловаться при рассаживании, так как ее усадили за один стол с главными действующими лицами, всего на одну ступеньку ниже — рядом с Петром и напротив епископа Любекского, расположившегося возле Екатерины. Все остальные вельможи, знать и священнослужители обслуживались за другими столами, которых было несколько сотен. После второго блюда присутствующие выпили за здоровье сидящих за столом императрицы, начиная с невесты и жениха. С каждым тостом выпивался кубок вина, и одновременно стреляли пушки. Сигнал к залпам подавался офицером, находящимся на высокой платформе вне дворца, откуда он мог видеть все, что происходит. Затем последовал «потрясающий»{66} десерт, и в одиннадцать часов вечера обед закончился. После позднего обеда императрица ушла, а галерею стали готовить к предстоящему балу. К этому времени Екатерина уже устала от веса своей одежды и особенно от короны, но необходимо было получить особое разрешение императрицы — данное с огромной неохотой, — чтобы снять ее. Что она и сделала на время, пока шли приготовления. Затем корону вернули ей на голову. Бал, во время которого танцевали только полонезы (танец для пар, выстроившихся в линию по чинам), длился не более полутора часов. Затем церемониальная процессия дошла до покоев новобрачных, где подготовила брачную постель. Вот как это описывает Иоганна:
«Ее императорское величество прошествовала вслед за церемониймейстерами, гроссмейстером двора, обер-гофмаршалом, гофмаршалом, обер-камергером двора великого князя в брачные покои, а за нею следовали только молодая пара рука в руке, я, мой брат, принцесса Гессенская, статс-дама, гофмейстерины, камер-фрау и фрейлины. Как только все женщины вошли, все мужчины вышли и двери закрыли, а молодые супруги последовали в апартаменты, где должны были сменить одежду. Сначала раздели невесту. Ее императорское величество сняла с нее корону; я уступила принцессе Гессенской честь надеть на нее сорочку, статс-дама подала ей пеньюар, а остальные дамы в последний раз прикоснулись к самому замечательному déshabillé в мире… Когда великая княгиня была уже одета [sic!], Ее императорское величество прошла посмотреть на великого князя, которому помогали раздеться обер-егермейстер двора Разумовский и мой брат. Императрица вывела его к нам; его наряд был идентичен наряду его супруги, но он и вполовину не был в нем так хорош, как она. Затем Ее императорское величество дала им свое благословение, которое они приняли, стоя на одном колене. Она нежно обняла их и оставила на нас — принцессу Гессенскую, графиню Румянцеву и меня, — чтобы мы проводили их в постель»{67}.
Екатерину уложили в двуспальную кровать в роскошно убранной спальне (стены были затянуты красным бархатом и украшены пилястрами с серебряным рельефом) и оставили одну — впервые за много дней. А Петр исчез. Позднее Екатерина смогла увидеть комическую сторону своей первой брачной ночи.
«Все покинули меня. Я осталась одна на два с лишним часа, не зная, чего от меня ждут. Мне нужно встать? Или оставаться в постели? Я правда не знала. Наконец мадам Краузе, моя новая фрейлина, вошла и очень весело сообщила, что великий князь ждет ужина, который скоро будет подан. Его императорское высочество пришел после ужина и начал рассказывать, как порадуется слуга, обнаружив нас в постели вместе»{68}.
Если у Петра и были какие-нибудь идеи о том, каких от него ждут действий, он не проявил никаких намерений что-либо сделать. Когда Екатерина наконец поняла, что несмотря на объяснения матери, чего ей ждать от мужа, ничего не произойдет, она закончила день своей свадьбы тем, что повернулась на бок и уснула. Свадебные торжества длились десять дней. 22 августа Екатерина и Петр получили официальные поздравления от послов, иностранных посланников, лордов, сенаторов, министров, офицеров и священнослужителей, после чего отправились в Летний дворец на обед с Елизаветой — впервые вдвоем в экипаже. Впрочем, «вдвоем» весьма условно, так как перед ними двигался такой же пышный кортеж, как и в предыдущий день. Елизавета подарила Екатерине еще несколько ювелирных украшений (изумруды и сапфиры) и снабдила ее целым шкафом белья, кружев и платьев. Екатерина и Петр вернулись в Зимний дворец около четырех часов, чтобы подготовиться к вечернему балу. Императрица прибыла в Зимний около восьми часов; ее встречали у подножия лестницы. Бал открывали великие князь и княгиня. Екатерина выбрала в партнеры своего дядю, епископа Любекского, а Петр сначала пригласил Иоганну, а потом принцессу Гессен-Гомбургскую. Бал длился до двенадцати ночи. Затем последовал ужин за столом, украшенным специально сконструированными фонтанами. Все, кроме Екатерины и Петра, которые сидели в центре, получили свои места по жребию. Тут пили только за здоровье Ее императорского величества, и снова под пушечные выстрелы. Следующий день, двадцать третье августа, был днем отдыха, во время которого Екатерина и Петр нанесли визит Иоганне, а она им. Графиня Румянцева прислала сообщение, что императрица решила больше не следить за Екатериной, раз она уже замужем. Екатерина не испытала сожаления по этому поводу. Тем временем мадам Краузе, назначенная императрицей, уже давила своим авторитетом на фрейлин Екатерины, требуя, чтобы они не разговаривали с ней наедине и не играли, как делали раньше. 24 августа в Зимнем дворце состоялся обед. Императорский двор торжественно обедал перед публикой. Было устроено так, чтобы всё население Петербурга присоединилось к свадебным торжествам, вкусив бесплатного угощения — из фонтанов лилось бы вино, были наготовлены горы хлеба, зажарено целиком шесть быков, причем каждого набили птицей, хватало и другого жареного мяса. Готовилось все снаружи, рядом с дворцом. Праздник должен был начаться после окончания обеда внутри дворца, когда ко двору уже прибудут послы. Толпу жаждущих угоститься сдерживали забор и небольшое количество охраны. Офицер, чьей задачей было подавать сигналы, дабы выстрелы из пушки сопровождали тосты, имел также задание дать сигнал к началу празднества. Неудивительно, что возбужденной и голодной толпе, которая собиралась с предыдущей ночи, не хватило терпения дождаться сигнала. «Едва заметив, что произносится первый тост, люди прорвались сквозь ограду, снесли охрану и бросились на угощение»{69}. Императрице сообщили о «разбойном нападении». Сначала она только рассмеялась, но затем решила наказать подданных, не включив фонтаны с вином. Иностранные советники прибыли примерно в пять часов, и тогда в большой галерее состоялся концерт итальянской музыки. Позже члены двора отправились на прогулку по городу, чтобы полюбоваться иллюминацией. На следующий день в Летнем дворце была дана опера, а двадцать шестого августа в Зимнем дворце устроили бал-домино. Первоначально домино было облегающим черным шелковым платьем, которое распространилось по всей Европе из Венеции как идеальный наряд для маскарада, предельно усиливающий маскировку, так как он закрывал фигуру и лицо танцора целиком. Домино могло быть, как в данном случае, и ярких цветов. Участники бала были разбиты на четыре группы по 16 пар, танцевавших кадриль и одетых в домино разного цвета. Первая группа, которую вел великий князь, была в розовом с серебром; вторая, ведомая Екатериной, в белом с золотом; третья, ведомая Иоганной, в голубом с серебром; а четвертая, ведомая епископом Любекским, в желтом с серебром. Каждой группе было предписано танцевать в своем конце зала, не смешиваясь с другими. Екатерина была уже в достаточно возбужденном состоянии, чтобы разразиться слезами при таком ограничении, так как мужчины в ее группе все были в возрасте и не могли танцевать достаточно хорошо. На следующий день был другой бал с теми же кадрилями, а двадцать девятого августа состоялся народный карнавал, который включал постановку пьесы Мольера «La Princesse d’Elide». Маскарад, который устроили в апартаментах Зимнего дворца, продлился далеко за полночь; пьеса закончилась лишь в три часа утра. Последним днем празднеств было 30 августа — день святого Александра Невского. В девять часов утра все рыцари ордена святого Александра Невского собрались в покоях императрицы, где она присоединилась к ним в униформе ордена (белое платье, украшенное серебряным галуном, с подкладкой цвета пламени; жакет с обшлагами) и в короне. Рыцари приложились к ее руке, затем расселись по каретам, которые ждали их возле дворца. Императрица последовала за ними в сопровождении великого князя, княгини Иоганны и Екатерины, которая шла позади, а также статс-дамы, гофмейстерин и фрейлин, выступавших по двое. Весь конвой направился к монастырю, посвященному воину-святому, в противоположный от Адмиралтейства конец Большой першпективы. Когда конвой прибыл к монастырскому комплексу, священники во главе с архимандритом вышли навстречу, чтобы приветствовать императрицу, у ограды; рыцари шли по двое перед нею, а дамы следовали позади. Три выстрела из пушки возвестили о ее прибытии. Государыня и свита вошли в собор во время праздничной литургии, за которой последовал благодарственный молебен. Тройной пушечный залп сопроводил появление ботика (маленькой лодки) Петра Великого, который каждый год приводили к монастырю. Затем императрица с рыцарями села обедать. Ботик был и остается одним из самых уважаемых символов эпохи Петра Великого и преобразований, которые он принес в страну — в особенности создания морского флота и начала эры морского могущества. Вокруг этого ботика, так называемого «дедушки русского флота», существует множество различных легенд. В 1688 году шестнадцатилетний Петр обнаружил его на задворках дома, и тот разбудил его первые мечты о флоте. Одна из легенд гласит, что первоначально лодка была подарком королевы Елизаветы I Ивану Грозному. Теперь считается, что она была построена в 40-х годах XVII века — или в Англии, или датскими мастерами в России по «английскому» проекту. Научившись ходить под парусом на этой лодочке, Петр отдал ее в 1701 году на хранение в Кремль. Позднее ее переместили в Петропавловскую крепость, где она и хранится на постаменте с надписью: «От забавы ребенка к триумфу мужчины».[18] Ботик был слишком старым и хрупким, чтобы сразу спускать его на воду, поэтому его затащили в более крупную лодку, которую уже тянули два баркаса. После обеда императрицу переправили на борт ботика, где она поцеловала изображение отца, хранившееся там. Затем она вернулась на свой баркас с императорским штандартом. Перед ним шли четыре галеры, откуда гремели трубы и барабаны. Остальная компания следовала на других баркасах и галерах. На входе в Большую Неву их встретили новые лодки, включая что-то вроде гондол. Отсюда регата двинулась к Адмиралтейству, где императрицу приветствовали салютом. Стреляли также и из крепости. Ее галера ответила залпом бортовых орудий, а придворные трубачи и барабанщики вторили с балконов дворца музыкантам на галерах. Затем императрица проводила ботик обратно, на место стоянки в крепости. А во дворце начался еще один бал. За ним последовал фейерверк, за которым, в свою очередь, настало время подкрепиться в галерее, где Ее императорское величество ужинала с рыцарями ордена святого Александра Невского. И так, согласно записям Иоганны, «закончился, вероятно, самый расточительный праздник из всех имевших место в Европе»{70}. Дни, последовавшие затем, могли характеризоваться только упадком сил. Кроме новизны засыпания в одной постели, ничего, похоже, не изменилось в жизни Петра. По словам Екатерины, он предпочитал играть в солдатики со своими камердинерами — «представляя военные маневры и меняя им униформу по двадцать раз на дню»{71}, — чем проводить время с молодой женой. В более поздние годы жизни она так суммировала свои разочарования: «Я была готова полюбить своего мужа, если бы только он был способен любить или хотя бы хотел показать, что способен. Но в самые первые дни своего замужества я пришла по поводу него к печальному заключению. Я сказала себе: «Если ты рискнешь полюбить этого человека, ты станешь самым несчастным существом на свете»{72}. Она занимала себя чтением романов или проводила время с матерью, приготовления к отъезду которой шли полным ходом. В начале сентября Екатерину, Петра и Иоганну послали в императорский дворец Царское Село (примерно в двух часах езды от Санкт-Петербурга), а императрица отправилась в загородное поместье графа Разумовского в Гостилицах. Это пребывание во дворце, построенном для Екатерины I, и в парке, который однажды станет любимым местом Екатерины II, не было приятным: его испортили перебранки между старыми и молодыми. Княгиня Иоганна оставила Санкт-Петербург и затем Российскую империю 28 сентября. Императрица подарила ей значительную сумму в 60 тысяч рублей, чтобы она могла заплатить долги — но оказалось, что княгиня успела задолжать сумму еще большую, и это бремя своей тяжестью легло на плечи дочери, которая взяла на себя ответственность за безумные долги матери и выплачивала их в течение нескольких лет. За несколько дней до отъезда Иоганна имела долгий разговор с императрицей. Она оставляла русский двор с пятном на репутации. Скандал из-за отношений с Иваном Бецким и ее бесконечные вмешательства во все раздражали всех. Екатерина и Петр провожали Иоганну до Красного Села (еще одна летняя резиденция к югу от Санкт-Петербурга). Екатерина расстроилась и «сильно плакала»; Иоганна до конца держалась официально: «Моя мать, чтобы не усугублять мое горе, уехала не попрощавшись»{73}.
3. Ранние годы замужества (1745–1752)
После собак я была самым убогим существом на свете.Вскоре после отъезда княгини Иоганны при молодом дворе (так называли двор великого князя и великойкнягини) произошел инцидент, какие со временем стали для него нормой: без видимой причины внезапно убрали любимую фрейлину Екатерины. Несколькими неделями позднее был удален камер-юнкер граф Захар Чернышев. В этом случае Екатерина решила, что удаления потребовала его мать из страха, как бы он не влюбился в молодую великую княгиню (что и произошло несколькими годами позже). Осенью и зимой 1745–1746 года Екатерину и Петра поселили в Зимнем дворце в смежных покоях, разделенных площадкой большой лестницы. Зимой переходить из одного покоя в другой приходилось сквозь холод и сквозняки. Тем не менее в дневное время туда-сюда бегали без конца. В эту первую зиму Екатерина по вечерам часто играла в бильярд с воспитателем Петра Бергхольцем в передней великого князя, в то время как Петр «играл в шумные игры со своим камер-юнкером в соседней комнате»{74}. Несмотря на отдельные апартаменты в дневное время, ночевала пара обычно в общей спальне. Придворная жизнь текла обычным порядком, что означало два маскарада в неделю (кроме быстро проходящих периодов покаяния) — один при дворе, а второй в одном из домов знати. Аристократы города устраивали их по очереди. Екатерина вспоминает эти маскарады без особого энтузиазма. «Каждый делал вид, что развлекается, но на деле до смерти скучал на этих балах, которые, несмотря на маски, были официальными, и посещало их так мало людей, что дворцовые помещения оставались пустыми. Городские же дома были слишком малы, чтобы принять даже несколько лишних желающих»{75}. Тем не менее она признает, что жизнь ее на этой стадии протекала довольно приятно и они с Петром достаточно хорошо ладили. Однако Петр уже предпочитал своей жене другую, менее сложную женщину. Он рассказал Екатерине, что еще до их свадьбы влюбился в одну из гофмейстерин императрицы. В мемуарах Екатерина то и дело возвращается к своему замужеству. Записи становятся все более пристрастными и язвительными. Она твердо намеревалась показать: не ее следует винить в том, что брак не удался, ибо «Петр — невозможный муж и таким и останется, если позволить ему продолжать в том же духе, он невозможный царь». Впрочем, что бы она ни говорила, вначале женитьба не оценивалась — ни участниками, ни кем-либо извне — как безнадежная, несмотря на отсутствие результата в постели. Петр в это время, без сомнения, вел себя как подросток, но он не был грубым. Стремясь подражать своему кумиру, Фридриху Великому, он объединял склонность к военной муштре с интересом к искусствам, в особенности к музыке. Что у него отсутствовало напрочь — так это сочувствие, способность понимать воздействие своих слов и поступков на других — последствие одинокого воспитания, ранней потери матери, отсутствия братьев и сестер или друзей по детским играм. 7 марта 1746 года принцесса Анна Леопольдовна, мать и прежняя регентша маленького Ивана VI, умерла в родах в северном городе Холмогоры, недалеко от Архангельска. Она и ее дети (кроме Ивана, заключенного в Шлиссельбургской крепости) были сосланы Елизаветой в удаленный Соловецкий монастырь на острове в Белом море — но плохая погода и плохие дороги не позволили им забраться так далеко. Теперь ее тело было возвращено в Санкт-Петербург, где его на две недели, вплоть до похорон, выставили для прощания в Александро-Невской лавре. Анна Леопольдовна родила в Холмогорах еще двоих детей. Каждый ребенок имел право на российский престол[19]. Ее смерть и похороны вынесли эту угрозу на поверхность и усилили желание императрицы, чтобы Екатерина быстрее произвела на свет ребенка. Простое наличие жены у великого князя не гарантировало безопасности династии и престолу. Елизавета все еще могла лишить Петра права наследования, если бы захотела. Кроме того, существовали прецеденты устранения императорской супруги: если Петр Великий мог отослать свою первую жену в монастырь, так же могла поступить Елизавета в отношении не удовлетворяющей ее племянницы. И всякий раз, стоило Петру заболеть — как было в том месяце, когда он мучился от сильной лихорадки, от которой не мог оправиться долгое время, — ненадежность положения Екатерины неизбежно возрастала. Британский посол лорд Хайндфорд определенно ожидал любых изменений, если Петр умрет: «Великий князь все еще очень слаб, и если с ним что-либо произойдет, Ваша светлость [то есть граф Харрингтон, которому Хайнфорд составлял свой отчет] вскоре услышит об отзыве из заключения Ивана»{76}. Тем не менее Екатерина говорит в своих записях, что в это время императрица была добра к ней, удовлетворенная ее печалью и ожиданием скорейшего выздоровления Петра, и обещала не оставить ее ни при каких обстоятельствах. После Пасхи, к которой Петр уже почти полностью выздоровел, он устроил в одной из своих комнат кукольный театр и пригласил придворных дам с кавалерами посетить представление. На Екатерину оно, по ее словам, не произвело впечатления: она называет кукольный спектакль «скучным»{77} (одно из ее любимых словечек для описания Петра и его поступков). Она рассказывает также, что импульсивность доводила Петра до беды в отношениях с императрицей. Однажды, в одиночестве работая в своем кукольном театре, он обратил внимание на звуки из-за запертой двери, соединяющей его покои с покоями императрицы. Он не удержался и при помощи подручного инструмента просверлил в двери дырки, чтобы подсмотреть, что происходит в соседней комнате. Ту комнату императрица использовала для обедов в узком кругу. В ней находился механический стол, способный опускаться и подниматься, чтобы этажом ниже могли собирать и заменять блюда. Таким образом исчезала нужда в слугах непосредственно в комнате.[20] Взглянув в просверленные дырки, Петр увидел фаворита императрицы графа Разумовского в парчовом халате, обедающего с императрицей и несколькими ее ближайшими друзьями. (Халат был гораздо более значительным предметом в XVIII веке, чем сейчас, и носили его поверх другой одежды. То, что подглядел Петр, было скорее компанией императрицы в неформальном платье, а вовсе не прелюдией к постели.) Не в силах сохранить открытие в тайне, он пригласил подглядывать членов своей свиты — что они и сделали, — а затем распространил приглашение на Екатерину и ее дам. Он зашел так далеко, что даже поставил вокруг дырок для подглядывания скамейки и табуретки. Когда Екатерина поняла, что происходит, она отказалась принимать в этом участие — вероятно, лучше Петра представляя себе ярость императрицы, если она обнаружит, что за ней шпионили. Реакция Екатерины на это необычайное предприятие охладила пыл остальных; даже Петр немного испугался и вернулся к работе в кукольном театре. Императрица, что было неизбежно, проведала о происшествии. После посещения церкви в воскресенье она пришла в апартаменты Екатерины, чтобы отругать племянника. Петр, который, в отличие от Екатерины, не ходил в церковь, скучая, бродил по покоям в халате и с ночным колпаком в руках. После обычных приветственных поцелуев Елизавета стала обвинять его в чудовищной неблагодарности и в том, что он ведет себя как ребенок. Он сделал ошибку, попытавшись протестовать. Это разъярило императрицу еще больше, и она начала осыпать его проклятиями. Даже Екатерина расстроилась, хотя Елизавета заявила ей, что к ней выговор не относится. Когда ливень брани утомил ее, она попрощалась и ушла. Петр с Екатериной были настолько подавлены, увидев императрицу в таком гневе — «как фурия»{78}, по определению великого князя, — что решили обсудить это между собой за обедом, поэтому пообедали вдвоем в покоях Екатерины. Последствия на этом не закончились, так как инцидент был использован в качестве предлога для введения более жесткого надзора за великими князем и княгиней. В мае двор переехал в Летний дворец, и в конце месяца императрица назначила Екатерине новую обер-гофмейстерину — Марию Чоглокову. На пять лет старше, чем Екатерина, она была кузиной Елизаветы и, по словам Екатерины, «необразованной, злобной и эгоистичной»{79} женщиной. Ее муж Николай, который временно отсутствовал, выполняя незначительную дипломатическую миссию, был одним из камергеров императрицы. Мадам Чоглокова была близка также к графу Бестужеву, к которому Екатерина все еще испытывала сильное недоверие и которому теперь императрица приказала составить инструкции «для персон, приставленных служить великому князю и великой княгине» — то есть для Чоглоковых — относительно того, на что именно им следует направить внимание и усилия. Из инструкций, касающихся Петра, ясно, что у него были проблемы с представлениями о приемлемом поведении при дворе (он чувствовал бы себя дома при дворе своего деда, Петра Великого, который ничего не любил больше, чем подшучивать над своими придворными и иностранными визитерами):Воспоминания Екатерины Великой
«Персона, отобранная составить компанию великому князю, должна будет стараться делать замечания по поводу определенных неподобающих привычек Его императорского высочества. Он не должен, например, выливать на головы слуг содержимое своего стакана, не должен обращаться с грубыми выражениями или неприличными шутками к тем, кто имеет честь оказаться возле него, включая знатных иностранцев, принимаемых при дворе; или корчить гримасы на публике и без конца дергать руками»{80}.
Указания относительно поведения Екатерины иные. Они демонстрируют, что, вероятно, она вела себя вовсе не так идеально, как говорят ее мемуары. Ей было предписано ревностно придерживаться русского православия, не вмешиваться в дела государства, не обижать мужа и не обращаться с ним холодно. Ей наконец ясно указали (возможно, впервые), что ее цель — произвести наследника. Главной причиной для назначения на этот наблюдательный пост Марии Чоглоковой была обеспокоенность императрицы тем, что после почти года замужества Екатерина не показывала признаков беременности. Чоглоковой вменялось в обязанность выявить причину столь неудовлетворительного хода дел и воодушевить свою подопечную на великую цель. Вот как вспоминалось об этом Екатерине: «Она имела репутацию очень добродетельной, потому что обожала своего супруга. Она вышла замуж по любви, и такой хороший пример, поставленный перед моими глазами, очевидно, должен был вдохнуть в меня желание подражать ей»{81}. В день после назначения Чоглоковой Елизавета набросилась на Екатерину, обвиняя ее в том, что она влюблена в другого мужчину или намеренно отказывается забеременеть, будучи в сговоре с королем Пруссии, как и ее мать. Екатерина, испугавшись, что императрица может ударить ее, разразилась слезами, но умудрилась не повторить ошибку Петра и не возражала Елизавете, пока гроза не отгремела. По этому поводу Петра не обвиняли никогда. Елизавета, видимо, решила, что ситуация целиком зависит от Екатерины. Екатерину так расстроил ее первый «разговор» с императрицей наедине, что она подумала даже о самоубийстве: одна из горничных видела, как великая княгиня пыталась проткнуть ножом корсет. Подозрение, что Екатерина могла полюбить кого-то другого, возникло из-за ее дружбы с Андреем Чернышевым, кузеном Захара и его брата Ивана. Все трое состояли в свите Петра (пока Захара не убрали). Великий князь особенно любил Андрея и регулярно посылал его с записками к Екатерине. Андрей снабжал Екатерину сведениями о том, что происходит при дворе. В тех условиях все нуждались в шпионах и доверенных лицах. А кроме того, возможно, что, изголодавшись по вниманию, великая княгиня начала слишком хорошо относиться к нему и, сделав свои чувства достаточно очевидными, поставила себя в опасное положение. Ее камердинеры именно так и считали и были намерены защитить ее от собственной неосторожности. Предупрежденный об опасности, которая им грозит, Андрей решил следовать общей практике русских придворных при встрече с потенциальной бедой — переждать ее в постели. В течение нескольких недель он симулировал болезнь. Позднее, в то самое время, когда получила свое назначение Мария Чоглокова, всех трех Чернышевых отослали из Санкт-Петербурга — служить лейтенантами в полки, базировавшиеся возле Оренбурга, на реке Яик (позже названной Уралом). Усиленный контроль, однако, не помог исправить тот факт, что брак все еще не имел завершения, и чем дольше длилась эта ситуация, тем труднее становилось молодой паре преодолевать смущение — и в отношениях друг с другом, и в отношениях с окружающими, которые следили за ними. Кроме того, Екатерина была уверена, что если императрица пыталась заставить их продолжать супружеские отношения, другие люди при дворе упорно стремились заставить их разойтись еще дальше:
«У меня были все причины верить, что в то время существовало огромное желание преумножить трудности между мною и великим князем. Потому что вскоре граф Девьер ни с того ни с сего сообщил мне о дикой страсти великого князя к мадемуазель Карр, гофмейстерине императрицы, а позднее поведал, что он заметил, как мой муж демонстрирует такие же чувства к мадемуазель Татищевой»{82}.
Покои в Летнем дворце, где все это происходило, не были созданы для удобства обитателей. Заметки Екатерины позволяют заглянуть даже в отхожие места дворца:
«Они образовывали анфиладу комнат с двумя входами: один с лестницы, по которой проходили все, кто шел навестить нас, а другой вел в покои императрицы. Поэтому чтобы выполнять работы в наших комнатах, слуги должны были пользоваться одним из этих выходов. Однажды случилось так, что иностранный посланник, придя к нам на аудиенцию, первым делом увидел ночной горшок, который несли опорожнять»{83}.
Переезды двора на протяжении всего года из дворца во дворец каждый раз влекли за собой перевозку мебели, так как не хватало зеркал, кроватей, стульев, столов и сундуков, чтобы обставить все дворцы для использования их в разное время. Постепенно Екатерина начала приобретать собственную мебель, чтобы ликвидировать эти нехватки. В начале июля 1746 года Петр с Екатериной сопровождали императрицу в инспекционной поездке в Ревель (ныне Таллинн, столица Эстонии). Путешествие было нелегким, так как на каждой остановке помещения почтовых станций занимались императрицей и ее свитой; молодой двор вынужден был обходиться палатками или помещениями для прислуги. Екатерина сохранила отчетливые воспоминания о неудобствах и трудностях, вызванных капризами императрицы и отсутствием определенного порядка:
«Я помню, как однажды во время этого путешествия одевалась перед печью, где только что спекли хлеб, а в другой раз, когда я вошла в палатку, где стояла моя кровать, там оказалось по щиколотку воды. Все становилось еще хуже из-за отсутствия у императрицы четкого распорядка, представлений о времени отъезда и прибытия, еды и отдыха; поэтому все мы были чрезвычайно измотаны — и встречающие, и приезжие»{84}.
Прибытие в город Екатериненталь явилось хорошим примером отсутствия у Елизаветы способностей к планированию: она хотела въехать с большой помпой и церемониями, в дневное время — но вместо этого двор оказался в городе под проливным дождем в половине второго ночи. «Мы были тщательно одеты, но, насколько я знаю, нас никто не увидел, потому что ветер задул все фонари»{85}. Оказавшись снова в Санкт-Петербурге, Екатерина впала в депрессию. У нее начались боли в груди и частые приступы слез из-за скуки и постоянных придирок Марии Чоглоковой (к которой теперь присоединился муж). Не достигнув прогресса в раскрытии причины неполадок в браке великих князей, императрица решила привлечь к расследованию священников. Она приказала великим князю и княгине приготовиться к участию в праздновании Успения (15 августа). Необходимые приготовления включали соблюдение поста и исповедь. В данном случае их обычный исповедник, епископ Симеон Тодорский, напрямую спросил и Петра, и Екатерину об их соответствующих отношениях с Чернышевыми. Вскоре он понял, что нет правды в инсинуациях, которые так тревожили императрицу: оба, и великий князь, и великая княгиня, были на удивление невинны. Екатерина заключила: «Я думаю, что наш исповедник передал наши признания духовнику императрицы, а последний доложил Ее императорскому величеству, и это не принесло нам никакого вреда»{86}. Начало августа императрица провела в Петергофе. На вторую половину месяца она переехала в Царское Село, а молодой двор был отправлен в царское имение Ораниенбаум на южном берегу Финского залива. Ораниенбаум первоначально принадлежал князю Меньшикову, и перешел в императорское владение, когда того отправили в ссылку. Елизавета подарила его великому князю Петру в 1743 году. Большой дворец, построенный во времена Петра Великого и позднее переделанный Растрелли, состоял из центрального здания с куполом, соединенного длинными галереями с павильонами по обеим сторонам. Здание расположено на высокой скале с террасами, спускающимися к обширному регулярному парку; из него открывается прекрасный вид на море. Ораниенбаум был (и остался) прекрасной местностью; деревья в аллеях здесь переплетаются так густо, что в некоторых местах заслоняют солнце. Тут Петр мог позволить себе заниматься любимыми военными учениями. «[Он] немедленно поставил под ружье всю свою свиту: камергера, гофмейстеров, придворных… всех дворцовых слуг, егерей, садовников — все были вооружены мушкетами. Он проводил учения каждый день и сделал из них приличных гвардейцев»{87}. Вечерами устраивались какие-то скучные балы: компания была недостаточно большой, чтобы нормально веселиться. Придворные, которым не нравилось, что их заставляют целый день маршировать, ощущали себя усталыми и раздраженными. Именно в период этой «утомительной жизни» в Ораниенбауме, «где пять-шесть женщин жили в изоляции, завися от общества друг друга с утра и до ночи»{88}, Екатерина впервые по-настоящему обратилась к литературе, и та стала ей главным утешением и стимулом на всю оставшуюся жизнь. Раньше она читала романы, от которых быстро уставала, но теперь открыла для себя письма мадам де Севинье, а затем работы Вольтера. После бесконечных перемещений в течение лета и осени между Ораниенбаумом, Петергофом и Летним дворцом в Санкт-Петербурге (краткое пребывание в каждом месте существенно затрудняло работу, выбивая из колеи послов и иностранных посланников) двор вернулся в Зимний дворец. На этот раз Петра с Екатериной поместили в те же апартаменты, в которых Петр жил до свадьбы. Оба очень хотели получить эти комнаты, но улучшение условий жизни не привело к переменам в супружеских отношениях. Екатерина теперь почти постоянно страдала от головных болей и бессонницы. Она считала, что причина головных болей верно определена придворным врачом доктором Борхавом: тот ощупал ее череп и сказал, что он все еще как у ребенка и что кости еще не срослись. Но длительное напряжение и бесплодное замужество представляются более вероятным объяснением. В мемуарах Екатерина пишет о своих страданиях, подчеркивая мещанство елизаветинского двора и оставляя суровые комментарии: «Науки и искусства никогда не обсуждались, так как никто не разбирался в этих предметах; можно держать пари, что половина двора едва умела читать, и я очень бы удивилась, если бы более трети умели писать»{89}. Реальность была несколько иной: среди других искусств музыка была особо важной принадлежностью елизаветинского двора. Придворный хор, который она основала, был очень высокого уровня. Получая всегда огромное удовольствие от музыки русской православной церкви, Елизавета старалась сохранить древние традиции и даже сама пела в хоре в маленькой частной часовне возле своих покоев. Светская музыка также поощрялась: как минимум раз в год Франческо Арайя писал новую оперу, которая ставилась на день рождения императрицы или на годовщину ее коронации. Первый русский театр также был организован при дворе Елизаветы — группой студентов из элитного Кадетского корпуса под руководством поэта, историка и драматурга Александра Сумарокова. Они ставили пьесы Расина, Мольера и Шекспира. Великий князь Петр часто устраивал вечерами концерты, на которых сам играл на скрипке. (В это время в Санкт-Петербурге печатались новые скрипичные концерты, написанные придворным концертмейстером и скрипачом Луиджи Мадонисом, учеником Вивальди, а также симфонии скрипача и композитора из Падуи Доменико Даллольо.) Екатерина, которая не была музыкальна, находила эти концерты утомительными и не всегда их посещала. Иногда по вечерам весь молодой двор собирался в больших княжеских покоях, чтобы музицировать в гостиной, и дважды в неделю давал спектакли театр, расположенный напротив Казанского собора. Несмотря на бессонницу, на головные боли, на скуку во время музыкальных концертов, Екатерина с радостью вспоминает зиму 1746–1747 года. «Короче, эта зима была самой веселой и лучше всего организованной за всю мою жизнь. Практически все дни мы проводили, смеясь и танцуя»{90}. В начале 1747 года, после завершения паломничества к знаменитой чудодейственной иконе Божьей Матери в Тихвине, возле Новгорода, великим князю и княгине сообщили, что они должны выехать из апартаментов, которые оба так любили, и вернуться в те, что занимали в прошлом году. Екатерина была уверена, что это было сделано, дабы разрушить их радостное настроение, которое, как она чувствовала, раздражало и Чоглокову, и графа Бестужева. Теперь Петр страдал, как раньше страдала она, от того, что отсылали прочь самых близких ему в свите людей. По достижении зрелости (для немецких принцев этот возраст был равен восемнадцати годам) от него из политических соображений удалили всех людей, прибывших с ним из Голштинии, включая Брюммера и Бергхольца. Кроме того, камердинер, к которому он был привязан, оказался заключен в Петропавловскую крепость, а метрдотеля, чью кухню он особенно любил, уволили. Таким образом Петра оставили в одиночестве и безысходности, чтобы развернуть к Екатерине, с которой он все еще мог откровенно разговаривать. Но пара не стала ближе физически и эмоционально. Екатерина сострадала ему — но он и раздражал ее:
«Я понимала его положение и сочувствовала ему, поэтому пыталась предложить любое утешение, какое только было в моих силах. Меня часто раздражали его визиты, которые длились по нескольку часов и от которых я уставала даже физически, потому что он никогда не садился, и нужно было все время ходить с ним по комнате. Он быстро ходил большими шагами, так что было крайне трудно следовать за ним — и в то же время продолжать обсуждение очень специфических военных вопросов, о которых он говорил с удовольствием; иногда казалось, что о них он может говорить бесконечно»{91}.
Екатерина признает, что Петр любил читать не меньше нее самой, но утверждает, что его любимым чтением были «истории о разбойниках и романы»{92} — или лютеранский молитвенник. Не похоже, что это полная и правдивая картина интеллектуальной жизни великого князя. И ее описание мастерства Петра как скрипача не точно, а скорее забавно: «Он не знал ни одной ноты, но имел хороший слух и демонстрировал свое обожание музыки силой и неистовством, с которыми извлекал звуки из инструмента»{93}. Пятого марта в Цербсте умер отец Екатерины. Она получила известие о тяжелой утрате вскоре после возвращения с великим князем и императрицей из Гостилиц, с празднования именин графа Разумовского, и сильно расстроилась. Скорее всего она не надеялась увидеться с отцом снова, но он олицетворял собой стабильность и преданность, и ей нравилось думать о нем как о человеке, который любил ее — может быть, даже как о человеке, к которому она может вернуться, если в этом возникнет необходимость. Елизавета решила, что горе Екатерины чрезмерно. Для императрицы это означало цепляние за прошлое и неудовлетворенность настоящим положением, что не сулило ничего хорошего в смысле производства отпрыска — ибо разве молодая жена не должна любить мужа больше, чем отца? Екатерину оставили на неделю горевать, после чего ей было твердо приказано осушить слезы. Мария Чоглокова передала приказ императрицы прекратить плакать, так как отец великой княгини «не был королем»{94}. Екатерина возразила, что хотя это и правда, он все-таки был ее отцом. Но указание присоединиться к жизни двора в следующее воскресенье повторили, все-таки позволив ей в течение шести недель носить траур. С учетом количества шпионов и соглядатаев при молодом дворе не удивительно, что иногда те, кого поставили шпионить, схлестывались друг с другом. Мадам Краузе, немка, следившая за горничными, не любила Чоглоковых и старалась подорвать их авторитет. Одним из проявлений этой непримиримой вражды стали весьма странные результаты; по описанию Екатерины, супружеская постель превратилась в детскую комнату:
«Она доставала для великого князя кукол и другие детские игрушки, которые он обожал. В течение дня их прятали в моей кровати и под нею. После ужина великий князь шел в спальню первым. Как только мы оба оказывались в постели, мадам Краузе запирала двери, и тогда великий князь играл до часу, а то и до двух ночи. Волей-неволей мне приходилось присоединяться с таким же видимым удовольствием, какое проявляла мадам Краузе»{95}.
Однажды около полуночи в дверь постучала Мария Чоглокова, и преступникам пришлось срочно прятать все игрушки под одеяла. Она ворчала, недовольная тем, что они не спят так поздно, но не смогла изобрести, на что бы пожаловаться императрице. Как только она ушла, Петр снова достал игрушки и продолжал играть, пока не уснул. Осенью 1747 года условия жизни молодого двора еще более ужесточили, чтобы подтолкнуть Петра и Екатерину друг к другу. Никому не позволялось входить в покои великих князя и княгини без разрешения одного из Чоглоковых. Даже гофмейстерины и гофмейстеры имели право проходить не дальше передней. Ни им, ни слугам нельзя было разговаривать с великокняжеской четой иначе чем громким голосом. Петр и Екатерина объединились, протестуя против новых условий; оба ощущали несправедливость подобного обращения — но это не произвело желаемого эффекта, то есть не загнало их в постель. Этой зимой Екатерина много внимания уделяла своей внешности. Ей уже исполнилось восемнадцать лет, и она понимала, что становится более привлекательной физически. Если не вмешивались неблагоприятные обстоятельства, она старалась делать прическу дважды в день. Для этого в штате был особый слуга — молодой калмык, очень умелый парикмахер. Свою внешность того времени она описала следующим образом:
«Я была высокой, с прекрасной фигурой, но могла бы позволить себе чуть больший вес, так как была очень худенькой. Я не любила пользоваться пудрой: волосы мои были очень густыми, мягкого каштанового цвета и красиво лежали на лбу. Однако мода оставлять волосы ненапудренными только начала появляться, и этой зимой время от времени приходилось применять пудру»{96}.
Шестого января 1748 года она проснулась больной: болело горло, голова и все тело. Тем не менее она поднялась как обычно и приготовилась идти на литургию, которая должна была продолжиться процессией к Неве для водосвятного молебна. Эта церемония совершалась ежегодно в праздник Крещения. Но на этот раз императрица решила не посещать водосвятный молебен, освободив также и Петра с Екатериной. Екатерина вернулась в постель, потому что ночью ее лихорадило, а проснувшись на следующее утро, обнаружила, что руки и грудь покрылись маленькими красными точечками. Как всегда, существовала ужасная вероятность, что это может быть оспа — но врач определил корь. На время болезни ее кровать перенесли в более теплую комнату, потому что альков, в котором они с Петром спали, продувался насквозь; лишь тоненькая перегородка отделяла его от вестибюля, где Петр обычно держал собак. Екатерина считала, что ее ежегодные зимние простуды происходили именно из-за сквозняков. Когда ее состояние несколько улучшилось, Петр начал устраивать в ее спальне маскарады, наряжая слуг и заставляя их танцевать под его игру на скрипке. Екатерина не оценила попыток развеселить ее: «Отговорившись головной болью и слабостью, я размещалась на софе, хотя и надев маску, и смертельно скучала от заунывности этих балов, которые так удивительно веселили его»{97}. Но Петр пытался извлечь хоть какую-то радость из ограниченности их существования. Он знал, что любой знак расположения, который он окажет, приведет к исчезновению объекта приязни.
«Когда наступил Великий пост, из его свиты убрали еще четырех человек; среди них — трех пажей, которые ему нравились больше других. Эти частые увольнения глубоко его раздражали, но он не мог ни что-либо изменить, ни даже выказать резкий протест, потому что тогда все стало бы еще хуже»{98}.
У Екатерины продолжались финансовые трудности. Ее траты постоянно превышали ее доход и периодически вызывали вспышки гнева у императрицы. Однажды Елизавета передала через камергера, что на обеде она объявила, будто все поступки Екатерины — это «полная чушь», что она раздувает собственную значимость, являясь в то же время «ничтожеством»{99}, и что гораздо важнее следить за ней, чем за великим князем. Естественно, Екатерина расстроилась, услышав такое, но она уже начала привыкать к перепадам настроения императрицы. Она знала, что единственным ответом может быть лишь очевидное подчинение, поэтому через того же камергера изъявила Елизавете уважение, послушание и почтение. Она была не одинока, претерпевая бедствия из-за долгов. В ноябре 1747 года канцлер Бестужев оказался в таком же положении после того, как истратил сто тысяч рублей на новый каменный дом на Адмиралтейской набережной Невы. Долг снизился лишь после выписки закладной на имущество на пятьдесят тысяч рублей английскому консулу Джеймсу Волффу. В начале мая 1748 года императрица пригласила Петра и Екатерину в Царское Село. В течение этих одиннадцати «каникулярных» дней предпринимались обычные репрессивные меры. Петру и Екатерине было позволено есть с придворными императрицы, когда сама она была чем-нибудь занята. К несчастью, опыт не удался из-за отсутствия у Петра самоконтроля. По словам Екатерины,
«Великий князь испортил все своей неконтролируемой веселостью: из-за отсутствия лучшей компании он привык в среде своих камердинеров к вульгарному, простому поведению и языку, который в приличном обществе считался оскорбительным, даже если использовался в шутку… Действие, произведенное грубым словом, выпущенным опрометчиво, — не забывалось никогда. По сути эти слова, произнесенные к тому же со смехом, были не более чем глупой, несознательной выходкой молодого человека, которого слишком часто заставляли находиться в дурной компании, причем заключила его туда сама его дорогая тетушка и ее фавориты. Честно говоря, этот юноша заслуживал скорее сострадания, чем порицания»{100}.
После пребывания в Царском Селе двор вернулся в Санкт-Петербург, а затем направился в Гостилицы — на праздник Вознесения. Во время этого визита однажды рано утром началась паника: дом, куда поселили великих князей со свитой, начал падать. Николай Чоглоков разбудил Екатерину и велел ей немедленно подняться и выйти с ним, так как фундамент уже заваливается. Она попросила его выйти из комнаты, чтобы покинуть постель, второпях натянула чулки, нижнюю юбку, юбку и короткий меховой жакет, а затем побежала будить мадам Краузе. Когда они последними покидали комнату, дом под ними начал шевелиться. «Мадам Краузе воскликнула: «Это землетрясение!»{101}. Лестницы обрушились, и Екатерину спустили вниз, передавая с рук на руки, по цепочке гвардейских офицеров. Затем ее отнесли от дома и отвели в поле. Там она нашла великого князя в халате. Одна из гофмейстерин Екатерины была сильно ранена кирпичом, упавшим ей на голову с рассыпающейся печи — одной из высоких изразцовых печей, используемых для обогрева. Шестнадцать работников, которые спали в цоколе, погибли. Дом строили осенью, второпях, и управляющий имением пренебрег элементарными архитектурными правилами, а оттепель ускорила разрушение. Граф Разумовский был в отчаянии из-за случившегося. Все пытались преуменьшить произошедшее, когда рассказывали о несчастье императрице, ночевавшей в другом доме. В результате она разозлилась на Екатерину за то, что та пережила шок. Этим летом Петр с Екатериной снова провели некоторое время в Ораниенбауме. Екатерина ходила стрелять уток, вставая в три часа утра и одеваясь в мужскую одежду, чтобы сопровождать старика охотника. Они пешком, вскинув ружья на плечо, проходили через парк, забирались в ожидавший их рыбачий скиф и отправлялись вдоль Ораниенбаумского канала, протянувшегося примерно на милю в море. Временами это казалось по-настоящему опасным. «Мы часто выходили за пределы канала, и поэтому иногда попадали в скифе в штормовое море»{102}. Иногда двумя-тремя часами позже к ним присоединялся Петр. Около десяти часов Екатерина возвращалась в свои апартаменты и переодевалась к обеду, который подавали в середине дня. Потом все отдыхали. Екатерина читала историческую хронику XVII века о Генрихе IV Французском — произведение Хардуина де Перефикса, а также датированные XVI веком работы аббата де Брантома, включавшие жизнеописания знаменитых и очаровательных женщин — «dames illustres» и «dames galantes». По вечерам устраивались инструментальные концерты, организуемые Петром, или совершались прогулки верхом. Длинные северные летние дни позволяли находиться на воздухе и ранним утром, и поздним вечером. Вернувшись в Петербург, дамы Краузе и Чоглокова в очередной раз поскандалили. На этот раз в решительной схватке победила Чоглокова. Она уговорила императрицу убрать мадам Краузе, которая уехала жить к своему зятю. Ее заменила мадам Владиславова. Осенью Екатерина начала секретную переписку со своим старым другом Андреем Чернышевым. Инициатором переписки был он. Она посылала ему деньги и небольшие подарочки. Они использовали платяной шкаф девушки по имени Катерина Петровна, у которой среди дворцовых слуг был жених, ставший каналом для передачи писем в обе стороны. Описание того, как Екатерина поступила с первым письмом Андрея, показывает, насколько пристально за ней наблюдали.
«Целый день я носила письмо в кармане. Раздеваясь, я засунула его за подвязку чулка, а перед тем, как отправиться в постель, вытащила и спрятала в рукаве. Я не осмелилась оставить его в карманах из опасения, что их обыскивают. Девушка могла свободно говорить со мной только когда я сидела на стульчаке»{103}.
Тем не менее атмосфера в среде дам и служанок стала немножко спокойнее, так как мадам Владиславова была менее жестким надзирателем, чем мадам Краузе. Катерина Петровна также делала обстановку более сносной, поскольку «от природы была способна на всякого рода придумки и замечательно имитировала, как ходит мадам Чоглокова во время беременности. Для этого она запихивала большую подушку себе под юбку и заставляла нас всех смеяться, расхаживая по комнате»{104}. В середине декабря двор собрался в Москву. Приготовления шли неделями. Сенату и Коллегиям (правительственные департаменты) еще в октябре рассылались официальные извещения о переезде. Многие засылали вперед провизию — до того, как начнутся серьезные холода, — из опасения, что не смогут достать в Москве необходимого, и потому, что вино может испортиться, если везти его по крепнущему морозу зимней России. Некоторые, включая канцлера Бестужева, брали с собой даже невскую воду, которая хотя и действовала плохо на животы иностранцев, все-таки считалась менее вредной, чем московская вода. Иностранные посланники, которые получали предписание готовиться к путешествию вслед за всем остальным двором, должны были ждать отъезда несколько недель, ибо невозможно было достать лошадей. В эту миграцию вовлекалось до ста тысяч человек, и всем им приходилось ждать лошадей, которые, совершив первую поездку, возвращались в Петербург (а поскольку лошадей меняли на каждой почтовой станции, их число было немыслимым). Екатерина и Петр выехали незадолго до императрицы, двигаясь ночью в больших санях с гофмейстерами впереди. В течение дня Петр ехал в крытых санях вместе с Чоглоковым, а Екатерина оставалась в больших открытых, беседуя с различными придворными, сидящими напротив нее. Императрица догнала великокняжеский поезд в Твери, что доставило им ряд неприятностей. «Дома и провиант, приготовленные для нас, были перехвачены ее свитой, и мы задержались тут на двадцать четыре часа без лошадей и без еды. Мы были ужасно голодны, но к вечеру Чоглоков ухитрился достать нам жареного осетра, который показался нам восхитительным»{105}. Во время пути от камер-юнкера князя Александра Трубецкого Екатерина узнала детали немилости, в которую попал врач Елизаветы граф Арман Лесток в середине ноября. Обвиненный в том, что состоит в секретной переписке и находится на жаловании у французского, шведского и прусского дворов, и в том, что неуважительно отзывается об императрице, он был заключен в крепость. Его пытали (особым образом, «подвесив на значительное время за заломленные назад руки»{106}) и приговорили к ссылке в Сибирь. Все его имущество было конфисковано, а его дом императрица отдала генералу Степану Апраксину, возглавлявшему комиссию по расследованию. Тепло относившийся к Екатерине, Лесток заранее предупредил ее, чтобы она избегала его перед арестом, когда уже наверняка знал, что находится под подозрением. В Москве Петра и Екатерину поместили в те апартаменты, в которых Екатерина жила с матерью по прибытии в Россию. «Ничто не могло быть более неудобным, чем место, куда нас двоих поселили. Наши покои образовывали двойное крыло с одним входом: мои комнаты были справа, великого князя — слева; ни один не мог шевельнуться, не потревожив другого»{107}. Екатерина с горячностью вспоминала свою нелюбовь к такой близости Петра.
«В это время великий князь имел лишь два занятия. Одно — пиликание на скрипке, другое — натаскивание спаниелей на охоту. Поэтому с семи часов утра и до позднего вечера мои уши терзали или нестройные звуки, которые он извлекал, и очень энергично, из своей скрипки, или ужасный лай и вой пяти или шести собак, которых он бил весь остаток дня. Признаюсь, я чуть не сошла с ума и ужасно страдала, так как оба музыкальных представления с утра до вечера разрывали мои барабанные перепонки. После собак я была самым никчемным созданием в мире»{108}.
Почти в это же время Екатерину стали беспокоить пятна на лице. Доктор Борхав сначала прописал успокоительные, которые не оказали воздействия, затем дал ей тальковое масло, чтобы разводить его в воде и мыть лицо раствором раз в неделю. Это быстро убрало пятна. Труднее было одолеть вечную проблему устранения приятных людей. Вскоре после того, как двор прибыл в старую столицу, были получены инструкции, чтобы веселая Катерина Петровна как можно скорее вышла замуж. И снова единственной причиной для этого являлось то, что девушка нравилась Екатерине и заставляла всех смеяться. «Она вышла замуж, и больше о ней не было ни слова»{109}. Но переписка между Екатериной и Андреем Чернышевым, который теперь находился недалеко от Москвы, на пути в свой полк, продолжалась — на этот раз при посредничестве камердинера Екатерины Тимофея Евреинова. Со временем его тоже убрали. Предлогом стала ссора со слугой, чьей работой было подавать кофе. Конец января 1749 года увидел первый из множества обмороков императрицы, которые беспокоили ее до конца жизни, ввергая двор в пугающие размышления о том, что может последовать, если и когда она умрет. Этот первый обморок случился во время карнавала. Императрица испытала то, что Екатерина описывает как «атаку конвульсий, которые грозили стать очень серьезными»{110}. В случае смерти императрицы нелегко было бы Петру стать царем — и Екатерина, и Петр прекрасно знали о своей уязвимости. Дворцовый переворот, произведенный кем-либо вроде графа Бестужева, мог привести к их изгнанию, заключению в тюрьму или даже убийству. Они прекрасно понимали, что во время кризиса граф Бестужев, генерал Апраксин и другие провели секретную встречу. Чоглоковы ничего не рассказали опекаемым, но явно были вовлечены и, как выразилась Екатерина, «заметно смотрели лишь себе под ноги»{111} при великих князе и княгине. Сообщение, отправленное лордом Хайндфордом, подтверждает мучительную неопределенность и наличие опасных планов, хотя оппоненты великого князя, похоже, так же боялись его, как и он их. Хайндфорд пишет, что оба графа Разумовских, канцлер Бестужев и генерал Апраксин «предприняли меры для своей безопасности на случай несчастья, потому что они, без сомнения, не в фаворе у великого князя (не смею больше говорить на эту тему даже шифром)»{112}. Петр, по словам Екатерины, был вне себя от страха. Екатерина делала все что могла, стараясь успокоить его: обещала разузнать о состоянии здоровья императрицы через своих слуг и уверяла, что если произойдет самое худшее, она поможет ему покинуть апартаменты — что в настоящее время им запрещалось делать без разрешения. Если станет необходимо, говорила она ему, онисмогут даже выпрыгнуть из окна своего первого этажа. Она также дала ему понять, что находится в контакте с несколькими гвардейскими офицерами, а также с графом Захаром Чернышевым (кузен Андрея), на которого она может положиться. Интересно отметить, что даже на этой ранней стадии Екатерина гораздо лучше Петра разбиралась в стратегии, необходимой для выживания, тщательно строя сеть поддержки. Во время придворных вечеров она, что очевидно, не просто тихо сидела, слушая музыку. Она также продолжала свою политику (стараться быть приятной людям), которая привела к улучшению отношений с обоими Чоглоковыми и Владиславовой. «Моя веселость также очень ценилась, и все Аргусы и Церберы, часто вопреки своим намерениям, получали удовольствие от разговоров, которые я с ними вела»{113}. Слегка успокоенный, Петр «вернулся в свой угол, к собакам и скрипке»{114}. Оказалось, что мадам Владиславова имела очень ценный источник информации, так как кто-то из ее родственников и друзей ухаживал за императрицей, и была в близких отношениях с некоторыми придворными священниками и певчими, сопровождавшими литургии, которые императрица, по слухам, усердно посещала. Кризис конвульсий прошел (конец «блокады» совпал с наступлением у императрицы менструации), и интриги на время развеялись. Летом императрица совершила длительное паломничество в Свято-Троице-Сергиевский монастырь. Она решила пройти пешком весь путь в тридцать миль от Москвы до храма, делая по две с половиной мили в день, с несколькими днями отдыха после каждого дня пути. Тем временем Екатерину с Петром отправили пожить в усадьбу под названием Райово, расположенный между Москвой и монастырем и принадлежащий Марии Чоглоковой. Екатерина проводила все время на охоте и в верховых прогулках. «Я скакала как сумасшедшая весь день; никто меня не останавливал, и я при желании легко могла сломать себе шею — никто не вмешивался, никто обо мне не волновался»{115}. Петр тоже все время был на охоте. Пара встречалась только за едой и в постели — причем Петр являлся, когда Екатерина уже спала, и уходил до того, как она просыпалась. В некоторые дни монотонность существования прерывалась визитами графа Кирилла Разумовского, брата фаворита. Через много лет он признается Екатерине, что у его визитов была причина: он был влюблен в нее, о чем она в то время даже не подозревала. Когда великие князь и княгиня присоединились к императрице, Елизавета была в шоке от того, как загорела Екатерина, и велела ей класть на лицо примочку из лимона, яичного белка и водки. Это средство (которое Екатерина рекомендует также при герпесе{116}) произвело желаемый эффект. Несколько следующих месяцев Екатерину мучила хроническая зубная боль, которая усилилась во время обратного переезда в Санкт-Петербург в конце года: они с Петром ехали день и ночь в открытых санях. По прибытии она вызвала доктора Борхава и попросила удалить ей больной зуб. Он не смог отговорить ее от этого шага и пригласил ее хирурга Гийона помочь ему. Екатерина села на пол, Борхав и Чоглокова устроились по обеим сторонам, чтобы держать ее, пока Гийон будет рвать зуб. Операция оказалась нелегкой — Гийон повредил челюсть. По словам Екатерины, боль была столь сумасшедшей, что «из глаз и из носа лились потоки, будто воду лили из чайника»{117}. Ее положили в постель; промучилась она около четырех недель (даже после жестокой операции один из корней зуба остался в челюсти). У нее были такие синяки, что она не могла появиться на публике до середины января. Во время Великого поста 1750 года императрица предприняла еще одну попытку выяснить, почему нет ребенка. Через Марию Чоглокову она направила внимание на то, чтобы раскрыть, «чья это вина»{118}, и послала акушерку обследовать Екатерину, и доктора — обследовать Петра. Но дав выход своим чувствам, она поняла, что гнев ее снова утих. Отсутствие наследника у великих князей повсеместно становилось признанным фактом. Более чем за год до того лорд Хайндфорд доложил правителю Ньюкасла, что, возможно, великий князь никогда не будет иметь детей{119}. В середине марта Елизавета поехала в Гостилицы праздновать день рождения Алексея Разумовского, а Петр с Екатериной наведались в Царское Село. С ними поехал их двор и гофмейстерины императрицы под началом принцессы Курляндской. Петр очень симпатизировал принцессе — вероятно, еще и потому, что она говорила по-немецки, и несмотря на то, что ранее Екатерина с презрением уволила ее как «низенькую и горбатую»{120}. Екатерина считала, что всех мужчин Голштинского дома привлекают некрасивые женщины, имея в виду своего дядю, епископа Любекского и в недалеком будущем короля Швеции, у которого «все любовницы были или горбатыми, или хромыми, или одноглазыми»{121}. Она утверждала, однако, что не слишком волнуется за Петра, убежденная, что его чувство к принцессе «никогда не пойдет дальше вялых нежных взглядов»{122}. Великокняжеская чета и ее окружение днем развлекались прогулками по окрестностям, охотой и качелями, а по вечерам игрой в карты. Канцлер великого князя, некто Сергей Салтыков, влюбился в одну из гофмейстерин императрицы, Матрену Больк, когда та качалась на качелях, и так сильно, что предложил ей выйти за него замуж. Она приняла предложение, и вскоре они поженились. Однажды вечером в Царском Селе Екатерина рано ушла спать из-за головной боли. Мадам Владиславова предположила, что истинной причиной была ревность, спровоцированная вниманием великого князя к принцессе Курляндской, и выразила великой княгине сочувствие — чего гордая Екатерина не желала слышать. Когда великий князь пришел спать — будучи еще и навеселе, — он начал рассказывать жене, как обожает принцессу, и взбесился из-за того, что она, притворившись спящей, не пожелала ему ответить. По словам Екатерины, он повел себя с супругой неподобающе, а именно «два-три раза сильно пнул в бок»{123}. Кто может ручаться, что произошло в действительности? Определенно известно, что Петр напивался, и описание того, что произошло следом, похоже на правду: «Ямного плакала этой ночью из-за всего сразу — и из-за того, что он ударил меня, и из-за своего положения, со всех сторон и неприятного, и безрадостного. На следующий день он, похоже, устыдился того, что сделал. Он не упоминал об инциденте, а я сделала вид, что ничего не произошло»{124}. Екатерина продолжала много времени проводить в седле. Императрица боялась, что езда верхом уменьшает шансы великой княгини забеременеть, поэтому ей приходилось ездить в дамском седле — во всяком случае, пока ее видела Елизавета. Однако у нее было особое седло ее собственной конструкции, которое можно было перекладывать вместе со стременами, чтобы ездить верхом по-мужски, когда никто не видел. Обычно она ездила в камзоле из лазоревого шелкового камлота (похож на камвольную ткань, которая «садится» под дождем и растягивается на солнце, так что его постоянно нужно было заменять) с серебряным галуном и хрустальными пуговицами. К нему она надевала треугольную черную шляпу, украшенную ниткой бриллиантов. Юбка имела разрезы, так что могла падать по бокам лошади (и таким образом не позволяла увидеть, едет ли всадница в женском седле или нет). Екатерина понимала, как хороша она верхом, и рада была покрасоваться перед императрицей. Этим летом, когда молодой двор переехал в Ораниенбаум, охоты устраивались каждый день. Таким способом Екатерина сбрасывала большинство своих разочарований, и физических, и психологических, а также находила, что охота помогает ей уменьшить предменструальное напряжение. «Я страстно любила верховую езду — чем более дикую, тем больше она мне нравилась, так что если бы какая-нибудь лошадь умчалась, я бы понеслась за ней галопом и привела ее назад»{125}. Она также обожала собак. Великий князь подарил ей маленького английского пуделя, которого Екатерина и ее дамы обожали, наряжали и позволяли ему есть за одним столом с собой с завязанной у горлышка салфеткой. В Санкт-Петербурге их ждал полный круг запланированных на осень и зиму вечеров: дважды в неделю французская комедия, еще два дня — маскарады, концерт в покоях великого князя — один вечер, и бал в воскресенье. Один из еженедельных маскарадов ограничивался придворными или особо приглашенными гостями императрицы (от ста пятидесяти до двухсот человек), в то время как другой был открыт для всех титулованных особ в городе вплоть до ранга полковника, а также допускались гвардейские офицеры — в общем, собиралось до восьмисот человек. Ранг («чин») играл необычайно важную роль в жизни русской знати. Табель о рангах, введенная Петром Великим в 1722 году, была основана на военной иерархии и применялась не только к военным, но также на гражданской службе и при дворе. Существовало 14 рангов (четырнадцатый был самым низким); большинство военных рангов имело и морской, и гражданский эквивалент, а некоторые имели также и придворный эквивалент[21]. Иногда военные титулы использовались, чтобы обозначить гражданское лицо равного ранга — поэтому некоторых называли «генерал», хотя они имели мало отношения к армии. Достигнув восьмого ранга (майор, капитан или коллежский асессор), простой человек приобретал передаваемый по наследству статус дворянина. Жены разделяли ранг своих мужей. Даже дворянские дети должны были пробивать свой путь к высоким рангам с самого низа — соответственно, обычно сыновья дворян-военнослужащих записывались на военную службу в младенчестве, чтобы достичь более высокого ранга ко времени, когда действительно поступят в полк. Гвардейские офицеры при любом официальном назначении, стояли на два ранга выше прочих офицеров, поэтому соревновательность при записи в гвардейские полки была жесткой и требовала влиятельного покровителя. Ранг диктовал каждый аспект жизни — стиль одежды, количество лошадей в упряжи, число слуг, фасон их ливрей, официальное обращение к носителю ранга. На маскарадах Екатерина показывала себя энергичным танцором, как на охоте — страстной наездницей, часто по три раза в течение бала меняя наряд. На публичных балах она никогда не появлялась в одном и том же платье дважды; любя удивлять и производить впечатление, она одевалась проще на придворных балах, зная, что это понравится императрице (которая сама имела громадный гардероб). Некоторые маскарады продолжались до переодевания в одежду другого пола, и на них она надевала то, что описывает как «благородные одежды, целиком расшитые и тщательно продуманные»{126}. Только в этом случае конкуренция не сердила императрицу: она была благодарна за то, что Екатерина от всего сердца проникается духом ее вечеров с «переменой полов». Несмотря на проблемы, с которыми сталкивалась Екатерина в отношениях с императрицей, несмотря на капризы последней и склонность усложнять жизнь окружающим, Екатерина продолжала восхищаться Елизаветой, особенно ее физическими данными. Вспоминая ее на этих маскарадах, удостаивавшихся со всех сторон лишь лживых похвал, она всегда поддерживала и одобряла другую женщину.
«Единственной женщиной, которая выглядела действительно хорошо и правильно в роли мужчины, была сама императрица. Так как она была очень высокой и имела крепкую конституцию, мужской костюм прекрасно ей подходил. У нее были самые красивые ноги, какие я когда-либо видела у мужчины, а ее ступни были замечательно пропорциональными. Она великолепно танцевала и обладала особой грацией во всем, что делала, одетая и мужчиной, и женщиной. Хотелось постоянно смотреть на нее и учиться, отводить глаза приходилось с сожалением, так как ничто не могло затмить ее»{127}.
Эти два привлекательных и мощных характера, каждый с сильным чувством собственного физического присутствия, отвечали один другому, узнавая родственную душу (несмотря на то, что Екатерина осуждала и отвергла многие моменты в поведении Елизаветы как правительницы).
«Однажды на одном из таких балов я наблюдала, как она танцует менуэт. Закончив танец, она подошла ко мне. Я осмелилась заметить ей, какая это удача для женщин, что императрица не мужчина, потому что ее внешности было бы достаточно, чтобы вскружить голову не одной женщине. Она хорошо приняла то, что я сказала, и ответила мне в том же тоне, самым грациозным образом из всех возможных, что если бы она была мужчиной, то подарила бы яблоко мне»{128}.
За исключением императрицы, одна Екатерина наслаждалась, бросая вызов всем остальным женщинам при дворе: она была на переднем крае моды. Однажды она появилась на маскараде вся в белом, с распущенными волосами, завязанными сзади белой лентой, с белым газовым рюшем вокруг шеи, единственной розой в волосах и второй на корсаже. Такая смелая простота, которую могла позволить себе только молодая и очень стройная женщина, привлекла к ней все взгляды. Когда Екатерина стала старше, она научилась лучше ладить с Марией Чоглоковой, чей брак уже давно перестал быть образцовым. Ее муж Николай стал заигрывать с великой княгиней, и она ему отказала, чем заслужила благодарность Марии. Последняя любила, чтобы Екатерина проводила дневные часы с ней — иначе Екатерина или читала, или прогуливалась с великим князем, когда он хотел побеседовать с нею. В своих воспоминаниях она полностью вычеркивает из жизни время, проводимое с мужем.
«Хотя я и решила обращаться с ним терпеливо и доброжелательно, я должна честно признаться, что меня часто утомляли его визиты, прогулки и беседы, которые были бесцветными и неинтересными. Когда он уходил от меня, чтение самых скучных книг представлялось чудным времяпровождением»{129}.
Этой зимой Екатерина также удостоилась внимания графа Захара Чернышева. Он начал посылать ей букеты цветов, и прежде чем она осознала, во что попала, двое находились уже в регулярной «сентиментальной переписке». Записки ходили туда-сюда через одну из гофмейстерин. Сдерживаемые эмоции Екатерины били ключом, когда она писала, что любит его, как не любила ни одна другая женщина{130} (ему было двадцать девять лет, ей — двадцать два года), и что она не представляет себе рая без него. Тем не менее отношения так и не стали чем-то большим, нежели переписка, и в начале Великого поста 1752 года граф Чернышев оставил Санкт-Петербург, чтобы вернуться в свой полк.
4. Екатерина взрослеет (1752–1755)
Я растила себя и держала голову высоко поднятой, как человек, несущий большую ответственность, а не униженная и угнетенная личность.К 1752 году Петр с Екатериной были уже далеко не теми детьми, какими они поженились. Они создали себе при русском дворе стиль жизни; оба становились сексуально привлекательными для других людей. Екатерина по крайней мере однажды побывала на самом краю вступления в сексуальные отношения. Но все еще не было никакого прогресса в выполнении супружеских обязанностей по отношению друг к другу, хотя оба прекрасно сознавали, что это считается их долгом по отношению к Российской империи. Отказ Петра и Екатерины или невозможность иметь (хотя бы попытаться иметь) сексуальные отношения — несмотря на усиленное сведение их вместе, практически заключение в одну постель ночь за ночью — предполагает высочайшую степень либо упрямства, либо беспомощности со стороны одного или обоих. В их отказе произвести требуемого наследника можно было бы предположить акт сознательного протеста против императрицы и ее двора, единственную возможность великих князя и княгини проявить хоть какую-то волю и действовать независимо — то есть, в данном случае, бездействовать. Но тот факт, что взятый на бездействие курс был опасен для них самих, ставя их перед угрозой отстранения от престола как бесполезных, заставляет предположить, что они были не в состоянии помочь себе. После Пасхи, когда двор переехал в Летний дворец, Екатерина начала замечать, что камергер Сергей Салтыков — тот, который сделал предложение будущей жене, увидев ее качающейся на качелях в Царском Селе — все чаще и чаще появляется на дежурстве. Казалось, он пытается завоевать благосклонность Чоглоковых. Это показалось ей любопытным, так как ни у кого из молодого двора обычно не находилось для пары надзирателей ни одного доброго слова и не появлялось желания проводить с ними время. Екатерина начала обдумывать, нет ли тут скрытого мотива — и вот на одном из концертов Салтыков дал понять, что намерен соблазнить ее. Екатерина, которая сначала воображала, что держит ситуацию под контролем, спросила его, что он намерен получить от таких отношений. Он ответил ей высокопарными фразами. Она напомнила, что он женат на той, которой всего два года назад оказывал все знаки любви. Он заявил, что ошибся и больше не любит свою жену. Екатерина попыталась сопротивляться знакам его внимания, но…Мемуары Екатерины Великой
«К несчастью, я не могла не слушать его: он был красив, как утренняя заря; в этом никто не мог сравниться с ним — ни при императорском дворе, ни при нашем. Ему было не занимать ни ума, ни образованности, ни манер и грации, которые являются прерогативой grand monde (высшего света) и особенно ценятся при дворе»{131}.
Екатерина была легкой добычей. Сергей Салтыков достиг двадцатишестилетнего возраста (на три года старше Екатерины) и имел сексуальный опыт. Он происходил из знатной семьи и, как выразилась Екатерина, «умел скрывать свои недостатки»{132}. Она смогла сопротивляться его уговорам несколько недель. Затем Николай Чоглоков предоставил ему возможность преследовать ее более решительно, организовав на своем острове охоту. Во время этой охоты Салтыков настиг Екатерину, чтобы «начать обсуждать свою любимую тему»{133}. Сначала княгиня хранила молчание, выслушивая торжественные заявления Сергея о любви, но в конце концов вынуждена была признать, что он ей «приятен»{134}. В этот вечер разразился шторм, и компания охотников оказалась запертой на острове в доме Чоглокова до раннего утра. Так как Сергей продолжал изливать на Екатерину страстные признания, она поняла, что при сложившихся условиях может потерять контроль над ситуацией. Она влюбилась. «Я считала, что можно управлять и его, и своим сердцем, но теперь поняла, что задача становится трудной, если не невозможной»{135}. Прилежная служба Салтыкова при молодом дворе вскоре стала предметом сплетен, которые неизбежно достигли ушей императрицы. Екатерина считала, что именно подозрения относительно ее связи с Салтыковым были настоящей причиной недовольства императрицы, выразившегося в критике внешнего вида молодого двора (тем летом в Ораниенбауме все его члены стали носить однотипную одежду — «серый низ, голубой верх, с черным бархатным воротником и без каких-либо других украшений»{136}). Елизавета, приехав в Ораниенбаум на день (постоянно она жила в Петергофе), заявила также Марии Чоглоковой, что все еще убеждена: именно привычка Екатерины ездить верхом по-мужски мешает ей забеременеть, так что следует запретить ей целый день носиться верхом. Похоже, единственный раз в жизни Чоглокова отказалась ходить вокруг да около в разговоре с императрицей. «[Она] ответила, что дело тут не в моей возможности иметь детей; они, в конце концов, не могут появиться без кое-каких действий, и что хотя Их императорские высочества женаты с 1745 года — по этому поводу еще ничего не было сделано»{137}. Затем бедная мадам Чоглокова получила свою порцию оскорблений от императрицы — которая наверняка подозревала правду, даже если никто и не осмеливался сказать ей это в лицо прежде. Но теперь она винила Чоглокову и ее мужа в том, что те не вынудили Петра и Екатерину так или иначе иметь сексуальные отношения. После того, как об этом разговоре узнали Сергей Салтыков и камер-юнкер Лев Нарышкин, чье имя также было привязано к имени Екатерины, оба решили, что политически верно будет ретироваться со сцены на несколько недель по причине болезни. Николай Чоглоков также убрался на месяц в одну из своих деревень, чтобы отсидеться. Пока его не было, его жена в попытке выполнить волю императрицы серьезно приступила к работе с помощью одного из камердинеров великого князя. Они выбрали хорошенькую молоденькую вдовушку немецкого художника Георга Кристофа Грота, который был придворным живописцем Елизаветы и куратором ее коллекции картин, чтобы гарантированно обеспечить запоздалое сексуальное обучение великого князя. По словам Екатерины, «потребовалось несколько дней, чтобы уговорить ее, пообещав, что я не узнаю об этом, а затем объяснить ей, что от нее ожидается и что она должна согласиться сделать»{138}. Мадам Грот должным образом ввела Петра в курс того, что ожидается от мужа. Тут можно представить следующий пассаж из мемуаров Екатерины, предположившей, что дело было наконец-то доведено до логического конца:
«Наконец после долгих усилий мадам Чоглокова получила то, чего хотела, и, убедившись в этом, сообщила императрице, что все идет согласно ее пожеланиям. Чоглокова надеялась на крупную награду за свои труды, но ошиблась: она не получила ничего, хотя постоянно твердила, что империя перед ней в долгу»{139}.
Таким образом, в сексуальную жизнь Екатерину посвятили два человека: муж и любовник. Возможностей для физической близости с Сергеем Салтыковым на этой стадии было немного. А после его возвращения ко двору осенью он лишь усилил направленное на него желание Екатерины, сделав вид, что потерял к ней интерес. Зимой двор снова вернулся в Москву. Екатерина находилась на ранней стадии беременности, и на последней почтовой станции перед Москвой она выкинула «с диким кровотечением»{140}. Покои, предназначенные для великих князя и княгини в Москве, были далеки от совершенства.
«Мы жили в деревянном крыле, только что построенном этой осенью. По панельной обшивке текла вода, и комнаты были необыкновенно сырыми. Это крыло имело два ряда помещений из пяти-шести комнат по каждой стороне; те, что выходили на улицу, предназначались мне, а выходившие на другую сторону — великому князю. В моей гардеробной поместили всех моих служанок и фрейлин с их слугами, так что семнадцать женщин оказались в одной комнате, которая, несмотря на наличие трех очень больших окон, не имела другого выхода — только лишь через мою спальню. Через нее им и пришлось ходить при любой надобности, что было неудобно и для них, и для меня»{141}.
Екатерина, которая еще плохо себя чувствовала, попыталась улучшить положение, соорудив в своей спальне перегородки при помощи больших ширм. Сергей Салтыков прибыл в Москву через несколько недель и исхитрялся большую часть времени отсутствовать при дворе. Екатерина выходила из себя, но Сергей, явно опытный волокита, объяснял ей, что для его поведения есть уважительные причины. Примерно в это время (частично в надежде, что если Сергей будет считаться другом великих князя и княгини, это облегчит его положение при дворе) Екатерина предприняла некоторые шаги, чтобы уменьшить вражду между молодым двором и канцлером Бестужевым. Последний чувствовал угрозу от растущего влияния братьев Шуваловых (двадцатидвухлетний Иван Шувалов недавно сменил Алексея Разумовского на посту официального фаворита) и их друга Михаила Воронцова, вице-канцлера. В этой атмосфере переменчивого счастья канцлер решил положительно отозваться на попытку примирения со стороны Екатерины, и они начали строить осторожные дружеские отношения. Кроме того, что он являлся политиком и государственным деятелем, Бестужев в молодости занимался химией; он изобрел и запатентовал успокоительное средство, известное как «капли Бестужева». Капли изготовлялись из раствора хлористого железа, эфира и спирта и были настолько популярны, что упоминались еще век спустя в «Отверженных» Виктора Гюго[22]{142}. Будучи в возрасте, Екатерина рекомендовала их как средство от «спазмов». Мадам Чоглоковой было ясно, что, несмотря на все ее усилия, Екатерина с Петром не были близки достаточно часто для гарантированно успешной беременности, и что разумно было бы предпринять дальнейшие шаги, дабы наверняка обеспечить появление наследника. Окольным образом она изложила свой план Екатерине.
«Она начала в своей обычной манере с длинного описания своей любви к мужу, потом заговорила о проявлениях мудрости, о том, что следует и чего не следует делать, чтобы сохранить любовь и возможность супружеских отношений — а затем вдруг объявила, что существуют определенные обстоятельства необычайной важности, которые оправдывают исключения из правил»{143}.
Ее идея была такова, что Екатерина должна забеременеть или от Сергея Салтыкова, или от Льва Нарышкина — от того, кого она предпочитает. Невозможно теперь узнать, действовала ли Чоглокова по собственной инициативе или по указке императрицы. Очевидно лишь, что нетерпение императрицы могло провоцировать Чоглокову на отчаянные поиски решения, так как она боялась за собственное положение. Возможно также, что Салтыков мог выдвинуть эту идею сам в пору долгих разговоров с Екатериной — с целью поглубже проникнуть ей в душу. Его доступ к великой княгине был облегчен, как только Чоглокова решила, что в ее интересах стимулировать их отношения. Однако похоже, что его стремление к Екатерине значительно ослабело с тех пор, как он пытался обольстить ее, и безусловный факт, что теперешнее активное подталкивание в ее постель гасило его пыл еще больше. В мае 1753 года Екатерина снова была беременна. Они с великим князем провели несколько недель в шести-семи милях от Москвы, в загородном поместье, которое императрица подарила Петру. Дома, в которых они должны были жить, еще строились, и великокняжеская чета обитала в палатках. Они вернулись в Москву к концу июня. Екатерина большую часть времени чувствовала себя очень уставшей и сонной. 29 июня, в праздник Петра и Павла, она выполнила все обычные обязательства, посетив послеобеденную литургию, бал и ужин. На следующий день у нее была жестокая головная боль, и ночью она снова выкинула. На этот раз мадам Чоглокова поняла, что происходит, и привела на помощь акушерку. Беременность была сроком в два-три месяца, а поправлялась Екатерина шесть недель, во время которых ужасно скучала и чувствовала себя несчастной, так как в середине жаркого московского лета ее держали в городской комнате, и едва ли у нее была компания. Тем временем великий князь, по словам жены, проводил время в своей комнате в пьянках со слугами, которые оказывали ему мало уважения, ^потому что в состоянии полнейшего опьянения они не понимали, что делают, забывали, что находятся со своим хозяином и что их хозяин — великий князь»{144}. Екатерина также рассказывает, что однажды Петр решил в назидание наказать крысу, которая съела двух игрушечных часовых, стоявших на страже в картонной крепости. Крысу повесили и «на три дня выставили на публику»{145}. Когда Екатерина обидно рассмеялась, Петр вышел из себя, и ей пришлось извиняться за «женское игнорирование военных законов»{146}. Вдобавок к эксцентричности великого князя, при дворе этим летом оказалось несколько случаев настоящих психических заболеваний, включая монаха, бритвой отсекшего себе интимную часть тела, и майора Семеновского полка, который объявил, что верит, будто Надир, шах Персии, является Богом. Елизавета поселила всех умалишенных возле апартаментов доктора Борхава — с тем, «чтобы постепенно собрать при дворе небольшую психиатрическую лечебницу»{147}. В полдень первого ноября 1753 года деревянный дворец, в котором располагался двор, сгорел дотла. Екатерина дает живое описание пожара.
«Я направлялась в свою комнату и, пересекая вестибюль, увидела, что балюстрада в углу большого холла в огне. Балюстрада находилась в двадцати футах от нашего крыла. Я вошла в свои комнаты и обнаружила, что они уже полны солдат и слуг, пытающихся вынести как можно больше мебели. Мадам Чоглокова шла следом, буквально наступая мне на пятки, и так как мы ничем не могли помочь в здании, нам оставалось лишь ждать, когда пламя охватит его целиком. Мы с мадам Чоглоковой вышли и обнаружили у двери экипаж, принадлежащий хормейстеру Арайе, который прибыл на концерт у великого князя (его я лично предупредила, что здание горит). Мы сели в этот экипаж (улицы утопали в грязи из-за проливных дождей, которые лили несколько дней) и из кареты наблюдали за пожаром и за тем, как из всех концов здания вытаскивают мебель. Затем я заметила странную вещь — поразительное количество мышей и крыс, идущих вниз по лестнице единым потоком, даже и не думая поторопиться»{148}.
Екатерина и мадам Чоглокова покинули здание в три часа; к шести от него не осталось и следа. Жар от огня стал невыносимым, и наблюдателям пришлось отъехать на сотню метров в поле. Большинство платьев Екатерины и другие ее вещи, включая книги (она в это время читала «Dictionnaire Historique et Critique»[23] Пьера Бэля со скоростью один том за шесть месяцев — всего было пять томов) были спасены от огня. Императрица, однако, потеряла 4000 платьев, привезенных в Москву. (Среди платьев, спасенных для Екатерины, оказалось несколько принадлежащих графине Шуваловой, нижние юбки которых были оторочены сзади кожей, так как после рождения первого ребенка графиня страдала недержанием). Императрица отбыла в свое имение Покровское, а великие князь и княгиня временно поселились в доме, принадлежавшем Чоглоковой. Они нашли этот дом ужасным — гниющим, насквозь продуваемым и «полным паразитов»{149}. В феврале 1754 года Екатерина поняла, что снова беременна. Во время этой третьей беременности за ней очень внимательно наблюдали, и ее физическую активность сократили до минимума. Например, она оставалась дома во время пасхальной недели, когда группа гофмейстеров, включая Сергея Салтыкова, отправилась на верховую прогулку с великим князем. Двадцать первого апреля, в двадцать пятый день рождения Екатерины, Николай Чоглоков, который некоторое время болел, был объявлен безнадежным. Екатерина расстроилась, так как уже научилась ладить с ним, а также преуспела в обращении его жены в лояльного друга. Главной заботой Елизаветы было, чтобы его забрали умирать дома, подальше от двора, «так как она боялась мертвых»{150}. Как только он умер, императрица назначила страшного графа Александра Шувалова, кузена Ивана и главу Секретной Канцелярии, выполнять в доме великих князей функции Чоглокова. Шувалов, как оказалось, страдал лицевыми подергиваниями, «чем-то вроде конвульсий, которые искажали всю правую сторону его лица от глаза до подбородка при любых эмоциях — радости, гневе, страхе или тревоге». В мае двор вернулся в Санкт-Петербург. Екатерина испытала огромное облегчение, обнаружив, что Сергей Салтыков и Лев Нарышкин едут в той же группе, что и они с Петром. Но она ни разу даже не увидела Салтыкова во время всего долгого и утомительного путешествия (его намеренно сделали очень медленным из-за беременности Екатерины), потому что находилась в экипаже с Александром Шуваловым и его женой, мадам Владиславовой и акушеркой, которую приставили для постоянного наблюдения. После почти месяца пути супруги вернулись в Летний дворец, где великий князь возобновил организацию концертов. Наблюдавший за его образованием Якоб Штеллин (член петербургской Академии наук, бывший также императорским пиротехником) записал, что Петр — достаточно хороший скрипач, поскольку его учили различные итальянские музыканты, он присоединялся к исполнению симфоний и ритурнелей в итальянских ариях. Штеллин также уточнил, что Петру сложно было оценить собственные способности, ибо даже когда он брал неверную ноту или неправильно выполнял пассаж, его учителя восклицали: «Браво, Ваше высочество!»{151} Неоспоримым фактом является то, что Петр искренне любил музыку. Он также собрал ценную коллекцию скрипок, изготовленных Амати, Якобом Штейнером и другими мастерами. Екатерина страдала от меланхолии. По всем признакам, Салтыков отдалялся от нее, и она боялась, что его вообще могут отослать прочь. Она не стала чувствовать себя лучше, когда двор переехал в Петергоф, где она ходила на длинные прогулки: «Но все мои проблемы неумолимо следовали за мной»{152}. По возвращении в Летний дворец Екатерина была шокирована, обнаружив, что подготовленные для нее апартаменты соседствуют с покоями императрицы. «Они были мрачными, как все комнаты в Летнем дворце. Они имели только один вход, были плохо обтянуты красной камкой, в них было недостаточно мебели и никакого комфорта»{153}. И она обнаружила, что очень трудно принимать тут своих посетителей. Двадцатого сентября 1754 года Екатерина родила сына. Как только предыдущей ночью начались роды, разбудили обоих — и великого князя, и Александра Шувалова, — и около двух часов утра прибыла сама императрица. Екатерина пережила то, что описала как «очень трудные часы»{154} на родильной кушетке, и ребенок появился в полдень. Матери не дали времени ощутить материнское удовлетворение и подержать сына на руках. «Как только его запеленали, императрица вызвала своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего приказала акушерке взять ребенка и следовать за ней»{155}. О рождении объявили двести одним залпом пушек с крепости, и знать начала прибывать во дворец, чтобы поздравить императрицу. Являлся ли Павел Петрович действительно сыном великого князя Петра или Сергея Салтыкова — это вопрос, на который мы не получим удовлетворительного ответа, пока не будут проведены тесты на ДНК останков Петра III и Павла I. По крайней мере, в одной версии своих мемуаров Екатерина, похоже, хотела, чтобы читатель считал, будто отцом ребенка являлся Салтыков. Конечно, вполне возможно, что Екатерина и сама не была уверена в отцовстве. Но сильными доказательствами в поддержку того, что Павел был на деле сыном Петра, является и внешность взрослого Павла (Сергей Салтыков считался необыкновенно красивым), и его характер, который сильно напоминал характер Петра. Подобные же черты характера проявились во втором сыне Павла — Константине. Какова бы ни была правда, мальчик был принят императрицей Елизаветой как законный, и с ним обращались с самого момента его рождения как с будущим царем. После того как Павла забрали в покои императрицы, Екатерину оставили в одиночестве. Никто и не подумал навестить молодую мать. Ее бросили лежать на кушетке, на которой она родила. Она попросила мадам Владиславову сменить грязные простыни и помочь ей перебраться на свою кровать, но Владиславова ответила, что не может этого сделать без специальных инструкций. Она не подала Екатерине даже стакана воды. Через три часа появилась графиня Шувалова и ужаснулась тому, в каком состоянии находится великая княгиня.
«Этого хватило бы, чтобы убить меня, сказала она, что для меня было весьма утешительно. Я пребывала в слезах с самого момента рождения ребенка, особенно из-за того, что меня так жестоко бросили, из-за того, что я лежала в дискомфорте после долгой и болезненной работы — между дверями и окнами, которые были плохо закрыты; из-за того, что никто не отнес меня в мою постель, хотя она была рядом, а я сама была слишком слаба, чтобы дотащиться туда»{156}.
Графиня Шувалова отправилась за акушеркой, которая пришла лишь через полчаса. До этого Елизавета требовала уделять все внимание ребенку. Наконец Екатерину отнесли в кровать и опять оставили в одиночестве до конца дня. Ни великий князь, ни императрица не побеспокоились прийти и проверить, как она себя чувствует. Невозможно было яснее продемонстрировать, что выполнив свою задачу и произведя ребенка, она больше ничего не значит. Тем временем по случаю рождения шли бесконечные празднования. На следующий день у Екатерины начались сильные боли слева, она даже не могла спать. И снова о ней никто не побеспокоился, хотя великий князь заглянул на минуточку — лишь только чтобы сказать, что у него нет времени побыть с ней. Мадам Владиславова немножко посидела с ней, но ничего не сделала, чтобы помочь, и Екатерина, хоть не могла сдержать слезы и стоны, испытывала ненависть к предательству ее страданий. Через шесть дней после рождения Павла крестили. Екатерина считала, что при этом он чуть не умер от язв во рту. Но те новости, которые доходили до нее, она получала тайком, ибо слишком настойчивые расспросы могли быть истолкованы как знак недоверия к уходу императрицы за ее сыном. Екатерина и в самом деле не доверяла методам воспитания Елизаветы. В своих мемуарах она описывает множество болезней Павла, которыми он страдал с детства.
«Его держали в чрезвычайно жарко натопленной комнате, пеленали во фланель, укладывали в детскую кроватку, выстланную мехом серебристой лисы, укрывали атласным стеганым ватным одеялом, поверх которого стелили второе стеганое покрывало из розового бархата, отороченного серебристой лисой. Позднее я часто видела его лежащим в такой упаковке, обливающегося потом с головы до ног, так что когда он вырос, легчайшее дуновение вызывало у него простуду. Кроме того, он был окружен огромным количеством старух, которые своими первобытными средствами — результатом их невежества — принесли ему гораздо больше физического и морального вреда, чем пользы»{157}.
В день крещения, которое Екатерина не посетила бы, даже если б чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы это сделать (религиозные обычаи диктовали, чтобы она оставалась в отдалении в течение сорока дней после родов), императрица пришла навестить ее и принесла несколько ювелирных изделий (описанных Екатериной как «жуткое маленькое ожерелье с сережками и два плохоньких кольца, которые я постеснялась бы подарить своим горничным»{158}) и известие о том, что ей выделен подарок в сто тысяч рублей. К сожалению, ей вскоре пришлось одолжить эти деньги императрице; она не получила их обратно до января. Причина заключалась в том, что великий князь Петр повел себя самым возмутительным образом. Узнав, что Екатерине был выделен подарок, он потребовал такую же сумму себе. Из-за трудностей с денежной наличностью секретарю кабинета императрицы барону Черкасову пришлось одолжить эти деньги у великой княгини, чтобы императрица могла передать их великому князю. Были организованы балы, иллюминация и салюты, чтобы отпраздновать крещение Павла Петровича, а его мать чахла в постели, больная и несчастная. Великий князь начал посещать ее по вечерам — но, по сути, лишь для того, чтобы видеть ее фрейлин, в особенности Елизавету Воронцову, племянницу вице-канцлера, которая стала центром внимания Петра. Придворные обычно называли ее «das Frälein» или просто по отчеству — Романовна. Все женщины, в которых влюблялся Петр, были значительно ниже него по социальному положению и уровню образования, и das Fräulein не была исключением. Она считалась также очень грубой. Но она любила Петра, а он любил ее. Казалось, с Елизаветой Воронцовой он расслаблялся и становился самим собой, не боясь осуждения, в то время как с женой постоянно ощущал, что его судят и оценивают. Хотя Екатерина давно уже считала свой брак неудачным и сама была неверной, она страдала, видя мужа (которого прежде считала бессильным построить жизнеспособные отношения) привязанным к кому-то другому — в особенности когда видела, что этот кто-то еще и стоит ниже нее. То был удар по ее гордости. Вдобавок к ее страданиям, через две с половиной недели после рождения Павла Екатерине сообщили, что Сергея Салтыкова отсылают прочь. Предлогом для отправки из Петербурга было его назначение официальным посланником ко двору Швеции с новостью о рождении наследника. «Я еще глубже закопалась в постель, где могла мирно предаваться своему горю. Чтобы оставаться там, я сделала вид, что в ноге усилились боли, не дающие мне встать, но действительной причиной было то, что я не могла и не хотела никого видеть»{159}. 30 октября стало концом сорокадневного заключения, и в комнатах Екатерины провели «церковную церемонию», на которой присутствовала императрица. Впервые после родов Екатерине позволили увидеть сына. «Я нашла, что он прекрасен, и его вид заставил мое сердце возрадоваться. Но как только молитвы окончились, императрица унесла его»{160}. Через два дня Екатерина принимала официальные поздравления. Комната рядом с ее спальней была по этому случаю богато обставлена; она сидела на кровати, покрытой розовым бархатом, вышитым серебром, и посетители выстраивались в очередь, чтобы поцеловать ей руку. Затем двор вернулся в Зимний дворец, где Екатерина решила не покидать свою комнату, пока не сумеет преодолеть депрессию. Она посвятила остаток 1754 года чтению и размышлениям. Ее чтение включало работы Вольтера, «Дух законов» Монтескье (книга эта оказала огромное влияние на ее законодательную деятельность в качестве императрицы) и «Анналы» римского историка Тацита, атакже все русские книги, какие попадались ей под руку, в том числе «два огромных тома Барониуса, переведенные на русский язык»{161}. (Цезарь Барониус был итальянским прелатом и церковным историком; скончался в 1607 году.) Екатерина смогла собрать достаточно энергии, чтобы посетить литургию в Рождество, но та отобрала у нее все силы. «В церкви лихорадка и боль охватили все тело, так что вернувшись в свою комнату, я разделась и легла в постель, которая на деле была не более чем кушетка. Я поставила ее у закрытой двери, так как мне казалось, что из нее не дуют сквозняки»{162}. Она поставила свою кровать в маленькой комнате, потому что ее обычная спальня с окнами на восток и на север была слишком холодной. Но кроме того, она хотела, как все страдающие депрессией, запереться в пространстве как можно меньшем, и провела всю зиму, уединившись в этой узкой маленькой комнатке, прячась самым тщательным образом от сквозняков. Между Рождеством и Великим постом при дворе и в городе устраивалось множество балов, чтобы отпраздновать недавнее появление наследника. «Люди старались перещеголять друг друга в стремлении устраивать обеды, ужины, балы, маскарады, фейерверки и иллюминации раз отрази все великолепнее»{163}. Екатерина не посетила ни одно из мероприятий, в качестве оправдания ссылаясь на болезнь. К концу этого периода праздников из Швеции наконец вернулся Сергей Салтыков. Во время его отсутствия Екатерина получала известия о нем и обменивалась с ним посланиями через канцлера Бестужева и мадам Владиславову (чей зять был первым секретарем канцлера). Через те же каналы она узнала, что на ближайшее будущее есть намерение назначить Салтыкова русским посланником в Гамбург. Эти сведения не улучшили ее настроения, но еще хуже было отсутствие у Салтыкова желания торопиться с возвращением, чтобы явиться на свидание к своей прежней возлюбленной. Мадам Владиславова организовала им первую встречу, но Сергей не пришел. «Я прождала его до трех часов утра, но он не появился; я мучилась в агонии, думая, что могло задержать его»{164}. На следующий день Салтыков заявил, что его перехватил Роман Воронцов (сенатор и отец Елизаветы Воронцовой) и увел на встречу масонов. Но Екатерина, расспросив Льва Нарышкина, вскоре поняла, что он мог прийти на назначенную встречу, если бы хотел. Она была глубоко оскорблена, но когда он наконец пришел повидаться с ней, с готовностью простила его. И именно Сергей смог уговорить ее начать снова появляться на публике, что она и сделала десятого февраля 1755 года, на двадцатисемилетии великого князя Петра. Она пришла туда совсем другим человеком. В течение долгих недель и месяцев после рождения младенца Павла она поняла, что никто не будет бороться за нее, если она не будет бороться за себя сама. Ей необходимо самой лепить свою судьбу в России.
5. Сэр Чарльз Хэнбери-Уильямс и Станислав Понятовский (1755–1758)
Я не знаю, что говорю и что делаю. Могу лишь искренне сказать: такое я испытываю впервые в жизни.После Пасхи 1755 года великие князь и княгиня уехали в Ораниенбаум. Перед отъездом императрица позволила Екатерине взглянуть на ребенка еще раз. «Мне пришлось пройти через все покои Ее величества, прежде чем я попала в его комнату, где стояла удушающая жара»{165}. Великий князь демонстрировал вопиющее отсутствие политического самосознания, фактически превратив Ораниенбаум в анклав Голштинии и устроив там резиденцию полка голштинских войск. Усугубляя оскорбительность своего поведения, он стал каждый день, кроме официальных придворных дней, носить униформу собственного Голштинского полка, несмотря на то, что являлся подполковником Преображенской гвардии, и проводить все время, тренируя голштинские войска в устроенном для них лагере. Хоть Екатерина и порицала его действия, она ничего не говорила ему и проводила время в долгих прогулках с женатыми гофмейстерами и их женами, заботясь только о том, чтобы уйти в противоположном направлении от армейского лагеря. Петр, писала Екатерина, начал постоянно распространять вокруг себя запах алкоголя и табака. Она, с другой стороны, приобретала репутацию умного, умеющего слушать и думать собеседника. Даже Петр называл ее «мадам Находчивость» и приходил к ней за советом, хотя «получив его, убегал так же быстро, как и появлялся»{166}. 29 июня в Ораниенбауме в честь именин великого князя состоялся ужин, на который были приглашены все послы и иностранные посланники. Екатерина сидела рядом с британским послом сэром Чарльзом Хэнбери-Уильямсом, с которым впервые познакомилась несколько месяцев назад. Она с нежностью вспоминает тот ужин в Ораниенбауме:Великая княгиня Екатерина —сэру Чарльзу Хэнбери-Уильямсу
«Я помню, что сэр Хэнбери-Уильямс, британский посол, был моим соседом по столу. У нас состоялся приятный веселый разговор. Он был остроумен, хорошо информирован и знал всю Европу, так что беседовать с ним было нетрудно. Позднее я узнала, что он уехал с этого ужина с таким же удовлетворением, какое испытывала и я, и что он говорил обо мне с восхищением»{167}.
На этом вечере сэра Чарльза впервые сопровождал его молодой секретарь, поляк Станислав Понятовский, который немедленно привлек внимание Екатерины, когда они с сэром Чарльзом наблюдали за танцующими. Сам сэр Чарльз был богатым джентльменом родом из Монмутшира. Родившийся в 1708 году, он удачно женился (на леди Френсис Конингсби, от которой имел двух дочерей, но с которой через десять лет полюбовно разошелся), состоял членом палаты лордов в Парламенте и в 1744 году стал рыцарем. Друг Горацио Уолпола, он также был хорошо известен в Англии как остроумный человек и автор сатирических, а порой и довольно непристойных стихов[24]. Он был членом клуба Адского пламени — аристократического круга и джентльменского заведения, имевшего репутацию притона для оргий; в действительности там делали то, что люди подобного круга делали всегда: пили, посещали проституток и актрис и вышучивали друг друга. Сэр Чарльз, чья основная задача как посла сводилась к заключению англо-русского договора (что он успешно и осуществил с помощью канцлера Бестужева в сентябре 1755 года), привез с собой в Санкт-Петербург золотых рыбок — подарок лорда Честерфилда. Несмотря на некоторую эксцентричность, он был образованным человеком с особой склонностью к открытию талантливых молодых людей. Они с великой княгиней обнаружили много общих интересов. Станислав, компаньон сэра Чарльза на ужине в Ораниенбауме, был сыном графа Понятовского, который сражался на стороне шведского короля Карла XII в войне с Петром Великим (Великая Северная война, которая закончилась в 1721 году). Позже он стал одним из преданных сторонников польского короля Станислава Лещинского. Матерью Станислава была княгиня Констанция Чарторыйская, принадлежавшая к одной из самых могущественных и знатных семей Польши. Сам Станислав много ездил по Европе и впервые встретился с Хэнбери-Уильямсом в Берлине в июле 1750 года, когда последний был там британским посланником. Молодой Понятовский также обратил на себя внимание в Париже. Там Станислав свел особенно тесную дружбу с мадам Жоффрен, хозяйкой еженедельного литературного и артистического салона, куда он зачастил. «Вдохновительница муз» предпочитала, чтобы он называл ее «мама». Похоже, молодой человек обладал талантом находить суррогатных родителей. Вскоре после прибытия в Санкт-Петербург сэр Чарльз написал Станиславу, приглашая последнего присоединиться к нему в качестве секретаря в посольском здании возле Зимнего дворца. Станислав, не теряя времени, в июне прибыл в Петербург. Появление Понятовского в орбите Екатерины совпало с получением неприятных отчетов о Сергее Салтыкове. Она узнала, что при шведском дворе и в Дрездене тот не скрывал сути их взаимоотношений и к тому же во время путешествия флиртовал с другими дамами. Какое-то время она не до конца верила в непостоянство Салтыкова, и присутствие привлекательного молодого поляка с его аурой европейской утонченности помогло ей признать наконец, что отношения с Сергеем не стоят продолжения. Но поляк был отослан в Гамбург. Камер-юнкер Лев Нарышкин, которому, похоже, нравилась роль устроителя амуров при молодом дворе, вскоре заметил интерес Екатерины к Станиславу и взялся содействовать. Он подружился с Понятовским и пытался уговорить нового приятеля воспользоваться интересом великой княгини. Некоторое время Понятовский отказывался даже слушать подобные речи, подозрительно относясь к придворным интригам и зная о потенциальной опасности такого флирта. Он знал, что у Екатерины уже есть любовник, и считал, что у него не может быть с ней ничего общего. В результате потребовалось три месяца, чтобы убедить его ответить на намеки Нарышкина. Екатерина также говорила, что существовали и другие люди, которые вознамерились их свести. В 1771 году она писала: «Я сначала не заметила его, но добрые люди с их пустыми подозрениями заставили меня обратить внимание, что он существует, что его глаза бесподобно красивы и что он обращает их (хотя был так близорук, что не видел дальше собственного носа) чаще в одном направлении, чем в другом»{168}. В конце концов Нарышкин уговорил Понятовского — после того, как они с Екатериной обменялась при дворе несколькими словами. Вскоре после этого он послал ей записку, ответ на которую Нарышкин принес ему на следующий день. Затем, как Станислав позже записал в своих воспоминаниях (потому что тоже любил «шкрябать»), он «забыл, что существует Сибирь»{169}. Через несколько дней вечером Нарышкин привел Станислава в покои Екатерины, даже не предупредив ее. Так как через четверть часа она ожидала прихода Петра, у нее не оставалось выбора — только увести Станислава в свои личные покои. Он записал, как Екатерина при этом выглядела.
«Ей было двадцать пять лет [на самом деле двадцать шесть]. Она только что оправилась после рождения первого ребенка. Она находилась на пике красоты, которой обладает большинство прекрасных женщин. Ей были присущи яркие краски: темные волосы и ослепительно белая кожа, большие, слегка выпуклые и очень выразительные голубые глаза, очень длинные темные ресницы, греческий нос, рот, который, казалось, приглашает к поцелуям, прекрасные кисти и руки и тонкая талия. Кроме того, она двигалась с необыкновенной живостью и в то же время с благородством. У нее был приятный голос и веселый, как и ее нрав, смех»{170}.
Понятовский также указывает на ее способность между делом по-детски быстро и легко отдаваться игре, а в следующее мгновение сосредоточиваться на математической проблеме. Она была бесстрашной, нежной и обладала талантом видеть слабые стороны людей. На этом первом свидании на ней было белое атласное платье, отделанное у шеи розовой лентой, и прекрасные кружева. По просьбе Екатерины Станислав описал также и себя. Он упомянул, что хотел бы быть немного выше, иметь более красивые ноги, менее горбатый нос, меньший рот, лучшее зрение и зубы. Тем не менее он считал, что у него благородное и выразительное лицо и что он держится с достоинством. Он понимал, что имеет преимущество благодаря прекрасному образованию, умению вести себя в разговоре, увлечению искусством и любви к чтению. Он был восприимчив, быстро распознавал лицемерие, но иногда слишком торопился указывать другим на их недостатки. Он считал себя чувствительным, склонным к меланхолии, а также обладающим амбициозным желанием служить своей стране. Двадцати двух лет от роду и все еще девственник, он был готов со страстью броситься в любовное приключение — так же как и Екатерина. Осенью великие князь и княгиня вернулись в Летний дворец, и голштинские войска были отосланы домой. С наступлением зимы весь двор переехал во временный Зимний дворец, построенный Растрелли из бревен за несколько месяцев — в это же время он начал строительство нового, постоянного Зимнего дворца на месте старого. Елизавета решила, что не может больше терпеть неудобства продуваемого старого здания. Представленные Растрелли планы нового дворца были одобрены, и в 1754 году заложили каменный фундамент. Растрелли пришлось начинать все заново, строя почти целиком новый и гораздо более величественный дворец. Хотя он был перестроен после страшного пожара 1837 года, по внешнему виду это был тот Зимний дворец, который мы видим сегодня. Потребовался год, чтобы расчистить площадку под строительство. Временный деревянный дворец, в который въехал двор и где ему пришлось обитать следующие шесть лет, был расположен на пустом ранее месте, что тянулось от Малой Морской до Большой Морской улицы и примыкало к Большой Перспективе. На части этой территории Елизавета устроила театр, первым начавший ставить русские комедии и трагедии. Апартаменты Екатерины во временном дворце великолепно подходили для тайных предприятий. У нее было много места и не приходилось страдать от близости великого князя. Каждому выделили четыре большие передние и две внутренние комнаты с альковом — теперь, когда появился ребенок, они не были больше обязаны спать вместе каждую ночь. Петр использовал большую степень свободы, позволив себе приятное времяпровождение, соединившее в себе его любовь к военному делу с более ранним интересом к кукольному театру.
«В те дни, и долго еще потом, основным увлечением великого князя в городе оставалось огромное количество солдатиков, изготовленных из дерева, свинца, крахмала и парафина, которых он выстраивал на узких столах, занимавших всю комнату — человек едва мог протиснуться между ними. Он прибивал кусочки раскатанной в узкие полоски проволоки поперек столов и натягивал между ними струны. Когда за струны дергали, все сооружение производило звук, который, по его мнению, в точности напоминал раскат пушечного выстрела. Он с великой регулярностью праздновал все придворные праздники, заставляя свои войска производить залпы; кроме того, каждый день производилась смена караула — то есть куклы, предположительно стоявшие на часах, заменялись другими и убирались со столов. Он сам посещал эту церемонию в униформе — высокие сапоги со шпорами и орденская лента, — и те из его слуг, кого допускали на эти удивительные маневры, были обязаны одеваться таким же образом»{171}.
Примерно в это время Екатерина заподозрила, что снова беременна, и сделала себе кровопускание. Однако произвела на свет всего четыре зуба мудрости. Этой зимой великий князь каждую неделю организовывал по четвергам концерты, а по пятницам балы, посещавшиеся всеми гофмейстеринами и гофмейстерами молодого двора с их уважаемыми супругами. Концерты начинались в четыре часа пополудни и продолжались до девяти. К представлениям привлекались итальянские, русские и немецкие музыканты и певцы, которые находились в персональном услужении и на личной оплате у великого князя — как, например, две немки-сопрано, одна из которых, Элеонора, была любимицей Петра и регулярно ужинала с ним в его апартаментах, — а также члены хора императорского двора. Во время этих представлений великий князь всегда сам исполнял первую скрипку. Он также уговорил играть на различных инструментах нескольких придворных и гвардейских офицеров. Общее число участников такого концерта составляло от сорока до пятидесяти человек. Лев Нарышкин, который хорошо ладил с обоими — и великим князем, и великой княгиней, — регулярно посещал представления молодого двора, а кроме того, часто наносил и личные визиты. Приходя в комнаты Екатерины, он нередко вставал за дверью и мяукал, пока она не отвечала таким же образом, и только тогда входил. Он продолжал способствовать неожиданным встречам Екатерины и Станислава Понятовского. Самые приятные из них происходили во время ночных прогулок, когда Екатерина одевалась в мужское платье и по оговоренному сигналу покидала дворец с Нарышкиным, чтобы провести несколько часов в маленьком кругу друзей, включающем Понятовского, в доме, где Лев жил со своим братом и снохой. Учитывая, что Екатерина вообще не имела права покидать дворец без разрешения императрицы, участие в таких приключениях было сопряжено со значительным риском. Первый выход имел место 17 декабря 1755 года, а за ним через несколько дней последовал ответный визит. Ночные гости тайно прошли во дворец, а затем в апартаменты Екатерины. Тайные встречи группы друзей стали частыми. «Заговорщики» регулярно обменивались сигналами в театре, давая знать друг другу, где состоится сбор следующей ночью. Два раза намеченные встречи не состоялись, и Екатерине приходилось уходить домой, но она как-то исхитрялась избежать разоблачения. В течение этой зимы здоровье императрицы ухудшилось. Сначала считалось, что ее проблемой может быть просто менопауза, но никто не был в этом уверен. Шуваловы начали искать расположения великого князя на случай, если его тетушка близка к смерти. Вот как представила это Екатерина: «Среди придворных поползли шепотки о болезни Ее императорского величества, которая оказалась более серьезной, чем представлялась вначале. Некоторые называли ее истерией, другие говорили об обмороках, конвульсиях и нервном срыве»{172}. Вероятно, это была эпилепсия, которая оставляла Елизавету уставшей и слабой на несколько следующих дней. Во главе клана Шуваловых стоял кузен Ивана Петр Шувалов, который раздавал советы и помощь из своей громадной петербургской резиденции. Он также держал монополию на соль, табак и тунца, а его брат Александр, глава Тайной канцелярии, на шампанское. Братья, которые уже наладили торговые связи с Францией, хотели заключить русско-французское соглашение, чтобы продавать во Франции русский табак. В 1756 году архитектором при дворе великого князя был назначен Антонио Ринальди. Ему поручили строительство в Ораниенбауме. Он создал для Петра что-то вроде миниатюрной крепости с пятью бастионами и двенадцатью пушками на северо-востоке от Большого дворца. Внутри бастиона он построил маленький каменный дворец для одного Петра, который был известен как Петерштадт, и бараки для голштинских войск, которые Петр привел на лето назад. Екатерина снова ездила верхом, каждый день, кроме воскресенья, беря уроки на участке, который она расчистила под манеж в своем личном саду. Петр продолжал устраивать концерты. В 1750 году в большом зале Ораниенбаумского дворца были устроены библиотека, картинная галерея и маленькая сцена. На этой сцене ставили в основном итальянские intermedi (музыкальные дивертисменты, написанные как вставки между актами пьесы). В 1756 году сцену преобразовали в большой оперный театр, построенный Ринальди в позднеитальянском стиле. С тех пор там каждое лето ставилась новая опера, сочиненная maestro di capella великого князя Винченцо Манфреди. К лету 1756 года Екатерина уже глубоко увязла в отношениях со Станиславом Понятовским — и физически, и эмоционально. Это была весьма сентиментальная связь; обоих захватил зов молодости и чувственности. Позднее Екатерина считала сентиментальность Понятовского избыточной, но сейчас она целиком предалась романтичности происходящего. Впервые в жизни она встретила человека, отвечающего ее сексуальным и эмоциональным потребностям, и была готова сильно рисковать, чтобы проводить с ним как можно больше времени. Хотя о деле знал лишь маленький круг друзей, всегда существовала опасность, что связь может стать более широко известной — маленькая собачка, принадлежавшая Екатерине, могла все выдать, например, в экстазе приветствуя Станислава в присутствии третьего лица, — а должность секретаря сэра Чарльза Хэнбери-Уильямса не давала Понятовскому дипломатической защиты. Именно в надежде получить официальное дипломатическое положение, которое обеспечило бы ему такую защиту и гарантию долгого пребывания в России, Станислав и отправился летом в Польшу — и он, и Екатерина, и сэр Чарльз надеялись, что его отсутствие будет недолгим. При отъезде императрица подарила ему коробочку под нюхательный табак стоимостью в четыре тысячи рублей, которую послала за ним с курьером в Ригу. Она также написала Августу III, королю Польши, похвалив поведение Станислава в Санкт-Петербурге. Но несмотря на то, что Елизавета игнорировала его отношения с великой княгиней, Станислав уже стал объектом сплетен при дворе. Ходили истории о том, как он запаниковал, когда его догнал курьер императрицы, вообразив, что его собираются арестовать — то ли за отношения с Екатериной, то ли за вмешательство в иностранные дела в такое напряженное для правителей Европы время. Ибо время, которое позже стало известно как Семилетняя война, уже начиналось. Но Станислав отрицал, что испытал такие страхи. Желанию Понятовского уговорить Августа III назначить его дипломатическим посланником и быстро вернуться в Россию суждено было разбиться о международные события. В августе 1756 года случилось прусское вторжение в Саксонию, и к осени этого года Август III (который являлся также правителем Саксонии) был отрезан от Польши, так что сейм (польский парламент) не мог заседать. Станислав застрял в Варшаве. Австрия, а за ней и Франция, пришли на помощь Саксонии. Россия, которая имела с Австрией десятилетний оборонительный договор, но по нему не обязана была присоединяться, первоначально никаких действий не предпринимала. Чтобы утешиться на время отсутствия Понятовского и сделать хоть что-то для его возвращения, Екатерина стала почти ежедневно писать (по-французски) сэру Чарльзу Хэнбери-Уильямсу. Последний с самого начала знал об отношениях между Екатериной и Станиславом и вполне их одобрял (полагая, вероятно, одним из способов наладить добрые отношения между Англией и молодым двором). Екатерина хотела облегчить душу и открыть сердце перед кем-нибудь, кто симпатизировал этим отношениям и ценил Станислава так же высоко, как и она сама. Она также ощущала потребность в совете более зрелого и мудрого человека, особенно когда начала всерьез оценивать свою будущую роль в управлении Россией. Через эту переписку сэр Чарльз сыграл важную роль в политическом образовании Екатерины. Он был также адресатом ее первых попыток создать свою биографию, так как она послала ему свои мемуары на сорока страницах, описав трудности первых лет жизни в России и своего несчастливого замужества. Всегда помня о вероятности вскрытия, даже если письма доверены посредникам для передачи их в обе стороны, Екатерина и сэр Чарльз пользовались несложным шифром: в письмах они изменяли имена всех упоминаемых персонажей, включая свои собственные. Обращением сэра Чарльза к Екатерине было «Месье»; Понятовского они называли «нашим отсутствующим другом», а императрицу — «определенной персоной». Таким же образом в письмах, курсировавших между сэром Чарльзом и Понятовским, Екатерину называли «графиней Эссекс» (на деле это был титул одной из дочерей сэра Чарльза) или «Колетта». Сам Понятовский определялся по названию карточной игры «L’Ombre» или «Le Cordon Bleu»[25]. Иван Шувалов был известен как «Accajou» («Красное дерево»), императрица была «La Prudence» («Осторожность»), канцлер Бестужев — «Le Patron» («Покровитель»), а сэр Чарльз — «La Sagesse» («Мудрость»). Похоже, Понятовскому доставляло огромное удовольствие использование такого кода. Он предложил также переименовать Петербург в Париж, Петергоф в Версаль и Ораниенбаум в Суси, а деньги он называл «чай». Здоровье «определенной персоны» было постоянно обсуждаемой темой в переписке между сэром Чарльзом и Екатериной. Последняя описывала проблему Елизаветы как «воду в нижней части живота»{173}, утверждая, что она даже пыталась лечить болезнь заговором. Екатерину это не удивило, но сэра Чарльза необычайно поразило то, что императрица могла одновременно оставаться в православии и верить в колдовство. После двенадцати лет при российском дворе Екатерина привыкла к таким явным противоречиям, заметив, что «для расстроенных умов одна и та же вещь может выглядеть и черной и белой в одно и то же время»{174}. Столь уничижительных замечаний об императрице в письме к британскому дипломату было бы достаточно, чтобы великая княгиня попала в серьезную беду, буде это раскроется, не говоря уже об обсуждении между ними темы смерти императрицы и того, сможет ли однажды Екатерина «надеть корону»{175}. (Несколько преждевременная, если не вовсе бессмысленная тема способа распределения власти между Екатериной и Петром подстрочным допущением проходит через всю переписку.) Кажется, сэр Чарльз рассматривает болезнь императрицы почти с удовольствием. Он пишет в ответ: «Недолгий срок жизни остается тем, кто имеет воду в животе; я знаю из первых рук, что возвращаются кашель и очень короткое дыхание»{176}. А затем продолжает: «Умоляю вас рассказать мне все, что вы слышали о здоровье определенной персоны. Нет в мире ничего, что интересовало бы меня больше»{177}. Короткое дыхание означало, что императрица не в состоянии выходить из своих покоев дальше часовни в Зимнем дворце. Несколькими днями позднее сэр Чарльз совершенно ясно говорит, что с нетерпением ожидает смерти императрицы, или, точнее, преемственности для Екатерины (и предположительно Петра): «Мои самые большие надежды опираются на великое событие, которое вскоре произойдет, несмотря на дьявола, ведьм и колдовство»{178}. В письме сэру Чарльзу от 9 августа Екатерина замечает, что Елизавета может еще успеть, если решится, лишить великого князя Петра престола и назвать вместо него своим наследником маленького Павла Петровича. Письмо сэра Чарльза от 18 августа подтверждает, что Елизавета разочарована в Петре, хотя он видит в этом скорее влияние других людей, чем ее собственные выводы.
«Мне говорят, что императрица всегда снисходительна к великому князю. Но если она никогда не встречается с ним, если никогда не доверяет Его высочеству реальных слов и реальных действий, если только его враги имеют доступ к уху Ее чести — а они всегда высказываются против него и вас, — то бесконечное повторение одного и того же может возыметь эффект и ужесточить самые нежные чувства»{179}. Екатерина понимала, что Елизавета может умереть в любое мгновение, и, похоже, готова была действовать ради того, чтобы они с Петром сразу же получили трон — как были готовы и ее сторонники, включая имеющих первостепенное значение гвардейцев.
«Потом [то есть после смерти Елизаветы] в течение двух-трех часов будут осуществлены все грязные трюки; и все-таки если нас захотят отстранить, связать нам руки, это не удастся. Существует несколько офицеров, от которых нет секретов; и если мои усилия по получению информации не провалятся и хоть один из восьми человек предупредит меня, лишь я буду виновата, коли враги возьмут верх»{180}.
Из такого объяснения ясно, что Екатерина разработала всеобъемлющую систему шпионажа при дворе и вокруг него. Она играла с высокими ставками и знала это. «Я или погибну, или буду царствовать»{181}. Сэр Чарльз увидел в ней врожденную силу и был намерен поддержать ее. «Вы рождены командовать и править, — написал он, — и только старость убьет вас»{182}. Его поддержка выражалась не только в словах — он также добился, чтобы Екатерина получила от двора в Сент-Джеймсе[26] вознаграждение. «Сорок тысяч рублей находятся в вашем распоряжении и ожидают ваших распоряжений»{183}. Эти деньги были выделены по прямому приказу короля Георга II, который передал сэру Чарльзу, что «удовлетворен множественными дружескими знаками, которые получил от Ее высочества; заверьте ее от имени короля, что он готов и всегда будет готов в дальнейшем оказывать ей знаки полного доверия и любви»{184}. Екатерина в изысканных выражениях передала свою благодарность, но ей хотелось сделать абсолютно ясным: она действует в интересах России, а не из соображений собственной личной выгоды. Для всех вовлеченных было очень важно, чтобы никто вне очень узкого круга конспираторов не знал, что эти деньги достал для Екатерины сэр Чарльз. Поэтому, как проинструктировал Екатерину сэр Чарльз, необходимо было следовать означенной процедуре:
«Сначала я получу деньги у Вольфа [британский консул]. Я определю сумму и отправлю вам словечко о том, сколько денег у меня на руках. Вы будете выбирать эту сумму через [Нарышкина] — по мере надобности, время от времени; но для моей безопасности никто не должен иметь возможности доказать, что эти деньги достал я»{185}.
Екатерина тоже нервничала, как бы факт субсидии не открылся. «Должна сообщить вам: выписывая боны на деньги, волнуюсь из-за риска, что они могут попасть в чужие руки. Попытайтесь держать их в своем распоряжении»{186}. Сэр Чарльз дал Екатерине много хороших советов — например, «взвешивать все хорошо и тщательно, прежде чем прийти к важному решению. Но раз приняв, никогда не менять его»{187}. Он пообещал всегда говорить ей правду и не поддаваться лести: «Я никогда не буду представлять для вас проблему, а буду честно хранить ваши секреты и противостоять любому вашему предложению, которое посчитаю противоречащим вашим интересам. Я дам вам самый лучший совет. Не скажу ничего, кроме правды. Стану помогать вам во всем, что в моих силах, и никогда не стану вам льстить»{188}. Сэр Чарльз был первым мужчиной, встретившимся Екатерине после расставания с отцом в 1744 году, относительно которого она могла верить: он скажет ей всю беспристрастную правду, как ее видит. И это немедленно сделало его необычайно ценным для нее — и союзником, и учителем. Тем не менее с самого начала переписки он обнаруживает сентиментальную привязанность к великой княгине: «В ваших письмах, должно быть, всегда есть что-то уютное для меня, потому что я чувствую радость, едва вскрывая их, еще до того, как прочитаю»{189}. Сэр Чарльз также передавал письма от Екатерины к Станиславу и обратно, отражая их чувства друг к другу в собственных письмах: «Шесть лет уже я, образно говоря, хранитель и руководитель нашему другу, и он, безусловно, обязан мне, но нет ничего, что я мог бы сравнить с теперешней услугой, какую я оказываю ему, сообщая самую истинную правду из всех правд — что вы любите его»{190}. 18 августа, когда здоровье императрицы, похоже, ухудшилось, Екатерина в деталях описывает сэру Чарльзу свои планы. Она пишет, что как только ей сообщат о смерти императрицы, она сразу же помчится забрать сына и, если возможно, оставит его у обер-егермейстера (граф Алексей Разумовский) и людей под его командованием. Если не сможет отыскать Разумовского, она заберет ребенка в собственную комнату. Затем пошлет доверенных людей предупредить пятерых гвардейских офицеров, которых держит наготове. У каждого из них есть пятьдесят солдат, которых они мобилизуют, чтобы поддержать ее и выступить в качестве резерва «в случае любых осложнений»{191}. На этом этапе она подтверждает, что действует совместно с великим князем, хотя определенно не ожидает от него способностей проявить инициативу; она считает, что наилучшим способом действия для Петра будет остаться с маленьким Павлом. Затем она прикажет канцлеру Бестужеву и генералам Апраксину и Ливену сопровождать ее, пойдет в комнату, где лежит Елизавета, и велит капитану охраны дать клятву верности лично ей. Если возникнут проблемы, она намерена арестовать Шуваловых. Она также где необходимо будет раздавать взятки — частично именно с этой целью ей и нужны были английские деньги. Представляя свой план сэру Чарльзу, она выдает тайные подозрения: все звучит уж слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она, очевидно, очень возбуждена.
«Крайняя ненависть к [Шуваловым], которую испытывают все, кто к ним не принадлежит, справедливость моей позиции, а также правильная последовательность всего, что идет своим ходом, заставляют меня надеяться на счастливый исход. Вы должны подсказывать мне, и ясно, что именно по этой причине я и объясняю вам ситуацию. Суть дела неизбежно обусловливает и срочность, с которой я пишу вам, и мое огромное напряжение»{192}.
Сэр Чарльз в принципе одобрил ее план, хотя выразил беспокойство: ей следует скорее обезопаситься от трудностей, которые могут иметь место до смерти Елизаветы, чем беспокоиться исключительно о том, что может случиться после нее. Он убеждает Екатерину прилагать больше усилий, чтобы улучшить отношения с Шуваловыми — или по крайней мере не дать им влиять на Бестужева и Апраксина. «Пока ваши друзья остаются под властью ваших врагов, я рискну утверждать, что они как минимум бесполезны для вас»{193}. Тем временем канцлер Бестужев также искал денег у Англии. В своем письме от 23 августа сэр Чарльз сообщил Екатерине, что Бестужев некоторое время назад спросил, нельзя ли устроить для него «большую пенсию», так как он не может позволить себе жить согласно своему рангу на выплачиваемую ему в Санкт-Петербурге зарплату (только 7000 рублей в год, по его словам). В качестве компенсации он предлагал поддерживать интересы Англии при русском дворе. В письмах сэр Чарльз подает себя рыцарем, романтичным кавалером, выказывающим уважение своей идеализированной даме. «Мое сердце, моя жизнь и моя душа принадлежат вам. Я во всем считаю вас выше себя. Я обожаю вас, и это обожание заходит так далеко, что я ощущаю с уверенностью: я никогда не буду стоить вашего уважения»{194}. Он лелеял мечту, что однажды, когда Екатерина станет императрицей, он вернется в Россию в качестве английского посланника, чтобы «долго жить с вами в качестве преданного слуги и робкого друга»{195}. Он признается: «Мне хотелось бы иметь право свободно приходить и уходить, чтобы пользоваться часами вашего досуга, потому что я всегда буду больше любить Екатерину, чем императрицу»{196}. Того, что Екатерина обладала мощным даром очаровывать, отрицать нельзя. Она также обладала сильным чувством собственного предназначения. «Мне хотелось бы испытывать страх, но я не могу: невидимая рука, которая ведет меня тринадцать лет по очень неровной дороге, не позволяет мне сдаваться, в чем я очень твердо и, вероятно, глупо заверяю»{197}. 11 августа Екатерина сделала смелый шаг, написав канцлеру Бестужеву, что хотела бы вернуть Понятовского в Петербург. Сэр Чарльз тоже поговорил с канцлером и получил обещание помощи, так как понимал, что только Бестужев может обратиться к премьер-министру Польши и Саксонии графу Генриху фон Брюлу и попросить о возвращении Понятовского в качестве личного одолжения. Сэр Чарльз сообщил также Бестужеву о природе взаимоотношений между Понятовским и Екатериной. Он считал, что канцлер готов помогать ей и ему можно доверить этот секрет. (Понятовский же считал, что Бестужев сам немного влюблен в Екатерину, а также что он пытался обеспечить ей как минимум одного любовника по собственному выбору.) В тот же самый день Екатерина пожаловалась сэру Чарльзу, что великий князь приходит в ее апартаменты гораздо чаще обычного, нарушая ее уединение, чтобы поговорить о своем «новом увлечении — греческой девушке, которая служит у меня»{198}. Она сокрушается об ущемлении своей свободы, но дни ревности теперь позади. 4 сентября Екатерина сообщила сэру Чарльзу, что императрица — которая еще была очень даже живой — рассердилась на великого князя. Она пожаловалась, что его взгляды «противоречат всему, что тут Желается, что… они анти-российские… Ей сказали, что им руководят голштинцы, которые и внушают ему эти чувства. Она лично передала это канцлеру в воскресенье и вообще никуда не вышла, хотя и успела полностью одеться, так была рассержена»{199}. Екатерина также сообщает, что частично благодаря совету, который великий князь получил от сэра Чарльза, он прилагает все усилия, дабы переменить свои антирусские настроения, и становится «весьма разумным по многим вопросам»{200}. Двумя днями позднее она с юмором, если не со злорадством, сообщает о последней причуде императрицы.
«А вот кое-что, вызывающее смех. Личность, на чей кашель вы жаловались вчера, ничего не делает, лишь болтает в уединении своей спальни о личном вступлении в командование армией. Одна из ее женщин сказала ей на днях: «Как вы можете? Вы ведь женщина». Она ответила: «Мой отец же командовал, неужели вы думаете, что я глупее него?» Следующий ответ: «Он был мужчиной, а вы нет». Она разозлилась и стала настаивать на том, что хочет сама идти на войну. Ей ответили, что милая дама неспособна совершить такой подвиг, она ведь не в состоянии подняться по ступенькам собственной лестницы, не запыхавшись»{201}.
Бестужев окончательно подпал под обаяние чар Екатерины и ревновал ее к обоим — и к сэру Чарльзу, и к Понятовскому, потому что они тоже пользовались ее благосклонностью. Однако тут было и кое-что большее, чем простая ревность: та власть, которую Бестужев рассчитывал получить в дальнейшем над Шуваловыми, могла основываться лишь на влиянии, которое он, как ему казалось, имел на Екатерину — возможную будущую императрицу. Поэтому для него было важно, чтобы в нем, а не в сэре Чарльзе или Понятовском, продолжали видеть наиболее близкого ей союзника. Жалобы Бестужева на расходы возымели действие: Екатерина решила еще сильнее надавить на него по поводу возвращения Понятовского. Теперь она находилась в депрессии, на грани болезни, тоскуя по Станиславу и вовсе не будучи уверена в успехе. Сэр Чарльз также оказывал давление на Бестужева, давая понять, что тот больше не будет получать финансовой помощи и останется без пенсии от Английского двора, если не займется этим делом. Он также пытается оказывать давление и на Екатерину: «[Бестужев] может сделать то, о чем вы просите, — если захочет»{202}. Однако поскольку ситуация становилась все более запутанной и чреватой опасностями — из-за того, что у императрицы зародились сомнения по поводу Понятовского, — сэр Чарльз предупредил Екатерину:
«Вы можете заставить меня говорить и делать все, что вам будет угодно, но когда я увижу, что страсть больше не слушает резонов, я буду возражать против ваших желаний с твердостью, равной потребности слушаться вас во всем, что может быть для вас полезно или просто доставлять вам удовольствие»{203}.
Но Екатерина дошла до отчаяния. Одиннадцатого сентября она написала сэру Чарльзу: «Я не знаю, что говорю и что делаю. Могу лишь искренне сказать: такое я испытываю впер — вые в жизни»{204}. Сэр Чарльз ответил и вовсе в несвойственной для посла манере:
«Одно слово от вас — и оно станет для меня самым священным законом. Когда я думаю о вас, мои обязательства перед Хозяином [то есть королем Георгом] тают. Я готов выполнить все приказы, которые вы отдаете — если они не опасны для вас самой, потому что в этом случае я сделаюсь непослушным, и моя твердость будет равна послушанию, с которым я выполняю все остальные распоряжения… Я ваш, только ваш, и весь ваш. Я уважаю вас, почитаю вас, обожаю вас. Я умру в убеждении, что никогда не существовало равной вам по обаянию и чистоте, с подобной внешностью, сердцем и головой»{205}.
Пятница 20 сентября была именинами Павла Петровича. Вечером при дворе состоялся ужин, на котором присутствовали великая княгиня и сэр Чарльз. Двадцать второго сэр Чарльз почувствовал себя плохо. Из-за сильнейшей головной боли он даже не смог прийти ко двору, как было принято по воскресеньям вечером. Недомогание длилось несколько дней. Его положение как британского посла становилось необыкновенно трудным, поскольку отношения между Россией и Англией ухудшились. Вот как сэр Чарльз объяснился в письме, которое он продиктовал для Екатерины:
«Как только в Лондоне станет известно, что Россия согласилась на Версальский договор [по которому ее союзники соглашались оказывать финансовую и военную помощь Австрии в войне против Пруссии/, моя страна будет смотреть на императрицу хуже, чем на врага — как на друга-изменника, который предал нас путем увиливаний, ложных уверений и оттяжек и который после ратификации договора [то есть англо-русского договора предыдущего года], гарантированной ее собственной подписью и Большой Печатью ее империи, истолковал его таким образом, что аннулировал всю обещанную поддержку»{206}.
Тем не менее Екатерину подбадривало то, что двумя днями раньше она смогла переслать сэру Чарльзу копию письма, отправленного Бестужевым графу фон Брюлу, в котором Понятовский характеризовался как идеальный для Польши чрезвычайный посланник. Пятнадцатого октября императрица снова заболела: у нее случились конвульсии, во время которых «кисти вывернулись назад, ноги и руки стали холодными как лед, а глаза невидящими»{207}. После кровопускания она пришла в себя. На следующий день у нее было три приступа головокружения; она испугалась, что слепнет. Эти сведения Екатерина получила от своих внедренных шпионов: «Мойхирург, человек большого опыта и доброго нрава, ожидает апоплексического удара, который наверняка заберет ее»{208}. Мнение сэра Чарльза было таково, что если императрица умрет сейчас, великие князь и княгиня будут спасены: «Все преклонятся, все падут ниц перед вами, и вы взойдете на трон с такой же легкостью, как я сажусь к столу поесть»{209}. В конце октября Август III назначил Станислава Понятовского чрезвычайным посланником при дворе Санкт-Петербурга; вскоре тот стал рыцарем Белого Орла. Но мать Понятовского, ярая католичка, которую Станислав глубоко почитал, была обеспокоена возвращением сына в Санкт-Петербург, к безнравственным и опасным адюльтерным отношениям. Станислав описал Екатерине устроенную ему сцену в духе характерной мелодрамы:
«Она пожала мне руку и ушла, оставив меня в самом ужасном и затруднительном положении, с каким я сталкивался в жизни. Я бился головой о стены, скорее вопя, чем рыдая. Я всю ночь не мог сомкнуть глаз и выглядел на следующий день как труп»{210}.
Императрица продолжала срывать планы сэра Чарльза и Екатерины, оставаясь живой. «Позавчера [она] отправилась стрелять тетеревов, и ей стало так плохо, что ее отчаялись привести в сознание. Но она очнулась, и это к лучшему»{211}. Сам сэр Чарльз в ноябре снова заболел, и из-за лихорадки и сильнейшей головной боли вынужден был диктовать письма, в том числе предназначенные Екатерине, своему секретарю. Он предостерегал ее против Бестужева, которого подозревал в желании избавиться в ближайшем будущем и от Понятовского, и от него самого. Тем временем Бестужев поздравил себя с завоеванием прочного расположения великой княгини, поскольку сумел вернуть ко двору Понятовского. Последнего поселили в доме напротив Казанского собора. Новости о состоянии здоровья императрицы разлетелись по всем дворам Европы, и британский посланник при дворе Фридриха Великого запросил у сэра Чарльза сведений об отношении великих князей к Пруссии. Екатерина дала ему ответ, в котором преуменьшила свою значимость во-первых, никак не связала себя с Пруссией во-вторых и озвучила свой основной принцип в иностранной политике в-третьих.
«Великий князь из-за своих военных наклонностей пруссак до самой своей смерти. Это заходит так далеко, что наносит вред, отражаясь в его характере. Почти бесполезно говорить о великой княгине, так как не предусмотрено, что она будет иметь большую власть. Но мы удовлетворим ваше любопытство: она никогда не посоветует ничего, что, по ее убеждению, плохо бы влияло на величие и интересы России»{212}.
Сам сэр Чарльз — все еще нездоровый и неспособный потреблять твердую пищу — собирался просить отзыва, так как больше ничего не мог сделать для восстановления добрых отношений между Россией и Англией — по крайней мере до тех пор, пока не умрет императрица. Несмотря на то, что Екатерина передала ему, она страдала от сомнений по поводу своего будущего влияния; двадцать третьего ноября она писала: «Уверяю вас, я твердо намерена восстановить все то, что сейчас ликвидируется, если смерть не отберет у меня эту возможность»{213}. Двумя днями позднее она пыталась приободрить сэра Чарльза, описывая, насколько тяжело болеет Елизавета:
«Императрица — и я намеренно говорю о ней с вами в манере, которая немножко успокоит вас — в жалком состоянии. Она выходила вчера вечером, как раз когда накрывали обед. Подошла к нам с великим князем и сказала: «Я хорошо себя чувствую, больше не кашляю и не задыхаюсь, но из-за сильных болей в животе не могу носить тесную одежду». Так как раньше она говорила об устрицах, я заметила: «Мадам, эти боли могут быть из-за переедания». «Нет, — ответила она, — они у меня уже целых полтора года и никогда не отпускают». Прошу заметить, что она не может произнести трех слов подряд, не закашлявшись и не задохнувшись, и если она не считает, что мы оба глухие и слепые, могла бы и не говорить, что жаловаться больше не на что. Так как это заставило меня улыбнуться, я описываю сценку вам. Она может позабавить того, у кого нет других радостей»{214}.
Двадцать шестого ноября сэр Чарльз выразил надежду, что однажды Екатерина сделает Станислава Понятовского королем Польши. Он также сообщил ей, что Станислав очень низкого мнения о великом князе Петре: «Говорят, он каждый день напивается, и предсказывают, что он рано умрет». Однако сэр Чарльз, похоже, уважал великого князя, несмотря на то, что необыкновенно высоко ценил таланты Екатерины: «Доброта, которую Его императорское высочество всегда проявляет по отношению ко мне с момента моего прибытия к этому двору, вызывает вечную благодарность с моей стороны, и я всегда буду доказывать это ему при всех обстоятельствах»{215}. Похоже, он не считал поддержку отношений жены великого князя с другими мужчинами неблагодарностью. Он также беспокоился о том, что может произойти с Понятовским по дороге в Россию, так как и Пруссия, и Франция стремились не допустить этого назначения «из боязни, что оно будет работать против их интересов. Сэр Чарльз советовал Екатерине, какой линии поведения держаться, когда (и если) Станислав благополучно прибудет:
«Я слишком боюсь уловок и предательства со стороны почти каждого тут, чтобы не просить вас на коленях быть необычайно осторожными, когда приедет Понятовский. Не могу избавиться от мысли, что канцлер намерен держать вас в собственных руках, что он никому не позволит разделить с ним вашего благоволения… Поэтому, месье, будьте очень осторожны во время разговора с Понятовским, и кроме всего прочего, встречайтесь с ним только в его доме или в доме третьей стороны, но никогда в вашем собственном. Если вы выйдете вечером и будете узнаны, это вызовет толки и создаст подозрения. Но если его поймают при входе в ваш дом, игра будет окончена, а его судьба безвозвратно испорчена»{216}.
Наконец 2 декабря Понятовский отправился в Россию. И действительно имела место попытка устроить на его пути засаду, но, предупрежденный вовремя, он смог избежать встречи с теми, кто хотел его захватить. 21 декабря Екатерина в нетерпении написала: «Я, конечно, жду встречи с ним, он, говорят, уже в Риге»{217}. 24-го новый посланник прибыл. 28-го она наконец встречается с ним и докладывает, что он был «необыкновенно хорош»{218}. Первой миссией Понятовского в Санкт-Петербурге было достичь договоренности о русской военной помощи Августу III против Пруссии. Это ставило его в политически странные отношения с его другом сэром Чарльзом, так как Англия была неформальным союзником Пруссии со времени подписания в январе 1756 года Вестминстерской Конвенции. Соответственно, ему приходилось сохранять видимость дистанции с послом, хотя мужчины общались через Екатерину и иногда даже лично. В последний день 1756 года Понятовский имел у императрицы аудиенцию, на которой произнес яркую речь о прусской «гидре». Но остальные дипломаты считали его двойным агентом на службе у Англии. Россия официально вступила в войну в январе 1757 года, примкнув к франко-австро-саксонскому альянсу против Пруссии. Это сделало положение сэра Чарльза еще более трудновыносимым, и он покинул Санкт-Петербург, ища передышки в деревне. 22 марта Екатерина написала ему, чтобы предупредить об издании секретного приказа вскрывать все письма иностранных посланников и о том, что приказ в особенности касался его. Она также сообщила, что каждый день в течение трех часов изучает английский язык (она так и не научилась ни говорить по-английски, ни понимать, ни хорошо читать). Сэр Чарльз подтвердил, что будет настороже, хотя считал, что его почта и так постоянно вскрывалась — во всяком случае, весь последний год. Он также интересовался, не беременна ли Екатерина: «Желаю всем сердцем, месье, чтобы у вашего сына появился брат»{219}. Ее ответ был отправлен на следующий день: «Я в отличном состоянии и надеюсь! Посылаю вам это сообщение, потому что вы желаете мне добра»{220}. В начале весны великие князь и княгиня переехали в привычный Ораниенбаум. В апреле (двадцать первого ей исполнилось двадцать восемь лет) она написала сэру Чарльзу, попросив того похвалить в разговоре с великим князем ее человеческие качества: «посоветовать ему, как настоящий и искренний друг, следовать полезному совету прекрасной головы [то есть ее собственной]»{221}. В этот год в Ораниенбауме она проводила время, планируя и засаживая свой сад, гуляя, катаясь верхом, выезжая одна в легком экипаже и читая, пока великий князь занимался голштинскими войсками и устраивал вечера и маскарады. В мае Екатерина попросила сэра Чарльза устроить ей еще один секретный заем. Она использовала часть денег, чтобы организовать 17 июля праздник в масках и концерт в своем саду с целью улучшить плохое настроение великого князя (к этому времени она была уже примерно на пятом месяце беременности). Это было тщательно продуманное мероприятие. Вот как описывает его Екатерина:
«Немного в стороне от леса у меня… стояла большая колесница, построенная Антонио Ринальди, итальянским архитектором, который работал на меня в это время: в ней мог разместиться оркестр из шестидесяти человек — музыкантов и певцов. Придворный итальянский поэт написал стихи, а хормейстер Арайя музыку. Дикая аллея в саду была украшена лампами и отделена занавесями от места, где накрыли столы для ужина»{222}.
Погода была великолепной. После первого блюда занавески, скрывавшие аллею, подняли, явив взорам оркестр, прибывший в сопровождении танцоров на колеснице Ринальди, которую тянули примерно двадцать быков в гирляндах. Все поднялись, чтобы смотреть представление и слушать музыку, а затем снова заняли места перед подачей второго блюда. Затем последовала лотерея по бесплатным билетам, в которой раздавались китайский фарфор, цветы, ленты, веера, гребни, кошельки, перчатки и «другие безделушки»{223}. После десерта были танцы, закончившиеся в шесть утра. Событие, по общему мнению, имело громадный успех. «Там не было места для интриг и злобы, и Его высочество вместе со всеми пережил восторг и благодарил великую княгиню за ее празднество»{224}. Мероприятие стоило Екатерине почти половины ее годового дохода. 19 августа русские силы одержали победу при Гросс-Егерсдорфе. В день благодарственного молебна в честь победы Екатерина устроила в своем саду праздник для великого князя и всех членов двора в Ораниенбауме, а также повелела зажарить быка для чернорабочих и каменщиков. Петр вынужденно радовался вечеру в трудный для себя момент, так как его симпатии оставались с Фридрихом Великим и пруссаками. Ситуация становилась очень сложной для Екатерины и ее друзей. Первые признаки беды были связаны с решением маршала (ранее генерала) Апраксина не извлекать пользу из победы при Гросс-Егерсдорфе, преследуя пруссаков. В своих мемуарах Екатерина поддерживает идею, что маршал в ожидании смерти императрицы и последующих перемен в политике использовал как предлог якобы недостаточное снабжение, чтобы оправдать отход. Однако одновременно сторонники императрицы подозревали в интригах для обесценивания русской победы ее самоё и Бестужева — из-за тайного расположения к Англии. Екатерина признает, что действительно имела переписку с Апраксиным, но утверждает, будто писала ему только по распоряжению Бестужева, дабы предупредить о слухах, ходящих о нем в Санкт-Петербурге, и подтолкнуть к действиям. «Яобъяснила, что его друзья считают трудным оправдать скорость его отхода и просила возобновить продвижение вперед и выполнять приказы правительства. Канцлер Бестужев отправил это письмо ему. Маршал Апраксин мне не ответил»{225}. 8 сентября императрица перенесла приступ эпилепсии. Это произошло в Царском Селе, возле приходской церкви, куда она ходила на литургию по поводу праздника Рождества Богородицы. Толпа людей окружила ее, лежащую без сознания. Это означало, что ее болезнь больше невозможно было прятать за стенами дворца. Ей пустили кровь прямо на месте, затем унесли и уложили на софу. Вскоре она пришла в себя, но не могла нормально говорить (прокусила язык во время приступа) и не понимала, где находится. К концу сентября великий князь обнаружил явную теперь беременность Екатерины, что стало причиной раздражения. Однажды он заявил в присутствии Льва Нарышкина и еще нескольких человек: «Один Бог знает, отчего моя жена беременна. Не знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его признавать»{226}. Нарышкин помчался к Екатерине, чтобы передать ей эти слова. Встревоженная, но как всегда быстро соображающая, она решила спровоцировать великого князя, предположив, что он не захочет делать предметом публичного обсуждения свои дела в брачной постели. Она проинструктировала Нарышкина: ему следует попросить Петра поклясться своей честью, что он не спал с ней, и сказать, что если он готов дать такую клятву, Нарышкин немедленно информирует Александра Шувалова как официального главу Секретной канцелярии. Нарышкин поступил в соответствии с этим планом, и Петр, чье замечание было сделаны в плохом настроении, ответил: «Идите к черту. Не говорите мне больше об этом»{227}. И реакция Петра, и ответ Екатерины предполагают, что время от времени они все еще спали вместе, несмотря на то, что оба имели связи на стороне. Екатерина могла исхитриться переспать с Петром, обнаружив, что беременна. Таким образом оставалась слабая возможность, что Екатерина носила ребенка Петра. Однако широко распространилось мнение, что отцом ребенка является Понятовский. Впрочем, он не сделал никаких намеков на это в своих мемуарах. Сэр Чарльз Хэнбери-Уильямс оставил Россию в октябре.[27] В этом же месяце Понятовский получил извещение, что должен покинуть Петербург. Вероятно, это увеличило частоту его встреч с Екатериной, так как оба чувствовали, что должны извлечь как можно больше из оставшегося времени. 8 ноября императрица на публике спросила Понятовского, почему его отзывают. Он ответил, что его двор действует под давлением Франции. Всего лишь через несколько дней престиж Франции рухнул — с получением новостей о разгроме ее армий Фридрихом Великим при Россбахе. Давление на Понятовского временно ослабело. Екатерина уговорила Бестужева протестовать против его отзыва. Фон Брюл разрешил Понятовскому отложить запрос на прощальную аудиенцию. Дочь Екатерины Анна Петровна родилась 29 ноября 1757 года между десятью и одиннадцатью часами вечера. Императрица решила назвать ее именем своей умершей старшей сестры, матери Петра. Какие бы сомнения Петр ни высказывал по поводу своего отцовства, он казался довольным. «Он устроил большие празднества в своих апартаментах, приказал, чтобы торжества организовали также и в Голштинии, и принял все поздравления с удовлетворенным видом»{228}. Последовала та же процедура, что и после рождения Павла Петровича: ребенка забрали, чтобы растить под присмотром императрицы и ее слуг. На шестой день после рождения девочку крестили. Императрица сделала денежные подарки великим князю и княгине — по шестьдесят тысяч рублей каждому. После крещения при дворе и в городе прошли празднования. Обращение с Екатериной тоже не изменилось, но на этот раз она была готова. Она решила обратить заключение на пользу себе и друзьям, переделав свою комнату: отгородила личный альков с диванчиком, зеркалами, маленькими столиками и стульями. В альков можно было попасть только через отдельную дверь, ведущую из проходной кладовки. Когда входили посторонние, они видели лишь большую ширму. Если они спрашивали, что за ней, Екатерина отвечала: комод{229}. Понятовский прокрадывался туда под видом придворного музыканта в плаще и светлом парике. Оставив экипаж или сани на некотором расстоянии от дворца, он поднимался по тайной лестнице. Стража, предположительно предупрежденная о его приходе заранее, не окликала его. После того, как ее заключение закончилось, великая княгиня иногда сама спускалась по той же лестнице в оговоренное время, переодетая мужчиной, и Понятовский увозил ее в своем экипаже к себе домой. Однажды, когда он ждал ее, офицер охраны наткнулся на его сани и начал его расспрашивать. Понятовский притворился, что дремлет — будто он лакей, ждущий своего хозяина. Несмотря на мороз, его бросило в пот. К счастью, офицер ушел до того, как появилась великая княгиня. Той же ночью сани налетели на камень с такой силой, что Екатерину выбросило прочь. На короткое время она потеряла сознание, и Станислав испугался, что она разбилась насмерть. Затем, по возвращении (отделавшись всего лишь синяками), она обнаружила, что горничная, заведовавшая гардеробом, заперла дверь ее комнаты — в которую она обычно входила с потайной лестницы, — но, к счастью, после недолгого ожидания кто-то другой отпер ее. Эта череда случайностей была не такой уж пугающей по сравнению с арестом 14 февраля 1758 года канцлера Бестужева. Вот как описывает это Екатерина: «Его лишили всех наград и рангов, и ни одна душа не знала, за какое преступление или проступок первый человек империи был наказан и посажен под домашний арест»{230}. Хотя арестован он был в том же дворце, где жили великие князь и княгиня, недалеко от их собственных апартаментов, они сначала ничего не знали. Екатерина узнала новость на следующее утро — из записки, написанной Понятовским и тайком переданной Львом Нарышкиным. Понятовский сообщил также о нескольких других арестах: ее друга Ивана Елагина (который был также другом Понятовского), Ададурова (прежде обучавшего Екатерину русскому языку) и, что больше всего обеспокоило Екатерину, Бернарди — итальянского ювелира, который долгое время оставался ее доверенным лицом и курьером, особенно в переписке с сэром Чарльзом Хэнбери-Уильямсом. Екатерине стало ясно, что она тоже под подозрением. Она оделась и отправилась на литургию, будто ничего не произошло, «но с камнем на сердце»{231}. Никто ни слова не сказал о Бестужеве или о ком-либо другом из арестованных. На следующий день Бестужеву удалось передать Екатерине записку — с целью дать ей знать, что до ареста он успел сжечь все обличающие бумаги. В мемуарах Екатерина рассказывает, что Бестужев составил план,
«…по которому после смерти императрицы великий князь будет объявлен законным императором, аявто же время буду объявлена участвующей в управлении страной наравне с великим князем. Все службы продолжат работать как работали, а он, Бестужев, будет подполковником четырех гвардейских полков и президентом трех имперских коллегий — иностранных дел, военной и Адмиралтейства»{232}.
Екатерина не одобряла этот план, очевидно, посчитав его слишком трудным для исполнения, но имела у себя его копию, а некоторые ее письма находились у Бестужева. К счастью для нее, он смог уничтожить эти документы. Он же организовал различные каналы связи, используя музыкантов, камердинеров и охрану в качестве посыльных. Наконец один из этих каналов перехватили, что привело ко множеству тревог и страданий. Ни одной конкретной вины бывшему канцлеру приписать не смогли. Утверждали только, что он пытался вызвать разлад между императрицей и их императорскими высочествами и что иногда он действовал вопреки приказам и желаниям императрицы (что она чрезвычайно редко вообще отдавала ему какие-либо приказы, невозможно было ни доказать, ни опровергнуть). Среди тех, кто намеревался свалить его, были Шуваловы и вице-канцлер Михаил Воронцов, а также австрийский и французский послы. Воронцов и Шуваловы преуспели в своих усилиях, убедив императрицу, что Бестужев из-за своего положения в Европе присвоил себе всю славу, которая принадлежит ей. Дело все тянулось, но без вердикта. Тем не менее Бестужева лишили всех почестей и сослали в его деревенское имение. Елагина и Ададурова тоже отправили в ссылку, а Бернарди был посажен в тюрьму в Казани. (Понятовский дал жене последнего денег, чтобы она с детьми смогла вернуться в Венецию, и платил ей пенсию до конца ее жизни.) Так как Понятовского уличили в переписке с Бестужевым, русское правительство теперь официально потребовало его отзыва. Екатерина сожгла все свои потенциально компрометирующие бумаги (включая расписки за получение денег от Англии). Теперь она оказалась в полной изоляции.
«Великий князь едва осмеливался разговаривать со мной и избегал входить в мои покои, где я находилась в полном одиночестве, не видя ни души. Я воздерживалась просить кого-либо прийти навестить меня — из опасения, что меня избегают. Я не приближалась к тем, кто, по моему мнению, так поступал»{233}.
Но Екатерина не могла просто сидеть и ждать, когда что-либо случится. Она решила взять инициативу в свои руки и расспросить императрицу. Она написала по-русски осторожную просьбу, чтобы ее отослали домой к родственникам, раз уж она имела несчастье вызвать неудовольствие императрицы. Она готова была блефовать с императрицей, как сделала это раньше с Петром в вопросе об отцовстве дочери. Она подозревала, что идея ее высылки особенно понравится Шуваловым, но верила, что Елизавета вряд ли одобрит столь радикальный шаг — из страха, что любые изменения в ее плане наследования будут на руку сторонникам свергнутого Ивана VI. Елизавета одобрила идею разговора, хотя не торопилась назначить день и час — и из-за того, что вообще не любила назначать четкое время, и из-за того, что проводилось доскональное расследование поведения Екатерины. Великого князя информировали о предстоящей беседе, и он пообещал сделать все от него зависящее, чтобы гарантировать свое присутствие.
«Ожидая, когда состоится эта беседа, — писала Екатерина, — я спокойно оставалась в своих апартаментах. В глубине сердца я была убеждена, что если существует идея моей высылки или устрашения таким образом, шаги, которые я предприняла, расстроят планы Шуваловых; и, безусловно, она не будет одобрена императрицей, так как Елизавета вообще не склонна к решительным мерам»{234}.
Екатерина также была убеждена, что единственным отрицательным моментом, который действительно может сработать против нее, является неудачный брак — «то, что я не считала ее августейшего племянника самым приятным из мужчин, так же как для него я не являлась самой лучшей из женщин»{235}. Проходили недели. Императрица не проявлялась. Екатерина попыталась применить другую тактику, чтобы преодолеть тупик. Одна из ее гофмейстерин была племянницей исповедника Елизаветы — в это время он был также исповедником Екатерины. Она предложила Екатерине пригласить его и попросить вступиться за нее. Оказалось, что священник симпатизирует Екатерине. Он помог назначить беседу на 13 апреля 1758 года. Екатерина оделась и приготовилась к десяти часам вечера; потом прилегла на софу и уснула. Граф Александр Шувалов пришел за ней только в половине второго ночи. По пути через вестибюль она увидела, что великий князь тоже направляется в покои императрицы. Комната, в которой императрица приняла Екатерину, была длинной, с тремя окнами; там стояли два туалетных столика с разложенными на них золотыми украшениями императрицы, софа и несколько высоких ширм. Явно присутствовали только четыре человека — Елизавета, Петр, Александр Шувалов и сама Екатерина, — но Екатерина подозревала (и как оказалось, правильно), что за одной из ширм прятался Иван Шувалов. Как только Екатерина вошла, она упала на колени и, рыдая, стала умолять императрицу отослать ее назад к родственникам. Императрица казалась скорее печальной, чем рассерженной; она спросила, как же Екатерина хочет уехать — у нее же дети, на что великая княгиня ответила (оправдываясь), что ее дети в руках императрицы, и рук лучше быть не может. Елизавета велела Екатерине подняться. Беседа длилась полтора часа, во время которых императрица ходила по комнате, обращаясь по очереди к Екатерине, Петру и Александру Шувалову — который также обсуждал ситуацию с Петром. Елизавета «слушала с особым вниманием, помимо воли одобряя мои уверенные и сбалансированные ответы на известные преувеличенные утверждения супруга, которые ясно как день показывали, что он хочет лишь убрать меня и поставить на мое место, если возможно, свою теперешнюю любовницу»{236}. Петр бушевал как слон в посудной лавке — а каждое слово и жест его жены были рассчитаны и достигали цели.
«Поведение [Петра] стало настолько неприятным, что императрица подошла ко мне и шепнула: «У меня есть что сказать тебе, но сейчас неудобно, не хочу делать отношения между вами хуже, чем они уже есть». Затем движением глаз и головы она показала, что это из-за присутствия двух других. Видя такое хорошее, дружеское отношение ко мне в столь критический момент, я открыла для нее свое сердце и прошептала: «Мне тоже трудно говорить сейчас, несмотря на большое желание рассказать вам обо всем, что хранится в моем сердце»{237}.
Императрица завершила беседу почти в три часа утра. Первым ушел Петр, за ним Екатерина. «Великий князь всегда делал большие шаги при ходьбе, и на этот раз я не пыталась поспеть за ним. Он вернулся в свои комнаты, а я в свои»{238}. Когда Екатерина начала раздеваться, пришел Александр Шувалов и попросил ее отослать горничных. Он передал ей записку от императрицы. Екатерина не должна держать на сердце тяжесть: императрица вскоре снова поговорит с ней. Шувалов предостерег ее от упоминания о втором намечающемся разговоре при великом князе. Екатерина оставалась затворницей в своих покоях, ссылаясь на плохое здоровье. Она проводила время в чтении, включая просмотр первых томов Дидро и «Encyclopédie» д’Аламбера. Она не видела и не слышала великого князя, который, как она понимала, с нетерпением ждал ее высылки, чтобы получить возможность жениться на Елизавете Воронцовой. Тем временем Понятовскому пришло разрешение от саксонского двора оставить свое место в любой удобный для него момент. Второй разговор в конце концов состоялся в мае, после визита, который Екатерине позволили нанести детям. На этот раз женщины были абсолютно одни.
«Я начала благодарить ее за то, что она позволила мне прийти, добавив, что одно милое обещание этого визита уже вернуло меня к жизни. После этого она сказала мне: «Я настаиваю, чтобы ты правдиво ответила на все мои вопросы». Я заверила ее, что она не услышит из моих у ст ничего, кроме истинной правды, и что все, чего я хочу, — это полностью, без ограничений открыть ей мое сердце. Тогда она спросила меня, действительно ли я написала Апраксину только три письма. Я поклялась ей, что так оно и есть — это и в самом деле было правдой. Затем она начала расспрашивать меня в деталях о жизни великого князя…»{239}
Тут мемуары Екатерины прерываются. Она никогда не описывала подробно, что произошло между нею и императрицей — но впоследствии вполне ощутимо почувствовала восстановление благорасположения к ней (видимо, вследствие ее уединения) и к Станиславу, которому снова отложили дату отъезда. Этим летом он часто навещал ее в Ораниенбауме. Его ночные визиты стали более удобными благодаря тому, что он обитал в Петергофе — из-за присутствия там принца Карла Саксонского, сына Августа III. Станислав подвергал себя опасности пресыщения этими встречами, пока однажды ночью в конце июня…
«Расположение фортуны, которым я наслаждался тогда при помощи маскировки, да и все остальное, касающееся этого дела, сделало меня столь привычным к риску, что [25 июня] я воспользовался возможностью увидеться с великой княгиней без предварительной договоренности (что всегда делалось прежде). Как обычно, я ехал в маленькой крытой коляске с русским возницей [izvozchik], со мной не знакомым. На запятках кареты был тот же переодетый скороход, который всегда сопровождал меня раньше. Этой ночью (которая в России на самом деле вовсе не ночь) мы, к несчастью, повстречали великого князя со свитой; все были полупьяны. Они спросили извозчика, кто его пассажир. Тот ответил, что не знает; мой скороход сказал, что портной. Нас пропустили. Но Изабель [sic!] Воронцова, фрейлина великой княгини и любовница великого князя, которая была с ними, понимающе хихикнула по поводу так называемого портного. Это повергло великого князя в настроение настолько дурное, что после того, как я уехал, проведя несколько часов с великой княгиней в удаленном павильоне, который она заняла якобы под ванны, на меня вдруг напали три всадника, вооруженные саблями. Они схватили меня за ворот и так приволокли к великому князю, который, узнав меня, приказал моим конвоирам следовать за собой. Меня повели по тропе, ведущей к морю. Я решил, что близок мой конец, но на берегу они повернули направо, к другому павильону, где великий князь начал расспрашивать меня откровенным текстом…ли я его жену»{240}.
Хотя Петр заверил его, что все будет гораздо легче, если он скажет правду, Станислав упорствовал: «Не могу сказать, что я делал что-то, если я этого не делал»{241}. Тогда Петр решил, что заставит Станислава понервничать, и оставил его под стражей. Примерно через два часа приехал Александр Шувалов, сообщивший Станиславу, что императрица знает о его аресте. Шувалов, у которого, как обычно, пугающе дергалось лицо и который сам сильно нервничал, потребовал объяснений. У Станислава было время продумать, как вести себя в сложившейся ситуации, и он решился на браваду. «Уверен, вы согласитесь, сир, — заявил он, — что и для чести двора, и для моей собственной важно, чтобы все закончилось как можно меньшим шумом, и потому вы обязаны немедленно вывести меня отсюда»{242}. Шувалов вернулся через час, чтобы сообщить, что экипаж ждет его, дабы доставить в Петергоф. Но испытания Станислава на этом не закончились.
«Это был разбитый маленький экипаж, сделанный, похоже, из стекла — вернее, из окон со всех сторон, как фонарик. Якобы инкогнито, я печально продвигался вперед, открытый всем взорам, в шесть утра, влекомый двумя лошадьми по глубокому песку, отчего казалось, что путешествие длится вечно. На некотором расстоянии от Петергофа я остановил экипаж, отослал его назад и прошел остальную часть пути пешком, завернувшись в плащ и глубоко натянув серую шляпу. Должно быть, я выглядел как разбойник, но я решил, что моя внешность привлечет все-таки меньше любопытных взглядов, чем такой экипаж. Вернувшись наконец в дом, где я жил с несколькими людьми из свиты принца Карла в маленьких, низких комнатках первого этажа с вечно открытыми окнами, я решил не входить через дверь из опасения кого-нибудь встретить. Я подумал, что правильнее забраться в свою комнату через окно — но попал в чужое и спрыгнул в комнату соседа, генерала Ронслада, который в это время брился. Он решил, что увидел привидение. Мы оба застыли на несколько мгновений, а затем разразились хохотом. Я сказал ему: «Не спрашивайте меня, где я был и почему вошел через окно, просто дайте мне слово чести, как добрый соотечественник, никогда об этом не упоминать». Он пообещал, и я отправился к себе, чтобы немного поспать — но не смог»{243}.
Станислав провел пару беспокойных дней. На лицах окружающих читалось, что его приключение широко известно, хотя никто об этом не говорил. Тем временем Екатерина активно пыталась все загладить. Со свойственным ей политическим инстинктом она поняла, что наилучший способ достичь этого — расположить к себе любовницу великого князя. Она преуспела в этом и послала Станиславу записку, сообщая новость. 29 июня (ровно через три года с того дня, как они с Екатериной впервые увиделись) у Станислава появилась собственная возможность поговорить с Елизаветой Воронцовой — когда великие князь и княгиня приехали в Петергоф на бал в честь именин великого князя. Понятовский танцевал с Воронцовой менуэт, во время которого сказал ей: «В вашей власти сделать счастливыми нескольких человек»{244}. Воронцова ответила, что это почти уже сделано, и велела ему прийти в час ночи к Нижнему дворцу Монплезир, где остановились великие князь и княгиня. Не зная, чего ожидать, Станислав появился в назначенное время. Воронцова вышла встретить его и попросила подождать, так как великий князь курит трубку с друзьями и хочет, чтобы те ушли, прежде чем он примет Понятовского. Наконец она пригласила его войти. Воронцова так справилась со своей миротворческой миссией, что великий князь, казалось, был более чем рад принять сложившуюся ситуацию. Единственным упреком Понятовскому было то, что тот не сказал сразу всей правды: «Как глупо не быть откровенным со мной, — укорил он. — Тогда ничего бы не произошло»{245}. Станислав восстановил расположение Петра, поздравив его с красивым осуществлением ареста.
«Он был настолько польщен этим и сделался столь счастливым, что через четверть часа сказал: «Теперь, когда мы такие хорошие друзья, я считаю, что тут кого-то не хватает». Он прошел в комнату жены, вытащил ее из постели, оставив ей время только натянуть чулки, и без туфель, лишь в платье без нижней юбки ввел ее и сказал, указывая на меня: «Вот он! Надеюсь, что удовлетворил всех!»{246}
Екатерина, по словам Понятовского, немедленно поймала мяч и ответила: «Чего недостает, так это записки от вас вице-канцлеру Воронцову с просьбой организовать быстрое возвращение нашего друга из Варшавы»{247}. Петр немедленно написал записку, которую подписала также Елизавета Воронцова. Затем все стали вести себя так, будто в мире больше не осталось проблем — смеялись и разговаривали до четырех утра. Петр наслаждался такими встречами a quatre настолько, что заставил Станислава прийти еще четыре раза. «Я приходил вечером, поднимался по тайной лестнице в комнату великой княгини, где находил великого князя с его любовницей. Мы ужинали вместе, после чего он уводил свою даму, говоря нам: «Ладно, детки, не думаю, что вы во мне еще нуждаетесь», а я оставался сколько хотел»{248}. Но Екатерина чувствовала себя неспокойно, зная, что осведомленность ее мужа — а также других — однажды будет использована против нее. Несмотря на исправившиеся взаимоотношения, вскоре Понятовский понял, что для него будет безопаснее оставить Санкт-Петербург. В августе он выехал в Польшу. Оба, и Понятовский, и Екатерина, считали, что он быстро вернется.
6. Императрица всея Руси (1759–1762)
Так много благоприятных обстоятельств не могло сойтись вместе без Божьего промысла.Хотя весь следующий год Понятовский и Екатерина часто писали друг другу, и их письма перевозили английские и французские дипломаты, период после отъезда ее любовника-поляка был для Екатерины временем ограничений. Несмотря на примирение с императрицей, она все еще оставалась при русском дворе в опасной изоляции. Арест Бестужева и его падение — приговор к ссылке был публично оглашен 8 апреля 1759 года, и канцлером был назначен вице-канцлер Михаил Воронцов — показали ей, как близко к беде находится она сама. И связь с Понятовским ко времени, когда он уехал, стала пугающе широко известна. Екатерине его очень недоставало, особенно в первые недели и месяцы разлуки. Некоторое время она испытывала вражду к тем, кто сделал его отъезд неизбежным. Но часть нее — та часть с холодным разумом, которая планировала, замышляла и была жестко настроена играть важную роль в управлении Россией — чувствовала освобождение благодаря тому, что ушел со сцены требовательный и мелодраматичный молодой любовник. Екатерине нелегко было использовать утешение, которое могло бы ей дать общение с маленькими детьми, так как ее визиты к ним все еще зависели от разрешения императрицы — абсолютным максимумом были летние посещения раз в неделю. Четырехлетний Павел рос нервным ребенком. Однажды, когда одна из дам императрицы хлопнула дверью, он так испугался, что бросился прятаться под стол{249}. Великий князь Петр не проявлял интереса ни к нему, ни к его матери. Он был эмоционально привязан к Елизавете Воронцовой. А затем, 9 марта 1759 года, умерла пятнадцатимесячная Анна. Через шесть дней в Александро-Невской лавре состоялись ее похороны. Екатерина присутствовала на похоронах и никогда больше не упоминала об этом ребенке. Императрица Елизавета продолжала страдать от приступов своей болезни, в том числе от частых кровотечений из носа. Ее водянка, или отеки (которые Екатерина раньше называла «водой в нижней части тела»), значительно усилилась. Спекуляции на наследовании тоже не ослабели. Постоянно ходили слухи, что императрица намеревается сместить племянника Петра в пользу его сына Павла. Но вот как объясняла Екатерина в заметках, написанных через много лет и названнных «Последние мысли Ее императорского величества Елизаветы Петровны»:Мемуары Екатерины Великой
«Невозможно сказать, каковы были мысли Ее императорского величества Елизаветы Петровны о наследовании, потому что она не имела четких идей по сему предмету. Нет сомнений, что она не любила П. III [то есть Петра] и считала его неспособным править; она знала, что он не любит русских, она со страхом и даже ужасом думала о смерти, как и о том, что будет после нее; но она была медлительна в принятии любых решений, особенно в последние годы. Можно предположить, что она так же колебалась и в вопросе наследования»{250}.
Когда Екатерина начала осознавать, что политическая ситуация препятствует возвращению Понятовского, она огляделась и нашла подходящего человека для следующей фазы своей жизни. Лейтенант Григорий Орлов из Измайловского полка был одним из пяти братьев — и самым красивым из них. Фамилия, произошедшая от русского слова «oryol», очень подходила ему. Сыновья провинциального губернатора, братья Орловы получили лишь начальное образование, и Григория в возрасте 18 лет записали в Измайловский полк. Теперь, к тридцати, он стал мужчиной богатырского сложения. Он уже приобрел репутацию храбреца после участия в битве при Цорндорфе, которая произошла в августе 1758 года — особенно кровавом сражении Семилетней войны, — где трижды был ранен. Все пять братьев Орловых любили охоту на медведя и рукопашные бои двумя командами по пятьдесят человек в линию. Григорий Орлов вернулся с войны в Санкт-Петербург в марте 1759 года, сопровождая графа Шверина — одного из адъютантов Фридриха Великого, взятого в плен при Цорндорфе. По возвращении в столицу Григорий был назначен адъютантом к графу Петру Шувалову, в то время начальнику Оружейной канцелярии. Он завел связь с любовницей графа, княгиней Еленой Куракиной, известной красавицей и дочерью маршала Апраксина (который умер от удара в августе 1758 года). Это послужило тщеславному и напыщенному Шувалову хорошим уроком, так как он намеренно выбрал привлекательного Орлова своим адъютантом, чтобы угодить своей прекрасной любовнице. Екатерина неминуемо должна была услышать о подвигах молодого офицера, который быстро стал в городе предметом обсуждения. Легенда гласит, что сначала она увидела его из окна деревянного Зимнего дворца. Но скорее всего их первая встреча имела место во время официального приема при дворе. В какой-то момент в 1761 году они стали любовниками. Орлов освободился от любовницы Шувалова. На этот раз Екатерина хранила свою связь в величайшем секрете. Знал о ней только узкий круг самых близких друзей, таких как графиня Прасковья Брюс (которая подружилась с Екатериной еще в юности, будучи Прасковьей Румянцевой). Контраст между Орловым и предыдущим любовником Екатерины не мог быть больше. Если Понятовский был утонченным европейцем, Орлов оказался классическим русским — здоровым, крепким и незатейливым. Он и его братья обеспечивали также связь между Екатериной и гвардейцами — жизненно необходимый компонент в предстоящей борьбе за власть. 19 мая 1760 года в Париже умерла мать Екатерины. Она переехала туда жить в 1758 году, после того, как оставила оккупированный пруссаками Цербст. Ей было всего сорок семь лет. Екатерина написала императрице, прося денег, чтобы выкупить кое-что из принадлежавших Иоганне вещей, заложенных той перед смертью. Она указала, что если не сможет выкупить их сейчас, они в марте 1761 года будут проданы на публичном аукционе, и лучше этого избежать — особенно потому, что большинство означенных вещиц были подарками самой императрицы. Елизавета исполнила просьбу. Екатерина с облегчением узнала также, что Иоганна позаботилась уничтожить письма, которые дочь тайно посылала ей в течение нескольких лет. Из записей, сделанных Екатериной в 1761 году, ясно, что по мере приближения Елизаветы к завершению жизни, при том что Петр продолжал оставаться фигурой совершенно неподходящей для престола, она все больше училась, думала и планировала, как наилучшим образом использовать власть, если та попадет в ее руки. Она все лучше понимала, что у нее много сторонников — люди стремились помочь ей взять ситуацию под контроль, когда придет время, и ее новая связь с братьями Орловыми превращала то, что раньше казалось чистой теорией, во вполне практически осуществимую возможность. Идеи и максимы, которые она подбирала и записывала, не были оригинальны — онипришли от чтения Монтескье, писателя-камералиста[28] и юриста барона Якоба Фридриха фон Билфельда, и других, — но ее записи все-таки демонстрируют стремление к усвоению и упорядочиванию информации, попытки выявить общие концепции особой ситуации в стране, в которой она оказалась. Некоторые из перечисленных правил написаны как маленькие поучения для самой себя, свод качеств, необходимых хорошему правителю. Для Екатерины типичен менторский, задиристый тон; она всегда проявляла сильную склонность поучать — и себя, и любого, кто готов слушать. Ее записки демонстрируют также ее непоколебимую веру, усвоенную от просвещенных философов, на чтение которых она тратила большую часть своего времени, — веру в то, что если выявлена причина, решение большинства человеческих проблем может и должно быть найдено. Ее заметки начинаются с вопроса о том, как основать в России школу для юных дам по типу Сен-Сира, знаменитого заведения, основанного во Франции мадам де Ментенон (вторая, морганатическая жена Людовика XIV). Она выразила надежду и веру, что хотя поначалу придется принять помощь французских учителей, через несколько лет «мы сможем разработать достаточное количество своих национальных предметов, чтобы готовить учителей дома»{251}. Продолжает она рассмотрением различных вопросов, от сугубо практических — как прекратить чиновничьи задержки выплат главам церковных приходов в надежде получить взятку, как не растерять военное искусство во время длительного периода мира — до высокопарных пожеланий, обращенных лично к себе:
«Власть без веры народа ничто для того, кто хочет быть любимым и пользоваться доброй славой; ее легко завоевать: возьмите все хорошее и справедливое в нации, то, от чего она никогда не отходила, за правило своего поведения, за свой статус. У вас не должно быть других интересов. Если ваша душа благородна, тогда это ее цель»{252}.
Она обращалась — кратко — к тяжелому вопросу крепостничества, заявляя: «Это против христианства и справедливости — делать рабов из людей (которые родились свободными)», но продолжает реалистически, записав, что освобождение крепостных «не станет способом заставить упрямых, предубежденных землевладельцев полюбить себя»{253}. Предлагаемое ею решение — это постепенное личное освобождение, для чего раз в несколько лет небольшой участок земли переходит из рук в руки; то есть происходит отъединение земледельца от земли, остающейся в собственности помещика. Ее оптимистический проект заключался в том, что «свободные люди» сформируются за сто лет. (Случайность, конечно — но ее правнук Александр II действительно освободил крепостных именно через сто лет.) Еще одна проблема, которая беспокоила ее, — чрезвычайно высокая смертность среди детей русских крестьян. Она рассматривает некое практическое решение — «грамотные доктора, образованные выше среднего уровня», должны ввести «некоторое общее правило», которое затем будет выполняться на благо всей страны, «потому что мне доказали, что основной причиной этого несчастья является недостаточная забота о малышах; они бегают голышом, лишь в одной сорочке, по снегу и льду. Один выживший оказывается крепким, но девятнадцать умирает — и какая же это потеря для государства!»{254}. Екатерина также критикует Москву. Нелюбовь к старой столице и желание переделать ее — одна из постоянных забот. И опять она старается найти практическое решение:
«Большинство наших производств находится в Москве — наверное, самом неподходящем месте России, где бессчетное число рабочих становится распущенным, шелковые товары не могут быть высокого качества, вода грязная — особенно весной, в лучшее время года для окрашивания шелков. Долгая зима влияет на расцветки: они или блеклые, или грубые. С другой стороны, сотни мелких городков превращаются в руины. Почему бы не перенести фабрики в выбранные согласно требованиям производства и качеству воды провинции? Рабочие там трудятся упорнее, и городки расцветут»{255}.
Потом она дает себе здравый совет о введении новых законов (к которому не мешало бы прислушаться ее мужу). Единственный способ выяснить, будет ли закон работать, говорит она, это устроить предварительное обсуждение и выяснить, что говорят люди. По ее предположению, спустив людям что-то неожиданное, можно не получить желаемого результата. Екатерина также обозначает некоторые правила поведения правителя по отношению к придворным. Она предполагает, и записывает это, что правитель должен уметь польстить нижестоящим, дабы быть уверенным, что ему не боятся говорить правду. Она будет лично говорить каждому официальному лицу о задании, которое ему доверено, и будет раздавать милости, только если ее попросят о них напрямую — или если она уже решила отметить чьи-то заслуги без подталкивания третьей стороны, — потому что «важно, чтобы были обязаны лично вам, а не вашим фаворитам и т. д.»{256}. Она считает, что одной из самых важных задач будет отобрать правильных подручных: «Тот, кто не ищет достоинств, тот, кто не открывает их, недостоин быть правителем и не может им быть»{257}. Екатерина заканчивает свои заметки цитатой из Билфельда о важности почитания религии, но недопустимости ее влияния на дела государства. У нее есть также замечание о росте расположения к ней, и она прекрасно понимала, что это результат нелюбви к великому князю, все усиливающейся в различных кругах{258}. Она производит впечатление осторожного, но упорно продвигающегося к своей цели человека. Одним из главных сторонников Екатерины был воспитатель маленького великого князя Павла Никита Панин. Сын одного из генералов и сенаторов Петра Великого, Панин долгое время являлся другом императрицы Елизаветы, а кроме того, благодаря покровительству Бестужева служил русским послом в Швеции с 1748 по 1760 год. Он был культурным, хорошо образованным человеком, и, как и Екатерина, интересовался теорией европейской политики, в особенности работами Монтескье. Он хотел для России конституционной монархии и воображал, что, объединив силы с Екатериной, тем самым приблизит осуществление своей мечты. Он был известен своей сознательно старомодной внешностью. По словам другого сторонника Екатерины, княгини Екатерины Дашковой, он «носил парик с тремя висящими по спине шнурками, был обдуманно одет, всегда оставался прекрасным придворным — по правде говоря, немного старомодным, как с картинки двора Людовика XIV»{259}. Его брат Петр был боевым офицером, произведенным в генералы за победы над пруссаками. Молодая княгиня Дашкова имела очень высокое мнение о собственной значимости в кругу сторонников Екатерины и заговорщиков. Ее полезность для Екатерины заключалась в ее связях. Урожденная Екатерина Воронцова, она была племянницей канцлера Михаила Воронцова и младшей сестрой любовницы великого князя Петра Елизаветы Воронцовой, самого ценного источника информации. Она считала, что в глазах великой княгини ей придавали вес их дружба и ее интеллектуальность. Безусловно, она была намного лучше образована, чем большинство женщин при петербургском дворе. Тем не менее ее ценность для Екатерины определяло именно то, что она могла услышать в компании канцлера или великого князя и узнать от сестры — а не ее взгляды на литературу. Императрица Елизавета умерла в три часа пополудни 25 декабря 1761 года после дикого носового кровотечения. Екатерина записала:
«В момент смерти Ее величества княгиня Дашкова послала мне сообщение: «Вам нужно только отдать приказ — и мы посадим вас на трон». Я отправила ей ответ: «Ради Бога, не начинайте хаоса — в любом случае произойдет то, чего хочет Бог; ваша идея и преждевременна, и незрела!»{260}
Дашкова не знала одной из причин, по которой переворот в пользу Екатерины был бы преждевременным: Екатерина была на шестом месяце беременности. Это обстоятельство она сумела скрыть даже от глаз, наблюдавших за ней последние два дня у постели умирающей императрицы. Отношения Екатерины с великим князем испортились к тому времени настолько, что невозможно было убедить его или кого-либо другого, что отцом ребенка может быть он. Единственной возможностью оставалось скрывать беременность. А дальше произошло нечто абсолютно отличное от того, что великая княгиня предполагала в переписке с сэром Чарльзом Хэнбери-Уильямсом. Петр уехал в Сенат, велев Екатерине оставаться возле тела Елизаветы до получения следующих инструкций. Тело императрицы обмыли, выпотрошили и забальзамировали (вероятно, не в присутствии Екатерины), потом одели в серебряное платье с кружевными рукавами. По словам Екатерины, Петр не хотел тратить много времени на скорбь: «Едва тело вынесли и уложили на кровать с балдахином, как гофмаршал передал мне, что этим вечером в галерее (через три комнаты от тела) состоится ужин, на который нам приказано явиться в светлой одежде»{261}. Затем Екатерину вызвали в дворцовую часовню, где Петр принимал клятву верности в качестве императора Петра III (ни жена, ни сын упомянуты не были). Пропели благодарственный молебен, и архиепископ Новгородский митрополит Дмитрий Сеченов произнес перед довольным императором речь. Через три дня после смерти Елизаветы Екатерина пошла навестить Павла (примечательно, что она не бросилась к нему сразу, хотя никто уже не препятствовал ей). Она навестила также графа Алексея Разумовского, бывшего фаворита Елизаветы, который был убит горем. Сначала тело Елизаветы лежало в ее официальной спальне, там священники читали Евангелие, а на карауле стояли гвардейцы. Через три недели тело в открытом гробу перенесли в одно из больших официальных помещений. Тут его установили на помост с балдахином, увенчанный двуглавым орлом. На голове Елизаветы лежала золотая корона с ее именем, датами рождения и смерти и словами: «Самый набожный самодержец»{262}. Стены комнаты были задрапированы черной тканью, вокруг катафалка горело множество свечей. Следующие десять дней жителей Петербурга два раза в день пускали пройти мимо гроба, чтобы выразить свое уважение. Екатерина, одетая в черное, провела три недели траура, молясь возле катафалка. Ее достоинство, ее явное горе и соблюдение православных обрядов завоевали ей большое уважение в среде верующих. Этого она и добивалась. Петр не соблюдал траур дольше, чем было абсолютно необходимо. Таким образом, вроде бы ничего особенного и не делая, Екатерина умудрилась подчеркнуть контраст между собой и мужем. Широкие траурные одежды помогали также скрывать все более заметную беременность. Когда Петр заторопился вселиться со своей любовницей в едва завершенный новый Зимний дворец, Екатерина осталась во временном дворце — там, где умерла Елизавета и где лежало ее тело, — жалуясь на состояние здоровья (а на деле готовясь к родам). Похороны Елизаветы состоялись 25 января 1762 года. Ее тело «с великой помпой вынесли из дворца и перевезли в Петропавловскую крепость»{263}. Екатерина утверждает, что поведение Петра в данном случае было особенно скандальным:
«Император в этот день был очень весел и во время печальной церемонии придумал для себя игру: он нарочно мешкал позади катафалка, позволяя тому удаляться на тридцать футов, а затем со всех ног бросался вперед, чтобы догнать его. Старшие придворные, несшие его шлейф, не могли за ним угнаться и выпускали край. Ветер раздувал его, и это так сильно веселило Петра III, что он повторил свою шутку несколько раз. И я, и все остальные остались далеко позади и вынуждены были попросить остановить церемониальный кортеж, дабы можно было догнать катафалк. Осуждающие слова в адрес скандального поведения императора быстро разошлись по толпе, и его неуместность стала предметом широкого обсуждения»{264}.
Петр нашел «Реквием», исполненный в честь последней императрицы в католическом францисканском соборе, более соответствующим его вкусам, чем православные молитвы. Его maestro di capella Манфредини сочинил новую мессу, которая была исполнена придворными певцами — включая кастратов и знаменитый немецкий бас, — а также полным составом оркестра (в то время как музыка в православной церкви всегда только голосовая). Месса длилась два часа, и Якоб Штеллин доложил, что «сам император внимательно прослушал ее с начала до конца и после службы был приглашен на завтрак в трапезную»{265}. Страсть Петра к музыке была настолько сильной, что он снял запрет на спектакли при дворе, традиционный для длительного периода траура по правителю. Как только императрицу Елизавету похоронили, он позволил музыке звучать на ассамблеях, во время обедов и по другим случаям. Он также продолжил сам выступать в оркестре в качестве солиста и личным примером подбадривал музыкантов-любителей, которые обычно играли с ним, побуждая присоединяться к оркестру на этих концертах. Он стремился увеличить число иностранных виртуозов при русском дворе, удовлетворяя свои амбиции, и собрать вокруг себя за короткое время как можно больше знаменитых музыкантов Европы. Он планировал пригласить великого скрипача и композитора Джузеппе Тартини, а также композитора, исполнителя на клавесине и maestro di capella собора Святого Марка в Венеции Бальтазара Галуппи. Тартини не удалось выманить из Падуи, а Галуппи в конце концов в 1765 году приехал в Петербург. Но музыкальная деятельность Петра мало что значила по сравнению с его далеко идущими политическими инициативами. 18 февраля 1762 года, через восемь недель после его прихода к власти, был опубликован манифест, освобождающий дворян от обязательной государственной службы в мирное время. Хотя этот манифест приветствовался во многих казармах — но одновременно и спровоцировал волнения. Появился страх, что дворянство может потерять свою традиционную роль в государстве, и что эта роль — а также сопутствующее ей влияние — будет узурпирована бюрократами и императорскими фаворитами. Это нарушало баланс сил в обществе. Служба дворянства государству считалась оборотной стороной договора, условием, на котором дворяне имели власть над своими крепостными. Вот как выразила это Екатерина: «Дворянство находилось в возбужденном состоянии по поводу своей новой свободы и забыло, что именно благодаря армейской службе их предки получали ранги и состояния, которыми они теперь владели»{266}. По провинции расползлись слухи, что следующим этапом станет освобождение крепостных от службы своим хозяевам, и эта ни на чем не основанная мысль привела к популярности Петра III среди крестьян. Однако он не подготовил основ для своей реформы и не обдумал возможных ее последствий. Екатерина обратилась к вопросу службы дворянства в своих записях 1761 года, признав, что существующая система принудительной и очень долгой службы имеет свои недостатки — особенно потому, что занятые военной службой члены высшего общества не могут нормально управлять своими имениями. Но она никогда бы не произвела таких серьезных изменений без энергичной подготовки, включающей и теоретическое изучение вопроса, и консультации с заинтересованными слоями. Равно плохо продуманной реформой была секуляризация монастырской собственности, включая крепостных. Очевидное отсутствие у Петра симпатии к православной церкви обострило возмущение, вызванное этой мерой, так как его реформа не предусматривала никакой компенсации монастырям. Утверждают даже, будто Петр заявил архиепископу Новгородскому, что все иконы, кроме изображений Иисуса, должны быть изъяты из церквей, а духовенство должно сбрить бороды и одеться как западные священники. Он приказал закрыть частные часовни в домах знати и купцов, что отвратило от него многих священников в больших городах; он вывел из себя рядовое духовенство, отменив освобождение от воинской повинности, распространявшееся ранее на сыновей священников и дьяконов. 21 февраля император опубликовал менее спорный декрет, упразднявший Секретную канцелярию. Кроме того, некоторые представители знати были возвращены из ссылки. 9 марта он приказал, чтобы оскорбительные наказания, включающие использование кнута и розог, не применялись больше к солдатам, матросам и другим нижним чинам. В будущем должны были использоваться только сабли и трости. К несчастью для Петра, эти подвижки в сторону либерализации прошли почти незамеченными — а отмена весьма эффективной структуры, какой была государственная секретная полиция, скорее всего и не дала ему возможности вовремя раскрыть серьезность планов его свержения. Петр совершил и еще более гибельную ошибку, отозвав свои вооруженные силы из Германии. Русские войска уже готовы были разгромить войска Фридриха Великого, захватить крепость Колберг и оккупировать Восточную Пруссию, когда он поспешно завершил войну. В мае 1762 года он заключил с Пруссией мир. Фридрих знал, что только чудо может спасти его. Поэтому смерть Елизаветы и возведение на престол Петра III получили наименование «чудо дома Бранденбургов». Петр отказался принять от Пруссии какие-либо территории, хотя Фридрих готов был передать ему Восточную Пруссию. Это внезапное изменение политики больно ударило не только по всем вовлеченным в конфликт, но также и по всем тем, кто за время войны, длившейся последние пять лет, потерял сыновей, отцов, братьев и мужей. Император насмеялся над великими победами русской армии. Он также ущемил ее гордость, добиваясь перестройки ее по прусскому образцу. Он приказал ввести новую форму в прусском стиле и придал голштинцам еще более высокий статус. Его знали как ненавистника элитных гвардейских полков, и кое-кто боялся, что он может упразднить их вовсе. Петр еще больше возмутил русский дух, начав готовиться к войне с Данией, чтобы снова захватить Шлезвиг (он оставался частью бесконечных споров между Данией и Голштинией со времени договора 1658 года в Роскилде и был главным аргументом в Великой Северной войне). Это означало активное взаимодействие с Пруссией. Петр собрал войска в Ливонии — а те, кто служил в Вестфалии, чахли без оплаты. Эта запланированная война была ясной демонстрацией того, что интересы Петра продолжали оставаться в Голштинии, а не в империи, правителем которой он теперь был. Не помогало его общественному имиджу и то, что он плохо и редко говорил по-русски. Он также не предпринял никаких шагов для проведения коронации, не понимая важности для русских этой религиозной церемонии. Православная коронация, проведенная в Москве, древней столице, могла бы сделать многое — верующие приняли бы его как своего законного, назначенного от Бога царя. 10 апреля, за одиннадцать дней до своего тридцать третьего дня рождения, Екатерина родила от Орлова сына. Помогали ей лишь ее горничные и акушерка. Ему дали христианское имя Алексей. Отец был обозначен отчеством Григорьевич. Ребенок получил фамилию Бобринский, потому что был завернут в шкуру бобра. Его немедленно поручили заботам приемных родителей — доверенному камердинеру Екатерины Василию Шкурину и его жене. Едва оправившись (так как все оставалось в тайне, не было и речи о соблюдении обычной послеродовой изоляции или о церковной церемонии), Екатерина переехала в свои покои в новом Зимнем дворце. Как и в случае с императрицей Елизаветой, частично желание Екатерины получить власть обусловливал страх альтернативы. Она уже объясняла сэру Чарльзу Хэнбери-Уильямсу свои намерения «погибнуть или править»{267} — а Петр совершенно ясно дал понять, что вопрос о разделении с нею власти никогда не будет поднят. Княгиня Дашкова была уверена, что Петр намерен избавиться от Екатерины любым способом, чтобы жениться на ее сестре, Елизавете Воронцовой. Она вспоминала, что Петр всегда говорил о жене «она»{268} и советовал ей, Дашковой, поддерживать у сестры хорошее мнение о себе во имя собственного будущего. У французского атташе Беранже сложилось мнение, что переворот в пользу Екатерины стал неизбежен и был обречен на поддержку народом.
«Заброшенность и униженное положение императрицы, ежедневные оскорбления, которые она переносила с необыкновенным терпением, ее стойкое уважение к религии и проводникам последней, ее расположение к каждому, талант и образованность, которыми, как все знали, она обладала, ее достоинство и этичность, выгодно оттененные эксцентричным и жестоким характером царя, — короче, добродетели этой очаровательной княгини в течение долгого времени направляли желания и молитвы нации в ее пользу»{269}.
Ситуация достигла апогея за праздничным обедом девятого июня в честь ратификации мирного договора с Пруссией. Княгиня Дашкова так описывает разыгравшуюся сцену:
«Императрица [то есть Екатерина] произнесла тост за императорскую семью. Когда она выпила свой бокал, Петр IIIпослал своего адъютанта генерала Гудовича, который стоял позади его стула, спросить ее, почему она не поднялась с места, когда пила за здоровье императорской семьи. Императрица ответила, что поскольку императорская семья состоит только из Его величества, ее сына и нее самой, она решила, что император не потребует от нее этого. Когда Гудович вернулся с таким ответом, император приказал ему передать ей, что она дура [«дура» — очень сильное слово в русском языке] и обязана знать, что императорская семья включает также двух его дядьев, князей Голштинии[29]. Видимо, опасаясь, что Гудович не повторит его выражения, он повторил его достаточно громко, чтобы услышал весь стол»{270}.
По словам княгини Дашковой, Екатерина разразилась слезами, но потом попыталась отвлечь внимание от публичного оскорбления, попросив графа Строганова, стоявшего за ее стулом, рассказать какую-нибудь смешную историю. Его сочувствие и оказанная ей поддержка были замечены, и после обеда ему приказали отправляться в свой дом на Каменном острове и оставаться там до дальнейших распоряжений. Петр был готов издать приказ об аресте Екатерины. Его сдерживало лишь присутствие ее дяди, князя Георга Людвига, который вздыхал по ней, когда она была молоденькой девушкой. Петр пригласил его в Санкт-Петербург вскоре после вступления на престол, и даже купил ему дворец с садом, принадлежавший ранее графу Петру Шувалову, умершему в январе. Он также назначил его генерал-аншефом всей голштинской армии и управляющим своих поместий в Голштинии. Новость об инциденте на праздничном обеде стала известна всем и каждому при дворе, быстро разнеслась по городу и усилила симпатии к Екатерине. Время решительных действий приближалось. В официальном документе, адресованном своему двору и написанном вскоре после переворота, французский атташе Беранже определил основных конспираторов так: граф Кирилл Разумовский, гетман Украины, брат бывшего фаворита Елизаветы и давний друг и обожатель Екатерины (он был также президентом Академии наук и любимцем гвардейцев Измайловского полка, полковником которого являлся); княгиня Дашкова, чей муж, офицер-гвардеец, тоже охотно поддерживал Екатерину; личный секретарь Екатерины Одарт, пьемонтец по рождению, который помогал организовать для Екатерины заём на сто тысяч рублей у английского купца по имени Фелтон; Григорий Теплов, один из самых образованных людей в России и заместитель Кирилла Разумовского; Никита Панин; трое из братьев Орловых; архиепископ Новгородский Дмитрий Сеченов, который хотя и воздерживался от активных действий, настроен был сочувственно; князь Волконский, по словам Беранже, примкнувший к заговору в последние несколько дней перед его осуществлением; Бибиков, капитан артиллерии; и лейтенант Пассек из Преображенской гвардии. Среди других вовлеченных Беранже называет графа (теперь генерала) Ивана Бецкого, недавно прибывшего из Парижа, и генерал-прокурора Глебова (который был назначен Петром). Беранже сообщил также, что за каждым заговорщиком следил другой, чтобы немедленно информировать остальных, если кто-то из группы будет арестован или отступится. Сама Екатерина с помощью братьев Орловых действовала как координатор, сообщая остальным лишь ту информацию, которую считала необходимой, и финансировала участников из секретных займов — в основном от антипрусских правительств Дании и Австрии. Через месяц после того, как переворот совершился, она описала организацию заговора в письме Станиславу Понятовскому.
«Все гвардейцы были готовы, а под самый конец тридцать-сорок офицеров и около десяти тысяч младших офицеров были посвящены в тайну. В течение трех недель не нашлось ни одного предателя; заговорщики были разделены на четыре отдельные группы, и лидеры встретились только в момент начала выполнения плана, в то время как реальная тайна оставались в руках этих троих братьев [Орловых]. Панин хотел составить декларацию в пользу моего сына, но все остальные были против этого»{271}.
До Петра доходили слухи, что готовится переворот, но он не обращал на них внимания и продолжал развлекаться — как в те дни, когда был великим князем{272}. На неофициальном обеде, который он дал в Летнем дворце в продолжение празднований по поводу мира с Пруссией, его пришлось в четыре часа утра выносить из-за стола. Этим вечером, до того как отключиться, он наградил Елизавету Воронцову орденом Святой Екатерины. 25 июня Петр сделал явную попытку надавить своим авторитетом на русскую православную церковь, выпустив для Синода декрет, утверждающий равенство всех церковных вероучений и указывавший, что ежегодное соблюдение православных постов больше не обязательно. Декрет утверждал, что Синод обязан подчиняться императорской воле безоговорочно. Все крепостные, принадлежавшие монастырям, должны перейти государству, а нарушение супружеской верности больше не является преступлением. Эта последняя реформа привела к возникновению диких слухов. Предполагали, что император намеревается развести всех придворных дам с их мужьями и заставить их выйти замуж за других мужчин — согласно его собственному выбору. Примерно в это же время была освящена лютеранская церковь, которую Петр построил в Ораниенбауме — первоначально для голштинских войск. Император принял в церемонии горячее участие, по некоторым слухам, даже демонстрируя общность вероисповедания. Вечером 26 июня Петр с Екатериной присутствовали на обеде в поместье графа Алексея Разумовского в Гостилицах. Потом Екатерина вернулась во дворец Монплезир в Петергофе, а Петр в Ораниенбаум. Он велел жене проследить, чтобы к его приближающимся именинам был подготовлен хороший обед. На следующий день, после каких-то неосмотрительных слов одного из завербованных им солдат, был арестован один из главных заговорщиков Екатерины — лейтенант Пассек. Остальные заговорщики поняли: вместо того чтобы ждать, пока Петр к концу лета вернется в Санкт-Петербург, как было намечено, им необходимо действовать немедленно, потому что из Пассека могут пытками вырвать детали заговора. На рассвете пятницы 28 июня 1762 года младший брат Григория Орлова (похожий на Григория фигурой и лицом, но с заметным шрамом на лице, приобретенным в сражении) вошел в спальню Екатерины в Монплезире. Она так описала это в письме Понятовскому:
«Алексей Орлов вошел очень спокойно и произнес: «Все готово для восстания; вы должны подняться». Я спросила его о деталях. Он ответил: «Пассек арестован». Больше я не колебалась — быстро, без суеты оделась и уселась в карету, в которой прибыл Орлов»{273}.
Екатерина с Алексеем покинули Монплезир в такой спешке (через заднюю дверь, без слуг), что у нее не нашлось времени прибрать волосы: она осталась в кружевном чепце. На пути им повезло встретить французского парикмахера Екатерины, едущего в противоположном направлении. Он перебрался в ее карету и по дороге сделал ей прическу, хотя напудрить волосы времени не осталось. (Теперь Екатерина начала регулярно пудрить голову, так что на картинах она всегда со светлыми волосами, а не со своими натуральными темно-каштановыми.) Немного позже они встретились с каретой, везущей Григория Орлова и князя Барятинского, и Екатерину пересадили туда — лошади, везущие карету Алексея Орлова, были уже измотаны. Она прибыла в казармы Измайловского полка на окраине Санкт-Петербурга в восемь часов утра. Офицеры и солдаты под командованием полковника графа Кирилла Разумовского присягнули Екатерине как императрице всея Руси в присутствии державшего крест священника. Затем Екатерина снова села в карету и с идущим впереди священником, несущим крест, в сопровождении измайловских гвардейцев прибыла в Семеновский полк, где войска тоже, не колеблясь, принесли клятву — как описала Екатерина, «замерев от счастья»{274}. К девяти часам разросшаяся кавалькада, которая теперь включала и семеновских гвардейцев, прибыла к Казанскому собору (где Екатерина выходила замуж за Петра). Тут ряды пополнились солдатами Преображенского полка, хотя офицеры первоначально оставались лояльными в отношении Петра. Архиепископ Новгородский с другими священниками ждал их в соборе. Был пропет благодарственный молебен; Екатерина дала клятву единственной правительницы всея Руси, назвав своего сына, великого князя Павла, своим преемником, и огласила воззвание, которое сама написала в первые дни заговора. Тем временем британский посол Роберт Кейт был предупрежден о происходящем. Позднее, через несколько дней, он доложил:
«Утром в последнюю пятницу месяца, примерно в девять часов (когда я собирался ехать в Петергоф, чтобы встретиться с императором), один из моих слуг вбежал в комнату с испуганным лицом и сказал, что с другого конца города доносится какой-то рев, гвардейцы, взбунтовавшись, собираются в толпы и толкуют ни много нимало как о свержении императора»{275}.
Из Казанского собора императрица Екатерина проехала в двухместном экипаже с Григорием Орловым на запятках, сквозь толпу, которой она махала и улыбалась, к новому Зимнему дворцу, где ее ожидал Сенат. Вокруг дворца стояли полки; они присягнули на верность императрице; текст присяги им зачитал митрополит Вениамин, архиепископ Санкт-Петербурга. Никита Панин на заре приказал разбудить, быстро одеть и под охраной привезти из Летнего дворца великого князя Павла Петровича. При всеобщем бурном одобрении он появился вместе с матерью на балконе Зимнего дворца. Внутри дворца клятва верности была принята у многих придворных, военных и духовных лиц. Процесс длился примерно до двух часов дня. Роберт Кейт описал, какая тихая и спокойная обстановка сохранялась в городе{276}. На Английской набережной всего несколько знаков указывало на то, что происходит нечто неординарное. Все, что он заметил, — несколько пикетов, расположившихся на мостах, и несколько верховых разъездов, патрулировавших улицы. Теперь войска контролировали все подъезды к Петербургу, останавливая всех покидающих город и задерживая всех, прибывающих из Ораниенбаума или Петергофа. Почти никто не сопротивлялся. Солдаты Лейб-кирасирского полка, которые были любимцами Петра, сначала колебались, поддерживать ли им переворот, но согласились принести присягу после ареста немецких офицеров полка. Дядю Екатерины, князя Георга Людвига Голштин-Готторпского, тоже арестовали и временно заключили в его доме. Теперь, когда Екатерина жестко контролировала столицу, следующим шагом должен был стать арест Петра. Хотя в Зимнем дворце и была дана клятва верности Екатерине, Петр и его сторонники, включая Елизавету Воронцову, находились в шести каретах, направлявшихся из Ораниенбаума в Петергоф на празднование именин императора. Их перехватил слуга, посланный обер-гофмаршалом, с сообщением о том, что происходит в Санкт-Петербурге. Но Петр, похоже, не понял важности того, что ему сообщили, и настоял на продолжении пути в Петергоф. По прибытии в Монплезир император удивился, не найдя там Екатерины. Он искал ее во всех комнатах, заглянул даже под кровати и в шкафы — как будто решил, что жена играет с ним в прятки. Как представил Роберт Кейт, «с этого момента несчастный император, похоже, растерялся, и в его маленькой группе сопровождающих не осталось ничего, кроме отчаяния и смятения»{277}. Перед отъездом в Петергоф Екатерина собрала своих министров в старом Зимнем дворце — Григорий Теплов действовал как секретарь, — чтобы наметить манифесты и приказы, которые необходимо было опубликовать немедленно. Первый манифест, заранее составленный Разумовским и Тепловым, заранее напечатанный и спрятанный личным секретарем Екатерины Одартом, был уже озвучен этим утром. Он объявлял, что Екатерина взошла на трон, объясняя это тем, что Петр подверг опасности православие, запятнал русскую воинскую честь и подорвал институт империи. Потом послали сообщение адмиралу Ивану Талызину, который в этот день был назначен комендантом крепости на острове Кронштадт (где он принял клятву верности императрице у всего гарнизона), дав ему право делать то, что считает необходимым. Контр-адмиралу Милославскому было приказано привести к присяге морские подразделения в Финском заливе и предотвращать любую опасность с этого направления. Петру Панину был отдан приказ принять командование русскими войсками у генерала Румянцева. Екатерина также не теряла времени с отправкой сообщения бывшему канцлеру Бестужеву. В заключение она издала декрет для Сената, в котором сообщила, что выходит с войсками, дабы закрепить переворот, доверяя сенаторам в свое отсутствие «родину, народ и своего сына»{278}. По нескольку человек от каждого полка приказано было оставить в Петербурге в качестве охраны для Павла. Екатерина, должно быть, чувствовала, что всегда жила ожиданием этого дня, когда скакала во главе отряда из 14–20 тысяч всадников (число их варьируется), производя впечатление сильного и харизматического лидера русского народа. В этот день она обдуманно создавала символы, сознавая каждый нюанс в своей внешности. Назначив себя полковником Преображенского полка (ранг, который имел Петр Великий), она надела зелено-красную гвардейскую форму, одолженную по такому случаю у одного из офицеров, вскочила на своего серого чистокровного жеребца Бриллианта и скакала с саблей в руке, в шляпе, украшенной дубовыми листьями. Молодой гвардеец с броской внешностью заметил, что она забыла прицепить на свою саблю темляк, и на скаку протянул ей собственный. Это была первая встреча Екатерины и Григория Потемкина, который на многие годы станет самым важным мужчиной в ее жизни. Она упомянула о нем через месяц в письме Понятовскому: «Младший офицер по фамилии Потемкин проявил проницательность, мужество и умение действовать»{279}. Княгиня Дашкова, также в одолженной форме Преображенского полка, скакала с ней, как и граф Бутурлин, граф Разумовский, князь Волконский и генерал-интендант Виллебойс. Несколькими часами ранее во главе передового отряда кавалерии и конных гусар, с несколькими подразделениями артиллерии выехал Алексей Орлов. Солдаты уже сбросили новую прусскую форму, которую их заставил носить Петр, и надели старую русскую. Когда Екатерина с войсками покидала город, прибыл канцлер Воронцов и попытался увещевать ее. Не в силах предотвратить происходящего, он, тем не менее, отказался принести клятву верности (или сделал это не сразу) и отправился в свой дом. Князь Трубецкой и граф Александр Шувалов сделали безрезультатные попытки восстановить некоторые войска против Екатерины — но быстро отказались от этого, и у них приняли присягу. Армия Екатерины, третья часть трех отрядов, занявших дорогу вдоль Финского залива, двигалась небыстро — и из-за усталости, и из-за отсутствия срочности, так как не встречала сильного сопротивления. В два часа утра 29 июня они остановились на отдых у Красного Кабачка, в трех милях от Петербурга. 28 июня, не найдя Екатерины, Петр провел большую часть дня, рассылая курьеров в попытке получить хоть какую-нибудь информацию. Но те или находили дороги заблокированными, или просто не возвращались. Он пообедал в конце одной из аллей, выходящих к морю, выпив свою обычную дозу алкоголя. В Ораниенбауме в его распоряжении находилось около шестисот солдат-голштинцев. Но даже если бы их было достаточно, чтобы одолеть превосходящие силы Екатерины, он не показал, что знает хотя бы как развернуть их. Все годы игры в солдатики оказались бесполезными, когда перед ним встала реальная опасность. В конце концов, подталкиваемый генералом Минихом, он решил, что единственная надежда — это идти морем в Кронштадт и, быть может, спастись оттуда на военном корабле в Голштинию, где он мог бы поднять армию. Соответственно, в четыре часа пополудни генерал граф Девьер был послан в Кронштадт, чтобы приказать трехтысячному гарнизону подготовиться к прибытию императора. Петр назначил отплытие в Кронштадт на двенадцать часов ночи. Сорок семь чиновников и придворных (и женщины, и мужчины), находившихся при нем, взошли на борт галеры и яхты и отплыли. Приближаясь к порту Кронштадта, они обнаружили, что подход заблокирован боновым заграждением. Галера императора бросила якорь и выслала лодку с просьбой убрать преграду — но часовые отказались исполнить приказ. Сначала Петр решил, что происходящее — результат приказа, который он сам отдал Девьеру, поэтому закричал, что он император, и потребовал впустить его. Караульный прокричал в ответ, что гарнизон больше не признает Петра III — только Екатерину II. Прозвучал сигнал тревоги, и Петру с его флотилией было приказано уходить — или их обстреляют. Вооруженное судно блокировало выход в открытое море, поэтому отряду Петра ничего не оставалось, как развернуться. Галера с Петром на борту направилась к Ораниенбауму, а яхта пошла назад в Петергоф. Петр ушел в каюту, совсем пав духом. В субботу 29 июня (в день именин Петра и восемнадцатилетия его помолвки с Екатериной) в пять часов утра армия императрицы возобновила движение на Петергоф. По дороге они арестовали нескольких гусар из голштинского полка, высланных Петром на разведку, а также с целью найти бывших сторонников императора, которые теперь покинули его. В одном местечке их встретил вице-канцлер Александр Голицын, доставив Екатерине письмо, в котором Петр признавался, что был несправедлив к ней, обещал измениться и просил мира, как будто имела место обычная семейная размолвка. Послание не было удостоено ответа. Пришли новости, что Алексей Орлов со своими войсками уже занял и Ораниенбаум, и Петергоф, и что они не встречают сопротивления. От Петра пришло второе письмо, написанное карандашом, в котором он умолял о прощении, отказывался от трона и просил позволения вернуться в Голштинию, взяв с собой только Елизавету Воронцову и адъютанта генерала Гудовича. В ответ ему был отправлен на подпись акт об отречении. По прибытии в Петергоф были выстроены войска, и Екатерина вступила в город, все еще на своем сером жеребце, которым она легко управляла под шумное одобрение солдат. Именно тут она получила подписанный акт об отречении. Она подтвердила почерк Петра и протянула документ советнику для хранения. Затем она отбыла в Верхний дворец, чтобы избежать присутствия при унижении мужа, прибывшего часом позже в старой карете, в которой его везли из Ораниенбаума в Петергоф. Воронцову и Гудовича арестовали и увели. Когда Петр вышел из кареты, выстроили триста самых доверенных солдат, чтобы защитить его и не допустить нападения. В сопровождении Алексея Орлова его привели в комнату, в которой он часто останавливался, будучи в Петергофе, заставили снять форму преображенца, отдать шпагу и ленту Святого Андрея. Подавленный страданием, находясь в шоке, он потерял сознание. Примерно двумя десятилетиями позже герой Петра Фридрих Великий сказал графу Сегюру, что Петр позволил скинуть себя, как ребенок, которого отправили в постель{280}. Позднее в этот день Петра перевезли в Ропшу — имение в двадцати милях от залива, подаренное ему императрицей Елизаветой. Его везли в большой карете, запряженной шестью лошадьми. Окна были занавешены; на запятках стояла вооруженная охрана. Надзирали за перевозкой Алексей Орлов, Федор Барятинский и лейтенант Баскаков. Его намеревались держать в Ропше до подготовки постоянного места содержания в островной крепости Шлиссельбург. Екатерина написала Понятовскому, что для него «готовились достойные и комфортабельные комнаты»{281}. Русский историк В. О. Ключевский так подводит краткий итог правлению Петра III: «Случайный гость на русском троне, Петр промелькнул на русском политическом горизонте как падающая звезда, оставив всех в недоумении, почему он там появился»{282}. У Роберта Кейта отсутствовало удивление по поводу драматического хода событий, но он тоже признает, что не ожидал столь быстрого их развития.
«Несколько мелких обстоятельств, сильно преувеличенных, искусно представленных и подправленных, привели к падению этого несчастного князя, который обладал множеством прекрасных качеств и никогда не предпринимал насильственных и жестоких действий за все время своего краткого правления. Но из нелюбви к делам, из-за плохого образования и неудачного выбора фаворитов, подстрекающих его, он позволял всем делам превращаться в неразбериху, а из-за ошибочных понятий вообразил, что завоевал любовь народа благодаря великим одолжениям, которые так благородно даровал после восшествия на престол. Он проникся праздностью и самоуверенностью, которые и оказались фатальными для него. Итак, не только я, но и несколько другихразумных и проницательных людей считали, что смогли под конец почувствовать в этом князе значительные изменения по сравнению с тем, чем он являлся в течение нескольких месяцев после восшествия, и что вечная спешка, в которой он жил, и лесть, изливаемая на него гадкими людьми, в большой мере повлияли на его понимание вещей»{283}.
После отречения Петра и его отъезда Екатерина тоже покинула Петергоф — на этот раз в карете, с отрядом конной гвардии. На ночь она остановилась в доме, принадлежавшем князю Куракину, где немного поспала полностью одетая (офицер лишь стащил с нее сапоги). Воскресным утром тридцатого июня 1762 года Екатерина снова с триумфом вернулась в Петербург. Она въехала в столицу во главе Преображенских гвардейцев, прочих гвардейских полков и артиллерии. В полдень она прибыла в Летний дворец, где ее встречали маленький Павел, члены правительства и духовенство, и немедленно прошла в дворцовую часовню на благодарственный молебен. Потом на нее навалилась усталость — она почти не спала и не ела трое суток. Прежде чем отправиться спать, она оставила приказ для генерала Суворова, чтобы Петру привезли из Ораниенбаума его скрипку и его мопса, а также послали к нему его доктора Людерса, его негра Нарцисса и его главного камердинера Тиммлера. Простые люди радовались восшествию Екатерины в принятой в то время манере — напиваясь. В это воскресенье все питейные заведения были открыты для военных, которые уничтожили сколько смогли водки, пива, медовухи и шампанского. (Держатели кабаков и продавцы алкоголя позже подсчитали, что при восшествии Екатерины они потеряли на выпивке около ста пяти тысяч рублей; три года спустя заявки все еще шли через Сенат.) Дашкова рассказывала, как десятка три солдат ворвались в подвал, нашли бочки с венгерским вином и весело распили его из шляп{284}. К вечеру количество пьяных и грабителей увеличилось, и среди крика и пения распространился слух, что пруссаки идут похитить Екатерину. Возникла опасность бунта, который не смогли бы подавить даже Григорий Орлов и его брат Федор. В конце концов лейтенанта Пассека (который находился под стражей всего двенадцать часов и ничего не выдал) послали разбудить среди ночи измотанную Екатерину и привезти в измайловский полк. Только после того, как солдаты увидели ее, они успокоились. В письме Понятовскому, описывая главные события этого памятного дня, Екатерина отдает должное своим сторонникам:
«Орловы выделялись своим умением увлекать, своим предусмотрительным бесстрашием, заботой о мелких деталях, рассудительностью и авторитетом. В них много здравого смысла и щедрой смелости. Они восторженно патриотичны и честны, страстно преданны мне, друзьям и друг другу, как редко бывает у братьев. Всего их пятеро, но там было трое»{285}.
В своей оценке она стремится принизить роль Екатерины Дашковой, чья репутация героини этого часа прогремела по всей Европе:
«Княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой (хотя она хочет, чтобы вся честь по выполнению плана была приписана ей просто в силу того, что она знала некоторых лидеров), была непопулярна из-за своей сестры, и даже тот факт, что ей было всего девятнадцать лет, никого не впечатлял. Хотя она стремилась быть посредником, через которого можно было выйти на меня, все общались со мной напрямую в течение шести месяцев, когда она еще не знала даже их имен. Это правда, что она умна, но ведет она себя нарочито, она интриганка, и наши офицеры ее не любят; только бездумные и опрометчивые говорят ей то, что знают, а это не больше, чем мелкие детали. И[ван] Шувалов, самый низкий и подлый из людей, говорят, написал Вольтеру, что девушка восемнадцати лет изменила лицо Европы. Пожалуйста, разуверьте этого великого писателя»{286}.
Чувство Екатерины, что она выполняет свое предназначение, было полностью подтверждено этими тремя незаурядными днями. Как она писала далее Понятовскому, «наконец Бог привел все к тому концу, которого Он хотел, и все это — в большей степени чудо, чем организация и планирование, ибо так много благоприятных обстоятельств не могло сойтись вместе без Божьего промысла»{287}.
7. Убийство, коронация и тайный сговор (1762–1763)
Императрице потребуются все ее силы и таланты, чтобы предотвратить те штормы, которые, насколько я видел, назревают при ее дворе.Проблемы, вставшие перед Екатериной после восшествия на престол, были весьма значительными. Еще через несколько лет она вспоминала о доставшемся в наследство долге перед армией и беспорядочном состоянии финансов. Никто в казначействе не имел понятия, что находится в казне, и все несли свои «жалобы на вымогательства, подкуп, притеснения и судебные ошибки»{288}. Тюрьмы были переполнены; поступали отчеты о крестьянах, бунтующих против своих хозяев и бегущих на фабрики. Ничто, по словам Екатерины, не работало нормально. Отношение в среде чиновничества было таким: «Но мы ведь всегда все делали таким образом» — и было множество тех, кто счастливо набивал при этом свои карманы. Екатерине, стороннице четкого управления и порядка, было за что взяться. Она получила бюрократическую машину управления, в сущности, нетронутой — во всяком случае там, где дело касалось персонала. В отличие ото всех тех, кто прежде занимал русский трон, она не преследовала и не ссылала никого из высокопоставленных чиновников, служивших при ее предшественнике. Она, похоже, решила считать, что у них просто не было шанса проявиться в делах, и если отныне они обещали ей полнейшую лояльность, она не упрекала их за прошлое. Очень мало кто из чиновников Петра был уволен — даже те, кого вначале перевели на посты вне столицы, вскоре были возвращены на высокие должности. В конце концов даже Иван Шувалов, последний фаворит императрицы, поднялся до высокого положения и пользовался доверием при дворе Екатерины. Канцлер Воронцов, несмотря на противодействие в день переворота, остался на своем посту. Но его власть неизбежно сократилась, потому что Екатерина, в отличие от Елизаветы, не имела намерения бездействовать, позволяя чиновникам выполнять работу так, как они сами считали нужным. Для русских сенаторов (их было около двадцати; Сенат был самым высоким правительственным органом, который должен был координировать работу всех Коллегий и провинциальных губернаторов) оказалось чем-то вроде культурного шока, что правитель участвует в их заседаниях и ожидает от них хоть некоторого соответствия занимаемой должности. Для императрицы же оказался шокирующим уровень дезорганизации и невежества, заполонивших некоторые из ее органов управления. При посещении первого заседания Сената, например, она ужаснулась, убедившись, что сенаторы не только неспособны ответить на вопрос, сколько в стране городов, но у них нет даже карты России. Она немедленно отправила кого-то принести карту из Академии Наук. Екатерина не намерена была повторить ошибку Петра, отказавшись от коронации. Одним из самых первых сделанных ею назначений было назначение князя Никиты Трубецкого — она поставила его руководить планированием этого мероприятия с первичным бюджетом в пятьдесят тысяч рублей. Василию Шкурину, который заведовал гардеробом Екатерины, выделили двадцать тысяч рублей. Императрица приказала также подготовить сто двадцать дубовых бочек серебряных монет для раздачи населению. Событие должно было быть подготовлено за разумно короткий срок в Москве — старой столице и традиционном месте коронования. Урожденная немка, Екатерина намерена была продемонстрировать свою русскость, свое ощущение традиций и божественную предопределенность своего правления. 2 июля иностранных посланников вызвали ко двору к одиннадцати часам утра, и канцлер представил их императрице. В тот же день Екатерина написала Станиславу Понятовскому, который, получив известия о перевороте, похоже, вообразил, что должен немедленно броситься в Санкт-Петербург, где его с распростёртыми объятиями примет бывшая любовница, а теперь Ее императорское величество. Она забеспокоилась и постаралась уговорить его выбросить эту идею из головы.Отчет французского атташе Беранже
«Настоятельно умоляю тебя не торопиться приезжать сюда, так как твое прибытие при настоящих обстоятельствах было бы и опасно для тебя, и причинило бы вред мне. Переворот в мою пользу, который только что имел место, — это свершившееся чудо. В него невозможно поверить всей душой. Я глубоко погружена в работу и не смогу посвящать себя тебе. Всю свою жизнь я буду служить твоему народу и уважать его, но в настоящий момент важно не дать повода для толков. Я не спала уже три ночи и поела два раза за четыре дня»{289}.
Пока новая императрица примерялась к работе, теснящей ее со всех сторон, бывший император безуспешно пытался добиться, чтобы его содержали в Ропше не в столь ограниченном помещении — он жил там в одном помещении с охраной, и ему не позволялось даже выходить на террасу. Он написал Екатерине патетическую записку, прося для себя больше места и возможности уединения.
«Прошу Ваше величество оказать мне доверие и убрать караул из второй комнаты, так как та одна, которую я занимаю, настолько мала, что я едва могу в ней передвигаться. Как Ваше величество знает, я все время двигаюсь по комнате, и у меня распухают ноги, если я не могу этого делать. Также прошу вас приказать, чтобы офицеры не оставались все время в одной со мной комнате, так как у меня есть потребности, которые я не могу выполнять в их присутствии. Прошу Ваше величество не обращаться со мной как с преступником, так как я никогда не обижал Ваше величество. Обращаюсь к великодушию Вашего величества и прошу соединить меня как можно скорее с указанными персонами в Германии. Бог воздаст Вашей чести. Ваш покорный слуга Петр. P. S. Ваше Величество может быть уверено, что я ничего не предприму против вас лично и против вашего правления»{290}.
Он написал также короткую записку, в которой просил Екатерину вернуть ему Елизавету Воронцову и позволить ему уехать в Германию с людьми, коих он попросил сопровождать его. Петр все еще находился под надзором Алексея Орлова и Федора Барятинского среди прочих конвоиров. Похоже, Орлов обращался с ним достаточно хорошо, помогая ему убивать время в карточных играх. Питались все вместе; все блюда сопровождалась большим количеством вина, к которому они привыкли. Складывалась зыбкая ситуация. 2 июля Алексей написал Екатерине шифрованную записку, которая должна была насторожить ее, показав потенциальную опасность ситуации для Петра:
«Мы с отрядом в порядке, только наш Монстр [то есть Петр] серьезно болен — у него неожиданные колики. Боюсь, что сегодня ночью он может умереть, но еще больше боюсь, что он выживет. Первый страх вызван тем, что он постоянно болтает всякую чепуху, которая нас развлекает, а второй тем, что он реально опасен для всех нас. Он ведет себя так, будто ничего не произошло»{291}.
Петр заболел острой формой расстройства желудка. Болезнь, должно быть, его необычайно смущала, так как он вынужден был облегчаться в присутствии караула. В среду вечером 3 июля его посетил личный врач, доктор Людерс, который дал ему лекарство. На следующий день доктор Людерс зашел к хирургу Паулсену, чтобы посоветоваться. Оба доктора к вечеру решили, что Петр поправился. 5 июля французский атташе Беранже с оптимизмом писал графу де Шуазелю: «[Петр] предполагает жить философом. Думаю, все, чего ему будет не хватать — это свободы»{292}. Но тем же вечером Петр опять почувствовал себя плохо, а на следующий вечер Екатерина получила от Алексея Орлова записку, полную сострадания и смущения:
«Ваше величество, матушка![30] Как могу я рассказать вам, как смею описать, что случилось; вы не поверите вашему рабу, но я скажу правду, как пред Богом. Ваше величество, матушка! Клянусь, не могу понять, как это произошло. С нами покончено, если вы не простите нас, матушка, но его больше нет! Никто не хотел, чтобы так было, как бы мы осмелились поднять руку на своего государя! Тем не менее, Ваше величество, несчастье произошло. За столом он начал спорить с князем Федором [Барятинским], и прежде чем мы успели разнять их, его уже не было. Мы не можем сообразить, что делать; но мы все виноваты, мы заслужили смерть. Прости меня, хотя бы ради брата. Я признаюсь во всем, расследовать бесполезно. Прости или приговори к немедленной смерти. Жизнь внушает мне отвращение. Мы вызвали твой гнев и потеряли свою душу»{293}.
Письмо Орлова было заперто в столе в кабинете Екатерины, где пролежало спрятанное все годы ее правления. Никто не знает степени соучастия Екатерины в убийстве Петра. Многие и в стране, и за рубежом считали ее виновной, даже если не говорили этого открыто. Некоторые приводили официальную версию — что Петр умер от «геморроидальной колики», — хотя этот вердикт никогда не обсуждался открыто, во всяком случае в России. Общее мнение было таким, что смерть Петра стала неизбежным следствием его свержения с престола. Трудно представить его навечно запертым со скрипкой и лютеранской Библией, а также и с периодическими припадками пьяной неустойчивости. Но еще сложнее представить, что ему позволили бы вернуться в Голштинию, как он хотел. Много лет спустя Фридрих Великий возложил вину на Орловых, а не на Екатерину:
«Екатерина, коронованная и свободная, верила, как молодая женщина без всякого опыта, что все уже сделано; такой трусливый враг не представлял для нее опасности. Но Орловы, более дерзкие и дальновидные, не желавшие, чтобы кто-либо использовал этого князя в качестве знамени, поднятого против них, убили его. Императрица не знала об этом гнусном преступлении и, услышав о нем, испытала отчаяние, которое не было притворным; она предчувствовала осуждение, которое сегодня выносят ей все; ошибочное это суждение невозможно исправить, так как при ее положении кому как не ей пожинать плоды этого убийства. Она оказалась обязанной поддерживать, и не только беречь, а даже держать возле себя авторов преступления, так как они одни могли спасти ее»{294}.
Говоря о Екатерине как о «молодой женщине без опыта», Фридрих недооценивал ее отлично развитое политическое и стратегическое чутье. Кажется наиболее вероятным, что Екатерина дала по крайней мере молчаливое согласие на убийство Петра. Она заключила с тремя братьями Орловыми и с Федором Барятинским соглашение о том, что от Петра нужно избавиться. Было оговорено: поскольку Екатерина не будет замешана, она защитит убийц мужа и гарантирует, что их никогда не привлекут к суду. Но неизбежные вопросы, касающиеся ее собственного участия, поставили ее перед дополнительным препятствием при создании собственного образа законного монарха в глазах России и мира. Теперь ей предстояло вечно бороться с репутацией, которую создал ей Беранже в своем красочном отчете графу де Шуазелю:
«Что за картинка, монсеньор, для нации, когда она возвратится к здравому уму и сможет судить с холодной кровью! С одной стороны — внук Петра I сброшен с трона и умерщвлен, с другой — внук царя Ивана, томящийся в оковах. А в это время княгиня Ангалът-Цербстская узурпирует корону, начав свое правление с цареубийства»{295}.
Екатерина узнала о смерти Петра через несколько часов после того, как та наступила, но никакого публичного заявления не было сделано до следующего дня. Иностранных посланников информировали о произошедшем в документе, выпущенном Коллегией иностранных дел. Там заявлялось, что «император после долгих мучений от геморроя и от сильнейших болей в желудке, от которых часто страдал и раньше, вчера скончался»{296}. Манифест зачитали также в церквях, объявив причиной смерти прежнего императора сильнейшие колики и призвав верующих помолиться за его душу. Екатерина организовала вскрытие тела Петра, которое подтвердило смерть от естественных причин. Затем в течение двух недель его тело было выставлено в Александро-Невской лавре, куда можно было свободно прийти и засвидетельствовать свое почтение — хотя записывались имена всех видных людей, которые сделали это. Ни один иностранный посланник не пошел посмотреть на тело, но Беранже послал друга, который рассказал ему, что «лицо Петра было необычайно темным, а сквозь кожу сочилась черная кровь, которая виднелась даже на перчатках, надетых на руки»{297}. «И наконец, — писал Беранже, — говорили, что люди видели на трупе признаки, указывавшие на отравление»{298}. Петр был одет в свою любимую светло-синюю голштинскую форму; признаки удушения прикрыты широким шарфом, скрывающим его горло, и большой шляпой, укрывающей часть лица. Похороны прошли 10 июля. По описанию Роберта Кейта, «последнего императора похоронили в Невской лавре в среду утром без особых церемоний; на похоронах было приказано присутствовать только первым пяти классам»{299}. Екатерина не пришла. Гроб поставили сверху на гроб Анны Леопольдовны. Похороны Петра были проведены в Невской лавре, вдали от остальных членов династии Романовых, покоящихся в Петропавловском соборе, — чтобы подчеркнуть его политическую незначительность и то, что он оказался недостойным звания истинного потомка Петра Великого. Тот факт, что он так и не был коронован, также использовали в качестве повода для упокоения его в этом относительно низшем месте захоронения. Через два дня после похорон Петра в Петербург вернулся бывший канцлер Бестужев. За двадцать миль от города его встретил Григорий Орлов и остаток пути провез в императорской карете. Екатерина ожидала его в старой аллее Летнего дворца. Она немедленно восстановила все его ранги и титулы и подарила ему собственный экипаж и великолепный дом, где все нужды стола обеспечивались за счет двора (его прежний дом на берегу возле Исаакиевской площади, на который он брал закладную у английского консула, стал в 1763 году местом размещения Сената). Невиновность Бестужева в инкриминированных ему императрицей Елизаветой преступлениях подтвердили манифестом. Другие придворные, высланные по этому делу, также были возвращены и оказались в большой чести. Один из них, Иван Елагин, быстро стал одним из самых доверенных чиновников Екатерины. Через несколько недель после переворота дядя Екатерины, князь Георг Людвиг, получил вознаграждение в сумме ста тысяч рублей — как возмещение потерь, которые он понес, когда солдаты разграбили его дом. Ему позволили вернуться в Голштинию с шестьюдесятью двумя другими гражданами этого княжества.[31] Бывшей любовнице Петра Елизавете Воронцовой Екатерина позволила жить в доме ее отца в Москве — до тех пор, пока у нее не появится собственный дом. Ей велели жить тихо и не давать поводов для разговоров. Екатерина соответственно проинструктировала отца Елизаветы, Романа Воронцова, велев обеспечить ей адекватное приданое, если она выйдет замуж. Императрица сама сделала распоряжения относительно дома, который ей наметили купить в Москве. 2 августа Екатерина снова написала Станиславу Понятовскому, дав полное описание событий переворота во всех подробностях: «Все умы тут до сих пор в состоянии брожения, — сообщила она. — Прошу тебя не приезжать сюда сейчас из страха, что оно усугубится»{300}. Она сообщила ему свою версию того, что случилось с Петром:
«От страха у него началась колика, которая длилась три дня и прошла на четвертый. В этот день он слишком много выпил — потому что он имел все, что хотел, кроме свободы. Болезнь повлияла на его мозг, наступила сильнейшая слабость, и несмотря на помощь врачей, он испустил дух, попросив предварительно лютеранского священника. Я приказала вскрыть его, но в животе не оказалось никаких признаков болезни. Смерть наступила в результате воспаления кишечника и апоплексии. У него оказалось необыкновенно маленькое сердце, совсем усохшее»{301}.
Если Станислав и сохранял какие-либо остатки надежды, что их прежние отношения теперь смогут восстановиться, он пришел в себя. Императрица Екатерина расставила все по местам: «Я получила твое письмо. Регулярная переписка станет предметом тысяч неудобств. Я должна предпринимать двадцать тысяч предосторожностей, и у меня нет времени для маленьких губительных любовных писем»{302}. Екатерина была абсолютно уверена: она должна сделать все, чтобы ее приняли как законную русскую правительницу; подчеркивание же собственного иностранного происхождения путем поддерживания близких отношений с другим иностранцем (и вдобавок католиком) может стать фатальным. Она попыталась сказать об этом Понятовскому, объяснив, что во время переворота «все произошло на основе ненависти ко всему иностранному; Петра III тоже относили к иностранцам»{303}. Она не стала рассказывать прежнему любовнику так же многословно, что из ее сердца он уже вытеснен другим человеком, но намекнула на это: «Я чувствую себя очень неловко… Не могу сказать тебе, из-за чего, но это так»{304}. В конце письма она почти уже извинялась: «Прощай! Мир полон странных ситуаций»{305}. Неделей позже официальная газета Санкт-Петербурга объявила о наградах всем основным руководителям переворота. Кирилл Разумовский, Никита Панин и Николай Волконский получили пенсии по пять тысяч рублей в год, а семнадцать остальных участников, в том числе Григорий и Алексей Орловы, лейтенант Пассек и княгиня Дашкова, получили по восемьсот крепостных (дарение крепостных всегда происходило с землей, которую они занимали и которая приносила прибыль хозяину) или по 24 000 рублей. Подготовка к коронации шла быстро. Части петербургских административных департаментов начали уезжать в Москву в конце июля. Сама Екатерина выехала первого сентября вслед за Григорием Орловым; ее свита состояла из двадцати трех человек и шестидесяти трех экипажей и телег; их тащили триста девяносто пять лошадей. Ее сын Павел уехал на несколько дней раньше в сопровождении своего воспитателя Никиты Панина и двадцати семи экипажей, влекомых двумястами пятьюдесятью семью лошадьми. Хотя кавалькада Екатерины двигалась медленно, она догнала группу сопровождения Павла — та остановилась на почтовой станции, поскольку ребенка стало лихорадить. Ко времени прибытия матери ему, однако, уже стало лучше, поэтому она настояла на продолжении поездки. Десятого сентября Екатерина написала Панину из Петровского — имения графа Кирилла Разумовского недалеко от Москвы, — высказав свое мнение относительно причины приступа лихорадки у Павла (перевозбуждение). Здоровье почти восьмилетнего великого князя долго оставалось причиной беспокойства, и в течение следующего месяца придворный доктор Круз, которого императрица назначила личным врачом Павла, составил список его болезней по датам и мер, принятых для борьбы с ними. Его записи рисуют нам образ маленького хроника с пищеварительными проблемами, включая диарею и рвоту. Основной причиной его нездоровья, по мнению доктора Круза, была «кислотность, которая доминирует в его желудке и кишечном тракте»{306}. Проблема, по заверению доктора, обострилась за счет лекарств («масел, сиропов и растворов»{307}) использовавшихся во младенчестве Павла. Они «вызвали замедленность соков тела и в результате слабость в частях плоти»{308}. Доктор Круз порекомендовал мистеру Панину (чей присмотр за великим князем распространялся на большинство мельчайших частностей) со всей его «чрезвычайной мудростью и предусмотрительностью» следить, чтобы Павел следовал «очень строгой диете и вел здоровый образ жизни»{309}. Он советовал Павлу соблюдать диету, состоящую из мяса и щелочных продуктов — для «исправления соков»; принимать соли, «клейкие средства» и сельтерскую воду, чтобы «открыть гланды»; пить определенные таблетки. Далее доктор перечислил ингредиенты двух порошков, необходимых великому князю, одним из которых было слабительное, и прописал зарядку для укрепления «частей плоти»{310}. Нижнюю часть живота нужно было ежедневно массировать. Другие рекомендованные средства включали минеральную воду с козьим или ослиным молоком и хинную кору. Его гнойные гланды нужно было перевязывать каждый день «согласно правилам хирургии, чтобы сформировать хороший рубец, который не перекосил бы лицо»{311}. Несмотря на недомогания Павла, они с Паниным успели вовремя встретиться с Екатериной и присоединиться к ней во время триумфального въезда в Москву 13 сентября. Этот факт добавил событию великолепия. Несомненно (по крайней мере, по мнению многих), что присутствие сына — потомка Петра Великого — придавало Екатерине некоторую законность. Однако были и другие, которые полагали, что ее переворот является узурпацией. Сама она никогда, ни на миг, не считала себя просто регентом, правящим от имени сына. Вполне возможно, что Екатерина позволила Никите Панину в качестве платы за его поддержку питать такую веру — прекрасно зная, что его задавит большинство ее сторонников, желающих, чтобы она была полноправной императрицей. Еще строя планы в положении великой княгини, составляя воззвания за много недель до переворота, Екатерина никогда не упоминала, что займет трон только от лица сына. Но во время ее царствования ходили слухи, что первичный план предполагал ее регентство и что в суматохе, под давлением событий она была объявлена императрицей почти случайно. Екатерина никогда не определяла четко роли, которую будет исполнять ее сын в течение ее жизни — ни будучи ребенком, ни став взрослым. Отличное от этого утверждение не принимается в расчет. Но она извлекала выгоду из его популярности у народа и знала важность его наличия для своего имиджа. Она знала также, что если с ним случится какое-нибудь несчастье, это будет гибельно для нее. Его положение наследника трона служило гарантией стабильности ее собственному царствованию, поэтому она хотела иметь его рядом на публике, и за ним хорошо ухаживали. Но существует мало указаний на то, что она действительно любила его: она редко проводила с ним время. Впрочем, в аристократической семье XVIII века не было ничего необычного в подобном расстоянии между матерью и ребенком. Что касается болезненного мальчика, то недели после того, как его рано утром подняли из постели, чтобы он вместе с матерью приветствовал с балкона Зимнего дворца толпы народа, оставили у него, должно быть, неприятный осадок, несмотря на все усилия Панина уверить мальчика, что он ведет достойную жизнь. Он едва знал отца, но прекрасно понимал, что тот был императором, что теперь он умер, что всю полноту власти получила его мать. Можно только догадываться, насколько его болезнь имела психосоматический характер, но трудно обойти заключение, что по крайней мере некоторые симптомы могли быть вызваны стрессом и тем, что он чувствовал себя несчастным. Коронация Екатерины имела место в воскресенье 22 сентября 1762 года — через два дня после того, как Павлу исполнилось восемь лет. Ребенок не мог присутствовать на церемонии, так как снова был болен — на этот раз у него поднялась температура и опухли ноги. В пять часов утра раздался залп из двадцати одной пушки, а в восемь солдаты заняли свои места внутри Кремля и все колокола Москвы начали звонить. В десять Екатерина показалась из личных апартаментов под торжественные звуки труб и барабанов. В аудиенц-зале ее приветствовали старшие придворные и церковные чины высоких рангов. Затем в сопровождении своего исповедника, который кропил дорогу перед ней святой водой, она спустилась с Красного крыльца и проследовала в Успенский собор, где в 1744 году у нее состоялась помолвка с Петром. На Екатерине было великолепное платье из серебряного шелка, расшитое орлами и отделанное горностаем. Ее длинный шлейф несли шесть камергеров. Императорская пурпурная бархатная мантия, сшитая в Париже для коронации Екатерины I в 1724 году, была украшена сотнями двуглавых золотых орлов. Сверкающая корона, которую она надела на голову, была изготовлена специально для этого случая. В основу ее лег древний византийский образец из двух полусфер, соединенных гирляндой дубовых листьев с желудями и содержащих четыре тысячи девятьсот тридцать шесть бриллиантов, вправленных в серебро, и огромный темный рубин наверху. По форме она не отличалась от митры православного епископа: рубин занимал место креста, — и эта похожесть не была случайной для Екатерины, которая как императрица являлась также главой Русской православной церкви. Когда она встала перед отделанным бриллиантами и рубинами троном со скипетром в правой руке и державой в левой, пушки произвели салют. Архиепископ Новгородский объявил ее помазанницей; она причастилась и пошла поклониться иконам в Архангельском и Благовещенском соборах. Через много лет исповедник спросил ее, верит ли она в Бога. Она удивилась вопросу и вот что рассказала своему секретарю Александру Храповицкому:
«Мне задали на исповеди странный вопрос, какого никогда раньше не задавали: верю ли я в Бога. Я сразу же процитировала весь Символ веры, и если понадобятся доказательства, я приведу такие, о каких никто и думать не мог. Я верю всему утвержденному на Седьмом вселенском соборе, потому что Святой отец того времени был ближе к апостолам и понимал все лучше нас»{312}.
Итак, Екатерина была православной, членом сообщества православных верующих; она считала себя христианкой и принимала постулаты церкви — но не считала принадлежность к религиозному течению делом личного убеждения, как мы смотрим на это сегодня. Поэтому и нашла вопрос духовника таким странным. Как православная верующая, она выполняла требования православия — что означало «правильное поклонение» — через соблюдение постов, посещение литургий, исповедь и причащение в положенное время, правильность жеста при наложении креста, поклоны, почтительность к иконам, целование рукава священника и так далее. Она не считала нужным выполнять что-то сверх того (в православном календаре есть еще много праздников, на которые нужно посещать литургию, а православная литургия никогда не бывает короткой), в том числе отвечать на вопрос о вере. Просвещенные философы, которых она уважала, не требовали от нее отказа от веры — просто вера должна быть совместима с разумом, что она интерпретировала как избегание крайностей и фанатизма, а также невмешательство религии в дела государства или в политику. Это ее прекрасно устраивало. Екатерина также серьезно воспринимала свое положение главы православной церкви в России. Церковь при правильном управлении обеспечивала стабильность государству. Ведущим принципом для Екатерины был порядок, и православная церковь с иерархией епископов, архимандритов, священников, дьяконов и с мирянами в роли послушных овечек вносила немалый вклад в упорядочивание мирного, хорошо отлаженного государства, где каждый знает свое место и соответственно вносит свою лепту в общее дело. Однако на обстоятельства личной жизни Екатерины религия, похоже, влияла в очень малой степени, и ответ, который она дала своему исповеднику, когда ее спросили, верит ли она, предполагает, что ее не подвергали детальной проверке совести при этих встречах. После коронации императрица вернулась в Грановитую палату для принятия присяги от придворных и раздачи наград, рангов и украшенных драгоценностями сабель. Григорий Орлов был назначен генерал-адъютантом, и все пять братьев Орловых были возвеличены до графского титула, как и Никита Панин. Тем вечером все здания Кремля были освещены, и в полночь Екатерина вышла на Красное крыльцо, где ее приветствовали громкими криками. По свидетельству французского посла барона де Бретейля, некоторые из этих приветствий имели сценическую постановку (коммунистические лидеры XX века, не первыми занявшие Кремль, переняли и предшествующий опыт в организации народного энтузиазма), и в какой-то момент постановка чуть не пошла насмарку:
«Случилось так: вместо того, чтобы кричать «Да здравствует императрица Екатерина Вторая», солдаты и народ начали кричать «Да здравствует император Павел Петрович», имея в виду великого князя. Двор, извещенный об ошибке в приветствиях, немедленно выслал офицеров, которые заставили всех замолчать, по-доброму объясняя солдатам, что императрица удостоверилась в их радости и попросила умерить на сегодня их пыл. Это маленькое обстоятельство вызвало панику в среде низших придворных чинов, но наказаний не последовало»{313}.
Затем наступила неделя веселья и праздников с кульминационным салютом 29 сентября. Праздники тем более удались, что первые шесть месяцев правления Екатерины (совпавшие со вторым полугодием траура по последней императрице Елизавете) публичные музыкальные представления были запрещены и при дворе, и по всей стране — по контрасту с нарочитым пренебрежением Петра к этому религиозному ритуалу. Исключение было сделано для коронации и последующих празднеств. На эти дни траур был отменен, чтобы радость и величие события лучше запомнились. Из Петербурга в Москву был отправлен Якоб Штеллин, чтобы поставить театральные представления, а Винченцо Манфредини написал новую оперу — «Olimpiade» с либретто итальянского поэта Пьетро Метастазио (который писал либретто для многих опер XVIII века). Она была поставлена на императорской сцене несколько раз. После коронационных празднеств музыка снова смолкла до конца года. Две вещи испортили Екатерине коронационные праздники и дни, непосредственно последовавшие за ними. Первое — это нескончаемые болезни великого князя Павла. Под конец празднований он сильно занемог и провел первые две недели октября в постели. Мать так переживала, что дала обет во имя сына подарить Москве народную больницу. Проницательная Екатерина вне зависимости от искренности своих тревог никогда не позволяла таким рекламным возможностям пройти мимо. Вторая причина для беспокойства возникла перед Екатериной 3 октября, когда Василий Шкурин доложил о заговоре среди измайловских гвардейцев, возглавляемом каким-то Петром Хрущовым. Екатерина немедленно приказала полковнику Кириллу Разумовскому провести секретное расследование в полку. В течение сорока восьми часов арестовали пятнадцать человек. Выяснилось, что некий капитан Иван Гурьев говорил о заговоре каких-то дворян, желавших посадить императором плененного Ивана VI. В заговоре участвовал брат Гурьева Семен; он выдумал историю о том, будто Ивана привезли из Шлиссельбурга, а побудила его к этому в основном зависть, так как он видел, что других награждают, а он ничего не получил — несмотря на то, что во время переворота Екатерины стоял на часах в Петергофе. По приказу Екатерины Петра Хрущова и Семена Гурьева били палками (батоги — форма наказания, при которой двое садятся на голову и на ноги распростертой жертвы и оба бьют по голой спине палками) — а вдруг они признаются еще в чем-нибудь, — но этого не произошло. Дознаватели заключили, что весь «заговор» представлял собой не более чем пьяное хвастовство и рекомендовали перевести одиннадцать человек в другие полки или дальние гарнизоны. Однако Екатерина потребовала более жестких приговоров в качестве меры устрашения, на что дознаватели ответили по-деловому, приговорив к смерти пятерых человек. Императрица передала эти приговоры в Сенат, который, как и следовало ожидать, смягчил их, осудив на смерть через обезглавливание только Петра Хрущова и Семена Гурьева. Екатерина еще более смягчила приговоры: Хрущова и Гурьева лишили рангов, дворянского статуса и фамилии; над их головами сломали шпаги и навечно сослали на Камчатку. Трое других так называемых заговорщиков были лишены рангов и приговорены к ссылке. Приговоры привели в исполнение 28 октября, и осужденных отправили в Сибирь. Екатерина сама участвовала в слишком большом количестве заговоров, чтобы не принимать их всерьез. Она быстро восстановила императорскую тайную полицию, хотя и под другим именем. Подтвердив аннулирование Тайной канцелярии и запрет анонимных доносов, она одновременно приказала, чтобы все дела, относящиеся к потенциальному восстанию или государственной измене, передавали в Сенат, в котором вскоре выделился Секретный отдел. Эта организация эффективно приняла на себя роль Тайной канцелярии и существовала во все время правления Екатерины. Граф Бэкингем, недавно сменивший Роберта Кейта на посту британского посла, 14 октября сообщил о видимых трудностях Екатерины: «Похоже, императрица в меланхолии. Прошлым вечером она пожаловалась мне в разговоре, что, как недавно вдруг обнаружила, уходит в себя, находясь в компании, и эта привычка постепенно крепнет в ней. Она не знает, почему»{314}. В этот день граф имел первую официальную личную аудиенцию с императрицей и представил ей свою аккредитацию. Вечером он вернулся ко двору, где, как доложил после, «имел честь играть в пикет с Ее величеством. Она задала мне много вопросов об Англии, и ее поведение в отношении меня всюду — и тут, и на аудиенции — было необычайно обходительным»{315}. (Это, безусловно, было большой честью, потому что пикет — карточная игра только для двоих.) Месяцем позже, после того как Бэкингем имел возможность понаблюдать за поведением различных официальных лиц в правительстве Екатерины, он написал о своих выводах в донесении графу Галифаксу:
«Канцлер [Николай Воронцов] имел вид и речь человека положения, но даже если у него и были какие-то возможности, они значительно ослабели; его ум вместе с телом слишком сильно расслабился, чтобы выполнять ту интенсивную работу, которой требовала ситуация… Вице-канцлер [Александр Голицын] так долго находился в Англии[32], что нет необходимости говорить о каких-то его чертах характера, способностях или связях. Мистер Бестужев стар, а выглядит еще старше; если он теперь и может вести дела, это не продлится долго: говорят, с ним советуются; а его отношения со мной по крайней мере подразумевают, что он так считает. Мистер Панин, который, похоже, более опытен, чем большинство русских министров высшего уровня, вероятно, пользуется доверием императрицы; но сама императрица, по моим наблюдениям и сведениям, которые я могу получить, по таланту, осведомленности и рвению значительно превосходит всех в этой стране»{316}.
Любовник императрицы Григорий Орлов приспосабливался к жизни фаворита императрицы, сильно отличающейся от роли тайного любовника великой княгини. Их взаимоотношения теперь были всем известны — хотя императрица очень редко демонстрировала их на публике, и, похоже, никто не знал, что Григорий был любовником Екатерины до переворота. Его присутствие возле Екатерины с начала 1761 года если и было замечено, то объяснялось результатом невостребованного обожания, как становится ясно из сообщения барона де Бретейля графу де Шуазелю. Барон был посвящен в отношения между Екатериной и Понятовским, будучи одним из тех, кто способствовал им в обмене корреспонденцией.
«Я не знаю, монсеньор, что выйдет из переписки, которую царица ведет с монсеньором Понятовским, но, кажется, больше нет сомнений, что она отстранила его в пользу монсеньора Орлова, которого сделала графом в день своей коронации… Он был влюблен в царицу в течение нескольких лет, и я помню, что однажды она указала мне на него как на любопытную личность и рассказала об экстравагантности его чувств. Но с тех пор он добился, чтобы она воспринимала его более серьезно. Кроме того, говорят, он дурак. Так как он говорит только по-русски, мне нелегко быстро сложить свое суждение — это свойство, глупость, едва ли редкость среди тех, кто окружает царицу в эти дни»{317}.
В ноябре барон отметил, что Григорий в отношениях с императрицей попал впросак, так как был настолько опрометчив, что проводил вне дворца все двадцать четыре часа в сутки, играя и пьянствуя. Отношения с Григорием быстро возбудили подозрение и ревность других придворных — не сексуальную и эмоциональную ревность, а зависть к почестям, которые оказывались ему и его братьям, вперемешку со страхом, вызванным их влиянием и доступом к императрице. Только Екатерина и сами Орловы знали всё о роли, сыгранной ими в перевороте. Поэтому блага, которые они пожинали ныне, казались непропорциональными сторонним наблюдателям, вообразившим, что Екатерина действует согласно своей внезапной — как казалось — безрассудной страсти к красавчику Орлову, выскочившему, как опять же казалось, ниоткуда на самое высокое положение. Беранже докладывал о противостоянии еще пятого июля:
«У меня нет времени, монсеньор, входить в детали интриг и политических маневров, которые проявляются уже при новом дворе. Они строятся против Орлова и тайно подготавливают его падение. Императрице потребуются все ее силы и таланты, чтобы предотвратить штормы, которые, как я вижу, зарождаются в ее окружении»{318}.
Несколькими месяцами позднее прусский атташе граф Солмс подводил итоги для Фридриха Великого, сообщая то, что, как ему казалось, он знал наверняка о фаворите Екатерины. Раздутая и неточная роль, отведенная тут княгине Дашковой, показывает, что часть информации поступила от нее:
«Этот человек,который сегодня играет принципиальную роль при русском дворе, был капитан-лейтенантом артиллерии во время последнего императора Петра III. Неспособный пробиться во влиятельные дома из-за своей страсти к игре и недостаточного богатства, он общался со своими товарищами и людьми значительно ниже себя. Сегодня, вероятно, можно найти мастеровых и лакеев, которые сидели с ним за одним столом. Его частые посещения игорных притонов и таверн позволили ему узнать чувства солдат и простого народа, и он готовил их умы к восстанию, которое уже планировалось. Княгиня Дашкова ввела его к императрице и сказала ей, что ему можно верить. Он очень ревностно проявил себя при подготовке мятежа и еще более неутомимо — после того, как переворот совершился. Его рвение было замечено, и благодарность, которую императрица, как она считала, была обязана ему выказать, плюс красивая фигура и доброе, располагающее лицо вскоре вывели его из безвестности. Он был осыпан богатством и почестями, и теперь он граф, камергер, генерал-лейтенант, адъютант Ее величества и рыцарь ордена святого Александра. Он живет при дворе, где оплачиваются все его расходы. Три [вот так] его брата пользуются его удачей и находятся под особой защитой Ее величества»{319}.
Тем временем Екатерина продолжала совершенствовать аппарат управления. Она обращалась с придворными и чиновниками примерно так же, как со своими сторонниками до переворота — очень мало кому из них позволялось видеть всю картину; каждый воображал, что пользуется более полным доверием императрицы, чем было на самом деле. Какое-то время Россия жила в мире. Новая императрица немедленно отменила и намечающуюся войну с Данией, и союз, который Петр заключил с Пруссией, уверив при этом пруссаков, что она не имеет намерений воевать с ними. Ее мирная политика проводилась с целью снять напряжение внутри страны и ослабить финансовую нагрузку, налагаемую вооруженным конфликтом. В качестве первого шага для смягчения осложненных отношений между церковью и государством Екатерина отменила Экономическую коллегию (государственный институт, ответственный за управление церковной собственностью) и назначила комиссию (что всегда полезно, дабы выиграть время) для проверки трудного вопроса секуляризации церковной и монастырской собственности. Затем, 27 ноября, она восстановила Коллегию под другим именем — как часть общей реформы, чтобы определить бюджеты и штаты всех духовных институтов. Многие духовные лица ворчали по поводу того, что сочли еще одним шагом к секуляризации — но не проявили активного протеста. В декабре Екатерина издала секретные приказы, согласно которым пытки стали применять очень редко, чтобы не страдали невиновные, и в том же месяце она отправила генерал-квартирмейстера князя Александра Вяземского в Казань с манифестом, призывающим к повиновению бунтующих крестьян, приписанных к фабричным работам на Урале. Вяземскому были также даны полномочия разобраться в жалобах бунтовщиков — но только после того, как добьется от них покорности. В этот период Никита Панин работал — как он считал, с одобрения императрицы — над планом создания совета министров для работы с Екатериной. Согласно этому плану она сохраняла власть назначать членов совета, но не могла увольнять их, и все ее декреты должны были подписываться ими. Екатерина спокойно позволила разрабатывать план дальше. Орловы намекали ей, что настоящая цель Панина — ввести конституцию аристократов, которая ограничит ее власть и вымостит путь для возведения на престол Павла. Но она явно полагала, что план, которым попытаются ограничить ее власть, при вмешательстве или без вмешательства Орловых, совершенно неприемлем. Как было уже перед ее возведением на трон, она позволяла Панину разрабатывать собственные теории, покуда сама осуществляла организационные ходы на шахматной доске своей империи. Со временем Панин понял, что она осторожно, но твердо контролирует его, предпочитая такой метод другим. По мнению графа Бэкингема, высказанному в одном из донесений, можно заключить, что канцлер Воронцов и вице-канцлер Голицын с тоской вспоминают старые добрые дни, когда государь ни во что не вмешивался: «Канцлер и вице-канцлер говорили о том, что Ее императорское величество вникает во столько дел, что это может оказаться пагубным для ее здоровья; что она имеет и составляет собственное мнение о каждой вещи»{320}. При русском дворе существовал по крайней мере один укоренившийся обычай, который невозможно было изменить быстро, что делает ясным донесение графа Бэкингема:
«Если торговый договор заключат на условиях, удобных для Его величества [то есть короля Георга III], я бы счел разумным, чтобы были сделаны подарки [Орловым], Бестужеву, Панину и вице-канцлеру… Должен добавить, что, возможно, расходы [именно так] подобного рода не абсолютно необходимы, но подарки тут используются очень широко»{321}. В том же месяце граф посетил «прием» при дворе, о котором доложил с энтузиазмом (уверенный, что его донесение будет перехвачено, а льстивая похвала — передана императрице):
«Перед императрицей во дворце, в самом замечательном зале, подходящем для этого случая, ставили русскую трагедию с актами, сценами и соответствующими декорациями. Предметом драмы была русская история, и насколько сложилось мое мнение после чтения неграмотного перевода на французский, чувства и диалоги составили бы честь любому автору в моей стране. Графиня Брюс играла главную роль — воодушевленно, легко, достойно, что редко встречается даже среди тех, кто вырос на сцене. Двух других герое в мило воплотили граф Орлов и сын последнего маршала Шувалова [это был Андрей Шувалов]. Фигура графа Орлова весьма впечатляет и немного напоминает графа Эррола. После пьесы состоялась танцевальная постановка в исполнении фрейлин и несколько первых знатных дам. Уверен, что не видел стольких красивых женщин никогда, ни на одной сцене, и должен добавить, что немногие страны могут дать стольких. Графиня Строганова, дочь великого канцлера, графиня Нарышкина, юная дама, сестра полковника Сиверса, который был в Англии, и дочь великого маршала выделялись в особенности. Оркестр состоял из мужчин. Элегантность и великолепие всего окружения были таковы, что хоть описание и может показаться тяжеловесным, ему просто приходится отдать должное»{322}.
Добрый граф не мог удержаться и не высказать удивления, что такое представление могло быть столь хорошо сыграно в стране, которая считалась в остальной «цивилизованной» Европе «задворками»:
«Если вспомнить, как мало лет прошло с тех пор, когда изящные искусства впервые появились в этой стране, и насколько значительную часть этого времени они почти не культивировались, кажется просто невероятным, что спектакль такого уровня мог быть задуман и поставлен за несколько недель»{323}.
Последний император Петр III нашел бы в этом мало необычного и действительно был бы доволен. В своем докладе о том же событии герцогу де Праслину барон де Бретейль обращает особое внимание на глубокую увлеченность Екатерины (как он видел) своим фаворитом:
«Страсть императрицы к графу Орлову, кажется, возрастает, и все предполагают, что он получит очень значительную власть над нею. Несколько дней тому назад, монсеньор, при дворе ставилась русская трагедия, в которой этот фаворит очень неуклюже играл главную роль. Эта княгиня [то есть императрица] была, тем не менее, настолько околдована чарами актера, что окликала меня несколько раз, чтобы сказать об этом и спросить моего мнения. Она зашла еще дальше с графом де Мерси [посол Вены], который сидел с ней рядом. Она вскрикивала по десять раз в каждой сцене, хвалила благородство и красоту Орлова, отпуская послу сверх всякой меры сотни мелких комментариев по поводу сердечных и умственных качеств своего любовника; затем, предположив, без сомнения, что недостаточно еще убедила венского посла, она сообщила ему, что граф Орлов намеренно прикидывается простачком, но те из ее придворных, кто попадается на это, слишком легковерны»{324}.
Во время празднования на улицах Москвы было устроено гигантское карнавальное шествие, названное «Минерва Триумфальная». Этот трехдневный спектакль включал процессию в милю длиной с участием четырех тысяч актеров и музыкантов. Начало процессии образовывали сценки «пьянство», «невежество», «обман», «продажность», «нужда» и «гордость». За ними следовали воплощения золотого века «мир» и «добродетель», к которым в заключение спускалась сама Минерва — императрица Екатерина II. Весной 1763 года противостояние церкви и государства по поводу секуляризации достигло апогея. Митрополит Ростовский Арсений, шестидесятипятилетний член Святого Синода, который много лет противостоял вмешательству государства в дела церкви, в начале марта выслал в Синод обвинение. Неделей позже о нем узнали другие члены Синода и, боясь испортить отношения с императрицей, приняли решение, что послание содержит оскорбления в адрес самодержицы. В Ростов Великий был отправлен офицер-гвардеец, чтобы привезти митрополита в Москву для допроса. Он прибыл под конвоем 17 марта. Допрос митрополита Арсения Синод производил ночью, чтобы сохранить дело в секрете. Члены Синода отказались принять возражение митрополита, что он не имел в виду оскорбить императрицу, и обращались с ним так, будто он замешан в заговоре против нее. Дознаватели пытались выяснить у него имена сообщников и сторонников. 7 апреля его исключили из Синода, сняли ранг и приговорили к заключению в северный монастырь, где ему было отказано в пере и чернилах. Императрица ответила на это событие восстановлением Экономической коллегии для секуляризации церковных земель, которые она объявила незаконно приобретенными и неверно содержащимися. Синод не смог протестовать, чтобы не оказаться на стороне опозоренного митрополита Арсения. В «весьма секретном» донесении от 15 марта граф Бакингем так прокомментировал явно растущее благоволение, демонстрируемое в отношении графа Орлова: «Ее императорское величество каждый день оказывает Орлову все новые знаки внимания. Ее склонность так велика, что оскорбляет тех, кто считает себя согласно своим рангам, ситуации и способностям более достойными ее благоволения»{325}. Он также пожаловался, что иностранные посланники до сих пор не могут разобраться, кто занимается иностранными делами:
«Похоже, все иностранные посланники одинаково в неведении, где искать министра иностранных дел. Мистер Панин первым после императрицы просматривает всю иностранную корреспонденцию, которая от него передается мистеру Бестужеву. Они мешают друг другу и любому другому; каждый достаточно весом, чтобы удерживать Ее императорское величество отрешения, но ни один из них не значим настолько, чтобы привести ее к решению»{326}.
К середине мая он решил, что ситуация при дворе ухудшается: «Люди всех сословий недовольны любезностями, оказываемыми семье Орловых, и выражают свое неудовлетворение более свободно, чем обычно принято в этой стране»{327}. Существовали опасения, что императрица, будучи вдовой детородного возраста, может поддаться уговорам Григория Орлова и выйти за него замуж. Если бы она это сделала, то не только позиция Павла как наследника оказалась бы в явной опасности, но и сама Екатерина — обычная женщина, как считали все мужчины вокруг нее, — неизбежно закончила бы разделом власти с мужем, если не передачей ему всей ее полноты. Сторонники Екатерины убирали с трона негодного царя не для того, чтобы, как они считали, оказаться под властью выскочки-гвардейца и его крепко пьющих драчунов-братьев. Остается под вопросом, хотела ли когда-нибудь сама Екатерина выйти замуж за Григория. Она была жестко настроена удержать власть и планировала пользоваться ею предельно аккуратно. Невозможно было даже подумать, что она добровольно поставит себя в положение, когда может лишиться власти хотя бы частично. Но в то же время она была женщиной, которой нужен был мужчина, и на этом этапе жизни она целиком зависела от Григория в эмоциональном плане, а также нуждалась в его компании для отдыха и возможности отложить в сторону дела государства в конце каждого рабочего дня. Она чувствовала также, что необычайно обязана Григорию и его братьям. Она все еще продолжала учиться управлять своей личной жизнью — которая никогда больше не могла уже быть по-настоящему личной, — учитывая требования трона. Горячность некоторых членов оппозиции при упоминании ее возможной свадьбы с Григорием Орловым пугала ее и заставляла понять — если она когда-либо сомневалась в этом, — что ее личная жизнь стала частью ее политической жизни. Оставаться незамужней было гораздо более разумным вариантом для самодержицы, которая хочет обладать всей полнотой власти. Она поняла также, что слухи о женитьбе могут стать опасными для ее любовника. 26 мая Григорий составил для Екатерины несколько записок, касающихся заговора, где центральной фигурой был некто Федор Хитров (или Хитрово), являвшийся первоначально сторонником Екатерины и участником свержения Петра. Согласно сообщению Григория, Хитрово беседовал с несколькими офицерами и другими лицами, включая княгиню Дашкову, о том, что следует сделать, если императрица решит выйти замуж за Орлова. Самого Григория они считали «глупым» и не особо принимали в расчет — но его брат Алексей рассматривался как «крупный негодяй и причина всего дела»{328}. Хитрово предлагал ни больше ни меньше как убить всех пятерых братьев. Он заявлял также, что Екатерина обещала Панину перед возведением на престол править только как регент — обещание это она, едва о нем услышав, яростно отрицала. Хитрово был арестован и со временем сослан в свое поместье. 7 июня прусский атташе граф Солмс, один из самых оперативных дипломатов того времени, написал Фридриху Великому, дабы ознакомить его с выявившимся недовольством, обычном при русском дворе, и назвал княгиню Дашкову основным фокусом интриги и оппозиции:
«[Княгиня Дашкова] потеряла доверие и дружбу государыни. Ее заставили покинуть дворец, где она жила. Теперь она находится в городе и не появляется при дворе — за исключением редчайших крупных событий. Эта романтического склада женщина, жаждущая сделать себе имя в истории и видеть статуи, поставленные ей при жизни, не смогла перенести афронта, направленного на нее. Она считает отношение к ней императрицы неблагодарностью и, окруженная в своем доме красивыми остряками и льстецами, принимает всех тех, кто имеет причину быть недовольным двором. Она относится к тому типу женщин, которые способны устраивать революцию каждую неделю из простого удовольствия»{329}.
Солмс сообщает слух — якобы Екатерина Дашкова на самом деле дочь Никиты Панина. Свидетельством этого, похоже, он считал то, что они много времени проводили вместе и что Панин относился к горячей молодой княгине по-отечески, пытаясь урезонить наиболее пылкие полеты ее фантазии. Панин действительно любил компанию красивых молодых женщин — это была его особая слабость, — а Дашкова хорошо ладила с теми, кто делал ее центром внимания. По словам Солмса, Панин и императрица почувствовали себя разочарованными друг в друге после нескольких первых месяцев оптимизма:
«В те первые дни [Панин] был душой совета, и императрица, зная его рвение к народному благополучию и его бескорыстие, не могла ввериться лучшей персоне, так как он разделял все взгляды Екатерины на реформы, считая их необходимыми… Он пытался вести множество дел сразу, но до сих пор ни одно не было доведено до конца. Новые законы мешались со старыми ошибками, и дела превращались в такую путаницу, что желавшие приносить пользу делали это с тем же успехом, что и раньше. Эффект не соответствовал обещанному. Императрица, естественно, утрачивала высокое мнение о нем и консультировалась теперь с другими людьми, такими как Бестужев, который лелеял старую обиду и придирки, или Суворов — грубый и невежественный человек. Обращалась она и к Шаховскому и Неплюеву — оба были сенаторами, интеллигентными людьми, но не обладали знаниями, и единственной их заслугой была непредвзятость и неподкупность»{330}.
Солмс не мог не видеть, но не сумел осознать, что Екатерина весь первый год своего правления работала над тем, чтобы собрать вокруг себя талантливых людей. Она решила не спешить со столь важным делом и все еще находилась в процессе составления различных комбинаций, прежде чем сделать окончательный выбор. Экс-канцлер Бестужев, как понял Солмс, слишком состарился за время ссылки, чтобы занимать ответственный пост:
«Я сам заметил во время тривиального разговора, который у меня состоялся с ним при дворе, что он не в состоянии сконцентрироваться на речи, не повторяясь, и забывает к концу, что говорил в начале. К тому же считают, что он, кроме того, каждый день топит себя в вине и жидкостях покрепче. У него осталось мало здравого смысла, и невозможно понять, как старик умудряется получать столько почестей»{331}.
В конце первого года пребывания Екатерины на императорском троне граф Солмс подводит итоги следующим образом:
«Возвращаясь к источнику неудовлетворенности настоящим правительством, можно найти три причины, которые я указывал: необычайная скорость общей реформы, плохой выбор доверенных лиц, страсть к фавориту. Это последнее приводит к тому, что императрица в глазах народа начала утрачивать лучшее из своих качеств на начало правления — превосходство духа. Теперь в ней видят только женщину, которая любит удовольствия и плотские утехи, а потому раньше или позже отдаст себя в руки любовника и препоручит ему бразды правления. Результат второй из перечисленных причин в том, что никто по-настоящему не привязан к Ее величеству, и она не может считать, будто имеет друзей среди людей положения, поскольку не выказывает одобрения за службу никому, единственно кроме семьи Орловых (которая в империи не имеет ни доверия, ни поддержки), и не дарит доверием никого, за исключением нескольких человек, причем тех, кто не пользуется уважением у публики. Огромное количество народа и первые люди страны вовсе не заинтересованы в сотрудничестве с ней. Самые мудрые и умеренные среди них ищут причин оставаться вдали от двора и пытаются, если могут, получить разрешение покинуть страну, чтобы найти укрытие от шторма, которого опасаются и ждут. Наконец, первая причина оживляет воспоминания, которые служат памяти последнего императора. Речь о новациях в армии, о воспроизведении войск Вашего величества и изменении формы офицеров путем добавления отворотов и полосок на плечах; речь о проекте конфискации церковных земель и нескольких других новых законах, которые несут те же идеи, что имела и умершая персона. Те самые вещи, что вменялись ему в вину как преступления, его преемница, выхватив у него скипетр, внедряет во славу себе. Идеи, которые начинают прорастать в народе, может быть, тем опаснее для императрицы, что она имеет в лице своего сына, великого князя Павла, соперника, у которого все признают более основательные права на российский престол, чем у нее. Все, что требуется — это горячая голова, и тогда в России предстоит снова увидеть трагедию вроде случившейся в этом году. Актеров, которые принимали участие в той трагедии, можно, вероятно, уговорить принять такое же участие и теперь, тем более что намерения нескольких из них, и даже самого Панина — по крайней мере, так говорят, — сводились к тому, чтобы дать императрице только регентство и возложить высшую власть на великого князя Павла. Но она сумела умно извлечь пользу из первичного энтузиазма и захватить первое место, в то время как ей было предназначено лишь второе. Такова, сир, настоящая ситуация при этом дворе»{332}. Затем граф Солмс рискнул сделать предсказание:
«Если мнение приобретет вес благодаря единодушному согласию, тогда наверняка царствование императрицы Екатерины II, как и царствование императора, ее мужа, будет лишь кратким явлением в истории мира»{333}.
8. Екатерина принимается за работу (1763–1767)
Моя единственная цель — это величайшее благополучие и слава Родины.28 июня 1763 года, в первую годовщину ее восшествия на престол и после почти десяти месяцев, проведенных в Москве, Екатерина с великим князем Павлом торжественно вернулась в Санкт-Петербург в своей императорской карете. Перед каретой скакало двадцать шесть верховых, позади следовали экипажи основных придворных; каждый был одет по обычаям того сословия, к которому принадлежал. Граф Григорий Орлов в форме командующего артиллерией (назначение он получил в этом году) скакал следом за императорской каретой во главе отряда конных гвардейцев, а за ними следовали в своих каретах главные придворные дамы. Второй отряд конных гвардейцев замыкал кавалькаду. Огромная толпа выстроилась вдоль улиц, чтобы приветствовать свою императрицу, возвращающуюся в столицу. Останавливаясь по пути в разных местах, чтобы принять приветствия членов правительственных Коллегий, Екатерина к семи вечера прибыла наконец в Летний дворец, где на ступенях ее ждали иностранные посланники, чтобы поздравить с благополучным возвращением. Первым делом она прошла в церковь для совершения молитвы, а затем — в тронный зал для церемонии целования руки, после чего ушла в свои апартаменты. Она появилась снова около половины двенадцатого, и в сопровождении иностранных посланников и придворных проследовала в конец сада, чтобы увидеть фейерверк над Невой. На следующий день (день святых Петра и Павла и, таким образом, именины великого князя, так же как и его отца) Екатерина с Павлом посетили литургию в Петропавловском соборе. Вечером при дворе состоялись бал и ужин, а день был отмечен раздачей всяческих наград и подарков людям, которые поддерживали императрицу в первый год ее правления. В конце 1763 года Екатерина сосредоточилась на приведении своей администрации в полностью рабочее состояние, делая назначения, издавая указания и время от времени раздавая выговоры. Она вручила своему фавориту первую административную должность — начальника новой канцелярии по опеке иностранцев, чьей задачей было руководить иммиграцией жителей, в основном немцев, для заселения южных территорий империи. Это назначение было придумано, чтобы проверить способности Григория — он показал себя умелым и энергичным администратором, — а также занять его и свести к минимуму зависть действующих чиновников. Так как пост был абсолютно новым, никто не мог пожаловаться, что Григорий занял его место. Екатерина также назначила брата Григория, Федора, наблюдать заседания Сената с его каждодневной работой для подготовки к возможному административному назначению. Еще один ее протеже, Григорий Потемкин, который проявлял повышенный интерес к религиозным и теологическим вопросам, был назначен на такую же должность при Святейшем Синоде. Эти двое, изучая суть работы, служили также полезными источниками информации, поскольку докладывали императрице об имевших место дебатах. Бестужев стал слишком стар, чтобы получить назначение на официальный пост, но Екатерина держала старика при дворе, учитывая и признавая прошлые заслуги. Он умер 9 апреля 1766 года. В сентябре 1763 года Екатерина издала инструкцию, регламентирующую, когда каждому из ее министров следует являться в ее личный кабинет. Григорий Теплов (который вместе с Иваном Елагиным помогал императрице составлять декреты) имел аудиенцию каждые понедельник и среду в восемь часов утра. Вторник и четверг были оставлены для Адама Олсуфьева (который возглавлял кабинет по приему петиций и расходованию денег), а пятница и суббота достались Елагину (который также работал ее личным секретарем). К этим троим вскоре присоединились еще три государственных секретаря: Сергей Кузьмин, Григорий Козицкий и Степан Стрекалов{334}. Екатерина быстро разработала схему своего рабочего дня, каковой с небольшими вариациями придерживалась в течение всего периода своего правления. Она описала ее в письме хозяйке парижского светского салона и старому другу Станислава Понятовского мадам Жоффрен:Екатерина II —генерал-прокурору Вяземскому
«Встаю я регулярно в шесть часов утра, читаю и пишу в одиночестве до восьми, затем кто-нибудь приходит зачитывать мне деловые бумаги, далее приходит любой, кому нужно поговорить со мной, один за другим, и длится это до одиннадцати, когда мне пора одеваться. В воскресенье и в праздничные дни я иду к мессе, в другие дни выхожу в вестибюль, где меня ожидает обычно много людей; после разговора, получасового или в течение трех четвертей часа, я сажусь обедать, после чего противный генерал [мадам Жоффрен называла так Ивана Бецкого, который провел много времени в Париже и был ее другом] приходит просвещать меня: он берет книгу, а я беру свои узелки[33]. Если наше чтение не прерывается пачками писем или другими помехами, оно длится до половины шестого, когда я или иду на спектакль, или играю, или болтаю с первым попавшимся, пришедшим на ужин. Ужин заканчивается до одиннадцати часов, и тогда я отправляюсь спать, чтобы проделывать все то же самое на следующий день — и все это выполняется жестко, как предписание врача»{335}.
Часто Екатерине приходилось заставлять своих чиновников работать так же много, как работала она сама. 3 августа она написала в Сенат, указав, что сенаторы не провели еще ее устных и письменных эдиктов. Она приложила список из ста сорока восьми личных указаний, которые не были выполнены, и приказала сенаторам заседать не только с 8:30 утра до 12:30, но также три раза в неделю после полудня, пока задолженности не будут отработаны. Некоторое время в 1764 году она писала Елагину, адресуясь к нему по отчеству:
«Послушай, Перфильевич, если к концу этой недели ты не принесешь мне законченные инструкции, или статуты губернаторских обязанностей, или манифест против шкуродеров и по делу Бекетова, я ославлю тебя самым ленивым человеком в мире и сообщу, что нет никого, кто бы так затягивал столько доверенных ему дел, как это делаешь ты»{336}.
Леность не была одним из пороков генерала Бецкого, но он и удивлял, и раздражал Екатерину тем, что сваливал все подряд на ее мебель (об этом она писала мадам Жоффрен, благодаря ту за полученный в подарок маленький столик):
«Я не допущу, чтобы этот прелестный маленький столик постигла судьба всех других, которые находятся в моей комнате и которые уже едва не падают под весом того, что на них лежит. Время от времени я прошу принести новый стол и говорю, что на этот раз буду держать его свободным — но эта попытка бесполезна, и я уверена, что через несколько дней он будет завален: весь мир вносит в это свою лепту, и генерал больше всех. Он начинает, положив свою книгу и увеличительную лупу, затем кладет карту, несколько манускриптов, несколько конвертов, свои письма; наконец, резные и обычные камни, часто те, что находит на улице под ногами, и заканчивает, говоря: «О, мадам! В вашей комнате никогда не найти уголочка, где можно что-либо положить!»{337}
Граф Никита Панин в октябре 1763 года был формально назначен главным членом Коллегии иностранных дел, и он же в первую очередь влиял на проведение русской внешней политики. Это означало, что он активно исполнял обязанности канцлера — но Екатерина не собиралась давать этого звания ни ему, ни кому-либо другому в своей администрации, делая таким образом ясным для своих придворных и чиновников, что основная власть во всех сферах принадлежит ей. Роль существующего канцлера Михаила Воронцова постепенно уменьшалась, пока фактически не свелась к нулю, и он никогда больше не был официально заменен. Несмотря на значительные обязанности в сфере иностранных дел, Панин сохранял также пост воспитателя Павла, или, согласно формальному титулованию, являлся великим магистром двора великого князя. Это обеспечивало ему надежное положение при дворе и апартаменты в различных императорских дворцах. Его двойная роль приводила, однако, к досадным проволочкам в ведении иностранных дел, как объяснял Бэкингем графу Сэндвичу:
«Страшные задержки всех дел при этом дворе станут казаться менее необычайными, если знать, что всеми делами Коллегии иностранных дел руководит мистер Панин (что касается вице-канцлера, то он скорее запутывал дела, чем помогал ему, даже в тех пустяках, в которые ему позволялось вмешиваться), потому что он также занимается воспитанием великого князя, руководя его образованием, почти повсюду сопровождая его, обедая с ним и живя в той же комнате. Добавьте еще к этому, что он, разумный и достойный человек, давно привыкший к ведению дел, ленится рассматривать дела и утомляется, волнуясь по поводу них. У него слабая конституция, он склонен к удовольствиям и развлечениям. Когда Ваша светлость учтет эти обстоятельства… вы поймете, что задержки в некотором роде извинительны»{338}.
Через много лет, уже после смерти Панина, Екатерина рассказала Фридриху Мельхиору Гримму следующий анекдот:
«Граф Панин, говоря через нос и произнося «гм, гм» в каждой паузе, обычно произносил: «Короли, короли… это неизбежные дьяволы, без которых не обойтись», а когда я жаловалась, что то или иное дело не идет должным образом, он отвечал мне: «На что вы жалуетесь? Если бы все были безупречны или могли стать безупречными, мы не нуждались бы в королях»{339}.
Екатерину и Панина объединяли рабочие отношения, при которых каждый продолжал настороженно относиться к другому, прекрасно зная о его одаренности. И каждый постоянно пытался взять верх. Императрица уже в первые годы правления понимала, что этого человека необходимо держать возле себя — иначе он станет мощным центром оппозиции. 12 ноября Екатерина издала декрет о создании Медицинской школы, задачей которой было распространение медицинских услуг среди всего населения и увеличение количества русских докторов и другого медицинского персонала, а кроме того — установление надзора за работой аптек. Первым президентом школы стал барон Александр Черкасов. В декабре секретарь Сената Степан Шешковский начал работать в Тайном отделе. Определенный характер его обязанностей тщательно скрывался от публики. В конце года Екатерина решилась на одно из своих самых важных и успешных назначений, заменив Александра Глебова на посту генерал-прокурора Сената князем Александром Вяземским (которого уже использовала для усмирения крестьянских волнений на Урале). Вяземский оставался на этом посту, тесно сотрудничая с Екатериной, большую часть ее царствования. В начале 1764 года она познакомила Вяземского с детальными — и крайне секретными — инструкциями о его новой роли. Этот документ написан по-русски, так же как большинство официальных государственных бумаг и большая часть того, что Екатерина писала своим министрам. Он позволяет окинуть любопытным взглядом работу русского правительства и демонстрирует, насколько пристально Екатерина наблюдала за своими чиновниками и чертами их характера — а во многих случаях их недостатками. В последние месяцы работы Александр Глебов не оправдал ожиданий Екатерины в качестве генерал-прокурора — по причине своего эгоизма и отсутствия открытости и искренности по отношению к ней. Более того — он, по ее мнению, был испорчен общением в юности с последним графом Петром Шуваловым. Екатерина объяснила Вяземскому, чего ему ждать от нее:
«Если я вижу, что вы лояльны, усердно работаете, открыты и искренни, тогда можете быть уверены в моем неизменном доверии. Кроме того, я люблю правду, и вы должны свободно, не боясь, говорить ее; вы можете спорить со мной без опасения, если конечный результат будет хорош. Я слышу, что все считают вас честным человеком, и я надеюсь показать вам, что люди с такими качествами ценятся при моем дворе. Более того, я добавила бы, что не жду от вас лести — лишь искренности и настойчивого отношения к делу»{340}.
Екатерина сказала ему, что он найдет в Сенате две «партии», но что важно не обращать слишком большого внимания ни на одну из них, так как ни одна не будет сильной. Со временем они исчезнут. «Я наблюдаю за ними не мигая, — писала Екатерина, — и использую людей согласно их способностям»{341}. Она предупреждала Вяземского:
«В одних вы найдете прекрасных людей с высокой моралью, но не очень прозорливым интеллектом; другие, думаю, видят дальше, но я не уверена, что они применят свое видение на пользу дела… Вы не должны благоволить ни одним, ни другим; обращайтесь со всеми вежливо и непредвзято, выслушивайте каждого и, руководствуясь лишь диктатом справедливости и выгоды для страны, твердо двигайтесь самым кратким путем к правде. Спрашивайте меня обо всем, в чем неуверены, и целиком полагайтесь на Бога и на меня; видя преданное поведение в отношении себя, я не предам вас»{342}.
Екатерина поняла, что текущие проблемы Сената частично вызваны «отсутствием стремления к работе нескольких моих предшественников»{343}. В результате сенаторы привыкли вмешиваться в дела, которые их не касались, — такие, как распределение наград, — и злоупотреблять своей властью. Она также предупредила Вяземского, что его, очень вероятно, попытается обмануть «мелкая рыбешка» — клерки, которые работают на Сенат. Самый легкий способ справиться с ними, — предложила она, — просто увольнять их. Четырнадцатого сентября 1763 года клятва Екатерины, данная в предыдущем году, была реализована открытием на окраине Москвы, в деревянном доме, принадлежавшем ранее Александру Глебову, Павловской больницы. Сначала там было двадцать пять коек и три сотрудника. Финансируемая исключительно Екатериной, она предлагала бесплатное лечение для излечимых бедняков обоего пола. Затем, 21 апреля 1764 года, на тридцатипятилетие Екатерины, были открыты Дом подкидыша и родильный дом[34] для незамужних и сильно нуждающихся матерей. Желая прекратить детоубийства (и воодушевленная британской и европейской моделями, такими, как Дом подкидыша Томаса Корама в Лондоне и Ospedale della Pieta в Венеции), она открыла пятиэтажный Дом подкидыша, в котором принимали детей, не задавая никаких вопросов. Он имел также церковь и молочную ферму с восемью десятками коров. Мать могла позвонить в дверной колокольчик; спускалась корзина, в которую она клала ребенка с запиской, указывающей его имя и был ли он крещен. Затем корзина поднималась наверх, и женщина уходила своей дорогой. К концу 1764 года в Дом поступили пятьсот двадцать три младенца, а в больнице за год приняли четырнадцать родов. Однако смертность в Доме была тревожно высокой. В результате его, как и появившийся позднее двойник этого Дома в Петербурге, стали называть «фабрикой ангелов». Выжившие дети получали хорошее образование и, похоже, были вполне удачливы. Тесно взаимодействовал с Екатериной в организации и управлении Дома подкидыша и родильного дома Иван Бецкой, чиновник и друг (и бывший любовник ее матери), который обычно читал ей в полдень книги. Другим крупным проектом, над которым они вместе работали, был Смольный институт — пансионат для девочек, основанный в Смольном монастыре (построенном Растрелли для императрицы Елизаветы на юго-западном берегу Невы), который взял за образец заведение мадам де Мантенон в Сен-Сире; это заведение Екатерина давно мечтала превзойти. Деятельность Екатерины как собирателя произведений искусства началась также в 1764 году — с покупки двухсот двадцати пяти картин старых мастеров у берлинского торговца Иоганна Гоцковского. В основном это были фламандские и датские мастера, в том числе «Портрет молодого мужчины с перчаткой» Франса Хальса, а также «Польский дворянин» и «Иосиф, обвиняемый женой Потифара» Рембрандта. Первоначально эти картины собирались по указанию Фридриха Великого, но в конце Семилетней войны экономическое положение Пруссии стало таковым, что он не смог выкупить их. Цели Екатерины при их покупке были и политическими, и художественными: она намеревалась продемонстрировать всей Европе превосходство России. Петр Великий и Елизавета оба собирали произведения искусства — но именно с Екатерины началось систематическое коллекционирование. С этой первой крупной покупки у Гоцковского началась знаменитая коллекция, которая стала синонимом слова «Эрмитаж». В том же году началось строительство Академии художеств на Васильевском острове по проекту французского архитектора Жана-Батиста Вален-Деламота, одного из первых сохранившихся в России зданий в стиле классицизма. Екатерина была под таким впечатлением от таланта архитектора, что пригласила его произвести первое расширение Зимнего дворца — Малый Эрмитаж, который соединялся с основным дворцом крытым мостиком и предназначен был стать личным дворцом, где императрица могла бы без церемоний принимать друзей и размещать увеличивающуюся коллекцию картин. Отношения между Екатериной и Григорием Орловым теперь вошли в рамки придворной жизни, вызывая постоянное скрытое недовольство — но без особого беспокойства. Больше не было серьезных разговоров об их женитьбе. По возвращению в Зимний дворец осенью 1763 года Екатерина заняла комнаты в юго-восточном крыле первого этажа, в которых раньше жил Петр III с Елизаветой Воронцовой, и превратила их в свои личные апартаменты. Григорию предоставили покои над ее собственными, так что любовники могли посещать друг друга по потайной лестнице. 19 сентября граф Бэкингем при посещении Орлова неожиданно столкнулся с императрицей. «Она вошла в незаметную дверь; он ушел, и отсутствовал почти все время визита. Она пробыла там примерно полчаса»{344}. Первый любовник Екатерины, Сергей Салтыков, теперь служил в качестве полномочного посланника. Он написал ей из Парижа в апреле 1764 года, благодаря за деньги (20 000 рублей), которые ему послали, чтобы оплатить долги, и прося, чтобы ему заодно выплатили его оклад и расходы за прошлый год. Никита Панин подтвердил, что эти деньги высланы, и спросил Екатерину, не послать ли Салтыкова к саксонскому двору. Мнение о нем у Екатерины было невысоким. Она ответила Панину: «Разве он уже и так не попал в приличную беду? Если выручаетесь за него, то посылайте, но только где бы он ни был, он всегда будет у телеги пятым колесом»{345}. Разрабатывались также планы использования Станислава Понятовского ко благу России — и его собственному. Король Польши Август III умер 25 сентября 1763 года, вызвав волнение в среде правителей Европы, которые хотели расширить свое влияние в этой стране. Екатерина написала Панину: «Не смейтесь надо мной, но я подпрыгнула на стуле, когда услышала новость о смерти короля Польского. Король Пруссии наверняка выскочил из-за стола, когда услышал это»{346}. Племянник Панина через женитьбу, князь Репнин, немедленно был отправлен в Варшаву с указанием предложить Станислава Понятовского как кандидата России при назначении следующего короля. Репнин и русский посол в Варшаве граф Кейзерлинг были уполномочены припугнуть военной силой и даже аннексией польских территорий, если возникнут возражения по поводу кандидатуры Понятовского. Уже десятилетия Россия осуществляла неформальный патронаж Польши — с тех пор, как Петр Великий гарантировал соблюдение ее конституции 1716 года. Сама Екатерина пренебрежительно относилась к этой стране и ее хаотической системе управления (особенно по поводу права veto, которое позволяло любому члену Сейма запретить прохождение любого закона); это отношение включало в себя и презрение к воинствующему католицизму. Она считала также, что ее бывший любовник имеет слабый характер, и в результате будет зависеть от нее. 26 августа 1764 года Понятовского единогласно (в присутствии русских и польских войск, чтобы голосование наверняка прошло правильно) избрали королем Польши. Он взял имя Станислав II Август. Екатерина с триумфом письменно сообщила Никите Панину об их общем достижении (и заодно пожаловалась на боль в спине):
«Дорогой Никита Иванович! Поздравляю вас с королем, которого мы сделали. Это событие сильно повысило мое доверие к вам, так как я вижу, что в предпринятых вами мерах нет ошибок. Хотела бы, чтобы вы знали, как я довольна этим обстоятельством. У меня такая сильная боль в спине, что я не в состоянии долго держать в руке перо, поэтому, пожалуйста, напишите графу Кейзерлингу и князю Репнину за меня, скажите, что я довольна их работой и усердием, которым они заслужили немалую славу себе и нам; а другое письмо за моей подписью (в ответ на его) подготовьте новому королю. Или у меня в спине ревматизм, или я умираю. Боюсь, это может быть камень; но так как после бани вроде бы полегчало, может быть, это только простуда»{347}.
Понятовский был коронован в Варшаве 14 ноября. Во время беседы о Польше за обеденным столом великого князя, к которому Панин часто приглашал сенаторов, генералов и старших чиновников, включая иностранных посланников, маленький Павел сделал замечание, которое продемонстрировало, что он заслуженно станет императором, когда достигнет совершеннолетия. Граф Бэкингем сообщил об этом инциденте, который, должно быть, имел место незадолго до смерти Августа III, графу Сэндвичу:
«Когда я говорю о Польше, то испытываю искушение упомянуть кое-что овеликом князе. Он обедал в большой компании, и во время общего разговора спросил иностранного посланника, находившегося за столом, о возрасте короля Польши. Тот ответил — шестьдесят семь лет. Тогда, ответил великий князь, он может прожить еще лет десять, и если это произойдет, я сделаю вас королем Польши. Ваша светлость легко может вообразить, какое впечатление это заявление произвело на всю компанию. Мистер Панин в особенности был поражен и некоторое время не поднимал глаз»{348}.
Мистер Панин вполне мог не поднимать глаз, так как, вероятно, он и был в ответе за уверенность великого князя в своем будущем — эта вера определенно не санкционировалась императрицей: она наверняка была бы недовольна, если бы услышала такое. За образованием великого князя, которое включало языки, историю, географию, математику, рисование, танцы, фехтование и музыку, тщательно следили. Выдающийся математик и ученый Франц Эпиню, который преподавал также в кадетском корпусе, учил его физике и астрономии; естественным наукам и математике его учил выпускник этого корпуса Семен Порошин. Религию преподавал архимандрит (позднее митрополит) Платон, один из самых просвещенных и известных священников России. Катехизис, который он подготовил для Павла, был переведен и опубликован по всей Европе; он внушил великому князю сильное чувство, что он призван Богом править Россией. Екатерина попыталась (безуспешно) уговорить французского философа Жана ле Рона д’Аламбера приехать в Россию учить Павла, но тот вежливо и твердо отклонил предложение (саркастически заметив своим друзьям, что страдает от геморроя — который в России является смертельным). Обучение военному искусству не играло особой роли в образовании Павла — лишь в той мере, в какой оно вторгалось в дипломатию и финансы. Однако он рано стал проявлять унаследованную от Петра III страсть ко всему, связанному с солдатами, оружием, формой и парадами. Это пристрастие, которое было гораздо сильнее нормального мальчишеского энтузиазма и абсолютно не поддерживалось глубоко штатским графом Паниным, является, вероятно; одним из самых сильных указаний на то, что Павел действительно был сыном Петра. Танцевать Павла учил балетмейстер Франц Гилфердинг, и его участие в 1764 году в балете по легенде об Акиде и Галатее, в котором он танцевал партию бога Гименея, поразило всех. Он танцевал «так очаровательно, так уверенно и профессионально, что вызвал бурные аплодисменты, которые продолжались и продолжались, так что из-за них оркестр, состоявший в основном из дворян-любителей, был едва слышен»{349}. Маленький мальчик вовсе не всегда был таким очаровательным, что следует из записей в дневнике Семена Порошина. В четверг седьмого октября 1764 года…
«Его высочество проснулся в шесть часов. Завершив туалет, он начал занятия… Поиграл в бадминтон в перерыв… В шесть часов вечера он захотел пойти в театр. Ставили французскую пьесу «L’Ecole des femmes»… Его высочество несколько раз аплодировал… Дважды публика начинала хлопать, не ожидая его, он из-за этого сердился. Дома он все еще продолжал ворчать… «В будущем я попрошу разрешения выводить тех, кто аплодирует в моем присутствии, когда я этого не делаю. Так быть не должно»{350}. Это было раннее указание на характер будущего Павла I. 15 ноября он дурно обошелся с Порошиным, который записал:
«Сегодня у меня болел палец, и кроме того, я никогда не любил резать блюда за столом. Чтобы позабавиться, Его высочество намеренно переслал мне все блюда, чтобы я разрезал их и раздал. Затем он заявил, прыгая на стуле, как делает всегда, будучи в хорошем настроении: «Бедный Порошин, посмотрите, как тяжело он сегодня работает!»{351}
В начале мая 1764 года некий лейтенант Василий Мирович, служивший в Шлиссельбургской крепости, начал составлять совместно с товарищем, офицером Аполлоном Ушаковым, план освобождения из заключения Ивана VI, чтобы объявить его в Петербурге императором, пока Екатерина производит инспекцию прибалтийских провинций, намеченную на конец июня. Граф Бэкингем уже определил бывшего дитя-императора, о котором, по его признанию, донесения были весьма противоречивыми, как возможную причину раскола: «Многие утверждают, что он абсолютный идиот; другие, наоборот, заявляют, что он выделяется только нежеланием получать образование и что, зная прекрасно о своем положении, он по политическим соображениям прячет свои способности»{352}. Как эти «многие» могли получить информацию о молодом человеке, который почти всю свою жизнь провел в тюрьме, фактически в одиночестве, не объясняется. Как обычно, это были слухи, выдаваемые за истину. Лейтенант Мирович родился в Сибири. Он был сыном ссыльного дворянина и внуком казацкого офицера, который участвовал в бунте против Петра Великого. Украинский патриот, Мирович жаждал восстановить счастье и положение своей семьи. Он вступил в армию, и во время переворота Екатерины стоял в Санкт-Петербурге. Он делал бесконечные попытки вернуть украинские земли, конфискованные у его семьи, хотя Кирилл Разумовский, гетман Украины, уверял его, что дело безнадежно. Когда его полк перевели в Шлиссельбург, он начал проявлять интерес к «Безымянному узнику № 1» — свергнутому Ивану VI, известному солдатам под именем «Иванушка». Никите Панину была доверена организация безопасности Ивана. Екатерина надеялась уговорить молодого человека уйти в монахи, что вывело бы его из числа претендентов на трон, и офицеры, руководившие охраной, должны были стараться подталкивать его в этом направлении. Другой удобной возможностью избавиться от него была бы его смерть по естественной причине, и ему нарочно отказывали в медицинской помощи в надежде помочь природе. Но Панин также подкрепил приказы, отданные императрицей Елизаветой и подтвержденные Петром III — в случае любой попытки к бегству заключенный должен быть убит. То, что эта инструкция была снова подтверждена министром Екатерины, никогда, однако, не было опубликовано. По плану Мировича, Аполлон Ушаков должен был прибыть в Шлиссельбург на лодке ночью, когда в карауле будет стоять Мирович. Ушаков представится курьером от императрицы, привезшим декрет о немедленном освобождении Ивана, который Мирович затем объявит солдатам. Вместе они арестуют коменданта крепости и освободят узника. Затем заговорщики перевезут Ивана и его сторонников вниз по Неве в Петербург, где войска и народ принесут ему клятву верности. Амбициозный план начал срываться с самого начала, так как Ушакову пришлось покинуть Петербург. Неожиданно ему было приказано присоединиться к группе, везшей в Смоленск армейские деньги. По пути он или заболел, или прикинулся больным, и повернул назад в Петербург. Но по дороге он утонул в реке — то ли случайность, то ли самоубийство. Получив известие, Мирович попытался уговорить нескольких слуг и солдат присоединиться к его сумасшедшему предприятию, но потом решил, что будет действовать в одиночку. 20 июня Екатерина отправилась по маршруту Эстония — Ливония, чтобы укрепить свою власть в империи. Граф Солмс доложил Фридриху Великому: «В части народа существует сильное недовольство и брожение, и со стороны императрицы требуется немалое мужество и твердость — или хотя бы их видимость. Она отбыла с самым безмятежным видом и полным самообладанием»{353}. 4 июля, составив манифест, объявляющий преемником власти Ивана VI, и текст присяги ему, Василий Мирович призвал подчиненных солдат поддержать его план. Некоторые согласились на условиях, что остальные присоединятся к ним тоже. Ночь с 4 на 5 июля была чрезвычайно туманной. Примерно в два часа пополуночи Мирович призвал своих людей вооружиться, и они захватили контроль над главными воротами. Когда подняли коменданта и он вышел посмотреть, что происходит, Мирович сбил его прикладом мушкета, а затем строем повел своих людей в камеру, где содержали «Безымянного узника № 1». Между атакующими и охраной Ивана завязалась перестрелка. Мирович зачитал «манифест», чтобы воодушевить своих людей, но было уже слишком поздно. Охрана прекратила стрельбу и предъявила Мировичу тело «императора», лежащее в луже крови. Они выполнили свою секретную инструкцию, по которой должны были убить его, как только поймут, что производится попытка его освобождения. Мирович благоговейно поцеловал покойного и сдался. Екатерина получила сообщение об убийстве Ивана VI в Риге, откуда написала Никите Панину:
«С большим удивлением прочитала ваш отчет о чудесах, имевших место в Шлиссельбурге: Божеская защита велика и неисчерпаема! Мне нечего добавить к вашим великолепным инструкциям, кроме того, что теперь допрос виновных должен проводиться не публично, но и не скрытно (дело не может остаться тайным, поскольку более двухсот человек принимали в нем участие)»{354}.
Она приказала, чтобы «безымянного узника» тихо похоронили в Шлиссельбурге, а расследование всего дела поручили генералу Веймарну, которого охарактеризовала так: «умный человек и не пойдет дальше, чем ему приказали»{355}. Через два дня, после того, как императрица прочитала копию первого допроса Мировича, она снова написала Панину. Она не могла поверить, что Мирович не имел сообщников, и порекомендовала допросить брата утонувшего Ушакова: может быть, он что-нибудь знает. Екатерина решила также, что вернется в Петербург раньше, чем планировалось первоначально, чтобы пресечь все спекуляции по поводу серьезности заговора. Она надеялась, что «всему этому безумному делу скоро придет конец»{356}. Еще когда Екатерина была в Риге, с ней познакомилась другая великая личность XVIII века — Джованни Джакомо Казанова. Он увидел ее, когда она руководила во время игры в фаро, дабы быть уверенной, что объекты, которых она вела, победили. Казанова назвал Екатерину «не совершенной красавицей»{357} — но тем не менее отметил ее привлекательную наружность. Позже он посетил Санкт-Петербург, где получил удовольствие иметь один-два приятных разговора с императрицей. Однако, похоже, он не произвел на нее сильного впечатления. День 13 июля она провела в Митаве — единственный раз после приезда в Россию выехав за пределы своей империи. Через пять дней она написала Ивану Неплюеву и князю Вяземскому — поблагодарила их за участие в расследовании Шлиссельбургского дела, но советовала не арестовывать родных Мировича, если нет доказательств их участия в заговоре{358}. Она не хочет, подчеркнула она, чтобы пострадали невиновные. 17 августа был опубликован манифест с официальной версией смерти Ивана. Он включал утверждение, что Иван был душевнобольным, и сообщал, что Мировича допросит особый суд из сорока восьми сановников, собранных из Сената, Синода, глав всех Коллегий и дворян трех наивысших рангов. Этот суд был уполномочен рассмотреть данные Веймарна и вынести приговор, который затем должна будет подтвердить императрица. О тайной инструкции убить Ивана даже не упоминалось — хотя о ней было широко известно, как явствовало из рассказа о событиях графа Бэкингема в «весьма секретном» отчете графу Сэндвичу{359}. Два гвардейца, которые проводили акцию, были награждены продвижением по службе и получили по семь тысяч рублей — и за действия, и за молчание. Шестнадцать солдат, служивших под их началом, тоже дали клятву о вечном сохранении тайны и тоже были награждены (меньшими суммами). На корреспондента Екатерины в Париже, мадам Жоффреи, манифест, когда достиг Франции, не произвел впечатления, и Екатерина возмущенно защищала его перед ней:
«Вы любите правду, вы хотите, чтобы люди говорили ее вам, как вы сами это делаете, поэтому я вынуждена сказать: вы восприняли этот манифест как дальтоник. Этот документ был написан не для иностранных правительств, а дабы информировать Русскую империю, что Иван мертв. Поскольку необходимо было сообщить, как он умер, и существовало более сотни свидетелей его смерти и нападения изменника, требовался очень точный отчет. Не сделать этого означало бы потворствовать гнусным слухам, распространяемым министрами двора, которые завидуют мне и не любят меня. Это деликатное дело, и я решила, что сказать правду — единственный путь. Печатня Сената перевела манифест на несколько иностранных языков: этот шаг предотвратит появление менее точных переводов»{360}.
Вероятно, в XVIII веке требовалось гораздо больше времени для распространения информации — и дезинформации, — чем в XXI. Но век Екатерины был таким же веком пиара, как и наш собственный, и она была таким же экспертом по манипуляциям версиями, как любой современный эксперт, будь он хоть доктором наук. В заключение самооправдания перед мадам Жоффрен она весело заявила, что цель оправдывает средства: «Итак, удар достиг цели, и мой манифест не промахнулся мимо своего объекта. Ergo — он хорош. Вы считаете меня упрямой, не так ли?»{361} 9 сентября 1764 года особый суд, проведя заседание по делу Мировича, подписал приговор. Мирович приговаривался к смерти через обезглавливание, а тех солдат, которые поддались на его агитацию, приговорили к проведению сквозь строй (шестерых самых несчастных — сквозь тысячу человек десять или двенадцать раз); затем (если они выживут после этого страшного наказания) их ждала ссылка. Через шесть дней Мировича казнили в Санкт-Петербурге. Когда его голову подняли над толпой, она произвела страшное впечатление: смертные приговоры не практиковались в России уже двадцать два года. Сам Мирович принял казнь спокойно, уверяя стоявших рядом, что ожидает прощения в последнюю минуту. Тело было выставлено на публичное обозрение до вечера, после чего его сожгли вместе с эшафотом. Итак, первые два года правления Екатерины II, обладавшей огромным запасом благоразумия и просвещенных принципов, были отмечены двумя убийствами и казнью. Но Екатерина была реалисткой и не тратила даром время и энергию, в том числе на бесполезные сожаления. Она почувствовала себя на троне в безопасности, коль скоро оба, и Петр III, и Иван VI, мертвы, а перед нею — масса работы по завершению поставленной Петром Великим задачи: трансформации России в мощную европейскую империю. В день второй годовщины ее коронации и через два дня после десятого дня рождения Павла императрица обедала в пышной обстановке с великим князем. Никита Панин стоял позади стула великого князя, чтобы служить ему. Для празднования Манфредини написал новую оперу «Carlo Magno» («Карл Великий»), в которой венецианская певица Колонна дебютировала на императорской сцене в качестве примадонны. Однако опера не понравилась двору, несмотря на то, что сама Колонна имела успех, — показалась слишком заумной и недостаточно занимательной. Такое же мнение сложилось о двух предыдущих работах Манфредини, и это подтолкнуло гофмаршала генерала Сиверса начать поиски другого maestro di capella, в результате которых в Санкт-Петербург на следующее лето прибыл Балтазар Галуппи (которого Петр III хотел пригласить еще в 1762 году). С тех пор Манфредини отправили писать балеты и учить музыке великого князя Павла. Несмотря на все встреченные трудности, Екатерина наслаждалась ролью императрицы. Она писала мадам Жоффрен:
«Если бы не боязнь наскучить вам, говоря так много о себе, я рассказала бы, что ужасные дела, которыми я занимаюсь, незаметно становятся рутиной, что в те дни, когда я меньше изматываюсь, я чувствую, будто что-то упустила, и на следующий день работаю охотнее, чем когда-либо. Я взяла за правило начинать всегда с самых трудных, самых неудобных и самых скучных дел, и когда они уходят, остальное кажется легким и приятным; я называю это нормированным удовольствием… О том, что вы говорите по поводу правды и дружбы со стороны государей: я безусловно хочу, чтобы вы знали, я устала кричать об этом при каждом мыслимом поводе — я привыкла, что ко мне приближаются, дабы сказать неприукрашенную правду, даже если она против меня, и я нахожу это очень полезным»{362}.
Ее придворные, может быть, и встречали одобрение, когда говорили правду, но большинство все-таки находило трудным быть естественными в ее присутствии, так как Екатерина жаловалась в другом письме мадам Жоффрен: «Когда я вхожу в комнату, все считают, что явилась Медуза Горгона, все цепенеют, у каждого появляется напряженный взгляд. Я часто испускаю орлиный крик, протестуя, — но признаю, что это не способ изменить их: чем больше я кричу, тем менее непринужденно чувствуют себя люди»{363}. В ноябре графа Кирилла Разумовского заставили уйти на пенсию с места гетмана Украины: у императрицы возникли сомнения по поводу эффективности его управления, подкрепленные Григорием Тепловым. Она написала Никите Панину о разговоре с Разумовским:
«Гетман был у меня, и я имела с ним разговор, в котором он сказал мне то же, что сказал и вам. В конце он попросил снять с него столь тяжкое и опасное для жизни бремя. На это я ответила, что вовсе не сомневаюсь в его лояльности и буду в дальнейшем беседовать с ним, Пожалуйста, скажите ему от моего имени, что сегодня или завтра он должен письменно изложить то, что сказал мне»{364}.
Когда все было устроено, Разумовскому выделили в компенсацию ежегодную пенсию (шестьдесят тысяч рублей), а также значительное количество украинской земли, и сохранили его положение сенатора, богатого хозяина и частого гостя при дворе. Императрица не назначила другого гетмана, а взамен создала Коллегию по управлению Украиной под контролем генерал-губернатора Петра Румянцева. К концу 1764 года барон де Бретейль составил язвительный отчет для следующего французского посла — с описанием черт нескольких основных игроков при русском дворе, включая саму Екатерину:
«Нужно, безусловно, учитывать, что она поставила себя намного выше всех предубеждений, которые больше всего уважают люди, и верит, что единственной движущей силой ее поведения являются ныне и навсегда ее амбиции и удовлетворение ее желаний. Эти два мотива довольно часто служат базой для поведения большинства. Но, тем не менее, есть соображения, которые удерживают их — а при этом каждый наверняка чувствует, что не существует обстоятельств, способных остановить Екатерину II в делах, которые ей по вкусу, тешат ее гордость или в ее интересах. Несмотря на ее ум, избыток этих трех страстей будет ослеплять ее и наверняка затянет, и не однажды, за пределы, обусловленные здравым расчетом и мотивом»{365}.
Паниным, полагает Бретейль, можно управлять, но весьма аккуратно.
«Он честен и беспристрастен, обычно желает добра и славы своей стране, но безрезультатно, и злится, когда его идеи не принимают безоговорочно. Но в большинстве случаев его гнев можно погасить, аплодируя его проектам, хваля его величие и беспристрастность его взглядов, мгновенно осуждая безрассудные оскорбления, сделанные по поводу его знаний и мнений. Мистер Панин также очень чувствителен к проявлениям дружбы. Он реагирует на мелкие знаки, которые говорят об интересе к его позиции. Ему приятно слышать, что особое расположение к нему не зависит от дела и от положения того, кто его выказывает. Едва ли существуют какие-либо конфиденциальные сведения, которые нельзя было бы извлечь из него такими льстивыми методами. Он также обожает веселье, и хотя на представлениях принимает очень серьезный вид, любит компании в узком кругу, среди людей, которые знают, как не быть серьезными. В остальном он весьма недоверчив и воистину тонкий человек, и было бы опасно пытаться завоевать его доверие слишком быстро любым из указанных способов»{366}.
К этому времени канцлер Воронцов уже мало что значил (и ушел на пенсию по приказанию Екатерины в начале 1765 года): «Его чувства к нам искренни и хорошо известны, как и его необыкновенная слабость, которая сводила его к нулю в любом мало-мальски важном деле»{367}. По мнению Бретейля, при русском дворе было мало людей, которых нельзя было бы подкупить. Даже личный секретарь и друг Екатерины, Иван Елагин, был под подозрением:
«Он очень утонченный молодой человек, очень осмотрительный, но любит еду и удовольствия. Хочет, чтобы ему льстили. Его сила, которая велика, заставляет его тянуться к деньгам — но нельзя предлагать их ему, пока не пройдет какое-то время и с ним не установятся дружеские, тесные отношения»{368}.
Здоровье великого князя, похоже, с годами улучшалось, хотя он все еще часто страдал от разных легких заболеваний, включая головную боль. По словам Семена Порошина, он стал настоящим ее знатоком:
«Его высочество проснулся в шесть часов, пожаловался на головную боль и остался в постели до десяти… Позднее мы поговорили с ним о классификации, которую великий князь составил к своим мигреням. Он различал четыре мигрени: круговую, плоскую, обычную и сокрушительную. «Круговая» — это название он дал боли в затылке; «плоская» — та, что вызывала боль во лбу; «обычная» мигрень — это легкая боль; и «сокрушительная» — когда сильно болела вся голова»{369}.
Частью проблемы Павла — и наверняка одним из способствующих факторов неполадок с его пищеварением — было то, что он постоянно слишком спешил:
«У его высочества была плохая привычка торопиться. Он спешил встать, поесть, лечь спать. Сколько хитростей он придумывает в обеденное время, чтобы выиграть несколько минут и поскорее сесть за стол! То же самое и с ужином… Ложась вечером в постель, он уже думает о том, как бы встать пораньше на следующее утро. Это происходит почти каждый день, хотя мы пытаемся отучить его от этой привычки»{370}. Неспособность сидеть спокойно была свойственна и Петру III. 25 декабря императрица в паре с сыном открыла бал менуэтом. Затем последовала кадриль, которой великий князь не знал. Панин позволил ему танцевать как хочется. Ребенок, которого надзиравшие за ним дамы называли «дорогой малыш Панюшка», обрадовался и «подпрыгивая, понесся кругами по комнате»{371}. Порошин заметил о своем поднадзорном: «Его высочество имеет недостаток, присущий всем тем, кто привык чаще видеть свои желания удовлетворенными, чем бесплодными. Они нетерпеливы, они желают, чтобы их слушались немедленно»{372}. Это была вторая черта, которую Павел пронес через всю жизнь. В начале 1765 года граф Бэкингем был заменен на посту британского посла сэром Джорджем Макартни, который прибыл в Петербург со стандартным набором предубеждений против новой хозяйки страны: «Несмотря на общую дикость жителей, женщины здесь обладают таким же количеством власти, как у самых цивилизованных наций»{373}. Он также предвидел неприятности, которые возникнут после того, как Павел Петрович войдет в возраст: «Сейчас по всему видно, что императрица твердо сидит на троне; меня убеждают, что ее правительство продержится без перемен по крайней мере несколько лет, но невозможно предвидеть, что произойдет, когда великий князь приблизится к возмужанию»{374}. Он закончил свой первый отчет пожеланием, которое совпадает с мнением каждого, знакомящегося с Россией на любой стадии ее истории: «Тут множество парадоксов, которые потребуют необыкновенной искусности, чтобы с ними ужиться»{375}. Теперь, когда Екатерина завершила официальные назначения и заставила свое правительство работать эффективно, она решила, что настало время направить внимание на свой первый основной проект внутренней реформы. Этот предмет, как она знала с самого начала, нуждался в том, чтобы взяться за него энергично. 28 марта 1765 года она написала мадам Жоффрен, что два последних месяца работала каждое утро по три часа над законами Российской империи. Это было, как она определила, «огромное предприятие»{376}. Она заявила, что ее цель — «привести все в более естественное состояние, допускаемое гуманностью, основываясь на общей и личной пользе»{377}. Последняя кодификация законов имела место в 1649 году. За последующие годы были опубликованы тысячи новых законов, часто по одному и тому же предмету без четкой ссылки на предыдущие акты. Зачастую даже суды не знали, какой закон считать действующим. Такая ситуация приводила к постоянным искам с длительными апелляциями{378}. Анонимный составитель «Authentic Memoirs of the Life and Reign of Catherine II» («Достоверные воспоминания о жизни и царствовании Екатерины II») дает яркую картину огромной работы, которую необходимо было проделать:
«Законы этой огромной империи были настолько многочисленны, что превратились в величайший абсурд, ставили в тупик, были неудовлетворительными, во многих случаях противоречивыми, и так загружены прецедентами, отчетами, случаями и мнениями, что представляли собой сцену для вечных перебранок и едва ли могли примирить, тем более быть понятыми — даже самыми грамотными профессионалами. Отдельные законы разных провинций тоже постоянно примешивались и приводили к таким конфузам, что все превращалось в бессмысленный хаос и уничтожало всякий след первичной системы или плана»{379}.
В России не существовало традиционного юридического обучения — следовательно, никто из окружающих Екатерину чиновников не был специалистом, а сама Екатерина знала только то, что почерпнула из книг. Книги, которые она привлекла при составлении документа, впоследствии известного как ее «Великий наказ», включали «L’Exprit de Lois» Монтескье, недавно опубликованную работу итальянского теоретика права Цезаря Беккариа «О преступлении и наказании» и «Политические институты» Билфельда. В трудах Екатерине помогал один из ее секретарей, Григорий Козицкий, чьей задачей было переводить на русский язык материалы, которые она отбирала из прочитанных книг. В июне она начала показывать отдельным людям куски своего творения. Одним из результатов передачи проекта Екатерины в комиссию для проработки стало то, что императрица оказалась под угрозой вечного сидячего образа жизни. Дни, когда она проводила большую часть времени верхом, давно остались позади — после переворота она, похоже, едва ли вообще выезжала, — и Григорий Орлов вместе с другими ворчал, что ей следует быть физически более активной, чаще выбираясь из своего «вечного кресла»{380}, в особенности в зимние месяцы. Летом ей удавалось выходить. Июнь 1765 года оказался особенно напряженным: она плавала с флотом по Балтике, осмотрела все свои загородные дворцы (в том числе Китайский дворец в Ораниенбауме, который в это время строился по проекту Ринальди), а также посетила с Павлом маневры в армейском военном лагере в Красном селе (Павел так перевозбудился при этом, что заболел). Екатерина писала мадам Жоффрен: «Парижским дамам впору падать в обморок от той бурной жизни, которую я веду»{381}. 5 августа великий князь снова был нездоров, что Порошин объяснял его дурной манерой есть:
«Его высочество пожаловался на головную боль и тошноту. Он ушел в свою комнату и разделся. Послали за доктором. Одновременно с ним прибыл граф Никита. Великий князь изверг почти весь обед. Его высочество… часто подвергается напасти, которая называется несварением: он ест слишком быстро, не жует как следует, и таким образом задает своему желудку непосильную задачу»{382}.
Теперь Павел проявлял уже просыпающийся, полуосознанный интерес к женщинам — особенно к фрейлинам своей матери, — с чем Панин, сам дамский угодник, никак не боролся. Несколько месяцев Павел был влюблен в Веру Чоглокову, сироту тех самых Чоглоковых, которые имели задание следить за Екатериной и Петром в первые годы их брака. После смерти родителей Вера воспитывалась при дворе. 9 октября Павлу позволили посетить обсерваторию над покоями Екатерины, а за этой экскурсией последовала другая, еще более интересная для него.
«После еды, — подчеркивает Порошин, — Григорий Орлов пришел навестить Его высочество от имени Ее величества, чтобы пригласить его в обсерваторию, построенную над покоями императрицы. Придя, Его высочество нашел там Ее величество. Виден был весь город. Когда пришло время уходить, Григорий Орлов спросил Его высочество, не хочет ли он зайти поздороваться с фрейлинами, живущими рядом. Великий князь горел желанием, но не знал, как ответить в присутствии Ее величества. Императрица разрешила проблему, сказав Его высочеству, что он может пойти. Никогда еще приказ не исполнялся с такой готовностью. Граф Никита и граф Григорий присутствовали на встрече. Они обошли всех фрейлин. Вернувшись, царевич с восторгом рассказывал о своей экспедиции. «Угадайте, куда я сегодня ходил!» — говорил он каждому, кто приходил его навестить. Устав пересказывать эту историю, он упал на кушетку в сладострастной усталости. Он позвал меня [то есть Порошина] к себе и сказал, что видел свою подругу-фрейлину и что она очаровывает его все больше и больше»{383}.
У Екатерины было двадцать фрейлин, некоторые из них еще оставались детьми. Они выделялись тем, что им позволялось носить первую букву имени императрицы, обрамленную бриллиантами. В том году императрица искала для них управительницу или инспектрису, поручив старой подруге своей матери в Гамбурге, мадам Бьельке (которая впоследствии стала другом и доверенным корреспондентом Екатерины), найти таковую для нее. Идеальной женщиной на этот пост, как оговорила Екатерина, была бы дама «немолодая и не католичка»{384}. Она должна придерживаться строгой морали, но не быть склонной к «ловле блох»; знать, как настоять на своем, но в то же время быть мягкой; должна быть «мудрой, благоразумной, образованной»{385}, должна любить чтение, а если понадобится, быть способной составить компанию самой Екатерине — но никогда не рассчитывать на это. «Когда вы найдете такое совершенство — писала Екатерина, — пожалуйста, дайте мне знать, чтобы мы со своей стороны могли подготовиться. Я не буду упорствовать в отношении условий — жилье, тепло, свет, еда, экипаж и одежда прилагаются без вопросов — всё как у всех придворных»{386}. Вероятно, не удивительно, что мадам Бьельке не смогла найти такого чуда. Бальтазар Галуппи прибыл в Санкт-Петербург по трехгодичному контракту в июле 1765 года и быстро завоевал одобрение и придворных, и Екатерины. Требования к спектаклям — и к себе, и к другим — были явно выше, чем у его предшественников. В среду, в полдень, в вестибюле покоев императрицы состоялся концерт камерной музыки, на котором Галуппи произвел на всех впечатление точностью своей игры на клавикордах. Чтобы помочь старому виртуозу пережить свою первую петербургскую зиму, Екатерина подарила ему красный бархатный кафтан, расшитый золотом и с соболиной опушкой, а также соболью шапку и муфту из другого меха. Ко дню именин императрицы (24 ноября) Галуппи попросили написать оперу «Didone abbandonata» («Веселая проказница») на либретто Пьетро Метастазио. На первых репетициях его не удовлетворял оркестр, поэтому он участил репетиции, на которых бранился и кричал на музыкантов на венецианском диалекте из-за малейшей ошибки. В игре оркестра наметился быстрый сдвиг к лучшему, но из-за количества костюмов и сцен, которые необходимо было подготовить, опера не была окончена к именинам Екатерины и ее отложили до карнавала. Оперу дважды показали за неделю до поста — то есть в последние дни февраля 1766 года — с огромным успехом. Через несколько дней после второго представления Екатерина послала Галуппи золотую коробочку для нюхательного табака, инкрустированную бриллиантами, и тысячу дукатов. Сеньора Колонна за исполнение роли Проказницы получила бриллиантовое кольцо ценой в тысячу рублей. Оперу снова поставили на Пасху, и последнее представление было дано на именины Екатерины в том же году. В 1766 году от своего посла в Париже, князя Дмитрия Голицына, Екатерина узнала, что французский писатель и составитель «Энциклопедии» Дени Дидро находится в ужасном финансовом положении и поэтому выставил на продажу свою личную библиотеку за пятнадцать тысяч ливров. Екатерина давно уже интересовалась Дидро, впервые написав ему вскоре после воцарения с предложением продолжить публикацию «Энциклопедии» в России, так как публикация дальнейших томов во Франции была запрещена. Но Дидро отклонил ее помощь, предпочитая публиковаться в Швейцарии. На этот раз она сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться — шестнадцать тысяч ливров при условии, что пока Дидро жив, книги останутся в его доме. Более того, она назначила его библиотекарем с окладом в тысячу ливров в год, которые были выплачены за пятьдесят лет вперед. Не удивительно, что Дидро рассыпался в благодарностях и в ответ стал парижским советником Екатерины по живописи, выискивая великие полотна, выставленные на продажу, и откладывая их для нее. Князь Голицын, культурный сановник и свой человек в интеллектуальных кругах Парижа, также действовал в этом направлении, покупая для Екатерины работы современных художников, таких как Грез и Шарден. Покупка Екатериной библиотеки Дидро заставила Вольтера, с которым она переписывалась с 1763 года, написать угодливое письмо:
«Мадам! Все глаза должны теперь обратиться к северной звезде. Ваше императорское величество нашли тропу к славе, доселе неизвестную другим государям. Теперь каждому придется думать о щедрых актах великодушия в семистах или восьмистах лигах от своего государства. Вы действительно стали благодетельницей Европы; и вы, благодаря величию своей души, обрели гораздо больше, чем другие завоевывают силой оружия»{387}.
В своем ответе Екатерина с должной скромностью, но с долей лицемерия заявляет, что «свет северной звезды — это только северная заря»{388}, и отвечает комплиментом на комплимент: «Вы боретесь с сонмом врагов человеческих: суеверием, фанатизмом, невежеством, крючкотворством, продажностью судей… Требуется много добродетелей, чтобы преодолеть эти препятствия. Вы показали, что обладаете ими — вы победили»{389}. Течение внешнеполитических дел, всегда неспешное при российском дворе, грозило стать еще медленнее в 1766 году — из-за скандала, разгорающегося вокруг Панина и молодой красивой графини Строгановой, замужней дочери экс-канцлера Воронцова. По словам сэра Джорджа Макартни, Панин воспылал «дикой страстью» к графине Строгановой, которая была «дамой необыкновенной красоты и живого ума, утонченного и расцвеченного современным образованием и путешествиями»{390}. Уже около года она жила с мужем врозь[35]; обе стороны стремились вернуть свободу (граф Строганов хотел жениться на княгине Трубецкой). Сэр Джордж предрекал Панину ужасные последствия его страсти, для сохранения которой и сама дама, и ее друзья делали все возможное:
«Результаты этой несчастной связи мистера Панина таковы, что благодаря его халатности и легкомыслию все дела или встали, или двигаются слишком медленно даже для России. Он начал терять уважение людей, которые не в состоянии извинить нескрываемую мальчишескую страсть в мужчине его возраста, положения и опыта. К тому же его враги не преминули ухватиться за эту возможность, чтобы заявить о неблагопристойности и дурном примере такой слабости в министре Ее величества и воспитателе наследника ее империи»{391}.
6 апреля, за пару недель до своего тридцатисемилетия, Екатерина написала мадам Жоффрен, что ее огромная работа над законами и ее гобелен продвигаются с одинаковой скоростью: работа над законами занимает два часа по утрам, а гобеленом она занимается, когда ей читают в послеобеденное время. Она также сообщила своему корреспонденту, что прочла Григорию Орлову кусочек письма, в котором мадам Жоффрен говорила, как много императрица работает. Реакция Григория порадовала Екатерину и подтвердила, что он не удостаивал свою коронованную любовницу даже легкой лести. «Он, сделавший своей профессией лень, несмотря на то, что умен и талантлив от природы, воскликнул: «Это правда». Это было первой похвалой, какую я услышала из его уст, и я обязана этим вам, мадам»{392}. Этим летом Екатерина написала из Царского Села своей подруге, мадам Бьельке, что ей нравится играть по вечерам в жмурки — с Павлом или без него; как мало у нее времени на докторов, особенно если они принимают себя слишком всерьез (один из ее придворных хирургов часто повторял, послушав, как она рассуждает о предмете: «Так никто не подаст доктору стакан воды»{393}); что при европейских дворах недавно ходили слухи, будто ее отравили, в то время как она вполне здорова и чувствует себя отлично с тех пор, как стала императрицей; что ей никогда не было легко проводить время с женщинами, поскольку ей не позволяли свободно разговаривать с представительницами ее пола, когда она была великой княгиней.
«Признаюсь, что в мире не больше двух женщин, с которыми я могу говорить на протяжении получаса. С пятнадцати до тридцати трех лет возле меня не было женщин для бесед, я могла позволить себе иметь рядом только горничных. Если я хотела поболтать, то шла в другие покои, где находились только мужчины. Это настолько вошло в привычку и даже стало нравиться, что я могу легко разговаривать только с ними»{394}.
Екатерина также подтвердила мадам Бьельке, что поедет зимой в Москву и останется там на год. В письме мадам Жоффрен от 21 октября 1766 года Екатерина рассказала о «приобретении»{395} скульптора Этьена Мориса Фальконе, рекомендованного Дидро для создания статуи Петра Великого. Фальконе написал в «Энциклопедию» статью о скульптуре, а предыдущие девять лет работал на фабрике Севрского фарфора, создавая небольшие классические фигурки, которые можно было воспроизвести в фарфоре. Но при этом он горел идеей попробовать себя в монументальной скульптуре, поэтому взялся за двадцать пять тысяч ливров в год в течение восьми лет поставить памятник Петру Великому — дешевле, чем другие скульпторы, которых рекомендовал посол Екатерины в Париже князь Голицын. По прибытии в Петербург Фальконе получил под мастерскую и студию старый тронный зал императрицы Елизаветы, а также кухню в старом деревянном Зимнем дворце, который Екатерина уже сносила. Рядом, на том месте, где находился театр Елизаветы, для него возвели жилые апартаменты. В начале декабря сэр Джордж Макартни доложил о работе Екатерины над законами — в таких пылких выражениях, что его донесение явно было рассчитано на перехват и передачу императрице:
«В настоящее время внимание царицы сосредоточено на любимом проекте, успех которого обеспечит ей больше заслуженной чести, будет для нее большим достижением, чем победа в битве или приобретение королевства. Она, чей проницательный гений равно счастлив в обнаружении дефектов и нахождении способов их исправить, давно с сожалением заметила неразбериху, сложность, двусмысленность и несправедливость в законах своей империи. Исправить их — давний предмет ее амбиций… Самые благородные обязательства и достойные устремления для великого правителя, который предпочитает звание законодателя репутации завоевателя и находит славу в обеспечении счастья, а не в разорении человечества»{396}.
Итак, императрица издала приказ набрать депутатов для создания Законодательной комиссии. Основные институты, такие как Сенат, и некоторые слои населения — дворянство, горожане, казачество (иррегулярные кавалерийские формирования, живущие в пограничных поселениях) и свободные крестьяне (но не крепостные, которые составляли примерно половину сельского населения) — были приглашены составить «наказы» об их законных интересах и послать депутатов в Комиссию. Предполагалось, что духовенство будет представлено через Святейший Синод, которому предложили послать депутата, как любому другому правительственному департаменту, а интересы офицеров и солдат представит Военная коллегия. Григорий Потемкин был назначен одним из трех «попечителей инородцев»; двумя другими были Вяземский и Олсуфьев. Предполагалось что-то вроде крупномасштабной консультации, поддержанной Дидро в одной из статей его «Энциклопедии». Такое обсуждение не проводилось в России уже более ста лет. В письме мадам Бьельке Екатерина сделала редкий намек на свою жизнь в браке, упомянув то, о чем вспомнит вновь в своих мемуарах:
«Мне жаль бедную королеву Дании. В ее жизни так мало радости: нет ничего хуже, чем муж-ребенок[36]. Я знаю это из собственного опыта. Я одна из тех женщин, которые верят, что муж всегда сам виноват, если его не любят, потому что, говоря откровенно, я бы весьма любила своего, если бы это было возможно и если бы он был настолько добр, чтобы хотеть этого»{397}.
Она продолжила, излагая мадам Бьельке предполагаемый график своего предстоящего путешествия:
«Я уеду в Москву, мадам, около десятого февраля по нашему стилю… Буду там после четырех дней пути… Потом, в мае, я поеду побродить по Казани, будто в одном из моих загородных домов, и в конце июня вновь отправлюсь в Москву,чтобы начать работу над новым сводом законов, о котором вы уже слышали. И еще до конца года я пущусь в обратный путь, если будет на то Божья воля»{398}.
9. Законы, оспа и война (1767–1769)
Мой герб — пчела, которая, перелетая с растения на растение, собирает мед, чтобы нести его в свой улей, и ее цель — польза.Екатерина покинула Москву 7 февраля 1767 года. Панин и великий князь отправились на несколько дней раньше. Она поручила Панину проследить, чтобы все дворцы, где она собиралась останавливаться по пути, перед ее прибытием были проветрены, так как боялась, что иначе будет страдать головными болями. Перед отъездом она отправила распоряжение сенатору Ивану Глебову, который оставался поддерживать закон и порядок в Санкт-Петербурге, чтобы он обращал особое внимание на пресечение активности воров и грабителей в городе и на прилегающих дорогах, напоминал хозяевам домов о необходимости запирать ворота на ночь и пользоваться сторожами и собаками, а также заботился о том, чтобы ночные патрули действительно занимались патрулированием, а не проводили ночь в трактире или других несообразных местах{399}. Как всегда, Екатерина сравнивала Москву с Санкт-Петербургом и однозначно отдавала предпочтение последнему. Она считала Москву, хаотично разраставшийся древний город, чья долгая история отразилась в смеси архитектурных стилей, непривлекательной по сравнению с любимым Петербургом, который можно было лепить по своему желанию, где все было упорядочено и распланировано, по крайней мере внешне. Особенно она не любила скученность московского населения, называя город «фальшивым Исфаганом»{400}, подразумевая азиатское влияние, возникшее в результате вторжения монгольских орд в XIII веке. Екатерина покинула Москву к концу апреля и отправилась в путешествие вниз по Волге, добравшись сначала по суше до Твери в сопровождении почти двух тысяч человек, включая членов дипломатического корпуса. В Твери путешественники сменили свои кареты и коляски на суда, и 2 мая флотилия из одиннадцати галер тронулась вниз по течению. Галера императрицы, которую она превратила в «настоящий дом»{401}, вмещала не только ее самоё с личными слугами, но также Григория Орлова и его брата Владимира, Захара и Ивана Чернышевых (друзья юности Екатерины, которые теперь занимали влиятельные посты в ее правительстве) и нескольких других придворных и чиновников. Огромная галера величаво плыла вниз по Волге со множеством остановок на маршруте. Люди приветствовали императрицу с берега; ей играли серенады на французских рожках, трубах, металлических барабанах; пели хоры крестьян; все мешалось в спонтанно возникающих и организованных мероприятиях. Временами путешествие приостанавливалось из-за погоды. 8 мая Екатерина сообщила Панину, что весь предыдущий день они простояли на якоре из-за очень сильного и холодного встречного ветра. Она сразу же раздражалась, если не получала вестей из Москвы и Санкт-Петербурга, когда курьер вдруг задерживался или не угадывал, где искать ее в очередной день. К 10 мая она достигла исторического города Ярославля, откуда написала Панину:Екатерина II — Вольтеру
«Я прибыла сюда вчера в девять часов вечера, чувствую себя хорошо, слава Богу, как и все, кто со мной. В течение двадцати четырех часов я приняла от вас трех курьеров. Поблагодарите великого князя за его второе письмо, на которое я отвечу на отдыхе, а сейчас я готовлюсь к визиту нескольких фабрикантов, так что останусь здесь до воскресенья»{402}.
Императрица отметила в письме Михаилу Воронцову{403}, что у женщин в Ярославле милые лица, но своими размерами и нарядами они похожи на тарра mundi[37]. Через несколько дней она была уже в Костроме, где остановилась в знаменитом Ипатьевском монастыре, откуда, как она напомнила Панину, в 1613 году были призваны в Москву на царство первые представители династии Романовых. В Костроме состоялся прием, на котором члены императорской свиты, включая Ивана Чернышева, «прорыдавшего весь обед»{404}, расчувствовались от теплоты встречи, устроенной местным дворянством. Тут члены дипломатического корпуса покинули императрицу и возвратились в Москву, где, как надеялась Екатерина, создадут ей рекламу: «Они расскажут вам, — писала она Панину, — как меня тут принимали»{405}. 26 мая Екатерина наконец прибыла в Казань, где ее приветствовали еще пышнее, чем в Костроме. Для местного крестьянства императрица была самой близкой к Богу особой, ближе они не знали. Некоторые попытались даже нести перед Екатериной свечи, будто она икона — пока их бесцеремонно не разогнали. Хотя Екатерина желала, чтобы подданные обожали ее и были ей благодарны, она не любила такого «перебора» и написала Панину, что всё в этом случае «становится абсолютно искусственным»{406}. Губернатор Казани устроил в своем доме великолепное представление; Екатерина выказала свое восхищение, оставшись до полуночи — позже своего обычного времени отхода ко сну. Как всегда бывает в случае приема царственных или государственных особ, все не жалели сил, чтобы представить императрице блестящую картину, и она таки оказалась под впечатлением: «Все живущие здесь, вдоль Волги, богаты и вполне довольны, и хотя цены тут везде высокие, у всех есть хлеб, никто не жалуется и не нуждается»{407}. В Симбирске общество сошло с галеры и приготовилось вернуться в Москву (где Панин в отсутствие императрицы проводил большую часть времени с графиней Строгановой). Хотя Екатерина не выказала намерения разузнать о своих наименее преуспевающих подданных, это путешествие все-таки открыло ей глаза на разнородность людей, и она сообщила Вольтеру о трудности создания законов, которые были бы равно приемлемы для всех — «при различии в климате, людях, обычаях и даже взглядах!»{408} В Москве Екатерина окончательно погрузилась в приготовления к образованию Законодательной комиссии. В воскресенье 30 июля в десять часов утра императрица выехала из дворца Головина в Кремль в карете, влекомой восемью лошадьми, в сопровождении шестнадцати экипажей с придворными и отряда конных гвардейцев во главе с Григорием Орловым. Великий князь Павел также ехал следом в собственной церемониальной карете. В Кремле депутаты в определенном порядке прошествовали по двое через площадь за генерал-прокурором Вяземским, чтобы присоединиться к императрице в Успенском соборе. Во время церковной церемонии представители нехристианского меньшинства оставались снаружи. Екатерина возлагала большие надежды на то, что ее Комиссия преодолеет религиозные различия, написав Вольтеру:
«Православие находится между еретиками и мусульманами… Они должны полностью забыть привычку издеваться друг над другом в случае, если кто-то окажется недостаточно умен и предположит, что депутат имеет право рассердить своего соседа, пытаясь ублажить Главу. Я отвечаю всем, и говорю, что каждый отдельный человек должен сознавать: он такой же человек, как и я»{409}.
После службы депутаты подписали должностную клятву, а Екатерина тем временем проследовала в Грановитую палату, где и встретила их в зале приемов. В императорской мантии и маленькой короне Екатерина стояла перед троном. Копии ее «Великого Наказа» и правила проведения процедуры Комиссии были разложены на застланном красным бархатом столе, расположенном справа от нее, а слева стоял великий князь Павел (теперь ему было уже почти тринадцать лет) с придворными, чиновниками и иностранными посланниками. Присутствовали также самые знатные придворные дамы. Митрополит Новгородский Дмитрий Сеченов, который был избран депутатом от Синода, чтобы представлять церковь, произнес хвалебную речь в адрес Екатерины, а затем вице-канцлер Голицын зачитал основательное приветствие от императрицы. Первая рабочая сессия Комиссии состоялась на следующий день в Грановитой палате. Первым пунктом повестки дня стало прослушивание депутатами «Великого Наказа» Екатерины; оно закончилось только к пятой сессии, 9 августа. «Великий Наказ», или, если называть его официально, «Наказ Комиссии для составления нового Свода Законов», состоял более чем из пятисот пунктов, отражавших непоколебимую веру Екатерины в закон и в то, что он будет работать в России. Это был краткий конспект общих принципов, на которых должно базироваться хорошее правительство и все общество. Много тут было переработанных и расширенных пунктов и замечаний, составленных ею для себя еще в 1761 году. Она закончила свой «Великий Наказ» оптимистически: «Комиссии ничего не придется делать — лишь сравнить каждый раздел законов с правилами этого наказа»{410}. Депутатам также раздали правила их поведения на сессиях: они не должны перебивать друг друга, на ассамблею нельзя приносить оружие, а скандалы будут наказываться штрафами или даже удалением из зала. По завершению чтения депутатам предстояло приступить к работе; был образован ряд комиссий для рассмотрения различных аспектов закона. Но первое, что они сделали — это формально отреагировали на «Великий Наказ», попросив, чтобы императрица приняла титул «Великая, Наимудрейшая, Мать Отечества». Екатерина переслала депутатам ответ.
«О титулах, которые вы предлагаете мне принять, я отвечу следующее. 1) «Великая» — я оставляю его до срока: для тех, кто придет после меня, чтобы беспристрастно судить мои дела. 2) «Наимудрейшая» — я не могу назвать себя так, потому что наимудрейший один лишь Бог. 3) «Мать Отечества» — любить подданных, доверенных мне Богом, я считаю обязанностью своего положения, а быть любимой ими — мое желание»{411}.
Екатерина продемонстрировала мудрость, отказавшись от этих титулов, но само предложение депутатов (которое вполне могло быть состряпано за сценой единомышленниками Екатерины) укрепило ее положение на троне и сняло трактовку ее нахождения там лишь в качестве регента сына. Несмотря на официальный отказ, Сенат взял на хранение документ с просьбой о том, чтобы Екатерина приняла эти титулы, и пообещал, что он будет опубликован в правительственных бюллетенях и в газетах России, Франции и Германии. С таким подтверждением признания от подданных и от человека со статусом Вольтера, сообщившего ей, что он считает ее «Великий Наказ» «самым прекрасным памятником века»{412}, Екатерина получила не больше сторонней объективности при оценке истинного объема ее умственных и литературных способностей, чем получал ее муж для понимания пределов своей музыкальной одаренности. Это следствие одиночества при абсолютной власти — в особенности для того, кто понимает, что люди не всегда высказывают неприкрашенную правду, — и одна из причин, по которой Екатерина так ценила присутствие и любовь такого человека, как Григорий Орлов, который не льстил ей. Весь срок пребывания в Москве Екатерина переписывалась с Этьеном Фальконе. Тот занимался разработкой глиняной версии конной статуи Петра Великого, используя в качестве образца двух императорских лошадей — Бриллианта и Каприза. Он прогонял их по очереди по специально построенному трапу, зарисовывая снова, и снова, и снова{413}. Фальконе был требовательным корреспондентом и показывал, что ему необходимо одобрение его высокого покровителя в начале пребывания в Петербурге. Екатерина ухитрялась находить время, чтобы написать ему, даже в те дни, когда ее «Великий Наказ» зачитывался депутатам, утверждая, что не может высказать грамотное мнение о его работе (Екатерина никогда не делала вид, что знает об искусстве и музыке больше, чем знает, довольствуясь тем, что полагалась на советчиков-специалистов), а также предупреждая его, чтобы он не верил сплетням о ее намерениях и планах:
«Монсеньор Фальконе, я откладывала ответ вам со дня на день, поскольку этой весной переезжала так много раз, что только сегодня утром извлекла ваше последнее письмо из своих бумаг. Прежде всего знайте и не сомневайтесь, что я вернусь в Петербург под Рождество. По поводу возвращения никогда не было никаких реальных сомнений; но тут существуют выдумщики, как есть они и в Париже, которые видят, или с легкостью способны увидеть, луну среди бела дня, и которые находят то, что должно быть по их мнению… Я верю, что вы сделали все наилучшим образом; однако как можете вы обращаться ко мне за одобрением? Я не умею даже рисовать. Но, вероятно, это будет первый хороший монумент из всех, что я видела в жизни: можете вы удовлетвориться таким слабым суждением? Самый последний школьник знает о вашем искусстве больше, чем я… До свидания, монсеньор Фальконе; я так занята в эти дни, когда взвалила на свои плечи тяжелую ношу, что едва нашла время набросать вам несколько слов»{414}.
Прежде чем покинуть Москву в конце года, Екатерина приостановила сессии Законодательного комитета. Их предполагалось начать снова двумя месяцами позднее в Санкт-Петербурге. Двадцать третьего января 1768 года она снова была в Царском Селе, а тремя днями позднее возвратилась в город, сказав Панину, что «Петербург кажется раем по сравнению с Исфаганом»{415}. В жизни Никиты Панина происходили тем временем удивительные перемены. Вот что доложил граф Солмс Фридриху Великому:
«Не могу удержаться и не уведомить вас, Ваше величество, о неожиданном предстоящем событии, известия о котором просочились только что — еще до того, как заинтересованные стороны захотели сообщить о них. Речь о женитьбе графа Панина на старшей дочери обер-камергера графа Шереметьева. Это самая значительная партия, какая могла иметь место в России, как в смысле родовитости соединяющихся семей, так и в смысле богатства: благодаря состоянию, унаследованному от матери, молодая графиня уже сейчас, при жизни отца имеет доход более чем в сорок тысяч рублей, а также состояние из домов, фарфора, драгоценностей и многого другого, так что по одним только этим причинам можно поздравить графа Панина с благополучным будущим. Тем не менее невозможно удержаться от удивления по поводу его решения. Его физическая немощь заставляла считать, что если он и решится на женитьбу, то не выберет молоденькую. Более того: поскольку его положение при дворе и место, которое он занимает в отношении великого князя, не позволяют ему жить вне дворца, он не сможет наслаждаться одновременно удовольствиями общества и спокойной жизнью в своем доме, и не заслуживает доверия мнение, что он захочет оставить свой пост воспитателя, который обеспечивает ему столько чести у нации. Если он все же принял такое решение, внезапно и ко всеобщему удивлению, меня искушает соблазн поверить, что он смотрит вперед, в будущее, и хочет таким образом обеспечить себе надежный тыл на последние годы, вне зависимости от расположения к нему двора»{416}.
Английский дипломат Генри Шерли также докладывал об этой удивительной помолвке:
«[Панин] очень скоро женится на графине Анне Петровне Шереметьевой, даме почти неограниченных возможностей. Его связь с графиней [Строгановой], которая принесла ему столь много вреда, подошла к концу, и можно надеяться, что он станет таким же прекрасным человеком, каким был пять лет назад»{417}.
Но счастье бедного Панина было недолгим. Через три месяца после помолвки Анна Петровна заболела оспой. Это была та болезнь, которой Екатерина боялась всегда, с детства — так что она имела по крайней мере одну причину упрекнуть Панина за то, что тот позволил великому князю находиться в общественном месте, где тот мог вступить в контакт с зараженными людьми. Вся Европа была в ужасе от опустошений, произведенных оспой при Габсбургском дворе в мае 1767 года, когда императрица Мария Терезия и ее невестка Мария Жозефина слегли, сраженные болезнью. Мария Терезия выжила, но осталась обезображенной шрамами, а Мария Жозефина умерла в течение недели. 4 мая 1768 года Екатерина послала Панину из Царского Села соболезнующее письмо:
«Чрезвычайно сожалею о болезни вашей невесты, но не отчаиваюсь: Бог милостив, и ее молодость может легко преодолеть болезнь. Вижу из вашего письма, что вы погрузились в отчаяние раньше чем следует, и если Бог поможет ей поправиться, боюсь, что заболеете вы. Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье и не сомневайтесь в моем расположении к вам во всех ситуациях… Передайте сыну мое благословение; я поручаю ему попытаться утешить вас»{418}.
Тайное письмо, которое она написала на следующий день Ивану Елагину, открывает и глубину ее беспокойства по поводу близости Павла к смертельной болезни, и ее искреннюю заботу о своем министре. Письмо начинается так:
«Иван Перфильевич, я в страшном смятении по поводу оспы А[нны] П[етровны]. Будь моя воля, я немедленно привезла бы великого князя сюда, а Никита Иванович приехал бы через пару дней. Но я думаю, вы понимаете, что это покажется Никите Ивановичу огорчительным. Вы знаете, как он не любит переездов, тем более — ему придется расстаться с невестой»{419}.
Екатерина признает, что приезд великого князя в Царское Село будет неудобен для нее, так как означал бы перестройку других планов — но зато «обеспечил бы безопасность великого князя, чтобы я об этом больше не волновалась».{420} Ее забота о Павле диктовалась не только материнским беспокойством — хотя частично это было так, — но и осознанием, что неосторожно позволить ему заразиться оспой означало бы «заслужить упрек у людей»{421}. Сочувствие не позволяло ей обсудить это с Паниным, но она попросила Елагина поднять тему в разговоре с ним, решить, что делать, и сообщить ей. «Я очень беспокоюсь и не могу сообразить, что лучше. В такой критической ситуации все плохо»{422}. Елагин смог что-то доказать Панину, и это решило дело. В следующем письме Екатерины Елагину упоминается подготовка, проведенная для принятия великого князя в Царском Селе. 15 мая Екатерина написала Панину, уверяя его в полном своем здравии (днем раньше она внезапно потеряла сознание):
«Вижу из вашего письма И[вану] П[ерфильевичу] Елагину, что мой вчерашний приступ, который ничего не значит, добавил вам беспокойства, поэтому беру перо, дабы сообщить, что этим утром я спала до десяти часов и поднялась, чувствуя себя гораздо лучше. Осталась лишь небольшая слабость; пожалуйста, не волнуйтесь, в этом нет нужды. Доктор Энс уверяет, что ваша невеста будет иметь только три трудных дня»{423}.
Но оптимизм доктора Энса оказался необоснованным. Через два дня Генри Шерли доложил лорду Висконту Уэймоту:
«Не могу не сообщить вам, что графиня Анна Петровна Шереметьева, невеста мистера Панина, молодая девушка необыкновенных достоинств, красоты и огромного богатства, умерла этим утром, в пять часов, от оспы. У меня нет еще известий о графе Панине, но судя по тому беспокойству, в котором он пребывал все время ее болезни, он, должно быть, безутешен. Он так любил ее, что мы опасаемся за него»{424}.
Тем не менее, в течение трех дней Панин готовится присоединиться к великому князю в Царском Селе. Похоже, он решил, что единственный способ справиться с тяжелой утратой — как можно быстрее вернуться к привычному существованию, дабы забыть о надеждах на другую жизнь. Никогда больше имя Панина не связывали ни с одним романтическим приключением или женитьбой. Болезнь графини Шереметьевой и ее смерть заставили Екатерину ускорить осуществление курса действий, который она некоторое время обдумывала и планировала вскорости реализовать. Форма прививки против оспы, при которой малое количество жидкости из болезненного пузырька втиралось в ноздри или в ранку на волосистой части головы, давно уже практиковалась в Европе и Азии как часть народной медицины — у пациента проявлялась слабая форма болезни, которая была не особо опасной и обеспечивала иммунитет на всю жизнь. В последние годы некоторые опытные медики пытались сделать эту процедуру более «профессиональной», добавляя слабительное и кровопускание для очистки всей системы и вводя зараженный материал в большой надрез, обычно на руке. Эта процедура с одинаковой частотой иногда приводила к жестокой болезни, а иногда нет, и давала осложнение на зараженной ране — так что пациент с тем же результатом мог просто заболеть обычным путем. Однако некоторые неученые практики, среди которых наиболее прославилась семья Саттонов, отец и два сына, делали прививки гораздо удачнее, пользуясь народным средством[38]. Томас Димсдейл, член научного общества Королевского медицинского колледжа в Лондоне, который давно интересовался прививками против оспы, будучи квалифицированным практикующим медиком, соединил лучшее из двух подходов и создал свой метод, похожий на тот, что использовали Саттоны. Его метод, похоже, оказался удачным. В 1767 году он опубликовал научный труд на эту тему. Тот получил широкое распространение, и благодаря публикации барон Александр Черкасов, президент русской медицинской коллегии, узнал об этом новшестве. Будучи в курсе, что Екатерина намерена произвести в России прививки, если они докажут свою эффективность, Черкасов попросил русского посла в Лондоне начать переговоры с доктором Димс-дейлом. Проект, предложенный ему, заключался ни много ни мало в приезде в Россию, чтобы привить от оспы императрицу и ее сына. Врач принял вызов, и в июле 1768 года пятидесятишестилетний доктор Димсдейл и его двадцатидвухлетний сын Натаниель (студент-медик из Эдинбурга) отправились в Санкт-Петербург. Незадолго до Димсдейлов в Россию прибыл новый британский посол — лорд Кэткарт. Учитель его детей Уильям Ричардсон описал, каким он впервые увидел город с причаливающего судна:
«Дворцы Ораниенбаума [именно так] и Петергофа великолепно выглядели с моря; ландшафт приятно разнообразили леса и невысокие холмы. Вокруг Санкт-Петербурга много лесов, так что при приближении казалось, будто колокольни и шпили, покрытые оловом и бронзой, а иногда и позолотой, поднимаются прямо из леса»{425}.
Первым публичным событием, которое посетил восьмого августа лорд Кэткарт с семьей, было заложение камня в основание нового Исаакиевского собора, созданного Ринальди. Предыдущая деревянная церковь на Старо-Исаакиевской площади была снесена, чтобы расчистить место там, где Фальконе наметил поставить конную статую Петра I. Собору Ринальди отвели место дальше, в глубине площади. И лорд Кэткарт, и мистер Ричардсон описали событие с одинаковыми деталями. «Все пространство под собор было предварительно огорожено забором; на место допустили только персон высоких рангов и особо приглашенных. Огромная толпа собралась за ограждением»{426}. Лорда Кэткарта с сопровождением провели в палатку, где представили большинству придворных дам. На месте будущего алтаря была возведена арка «на восьми колоннах предположительно коринфского стиля, украшенная гирляндами»{428}; под аркой стоял стол, «покрытый малиновым бархатом с золотой каймой»{428}, на столе — небольшой мраморный ящик. На столе меньшего размера лежали предметы, предназначенные для помещения в закладной камень, в том числе медали и монеты, золотая коробочка, в которую их предстояло сложить, а также «два куска мрамора в форме кирпичей»{429}. Первым должен был прибыть великий князь со свитой. Ричардсон записал:
«Этот молодой князь, — несомненный наследник Российской империи, имеет бледное лицо с темными глазами, замечательными из-за их приятного цвета, а не благодаря выразительности, и строение скорее болезненное, чем изящное. Он показался веселым, вежливым, с непринужденными манерами. Одет он был в морскую форму с голубой лентой ордена святого Александра Невского»{430}.
Потом с Адмиралтейства выстрелила пушка. Ударили барабаны, объявляя о прибытии императрицы, за которой следовала процессия из дьяконов, размахивающих кадилами и несущих стяги святого Исаакия, и священников с крестами, свечами и большой иконой, а за ними шли певчие и епископы. Ричардсон оставил детальное описание теперь уже тридцатидевятилетней императрицы Екатерины:
«Императрица России выше среднего роста, очень миловидна, изящно сложена, но склонна к полноте; лицо имеет чрезвычайно белокожее, что, как каждая женщина в этой стране, пытается исправить румянами. У нее прекрасный рот и зубы; глаза голубые, а взгляд не просто оценивающий, но испытующий — хотя все-таки и не подозрительный. Черты лица правильные и приятные. В общем, судя по ее облику в целом, было бы несправедливо назвать ее мужеподобной, но неправильно было бы и сказать, что она исключительно женственна… На ней была серебряная накидка на горохово-зеленом фоне и платье с пурпурными цветами и с серебряной отделкой. Волосы причесаны по современной моде. Ее украшали также богатое бриллиантовое ожерелье, браслеты, серьги и голубая лента самого высокого рыцарского ордена; погода была теплой, императрица несла маленький зеленый зонтик. Она улыбалась и по отношению к окружающим держалась доброжелательно»{431}.
Лорд Кэткарт дал краткое описание Григория Орлова, которое предполагает, что фавориту императрицы после возведения Екатерины на престол пришлось с муками, но освоить придворный этикет: «Граф Орлов ростом много выше среднего, он элегантен, выражение его лица сдержанное и мягкое. Очень хорошо говорит по-французски»{432}. Провели церковное богослужение с молитвами и пением, кроплением святой водой и окуриванием ладаном. Затем благословили медали, уложили их в мраморный ящик, и императрица первой использовала золотой мастерок для укладки в камень монет. Великий князь добавил немного раствора, то же сделал лорд Кэткарт и прочие различные государственные сановники. Когда все было сложено в мраморный ящик, стол убрали через люк, и императрица работала воротом, пока ящик не опустился вниз, под платформу, встав на место. После этого архимандрит Платон произнес проповедь, и служба закончилась взаимным целованием рук священников и императрицы. Священники — по словам Ричардсона — целовали императрице руку «с готовностью и с громким звуком»{433}. В том же месяце, но позднее лорд Кэткарт наблюдал за работой Законодательной комиссии в зале Зимнего дворца, где проводилось большинство сессий, из ложи по соседству с императорской, откуда Екатерина порой наблюдала за происходящим и слушала дебаты, оставаясь незамеченной. Посол пришел в перерыв.
«Помещение казалось настолько забитым, а разные группы были так заняты разговором, что поневоле, взгляну в вниз на ассамблею, я представил себе улей. Один конец зала занимал трон императрицы, вдоль другого и по обеим сторонам располагались скамьи, как в Палате общин; слева от трона поместили карту государства. В почетной части зала стоял также стул для обер-церемониймейстера комиссии, а с другой стороны — еще два: для распорядителя, ведущего протокол, и для генерал-прокурора — представителя императрицы, имеющего право прерывать работу от ее имени в случае, когда нужно соблюсти процедурные правила. Участники классифицированы по провинциям; каждый район представлен дворянином, купцом или ремесленником и свободным крестьянином; места пронумерованы и занимаются соответственно. Духовенство представлено одним участником — архиепископом, который сидит справа от трона. Когда заседание возобновляется, участники организованно занимают свои места и отлично поддерживают тишину и внимание до часа, когда объявляется перерыв»{434}.
Ознакомительное путешествие лорда Кэткарта окончилось в Смольном институте:
«[Бецкой] получил задание в четверг вечером показать нам так называемый монастырь, где императрица за свой счет обучает двести пятьдесят юных дам знатного рода и сто пятьдесят дочерей горожан и свободных крестьян. Их принимают в возрасте четырех лет и воспитывают до девятнадцати. Учениц делят на пять классов; в каждом они остаются на три года. За это время их учат всему, что необходимо. Я видел их спальни и присутствовал на ужине. Невозможно преувеличить достижений мистера Бецкого и заботливости дам, служащих в школе. Сейчас она пребывает в периоде становления: пока принято только двести двадцать девочек. Здание, которое действительно строилось предыдущей императрицей под монастырь, величественно даже не будучи еще достроенным»{435}.
«Юные дамы знатного рода» обучались религии, русскому языку, иностранным языкам, арифметике, географии, истории, геральдике, рисованию, музыке, вязанию и шитью, танцам и поведению в обществе, а дочерям горожан и свободных крестьян преподавали те же предметы, но иностранные языки заменялись на уроки ведения домашнего хозяйства. Ученицы жили в институте в течение всех пятнадцати лет обучения. Родители могли навещать их и оценивать их успехи в дни, выделенные для посещений, но домой на праздники девочек не отпускали: Екатерина и Бецкой считали, что отделение от семьи на период обучения необходимо, дабы следующее поколение стало лучше настоящего. Утром 28 августа доктор Димсдейл с сыном прибыли в Санкт-Петербург и были временно размещены в апартаментах на Миллионной улице, где их тайно проведала Екатерина. Единственными присутствовавшими на этой первой встрече были Никита Панин и Александр Черкасов. Последний говорил по-английски и присутствовал в качестве переводчика, так как французский доктора Димсдейла был не на том уровне, чтобы последний мог поддержать разговор без посторонней помощи. Доктор поразился, насколько хорошо императрица оказалась информирована о предмете — т. е. прививке от оспы, — так как она расспрашивала его с «необычайным проникновением в тему и пониманием»{436}. Димсдейлов пригласили присоединиться к императрице за обедом, где она председательствовала во главе стола примерно на дюжину гостей. «Обед состоял из нескольких прекрасных блюд, приготовленных во французской манере, с последующим десертом из отличных фруктов и варенья»{437}. Внимание Димсдейла особенно привлекли русские ананасы, которые были «хотя и некрупными, зато очень вкусными»{438}. Императрица, сообщил Димсдейл, была учтива и внимательна к каждому гостю, все они в ее присутствии держались непринужденно. Причина появления Димсдейлов в Санкт-Петербурге была, как выразился лорд Кэткарт, «тайной, которую знали все»{439}. Императрица была готова к немедленной прививке, но Димсдейл хотел произвести процедуру вначале на четырех-пяти десятках других людях, так как считал, что иной климат может повлиять на результат. Он заверил лорда Кэткарта (который, естественно, нервничал, как и король Георг III, по поводу британской операции на русском государе), что и Екатерина, и великий князь находятся в прекрасном здравии и готовы к успешному проведению процедуры, и сообщил послу, что он «очарован их любезным и обаятельным обращением»{440}. В подготовительный период, когда задействовали нескольких молодых людей из бедных семей для обеспечения инфекционного материала и проверки вакцины, Димсдейлы были поражены тем, что большинство людей низкого происхождения в России считает свежий воздух опасным, в особенности для больного и выздоравливающего. Одну семью пришлось подкупать, чтобы открыть окно в комнате их больного ребенка — но даже тогда они согласились держать окно открытым только в присутствии Димсдейлов и сразу закрыли его, как только те ушли. Ожидание вакцинирования было не главной заботой Екатерины летом и осенью 1768 года. Международная ситуация уже некоторое время была напряженной. Польские патриоты восстали против России и Понятовского. В ответ Екатерина ввела в страну большую армию. Это было воспринято как самоуправство и наглость со стороны России — в особенности Францией, которая использовала первую же возможность подкупить Турцию, дабы бросить вызов агрессору. Ситуация обострилась до предела после набега на турецкую территорию отряда русских казаков, преследующих нескольких польских повстанцев. Оказавшись по ту сторону границы, казаки учинили резню среди евреев и татар. В ответ 25 сентября турки объявили войну в своей традиционной манере — то есть захватив в плен в Замке Семи башен русского посланника Алексея Обрезкова. Одной из первых жертв русско-турецкой войны стала Законодательная комиссия, чьи пленарные сессии пришлось отменить, так как многим депутатам нужно было отбыть по месту военной службы. Ничто еще не дошло до окончательного одобрения комиссии, хотя записи дебатов, дискуссий и списки жалоб Екатерина собрала, обеспечив себя богатой информацией, из которой могла черпать в будущем. Также продолжили свою работу девятнадцать подкомитетов, готовя к последнему сроку проект законов на рассмотрение императрицы. С началом войны было объявлено три рекрутских набора, и с октября по декабрь в армию было призвано пятьдесят тысяч человек. Рекрутские наборы всегда вызывали у населения горе и отчаяние. Когда из деревень уходили колонны несчастных рекрутов, иногда скованных цепью, на пожизненную в то время службу, семьи и соседи прощались с ними, будто с умершими. Екатерина образовала маленький Государственный Совет, состоящий из ближайших доверенных лиц и чиновников, для координации военных усилий, определения целей России в этой войне и дабы наметить общую линию российской внешней политики. Совет, будучи временным образованием для обсуждения исключительно поставленных перед ним Екатериной задач, не был озабочен общим управлением страной. Обычно, хотя и не всегда, императрица сама назначала встречи. Разразившаяся война не сорвала планов вакцинации. Доктор Димсдейл описал обстановку, которая окружала это таинственное мероприятие:
«Через службу барона Черкасова все было оговорено и устроено согласно пожеланиям императрицы. В девять часов вечера, согласно предварительной договоренности, в доме Вольфа [то есть в доме британского консульства] появился посыльный с приказом для нас с сыном прийти немедленно, приведя с собой больного, от которого будет взят материал для вакцинации. Никто, кроме нас двоих, не знал настоящей причины этого приказа, а мы выглядели такими же удивленными, как и все остальные. Тем не менее, мы немедленно сделали все, о чем нас просили. Ребенок, которого я выбрал как самого подходящего для этой цели и который уже выказывал симптомы оспы, спал. Мой сын поднял его на руки, завернул в собственный плащ и понес к карете. Мы были в карете одни. Нас подвезли к парадному входу дворца возле Миллионной улицы, той, где нам дали апартаменты, когда я только приехал в город. Мы вошли через потайную дверь; нас встретил барон Черкасов и провел к императрице»{441}.
Лорд Кэткарт сообщил, что единственными людьми, присутствовавшими во время прививки, были Никита Панин, Каспар фон Залдерн (голштинский посланник, близкий в то время к Панину и великому князю) и барон Черкасов; Григорий Орлов был в это время на охоте и не был даже информирован. На следующий день после прививки Екатерина уехала на период карантина в Царское Село, на свежий воздух. Там, как предписал доктор Димсдейл, она соблюдала «прохладный режим», включавший два-три часа на воздухе ежедневно. 21 октября лорд Кэткарт смог сообщить лорду Уэймоту, что операция прошла успешно:
«С огромным удовольствием имею честь известить Вашу Светлость, что императрица, которая испытала лишь легкое недомогание и не затворилась после операции в своих апартаментах, вчера дождалась очень благоприятных высыпаний оспы, очень немногочисленных и такого качества, которое полностью удовлетворило доктора Димсдейла. Это я услышал от мистера Панина, которому Ее величество собственноручно писала каждый день (кроме одного, когда у нее болела голова). В то же время он предупредил меня, что его сообщение — очень большой секрет, о котором никто не должен знать, пока не сделают прививку великому князю. Я заверил его, что новость принесет королю величайшее удовлетворение, так как Его величество ожидал от поездки доктора Димсдейла за границу положительного результата и, насколько я знаю, с нетерпением ждет известия, что все уже счастливо завершилось»{442}.
Несколькими днями позже граф Солмс сообщил более точные подробности — которые, по его словам, получил от Панина — Фридриху Великому:
«Высыпание имело место, не вызвав сильной лихорадки. Ее величество лихорадило два дня, в течение которых ей пришлось оставаться в постели. Появилось несколько прыщиков на лице и сотня по остальному телу, в основном на обеих руках. Они уже начинают засыхать, поэтому, насколько можно предсказать, больше нет причины для страха»{443}.
Екатерина была довольна и собой, и доктором Димсдейлом, как видно из веселого письма мадам Бьельке (из которого ясно также, что доктор Димсдейл стал объектом сплетен по всей Европе):
«Мадам! Что бы ни говорили вам плохого о монсеньоре Димсдейле, он не шарлатан и не знахарь. Он привил меня двенадцатого октября, и менее чем через три недели, слава Богу, я поправилась и освободилась ото всех страхов по поводу этой ужасной болезни. Некоторые последовали моему примеру, и среди других гофмейстер артиллерии Орлов и гофмаршал Разумовский. Весь Петербург хочет быть привитым, и все, кто это сделал, в полном порядке. Мой доктор — осторожный, мудрый, бескорыстный и необычайно честный человек. Его родители были квакерами, он вначале тоже — но оставил их, сохранив только их кристальную мораль. Я буду вечно благодарна этому человеку. Хулить это собрание совершенств могут только сплетники, движимые недобрым досужим любопытством»{444}.
Екатерина рассказала Вольтеру, что на следующий день после прививки отважный Орлов отправился в буран на охоту{445}. Следующим был привит четырнадцатилетний великий князь. Несмотря на рецидивные детские болезни — Екатерина относила их к воспитанию его в раннем детстве «весьма странными старыми дамами»{446}, которым вверила его императрица Елизавета, — доктор Димсдейл признал его «прекрасно развитым физически, крепким и здоровым, сильным и без какой-либо врожденной болезни»{447}. Павлу сделали прививку 2 ноября; обошлось без осложнений. В тот же день был пропет благодарственный молебен в честь выздоровления Екатерины. Ее ответ на поздравление Сената показывает, что она придавала огромное значение своей прививке — которая несла в себе личный риск.
«Моей целью было подать личный пример, чтобы спасти от смерти бессчетное число моих верноподданных, которые, не зная достижений этого метода и боясь его, оставались в опасности. Этим я исполнила часть долга согласно своему призванию, потому что, по Евангелию, хороший пастух отдаст жизнь за своих овец»{448}.
Уильям Ричардсон в деталях описал службу, проведенную 22 ноября в часовне Зимнего дворца в честь выздоровления Екатерины и Павла. Его описание сделано в основном с точки зрения несколько растерянного западного наблюдателя, и ему явно не понравились иконы. Тем не менее он дает, хоть и без понимания, очень точное описание православной литургии, достойное воспроизведения:
«По бокам часовни, очень величественной и просторной комнаты в Зимнем дворце, стоит ряд позолоченных ионических колонн. Стены покрыты яркими, плохо выполненными изображениями русских святых. На потолке над алтарем (или скорее над местом, соответствующим алтарю в английских церквях) представлен Господь в виде старика в белом облачении. Внутри ограды, протянувшейся через комнату, заслоненная колонной, расположенной рядом с алтарем, на южной стороне стояла императрица с сыном, а по обе стороны от алтаря располагался хор певчих. Остальные — верующие, то есть все принимающие участие в церемонии, за исключением священников, — стоят вне ограды. Церемония началась торжественной музыкой; затем были произнесены молитвы и восклицания, которые составили первую часть службы. Через какое-то время складные двери рядом с алтарем распахнулись изнутри и открыли великолепный вид на интерьер самой святой части часовни. Напротив нас находилось большое изображение снятия с креста; с каждой стороны располагался ряд позолоченных ионических колонн; в середине стол, покрытый золотой скатертью, а на столе — распятие, канделябр с горящими тонкими свечами и потиры со святой водой. Несколько почтенных священников с седыми волосами, струящимися бородами, митрами и в дорогих ризах стояли в торжественном порядке по сторонам роскошного святилища… Оттуда «медленным, торжественным шагом» выдвинулся священник, неся зажженную свечку; за ним тем же манером последовал другой, бормоча молитвы и неся кадило, курящееся ладаном. Подойдя к Ее величеству, он три разавзмахнул перед нею кадилом; она все время кланялась и очень изящно крестила грудь. За ним подошел еще один священник, который нес Евангелие; он зачитал какой-то отрывок и протянул Евангелие Екатерине, которая поцеловала книгу. Затем священники ушли, складные двери закрылись; хор пропел хорал, и ему ответили музыкальные голоса изнутри. Музыка была глубоко тональной и величественной. Складные двери снова открылись: церемония со свечками и кадилами повторилась. Затем появились два священника, принесшие под золотой тканью хлеб и вино для причастия. Исполнив свое дело, они исчезли. Двери закрылись, и возобновилась торжественная музыка. Наконец, двери открыли в третий раз — с той же церемонией, что и раньше; священник, поднявшись на кафедру, возвышавшуюся напротив императрицы, произнес речь… После этого некоторые священники вышли из глубины часовни и завершили службу молитвами и восклицаниями»{449}.
В день святой Екатерины, 24 ноября, императрица наградила доктора Димсдейла титулом русского барона — званием, передающимся по наследству. Она также вручила ему подарок в размере десяти тысяч фунтов и пенсию — пятьсот фунтов в год. Кроме того, его наградили государственным рангом советника, равным армейскому чину генерал-майора Александру Маркову, мальчику, у которого брали инфекционный материал, дали почетную приставку к фамилии «Оспенный» (оспа — русское название болезни, так что это была довольно сомнительная честь). Доктор Димсдейл, ныне барон, продолжал практиковать в России еще несколько месяцев. Был организован дом вакцинации — в помещении, где раньше располагалась текстильная фабрика. Жители Петербурга могли прийти туда и бесплатно сделать прививку. Димсдейл поведал в заметках, которые вел во время своего пребывания в России, что императрица и великий князь позволяли брать у себя материал для вакцинирования множества посторонних людей, таким образом помогая развеивать заблуждение, что процедура опасна для дающих материал{450}. Способность Екатерины очаровывать наилучшим образом сработала в случае с бароном Димсдейлом. Он описал ее как женщину выше среднего роста, с природной грацией и величавостью. Он нашел ее любезной, приветливой, обладающей чувством юмора, а также высоким интеллектом — «невозможно не восхищаться ею». На него произвело впечатление то, что она превосходно владеет языками — русским, французским и немецким, — а также умеет читать по-итальянски и немного понимает английский. Он докладывал, что она соблюдает ритуалы православной церкви «в достойной подражания манере», очень сдержанна в потреблении вина, которого выпивает за едой только один-два бокала, причем разведенного водой, и без устали занимается государственными делами. «Поддержка и оздоровление свободных искусств, благополучие подданных — вот дела, к которым в мирное время постоянно, ежедневно обращается ее талант». Барона не меньше поразил великий князь Павел, которого он описал как человека среднего роста, с приятными чертами лица и в прекрасной физической форме. Он нашел его веселым, дружелюбным, остроумным в разговоре и был поражен высоким качеством его учителей и вниманием, которое он уделял учебе: «Утро он проводит в основном с [учителями]; около полудня идет выказать уважение императрице; после этого проводит некоторое время с придворными, которые имеют честь обедать за его столом. Закончив обед, после кофе, он идет в свои внутренние покои, где занимается до вечера». Даже когда Екатерина была погружена в законотворчество, военные дела и развитие медицины, она никогда не забывала о своей коллекции картин, которая за эти годы значительно расширилась. В 1768 году князь Дмитрий Голицын был переведен послом из Парижа в Гаагу, где смог найти для императрицы две маленькие, но весомые коллекции датской и фламандской живописи — принца де Линя и графа Кобенцла. Коллекция Кобенцла содержала также около четырех тысяч рисунков старых мастеров. Затем, в 1769 году, она приобрела коллекцию последнего графа Генриха фон Брюла, саксонского посланника, помощью которого воспользовалась при назначении Станислава Понятовского чрезвычайным послом в 1756 году. Ее представитель в Саксонии предупредил ее о продаже картин наследниками фон Брюла, и она выказала готовность купить их, если они действительно принадлежат тем художникам, которым приписывались. Улов — и старые мастера, и современные работы — состоял более чем из шестисот полотен, включая шедевры Рембрандта, Рубенса, Якоба ван Рейсдаля и Ватто, и тысячи рисунков, в том числе большого количества графических работ Пуссена и Рембрандта, Паоло Веронезе и Тициана, а также немалого числа гравюр{451}. Екатерина заплатила за коллекцию сто восемьдесят тысяч гульденов. Та прибыла из Гамбурга морем. Рисунки составили четырнадцать запакованных в кожу томов. И все-таки, несмотря на меры предосторожности при перевозке, коллекция пострадала от морской воды. Насколько Екатерина полагалась на советчиков при приобретении работ для своей коллекции, видно из записки, которую она написала Фальконе в июле 1769 года: «Вы говорите, что тридцать три картины, каталог которых прислал вам монсеньор Колин, принадлежат способному человеку, но вы не сказали, хороши ли они. Если вы, монсеньор, считаете, что хороши, то обяжете меня, спросив своего друга об их цене»{452}. Однако она не соглашалась ничего покупать, опираясь исключительно на чужие советы. В августе 1769 года она отвергла работу художника Карла Ванлоо, и вот как объяснила свое решение Фальконе: «Я недостаточно разбираюсь, чтобы видеть в ней то, что увидели вы»{453}. Малый Эрмитаж, который имел висячий сад (где содержались певчие птицы), построенный над конюшнями, с апартаментами по обеим его сторонам, в этом году был закончен. Екатерина попросила добавить с каждой стороны сада картинные галереи. Несколько статуй было вынесено в висячий сад, что не составило удачной комбинации с певчими птицами. Как с болью объяснил императрице Фальконе, «аллегорическая мраморная фигура «Любовь» покрыта птичьим пометом и испорчена; капли оставляют на мраморе несмываемые пятна»{454}. В начале 1769 года вышло первое издание сатирического еженедельника, озаглавленного «Всякая всячина» — по образцу английских «Tatler» и «Spectator». Его тематикой была мягкая сатира на такие дефекты российского общества, как «невежество, суеверие, коррупция, нечеловеческое обращение с крестьянами, преклонение перед всем французским»{455}. Екатерина, сама никогда не упускавшая возможности написать поучительное сочинение, анонимно участвовала в этом проекте — предполагается, что она была задействована также и при его основании. Примерно в это же время начал появляться ряд других сатирических периодических изданий, в том числе «Трутень», издаваемый Николаем Новиковым, «Адская почта», издаваемая новеллистом Федором Эмминым, и «Смесь». Ни один из них, даже «Всякая всячина», не протянул больше года, так как в России не существовало еще достаточного количества читающей публики, чтобы поддержать их. Уильям Ричардсон жаловался, как трудно выяснить, что в действительности происходит в политической жизни России — по причине отсутствия хотя бы некоего подобия газет, к которым он привык в Англии и которые отражали бы состояние дел, что особенно важно при таких расстояниях от одного конца страны до другого: «Половина России может быть разрушена — другая половина ничего не будет об этом знать»{456}, Ричардсон также считал русскую зиму вызовом человеку:
«Холод! Отчаянный холод! С первого ноября у нас стоит зима без малейших потеплений. Говорят, она может продолжаться, не смягчаясь, до середины апреля. Морозы не прекращаются. С северо-востока почти постоянно дует ветер. Он является, унылый и холодный, с севера Сибири и приносит с собой огромное количество снега. В начале зимы беспрерывно несколько дней шел снег. За городом не видно ничего, кроме бескрайней белой пустыни; реки — сплошная кристаллическая масса»{457}.
Этой зимой Екатерина испытала «знобящий холод», который, что совершенно необычно, продержал ее в постели шесть дней — «что я нашла очень неудобным для того, кто любит двигаться и смертельно ненавидит лежать в постели»{458}. Доктор Димсдейл, который все еще находился в Петербурге, наблюдал за императрицей и запретил ей работать в течение десяти дней. В знак особого уважения к представителю профессии, над которой она обычно насмехалась, Екатерина послушалась его — по-своему, — проводя время в написании писем, как только смогла вставать. 6 марта лорд Кэткарт отправил графу Рошфору свои рассуждения (помеченные грифом «абсолютно секретно и конфиденциально») об основных членах русского двора. Он начал с общего обвинения русских, каковые, как он писал, суть «народ без образования и признаков знаний любого толка, хотя не без расторопности в делах»{459}. Он заявил, что некоторые из них выказывают «высокие претензии» — но их единственной политикой является «коварство, которое может обмануть постороннего и смутить соперников, но никогда не поможет вести дела или приобрести доверие проницательных друзей»{460}. О Екатерине — конечно, не русской — он придерживался самого высокого мнения: «Императрица проявляет быстроту мысли и проницательность, внимание к делу и желание сделать свое правление достойным и полезным даже для самых низких своих подданных, а также возвысить будущее и настоящее поколения, что, не видя ее, представить себе трудно»{461}. Лорд Кэткарт также высоко оценил Григория Орлова, прощая ему недостатки, которые свойственны большинству русских:
«Граф Орлов — человек благородный, гуманный и доступный, его отношение к государыне — самое уважительное. Он малообразован, но имеет чрезвычайно благоприятные природные задатки и далек от притязаний любого рода, чем в этой стране могут искренне похвалиться немногие; он познал много боли и получил в последние годы возможность самообразования. Я воспользовался случаем поговорить с ним однажды вечером, когда он был разгорячен танцами и выпил лишний стакан вина, и могу рискнуть предложить свое о нем мнение как о человеке честном и правдивом, ненавидящем и презирающем малейшие отклонения от этих качеств в других»{462}.
По мнению лорда Кэткарта, Екатерина создала вокруг себя два четко обособленных круга: один — из чиновников различных департаментов, которых она выбрала за их профессиональные качества, а другой — предназначенный только для вечернего отдыха после трудного дня. Второй кружок состоял из более молодых и менее серьезных людей. Все официальные лица, считал Кэткарт, страстно желали стать частью второго, неформального круга — кроме Никиты Панина, который (видимо, после печального конца его надежд на блестящую женитьбу) «изменил характер, изменил манеры и не скрывает, что для него это излишество, что он стремится не к земным радостям, а к пользе и чистоте, которые сделают честь его государыне и обеспечат стабильность ее правления»{463}. Старый поклонник Екатерины граф Захар Чернышев, наоборот, прочно сидит в обоих кругах, и «хотя лишь ненамного моложе мистера Панина, возглавляет все праздники на частных вечеринках»{464}. Посол мало сообщил о великом князе Павле — лишь то, что он был «многообещающим князем, полностью контролируемым мистером Паниным, который спит с ним в одной комнате и никогда не позволяет ему выходить одному»{465}. Неудивительно, что Павел сказал как-то о Панине: «Он делает слишком много»{466}. 21 апреля 1769 года был сороковой день рождения Екатерины. Томмазо Траетта, ранее придворный композитор в Парме, летом 1768 года заменивший Галуппи по истечению его трехлетнего контракта, написал по этому случаю оперу «Олимпиада». Екатерина весело написала мадам Бьельке:
«Отвага идущего первым — вот слова, отобразившие меня в хорошие и в плохие годы в равной степени. Прошедших лет у меня теперь набралось сорок, и что значит это теперешнее несчастье по сравнению с предыдущими? Но так как вы глубоко интересуетесь моими успехами, позвольте сообщить вам, мадам, что тридцатого апреля по новому стилю, в Пасху, мы выиграли битву у армии из пятидесяти тысяч турок под стенами Хотина»{467}.
10. Героический Орлов (1769–1772)
Благодаря неутомимой заботе и усердию графа Орлова моровое поветрие в Москве пошло на спад.4 августа 1769 года Екатерина сообщила Вольтеру: «Мои солдаты идут на войну против турок, будто на свадьбу»{468}. Последствия войны и перспектива грядущего подъема России как морской державы еще не вызывали беспокойства у британского посла — в основном потому, что российский флот того времени сильно зависел от британского опыта:Екатерина II —своей подруге мадам Бьельке
«Я считаю своей обязанностью следить, чтобы в настоящий момент ничто не было ближе сердцу императрицы и чаяниям нации, чем поставить российские военно-морские вооруженные силы на достойную основу. Это не может быть сделано иначе, чем при взаимодействии и с помощью Англии, и невозможно, чтобы Россия когда-нибудь стала нам достойным конкурентом — ни в коммерции, ни в военно-морской силе»{469}.
Этим летом Этьену Фальконе предстояло предъявить общественности свою конную статую и вынести первый плевал отзывов. Отдельной темой разговоров стала змея, которую скульптор поместил в основание монумента. Некоторые говорили, будто она неприемлема и должна быть убрана — не понимая, что, как Фальконе объяснил Екатерине, без змеи под копытами Петрова коня «опора статуи будет необычайно слабой. Они не делали, как я, расчетов распределения веса. Они не знают, что если бездумно последовать их совету, скульптура вообще не устоит»{470}. Екатерина, не желая быть вовлеченной в споры, ответила Фальконе: «Есть старая песня, гласящая «что будет, то и будет» — вот мой ответ на змею. Ваши доводы убедительны»{471}. Позднее, в апреле, Екатерина снова вернулась к той же теме: «До меня доходят одни похвалы скульптуре. Лишь одна персона заявила, что ей бы хотелось видеть одежду более складчатой — иначе глупцы могут подумать, что это женская сорочка. Но вы ведь не можете ублажить каждого!»{472} Гранитный валун, расщепленный молнией и известный из-за этого как «гром-камень», нашли в Лахте, в Карелии[39], и сочли идеальным постаментом для конной статуи. После того, как Екатерина сама осмотрела камень, она объявила о награде тому, кто придумает наилучший способ доставить его в Петербург. Победило предложение перекатить камень по специально сооруженной дороге от Лахты к северному берегу Финского залива. Предприятие заняло пять месяцев. Отсюда на огромной барже его отбуксировали по Неве к месту назначения. К концу мая 1770 года Екатерина все еще успокаивала Фальконе, который на этот раз нервничал из-за отсутствия откликов на его работу (недавно была открыта для обозрения глиняная копия):
«Я знаю, что вы сняли покроет и что в целом все довольны. Если люди ничего не говорят вам, то это из деликатности. Одни чувствуют, что недостаточно квалифицированны, другие, возможно, боятся обидеть вас, высказав свое мнение — но большинство просто не находит предмета для дебатов. Не… следует видеть все в черном цвете»{473}.
В течение 1770 года Екатерина поняла, что ей необходимо более просторное здание для размещения разрастающейся художественной коллекции. Архитектора Юрия Фельтона, немца по происхождению, родившегося в Петербурге, призвали пристроить неоклассическое продолжение к Малому Эрмитажу. Это здание стало известно как Старый Эрмитаж. Оно должно было вместить не только галереи, но и библиотеку, медальный отдел и бильярдную комнату (бильярд всегда был одним из любимых времяпрепровождений Екатерины). В это же время Екатерина все больше начинает интересоваться парками и их обустройством. В мае она издает приказ по закладке в Царском Селе «Английского парка». Этот термин стал определять живописный или ландшафтный парк, в котором искусство помогало создать «эффект естественности». Два года Екатерина работала над тем, что подразумевала под «Английским парком». Она писала Вольтеру:
«Сейчас я обожаю английские парки — изгибы, мягкие склоны, пруды в форме озер, архипелаги сухой земли — и питаю полное презрение к прямым линиям и симметричным аллеям. Я ненавижу фонтаны, которые терзают воду, вынуждая ее двигаться вопреки природе; статуи сосланы в галереи, вестибюли и так далее. Одним словом, англомания — хозяйка моей флоромании»{474}.
С 24 по 26 июня 1770 года русские войска вступили в битву с турками в Чесменском заливе Эгейского моря и одержали решительную победу. Большая часть турецкого флота была уничтожена. Екатерина изложила то, что ей рассказали, в письме Вольтеру (и значит, всей остальной Европе):
«Мой флот — под командованием не моих адмиралов, но графа Алексея Орлова — сначала побил вражеский флот, а потом полностью сжег его в порту Чесма… Почти сто судов всех видов были превращены в золу. Не смею сказать, сколько мусульман погибло: говорят, почти двадцать тысяч… Война гнусное дело, сир! Граф Орлов рассказывал: в день после сожжения флота он с ужасом увидел, что вода порта Чесма, который не очень велик, стала цвета крови — так много турок было там убито»{475}.
Через десять дней имела место битва при Ларге. Она также завершилась победой русских. Одним из офицеров, награжденных за участие в битве, был Григорий Потемкин, к этому времени генерал-майор кавалерии. Его наградили орденом святого Георгия третьей степени (императрица основала этот орден 26 ноября 1769 года). 20 июля императрица посетила благодарственный молебен в соборе Казанской Божьей матери в честь победы на реке Ларга. На следующий день состоялась битва при Кагуле, и 2 августа императрица присутствовала еще на одном благодарственном молебне. Помимо потерь, обычным порядком понесенных при военных действиях, русско-турецкая война подвергла Российскую империю угрозе бубонной чумы, так как последняя часто бушевала в Турции и на примыкающих к ней землях. Власти знали об этой опасности с самого начала, и к концу мая самый авторитетный по этому предмету доктор Иоганн Лерш был послан во Вторую армию под командование генерала Петра Панина (брата Никиты Панина), который шел осаждать турецкую крепость Бендеры. 27 августа Екатерина тайно приказала принять карантинные меры в Киеве, который служил основным центром снабжения войск и таким образом являлся местом, откуда чума могла распространиться по всей империи. К несчастью, чума уже достигла Киева, хотя первые проявления прошли незамеченными. 9 сентября генерал-губернатор города наконец, объявил о присутствии болезни. Десятью днями позже императрица приказала оцепить Украину кордонами. Генерал-губернатору Москвы фельдмаршалу Петру Салтыкову тоже было приказано установить проверочные посты на реке, протекающей через Серпухов. К 3 октября власти Киева говорили уже о «лихорадке с пятнышками», которая обычно считалась менее опасной, чем «чумное нездоровье» или моровая язва. Тем не менее 10 октября доктор Лерш прибыл в город, чтобы принять меры против чумы, и 1 ноября императрица отправила специального эмиссара, чьей задачей было наблюдать за сдерживанием болезни на Украине. Тем временем Екатерине приходилось уделять свое беспокойное внимание еще одной теме — а именно приему принца Генриха Прусского, младшего брата короля Фридриха (который впервые познакомился с Екатериной, когда та едва выходила из детского возраста; тогда он обсуждался как возможная партия). Он прибыл в Петербург в конце октября. Политической целью его визита была поддержка раздела Польши, каковой был на руку и Пруссии, и России, — хотя стороннему наблюдателю казалось, что гость прибыл в основном для возобновления знакомства с Екатериной и для знакомства с Россией. В конце октября императрица и великий князь, которому недавно исполнилось шестнадцать, сопроводили принца Генриха в Царское Село, где все и пробыли несколько дней. Екатерина рассказала своей подруге, мадам Бьельке, что принц очень внимателен и дружелюбен с нею, хотя она боится, что ему может быть довольно скучно{476}. Из описания Уильяма Ричардсона ясно, что пруссак позволил русским придворным немного развлечься за свой счет: «Он ниже среднего роста; очень худ; имеет достаточно твердую походку, скорее горделивую поступь, словно хочет ступать решительно, — но в облике и жестах не хватает достоинства. Он темноволос и носит свои замечательно густые волосы собранными в пучок, прикрывая их небольшим париком. Лоб у него высокий; глаза большие, чуть косящие; когда он улыбается, верхняя губа в середине приподнимается. Взгляд выражает здравомыслие и наблюдательность, но без особого дружелюбия: его манеры скорее важны и жестки, чем любезны. Когда я встретил его первый раз, он был одет в светло-голубой сюртук с серебряной тесьмой и красный жилет с голубыми бриджами. Он не особо популярен среди русских, и с их понятиями они склонны вышучивать его вид, особенно парик»{477}.
В воскресенье 28 ноября в честь принца Генри при дворе был устроен маскарад. Его посетили три тысячи шестьсот человек, заполнив двадцать одно помещение Зимнего дворца. Уильям Ричардсон описал некоторые костюмы:
«Большая часть компании пришла в домино или в одежде капуцинов. Хотя некоторые любопытные личности доставили массу удовольствия… Императрица, когда я увидел ее, была в греческих одеждах; хотя потом мне рассказали, что за время маскарада она два-три раза меняла костюм. Принц Генрих Прусский был в белом домино. Несколько человек появилось в различных национальных костюмах — китайском, турецком, персидском и армянском. Самой смешной и фантастической фигурой оказался француз, который с замечательным проворством и мастерством представлял обросшего, но очень симпатичного попугая»{478}.
Француз, наряженный попугаем, обратил ироничное внимание в сторону важного пруссака:
«Он болтал с воодушевлением, и его плечи, покрытые зелеными перьями, представлялись частью крыльев. Он привлек к себе внимание императрицы. Образовался круг. Француз, чрезвычайно довольный, размахивал плюмажем, лопотал по-русски, по-французски и вполне сносно по-английски. Дамы шумно веселились, все смеялись — только принц Генрих, который стоял возле императрицы, был таким серьезным и торжественным, что замечательно исполнил свою роль совы. Попугай оглядел его, намеренный взять верх, и, сказав множество приятных слов Ее величеству, поскакал прочь. Но выходя из круга, как будто что-то вспомнил, остановился, оглянулся через плечо на застывшего принца и, точно копируя тон попугая с французским акцентом, выразительно обратился к нему: «Генрих! Генрих! Генрих! — потом нырнул в толпу и исчез. Его королевское высочество смутился; его вынудили улыбнуться, защищая себя, но всей компании вовсе не было смешно»{479}.
Трубы объявили о прибытии Аполлона с временами года и месяцами — их играли дети из Кадетского корпуса и Смольного института. Аполлон произнес речь, обращенную к императрице, а затем пригласил ее вместе со ста девятнадцатью гостями на ужин, который был накрыт на двенадцати столах, по десять человек за каждым. Каждый стол стоял в отдельной нише, представляющей один из месяцев. Большой овальный зал был «освещен более чем двумя тысячами свечей; над нишами проходила большая галерея, где сидели четыре оркестра и большое количество кутил в масках»{480}. Ужин сопровождался вокальной и инструментальной музыкой, а дети представляли балет. Сцена была настолько очаровательной, что даже Ричардсон забыл о своем обычном английском превосходстве:
«С неравными интервалами люди в разнообразных одеждах входили в зал и устраивали казацкие, китайские, польские, шведские и татарские танцы. Все оказалось настолько великолепно и в то же время фантастично, что я не мог не подумать, будто присутствую на каком-то замечательном празднике, описанном в старинных романах»{481}.
Потом компания вернулась в соседний зал, где была сооружена сцена, и дети продолжили выступление. Официальная программа закончилась уже за полночь, танцы же продолжались до пяти часов утра. «Так завершился этот маскарад, — писала Екатерина мадам Бьельке, — которым все, похоже, остались довольны»{482}. В начале декабря принц Генрих уехал из Петербурга в Москву, где пробыл больше месяца. Он путешествовал инкогнито, поэтому смог избежать протокола, по которому должен был путешествовать брат Фридриха Великого при официальном визите. Он совершенно не обращал внимания на угрозу чумы — а она уже нависла над старой столицей. Москва была полна крыс — и из-за огромного объема хранящегося там зерна, вывозимого из города на баржах, и из-за количества воды, особенно привлекательной для норвежской крысы, чьим местом обитания служили сточные трубы и канавы. Тысячи домашних крыс тоже нашли пристанище в преимущественно деревянных строениях города. Однако в 1770 году никто не осознавал связи между бубонной чумой и носителями блох — крысами. Большинство людей, включая и Екатерину, думало, что чума каким-то образом происходит из подземных источников в форме невидимых испарений, через прямой личный контакт или через грязные предметы, такие как ткань, деньги и бумага — отсюда природа многих предпринимаемых мер предосторожности. Принц Генрих вернулся в Петербург через три дня после того, как московские власти узнали, что в городе действительно разразилась чума. Первый очаг эпидемии оказался незначительным, ограниченным двумя отдаленными деревянными бараками-флигелями московского общевойскового госпиталя. Среди местного медицинского персонала не было согласия относительно того, действительно ли это чума. Те, кто полагал, что да, считали ее дошедшей до Москвы из Константинополя через Дунайские княжества, Польшу и Украину. Московская полиция и генерал-губернатор Салтыков предприняли обычные меры предосторожности в виде изоляции и дезинфекции{483}. К новому году Екатерина перестала опасаться, что принцу Генриху может быть скучно в России, и сообщила мадам Бьельке, что, по ее мнению, ему тут нравится:
«Никогда в жизни я не встречала никого, с кем находила бы большее сходство идей: мы часто одновременно открывали рот, и оказывалось, что мы хотели сказать одно и то же. Вероятно, поэтому ему нравилось бывать со мной. Признаюсь вам, что ни один визит знатного лица не был мне так приятен, как этот… По правде говоря, он достоин уважения. Он весел, честен и человечен, ум его развит и отточен; короче, он герой, который проявляет ко мне большое дружелюбие. До свидания, мадам, прости — те за путаное письмо; меня три раза прерывали, пока я писала его»{484}.
Уильям Ричардсон был менее склонен верить, что принц Генрих хорошо проводит время:
«Город с начала зимы бурлит беспрерывными празднованиями и весельем: пиры, балы, концерты, спектакли, оперы, салюты и маскарады постоянно чередуются — и все в его честь, дабы развлечь Его королевское высочество принца Генриха Прусского, знаменитого брата настоящего короля. И все-таки Его королевское высочество выглядит не слишком веселым»{485}.
Думается, у рожденной в Германии императрицы было больше шансов понять неразговорчивого пруссака, чем у английского учителя. Принц Генрих уехал домой 19 января — в тот же день, когда был подписан контракт о найме некоего Джона Буша для работы в императорских парках. Мистер Буш, на деле Иоганн Буш, родился в Ганновере, но перебрался в Лондон в середине сороковых годов описываемого века. Там он создал прекрасный детский парк в Хакни. Оттуда его репутация распространилась по всей Европе. Екатерина отправила в Англию одного из своих архитекторов, Василия Неелова, который в числе первых занялся английским парковым дизайном в Царском Селе, и его сына Петра — с заданием изучить дизайн английского парка и уговорить Буша приехать поработать для нее. Продав свое дело, Буш со всей своей немаленькой семьей двинулся в Россию. Сначала он был направлен в Ораниенбаум, получив жалованье в тысячу пятьсот рублей в год. Принадлежавшая Екатерине концепция парка в Царском Селе ни в коем случае не ограничивалась растениями, прудами и даже нарочито примитивными дорогостоящими капризами ради них самих. Она использовала открытые пространства, чтобы воссоздать свою империю в миниатюре и в монументальной и символической форме напомнить о ее победах. Этот процесс открылся в начале 1771 года созданием плана Триумфальных арок и Ростральной колонны (известной также как Чесменская колонна), возведенной впоследствии Ринальди в центре Большого пруда в честь победы российского флота под командованием Алексея Орлова и капитана Самуэля Грейга (уроженца Шотландии, который поступил на русскую службу, чтобы сражаться с турками, и вырос до одного из самых значимых русских адмиралов). «Если эта война продолжится, — писала Екатерина Вольтеру 14 августа, — мой парк в Царском Селе вскоре будет походить на кегельбан, потому что каждую замечательную победу я отмечаю каким-нибудь монументом»{486}. В начале 1771 года Екатерина также вернулась к интенсивным поискам, которые обдумывала еще в 1768 году, — поискам подходящей невесты для великого князя Павла. Это, как она полагала, был не только необходимый шаг для обеспечения непрерывности наследования — в виде внуков; это был также путь отвлечения мыслей молодого Павла от идеи, что теперь, когда он уже почти взрослый, ему пора разделить с нею власть или даже — боже упаси — вытеснить ее с трона. У нее еще оставалось слишком много работы, чтобы позволить сыну подвергнуть опасности ее положение. Теперь она еще больше уверилась в необходимости удержания власти и в неоценимости пользы, которую ее правление уже принесло России и будет приносить впредь. Екатерина была намерена не повторять со своим сыном ошибки, какую совершила императрица Елизавета со своим племянником Петром, поэтому первые шаги по посвящению в тайны секса были сделаны, когда Павлу едва исполнилось четырнадцать лет. Снова была привлечена молодая вдова, чтобы провести обучение — и получилось так, что она задержалась далеко не на одну ночь. Ее звали София Чарторыйская, и она была дочерью бывшего губернатора Новгорода. Юный Павел — который уже проявлял себя любителем женщин — увлекся Софией; их отношения продолжались несколько лет. В 1772 году София родила ему сына. (По некоторым причинам сын был назван Семеном Великим; он умер в Западной Индии в 1794 году.) Однако Павлу объяснили, что эта связь лишь временная, и никаким эмоциональным заблуждениям не будет позволено встать на пути его подходящей женитьбы. Человеком, которого Екатерина выбрала для помощи в осуществлении своей цели, был барон Ассебург — датский посланник при ее дворе, похоже, обладавший всеми необходимыми источниками информации. Барон и императрица приступили к безжалостному обсуждению — чтобы не сказать критическому разбору — молодых принцесс Европы. Первой девушкой, появившейся в списке кандидаток, была принцесса Луиза Сакс-Готская, чья бабушка по отцу была из дома Ангальт-Цербстских — отец Екатерины был ее кузеном. Более того, дядя принцессы Луизы был женат на одной из теток Екатерины с материнской стороны. Екатерина предложила барону Ассебургу использовать это двойное родство как достойный предлог для матери принцессы посетить императрицу в сопровождении обеих дочерей — в надежде, что Екатерина обеспечит своих молоденьких родственниц, даже если ни одна из них не подойдет в качестве невесты для Павла. Тактика Екатерины в этом деле была почти идентичной тому, как поступила императрица Елизавета, вызвав ее самоё с матерью из Цербста много лет тому назад. Она даже провела четкое сравнение: «Если вам нужен пример, чтобы уговорить княгиню согласиться на такое путешествие, вы можете сослаться на меня. Моя мать приехала сюда под предлогом поблагодарить императрицу от имени семьи за различные благодеяния, которые она нам оказывала»{487}.
«Худшее, что может случиться, — продолжала Екатерина, — это вмешательство неудачи, если ни одна из двух девушек нам не подойдет. Но что мать теряет? Она получит таким образом приданое для дочерей, с которым сможет устроить их потом где угодно. Что касается остального, расходы по путешествию вряд ли разорят ее, так как будут возмещены ей тут, и она может сохранять свое инкогнито до тех пор, пока не прибудет в Россию, где все ее затраты будут оплачены»{488}.
Екатерина попросила барона убедиться, если возможно, что принцесса Луиза, которая воспитывалась как лютеранка, подобно ей самой, еще не прошла конфирмацию в этой вере и не пройдет до отъезда в Россию — «потому что протестанты становятся упрямыми с этого момента, а до того у них есть возможность выбора религии»{489}. Наиболее приемлемой для Екатерины кандидаткой на роль будущей невестки была принцесса София Доротея Вюртембергская. Но ей было только одиннадцать лет — она была слишком мала, чтобы рассматриваться серьезно. Императрица хотела на этом этапе сохранить дело в тайне (скорее всего, неосуществимое стремление, так как различные дворы Европы были связаны друг с другом): «Думаю, чем меньше окажется посвященных, тем легче будет обеспечить, чтобы дело, какой бы оборот оно ни приняло, закончилось к обоюдному удовлетворению»{490}. Мнение Павла на этой первичной стадии переговоров не рассматривалось вообще, хотя его учитель, граф Панин, был привлечен. Во время короткой оттепели начала марта московские власти обнаружили необыкновенно большое количество умерших прямо в сердце города — на огромной текстильной фабрике, известной как Большой Шерстяной Двор. Кроме того, среди людей, живущих или работающих в ее окрестностях, оказалось немало больных с тревожными симптомами в виде темных пятен на коже и распухших гланд. Фабрику немедленно изолировали. Через два дня врачи обследовали заболевших на Большом Шерстяном Дворе, сделав заключение, что болезнь очень напоминает чуму, и за ночь с 13 на 14 марта (чтобы по возможности сохранить операцию в секрете) полиция эвакуировала оставшихся жителей — шестьсот сорок человек — в окраинные карантинные дома и чумные бараки. К концу месяца Екатерина поддержала программу усиления мер предосторожности в Москве и назначила сенатора генерал-лейтенанта Петра Еропкина ответственным за ее претворение в жизнь. Она также поставила графа Якова Брюса, мужа своей ближайшей подруги, во главе чрезвычайного комитета по проведению, карантинных мер в Петербурге и его окрестностях. К началу апреля страх эпидемии, грозящей из Москвы, значительно снизился. Екатерина, как и многие другие, решила, что болезнь, потревожившая город, вовсе не чума. Тем не менее она приказала приостановить работы над фундаментом нового кремлевского дворца из страха высвобождения «подземных паров». Итак, в это время Екатерина разрывалась между множеством дел, среди которых преобладали темы войны, чумы, раздела Польши и выбора жены для Павла. В мае Государственный совет вынес решение, что Россия может занять польскую Ливонию и компенсировать Польше потерянные территории Молдавией и Валахией. В том же месяце сдвинулись с мертвой точки поиски невесты. Граф Панин (по поручению Екатерины) написал барону Accебypгy, обрисовав по пунктам подходящую девушку. Во-первых, она должна быть протестанткой (готовой перейти в православие). Католики оставались абсолютно вне рассмотрения. Во-вторых, она вполне могла оказаться графиней из достаточно хорошей семьи, а не только принцессой из правящего дома. Кроме того, существовало несколько семей, чьи потомки были решительно неприемлемы, так как несли в себе наследственные дефекты. В-третьих, девушка не могла быть старше великого князя, но должна была достичь половой зрелости. Дальнейшие исследования по поводу принцессы Луизы Сакс-Готской открыли, что она все-таки не подходит: она набрала слишком большой вес (Екатерина, не смягчая своих слов, назвала ее «излишне добротной»{491}), а ее мать яростно возражала против смены религии. Следующей кандидаткой считалась принцесса Вильгельмина Дармштадтская. Екатерина согласилась рассмотреть эту возможность:
«Описывая мне [ее], вы сделали акцент на ее добросердечии, даже назвав ее чудом природы (а я уверена, в мире такой вещи не существует). Помимо того, вы пишете, что у нее острый ум и склонность к спорам, и это, вдобавок к характеру ее папочки и к значительному количеству сестер и братьев, уже появившихся и могущих еще появиться, вызывает сомнения по поводу нее. Тем не менее, пожалуйста, потрудитесь поинтересоваться ею снова»{492}.
Сорокадвухлетняя Екатерина начала чувствовать свой возраст — во всяком случае, иногда. Она сообщила мадам Бьельке, что каждый год примерно в свой день рождения старается сбежать из города и отправиться в Царское Село — так как «что за удовольствие праздновать день, который делает тебя на год старше?»{493} Она также взяла на себя труд сообщить подруге (и тем самым всей Европе), что слухи о чуме в Москве неверны: «Передайте поведавшему вам о московской чуме, что он лжет: там были сыпной тиф и багровая лихорадка. Но чтобы пресечь панику и болтовню, я предприняла все меры предосторожности, которые предпринимаются в случае чумы»{494}. За чумой (чем бы она ни была) в Москве последовал пожар в Петербурге: серия крупных пожаров прокатилась по городу 23 и 24 мая. Не в состоянии лично поехать сбивать пламя, Екатерина мобилизовала лучшее, что могла — Григория Орлова.
«Со вчерашнего дня я как Иов, — писала она Панину. — Каждый час приносит все худшие вести. Не могу представить себе, что такой пожар, как вчера на Васильевском острове, может иметь место без пренебрежения своими обязанностями с чьей-то стороны. Я отправила графа Орлова в город с напутствием не возвращаться, пока не исчезнет последнее пламя. Он был там согласно моему приказу к вечеру и застал три очага возгорания. Я готова была сама броситься в город. Он вернулся в пять часов, а в одиннадцать умчался снова. Я думаю, голова начальника полиции отказывает при виде столь огромной беды — и действительно, такое легко может довести человека до срыва»{495}.
На следующий день Екатерина сообщила Панину, что ее подозрения относительно поджога неосновательны, и все эти пожары произошли в результате небрежности домашних хозяев. В конце месяца Фальконе доложил Екатерине, что Дидро и другие ее парижские знакомые полагают, будто он — автор работы под названием «Противоядие», являющейся ответом на книгу французского аббата Жана Шаппа де л’Отороша под названием «Путешествие в Сибирь». Фальконе попросил, чтобы Екатерина изыскала для него экземпляр «Противоядия» — дабы прочитать, что ему приписывают. Она ответила ему на следующий день: «У меня нет книги, которую вы просите. Я говорила вам раньше, что не нашла ее в продаже тут и заказала в Голландии»{496}. Екатерина не сказала Фальконе — и никому другому, — что сама, будучи в ярости от сотворенного аббатом Шаппом, стала автором «Противоядия». «Путешествие в Сибирь» было опубликовано в 1768 году. Автор — французский священнослужитель и астроном, посетивший сибирский город Тобольск в июне 1761 года, чтобы наблюдать за прохождением Венеры через Солнце. Его книга была сборником наблюдений за Россией и россиянами, сделанных во время путешествия из Санкт-Петербурга в Тобольск. Она содержала значительное количество слухов (по поводу которых Екатерина язвила больше всего, заметив Вольтеру, что аббат, несясь «сломя голову в крытых санях, разглядел всю Россию»{497}), пересыпанных географическими и ботаническими подробностями, а также рассказов из первых рук о его собственном опыте в «отсталой» стране. «Путешествие», которое уже ко времени своей публикации устарело и относилось ко времени предыдущего царствования, не пользовалось большим успехом даже во Франции. Еще более остро реагировала Екатерина на критику и ее самой, и принятой ею страны в рассказах другого француза, дипломата и секретаря барона де Бретейля, Клода Шарлеманя де Рюльера. Рассказы, которые он зачитывал в салонах (опубликованные позднее), повествовали о перевороте 1762 года и были озаглавлены «Анекдоты о русской революции». Они показывали Екатерину циничным узурпатором и, вероятно, соучастницей убийства. Аббат Шапп, следуя по пятам за де Рюльером, вынудил Екатерину написать — по-французски, пункт за пунктом — опровержение его критических замечаний о России, ее жителях и обычаях,каковое опровержение она анонимно опубликовала в 1770 году под названием «Противоядие». Книга имела еще меньше читателей, чем обидное «Путешествие», но вызвала споры относительно авторства (как свидетельствовали Дидро и его друзья, предполагалось, что автором мог быть Фальконе) и обеспечила Екатерине здоровый сброс негодования. Она была постоянно озабочена тем, чтобы улучшить реноме своей державы, объясняя Вольтеру: «Когда эту нацию лучше узнают в Европе, будут преодолены многие ошибочные представления о России»{498}. Лето принесло императрице дополнительные волнения: великий князь Павел снова заболел. Болезнь, которая могла быть инфлюэнцей, а могла и тифом, длилась неделю за неделей с несколькими временными улучшениями и последующими рецидивами. Екатерина была сильно обеспокоена и проводила много времени у постели сына. Состояние здоровья Павла в сочетании с холодной, сырой погодой привело к решению, что великому князю в этом году не следует отмечать свои именины в Петергофе. Граф Солмс доложил Фридриху Великому:
«Болезнь великого князя оказалась более серьезной, чем думали вначале. Она даже заставила императрицу вернуться в город, чтобы навестить его. В настоящий момент никто уже не волнуется за его жизнь, хотя Его императорское высочество еще очень слаб, легкая лихорадка повторяется каждый день, и в Петергоф он еще не переезжает. Из-за этого я не виделся с графом Паниным в течение всей последней недели, так как он весьма прилежен и внимателен к своему августейшему ученику и полностью занят его здоровьем»{499}.
Состояние здоровья Павла колебалось ежедневно:
«Слухи о выздоровлении великого князя не подтвердились, вопреки всеобщим надеждам. Вчера при дворе я узнал, что предыдущей ночью у него была дикая диарея, которую приняли за желаемый кризис, так как его слабость при этом не усилилась. Но после нескольких атак лихорадки вчера вечером он стал слабее, чем ранее, и никто не может ни утверждать, что ему хуже, чем было (так как лихорадка полностью его еще не оставила), ни подтвердить, что он полностью вне опасности. Сегодня двенадцатый день его болезни. Нужно ждать до завтра, чтобы посмотреть, вернутся ли к нему силы, потому что слабость — самое худшее в его состоянии»{500}.
Трудное для иностранных посланников время продолжалось весь июль из-за невозможности вести дела с графом Паниным, «который целиком занят хлопотами над своим августейшим учеником и никого не принимает; видеть его и говорить с ним можно только очень поверхностно каждое воскресенье при дворе, когда он проходит из апартаментов великого князя в покои императрицы»{501}. Болезнь Павла вызвала также некоторую задержку в поисках для него жены. 27 июля Екатерина написала барону Ассебургу:
«Получила ваше письмо от девятого (двадцатого) июня за несколько дней до ужасной болезни, которая атаковала моего сына и от которой, слава Богу, он теперь поправляется. Можете себе представить, в каком нервном напряжении я была, пытаясь выбрать время написать вам»{502}.
Принцесса Вильгельмина Дармштадтская все еще находилась на рассмотрении; Екатерина и Ассебург получали о ней противоречивые отзывы. 30 июля Екатерина сообщила мадам Бьельке, что болезнь Павла определенно позади:
«Мы волновались по поводу болезни сына — катаральной лихорадки, которая длилась почти пять недель. Слава Богу, теперь ему лучше, осталась только некоторая слабость. Говорят, лихорадка была ему необходима, чтобы начала расти борода. Надо сказать, мне никогда не нравились бороды — но если дело в этом, то отныне я буду ненавидеть их от всего сердца»{503}.
К концу августа великий князь, сильно повзрослевший, снова стал появляться на публике (и действительно с пробивающейся на лице порослью). В июне генерал-лейтенант Еропкин доложил о новой вспышке болезни в пригородах Москвы — но он не считал, что это чума. Тем не менее в ответ на эту весть власти Петербурга заново ввели большинство противочумных мер предосторожности, и Екатерина велела доктору Лершу вернуться из Киева в Москву. Затем, в начале августа, от Еропкина пришли шокирующие новости, что чума — он наконец признал, что это была она — распространилась шире, чем прежде. Случившееся потом выявило, насколько не готовы были московские власти к любому крупному кризису, несмотря на то, что имели месяцы для подготовки. Те, кто мог уехать — в основном знать, владельцы загородных имений, — сделали это, предоставив город его судьбе вместе с менее удачливыми жителями. Фабрики и мастерские закрылись; рабочие и крестьяне оказались без денег, пищи и возможности спастись от болезни, которая, похоже, атаковала городские низы с особой яростью. В отсутствие компетентного правления, чувствуя, что никого из властей не волнует, живы они или умерли, люди обратились к тому, что у них осталось — к религии с ее чудотворными иконами. 5 сентября императрица возглавила Совет, который получил подтверждение грозящего несчастья. В Москве ежедневно умирало до четырехсот человек. На улицах валялись брошенные трупы, среди живых усиливался голод. Возникло подозрение, что очаги болезни появились в Псковской и Новгородской областях. Неделей позже от генерал-губернатора Салтыкова пришла отчаянная мольба о разрешении покинуть Москву до наступления зимы. 14-го, не дожидаясь позволения (которого он бы и не получил от императрицы), Салтыков покинул город, так как решил, что ситуация вышла из-под контроля, когда количество умирающих превысило восемьсот человек в день. Ситуация стала страшной (насколько страшной — власти в Петербурге еще не представляли себе), и опять на передний план выступил Григорий Орлов — человек, способный на решительный поступок. Во время пожаров в Петербурге он доказал, что умеет установить контроль и восстановить порядок. Он был человеком действия, опытным офицером, обладающим к тому же впечатляющей внешностью, одно присутствие которого могло утихомирить потенциальных бунтовщиков. Помимо прочего, он нес на себе авторитет императрицы. Для Екатерины отправить на опасное дело Орлова было равносильно личному участию, а ее Совет никогда бы не согласился отпустить свою императрицу в захваченную чумой Москву. Поэтому когда Орлов сам вызвался установить контроль над ситуацией в Москве, Екатерина с благодарностью приняла его предложение, хотя и опасалась за его безопасность. Некоторые из его соперников при дворе, вероятно, не особо сопротивлялись его желанию стать жертвой чумы. 20 сентября, в день семнадцатилетия великого князя Павла, лорд Кэткарт доложил графу Суффолкскому о решении Григория, сведения о котором получил из первых рук:
«Утром граф Орлов сообщил мне, что убежден: величайшее несчастье Москвы — это паника, которая охватила и знать, и самые низшие слои населения. Отсюда и плохой порядок, и недостаточное желание урегулировать ситуацию. Он намерен завтра утром отправиться туда, чтобы попытаться принести максимально возможную пользу. Он сказал, что чума или не чума — он все равно выедет завтра утром, поскольку давно изнывает, ожидая возможности сослужить какую-нибудь особенную службу императрице и стране, а такая возможность редко выпадает на долю отдельного человека и никогда не обходится без риска. Он надеется справиться с этой ситуацией, и никакая опасность не удержит его от попытки принести пользу»{504}.
Григорий отбыл вечером 21 сентября в сопровождении свиты чиновников, врачей и военных. На следующий день, в день девятой годовщины коронации, Екатерина, как обычно, появилась при дворе, несмотря на то, что неважно себя чувствовала. Лорд Кэткарт так отозвался о ее недомогании:
«Говорят, она постоянно мучается из-за несчастья с ее подданными в Москве и трусливого поведения дворян и людей, облеченных властью, которые оставили город и бросили народ в бедственном положении. Эти обстоятельства и опасность, которой подвергает себя граф Орлов, как считают, служат немалым пополнением ее тревог»{505}.
Через два дня после отъезда Орлова в Москву Екатерина получила ужасающие известия о том, что там происходит в действительности. В начале сентября люди начали собираться у Варваровских ворот в ограде восточного края Китай-города (обнесенный стеной торговый квартал вдоль Кремля). Над воротами висела икона Богоматери, о чудодейственных свойствах которой ходили многочисленные рассказы. Люди останавливались, чтобы помолиться там, приносили лампады, а солдат Семеновского гвардейского полка Савелий Бяков с рабочим золотошвейной мастерской Ильей Афанасьевым вешали их перед иконой. Пять священников из бесчисленного множества московских священнослужителей без прихода, которых фамильярно называли «попы с перекрестка», приходили, чтобы служить молебны. Бяков, Афанасьев и третий человек, крестьянин по имени Петр Иванов, начали сбор милостыни на покупку для иконы серебряного оклада. Стали собираться толпы, чтобы сообща засвидетельствовать почтение иконе, и в течение двух дней на серебряный оклад было собрано более двухсот рублей{506}. Архиепископ Московский отец Амвросий — человек, назначенный Екатериной, которого она очень ценила за энергичные попытки усовершенствовать беспорядочное городское церковное ведомство, — заинтересовался этим всплеском народного благочестия — и потому, что многолюдные сборища противоречили противочумным мерам, и потому, что подозревал жульничество, возможно даже с участием некоторых священников, в сборе такого количества денег якобы для оклада к иконе. Поэтому вечером 15 сентября он послал нескольких официальных лиц опечатать ящик, в который собирались народные пожертвования. Но в толпе, потерявшей доверие к официальным лицам и искренне верящей, что одна лишь чудодейственная икона способна спасти от чумы, начали кричать (как Екатерина рассказывала впоследствии мадам Бьельке): «Архиепископ хочет украсть деньги Благословенной Девы, он должен быть убит!»{507} Среди людей начались драки, наиболее обозленные помчались к Кремлю. Там, снова со слов Екатерины, «они разбили двери монастыря, где жил архиепископ[40] разграбили святую обитель, напились в подвалах и, не найдя того, кого искали, отправили группу в Донской монастырь, выволокли оттуда старика и жестоко убили его»{508}. С помощью небольшой группы солдат и двух пушек генерал-лейтенант Еропкин кое-как восстановил порядок. Согласно его первому донесению, как минимум сто человек было убито в Кремле и двести сорок девять арестовано; многие оказались ранеными. Через несколько дней он прислал Екатерине уточненные данные: семьдесят восемь человек убито, и это окончательная цифра; двести семьдесят девять арестовано. Девятнадцать человек из отряда Еропкина было ранено, один позднее умер. 27 сентября Екатерина разрешила опубликовать официальные цифры потерь от чумы в Москве — те, что были уже известны — в надежде остановить дикие слухи. В тот же день лорд Кэткарт написал о «печальном» событии графу Суссекскому, добавив об императрице: «Она под огромным впечатлением от этого бедствия и не может, хотя и пытается, скрыть свои чувства»{509}. Прибыв в пораженный город 26 сентября (раньше он не смог туда попасть из-за плохих дорог), Григорий Орлов осуществил серию мер с целью восстановить среди населения порядок и доверие к властям. Меры эти включали обещание свободы тем крепостным, которые добровольно пошли работать в больницы, открытие детских домов, распределение пищи, одежды и денег и возобновление работы публичных бань. Закрытие бань было первоначально произведено как профилактическая предосторожность — но непопулярность этого решения вызвала вспышку возмущения. Более трех тысяч старых домов было сожжено и шесть тысяч продезинфицировано. Были также предприняты меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение чумы из Москвы, в особенности в направлении Санкт-Петербурга. В конце сентября Сенат запретил всем правительственным учреждениям, кроме Коллегии иностранных дел, Военной коллегии и Адмиралтейства, принимать курьеров прямо из Москвы. Все посланцы должны были задерживаться в Торжке, где их встречали курьеры из Петербурга, которые забирали депеши и сами проделывали остальную часть пути. Почту из зараженных мест нужно было брать щипцами, а письма окуривать. Все домовладельцы и жители обязаны были соблюдать различные меры предосторожности, касающиеся того, как принимать посетителей, дезинфицировать багаж, куда немедленно сообщать о любом случае внезапной смерти или лихорадки. Особые подозрения падали на старую одежду, продаваемую старьевщиками. 17 октября Екатерина прервала заседание Совета, чтобы объявить о введении дополнительных мер против чумы. Решено было поставить вокруг Петербурга кордон, чтобы все прибывающие проходили дополнительный карантин. Уильям Ричардсон прокомментировал происходящее так:
«В городе нет признаков чумных волнений. Однако против чумы задействованы все меры предосторожности: связь с Москвой и другими подозрительными местами прервана; в каждом доме в больших количествах жгут уксус; огромное внимание уделяется здоровью низших слоев. И все-таки не очень приятно находиться всего в двух-трех днях пути от ужасного соседства»{510}.
К концу октября Екатерина также ввела специальные противочумные меры для Царского Села. Пункты проверки и барьеры были выставлены у дорог на въезде, и никому не позволялось пересечь их после захода солнца или без документов от охраны кордона. Дворец и парки были закрыты. 3 октября Орлов сообщил Екатерине о своем решении отсрочить рекрутский набор в Москве и окружающих регионах, так как военный призыв и в обычное время провоцирует напряжение; опять же нельзя допустить, чтобы толпы рекрутов собрались в крупном городе, являвшемся узлом дорог. Он также отдал распоряжение, чтобы из провинциальных тюрем в Москву прислали осужденных для погребения умерших. На следующий день он устроил в Донском монастыре пышные похороны архиепископу Амвросию, воспользовавшись возможностью публично обратиться с призывом соблюдать предосторожности и взаимодействовать с властями — и церковными, и светскими. Московские чумные бунты, и в особенности убийство архиепископа, стали для Екатерины-просветителя серьезным ударом — ведь прежде она верила, что ведет свой народ к свету разума. Демонстрация слепого фанатизма и дикости едва ли оставили ей возможность гордиться теми, кого она убеждала воспользоваться прививкой и старалась заставить принять глобальную реформу законов. По большому счету «толпа», участвовавшая в волнениях, едва ли была тем народом, который представляли депутаты Законодательной комиссии. Тем не менее Екатерина надеялась, что воспитанные ценности, такие как терпимость и умеренность, способны проникнуть в широкие массы ее подданных. Этого явно еще не произошло, и Екатерина горько жаловалась Вольтеру: «Не правда ли, как многим может похвастаться этот славный XVIII век! Какими мудрыми мы стали!»{511} Существенной частью ее представлений о себе как об императрице было осознание подданных счастливыми и пожинающими преимущества ее благотворного правления. Убийства, увечья и болезни сильно искажали эту благостную картину. Однако тот факт, что бунт имел место именно в Москве, помог Екатерине восстановить ее оптимизм. Он подчеркнул то, что она всегда ощущала в старой столице с ее отсутствием порядка, толпами и «фальшивым воздухом Исфагана». Умение ее фаворита Григория Орлова навести порядок, даже если остановить чуму было не в его силах, подбодрило ее. Дезертирство московской знати, и в особенности генерал-губернатора Салтыкова — вот что рассердило ее больше всего. Она отзывалась о Салтыкове более резко, чем обычно говорила о своих чиновниках, рассказывая Александру Бибикову, распорядителю Законодательной комиссии:
«Слабость фельдмаршала Салтыкова переходит все разумные границы, потому что он не постеснялся попросить меня о том, чтобы покинуть свое место в то время, когда он был особенно нужен там, и уехал, не дождавшись позволения — можно ли потом доверять ему, — чтобы развлекаться со своими собаками»{512}.
И как постскриптум добавила: «Забыла сообщить в письменной форме, что старый мерзавец фельдмаршал уже уволен»{513}. 12 октября в Москве в первый раз собралась комиссия по предупреждению и лечению чумной инфекции. Впоследствии, встречаясь каждый день в Кремле в одиннадцать часов, ее члены взяли на себя полномочия распоряжаться всеми медиками, аптеками, карантинами и чумными бараками. К 18 октября Орлов, сохранявший внешнюю уверенность, начал уже испытывать отчаяние (как он признался впоследствии Екатерине), ибо оказался не в силах справиться с чумной эпидемией. Ежедневный смертный колокольный звон доходил до шестисот ударов. К счастью, наступление зимних холодов привело к результатам, которых не сумел добиться Орлов. Первый снег выпал в Москве в ночь с 21 на 22 октября. Сильные морозы установились 30-го. На следующий день Екатерина смогла информировать свой Совет, что эпидемия в Москве значительно утихла. 6 ноября императрица отправила князя Михаила Волконского заменить Салтыкова на посту генерал-губернатора и отозвала Орлова. Неделей позже в письме, полном похвал своему фавориту, она рассказала о ситуации мадам Бьельке:
«Благодаря неутомимой заботе и усердию графа Орлова моровое поветрие в Москве пошло на спад, а поскольку наступили морозы, предполагается, что через несколько дней оно полностью закончится. Именно так, говорят, протекает эта болезнь. Граф Орлов покинет Москву через десять дней; его место займет князь Волконский… Я поблагодарила маршала Салтыкова за заботу, с которой он возглавлял столицу до того, как сбежал оттуда во главе правительства; бедняга пережил свою славу. Я охотно взяла бы на себя заботу о старике, но оставить его несовместимо с общественной пользой. Хотя граф Орлов не прятался от болезни, он и его свита в порядке. Болезнь ходит только среди простого народа. Людей повыше она не трогает — то ли из-за предохранительных мер, которыми они себя окружают, то ли по самой своей природе. Все возможные меры предосторожности снова будут приняты к весне — чтобы эта жуткая болезнь не вернулась. Фанатизм, жертвой которого стал бедняга епископ Московский, побежден — граф Орлов прижал этих людишек к ногтю: он не только запретил закапывать мертвых в городе, но даже не позволил людям слушать мессу во время богослужения иначе, чем стоя вне стен церкви. Наши церкви маленькие, в них стоят, и обычно люди стиснуты. Более того, снаружи прекрасно все слышно, так как месса всегда ведется громко и с песнопениями. Благодаря этим проповедям люди стали настолько здравомыслящими, что даже не поднимают монеты, которые видят у себя под ногами»{514}.
Григорий Орлов выехал из Москвы 22 ноября, и Екатерина, которой его уже сильно не хватало, написала, что считает безопасным его возвращение ко двору без соблюдения полного тридцатидневного карантина (в особенности потому, что никто в его свите не болен и они ничего не везли с собой из Москвы){515}. Императрица приветствовала Григория четвертого декабря. Его героизм отметили золотой медалью в мраморном медальоне, а также устройством ряда триумфальных арок в Царском Селе. Общее число смертей от эпидемии чумы в Москве составило около пятидесяти пяти тысяч (это примерно пятая часть населения города), а во всей империи — около ста двадцати тысяч. Теперь, когда опасность чумы для народа уменьшилась, Екатерина сосредоточила внимание на окончании войны — на выгодных для России условиях, — и к концу 1771 года решила начать следующим летом мирные переговоры с турками. В начале 1772 года Россия возобновила союз с Пруссией. Обе страны согласились на конвенцию, определяющую доли польской территории, которые отойдут каждой из сторон. Договор, приведший к первому разделу Польши, был подписан 17 февраля. В марте к договору о разделе присоединилась Австрия. (В том же месяце Екатерина несколько дней не могла писать, порезавшись во время обработки ногтей.) Примерно в это время Екатерина совершила значительную покупку, приобретя одну из самых серьезных частных художественных коллекций Франции, собранную в начале века банкиром Пьером Кроза. Хотя Кроза умер в 1740 году, его коллекция не поступала на рынок в течение тридцати лет — пока не умер его племянник, барон Тьер. Каталог для Екатерины подготовил по просьбе Дидро Франсуа Троншен — банкир, драматург и любитель живописи из Женевы. По совету Троншена Екатерина приобрела из коллекции пятьсот полотен — в том числе восемь Рембрандтов, шесть Ван Дейков, три полотна и несколько набросков маслом Рубенса, «Святое семейство» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне и «Оплакивание мертвого Христа» Веронезе — за четыреста шестьдесят тысяч ливров. По всей Франции стоял плач из-за этой продажи шедевров в Россию. 28 апреля, через неделю после своего сорок третьего дня рождения, Екатерина написала мадам Бьельке, что Григорий Орлов и Алексей Обрезков наметили следующую неделю для проведения мирных переговоров с турками. Она также рассказала о своем энтузиазме по поводу парков и паркового дизайна:
«Я весьма сожалею о судьбе ваших деревьев — персикового и абрикосового — и разделяю ваши страдания по этому поводу. Сопереживаю, так как сама болела флороманией: я не могла бы жить там, где нельзя ни сажать, ни строить. Любое самое красивое место в мире скучно для меня. Я, увы, такова; я часто злю своих садовников, и не один немецкий садовник сказал мне за мою жизнь: «О, Бог мой! О чем это вы?» Я нашла, что большинство из них не более чем отсталые педанты. Они часто скандалят из-за отклонений от заведенного порядка, которые я предлагаю им; когда я вижу, что рутина побеждает, я нанимаю первого попавшегося послушного мальчика-садовника, и мастер традиции уходит — несогласный, как я понимаю, — но мой парк принадлежит мне и я знаю, чего хочу. Никого на свете мой парк не забавляет больше, чем графа Орлова: он подглядывает за мной, он передразнивает меня, он насмехается надомной, он критикует меня; но уезжая, он на все лето оставляет свой парк в моем распоряжении, и в этом году я смогу творить здесь сумасбродства по своему вкусу. Его земли [поместье в Гатчине] находятся очень близко, и я горжусь, что он признал мои достижения как садовника»{516}.
Не было никаких признаков грозы на небосклоне отношений между Екатериной и Григорием — наоборот, все указывало на то, что она будет ждать его после завершения мирных переговоров с распростертыми объятиями.
11. Смущение и беспокойство (1772–1773)
Это дело — непробиваемый хаос, и в поведении императрицы заметны противоречия, в которых никто ничего не может понять.К 1772 году Екатерина и Григорий Орлов наладили, по всем признакам, некую версию семейной жизни, хотя их отношения никогда не были оформлены официально. Они оставались любовниками одиннадцать лет, и несмотря на все устрашающие пророчества дипломатов и частных лиц в течение этих лет, выбор фаворита, похоже, послужил стабильности и успешности правления Екатерины. Григорий не злоупотреблял своим положением; о нем хорошо отзывалось большинство непредвзятых наблюдателей; он был для императрицы источником совершенно необходимой передышки, а также отношений, свободных от лести. Он был тем — возможно, единственным — человеком, с которым она могла полностью отключаться от руководства. А позднее его поставили на важную должность по улаживанию конфликтов — так хорошо он зарекомендовал себя при ликвидации чумного бунта. Теперь Орлова отправили добывать себе лавры на переговорах с турками. Вероятно, его стремление уехать в Москву, а теперь в Фокшаны в Валахии показывало, что он устал от раззолоченной жизни при дворе и не хочет оставаться «содержантом» навсегда. Но они с Екатериной уже доказали свою способность регулировать взаимоотношения сообразно изменяющимся обстоятельствам, и нет причины считать, что желание действовать накапливалось у Орлова в тисках его положения императорского фаворита. То, что Екатерина все еще считала его привлекательным (ему было тридцать восемь, а ей сорок три), ясно из всего, что она писала о нем, в особенности мадам Бьельке. Но влияние Орлова на Екатерину никогда не переставало внушать беспокойство определенным кругам при дворе, в том числе большинству знати из окружения графа Панина. Хотя оба приближенных государыни прошли через фазу явного дружелюбия, и неприкрытая враждебность возникала меж ними редко, холод между Паниным и Орловым наблюдали многие, считая его неизбежным аспектом жизни при дворе. Одной из претензий Панина, которую он высказал графу Солмсу (а тот в свою очередь сообщил Фридриху Великому), было то, что присутствие Григория на встречах Совета может отсрочить принятие разумных решений: «поскольку [Орлов] считает, что ему позволено говорить все, что вздумается, он часто приводит опрометчивые аргументы, которые другим приходится опровергать с осторожностью»{517}. В устах печально известного своей медлительностью Панина обвинение Орлова в задержке дел кажется необоснованным; в записке, которую Екатерина однажды составила для собственного развлечения по поводу того, как каждый из ее придворных вероятнее всего встретит свой конец, она предсказала, что граф Панин умрет, «если хоть немножко поторопится»{518}. Панин всегда рассматривал Григория и его братьев как потенциальную угрозу положению своего подопечного, великого князя Павла, который тоже не дружил с фаворитом матери. Долгое отсутствие Григория про дворе (ожидалось, что мирные переговоры продлятся несколько месяцев) давало Панину возможность разрушить отношения между последним и императрицей — возможность, которой он не собирался упускать. Следующие восемнадцать месяцев двор представлял собой шахматную доску. Разыгрывались замысловатые ходы, несколько раз то одна, то другая партия объявляла «шах», но никогда до конца не было ясно, кто на самом деле двигает фигуры. Весна 1772 года была в Петербурге очень холодной, и ее капризы не позволили Екатерине удовлетворить свою последнюю страсть к садоводческим работам. Этой весной в Царском Селе Василий Неелов начал строительство неоготических зданий — Адмиралтейского павильона на дальней оконечности Большого пруда и Эрмитажной кухни возле старого Эрмитажного павильона. 12 мая Екатерина написала мадам Бьельке, что Григорий Орлов с Алексеем Обрезковым, ее «ангелы мира»{519}, проследовали через Москву и вскоре прибудут в Киев. 18-го к ней в Царском Селе присоединились великий князь Павел и граф Панин (который возвращался в город раз в неделю, чтобы посещать заседания Совета). Через восемь недель она сообщила мадам Бьельке, что, по ее разумению, «ангелы мира» должны уже сидеть лицом к лицу с турками. Она упоминает Григория тоном восхищенной любовницы, описывая его как «без преувеличения самого красивого человека своего времени»{520}. В этот день Екатерина покинула Царское Село, чтобы отправиться в «отвратительный, ненавистный, невыносимый Петергоф и отпраздновать там свое восшествие на престол и день святого Павла{521}. Она писала по пути, в охотничьем домике, где должна была провести ночь. Императрица, несмотря на холодную для мая погоду, была необычайно довольна несколькими неделями в Царском Селе, своем «любимом месте пребывания»{522}, так как нашла там новую радость в общении с сыном:Прусский посол граф Солмс —Фридриху Великому
«Мы никогда не радовались Царскому Селу больше, чем в эти девять недель, которые я провела вместе с сыном. Он становится красивым мальчиком. Утром мы завтракали в милом салоне, расположенном у озера; затем, насмеявшись, расходились. Каждый занимался собственными делами, потом мы вместе обедали; в шесть часов совершали прогулку или посещали спектакль, а вечером устраивали трам-тарарам — к радости всей буйной братии, которая окружала меня и которой было довольно много»{523}.
Но Екатерина не упомянула в письме мадам Бьельке о том, что весной и в начале лета открыла особенно смутивший ее — хоть и не очень хорошо продуманный — заговор нескольких младших офицеров Преображенской гвардии. Вот как описал это граф Солмс Фридриху Великому: «Нескольким молодым дебоширам-дворянам… наскучило их существование. Вообразив, что кратчайшим путем к зениту будет устройство революции, они составили нелепый план возведения на престол великого князя»{524}. Они умудрились заручиться поддержкой примерно тридцати солдат, и их дерзкий план заключался в том, чтобы попасть в Царское Село, захватить Павла, привезти его в Петербург и объявить императором. Тем временем они собирались также захватить Екатерину и передать ее Павлу, дабы он поступил с нею, как посчитает нужным. Они определили судьбы всех основных придворных, заранее решив, кого сохранят, а кого прогонят — и основной их целью было избавиться от Орловых и всех связанных с ними. Похоже, что воображение офицеров намного обогнало действительность, пишет граф Солмс. «Самым экстравагантным во всем этом деле было то, что если великий князь откажется выполнять их намерения, тогда один из этих младших офицеров, автор плана, примет на себя управление империей»{525}. Затем этот же офицер развалил свой собственный замысел, доверив его князю Федору Барятинскому, одному из основных заговорщиков при перевороте Екатерины, который посадил ее на трон. Все это время он был одним из камергеров императрицы. Видимо, молодой офицер вообразил, что если Барятинский был участником одного заговора, он будет расположен поддержать и другой. Но не учел лояльности камергера к императрице (которая к тому же прикрыла его от последствий участия в убийстве Петра III). Барятинский немедленно пошел к майору Преображенского полка, чтобы информировать его о заговоре. Конспираторы были арестованы и во всем признались. Их подвергли телесным наказаниям — от кнута для офицеров (кнут в руках опытного палача мог снимать со спины человека кожу длинными полосами) до порки и вырывания ушей и ноздрей у простых солдат. Затем всех злодеев отправили в Сибирь. Несмотря на смехотворную природу этого плана, Екатерина из-за него разнервничалась. «Не пренебрегают… никакими мерами предосторожности, чтобы защититься от внезапных попыток переворота, — объяснял новый британский посол Роберт Ганнинг. — В садах и в окрестностях Петергофа (место, где она более всего на виду) нет ни уголочка, в котором не стояли бы часовые, когда она находится там»{526}. Ганнинг также упоминает, что слышал о Григории Орлове, и явно от кого-то из противного Орлову лагеря: «У него есть, как мне сказали, приятные качества, но незначительные. Он неблагоразумен и беспутен до предела, часто уезжает от императрицы на охоту в компании с недостойными личностями, не считаясь со своей связью с нею»{527}. 1 августа Екатерина назначила камер-юнкером некоего Александра Васильчикова, двадцативосьмилетнего лейтенанта конной гвардии. Это был первый официальный признак того, о чем многие придворные подозревали уже несколько недель — что этот молодой человек на пути к замене Григория Орлова в качестве императорского фаворита. Но удивило современников — и продолжает ставить в тупик до сих пор — не то, что Екатерина выбрала время отсутствия Григория для обретения нового любовника, а то, что ее выбор пал на такую незначительную личность. Необидчивый, учтивый, послушный (все эти качества, вероятно, приносили облегчение после требовательного Григория), Васильчиков не обладал никакими особыми талантами или физическими свойствами, чтобы можно было рекомендовать его разборчивой императрице. Граф Солмс доложил: «Это не мужчина выдающейся внешности, он даже и не думает изображать значимую личность, он мало известен в обществе»{528}. 4 сентября он снабдил Фридриха Великого еще кое-какими подробностями:
«Я видел этого Васильчикова и понял, что и прежде довольно часто встречал его при дворе, где он был просто частью толпы. Это человек среднего роста, около двадцати восьми лет — темноволосый, с довольно приятным лицом. Он всегда был очень вежлив со всеми, всегда вел себя очень мягко, очень робко — как и сейчас. Похоже, он сильно смущается роли, которую играет, и все еще не знает, как справиться с выпавшим ему счастливым случаем»{529}.
Более позднее рационалистическое объяснение произошедшего заключено в «искреннем признании» Екатерины, написанном Григорию Потемкину в феврале 1774 года. В этом документе, где перечислены все любовники императрицы до времени его написания, она утверждает, будто в тот же день, когда Григорий Орлов покинул Царское Село, отправившись на переговоры о мире, ей сообщили, что у него любовные делишки с другими женщинами. Именно из-за отчаяния и осознания себя несчастной она бросилась искать замену. Это объяснение не подтверждается другой корреспонденцией Екатерины. Через несколько дней после того, как Григорий в конце апреля покинул Царское Село, она сообщила мадам Бьельке, что ей не терпится поработать в его саду в Гатчине. А 25 июня, в конце тех нескольких недель, которыми она так наслаждалась в Царском Селе и во время которых впервые начала проявлять интерес к Александру Васильчикову, Екатерина писала о Григории как о «самом красивом мужчине своего времени»{530}. Самым вероятным кажется, что кто-то — и этим кем-то, вероятнее всего, был граф Панин — подергал веревочки за сценой, вытолкнув вперед Васильчикова в качестве потенциальной замены и добившись, чтобы Екатерина заметила его, перед тем, как информировать ее о вероятной неверности Григория. А вот как подводит итог граф Солмс: «Новому объекту обожания выпала удача, любовные отношения возникли сами собой, никто не может сказать, что произошедшее подстроено»{531}. Сначала Васильчиков попался на глаза Екатерине в Царском Селе: волею случая он командовал маленьким отрядом охраны, когда в резиденции находился двор. Уехав в Петергоф, императрица послала ему золотую коробочку — в благодарность за «поддержание отличного порядка среди своих людей»{532}. Оба фактора — и перемена настроения Екатерины, отразившаяся в ее отъезде из Царского Села в Петергоф (она написала мадам Бьельке о том, что запиралась в своей комнате, чтобы спрятать плохое настроение{533}), и то, что в Петергофе Васильчиков стал стараться «быть замеченным всюду, где проходила императрица России»{534} — позволяют предположить, что именно тогда ее начали подпитывать информацией о Григории. Солмс высказал некоторые предположения относительно того, кто стоял за этими манипуляциями:
«Личностью, которая выиграла бы больше всего, был граф Панин. Его влиянию, и без того весьма значительному, не пришлось бы больше опасаться конкуренции; он получил бы гораздо большую свободу — как во внешних делах, так и в тех, что касались внутреннего управления»{535}.
Еще более поздний вывод был следующим: «[Васильчиков] подставлен графом Паниным; последний защищал и направлял его»{536}. В середине августа Екатерина вернулась в Царское Село, пробыв в Петергофе гораздо дольше, чем намеревалась. Холодную весну компенсировало необычайно жаркое лето — а в Петергофе, расположенном на берегу моря и на более возвышенном месте, чем Царское Село, было значительно прохладнее. Десятью днями позже Григорий Орлов, которому члены семьи сообщили о происходящем при дворе, внезапно прервал мирную конференцию и бросился в Санкт-Петербург. Если ранее Екатерина была глубоко задета тем, что узнала о поведении Григория, то теперь у нее появилась причина ужасно рассердиться на него из-за нарушения долга — что могло отрицательно сказаться на мирных переговорах. На самом деле они уже зашли в тупик, и Григорий успел отправить правительству просьбу о разрешении остаться с армией до возобновления переговоров. Однако новости, которые он получил из Петербурга, и его ссоры с главнокомандующим гофмаршалом Разумовским привели к резкому изменению планов. Как только Екатерина услышала об этом, она предприняла шаги, чтобы прежний фаворит не смог внезапно появиться перед нею, и чтобы напомнить ему о его положении подданного. Тем временем великий князь Павел, оправившись от болезни, расцвел под неожиданным материнским вниманием. Екатерина призналась мадам Бьельке, что он все время хотел быть возле нее, и даже переменил место за столом, дабы сидеть рядом с ней. Она также позволила ему в это время дважды в неделю просматривать с нею различные отчеты — хороший знак, давший надежду на дальнейшее расширение со временем его полномочий. Что касается Екатерины, этот эксперимент, похоже, убедил ее, что Павел пока еще не созрел для передачи ему даже доли ответственности. Но в это время отношения между матерью и сыном были солнечными. Придворные и дипломаты единогласно объясняли это улучшение отсутствием Григория Орлова. Граф Солмс выказал некую долю скептицизма по поводу искренности того, что он описал как «видимую буржуазную сердечность и взаимодоверие» между «этими августейшими персонами», подозревая, что происходить может гораздо большее, чем видит глаз:
«Не могу поверить, что это демонстративное обожание не содержит некоторого притворства — по крайней мере, со стороны императрицы, в особенности при обсуждении темы великого князя с нами, иностранцами. Но какова бы ни была цель, наверняка эта необыкновенная перемена поведения по отношению к сыну должна быть разрушительной для графа Орлова, потому что если этого не было во все время его пребывания в фаворитах, любой должен предположить, что именно он и мешал установлению таких отношений»{537}.
Александр Васильчиков укреплял свои позиции (или их укрепляли для него). Тридцатого августа его назначили генерал-адъютантом императрицы и перевели в апартаменты в Зимнем дворце. Через три дня его сделали камергером, и как это всегда происходило с фаворитами Екатерины, его семья тоже извлекла пользу из новой расстановки сил: его брата Василия в тот же день произвели в камер-юнкеры. Не все при дворе были довольны сменой фаворита. Многие слуги императрицы, камердинеры и дамы, как сообщал граф Солмс, казались «удрученными, опечаленными и недовольными»{538}, поскольку уже привыкли к Григорию; в течение целых десяти лет он был почти такой же частью их жизни, как и Екатерина, и некоторые чувствовали, что обязаны ему своим положением. Предполагаемая реакция братьев Орловых также была предметом обсуждений. Как определил Роберт Ганнинг, «дикость и порывистость Алексиса [то есть Алексея Орлова] (который не только считает, но, как уже слышали, и говорит вслух, что именно он посадил императрицу на трон) вполне может стать причиной тревог»{539}. Большинство персон при дворе еще не решило, как реагировать, и граф Солмс объяснял это так:
«Многие, боясь возвращения старого фаворита, не торопятся принять сторону нового (которому, может быть, и не посчастливится подняться до соответствующего положения), и при этом полны страха не угодить новому, если слишком промедлят с изъявлением ему своего почтения. К счастью, новый пока не имеет никаких амбиций, поэтому оставляет всем время выбрать сторону»{540}.
Екатерина беспечно игнорировала недоумение своих придворных и слуг, сохраняя «наилучшее настроение в мире, будучи постоянно счастливой, довольной и занятой лишь праздниками и развлечениями»{541}. Другой человек так отразил развитие событий: «Нет сомнения, что граф Панин извлек из обстоятельств пользу, поскольку избавился от соперника, и что он старается продлить охлаждение своей государыни к прежнему фавориту, дабы все ее доверие принадлежало ему одному»{542}. На пути к Петербургу Григория Орлова перехватил курьер от императрицы с приказом направиться прямиком в свое имение в Гатчине. Предлогом стало то, что после пребывания в зараженных оспой южных районах ему следует провести некоторое время в карантине. Григорий подчинился приказу. Но вот что удивило придворных: хотя Орлова не пустили в Санкт-Петербург, с ним вовсе не обращались так, будто он впал в немилость. Наоборот — ему «посылали провизию из дворца, ему служили [в Гатчине] офицеры и ливрейные лакеи двора — все как раньше»{543}. Начались переговоры между императрицей и ее прежним любовником — в основном через старшего брата Григория, графа Ивана Орлова. Оба теперь были неверны друг другу. Императрица не хотела унижать Григория и предпочла, чтобы он сохранил свой ранг и все свои почести. Стороны пришли к согласию относительно его будущего положения при дворе, пребывания на службе в мирное и военное время — и, косвенно, о природе его будущихотношений с Екатериной. Похоже, первоначальным намерением императрицы было убрать Орлова со всех официальных постов в обмен на щедрую пенсию и другие вознаграждения. Но Григорий отказался. Послания шли и шли туда и обратно. Граф Солмс считал, что переговоры с Орловым велись «не как с частным лицом, а как с равным»{544}. Тем не менее, Григорий оставался в Гатчине, где «как говорят, ел и пил все самое лучшее и был вполне доволен собой. Генерал Бауэр, приехавший с ним из армии, и другие люди из прежнего окружения составляли ему компанию, а время от времени его навещали знакомцы из города»{545}. 20 сентября 1772 года великому князю Павлу исполнилось восемнадцать лет. В вихре интриг вокруг Орлова и Васильчикова день рождения прошел совсем незаметно. Как заметил Роберт Ганнинг:
«Некоторые ждали этого дня, и мне казалось, будто Его императорское высочество сам не свой от надежд — что ему позволят хоть какую-то независимость, что к совершеннолетию будет образован его личный штат. Но все оказалось не так. Его воспитатель имеет ту же полноту власти, что и раньше. В знаменательный день великий князь не получил никаких поощрений; никто не сделался ему обязан своим продвижением, даже в самой малой степени»{546}.
Тем не менее восемнадцать лет — возраст совершеннолетия для немецких принцев, и потому Екатерина передала Павлу управление его наследными имениями в Голштинии. Она отметила это событие, произнеся речь об обязанностях государей и необходимости править справедливо и мягко. Единственными присутствующими на этой церемонии, кроме Екатерины и Павла, были граф Панин и Каспар фон Залдерн. Однако удовлетворение, которое Павел мог бы испытать от этого события, было коротким, так как осенью 1773 года Екатерина наконец совершила передачу Голштин-Готторпского герцогства Дании (что стало бы проклятием для ее бывшего мужа) в обмен на герцогства Ольденбург и Делмен-хорст, которые ушли к средней ветви Голштинского семейства. Таким образом, Павел оказался лишен власти где бы то ни было вне России. Екатерина согласилась на договор по обмену в 1767 году, но ей пришлось ждать совершеннолетия Павла, дабы он мог быть ратифицирован. Павел не имел никакого права выбора. На следующий день после дня рождения Павла граф Солмс сообщил Фридриху Великому, что «граф Орлов настойчиво отказывается принять условия своего бесчестья, и императрица все еще не может заставить себя сказать ему, что он обязан делать»{547}. При дворе, в среде антиорловской фракции, появились страхи, что если Екатерина встретится с бывшим любовником снова, он сможет уговорить ее взять его обратно — но, как полагал Солмс, «граф Панин, который слишком многим бы рисковал в случае возврата, без сомнения, предпринял необходимые меры, чтобы быть уверенным: события со столь гибельными последствиями не произойдет»{548}. Результатом всего этого стало то, что дела продвигались еще медленнее, чем обычно. Граф Панин всецело предался попыткам укрепить собственную позицию, и даже Екатерина выказывала меньшее рвение к работе, чем обычно. Точкой преткновения стал отказ Григория решить, какие из своих должностей он хочет сохранить и от каких отказаться. Похоже, он не собирался добровольно отказываться ни от одного из своих официальных постов и хотел, чтобы решение приняла Екатерина — ибо знал, что она не сможет заставить себя уволить его. Выбор нового фаворита не улучшил международной репутации Екатерины. Роберт Ганнинг сообщал двору в Сент-Джеймсе:
«Преемник [Орлова] — вероятно, самое значительное мгновение слабости и величайшее пятно на образе Ее императорского Величества. Он роняет всеобщее высокое мнение о ней, существовавшее давно и в основном заслуженное. Когда я впервые узнал о ее решении, причем узнал вскоре после того, как оно осуществилось, я едва мог поверить: ни сам мужчина, ни его способности не давали ни малейшего повода для такого поворота событий»{549}.
Ганнинг скоро догадался, что рука, дергающая за невидимые нити, принадлежит графу Панину, хотя ситуация и складывалась слишком сложно, чтобы понять ее до конца.
«В то время его намерения заключались не в том, чтобы вывести вперед [Васильчикова], а в свержении Орловых, и ситуация была слишком удобной, чтобы ею не воспользоваться. Мистер Панин схватился за подвернувшийся шанс, разгласив несколько жареных фактов из чужой личной жизни и приняв участие в серии интрижек, недостойных мужчины и — тем более — министра великой империи. Опрометчивость графа Орлова, прервавшего переговоры, чтобы, если возможно, своим возвращением предотвратить грозящую ему опасность, дала графу Панину и императрице предлог отстранить его. Говорят, что императрица уже выказывала некоторое раскаяние, и что ее любовь к нему вернулась. К этому добавился страх допустить сосредоточение слишком большой власти в руках мистера Панина. Было ясно, что государыня чувствует себя неуютно. Граф Захар Чернышев, вовсе не друг Орлова, считает его удаление невыгодным для своих интересов из-за дополнительного влияния, которое оно дает мистеру Панину»{550}.
В дальнейшие махинации был вовлечен брат Никиты Панина Петр, которого Никита мечтал сделать вице-президентом Военной коллегии. Но Захар Чернышев настолько не одобрил эту идею, что даже готов был помочь Орловым вернуть расположение двора. Как отметил Ганнинг — и это, вероятно, было наиболее меткое из всех его утверждений, — «Интриги, коими возвышения ради занимаются здесь все, окутывают любое предпринимаемое действие вуалью [sic!], абсолютно непроницаемой для живого, острого ума»{551}. К концу сентября переговоры между Григорием и Екатериной наконец-то пришли к завершению. Условия были изложены в форме письма, каковое Екатерина передала Ивану Орлову. В нем не было обличений, попыток переложить вину или отомстить. Екатерина проявила себя терпимой к чужим недостаткам, признав, что люди и их отношения меняются с изменением обстоятельств. Ее главным желанием было спасти то, что еще осталось от дружбы и взаимоуважения. Она прекрасно осознавала, сколь многим обязана Григорию и его братьям, и не хотела вражды с ними. В своем письме Екатерина предложила предать все произошедшее «полному забвению», включая провал мирных переговоров, который она готова была объяснить только действиями турок. Граф Захар Чернышев сообщил ей, и это подтвердил Иван Орлов, что «таково желание обеих сторон, и отдельная просьба графа Григория Григорьевича Орлова — обойтись без каких-либо объяснений». Она согласилась, и таким образом не последовало никаких обсуждений и тяжелых встреч глаза-в-глаза. Более того — понимая, насколько затруднительно было бы сталкиваться друг с другом в первый год после того, что на деле было разводом, она предложила, чтобы Григорий под предлогом плохого здоровья на год уехал — либо в Москву, в свое имение, либо куда-нибудь еще по собственному выбору. Сто пятьдесят тысяч рублей, которые каждый год выделяла ему Екатерина, сохранятся за ним — в форме официальной пенсии. Кроме того, Орлов получал единовременную выплату в размере ста тысяч рублей на обстановку нового дома, который строил для него Ринальди на берегу Невы (здание стало известно под названием «Мраморный дворец» — по названию русского камня разных расцветок, использованного архитектором для облицовки). Означенный дом переходил в его собственность навечно. До того, как Мраморный дворец будет готов, Григорию было дано позволение жить в любом императорском дворце — под Москвой или где-нибудь еще, но вдали от двора. Он мог оставить у себя слуг Екатерины и ее экипажи до тех пор, пока они ему нужны. Также она наградила его шестью тысячами крепостных — в дополнение к четырем тысячам, которые были подарены его брату Алексею за победу над турками в Чесменском заливе. Братья могли выбрать себе десять тысяч крепостных в любом районе страны, который их устроит (это обозначалось в то время краткой записью «земля с десятью тысячами крепостных-мужчин, прикрепленных к ней и отбывающих свою повинность трудом и/или деньгами»). Дополнительно Григорию вручили серебряный обеденный сервиз, изготовленный на заказ во Франции и никогда еще не использовавшийся, «а также еще один, закупленный у датского посла для повседневного пользования». Екатерина предложила, чтобы в течение этого года отлучения Григорий решил для себя, чем именно он хочет служить ей и стране в дальнейшем. Она закончила свое письмо словами: «Не ищу ничего другого — лишь взаимного мира, который я от всего сердца намерена сохранить»{552}. Граф Солмс заметил:
«Завершение отношений между государыней и ее бывшим любовником происходило через посредство брата последнего так скрытно, что никто не знает точно, какие между ними были заключены условия. Все еще кажется, что Ее императорское величество действовала со столь великой осмотрительностью из опасений довести графа до определенной степени отчаяния»{553}.
Когда условия были согласованы, те аспекты договора, которые посчитали приемлемыми для публики, огласили в Сенате и далее по всем правительственным коллегиям. Появились и новые сюрпризы. Почти десять лет тому назад Григорий по протекции Екатерины получил от графа Вены диплом, объявляющий его князем Священной Римской империи. В XVIII веке среди русских правителей существовал обычай просить у Священной Римской империи оказания этой чести, когда они хотели именовать кого-нибудь «князем», так как данный титул существовал в России только среди наследников древних правящих домов. Однако в то время, когда Григорий получил означенный диплом, ему не позволили пользоваться титулом: Екатерину убедили, что если ее фаворит станет носить иностранный титул, это будет противоречить славе России. Теперь Григорий потребовал позволения пользоваться титулом — и получил его. Граф Солмс охарактеризовал этот жест Орлова как исполненный скорее «некоей бравады»{554}, чем подлинной значимости. Теперь от «князя» Орлова ждали отбытия в Москву, едва лишь всерьез похолодает и установится санный путь. К середине осени Григорий все еще не выказывал желания куда-либо ехать, и появились неизбежные слухи, что Екатерина начала сожалеть о поспешной смене фаворита. 23 октября граф Солмс доложил, что «иногда она бурно реагирует на ситуацию, вплоть до слез»{555}, и все еще не может заставить себя приказать Григорию отправиться в путь. Похоже, что Панина отстранили от переписки между императрицей и ее бывшим фаворитом. Она могла также прийти к заключению, что ее ввели в заблуждение. Попытки манипулировать Екатериной могли привести только к весьма кратковременному успеху, что Панину пришлось испытывать весь остаток жизни. Тем не менее Васильчиков оставался в своем новом положении и, насколько все видели, не давал императрице поводов для жалоб. Они были неразлучны. Добрые взаимоотношения между императрицей и ее сыном, казалось, тоже сохранялись. Граф Солмс, поговорив со многими придворными, удрученно подвел итог: «Короче, это дело — непостижимый хаос. В поведении императрицы заметны противоречия, в которых никто ничего не может понять»{556}. Хаос иного рода набирал обороты в районе Урала. В ноябре 1772 года тридцатилетний казак и дезертир по имени Емельян Пугачев объявился в казацкой столице Яицк на реке Яик (позднее Урал) и заявил живущим там староверам[41], что он — Петр III, чудом спасшийся от смерти и вернувшийся из блужданий по Египту, Константинополю и Польше. Пугачев был не первым, кто после смерти Петра выдавал себя за него. С 1764 года имело место девять таких случаев; последним в списке был крепостной по имени Богомолов, который объявил себя Петром на Волге. Он был арестован и сослан, но умер по пути в Сибирь. Огромные просторы России, где миллионы неграмотных крестьян жили почти в полном неведении относительно того, как и кто руководит их страной, всегда оставались благодатной почвой для появления самозванцев. И молодой царь, умерший при неведомых обстоятельствах после всего лишь нескольких месяцев правления, стал идеальным прообразом, словно бы отбрасывающим многочисленные тени. Для аудитории из недовольных казаков, разного рода солдат и крестьян едва ли имели значение крепкое сложение Пугачева и его темные волосы, постриженные на казацкий манер «под горшок». Он не имел никакого внешнего сходства с покойным императором — но что с того? Все равно никто в Яицке никогда не видел императора — ни мертвого, ни живого. Его краткое правление и природа реформ, которые он попытался осуществить, стали почвой для возникновения легенд о царе, любившем свой народ и старавшемся облегчить его участь, но не устоявшем против козней немецкой дьяволицы, что ныне правит железной рукой, вынуждая подданных участвовать в войне против турок и погибать за ее интересы. Пугачев принимал участие и в Семилетней, и в русско-турецкой войне — с 1768 по 1771 год. За это время он заслужил повышение до самого низшего казацкого офицерского чина. В 1771 году он дезертировал и некоторое время скрывался у родственников (он происходил из семьи донских казаков) и в различных поселениях старообрядцев. В августе 1772 года Пугачев воспользовался амнистией, чтобы получить паспорт, заявив, что он родом из Польши. После чего продолжил свои переезды, иногда выдавая себя за богатого купца. Когда Пугачев приехал в Яицк, ситуация среди казаков уже была напряженной. Летом их очередной мятеж был жестоко подавлен царскими войсками. Казаки всегда были нестабильной частью населения империи. Их поселения, или «станицы», представляли собою смесь беглых криминальных элементов, крепостных, сектантов, дезертиров и свободного населения, живущего разведением лошадей или менее легальными промыслами, в том числе грабежами и мародерством. Казаки формировали также иррегулярные вооруженные силы легкой кавалерии, действующие в качестве пограничных отрядов, но впрямую не подчиняющиеся государству. Однако Екатерина ничего не знала о появлении нового самозванца, и двор оставался погруженным в интриги вокруг Орлова. 6 ноября граф Солмс доложил, что теперь Григорий посылает «постоянные настойчивые просьбы»{557}, чтобы ему разрешили приехать в Петербург на сорок восемь часов. Пока его просьба не получила ни разрешения, ни отказа. Антиорловская группировка и те, кто решил поддерживать Васильчикова как человека, влиятельного в данное время («временщик» — русское название «фаворита», означающее то же самое), все еще боялись, что если императрица согласится на просьбу и лично примет Григория, она может снова поддаться ему и разорвать новую связь. Через два дня младший брат Орлова Федор, также недавно вернувшийся из армии, приехал в город и был принят при дворе императрицей, будто бы ничего не изменилось. (Действительно, не было признаков, что разрыв с Григорием изменил отношение Екатерины к его братьям — или ее поведение по отношению к ним.) В тот же день граф Солмс снабжает Фридриха Великого проникнутой пониманием оценкой происходящего: «[Орлов] приобрел слишком сильное влияние на нее; она упрекает себя за то, что плохо обошлась с ним. Говоря по правде, она так привыкла к нему, что ей трудно без него обходиться. Она испытывает пустоту, не имея рядом того, кому может открыть сердце по всем вопросам, а новый фаворит — вовсе не подходящая замена. Он очень честный человек, но абсолютно новый и несведущий, так что все, на что он может надеяться, — это что императрица будет тверда в своем решении в течение года. Сомневаюсь, что он сможет удержать ее дольше»{558}. К концу ноября Екатерина согласилась с тем, чтобы Григорий приехал в Петербург для личного прощания с ней. Получив разрешение, он, похоже, больше не торопился им воспользоваться. Трудно было понять поведение Екатерины. С одной стороны, она была поглощена страстностью отношений с новым фаворитом — «предаваясь им со всей живостью юной особы»{559}, по словам графа Солмса, и больше, чем раньше, заботясь о своей внешности, — но в то же время лично наблюдала за подготовкой белья, предназначенного для тела, и дома ее бывшего фаворита, с которым она, похоже, находилась в тесной переписке. Наконец 24 декабря Григорий Орлов появился при дворе. Граф Солмс доложил о событии на следующий день:
«Позавчера вечером совершенно неожиданно граф Орлов появился в городе и остановился у брата. Вчера состоялась его первая аудиенция у Ее императорского величества, которая приняла его в присутствии двух своих доверенных лиц: мистера Елагина и мистера Бецкого. Оттуда он направился к великому князю и провел какое-то время наедине с графом Паниным в его кабинете. К обеду граф вернулся к брату, а после полудня посетил при дворе вечерню сочельника. Именно там публика и узнала о его прибытии. Оттуда он отправился с визитами в город, а вечером вернулся, чтобы принять участие в карточной игре у императрицы. Я видел его этим утром при дворе, где он принял меня с теми же искренностью и дружелюбием, которые проявлял ко мне всегда. Он смешался с другими придворными и воспринимался так, будто никогда не отсутствовал»{560}.
Далее из письма Солмса ясно, что «два дня» Григория затянулись:
«Граф Орлов все еще тут, но не виделся с императрицей наедине. Я информирован даже лучше, чем прежде, и знаю, что он также не имел личной встречи с графом Паниным. Но он живет здесь на тех же условиях, что и любой знатный человек страны во время визита в столицу. Он посещает двор утром и вечером в обычные часы, когда появляется императрица. Она разговаривает с ним таким образом, что незаметны ни пристрастность, ни смущение. Вчера вечером я был свидетелем их разговора о картинах. Со своей стороны он сохранял гораздо более уважительный вид по отношению к императрице, чем прежде; а в остальном он такой же, как и всегда. Он, как обычно, ломает комедию, беседует с новым фаворитом и его друзьями, будто ничего не случилось, и наносит визиты всем в городе. Я отплатил ему визитом, другие иностранные представители делают то же самое, он отдает их в тот же день, и никто не может ни предвидеть, ни предсказать, что из всего этого выйдет»{561}.
В начале 1773 года граф Солмс размышлял, не может ли все это быть некоей тщательно продуманной пьесой:
«Если только императрица и ее бывший любовник, прекрасно понимая друг друга, не разыгрывают заранее разученные роли, чтобы ввести всех в заблуждение, не похоже, что возвращение последнего произвело хоть малейшее воздействие. Он живет у своего брата, пользуется наемным экипажем и посещает двор лишь ненадолго. Он первым вышучивает свое положение — таким образом, чтобы смутить собеседников. Если судить по его внешнему поведению, можно счесть, что он сбросил бремя и посему испытывает облегчение, что он стремится наслаждаться своей свободой и хочет вернуться ко двору лишь затем, чтобы одержать победу надо всеми, кто хотел этому воспрепятствовать — дабы насладиться их смущением и показаться публике, которая иначе может заподозрить, что он виноват. Со своей стороны, государыня демонстрировала обществу все ту же беззаботную радость, что и летом. В последнюю пятницу при дворе состоялся маскарад, и Ее императорское величество открыто прогуливалась там с канцлером Васильчиковым, а так как в этот день чувствовала себя не очень хорошо, то ушла рано. Граф Орлов пришел на бал после ее отбытия и оставался допоздна»{562}.
Наконец в течение первой недели января Григорий собрался и отбыл. Граф Солмс продолжал рассматривать происшествие как непостижимую драму:
«Первый акт сыгран, и в прошлую субботу граф Орлов уехал на Ревель. Он до конца придерживался роли, которую начал играть. Первые несколько дней по прибытии он явно избегал двора и императрицы. Он проводил время только с близкими друзьями и открыто флиртовал со всеми хорошенькими женщинами города, даже в театре на виду у императрицы и всех остальных. Со своей стороны, Ее императорское величество не изъявляла желания, чтобы он подошел к ней, и нет сомнений, что она не принимала его лично и не оказывала ему внимания, на которое кое-кто мог бы пожаловаться. Его, например, редко приглашали обедать за ее стол. Она не предоставляла ему придворных экипажей (хотя он всегда пользовался ими за городом) и почетного сопровождения из гвардейцев, которое полагались ему как гроссмейстеру артиллерии, поскольку его не лишили этого поста, равно как и никакого другого из тех, что он занимал, но освободили только после года исполнения обязанностей. Прощаясь, Ее императорское величество ни слова не сказала ему о возвращении. Она приняла его очень милостиво и пожелала ему интересной поездки и всевозможного процветания. Несмотря на сдержанные внешние проявления, существовало мнение, что их поведение притворно с обеих сторон. Однако никто не может проникнуть в действительное положение вещей и предсказать, чем все закончится. Сильная страсть императрицы к новому фавориту становится все более очевидной — но тем не менее, отъезд прежнего сделал ее печальной и сердитой, и в течение трех дней она отсылала прочь все дела. Наверняка она все еще испытывает к нему дружеские чувства, а возможно, и поддерживает с ним секретную переписку. Все убеждены: едва пожелав чего-нибудь, что доставит ему удовольствие, он немедленно это получит»{563}.
На международном фронте к концу января Екатерина устала от войны и хотела мира с турками. По временам голос императрицы-завоевательницы звучит непривычно. Она, например, сообщила мадам Бьельке, что по ее мнению война — «глупая вещь: по поводу каждой нашей победы мы поем благодарственный молебен, что в природе вещей; я не спорю по этому поводу, но не могу избавиться от мысли, что это похоже на крик петуха, который, побив другого, носится и кричит «кукареку»{564}. А в марте перемирие закончилось, турки отказались от дальнейших уступок, и через несколько месяцев военные действия возобновились. Двор снова оказался в затруднительном положении, когда в начале марта после двухмесячного отсутствия Григорий Орлов вернулся из Ревеля. Императрица посчитала для себя обязательным побеседовать при дворе равно с обоими своими фаворитами — прошлым и настоящим. Граф Солмс отметил:
«Совсем недавний приезд графа Орлова все еще не предлагает ничего замечательного; он, если можно так сказать, является комедией, которую с удовольствием разыгрывает Ее императорское величество, чтобы дурачить всех, и которую она может закончить, когда ей вздумается. Наверняка она хочет заставить его в конце вынужденной годовой отлучки вернуться ко всем его должностям — но учитывает обстоятельства, мотивов которых никто не знает. Он, ожидая, притворяется безразличным и демонстрирует необыкновенную свободу духа. Он ищет только развлечений и посещает все вечеринки в городе… Он говорит, что хочет поехать инспектировать все свои имения в России, но не уверен, получится ли: он вкладывает решение своей судьбы в руки императрицы. Он сделает все, что она прикажет, но без озвученного ею приказа не примет ни одного назначения до того, как пройдет год»{565}.
Примерно в это время Екатерина впервые заметила имя Емельяна Пугачева — когда подтвердила его приговор: выпороть и сослать в Сибирь за попытку подстрекательства среди яицких казаков. Однако двумя месяцами позднее он ухитрился спастись и ударился в бега. 10 апреля Екатерина отправилась с весенним визитом в Царское Село, где через два дня к ней присоединились великий князь и граф Панин. Григорий Орлов тем временем уехал в Гатчину; придворные снова привыкли к его присутствию и испытывали облегчение, что он не выказывал стремления отомстить тем, кто не принял его сторону. «Казалось даже, что он не желает возвращаться ко двору с той степенью фавора, какой привык пользоваться ранее, — докладывал граф Солмс, — и что, наоборот, он счастлив быть полным хозяином самому себе, пользоваться почетом везде, куда бы ни приходил, иметь двести тысяч рублей на расходы. По крайней мере, хвастовство богатством — его любимая тема в настоящее время»{566}. Но Екатерина решила, что его отпуск слишком затянулся. 12 мая, через девять месяцев после того, как он покинул мирные переговоры в Фокшани, Орлов был восстановлен во всех своих прежних должностях. 3 июня он посетил заседание Совета императрицы. Его брат Алексей продолжал командовать морскими силами в войне против турок, заняв несколько портов Восточного Средиземноморья и настроив арабских повстанцев против турецкого султана. Все было более или менее нормально. Теперь Екатерина освободилась достаточно, чтобы обратить внимание на организацию свадьбы сына. Изучение бароном Ассебургом характера принцессы Вильгельмины Гессен-Дармштадтской дало, казалось, обнадеживающие результаты. Пора было переходить к личному знакомству, и пятнадцатого июня 1773 года ландграфиня Гессен-Дармштадтская и ее три дочери — Амелия восемнадцати лет, Вильгельмина семнадцати лет и Луиза пятнадцати лет — прибыли в Царское село. Екатерина выслала флотилию в Любек, чтобы привезти ландграфиню с дочерьми — и их свиту из сорока человек, включая трех камер-дам, двух камер-юнкеров, восемь горничных, двух камердинеров, секретаря и разных других слуг — в Ревель. Там путешественниц расположили во дворце Екатериненталь (построенном Никколо Мичетти при Петре I и названном в честь Екатерины I); закончен он был лишь частично, и Екатерина велела барону Черкасову обеспечить наличие всего необходимого. Во дворец послали поваров и слуг, а барону вменялось в обязанность присматривать за ними. Его делом было также приветствовать посетителей, как только корабли пришвартуются, и привезти их прямо в Екатериненталь, где и передать послание от императрицы, сообщающее, как она рада их прибытию в ее владения и что она ждет их с нетерпением при своем дворе. (Тут она воспроизвела формулировку, которую использовала Елизавета, когда они с Иоганной прибыли в Российскую империю.) Короче, барону Черкасову предстояло «предугадывать их желания и узнавать, что доставляет им удовольствие»{567}. Екатерина высказала также несколько идей о том, как она сама встретит новоприбывших. С некоторым даже ликованием она объясняла позже мадам Бьельке:
«Чтобы избежать любой неловкости при первой встрече, вперед был выслан князь Орлов — дабы пригласить ландграфиню на обед в его имение Гатчина, которое хотя и находится в стороне от главной дороги, тем не менее укорачивает путь ландграфини на несколько верст[42]. Она прибыла туда через два часа. Князь, встретив ее у ворот и ведя по лестнице, рассказал, что она най — дет нескольких дам уже здесь. Как же удивлена была ландграфиня, когда, войдя в комнату, увидела меня в обществе одной графини Брюс! Она отшатнулась и громко вскрикнула. Я подошла к ней, говоря: «Я устроила вам сюрприз, мадам, — не знаю, приятный ли, но я посчитала его необходимым, чтобы устранить неловкость при первом знакомстве». При этом мы поцеловались. Тут подошли княжны, очень удивленные и немного нервничающие. Князь Орлов сократил эту сцену: он подошел и попросил меня пройти в соседнюю комнату, пока княжны приведут себя в порядок. Нас обслуживали, а мы сидели за столом, как будто обедаем вместе всю жизнь. Встав из-за стола, я предложила ландграфине сопровождать меня в очень удобном экипаже на шесть человек, который я выбрала намеренно; она согласилась, и мы устроились: она, три ее дочери, графиня Брюс и я»{568}.
Павел сразу же выбрал Вильгельмину. Екатерина дала ему три дня на «проверку чувств», и поскольку она тоже нашла, что Вильгельмина самая интересная из сестер, на четвертый день императрица сделала ландграфине предложение, чтобы ее средняя дочь вышла замуж за великого князя. Ни мать, ни дочь не возразили, поэтому немедленно начались уроки русского языка и православной веры. Екатерина сообщила мадам Бьельке о том, что довольна всей семьей — от матери до молодой будущей невестки:
«Теперь мы ожидаем согласия ландграфа. С его женой приятно познакомиться: она имеет благородные сердце и ум; она женщина, достойная уважения, высоких качеств во всех отношениях; ее речи занимательны, и кажется, что ни ей, ни ее дочкам у нас не скучно. Старшая девочка очень приятная; младшая, похоже, очень смышленая; средняя представляет собою все, чего только можно желать: у нее приятное лицо, правильные черты, она нежная и умненькая; я очень рада, а мой сын поражен»{569}.
Несмотря на то, что Павел был доволен девушкой, которую нашла ему мать, отношения между императрицей и сыном к концу июля сильно испортились. Враждебность Павла была вызвана рядом причин — разочарованием из-за того, что достигнутое совершеннолетие не внесло изменений в его жизнь (кроме приближающейся женитьбы), потерей Голштин-Готторпа, возвращением Григория Орлова на центральные должности при дворе и сильным подозрением, что недавняя демонстрация материнской любви была вызвана некими скрытыми мотивами. Отныне у Павла возник в отношении матери комплекс отвергнутого ревнивого любовника, чувство, что его любовь презрительно отбрасывается ею, что его считают недостойным ее любви, которую она предпочитает отдавать другим молодым людям. Встречи дважды в неделю для просмотра отчетов ничего не меняли. Когда он подошел к девятнадцатилетию и своему «русскому совершеннолетию», все надежды на разделение власти с матерью ко времени, когда он станет взрослым (а он их, вероятно, питал), оказались полностью беспочвенными. Внешне, однако, все при дворе было благополучно, и 15 августа княжна Вильгельмина перешла в православие, по-русски зачитав «Символ веры», как сделала сама Екатерина тридцать лет тому назад. Ей дали имя Наталья Алексеевна. На следующий день имела место официальная помолвка, и Наталья получила титул великой княгини и Ее императорского высочества. Екатерина выделила на ее содержание пятьдесят тысяч рублей, заметив мадам Бьельке: «У меня было только тридцать [тысяч], когда я была великой княгиней, но вынуждена признать, что никогда не считала это достаточным»{570}. Помня и о трудностях, которые она сама пережила, будучи великой княгиней, и о своих ранних попытках вмешательства в политические дела (поведение, которому, по ее твердому убеждению, жена Павла не имела права подражать), Екатерина создала для Натальи Алексеевны ряд инструкций, которые назвала «Краткие максимы для принцессы, которая будет иметь счастье стать невесткой Ее императорского величества императрицы всея Руси и женой Его императорского высочества великого князя»{571}. Из этих «максим» (форма изложения, которой Екатерина никогда не могла противостоять) ясно, что она намерена была жестко наблюдать за молодой великой княгиней, как за ней самой следила императрица Елизавета, и ограничивать ее. Основное различие заключалось в том, что Екатерина была более открытой и методичной в своей тирании, чем менее деловитая Елизавета. Великая княгиня, пишет Екатерина, должна (как любая юная невеста своего времени и класса) «находить удовлетворение во вкусах и привычках» человека, за которого выходит замуж, должна соответствовать образу жизни, к которому он привык. Она обязана полностью доверять своему мужу и его матери, к которым также должна испытывать «самую нежную привязанность». Она должна никогда не забывать о важности единства внутри императорской семьи и не слушать тех, кто будет стараться ее разрушить. Более того, она обязана сообщать о них, так как «ее долг — разоблачать перед императрицей и великим князем, своим мужем, тех, кто из-за неблагоразумия или бесчестности наберется наглости высказывать ей мнения, противоречащие преданности, которую она должна испытывать по отношению к императрице и великому князю, своему мужу». Далее следует, что «она должна дарить свое доверие и уважение только тем, кого выберет для нее императрица, которая наверняка знает об их привязанности к своей государыне и великому князю». И хотя ожидается, что великая княгиня сможет развлекаться на балах и различных приемах, как следует всем молодым людям, ей никогда не следует забывать о занимаемом положении, «помня, что фамильярность может иметь последствия — такие как отсутствие положенного ей по рангу внимания и уважения, что часто выливается в презрение». Во всем этом Екатерина опиралась на реалии своей юности; она хорошо знала из собственного опыта о политических ловушках для императрицы, имеющей умную и привлекательную молодую женщину центром независимого кружка при большом дворе, способную стать ядром раскола, центром объединения для всех не имеющих влияния придворных и каналом проведения планов иностранной дипломатии. Поэтому она не хотела позволить Павлу и Наталье создать собственный «молодой двор» и делала акцент на том, что великая княгиня должна «избегать всяческих инсинуаций, которые могли исходить от посланников иностранных дворов». Екатерина подчеркивала, что Наталья должна выучить русский язык и «приучиться к обычаям нации». Она должна также научиться мудро расходовать свои деньги, а это потребует взвешенного балансирования, чтобы не быть ни расточительной, ни скаредной. В конце концов, учитывая ее неопытность, «самое для нее разумное — это обратиться к императрице и великому князю, чтобы они наметили для нее персону, которая могла бы помочь ей в этих делах». Кроме прочего, великая княгиня никогда не должна быть праздной, так как «праздность порождает скуку, которая часто приводит к плохому настроению и капризам». Екатерина утверждала, что лучший способ заполнить часы досуга — это чтение, но также рекомендовала музыку и «всевозможное рукоделие». Молодой жене следует находить удовольствие в общении, особенно с учетом возможности ведения бесед с умными и просвещенными людьми, но она также должна развивать собственные внутренние ресурсы, чтобы не зависеть от компании других людей. В результате следования этим максимам, прописанным Екатериной, «княгиня может быть уверенной в самом счастливом будущем». В том же месяце, когда состоялась помолвка Павла и Натальи, Емельян Пугачев снова появился среди яицких казаков. На этот раз он подкреплял свое заявление, будто является Петром III, предъявлением «царских меток», как он их назвал, — стигматов на теле, «доказывающих» его царское происхождение. (В действительности это были шрамы на груди, оставшиеся после золотухи, которые он с гордостью показывал всем в бане.) С этого момента его притязания стали набирать обороты, и он с небольшой группой единомышленников начал изыскивать способ убедить яицкое казачье войско признать его царем. Люди, стоявшие к нему близко, прекрасно знали, кто он есть на самом деле. Но в то время как некоторые из них просто пользовались возможностью объявить своего лидера царем — дабы собрать сторонников в разбойничьих целях, — другие позволили себе мечтать о царе-спасителе, который защитит и освободит свой народ. Последователи Пугачева нарядили его в «императорскую» одежду из красного кафтана и бархатной шапки и приставили к нему секретаря, так как сам он был неграмотным. В середине сентября он, стоя во главе шайки разбойников, объявил о восстании. Самозванец быстро обрел поддержку, сделав ряд заявлений и дав несколько обещаний толпе казаков и кочевников-башкир — именно те, что толпа хотела услышать. Он сказал, что освободит их от давления режима Екатерины, которую называл «немкой» и «дьявольским отродьем». Кроме того, он пообещал «верноподданным» землю, пищу, деньги, оружие, свободу вероисповедания (особенно необходимую старообрядцам), освобождение от налогов и рекрутских наборов. На следующий день после первого оглашения «политической программы» количество последователей Пугачева уже перевалило за триста человек. Мятежники не смогли взять Яицк, но захватили несколько мелких аванпостов (так называемых фортов, которые на деле были просто слегка укрепленными деревнями, населенными казаками и крестьянами, с маленьким гарнизоном) и к началу октября устроили свой «императорский» штаб возле города Оренбург. А в Петербурге, где о мятеже пока еще ничего не знали, 29 сентября поженились Павел Петрович и Наталья Алексеевна. Девятью днями ранее отметили долгожданное русское совершеннолетие Павла, с которым в течение многих лет связывалось множество смелых предположений. Событие отпраздновали вечерним балом; в остальном оно прошло незамеченным. Свадьба полностью соответствовала традиционной схеме, включающей угощение для простых людей перед Зимним дворцом. Бракосочетание царевича стало также началом и отправ- ной точкой для весьма важных и продолжительных взаимоотношений в жизни Екатерины. Исключительно эпистолярные, без элементов романтики, они развились в длительную, устойчивую дружбу. Человеком, о котором идет речь, был Фридрих Мельхиор Гримм, прибывший в Петербург в составе свиты старшего брата Натальи Алексеевны, Людвига, приехавшего на свадьбу. Гримм был немецким придворным знатного происхождения. Он родился в Регенсбурге в 1723 году, то есть был на шесть лет старше Екатерины. Перебравшись в Париж, Гримм поступил на службу к принцу Сакс-Готскому и герцогу Орлеанскому. Он стал также близким другом Дидро и других философов. С 1754 года он выпускает выходящий раз в две недели эксклюзивный информационный бюллетень «Correspondances littéraires», основанный аббом Рейналем (писателем и священником, по неизвестной причине исключенным из общества святого Сульпиция в Париже), который намеревался держать коронованные головы Европы осведомленными в области свежих книг, поэзии, театров, живописи и скульптуры. Пятнадцать (или около того) подписчиков получали копии через своих послов в Париже. Это было то издание, которое требовалось Екатерине, и она была постоянным его подписчиком. Почти сразу же по прибытии в Петербург, после представления Екатерине и великому князю, Гримм получил от императрицы абсолютно неожиданное предложение — остаться в России и поступить к ней на службу. Во время свадебных церемоний Гримм мучился над ответом. Он должен принять предложение — таково было твердое мнение ландграфини. Гримм полагал, что императрица не ожидает отказа. Через много лет он вспоминал, как мило она разговаривала с ним во время карточных игр по вечерам. Но чем дальше, тем неспокойнее ему делалось — ибо дни проходили, а он всё не мог дать ответа. Однако ни намека на холодность не содержало письмо Екатерины о Гримме, отправленное Вольтеру: «Я нахожу его речи восхитительными, у нас все еще остается так много общих тем, что до сих пор наши беседы содержат больше тепла, чем порядка и связности. Мы много говорим о вас. Я рассказала ему о том, о чем вы, возможно, забыли: что именно ваши работы научили меня думать»{572}. Желая получить ответ, Екатерина к концу свадебных торжеств отправила графа Владимира Орлова, младшего и самого образованного из братьев Орловых, навестить Гримма и попросить объяснить причину его затянувшегося молчания. Тот ответил, что если бы мог получить у Екатерины пятиминутную аудиенцию наедине, без подслушивающих придворных, он открыл бы ей свое сердце. Встреча была назначена на следующий вечер. Гримм описал ее так:
«Когда я вошел, она имела тот внушительный, величавый вид, который так ей идет; в нем не было ничего сурового, но он все-таки смутил меня. «Итак, сэр, — сказала она, — вы хотели поговорить со мною. Что вы желали сказать?» Я ответил: «Мадам, если Ваше величество будет так держаться и дальше, мне придется уйти, так как я чувствую, что не смогу свободно высказаться и с пользой употребить те мгновения, которые вы так любезно мне предоставили, и это будет для меня потерей». При этих словах она успокоила меня своей обычной улыбкой и сказала: «Садитесь и давайте обсудим наши дела»{573}.
Ободренный Гримм объяснил, что хотя он помимо своей воли польщен предложением Екатерины, он чувствует себя слишком старым в пятьдесят лет, чтобы осуществлять такие радикальные перемены, как переезд на жительство в Россию. Он не думает, что сможет выучить русский язык, и не видит, как стать полезным в стране, не зная ее языка. Императрица ответила несколько резко, что ей решать, как его использовать. По более поздним воспоминаниям, Гримму очень хотелось принять приглашение Екатерины. Его останавливало здравомыслие и опасение, что столь крупная удача не может длиться долго, и если он бросит все, последует своему желанию приехать и служить ей в России, дела его пойдут неудачно, и он окажется без места и без возможности что-либо изменить. Беседа длилась не пять минут, а полтора часа. В конце Гримм ощущал ту же неуверенность, что и в самом начале. После этой первой встречи тет-а-тет Екатерина часто вызывала Гримма на личную беседу после вечерней игры в карты. Она обычно усаживалась за стол со своей вышивкой или иным рукоделием, приглашала его сесть напротив и держала до половины одиннадцатого или до одиннадцати часов. Казалось, что общение со знающим и умным человеком было императрице интереснее перед сном, чем удовольствия, которые мог предложить ей Васильчиков. Вскоре такое времяпровождение стало ежедневным, а впоследствии беседы стали иметь место и в другое время. Иногда один разговор происходил перед обедом, другой после, а третий перед сном. Гримм обнаружил, что проводит почти все свое время в обществе императрицы — либо на публике, либо наедине, — возвращаясь в свое жилище только между четырьмя и шестью часами пополудни.К своему удивлению, он обнаружил, что чувствует себя абсолютно свободно в беседах с Екатериной и что она необыкновенно быстро все схватывает, даже когда он понимал, что не смог выразиться ясно. Тем временем в Петербург к своей благодетельнице с долгожданным визитом прибыл другой великий златоуст — друг Гримма, Дени Дидро. Ранее от поездки его удерживала болезнь, и он прибыл, все еще плохо себя чувствуя, за день до великокняжеской свадьбы. Его первоначальный энтузиазм не знал границ, как докладывал Екатерине через несколько дней еще один друг Дидро, находившийся в это время в Петербурге, — Этьен Фальконе:
«Наконец-то, мадам, он приехал и увидел вас, этот Дидро, который не перестает выражать свое восхищение. «Да, я видел ее, я слышал ее, — твердит он, — и клянусь тебе, мой друг, она не понимает, сколько добра мне сделала. Какая правительница! Какая удивительная женщина…» Он говорит еще многое другое, и самое необычное — что он сообщает это мне, будто не я говорил ему то же самое последние семь лет»{574}.
Произошло еще одно перемещение придворных на шахматной доске, так как свадьба Павла дала Екатерине возможность ослабить влияние Никиты Панина. Теперь, когда Павел официально стал взрослым, он больше не нуждался в наставнике, как считала Екатерина, и поэтому человек, который так часто действовал как отец, теперь лишился своего положения в доме великого князя и, соответственно, потерял право на стол и дом в императорских дворцах. Наградное пособие Панина при выходе на пенсию включало поместье, дающее тридцать тысяч рублей дохода в год, пенсию на такую же сумму и любой дом в Петербурге по его выбору с обстановкой, всей необходимой посудой, экипажами и винным погребом. Граф — и великий князь, для которого это тоже оказалось неприятным сюрпризом — не имел выбора и мог только подчиниться воле императрицы. Он не имел возможности торговаться, как делал Григорий Орлов в предшествующем году. Екатерина резко отвернулась от него, и мало оставалось сомнений, кто стал теперь победителем в соперничестве «Орлов — Панин». Конечно, никто из этих тайных победителей не назывался вслух, а Панин внешне пользовался большим уважением, что отразилось в отчете сэра Роберта Ганнинга от 27 сентября:
«Очень милое и лестное письмо от императрицы мистеру Панину примирило последнего с немедленным лишением апартаментов во дворце. Она заявила в этом письме: интересы империи требуют, чтобы и она, и он посвятили остаток своих дней служению стране; их время теперь целиком будет посвящено обеспечению мира, и она просит, чтобы он уделил всего себя этой цели. Поэтому она освобождает его от дальнейших забот о великом князе: того, с другой стороны, уже убедили согласиться с этим расставанием, пообещав, что мистер Панин будет свободно посещать его, когда захочет»{575}.
Неделей позже новость о пугачевском мятеже наконец достигла Екатерины. Теперь самозванец уже имел «армию» из трех тысяч человек и более двадцати пушек и наводил ужас на окрестности Оренбурга. Его сторонники убивали дворян и офицеров, часто калеча свои жертвы перед тем, как повесить их вверх ногами, и насиловали или забирали в «императорский» гарем всех женщин, которых не убивали. Однако Екатерина и ее советники все еще не оценили серьезности того, что происходило, и, похоже, считали, что это не более чем слабое повторение восстания казаков предыдущего года. Соответственно, были высланы неадекватные силы под командованием генерала Карра, чтобы справиться с беспорядками. Британский дипломат Ричард Оук так оценил ухудшающуюся ситуацию на пятое ноября:
«Все, касающееся бунта в провинции Оренбург, насколько возможно хранится в секрете, но известно, что сообщения оттуда все более и более неутешительные. Три курьера прибыли из Казани за эти несколько дней. Говорят, число казаков среди приверженцев самозванца уже увеличилось до двадцати пяти тысяч человек. Они опустошают страну, грабят население и повесили начальника русской крепости. Ожидается даже, что они попытаются взять Оренбург. На их усмирение вдобавок к уже отправленным силам были посланы два дополнительных полка; почтовыми лошадьми в ту сторону передвигается артиллерия. Это в настоящее время действительно очень тревожное дело»{576}.
Мятеж, который стал известен под названием «пугачевщина» (самое серьезное событие, имевшее место в правление Екатерины), был одним из факторов, положивших конец той странной интерлюдии в жизни императрицы, в начале которой она потеряла свою хватку и в отношении себя самой (это выразилось во внезапном слепом увлечении Васильчиковым), и в отношении придворных (которые были готовы манипулировать ее слабостью до собственного конца). Но на исходе 1773 года она снова твердо управляла своим двором, но эмоциональный и психологический пробел, оставшийся после ухода Григория Орлова с позиции официального фаворита, еще требовалось заполнить. Александр Васильчиков (чья роль в этой драме сводилась к роли куклы и была чисто декоративной) показал свою неспособность удовлетворить эмоциональные потребности Екатерины. К тому же он не мог оказать ей никакой поддержки или помощи во время быстро развивающегося кризиса (внутренних беспорядков в сочетании с продолжающимися военными действиями рне страны). С тем же инстинктом, который привел ее к Орлову в последние месяцы пребывания великой княгиней, Екатерина сосредоточила свое внимание на мужчине, ждавшем за кулисами во время пребывания рядом с ней Васильчикова. В ноябре 1770 года Григорий Потемкин был выбран фельдмаршалом Румянцевым для доставки в Санкт-Петербург новостей об успехах русских вооруженных сил в войне против турок. В течение нескольких месяцев, проведенных в столице, он часто обедал с императрицей, демонстрируя совершенно явное обожание и преданность своей государыне, которые сохранил и впоследствии. Он снова служил в армии на Дунайском фронте, участвуя в осаде Силистрии. 4 декабря 1773 года Екатерина послала Потемкину записку, которую получатель понял как прямое приглашение:
«Генерал-лейтенант и рыцарь, я думаю, ваши глаза слишком сосредоточены на Силистрии, чтобы иметь время читать письма. И хотя я еще не знаю, успешна ли была ваша бомбардировка, тем не менее я убеждена, что все исполняемое вами имеет единственным мотивом вашу горячую преданность мне лично, а также дорогой родине, служить которым вам так нравится. Но насколько это касается меня, я особенно хочу сохранить энергичных, храбрых, умных и талантливых людей, поэтому прошу вас не подставляться опасности без нужды. Прочитав это письмо, вы можете спросить: для чего же оно написано? На это я отвечу: чтобы вы имели подтверждение того, как я о вас думаю. По отношению к вам я всегда благосклонна»{577}.
12. Страсть и претенденты (1774–1776)
Беда в том, что мое сердце не желает ни на час оставаться без любви.В юности, изучая в Московском университете теологию, Григорий Потемкин был представлен императрице Елизавете как одна из надежд факультета. Впрочем, вскоре после этой встречи он оставил формальную теологию — сохранив, однако, страстный интерес к делам церкви и религии. Когда в начале 1774 года, через несколько недель после его возвращения в Санкт-Петербург, императрица Екатерина не поторопилась отдалить от себя Александра Васильчикова и водворить Потемкина на его место, последний решил извлечь пользу из своей известной всем преданности религии и тем самым ответить на «обман» императрицы. Соответственно, он делает всеобщим достоянием известие, что решил принять монашеский сан, и переезжает в Александро-Невскую Лавру, где ведет подчеркнуто аскетический образ жизни и даже отращивает бороду. Этой хитростью он заставляет Екатерину действовать. Она посылает за «затворником» свою близкую подругу и доверенное лицо графиню Брюс, чтобы та вернула его ко двору. Неисправимый Потемкин, смешав комедию и благочестие, заставляет графиню ждать, пока он завершит свои молитвы. Однако соизволив выслушать ее послание, он немедленно побрился, помылся и переоделся в форму, после чего поскакал в Царское Село. Он прибыл 4 февраля в шесть часов вечера и был проведен к императрице. Екатерина и ее гость немедленно удалились в ее личные покои, где пробыли почти час. Страстное увлечение Потемкина религией было типичным для него и распространялось на все, за что он брался. В течение жизни у него наблюдались всепоглощающий интерес ко многим предметам и способность погружаться в тему — и в смысле увлеченности каждым новым делом, и в смысле способности быстро впитывать информацию и идеи. Это более чем отвечало собственному восприятию Екатерины и стало одной из причин, приведшей ее к нему. Жизнь с Потемкиным никогда не была скучной — какой быстро стала жизнь с Васильчиковым. Он был из тех людей, которых или любят, или ненавидят. Как и Григорий Орлов, Григорий Потемкин обладал впечатляющими физическими данными, но был образованнее, интеллектуальнее и способнее Орлова. Его внешность портил незрячий левый глаз — результат несчастного случая, а не того, что Григорий Орлов нанес ему удар по лицу, как любили утверждать сплетники. Глаз был полузакрыт, Потемкин всегда смущался этого и настаивал, чтобы портретисты рисовали его с «хорошей стороны». Застенчивость Потемкина не стала меньше от прозвища «Циклоп», которым наградили его Орловы и другие придворные. У него было бледное лицо и длинные каштановые, почти темно-рыжие волосы, на которые он иногда надевал серый парик. Прекрасные здоровые зубы были одной из самых замечательных его черт. В свои тридцать четыре года он был на десять лет моложе Екатерины. Сама императрица пребывала в расцвете сил, ее привлекательность усиливалась благодаря величавости, которая проявлялась в осанке, из-за чего она казалась выше, чем была на самом деле. У нее была хорошая кожа, яркие глаза, на четко очерченных губах почти постоянно играла улыбка, и несмотря на увеличивающуюся полноту, она сохраняла несколько выдающийся решительный подбородок. Обычно царица носила просторную одежду с широкими рукавами — и для удобства при работе, и для того, чтобы скрыть склонность к полноте. Она пудрила свои темные волосы и накладывала на щеки яркие пятна румян, как было принято у русских женщин того времени и круга. Сначала Екатерину поразила сила собственного чувства к Потемкину. Ей нравилось думать о себе как об «одной из лучших голов Европы»{578}, но она не могла запретить себе посылать по нескольку безрассудных маленьких любовных записок каждый день — в основном по-русски, но иногда вперемешку с французскими фразами — своему дорогому, возлюбленному, бесценному брату, toton (французское слово для обозначения детского волчка, так как Потемкин находился в постоянном энергичном кружении), своему маленькому Грише, Гришеньке или даже Гришефишеньке. Потемкин сохранил большую часть этих писем и записок, в то время как Екатерина сжигала почти все, что он ей адресовал, так что сохранилась в основном односторонняя переписка. Впрочем, хорошо видно, что эта сторона представляет собою часть непрерывного диалога. У пары непрерывно идет соревнование, кто больше любит. Екатерина постоянно утверждала, будто любит Потемкина сильнее, чем он ее — так как ему, похоже, постоянно требовалось подтверждение того, что она продолжает любить его и только его. Чувствительный и остро воспринимающий обиды, он был требовательным и ревнивым любовником, ревновавшим даже к тем, кто был у Екатерины до него. Чуть ли не в самом начале их взаимоотношений он стал укорять ее количеством предыдущих любовников, утверждая, что их было пятнадцать. Это побудило ее написать 21 февраля 1774 года «Искреннее признание»{579}, из которого ясно, что она действительно намеревалась своим письмом от предыдущего декабря вызвать Потемкина на откровенность, чтобы проверить утверждение графини Брюс (которую она фамильярно называет «Брюша»), что он влюблен в свою императрицу. И ей, очевидно, хотелось, чтобы это было так. Она называет его Героем или Рыцарем (по-русски «богатырь» — мифический герой средневековых русских эпических песен, защищавший древнюю Русь от ее врагов), подразумевая, вероятно, что считает себя и свою империю девицами в беде, нуждающимися в спасителе — рыцаре в сверкающих доспехах. Она отрицает число «пятнадцать» и перечисляет пятерых своих любовников — Сергей Салтыков («против желания»), Станислав Понятовский, Григорий Орлов, Александр Васильчиков («от безысходности») и теперь сам Потемкин. Екатерина также отмела все обвинения в распущенности и развращенности, к которым, по ее заявлению, у нее нет склонности, и изъявила уверенность, что если бы ей повезло иметь мужа, достойного любви, она осталась бы верной ему. Затем она легко призналась в главном: постоянной нужде в человеке, кого любила бы она и кто любил бы ее: «Беда в том, что мое сердце не желает ни на час оставаться без любви». Императрица открыла Потемкину, каким образом любовник может сохранить ее: проявляя к ней в равной степени дружбу и привязанность; продолжая любить ее — но при этом говоря ей правду. Потребовалось несколько недель, чтобы полностью определилось положение Потемкина при дворе, а Васильчиков был объявлен лишним. 9 февраля Потемкин посетил официальный обед в Екатерининском дворце в Царском Селе. В тот же день Екатерина рассказала своей подруге мадам Бьельке о ситуации с Пугачевым и его бунтовщиками. В письме от предыдущего месяца она отрицала, что мятеж набирает обороты, признав только, что существуют банды разбойников с большой дороги, действующие в Оренбургской области, и что один из их вожаков объявляет себя то Петром III, то его представителем. Эти разбойники, сообщила она, повесили за последние три месяца более пятисот человек обоего пола и всех возрастов. Против них был выслан генерал-майор Карр, но он только сделал ситуацию еще хуже. Она послала на его место генерала Бибикова. Екатерина считала башкир, населяющих Оренбургскую область, «ужасно неспокойным народом, занимающимся грабежами с сотворения мира»{580}, но заявляла, что она оптимистка и скоро все будет под контролем: «Вероятно, это вскоре придет к концу. У генерала Бибикова есть для того все необходимое. Скажу больше — все, что не имеет ни смысла, ни порядка, не может выжить, сталкиваясь с порядком и разумом»{581}. Одной из многих сложностей, обусловленных волнениями, было то, что они нарушили связь между Петербургом и районом восстания, если не прервали ее полностью. Отчеты о происходящем должны были идти через Казань, так что полученная информация сразу же начала запаздывать более чем обычно. Армия Пугачева насчитывала теперь до десяти тысяч человек. В лагере мятежников он создал свой собственный «двор» по образу и подобию настоящего. Его «придворные» даже использовали те же имена, что звучали при дворе Екатерины. Так, человек по фамилии Шигаев, бывший хранителем медных денег (серебро Пугачев хранил лично), называл себя графом Воронцовым, один из военных предводителей Пугачева именовался графом Паниным, другой — графом Орловым, еще один — фельдмаршалом графом Чернышевым. Пугачев (или, скорее, его секретари — ибо, как вы помните, он не умел писать) издавал декреты («указы»), некоторые из которых были даже напечатаны. Печати — в том числе печать винокурни — использовались для придания документам дополнительной ложной достоверности. Пугачев недавно бросил свою законную жену и детей в районе Дона и взял вторую жену, дочь яицкого казака Устинью Кузнецову. Она пользовалась всеми почестями императрицы при его «дворе». Женщины-казачки были назначены ее фрейлинами. Однако двоеженство не укрепило положения Пугачева в качестве Петра III, так как среди его сторонников было хорошо известно, что царь женат на узурпаторше Екатерине. Последняя заверила мадам Бьельке, что генерал Бибиков постепенно восстанавливает контроль на землях вокруг Оренбурга и что четыре или пять негодяев были повешены. Твердо намереваясь показать превосходство русского правосудия над тем, что практикуется в других европейских странах, она прокомментировала: «Эти крайне редкие козни в тысячу раз более эффективны здесь, чем в тех местах, где людей вешают каждый день»{582}. Императрица предоставила генералу Бибикову полномочия на создание в Казани Секретной комиссии — временного местного департамента Секретного отдела, а в марте написала ему, советуя быть осторожным в обращении с подозреваемыми мятежниками:Екатерина II —Григорию Потемкину
«Пожалуйста, передайте секретной комиссии призыв к осторожности при расследовании и наказании людей. По моему суждению, солдат Автугана и Сангулова выпороли несправедливо; и почему необходимо бить людей во время допроса? За двенадцать лет моего контроля над секретным отделом во время допроса не били ни одного человека, а дела все-таки расследовались, и мы всегда раскрывали даже больше, чем нужно было узнать»{583}.
Однако императрица не могла лично наблюдать за процессами в Казани, и есть свидетельства, позволяющие предположить, что Бибиков, щадя ее милосердные намерения, не давал ей полной информации о методах, которые применялись в действительности во время проведения дознания среди подозреваемых. 14 февраля двор возвратился из Царского Села в Зимний дворец, а на следующий день состоялся обед, на котором в числе двадцати гостей присутствовали оба фаворита — и Васильчиков, и Потемкин. Восемнадцатого числа императрица посетила русскую комедию, и после спектакля задержалась с Потемкиным, беседуя или занимаясь любовью, до необычайно позднего для нее времени — до часа ночи. Постоянной чертой этих взаимоотношений стало то, что жизненный распорядок любовников не совпадал. Екатерина всегда уходила спать за несколько часов до Потемкина и начинала работать по утрам задолго до того, как он просыпался. Соответственно, они редко проводили ночь вместе; каждый часто обнаруживал, что другой недоступен, когда требовался. Екатерина, несмотря на то, что была императрицей и теоретически была вольна делать все, что хочет, часто вела себя с Потемкиным как тайная любовница, чувствуя, что ей нужно скрывать свои свидания с ним. Она также боялась, что он не отвечает на ее любовь так, как ей хотелось бы. Двадцать шестого февраля она написала: «Я заявила, что отправляюсь спать — но как только слуги ушли, я снова поднялась, оделась и направилась к дверям библиотеки: ждать тебя. Там я простояла два часа на сквозняке; была уже полночь, когда я вернулась, переполненная печалью, в постель, где провела благодаря тебе пятую ночь без сна»{584}. Она не могла даже искать утешения в разговорах с Гриммом, так как тот болел лихорадкой. Вероятно, Потемкин вел искусную игру, пока его положение не укрепилось. Через тридцать шесть часов после той ужасной для императрицы ночи Потемкин написал ей, попросив сделать его генералом и ее личным адъютантом. Он не мог вынести мысли, что его считают «менее достойным», чем другие, и хотел, чтобы его «сомнения были разрешены присвоением титула генерал-адъютанта Вашего императорского величества»{585}. Екатерина была довольна, что Потемкин считает возможным обратиться к ней с откровенной просьбой, и сразу же приказала выпустить необходимый эдикт. В этот день они с Потемкиным встретились в бане (русская баня находилась в цокольном этаже Зимнего дворца), которая стала регулярным местом их свиданий. Для них была приготовлена еда, и Екатерина предупредила Потемкина, чтобы тот ничего не уносил — дабы никто не узнал их секрет. В своем «Искреннем признании» Екатерина с удовольствием унижала Васильчикова, сообщив Потемкину, что каждая ласка молодого человека заставляла ее плакать. Он, очевидно, также умел месяцами дуться. Но она не позволяла ревнивому Потемкину плохо говорить о Григории Орлове, к которому сохранила расположение и уважение. А Орлов, по ее словам, всегда хорошо отзывался о Потемкине. Она оставалась постоянно расположенной ко всем пяти братьям. «Он любит тебя, и они мои друзья, я не расстанусь с ними. Это тебе предостережение. Если ты понимаешь, что для тебя хорошо, ты примешь его»{586}. И все-таки, несмотря на глубину долгих отношений с Григорием Орловым и более раннюю привязанность к Станиславу Понятовскому, Екатерина полюбила Григория Потемкина так, что это стало новостью для нее самой:
«Чтобы сохранять рассудок подле тебя, мне приходится закрывать глаза — иначе впору сказать то, что я всегда считала смешным: «Мой взгляд пленяется тобой». Выражение, которое я использовала — глупо, неправдоподобно и неестественно. Но, как я ныне вижу, не надуманно. Мои глаза бессмысленно останавливаются на тебе, ни одно рассуждение не проникает ко мне в голову, и Бог ведает, как глупа я становлюсь. Мне нужно побыть с тобой хотя бы три дня, если это возможно, — чтобы остудить голову и прийти в себя. Иначе тебе вскоре наскучит быть со мной. Я очень, очень сердита на себя, и ворчу, и пытаюсь как умею образумиться»{587}.
Потемкину удостоверился в своем назначении генерал-адъютантом императрицы в субботу, 1 марта. Екатерина назначила его своим сопровождающим при посещении Бриллиантового Зала — комнаты в своих апартаментах в Зимнем дворце, где хранились императорские драгоценности, — чтобы он мог лично поблагодарить ее. В тот же день она сообщила ему в письме, что Алексей Орлов (война имела сезонную активность, так что зимой он снова был при дворе) в веселой и дружеской манере попросил ее ответить «да или нет» по поводу любви{588}. Затем он сказал ей, что знает об их встречах в бане, потому что замечает в них необычайное сияние последние четыре дня. В том же письме Екатерина пожаловалась на «скучного и душного» Васильчикова, который, хотя он теперь и лишний, и не востребован — будучи отправлен на пенсию со щедрой ежегодной суммой, поместьями и домом в Петербурге с необходимым фарфором, скатертями и серебряными приборами, — не хочет покидать императрицу. Стремясь не устраивать сцен, Екатерина предложила, чтобы Потемкин попросил Панина найти третье лицо, которое уговорило бы Васильчикова уйти в свободное плавание. Похоже, со временем он принял намек к сведению. Потемкин немедленно вник в политические и административные дела государства, давая советы по поводу войны и пугачевского мятежа. Он был политиком от природы, как и она, и их бесконечные беседы легко переходили от любовных тем на государственные вопросы через смех, литературу и философию — и обратно к сексу. Одним из огромных подарков для Екатерины в натуре Потемкина было то, что он умел заставить ее смеяться и часами развлекал ее. Он хотел «славы» — так же, как и она — для империи, для императрицы и для себя. Когда Потемкина назначили генерал-адъютантом, сэр Роберт Ганнинг быстро осознал важность его появления и сообщил графу Суффолку четвертого марта:
«Нарисовалась новая картина, которая, по-моему, заслуживает большего внимания, чем любая другая с начала этого правления. Мистер Васильчиков, фаворит, чье разумение было лишком ограниченно, чтобы он мог иметь какое-либо влияние на дела или пользоваться доверием своей повелительницы, теперь заменен на человека, который претендует на обладание и тем и другим, причем в самой превосходной степени. Если я скажу Вашей светлости, что выбор императрицы равно не одобряется и партией великого князя, и Орловыми, которых удовлетворяло существовавшее некоторое время назад состояние дел, вы не удивитесь, что выбор сей послужит, да и уже служит поводом для всеобщего удивления и даже испуга»{589}.
Первая оценка Потемкина, сделанная сэром Робертом, была неопределенной — из-за невысокого мнения о нем придворных и чиновников Екатерины и в то же время высокой оценки Потемкиным собственных способностей.
«Фигура у него гигантская и непропорциональная, а его внешность очень далека от привлекательной. Мне сдается, что он отлично разбирается в людях и более проницателен, чем большинство его соплеменников, но столь же легко прибегает к интригам и так же гибок в средствах, как любой из них, И хотя разнузданность его манер печально известна, он единственный, кто установил связи с церковью. С такими чертами характера, особенно с учетом бездействия тех, с кем ему придется соперничать, он может, естественно, льстить себя надеждами подняться на любую высоту, какую измыслит его неуемная амбиция»{590}.
Одним из первых тактических ходов Потемкина, разматывающего паутинчатый клубок из преданности и интересов при дворе Екатерины, стала попытка снискать расположение Никиты Панина — в надежде также вторгнуться в мир великого князя (который предпочитал, чтобы фавориты его матери были незначительными фигурами). Сначала Панин был осторожным сторонником Потемкина, хотя бы только потому, что радовался любому ослаблению влияния Орловых. Очевидные успехи Потемкина и на политической, и на военной арене стали немедленной причиной беспокойства для уже занимающих посты. Вполне возможно, что Панин, великий князь, Орловы и Чернышевы (Захар был президентом Военной коллегии) всполошились. Взлет Потемкина — его положения и влияния — происходил с беспрецедентной скоростью. 15 марта он был назначен генерал-лейтенантом Преображенской гвардии — честь эта ранее принадлежала Алексею Орлову; сама Екатерина была полковником этого полка. А в конце месяца он стал генерал-губернатором Новороссии — огромной территории на юге, граничащей с Татарским ханством в Крыму и с Оттоманской империей. После двух весенних недель, проведенных в Царском Селе, двор 9 апреля вернулся в Зимний дворец. Потемкин поселился в собственных апартаментах. Чтобы отличаться от своего предшественника, он отказался переезжать в прежние апартаменты Васильчикова (которые были превращены в часовню) и занял новые, отделанные лично для него покои, расположенные прямо под апартаментами императрицы и соединенные с ними спиральной лестницей, покрытой зеленым ковром. Оба помещения смотрели окнами на Дворцовую площадь и внутренний садик. В другой императорской резиденции Потемкину тоже были подготовлены комнаты. На следующий день после возвращения в Зимний дворец Екатерина сказала Потемкину, что ей нелегко навещать его по утрам. В том же письме она высказала, насколько стала зависима от его любви:
«Страшусь не того, что могу освободиться от твоих сетей, а того, что от часа к часу все более запутываюсь. Чтобы уменьшить мою страсть, ты должен сделать меня несчастной. И даже тогда я, вероятно, не перестану любить тебя. Я молю Бога, чтобы умереть в тот час, когда мне покажется, что ты не тот по отношению ко мне, каким показал себя за эти семь недель. Что бы ни случилось, мне необходимо думать, что ты любишь меня, и малейшее в этом сомнение жестоко мучает меня и делает невыразимо печальной»{591}.
В апреле Фридрих Мельхиор Гримм покинул Санкт-Петербург, отправившись сначала в Италию. Он проболел почти весь 1774 год, таким образом лишив императрицу бесед, которые так ей нравились и о которых она с таким энтузиазмом писала Вольтеру в конце 1773 года, включив в свои похвалы и Дидро: «Я вижу их очень часто, — написала она 27 декабря, — и наши беседы никак не кончаются»{592}. Она описывала Дидро как обладающего «неистощимым воображением», как одного из самых необычайных людей из всех когда-либо существовавших. Однако вскоре Екатерина разочаровалась в идеях Дидро как не имеющих практического применения в условиях ее огромной и тревожной империи, объяснив Вольтеру в январе 1774 года (и не упустив случая польстить ему ссылкой на «Кандида»): «Он — самый экстраординарный ум; однако размер его сердца — как у всякого человека. Но в конце концов, поскольку все к лучшему в этом лучшем из миров и порядок вещей неизменен, нужно позволить каждому идти своим путем и не загромождать чужой мозг бесполезными претензиями»{593}. Много лет спустя Екатерина описала свои беседы с Дидро графу Сегюру:
«Я имела продолжительные и частые беседы с Дидро, — рассказала мне Екатерина, — но скорее любопытные, чем полезные. Если бы я последовала его совету, всё в моей империи встало бы с ног на голову. Законность, управление, политика, финансы — мне пришлось бы расстроить всё ради применения непрактичных теорий. Тем не менее, пока я молча слушала его, все присутствовавшие принимали его за строгого учителя, а меня за робкую ученицу. Он и сам, вероятно, так считал, потому что через некоторое время, не видя никаких великих инноваций, которые он рекомендовал для исполнения моему правительству [такие, как отмена крепостного права], он выразил удивление с видом недовольного высокомерия. И, честно отвечая ему, я сказала: «Дорогой Дидро, я с величайшим удовольствием выслушала все, на что вдохновил вас ваш великий ум, но со всеми своими великими принципами, которые я прекрасно понимаю, вы можете писать прекрасные книги и быть плохим правителем. Вы забыли в своих реформаторских планах о разнице в наших положениях. Выработаете лишь на бумаге, которая позволяет всё — она ровная, гибкая и не представляет препятствий ни для вашего воображения, ни для вашего пера, — в то время как в моем положении бедной императрицы, каковой я являюсь, приходится работать с человеческим материалом, который, наоборот, нестабилен и эмоционален». Я убеждена, что после этого он пожалел меня, посчитав узколобой и вульгарной особой. С тех пор он разговаривал со мной только о литературе; политика исчезла из наших бесед»{594}.
Как бы послушна ни была Екатерина при выслушивании темпераментного Дидро (про которого говорили, что он хлопал ее по бедрам в ажиотаже, когда заходил слишком далеко); как бы ни разочаровался француз, найдя, что по крайней мере некоторые передовые идеи его благодетельницы существовали на уровне скорее теорий, чем практики, — Екатерина не сомневалась, что способна держаться своей позиции в разговоре с самыми передовыми философами своего века. Однако ей не удавалось легко примирить этот образ интеллектуалки с образом сумасшедшей юной любовницы, в которую она, похоже, превратилась:
«Как ужасно для человека с головой потерять ее! — писала она Потемкину. — Хочу, чтобы ты любил меня. Хочу казаться тебе привлекательной. Но выказываю только сумасбродство и страшную слабость. О, как ужасно — любить чрезмерно! Ты знаешь — это болезнь, я больна, хоть и не посылаю за аптекарем и не пишу пространного завещания. Если хочешь, я сведу для тебя эту страницу к трем словам и перечеркну все остальное. Вот они — я люблю тебя»{595}.
Екатерина также в смущении понимала, что если эта бредовая ситуация затянется, она утратит способность управлять делами империи, поскольку чувствовала себя «безголовым цыпленком».
«Думаю, лихорадка и волнение моей крови идет от того, что несколько вечеров, не знаю почему, я ложилась спать для себя очень поздно. Все время в час ночи. Я привыкла ложиться в десять. Напиши, как ты, дорогой, надеюсь, ты спал хорошо. Люблю тебя, но нет времени написать или поговорить»{596}.
Перед тем, как Гримм покинул Санкт-Петербург, к нему отправили генерала Бауэра — выяснить, не изменил ли он своего решения о поступлении на службу к императрице. Он отказался (на том основании, что доктора посоветовали ему сменить климат), пообещав вернуться после того, как поживет какое-то время в Италии. Дидро, которому не предложили продлить визит и который продолжал пользоваться финансовой поддержкой Екатерины и обмениваться с нею письмами, уехал на месяц раньше. Отношения императрицы с сыном находились в состоянии настороженного нейтралитета. Павел до предела погрузился в радости семейной жизни, и поначалу Екатерина тоже была довольна своей невесткой, описывая ее мадам Бьельке как «золотую девочку»{597}. В начале года Павел заслужил некоторое доверие матери, признавшись в интриге, в которую по глупости позволил втянуть себя Каспару фон Зал-дерну, временно находившемуся на дипломатической службе в Копенгагене. По-видимому, идея Залдерна сводилась к тому, что Павел должен принимать равную долю участия в управлении Россией, взяв за образец двойное правление в Австрийских землях — императора Священной Римской империи Иосифа II и его матери, императрицы-королевы Марии-Терезии. Павел зашел настолько далеко, что подписал документ, позволяющий Залдерну действовать в этом направлении в качестве его представителя и официального доверенного лица. Позднее, заволновавшись из-за содеянного, Павел пошел за советом к Панину. В ужасе от того, какой опасности подверг себя великий князь, опасаясь возможного предательства, Панин раскритиковал идею и уничтожил обвиняющий документ, но посоветовал воздержаться от признания императрице. Ничего не знавшая о замысле Залдерна Екатерина оставалась о нем высокого мнения. Но время его возвращения из Копенгагена приближалось, и Павел решил, что безопаснее и честнее сообщить матери о двуличности Залдерна и выразить ей свое раскаяние. Императрица пришла в ярость от этого сообщения. Она велела Панину запретить Залдерну использовать титулы и ранги, которые он получил на службе в России и в Голштинии, и пригрозить арестом, если он когда-либо осмелится снова ступить на русскую землю. Павел ни под какие репрессивные меры не попал. Начало 1774 года было трудным временем для великой княгини Натальи. Ей пришлось перенести фальшивые слухи о своей беременности и тяжелые утраты: за пришедшим в марте известием о смерти ее бабушки очень скоро последовало глубоко поразившее ее сообщение о смерти матери. Екатерина тоже расстроилась, поскольку привязалась к ландграфине за несколько недель, которые та провела в России. В день, когда двор вернулся из Царского Села в Зимний дворец, Екатерина написала мадам Бьельке, уверяя ее, что мятеж Пугачева взят под контроль. Осада Оренбурга была снята, а осаждавшие — рассеяны. Но самому Пугачеву удалось спастись.
«Позавчера я приняла двух курьеров от генерала Бибикова, который информировал меня, что генерал-майор князь Петр Голицын после яростного боя с негодяями в сорока верстах от Оренбурга полностью разгромил их и освободил город из блокады, в которой подлецы удерживали его несколько месяцев. У меня есть сообщения от губернатора: недостаток пищи привел к тому, что он в течение трех месяцев выдавал своим людям лишь половину рациона. Мистер Бибиков отправил войска во всех направлениях, чтобы уничтожить мелкие группы бандитов, заполонившие дороги, и я надеюсь, что после этих неожиданных беспорядков, которые за границей раздули до неслыханных размеров, установится спокойствие»{598}.
А вот о чем Екатерина не могла сообщить мадам Бьельке, так как сама еще этого не знала, так это о том, что в этот самый день генерал Бибиков внезапно умер от лихорадки. Как ни шокирована, ни опечалена была Екатерина, получив в конце концов эту новость, она все-таки считала, что в основном генерал справился с задачей, которую она послала его выполнять. В Оренбурге были захвачены тысячи мятежников и создана новая Оренбургская Секретная комиссия, чтобы проверить все аспекты восстания и определить персональную роль в нем Пугачева. Особо Екатерина стремилась выяснить, не был ли мятеж спровоцирован какой-либо внешнеполитической силой в попытке дестабилизировать Российскую империю. 21 апреля 1774 года, на сорокапятилетие Екатерины, Потемкин получил орден святого Александра Невского, а от короля Польши — орден Белого Орла. После посещения литургии Екатерина собственноручно надела на него орденские ленты. Он получил также в подарок пятьдесят тысяч рублей — сумма, за которую великий князь Павел был бы весьма благодарен, так как смог бы выплатить долги своей жены. Великой княгине Наталье было не легче уложиться в свой бюджет, чем великой княгине Екатерине. Однако Павел не получил эту сумму — ему пришлось довольствоваться новыми часами. Екатерина написала мадам Бьельке о своем дне рождения: «Старение — очень неприятная вещь»{599}. В том же духе она написала и Гримму, который в это время находился в Курляндии: «Ненавижу этот день как чуму. Чудесный же подарок дарит он мне! Каждый раз он приносит мне еще один год — без этого я вполне могла бы обойтись. Не правда ли, императрица, которой всю жизнь оставалось бы пятнадцать лет, — замечательная штука?»{600} На следующий день после дня рождения Екатерина послала Потемкину мягкий упрек, который предполагает, что он имел наглость критиковать ее в присутствии посторонних: «Мы просим, чтобы в будущем ты не оскорблял нас, чтобы покрывал наши недостатки и ошибки епитрахилью[43], а не выставлял их на люди, так как это неприятно нам. И в любом случае так не обращаются с другом, не говоря уж о ж[ене]. Пеняю тебе, хотя и очень люблю»{601}. Тот факт, что она уже тогда воспринимала себя как «жену» Потемкина, кажется мне свидетельством против теории, что пара тайно поженилась 8 июня или, может быть, позднее. Либо они уже были женаты до этой даты — либо, что кажется более вероятным, считали себя мужем и женой из-за накала своей страсти, тем самым уверяя себя и друг друга, что их взаимоотношения гораздо серьезнее, чем любой из них имел до сих пор. Потемкин уже делал громогласные заявления, что убьет любого своего преемника на посту фаворита Екатерины. За это она его упрекнула, так как не верила, что любовь можно получить силой или сохранить за счет страха. В любом случае она считала, что скорее он устанет от нее, чем она от него. Будто бы в доказательство этого, 8 мая, после возвращения в Царское Село, Екатерина написала Потемкину укоризненное письмо: он-де, ссылаясь на желание спать, ушел от нее, но когда она пришла навестить его, он не просто не спал — он вообще отсутствовал в своих апартаментах. Она жаловалась, что он навещает ее только «набегами»{602} и кажется возле нее скучающим, всегда имея более важные дела, ожидающие его в другом месте. Из того, что она пишет, возникает предположение, что он вел себя так же, как Григорий Орлов. Ни одного из этих крупных мужчин не устраивало быть пришитым к женской юбке, будь даже это юбка императрицы Всея Руси. 5 мая Потемкин стал членом Совета Екатерины. Его неуклонный карьерный рост продолжился через месяц, когда его сделали вице-президентом Военной коллегии и наградили рангом генерал-аншефа. Это последнее назначение не только сильно угрожало положению и власти графа Захара Чернышева — оно спровоцировало гнев обычно покладистого князя Григория Орлова, который 2 июня принесся, чтобы увидеться с Екатериной. Сэр Роберт Ганнинг доложил, что слышал об этой встрече: «Нечто большее, чем объяснение, — скорее горячая перебранка произошла между нею и князем по причине, которая, как говорят, задела ее сильнее, чем она считала для себя возможным, а его побудила отправиться в путешествие, как только он вернется из Москвы, куда уехал сейчас»{603}. Протест Орлова и его решение покинуть двор расстроили Екатерину, но не возымели действия на ее отношения с Потемкиным, кузен которого Павел был в тот же месяц назначен возглавлять Секретную комиссию в Казани. В июне же произошел перелом в русско-турецком конфликте. Силы фельдмаршала Румянцева в полном составе пересекли Дунай; затем армии под командованием генералов Суворова и Каменского заставили турок искать мира. 8 июня Екатерина и Потемкин присутствовали в Летнем дворце Петербурга на обеде в честь измайловских гвардейцев. После обеда Екатерина отправилась на прогулку вдоль берега реки Фонтанки, и к ночи (когда было еще светло) отплыла неизвестно куда в лодке, в сопровождении преданной служанки и доверенного лица Марии Савишны Перекусихиной. Потемкин отплыл раньше — его лодка была готова и ожидала его. Легенда гласит, что, причалив на Малой Невке на окраинной Выборгской стороне, Екатерина отправилась в карете с задернутыми занавесками к церкви святого Сампсония, где встретилась с ожидавшим ее Потемкиным. Оба были все еще в форме Измайловского гвардейского полка, Екатерина — в костюме для верховой езды, отороченном золотым кружевом. История продолжает, что тут, в присутствии горничной Екатерины, безымянный священник с помощью двух человек, державших короны — камергера Евграфа Черткова и племянника Потемкина Александра Самойлова, — повенчал Потемкина и Екатерину. Другие версии говорят, что церковь находилась под Москвой, или относят событие к следующему году. До сих пор не найдено никаких доказательств реальности этих сведений, хотя утверждают, что документы были составлены и отданы свидетелям. Эта церемония, которая, по мнению Екатерины и Потемкина, должна была определить с благословения священника их обязательства по отношению друг к другу перед лицом нескольких самых близких друзей, вполне возможна. Потемкин, человек верующий, мог желать, чтобы самое важное событие в его жизни получило церковное благословение. Что эта свадьба во всех смыслах была формальной и законной, очень сомнительно. Двумя днями позже двор отправился в Петергоф, где оставался несколько недель из-за жары. Екатерина продолжала писать Потемкину любовные записки каждую свободную минуту, часто по нескольку раз в день. По форме они напоминали современные e-mail или текстовые послания, отправляемые с мобильных телефонов. В них часто использовались словечки «муж» и «жена», а также болеедвусмысленные прозвища, такие как «гяур» (уничижительное турецкое обозначение немусульманина), «москвич», «казак» — даже «Пугачев», когда общаться с Потемкиным становилось особенно тяжело. «Моя родная душа, бесценная и безмерная, не могу найти слов, чтобы высказать, как сильно я тебя люблю. Не беспокойся о диарее. Она очистит желудок. Но ты обязан заботиться о себе, дорогой с[упруг], малыш»{604}. Или так: «Гяур, москвич, казак, хочешь мира? Протяни руку, если сумасшествие прошло, а горение любви осталось в тебе»{605}. То была изматывающая любовь, полная ссор и ревности. «Мой маленький голубок, ответ я напишу завтра, а сегодня сердце мое ноет. Я не сержусь и прошу тебя не злиться и не печалиться. Более того, останусь тебе в[ерной] ж[еной] до могилы, если ты позволишь. Если же нет — тогда ты г[яур], м[осквич], к[азак]»{606}. Теперь Екатерина поддерживала постоянную переписку с Гриммом. В письме от 12 июня она выразила ему сочувствие по поводу болезни и посоветовала держаться подальше от врачей:
«Мне, правда, не нравится ваша манера часто обращаться к докторам. Эти шарлатаны всегда приносят больше вреда, чем пользы. Пример тому Людовик XV, который был окружен десятью врачами и который теперь mortus est [мертв]. Я считаю, что их было на девять больше, чем нужно, чтобы умереть на их руках. Я также думаю, что в XVIII веке королю Франции стыдно умирать от оспы»{607}.
В переписке Екатерина часто сообщает Гримму новости о своих собачках, особенно о Сэре Томе Андерсоне, или Мистере Томе, — ее итальянском грейхаунде, который был подарен ей бароном Димсдейлом вместе с сукой и которого Гримм, похоже, любил почти так же, как и она сама:
«Мистер Томас, который, кажется, был весьма тронут оказанной честью, когда вы упомянули его, некоторое время жил больше в лоне своей семьи, чем со мной; он безумно любит свою жену и пятерых деток, которые похожи на него, как горошины в одном стручке. Их целая свора, и все они бегают за мной по всему саду, а затем послушно возвращаются в свою конуру, куда залезает и папа, жертвуя для них королевскими дворцами, диванами, креслами с парчовой обивкой и философо-комическими разговорами»{608}.
Екатерина говорит в своих письмах о Потемкине, который через два дня был произведен в главнокомандующие иррегулярных войск (то есть казаков) и кавалерии, как о человеке, «который заставляет меня смеяться до колик»{609}. Она всегда была очень откровенна с Гриммом по поводу своих взаимоотношений с фаворитами, но никогда не вдавалась в сексуальные детали. Через несколько недель она написала о Васильчикове как о «великолепном в некотором смысле, но ужасно скучном бюргере» и описала его замену как «одного из величайших, самых смешных и наиболее занимательных оригиналов этого железного века»{610}. 10 июля в отдаленной болгарской деревушке Кучук-Кайнарджи фельдмаршал Румянцев и турецкие представители договорились об условиях мира. Договор, который был подписан 21 июля и получил имя по названию этой деревни, подтверждал протекторат России над христианами, бывшими подданными Турции, и служил основанием для аннексии Россией Крыма, бассейна реки Кубань и северного берега Черного моря, отныне открытого для российского мореплавания. Он возвращал Турции дунайские провинции, а также несколько укрепленных районов на Кавказе и все греческие острова, захваченные во время войны. Россия получала укрепленные порты Керчь и Еникале при входе в Азовское море, а также Кинбурн, который открывал доступ в устья рек Днепр и Буг и, таким образом, в Черное море. Когда сын Румянцева прибыл в Петергоф с новостями о подписании мирного договора, Екатерина немедленно покинула камерный концерт, чтобы принять участие в благодарственном молебне. Новость о благополучном завершении русско-турецкой войны пришла как раз вовремя, так как всего двумя днями ранее императрице сообщили о последнем бедственном повороте, который приобрел мятеж Пугачева. 12 июля мятежники атаковали и сумели захватить город Казань. Никита Панин написал своему брату Петру о совещательном заседании, которое имело место по получении известия. Его сообщение — живое описание из первых рук — рисует императорский совет, на котором императрица пребывает в стрессовом состоянии, а все члены ее совета лгут ради спасения своего положения — так же, как ловчил за кулисами сам Панин. Григорий Орлов еще не покинул двор, и его обида из-за занимаемого Потемкиным положения была очевидной:
«Этим утром мы получили известие о падении Казани и о том, что губернатор со всем отрядом осажден в крепости. Тут, на сборе нашего совета, мы видели государыню под огромным впечатлением. Она выразила намерение покинуть столицу и отправиться самолично спасать Москву и внутренние территории империи, горячо требуя и настаивая, чтобы каждый из нас высказал свое мнение о сложившемся положении. Мы все хранили молчание… Тогда Ее величество с заметным раздражением стала рассуждать, насколько полезным будет ее присутствие. Ее практически поддержал, вопреки моему мнению, наш новый фаворит. Старый слушал с презрительным равнодушием, ничего не предлагая, — лишь извинился, сказав, что плохо себя чувствует, так как не выспался, и поэтому не имеет никаких идей. Мнение нового поддержали дураки Разумовский и Голицын, отличившиеся только молчанием… Тем временем я решился на следующий план действий. После обеда я отвел нового фаворита в сторону и возразил по поводу его дерзкого предложения, которого ни возраст, ни опыт его не оправдывали. Повторив то, что уже сказал о возможной угрозе гибели империи, я объяснил ему: из-за своего неприятия этой идеи я решил или сам идти воевать с Пугачевым, или, замечу тебе, мой дорогой друг, ты, несмотря на старость, должен взять на себя спасение отечества, даже если будет необходимо нести тебя туда на носилках — буде государыня пожелает этого и не найдет никого лучше, чем ты. Я сказал, что он должен пойти и заявить об этом Ее величеству. Потом я пошел к ней сам и все повторил ей»{611}. Хотя Екатерина отказалась передавать генералу Петру Панину всю полноту власти, которой потребовал для него преданный брат, невозможно было найти никого, кто лучше подходил бы для решительной борьбы с Пугачевым и его когортой. Неделей позже она написала Потемкину: «Ты увидишь, мой дорогой, из приложенных бумаг, что сэр граф Панин решил сделать своего брата монархом с неограниченной властью в лучшей части империи»{612}. Генерал Панин в должное время возглавил войска, уже задействованные в подавлении мятежа. Тем временем 6 августа Пугачев осадил Саратов, где священники, перешедшие на его сторону, приводили народ к присяге на верность ему и его так называемой жене. Однако он не смог удержать ни Казани, ни Саратова дольше нескольких дней, и 25 августа потерпел последнее поражение к югу от Царицына. Через три недели его бывшие сторонники в среде казаков передали его в Яицке царским войскам. В октябре Екатерина послала Вольтеру (и таким образом всей Европе) сообщение о захвате и первых допросах Пугачева, который, узнав об окончательном поражении, оставил все свои претензии и, похоже, был готов отдать себя на милость императрицы. Екатерина позволила себе неохотное восхищение этим возмутителем ее спокойствия:
«Сир, я охотно удовлетворю ваше любопытство по поводу Пугачева. Это будет тем легче, что месяц тому назад его схватили. Чтобы быть более точной, его связали и заткнули рот кляпом его же люди на густо населенной равнине между Волгой и Яиком, куда разбойника загнали стянувшиеся со всех направлений войска. Его товарищи, оставшись без пищи и свежих поставок, а также устав от жестокостей, которые он совершал, и надеясь получить прощение, передали его коменданту крепости Яик, который, в свою очередь, переправил его генералу графу Панину в Симбирск. Теперь он на пути в Москву. Представ перед графом Паниным, он наивно рассказал на первом же допросе, что является донским казаком, назвал место своего рождения, сказал, что женат на дочери донского казака и имеет троих детей; что во время смуты он женился на другой женщине, что его братья и племянники служат в Первой армии, что сам он служил в первых двух кампаниях против Порты и так далее. Так как у генерала Панина служит много донских казаков, и войска этой нации никогда не поднимались на призыв нашего разбойника, сведения вскоре стали подтверждаться его соплеменниками. Он не умеет ни читать, ни писать, но он очень храбрый и решительный человек. Поэтому нет ни малейших указаний на то, что Пугачев был инструментом в руках иностранных сил или что его настроил кто-то другой. Предположительно монсеньор Пугачев — глава разбойников, а не слуга какой-либо другой живой души. Думаю, едва ли существовал другой такой разрушитель человеческой расы со времен Тамерлана. Он безжалостно и без всякого суда вешал всех дворян — мужчин, женщин и детей, — а также всех офицеров и солдат, которых удавалось захватить, не давая никому пощады ни в одном из захваченных мест. Он грабил каждого, кто, в надежде избежать его жестокости и завоевать его расположение, приглашал его; никто не был в его присутствии защищен от грабежей и убийств. Но больше всего показывает глубину человеческого заблуждения то, что он смеет иметь надежду. Он воображает, будто я могу жаловать ему свою милость за его мужество, что он может списать свои прошлые преступления и получить помилование с учетом его службы в будущем. Если бы он обидел только меня одну, может быть, он и был бы прав, я могла бы извинить его. Но дело касается империи, а у нее есть законы»{613}.
Пугачева привезли в Москву 4 ноября в специально сконструированной железной клетке, как опасное дикое животное. Окончательный отчет о мятеже был составлен месяцем позже. Следователи пришли к заключению, что никаких внешних сил задействовано не было, а причина мятежа заключена в принципиально бунтарской природе яицких казаков. Желая избежать любого акта, который можно было бы интерпретировать как месть, и стремясь показать, что Россия ведет свои судебные процессы посредством закона и порядка, императрица заставила Сенат вынести Пугачеву приговор и отправила генерал-прокурора Вяземского в Москву — наблюдать за судебным процессом, который тайно проводился в Кремле 30 и 31 первого декабря. Пугачев на коленях во всем признался. Екатерина также снабдила Вяземского секретными инструкциями: ему вменялось в обязанность проследить, чтобы любые казни, которых должно было быть всего несколько, не включали в себя пыток. В этом гуманном решении ее поддержал Григорий Потемкин. Оба старались уменьшить пятно на образе просвещенной России, которое, как они чувствовали, уже представлял собой мятеж. Официально Пугачева приговорили к четвертованию до обезглавливания. (Екатерина доложила Вольтеру: преступник настолько ошеломлен, что его нужно тщательно готовить к приговору во избежание преждевременной смерти от страха.) Но в день казни перед огромной толпой на Болотной площади, почти в центре Москвы, палач совершил ошибку, отрубив Пугачеву голову до отрывания конечностей. В то время не было известно, что «ошибка» совершена по приказу императрицы, хотя сама Екатерина намекала на это в письме мадам Бьельке{614}. Затем делались попытки стереть память о Пугачеве, и яицких казаков переименовали в уральских, а река Яик и город Яицк были переименованы соответственно в Урал и Уральск. Поступил приказ разрушить родную деревню Пугачева на Дону, построить ее на другом берегу и переименовать в Потемкинскую, а брату Пугачева Дмитрию, который не принимал участия в мятеже, было запрещено пользоваться семейной фамилией. Две жены Пугачева и трое его детей были заключены в форт Кексгольм в русской Финляндии, где они могли свободно перемещаться внутри стен. Нескольких главарей мятежников казнили вместе с Пугачевым. Но теперь главной заботой Екатерины было спокойствие, поэтому 19 марта был распространен манифест, который объявлял амнистию всем проступкам, совершенным во время восстания. Напряжение этих месяцев тяжким грузом легло на Екатерину. Она страдала от своих обычных головных болей, проблем пищеварительного тракта и других недугов. Так как Потемкин тоже был склонен к ряду не очень серьезных болезней — и ипохондрии, — несколько записок того периода, переданных от одного к другому, больше походили на медицинские бюллетени, чем на любовные письма. В этом году у нее случился приступ лунатизма, во время которого она бродила по дворцу, заходя в разные помещения, после чего проснулась от того, что вышла на улицу. Несколько следующих ночей двери ее комнаты запирались на ночь во избежание неприятностей. При этом она больше всего сожалела, что Потемкин не сумеет попасть к ней, если придет ее навестить. Великая княгиня Наталья тоже чувствовала себя плохо. Но это, если верить ее свекрови, происходило по ее собственной вине. Медовый месяц между императрицей и ее прежней «золотой девочкой» явно окончился.
«Сделано все, даже слишком много, для этой леди», — сообщала Екатерина Гримму 21 декабря. Если она идет на прогулку, то за двадцать верст; если танцует — это двадцать кадрилей, столько же менуэтов и без счета аллеманд [старинный немецкий танец]; чтобы избежать жары в своих покоях, она совсем не зажигает в них огня; если другие трут льдом лицо, она превращает в лицо все тело. Короче, середины для нее не существует. Боясь плохих людей, она не верит всему миру и не следует ни хорошим, ни плохим советам. Во всем этом нет ни привлекательности, ни благоразумия, ни мудрости, и один Бог знает, что с ней станется, ибо она никого не слушает и имеет очень упрямую голову на плечах. Подумать только, что после полутора лет в России она все еще не говорит ни слова по-русски. Она якобы хочет выучить язык, но не тратит на это ни мгновения в течение дня. Она вся в постоянном вращении; она не выносит ни то, ни это; она вдвое превышает суммы, которые имеет, и уже пользовалась практически всеми в Европе»{615}.
Летом 1774 года Павел разрабатывал меморандум по текущей политической ситуации, который, как он надеялся, мог послужить вкладом в построение и изменение политики страны. Хотя его работа содержала здравые мысли и представляла собой разумный текст, тот факт, что она критиковала некоторые действующие аспекты правления Екатерины, показал его собственную негибкость. Просьба Павла включить его в Совет (тот все еще продолжал существовать, несмотря на окончание войны) встретила резкий отпор. Мать обвинила его в сгущении красок. Приговор, который императрица, похоже, оставила в виде копии с письма, отправленного ему, кратко отражает ее отношение: «Я не считаю разумным, вводить тебя в Совет. Ты должен ждать, пока я решу иначе»{616}. К концу года началась подготовка к переезду двора в Москву, где было решено летом 1775 года отпраздновать окончание войны с Турцией. Екатерина понимала значение саморекламы среди своих подданных, жителей древней столицы, в сложившихся обстоятельствах; важность демонстрации прочности своего правления после волнений, связанных с бунтом Пугачева (как и во время московской эпидемии несколько лет тому назад). Она также раскрылась мадам Бьельке (и перехватчикам почты), чтобы распространить информацию об улучшении состояния страны, когда описала подруге аспекты своего путешествия, занявшего пятьдесят часов (не считая остановок в Новгороде и Твери). Жители вдоль маршрута явно были хорошо подготовлены к следованию своей императрицы:
«На пути я видела один почти построенный город и два других с заложенными фундаментами. Я удивилась, насколько, несмотря на войну, оспу и пожары, эта дорога с жителями прилегающих селений стала процветать за восемь лет с тех пор, как я последний раз проезжала по ней. Прежде я видела, как в этой деревне маленькие босоногие дети в одних сорочках бегали по снегу, теперь же нет ни одного без костюмчика, пальто и ботинок. Жилища, хоть все еще и построенные из дерева, стали больше, и большинство домов теперь двухэтажные. В нескольких местах я с радостью заметила школы, а кроме того, построены две семинарии, где тысячи сыновей священников обучаются языку страны, греческому, латыни, немецкому и французскому. Я и впрямь рада этому; еще десять лет, подобных последним десяти годам, и уверяю — все это будет видно каждому, кто не слеп»{617}.
Двадцать пятого января 1775 года Екатерина при стечении народа въехала в Москву в сопровождении великих князя и княгини, вслед за официальными лицами и дамами двора. Процессия проследовала под двумя триумфальными арками, украшенными медальонами, представляющими основные победы в войне. Екатерина первой вышла перед кремлевской Успенской церковью, чтобы продемонстрировать свою набожность, а оттуда направилась к едва достроенному Пречистенскому дворцу, где приняла представителей дворянства первых трех рангов и иностранных послов. Этот новый дворец на деле состоял из нескольких ранее существовавших зданий и с самого начала был неуютным и малопригодным для проживания. Вот как Екатерина описывает его в письме к Гримму:
«Ориентироваться в этом лабиринте — все равно что выпить море; я пробыла тут два часа, прежде чем научилась находить дорогу от своего кабинета, не ошибаясь дверью; это триумф переходов. Я никогда в жизни не видела так много дверей; я уже забила намертво полдюжины, но все еще имею вдвое больше, чем нужно. Но, справедливости ради, вы должны знать, что я умудрилась соединить три очень больших каменных дома в конструкцию из огромного холла, двух необъятных галерей и полудюжины пышных комнат. Я живу в одном из них, который одолжил мне брат вице-канцлера; мой сын расположился в другом, который я купила; третий же (который я тоже купила) предназначен для тех, кому абсолютно необходимо жить при дворе. Остальные мои люди разместились в десяти-двенадцати домах — их я сняла. Все вместе составило лабиринт, о коем я отчаялась дать вам настоящее представление»{618}.
В 1775 году у Екатерины много времени отнимало то, что она назвала новой атакой «закономании». Окончательный устав, который в конце концов был издан в ноябре и стал известен как губернская реформа, имел не менее шести вариантов. Личный вклад Екатерины, довольно значительный, состоял из поясняющей вступительной части и разделов, относящихся к обязанностям провинциальных чиновников, функциям комитетов по благосостоянию населения, которые создавались впервые, и реорганизации юридической системы. Григорий Орлов между тем отправился путешествовать, как ожидалось, на два года. Путь его лежал через Вену в Италию, как сообщила Екатерина мадам Бьельке в Пасху, 12 апреля. Несмотря на все, что между ними было, Екатерина все еще способна была говорить о привлекательности своего бывшего фаворита:
«Если вы когда-либо познакомитесь с ним, вы, без сомнения, увидите самого красивого мужчину на свете. Природа не поскупилась на него в том, что касается тела, сердца и души, и всему, что он собой представляет, он обязан исключительно природе, потому что образованием его абсолютно пренебрегли. Он — испорченное дитя природы. Получив все в качестве подарка, он стал ленив, но несмотря на этот недостаток, знает удивительно много»{619}.
Екатерина также поведала, как утомительны ритуалы православной Пасхи, завершив письмо следующим образом: «Прощайте, мадам, довольно для дня Пасхи, когда мы стоим на ногах четыре с половиной часа, с двух ночи до шести утра. Сейчас уже полдень, но я ничуть не устала»{620}. Весной и летом 1775 года появился еще один претендент на русский трон. В начале мая граф Суффолк написал из Лондона сэру Роберту Ганнингу, чтобы предупредить его о грядущем приезде в Россию странной молодой женщины:
«В январе месяце сэр Уильям Гамильтон сообщил о прибытии из Рагузы в Неаполь леди, чья история звучала столь романтично, что я не считаю необходимым доводить ее до вашего сведения в моем письме. Но поскольку она, похоже, стала объектом внимания русского двора, и к настоящему времени, вероятно, уже прибыла во владения императрицы, я не удержусь и дам вам некоторые подробности. Меня убедили, что вы можете узнать ее настоящую историю. По прибытии в Неаполь она имела в своей свите девять человек, часть из которых носила польскую одежду. Вскоре она позвонила в дверь сэра Уильяма Гамильтона, чтобы он через министра обеспечил ей проезд до Рима, назвав себя графиней Бамберг»{621}.
Сначала сэр Уильям не согласился помочь самозваной графине, но она стала такой настойчивой и беспокойной, что он в конце концов уступил ее просьбе и получил для нее разрешение на проезд. Она написала ему благодарственное письмо, назвав себя на этот раз «принцессой Елизаветой» и заявив, что она дочь покойной императрицы Елизаветы и графа Разумовского. Позднее она прислала сэру Уильяму более развернутое послание, которое он любезно передал графу Алексею Орлову, находившемуся тогда с частью русской эскадры в Пизе. Алексей в свою очередь переслал письмо Никите Панину, которому «Елизавета» тоже написала. Он также сообщил, что может заманить претендентку на борт русского корабля и доставить ее в Петербург. Заручившись согласием Екатерины, Алексей пригласил «Елизавету» посмотреть флот в Ливорно. Как только она со своими спутниками оказалась на борту корабля адмирала Грейга, Орлов исчез, «Елизавету» посадили под арест и через два дня, во время которых все ее принадлежности были взяты на борт, корабль отплыл в Кронштадт. Екатерина поручила фельдмаршалу князю Александру Голицыну, генерал-губернатору Петербурга, провести расследование, поместив пленницу по прибытию в Петропавловскую крепость. Вместе со свитой из двух польских дворян, пяти слуг и одной служанки «Елизавету» в должное время отправили в крепость — 26 мая в два часа ночи. В первом отчете князь Голицын описал императрице пленницу как женщину среднего роста, тоненькую, с прямой осанкой, с черными волосами и карими глазами, с легким косоглазием и удлиненным крючковатым носом, из-за которого она казалась похожей на итальянку. Она говорила по-французски и по-немецки свободно, знала английский, итальянский и немного арабский, но абсолютно не говорила по-русски. Девушка была больна, иногда кашляла кровью. Она негодовала и была удивлена, обнаружив себя в тюрьме. Голицын настойчиво требовал от нее правды, понимая, что предложенная ему версия ее жизни сильно походит на сказку{622}. В своих показаниях «Елизавета» заявила, что ей двадцать три года, что она родилась в Голштинии, в Киле (место рождения Петра III), но не знала, кто ее родители. Она прожила в Голштинии до девяти лет, затем ее с няней Катериной повезли в Россию, очевидно, чтобы найти в Москве родителей. Вместо этого ее привезли на границу с Персией, где «оставили с няней в некоем доме, но в какой провинции и в каком городе, она не знает»{623}. Тут она оставалась пятнадцать месяцев. Старуха-соседка сказала ей, что ее держат тут по приказу императора Петра III. Ее бойкая няня выучила местный язык и уговорила каких-то крестьян помочь им спастись. В результате они оказались в Багдаде. Сначала их держал у себя богатый перс по имени Гамет, в чьем доме они встретили еще более богатого человека по имени принц Гали, который забрал их в Исфаган. Именно Гали постоянно твердил ей, что она дочь покойной государыни, императрицы Елизаветы Петровны, и это подтверждали не только те, кто жил в его доме, но и люди, приходившие его навестить. Они по-разному говорили о ее отце: некоторые называли его Разумовским, но другие говорили, что отцом был кто-то еще — только они не могли вспомнить имя этого последнего. «Елизавета» оставалась с принцем Гали в Исфагане до 1769 года. Затем принцу пришлось бежать, и он предложил, чтобы она отправилась с ним в Европу. Она согласилась при условии, что он не отвезет ее в Россию, где она боялась стать пленницей. Гали заверил ее, что она будет в безопасности, если проедет с ним через Россию, одетая в мужскую одежду. Так они и сделали. Эта история длилась и длилась, включая остановки в Петербурге, Риге, Кёнигсберге, Берлине и даже в Лондоне, пока девушка не вернулась назад в Шлезвиг-Голштейн, где, как она утверждала, граф Лимбург предложил ей выйти за него замуж. По-видимому, это предложение оживило ее желание найти своих настоящих родителей, поэтому она снова уехала — на этот раз в Венецию, где неожиданно столкнулась с польским диссидентом князем Радзивиллом. Последний убедил ее, что она должна отправиться в Константинополь. Однако ей не удалось продвинуться дальше Рагузы. Там она, по ее словам, получила через курьера анонимные письма, в которых ее побуждали ехать в Турцию, так как в ее руках находилось окончание русско-турецкой войны. Вероятно, к счастью для всех война закончилась без ее вмешательства. Примерно в это время она воспользовалась помощью сэра Уильяма Гамильтона. Все закончилось обманом графа Алексея Орлова, пленением и тюрьмой. Хотя большая часть этой истории представляла собой явные фантазии нездорового, но острого ума, ссылки на Голштинию, Польшу и Турцию не могли не насторожить Екатерину — уж очень вероятным представлялось оживление внутренней и внешней борьбы враждебных элементов за возможность в дальнейшем использовать молодую женщину для своих целей. Поэтому она была твердо намерена довести расследование до конца. Вдобавок к своим официальным показаниям «Елизавета» писала письма — плохим почерком, на безграмотном французском языке — князю Голицыну и самой Екатерине, сообщая императрице, что готова принести «большую пользу вашей империи»{624}. Эти письма необычайно подхлестнули ярость Екатерины, в особенности когда молодая женщина безрассудно подписалась «Елизавета» — единственной, кто имел законное право подписывать письма просто христианским именем, была сама Екатерина. Последняя в гневе написала князю Голицыну:
«Пошлите сказать женщине, о которой идет речь, что если она хочет прояснить свою судьбу, ей следует прекратить ломать комедию. В своих последних письмах к вам она обнаглела настолько, что подписывается именем Елизавета. Для порядка следует добавить: никто не имеет ни малейших сомнений в том, что она авантюристка, поэтому вы советуете ей прекратить игру и искренне признаться: кто научил ее этой роли, где она родилась и давно ли придуман весь трюк. Посетите ее и очень серьезно объясните, что она должна образумиться. Какая же закоснелая негодяйка! Нахальство ее письма мне превосходит любые ожидания и заставляет думать, что она не в своем уме»{625}.
В том же месяце, чуть позже, через британские дипломатические каналы пришла информация, что на деле молодая женщина — дочь содержателя гостиницы из Праги. Когда ей об этом сообщили, она начала страстно возражать, говоря, что никогда в жизни не была в Праге и если узнает, кто оскорбил ее, приписав «таких родителей, она выцарапает ему глаза»{626}. 10 июля в Москве начались обширные празднования в честь установления мира. Екатерина пешком прошла в процессии до Успенского собора, чтобы открыть церемонию торжественной литургией и благодарственной молитвой. Рядом шли фельдмаршал Румянцев и Потемкин, великие князь и княгиня, офицеры и дамы двора. Императрица была в маленькой короне и императорской мантии, пурпурный полог над ее головой несли двенадцать генералов. Процессию сопровождали гвардейцы в красно-золотой форме и серебряных шлемах со страусовыми плюмажами. После церковной службы процессия вернулась в Грановитую палату, где генерал-прокурор Вяземский произнес речь, в которой восхвалял императрицу. Ответ от имени государыни зачитал вице-канцлер. Затем хранитель личных средств правителя огласил список почетных званий и наград, которыми императрица с радостью отмечала событие. Сорок человек наградили за службу землями, деньгами и серебром. Коллекция картин, украшенная драгоценными камнями шляпа, бриллиантовая звезда и эполет на плечо предназначались для фельдмаршала Румянцева — вместе с почетной приставкой к его имени «Задунайский» («За Дунаем»). Алексей Орлов получил схожую приставку «Чесменский» в честь своей победы при Чесме, а также шестьдесят тысяч рублей и усыпанную бриллиантами саблю. Потемкин стал графом и получил миниатюрный портрет императрицы, инкрустированный бриллиантами, для ношения на груди — честь, которой до того удостаивался лишь единственный мужчина, Григорий Орлов. Было множество других наград за военную доблесть, в том числе производство контр-адмирала Грейга в ранг вице-адмирала и назначение его на пост коменданта Кронштадта. Двадцатиоднолетняя Александра Энгельгардт, одна из племянниц Потемкина, ставшая потом близкой подругой Екатерины, была назначена фрейлиной императрицы. Кроме того, Екатерина назначила полковника Петра Завадовского, красивого и хорошо образованного тридцатисемилетнего украинца, которого рекомендовал ей фельдмаршал Румянцев, секретарем своего личного кабинета для приема петиций, а Александра Безбородко, также рекомендованного Румянцевым, секретарем по литературной работе. После этого великолепного открытия проведение остального празднования в честь установления мира было отложено на десять дней, так как 11 июля Екатерина заболела: ее мучили желудочные боли с последующей лихорадкой и диарея в острой форме, от которых она оправилась только после кровопускания. В то время ходили слухи, особенно при дворах Европы, что этот приступ болезни на самом деле был беременностью, в результате которой появилась на свет дочь Потемкина, но доказательств у этой версии нет. Сама Екатерина позднее объяснила Гримму свою болезнь тем, что однажды холодным днем она в плохом настроении съела двадцать персиков и отправилась спать, не заметив признаков, предупреждающих о грядущих болях и бессоннице{627}. Возобновившееся празднование включало волшебную страну изобилия, или праздник для простого люда, на котором народу приготовили на Ходынском поле в северо-западной части города жареного быка и фонтаны вина, а вокруг поля были устроены волшебные картины, представлявшие сцены недавних русских побед и территориальные прибавления. Одна дорога представляла собою Дон, а другая Днепр; Азовское море стало банкетным залом, Кинбурн — театром, Керчь и Еникале — бальными комнатами. «Берега реки» оживляли деревенские сценки, мельницы, деревья и иллюминированные дома, а великолепный салют, представлявший собой сотни колес, звезд, солнц и фонтанов огня, вылетал «из-за Дуная»{628}. Все идеи принадлежали Екатерине и Потемкину, а осуществление было поручено Василию Баженову. Екатерина предпочла это «всем дурацким божественным чертогам», которые были в первоначальных планах архитекторов{629}. 26 августа именины великой княгини отмечались представлением французской комической оперы «Annette et Lubin» прямо в лесу возле только что выстроенного государственного поместья Царицыно — недалеко от Коломенского, расположенного к югу от Москвы, «к большому удивлению крестьян из окружающих сел, — написала Екатерина Гримму, — которые жили в полном неведении, что в мире существует такая вещь, как комическая опера»{630}. В том же письме Екатерина поведала Гримму, что великая княгиня на четвертом месяце беременности, и что чувствует она себя хорошо. В конце октября генерал-губернатор Голицын сообщил императрице, что сидящая в крепости пленница, которая отказывается изменить свою историю, теперь сильно больна; чахотка у нее развивается быстро, и похоже, долго она не проживет. Женщина умерла 24 декабря, ее тело торопливо закопали в садике крепости, а ее охрана дала клятву хранить тайну вечно. Странное имя «княжна Тараканова» было дано ей уже после смерти в одной из фантастических историй, ходивших о ней многие десятилетия. Губернская реформа — первая попытка российского государства проникнуть в глубинку — была издана 7 ноября 1775 года. Кроме реорганизации провинциальной России — ибо империя было разделена на провинции под управлением генерал-губернаторов, назначаемых лично императрицей, — реформа содержала попытку модернизировать российскую систему наказаний путем создания тюрем для преступников, ожидающих суда или высылки, а также исправительных домов для тех, кто совершил мелкие преступления, и работных домов для бедных. Важным пунктом реформы было образование. Устав преобразованных советов по благосостоянию народа обязывал их создавать в городах каждой провинции школы, которые финансировались бы из субсидии размером в сто пятьдесят тысяч рублей, выделяемой из казны каждому совету. Реформа, многие аспекты которой возникли из вопросов, поднятых депутатами Законодательной комиссии, была в значительной степени проработкой самой Екатерины. Особенно много помогали ей новый секретарь Петр Завадовский (26 ноября должным образом награжденный крестом святого Георгия четвертого класса) и Потемкин. Реформы должны были осуществляться постепенно. Первая попытка реорганизации была намечена в Твери, где в январе 1776 года генерал-губернатору Сиверсу было доверено наблюдать за образованием Тверской губернии. Двор вернулся из Москвы в Санкт-Петербург 26 декабря. С конца июля Петр Завадовский обедал за столом Екатерины и в качестве члена свиты сопровождал ее в коротких путешествиях по окрестностям Москвы. Оказавшись в Петербурге, он часто находился в компании Екатерины и Потемкина, работая и обедая с ними — или третьим, или в составе маленькой группы. 1 января Потемкину вверили командование Петербургской дивизией, а его мать сделали гофмейстериной. На следующий день Завадовского сделали генерал-адъютантом императрицы.
13. Новые любовники и новая невестка (1776–1777)
Все пройдет, кроме моей страсти к тебе.Вмешательство Петра Завадовского в отношения Екатерины и Потемкина было попыткой разрешить конфликты и уладить противоречия, существовавшие в этих отношениях, не разрушив их до конца. Завадовский действовал как дополнительная составляющая, снижая до приемлемого уровня их страстную напряженность, создавая между ними небольшой зазор, в котором можно было разработать новый modus operandi, приемлемый для обеих сторон. Присутствие этого приветливого и интеллигентного украинца также давало Екатерине возможность отдохнуть от непредсказуемых скачков потемкинского настроения и от его требовательности. Вероятно, Екатерина, сперва неосознанно, искала пути освобождения от всепоглощающей природы своей любви — такой неудобной для эффективного управления ее империей, — продолжая при этом извлекать выгоду из позитивных, продуктивных сторон взаимоотношений с Потемкиным. Тем временем Потемкин тоже стремился найти решение, которое гарантировало бы ему положение самого важного человека в жизни императрицы — хотя благодаря достаточной автономии он и не ощущал себя просто мужским эквивалентом maîtresse en titre (официальной любовницы), коей предстоит потерять свою власть, когда она не понадобится больше в монаршей постели. Им обоим нужно было найти способ сохранить все ценное в своих отношениях, не опошляя этих ценностей и не ослабляя друг друга непрерывными спорами с последующими примирениями в слезах. Хотя Екатерине постоянно требовался мужчина, чтобы любить его и быть любимой, ей еще больше нужны были взаимоотношения со значительной долей предсказуемости, которые давали бы ей ощущение равновесия и стабильности и не мешали работе. Она хотела солнечной, а не бурной любви, хотела сделать своего возлюбленного счастливым. Читая ее письма в виде ответов на замечания Потемкина, мы видим: когда он сердит и неуверен, он обвиняет ее в притворстве и заявляет, что слезы (которых она пролила довольно много в этот период) — лишь умелая манипуляция и не принимаются в расчет. Он также имел склонность обвинять ее в недостатках ее друзей и людей, которых она брала на работу, и обладал привычкой в гневе топать ногами и хлопать за собою дверью. Он был подвержен дурным настроениям — черта характера, которую Екатерина, сама в личных отношениях всегда готовая искать примирения, находила трудно переносимой. Кроме того, они оба болели друг из-за друга душой. Если Екатерина и Потемкин действительно были мужем и женой, хотя и тайными, — трудно понять непреодолимое чувство опасности, испытываемое Потемкиным. Конечно, Екатерина тоже так считала. Она сделала абсолютно явную ссылку на их брак в письме того периода, где пишет об их связанности друг с другом «узами святого брака»{631}. То, что она со временем сумела адаптироваться к Потемкину, дав ему почти достаточно власти, чтобы удовлетворить его тщеславие — и в то же время не скомпрометировать свое собственное положение императрицы, к тому же разработав личные взаимоположения, которые поддерживали их обоих до конца жизни Потемкина, представляется одним из самых замечательных достижений Екатерины. 21 марта Потемкина наградили титулом князя Священной Римской империи. Честь эта была выпрошена для него императрицей через ее посла в Вене. Она также подарила ему шестнадцать тысяч крестьян, а Дания прислала ему орден Белого Слона. Похоже, что последняя награда заставила этого третьего члена ménage a trios (потому что теперь Екатерина эмоционально и сексуально была уже увлечена Завадовским, все еще разделяя свои взаимоотношения с Потемкиным) злиться, или по крайней мере сердиться, что его не поставили в известность заранее, потому что Екатерина упомянула в отправленном ему письме без даты: «Мой дорогой, ты требуешь от меня объяснений. О Слоне и об обеде я узнала не ранее десяти часов и хотела сообщить тебе об этом при встрече»{632}. Другой князь Священной Римской империи, Григорий Орлов (хотя отныне к Потемкину часто обращались «князь», как будто он был единственным), с начала февраля снова находился в Санкт-Петербурге. Императрица очень мило приняла его, по словам британского посланника Ричарда Оукса, но предполагалось, что вскоре он попросится на пенсию со всех своих постов, каковые, как ожидалось, будут отданы Потемкину. Алексей Орлов, уже отказавшийся от службы — Екатерина при этом очень расстроилась, — прибыл в столицу через несколько недель после брата. К этому времени последний заболел. Как определил Ричард Оукс, он «перенес удар паралича»{633}, то есть его частично временно парализовало. Кроме того, он имел лишний вес. Ходили слухи, что его отравил Потемкин. Слухи возникли еще и потому, что Екатерина дважды навещала Орлова во время болезни, и это привело к «очень горячей перебранке»{634} между нею и Потемкиным. Однако больше похожа на правду версия не об отравлении, а о том, что князь Орлов страдал сифилисом третьей степени, обретенным в его легендарных сексуальных похождениях. В субботу второго апреля принц Генрих Прусский прибыл в Петербург с визитом, который оказался необычайно кстати. На следующий день он наградил князя Потемкина орденом Черного Орла, потом имел беседу с императрицей в ее личных покоях после того, как она вернулась с литургии, и затем отобедал с ней. Через неделю после прибытия принца Генриха, рано утром 10 апреля великая княгиня Наталья начала рожать. В этот день, позднее, Екатерина написала Потемкину, что была возле невестки с четырех часов утра, и лишь когда боли немного стихли, вышла выпить чашку кофе. Ко времени, когда она вернулась, Наталья снова сильно мучилась, но затем глубоко уснула, даже всхрапнула. Примерно в девять часов Екатерина снова вышла в туалет, решив, что ребенок уже на пути к выходу, и приказала, чтобы ее позвали, если дела пойдут хуже. Она также рассказала Потемкину, что у нее самой болела спина — по ее мнению, от волнения. Она вернулась в комнату великой княгини в полдень{635}. Екатерина дала более подробное описание родов Натальи в письме к Гримму:Екатерина II —Петру Завадовскому
«Десятого апреля в четыре часа утра мой сын пришел за мной, потому что его жена почувствовала родовые схватки. Я выскочила из кровати и побежала туда. Я нашла ее с сильными болями, но без других особых признаков родов; ей необходимы были время и терпение. Акушерка и опытный хирург помогали ей. Такое состояние продлилось до самой ночи; наступали периоды покоя, даже сна; ее силы вовсе не убывали. Понедельник прошел в ожидании и, конечно, в сильном беспокойстве. Кроме ее доктора, который оставался в передней, врача великого князя и еще одной акушерки (причем врачи все очень опытные), мы все собрались там тоже со своими советами. Не применялось никаких новых средств для облегчения; во вторник пригласили моего доктора и первую опытную акушерку, чтобы возобновить совещание. Когда последняя прибыла, они совместно приняли решение, что нужно спасать мать, так как ребенок, похоже, уже умер. Применили инструменты[44]; совпадение неудачного строения роженицы и несчастного стечения обстоятельств сделали бесполезной всю человеческую науку в среду; в четверг великую княгиню причастили. Принц Генрих предложил для консультации своего доктора; его допустили, и он одобрил предпринятые коллегами меры; в пятницу в пять часов вечера принцесса испустила дух»{636}.
Последние два дня жизни Натальи Павел был «невыразимо подавлен»{637}. Принц Генрих по просьбе Екатериныоставался с ним большую часть времени. Никто из совещавшихся врачей и хирургов, похоже, не подумал о применении кесарева сечения — впрочем, такая практика была еще плохо известна в XVIII веке. Хотя она часто приводила к смерти матери, ребенка иногда спасали. Но в этом случае врачи слишком долго ждали: ребенок умер до того, как сделали попытку реального хирургического вмешательства — и даже тогда они не смогли извлечь ребенка. На четвертый день началось заражение с последующей гангреной, что было неизбежно: мертвый ребенок инфицировал мать, и Наталья понимала, что умирает. Екатерина рассказала Гримму:
«Невозможно вообразить, как она страдала, и мы вместе с нею; моя душа разрывалась на части; у меня не было ни минуты отдыха за все пять дней, я не оставляла княгиню ни днем, ни ночью, пока глаза ее не закрылись. Она сказала мне: «Вы прекрасная сестра милосердия». Вообразите мое положение: необходимо утешать, поддерживать другого, самой не имея уже ни физических, ни моральных сил, будучи обязанной ободрять, принимать решения и думать обо всем, что необходимо помнить. Признаюсь, что никогда в жизни я не была в более трудной, ужасной и подавляющей ситуации: я забывала пить, есть, спать, я не знаю, откуда брались силы. Я начинаю думать, что если уж это не сорвало мою нервную систему, то ничто не сможет ее сорвать»{638}.
Сразу же после смерти великой княгини весь двор, включая принца Генриха, который продолжал выполнять функцию ограждения великого князя от отчаяния, уехал в Царское Село. В тот же самый день Екатерина набросала план действий:
«1. Первым делом завтра наутро попросить принца Генриха послать курьера с письмом княгине Вюртембергской, уговорив ее приехать в Берлин с двумя княжнами, ее дочерьми, как можно скорее. 2. Через несколько дней Его императорское высочество [то есть великий князь Павел] вслух объявит, что хотел бы поехать в Ригу или Ревель на отдых и восстановление; еще через несколько дней он скажет, что ему разрешили выехать в Ригу, и ему хотелось бы увидеть работы на Двине. Он скажет не более того. Это путешествие совпадет по времени с прибытием в Берлин княгини Вюртембергской. 3. Его императорское высочество и Его королевское высочество [то есть принц Генрих] уедут вместе. Они отправятся в Ригу, а оттуда прямиком в Берлин, чтобы встретиться с княжнами. 4. Его императорское высочество напишет мне о своем выборе, сказав конкретное «да» или «нет», и затем вернется. На случай «да» я поручу принцу Генриху говорить от моего имени. Когда согласие будет получено, мне напишут, что я могу присылать жену фельдмаршала [то есть графиню Румянцеву] с сопровождающими в Мемель [теперь Клайпеда в Литве], в дом для будущей невесты, куда прибудет также княжна — в руки, назначенные принять ее. 5. Будущая княгиня обратится в греческую религию в Петербурге, где также будут иметь место помолвка и свадьба. 6. Мать и сестра княжны вернутся из Мемеля в Берлин. 7. Пока все это происходит, будет соблюдаться секретность»{639}.
На следующий день после смерти Натальи Алексеевны в присутствии тринадцати докторов и хирургов было произведено вскрытие умершей великой княгини. Стало ясно, что молодая женщина не могла родить живого ребенка обычным образом: деформация ее скелета сделала невозможным образование пути, достаточно широкого для прохождения плода. Кроме того, искривление позвоночника еще усилилось в детстве из-за «шарлатана», как написала Екатерина мадам Бьельке, который использовал для выправления «удары кулака и колен». Это также объяснило, почему великая княгиня не могла кланяться (раньше Екатерина относила это на счет гордости). Она заключила свое послание мадам Бьельке так: «Я очень расстроена потерей княгини и делала все возможное, чтобы спасти ее. Я не оставляла ее пять дней и пять ночей, но в конце, когда стало ясно, что этого ребенка не будет и что она никогда не родит другого, стало лучше не думать об этом вообще»{640}. Решение Екатерины «не думать об этом вообще» и с самого дня смерти Натальи Алексеевны начать работать над организацией ее замены, безусловно, кажется бессердечным — конечно, с точки зрения нашего более чувствительного века с его верой в «освобождение» и «примирение» с трагическими событиями, — но такие решения были присущи Екатерине с ее отношением к горю, своему и близких ей людей. В случае нее самой рецептом для преодоления старой любви было обзаведение как можно быстрее новой — она редко давала себе много времени на рефлексию в одиночестве или самокопание, — и похоже, она предполагала, что ее сын будет реагировать таким же образом. Ее желание поторопиться возрастало из-за понимания, что ее первый выбор — княжна София Доротея Вюртембергская — уже годится в супруги Павлу по возрасту и все еще свободна, но что она не пробудет в невестах долго. И действительно, ее уже обещали, выбрав из всех претендентов старшего брата покойной великой княгини Людвига, наследного принца Гессен-Дармштадтского, который присутствовал на свадьбе Павла и Натальи. Но Екатерина знала, что при вмешательстве со стороны принца Генриха и его брата, короля Пруссии, эта маленькая трудность будет преодолена. Существовал также сугубо практический вопрос рождения наследников для русского трона. Павлу нужна была здоровая жена, подходящая для деторождения, и чем скорее он получит такую, тем лучше. Из того, что Екатерина писала Гримму, ясно, что она испытывала искреннее сочувствие к страданиям Натальи, к тому, как терпеливо та переносила муки, — но также что она никогда не забывала о своей ответственности, необходимости выйти из ситуации наилучшим образом и предотвратить коллапс сына:
«Были моменты, когда, видя ее страдания, я, казалось, ощущала, как рвется матка, и с каждым криком я сама чувствовала боль. К пятнице я превратилась в камень и уже ничего больше не могла почувствовать. Сейчас есть часы, когда я ощущаю слабость, и другие, когда я сильна. У меня какая-то перемежающаяся лихорадка, но она больше психического, чем физического свойства. Никто об этом ничего не знает, по крайней мере, никто не видит и не чувствует этого. Только подумайте, что я, плакальщица по сути, смотрела, как она умирает, не проронив ни слезинки! Я сказала себе: «Если ты заплачешь, другие зарыдают, если ты зарыдаешь, другие потеряют сознание, потом потеряют голову и растеряются»{641}.
Все, что сейчас требовалось, — это чтобы Павел согласился с ее планом. Ему помогали преодолеть уход Натальи тем, что сообщили (устами его матери) о возможной интриге усопшей княгини с ее другом и любимым камергером графом Андреем Разумовским (который был в свое время отстранен от двора). Несколькими неделями позднее Екатерина предложила Гримму свое объяснение (в котором активно использует метафоры), почему она действует с такой поспешностью при замене одной великой княгини на другую, и насколько доброжелательно старается отстоять интересы сына, обеспечивая его новой невестой:
«Видя, что корабль накренился в одну сторону, я не теряла времени: накренила его в другую и немедленно занялась несколькими делами одновременно, чтобы восстановить потерю. При этом я преуспела в рассеивании глубокого горя, которое переполняло нас всех. Начала я, предложив путешествия, приезды и отъезды, а затем сказала: мертвые уже мертвы, мы же должны думать о жизни. Когда веришь в счастье, а затем теряешь эту веру, разве нужно считать, что счастье никогда больше не повторится? Ну, давай поищем другую, только кого? У меня в рукаве как раз припасена одна. — Что, уже? — Да, да, и она чистый бриллиант. Как он мог не заинтересоваться? — Кто она? Как выглядит? Брюнетка, блондинка, высокая, маленькая? — Нежная, хорошенькая, очаровательная, сокровище, настоящее сокровище, такая, что любого заставит радоваться. Это заставило его улыбнуться. Одно влечет за собой другое, призывая третье. Некий ловкий путешественник, которого остающимся не хватает настолько, что они страдают без него, недавно прибыл — как раз чтобы поддержать и отвлечь; тут он стал связующим звеном, посредником; курьер отправлен, курьер вернулся, путешествие устроено, встреча организована. Все с необычайной скоростью, и тяжелые сердца начинают оттаивать, хотя еще и печалятся; уже не отвертеться от подготовки к путешествию, обязательного для здоровья и избавления от смятения»{642}.
Екатерина рассчитала, что затем Павел попросит портрет девушки. Тот прибыл тотчас же с курьером, но Павел не осмелился посмотреть на него, боясь разочарования. Портрет оставался лежать на столике возле письменного стола Екатерины лицом вниз в течение целой недели, пока мать не заверила Павла, что по ее мнению, девушка прехорошенькая. Тогда он кинул украдкой взгляд, немедленно положил портрет себе в карман и принялся готовиться к отъезду. Похоже, Потемкин не поддержал ее, судя по записке, которую Екатерина послала ему на этот раз: «Если мой мир дорог тебе, сделай одолжение, престань ворчать»{643}. Принц Генрих, с другой стороны, делал все, о чем его просили. Он постоянно был под рукой, чтобы успокоить Павла, и написал, как требовалось, матери Софии Доротеи — своей племяннице, от которой ожидали радости по поводу великолепной перспективы для дочери и исполнения того, о чем говорил ее дядя. Генрих заверил княгиню, что София Доротея «не могла бы выйти замуж за более приятного и честного человека, чем великий князь», и что «ей не найти более мягкой и достойной уважения свекрови, чем императрица»{644}. Даже на этой очень ранней стадии — через день после смерти жены — великий князь Павел знал, что планировалось, и не возражал. Похороны великой княгини Натальи состоялись 26 апреля 1776 года, через пять дней после сорок седьмого дня рождения Екатерины, в Александро-Невской лавре. Там она лежала в пышном белом атласном платье и там была похоронена вместе со своим мертвым ребенком. Павел не присутствовал, а Екатерина пришла. Был объявлен официальный трехмесячный траур. В конце месяца принц Генрих написал брату Фердинанду о своей цели устроить свадьбу княжны Софии Доротеи и великого князя Павла:
«Прошу тебя, мой дорогой Фердинанд, сделать все возможное, чтобы связаться с князем и княгиней Вюртембергскими и просить отказаться князя Дармштадтского. Если у него есть хоть малая капля чести, он не захочет разрушить счастье двух государств, чей союз мог бы быть столь полезным для мира всей Европы, а если у него есть душа, он не захочет встать на пути счастья семьи, которая, благодаря искреннему расположению императрицы и великого князя, окажется в цветущем положении по сравнению с тем, в котором она находилась всегда»{645}.
У наследного князя Людвига Гессен-Дармштадтского (который был в это время в Потсдаме при дворе Фридриха Великого) не было особого выбора, он мог только освободить Софию Доротею от помолвки. Он решил возместить свою потерю и попросил взамен выдать за него одну из ее младших сестер. Таким образом, княгиня Вюртембергская смогла ответить принцу Генриху в течение трех недель, подтвердив, что вскоре выезжает с дочерью в Берлин. Она не видела проблем с переходом девочки в православие, в особенности потому, что та еще не прошла конфирмацию как лютеранка. В любом случае, принц Генрих держался мнения, что самым большим изменением окажется смена имени. Екатерина уверилась, что само провидение устроило все наилучшим образом в подходящее время для девушки, которую она первоначально предпочла — будто бедная Наталья была не более чем посланной от Бога временной заменой. В таком духе она и написала Гримму:
«Не знаю почему, но с 1767 года я всегда ощущала особую склонность к молодой леди. Обстоятельства, которые, как вы знаете, способны сбить с толку инстинкт, заставили меня предпочесть другую, так как первая в то время была еще слишком молода для брачного соглашения. И разве не оказалось, что сейчас, когда я потеряла Наталью навсегда, это несчастье позволило мне осуществить мое доминирующее намерение? Что все это значит? Вы рассуждаете по-своему, вы скажете, что здесь совпадение, случайность. Вовсе нет! Этого недостаточно для меня, верующего человека: мне нужен некто больший, чем я сама»{646}.
Несмотря на все старания сохранить дело в тайне, к концу мая Джеймс Харрис, тогдашний британский посол в Берлине, полностью одобрил план женитьбы великого князя, о чем доложил лорду Суффолку:
«От принца Генриха за последние две недели прибыло несколько курьеров. Мне сообщили под величайшим секретом, что последний, который прибыл в Потсдам и встретился с королем на дороге, привез от императрицы предложение устроить брак великого князя с княжной Вюртембергской, обещанной в настоящее время наследному принцу Гессен-Дармштадтскому. Уже решено, что Его императорское высочество, путешествующий под предлогом отвлечься от своего горя, или вернется с принцем Генрихе, или немедленно последует за ним в Берлин; что княжна встретится там с ним, и дело тогда будет окончательно определено. Это событие должно произойти в июле или августе. Оперным певцам уже отданы приказы быть наготове»{647}.
Екатерина и Потемкин все еще боролись за разрешение противоречий в своих отношениях, а придворные и дипломаты, как всегда, наблюдали, не в силах понять ситуацию. В начале мая ожидалось, что князь вскоре попросит разрешения оставить двор, дабы заняться своими обязанностями в качестве генерал-губернатора Новороссии, и что его просьба будет удовлетворена. Разочарование поведением Потемкина очевидно из письма, которое Екатеринаы написала ему в этом месяце:
«Я верю, что ты любишь меня, хотя очень часто нет признаков любви в том, что ты говоришь. Верю, потому что я совестлива и справедлива. Я не сужу людей по их словам, когда вижу, что они расходятся со здравым смыслом. Ты пишешь в прошедшем времени: «был, были». И все-таки все мои действия сводились к стараниям установить гармонию в настоящем времени. Кто еще хочет мира и спокойствия, если не я? Ныне я слышу, что ты был счастлив тем, как все складывалось раньше, а теперь, похоже, тебе этого недостаточно. Но Бог велит прощать, и я не упрекаю тебя. Я справедлива к тебе и хочу сказать то, чего ты еще не слышал: хотя ты сильно оскорбил меня и бесконечно досаждал мне, я не могу испытывать к тебе ненависть, и думаю, что раз я пишу это письмо, а ты в нормальном состоянии, — все более или менее так, как было раньше. Если бы только ты оставался в рамках, если бы сохранял здравый ум, ты бы действительно не пожалел, дорогой друг, душа моя. Ты знаешь чувствительность моего сердца»{648}.
Потемкин по-прежнему время от времени был очень раздражительным с Екатериной, а она оставалась в убеждении, что если только он успокоится, все разрешится. Потемкину было необычайно трудно принимать то, что Екатерина никогда не забывала о своем положении императрицы и что он — ее подданный. Она, когда считала это необходимым, проявляла свою имперскую власть, как однозначно сделала в случае, который вызвал его гнев. И вот его ответ ей:
«Распекала меня вчера без причины весь день. Слава Богу, у тебя нашлась одна зацепка и сегодня. Я написал письмо, которое расстроило тебя. Но если ты задумаешься на миг о предмете, не заводясь, то увидишь, что твое письмо — суть письмо императрицы подданному, который обидел ее глупостью, прихотливостью и отсутствием здравого суждения. Сия императрица, как подобает, наказала подданного, обидевшего ее. Но она не должна забывать, что этот подданный часто рисковал своей жизнью, что являлось его долгом у нее на службе»{649}.
По мнению Екатерины, это Потемкин постоянно затевал ссоры, а она заливала маслом волнующиеся воды. Как-то в мае или июне Потемкин попросил ее уволить Завадовского. Она отказалась, ответив, что ее репутация сильно пострадает, если она согласится на его просьбу, и что разногласия между нею и Потемкиным с большой вероятностью окрепнут{650}. Она добавила, что в любом случае несправедливо будет таким образом обойтись с Завадовским. Екатерина также ужасно разозлилась, поняв, что Потемкин обсуждает сложности их отношений с посторонними людьми — чего она, по ее словам, никогда не делала. Она заключила, сделав на этом ударение, что не изгоняет его из своей комнаты или откуда-либо еще (несмотря на подразумевающиеся набеги Завадовского в качестве любовника). Чувствительность Потемкина в это время была такова, что если Екатерина была чем-нибудь занята и поэтому не могла уделить ему полного внимания, когда он являлся, он считал, что нежелателен или что его появление стесняет ее. А тем временем собаки Екатерины продолжали дарить ей моменты отдыха. Она описала Гримму шалости пятимесячного щенка из многочисленной семьи Сэра Тома Андерсона: «Она уже рвет все, что находит, бросается и кусает за ноги тех, кто входит в мою комнату, охотится на птиц, мух, оленей и любых других животных в четыре раза крупнее нее самой и создает больше шума, чем все ее братья, сестры, тетя, отец, мать, дедушка и прадедушка вместе взятые»{651}. В том же письме она сообщает Гримму, что находится в прекрасном здравии и что ее привычка купаться в холодной воде особенно благотворна: «Знайте, что с таким универсальным средством, как купания, вы не можете умереть»{652}. Вечером 13 июня великий князь отбыл через Ригу в Берлин в сопровождении своего друга, князя Александра Куракина, и фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Принц Генрих выехал на день позже, чтобы присоединиться к великому князю в Риге. Затем он покинул Ригу — раньше Павла, — чтобы встретить последнего в Кенигсберге. Выполнив все эти дипломатические тонкости, дальше князь и принц отправились вместе. 22 июня Екатерина отдала Потемкину Аничков дворец и заодно пожаловала сто тысяч рублей на его переделку по своему вкусу. Этот дворец, расположенный на Невском проспекте и выходящий на реку Фонтанку, первоначально, в 1741 году, был заказан императрицей Елизаветой архитектору Михаилу Земцову как подарок ее фавориту графу Алексею Разумовскому, у которого Екатерина и купила его для собственного фаворита (или экс-фаворита). После смерти Земцова дворец был завершен Растрелли. Примерно в то же самое время Потемкин оставил двор, чтобы проинспектировать Новгородскую провинцию (он отсутствовал до конца июля). Хотя Екатерина изъявила желание, чтобы по возвращении он продолжал жить в ее покоях в императорском дворце, этот период отмечает официальное изменение в положении обоих — и Потемкина, и Завадовского. Положение последнего как фаворита определилось официально после его повышения двадцать восьмого июня до ранга генерал-майора. Он также получил в подарок двадцать тысяч рублей и тысячу крепостных. Классически образованный, красивый и трудолюбивый Петр Завадовский был в том же возрасте, что и Потемкин. На этом сходство заканчивалось. По контрасту с Потемкиным новый друг Екатерины был скромным и сдержанным почти до застенчивости. Он, должно быть, по крайней мере вначале, — был сущим отдохновением в противовес запальчивому и требовательному князю. Хотя Екатерина писала Завадовскому менее ярко, чем Потемкину, используя меньшую коллекцию любовных эпитетов (она адресовалась к нему нежными уменьшительными именами «Петруша» и «Петрушенька» или «дорогой» и «любимый»), ее записки к нему, тем не менее, демонстрируют страстную привязанность с ее стороны, даже если она длилась не очень долго. В отличие от Потемкина, который почти всегда адресовался к Екатерине уважительно «матушка» или «государыня» (как бы мало уважения он ни оказывал ей в лицо), Завадовский обращался к ней по имени: «Катя» или «Катюша». Как было у нее всегда в начале сексуальных и эмоциональных отношений, Екатерина лелеяла высокие надежды на их постоянство, написав в одной записке: «Петруша, дорогой, все пройдет, кроме моей страсти к тебе»{653}. Пока Завадовский не приобрел собственной политической значимости (в этом, с точки зрения императрицы, не было особой нужды, так как у нее оставался Потемкин — основной советчик и соратник), он продолжал работать в кабинете императрицы, выполняя довольно простую работу современной женщины-секретаря и личного помощника работающей повелительницы. Кроме выполнения дневной рутинной работы, ему приходилось исполнять роли от секретаря до любовника, когда это требовалось. Екатерина, будучи императрицей, установила расписание — и очень строго соблюдала распределение времени, чтобы ее работа не страдала, — хотя вследствие этого «дорогой Петруша» не всегда был в ее распоряжении, когда Екатерина хотела его видеть, и это расстраивало ее. Ему также приходилось мириться с тем, что его личная жизнь находилась отныне под постоянным испытующим взглядом, и привыкать к потоку просьб о ходатайствах перед императрицей за других людей. Чтобы выдержать такое, требовался необыкновенный человек. Завадовский, который изначально чувствовал себя неуверенно, сталкиваясь с прежними фаворитами Екатерины и другими опытными придворными, вскоре начал гнуться под давлением, несмотря на частые уверения Екатерины, что она любит его. Он не был прирожденным придворным — он был прирожденным администратором. Его французский был недостаточно хорош, чтобы вести на этом языке светские беседы, и придворная жизнь, в общем-то, мало интересовала его. Он был сильно привязан к Екатерине эмоционально, а она испытывала не больше сочувствия к его приступам опасения, ревности и сопровождающего их дурного настроения, чем к настроениям любого из своих предыдущих любовников. Он также должен был терпеть постоянное присутствие Потемкина. Первого июля Ричард Оукс доложил о явной перемене в положении Потемкина, хотя до конца все было еще не ясно:
«Несмотря на высокую степень фавора, в котором Орловы остаются у своей государыни по настоящее время, и обиду, которую граф Орлов, как считается, питает к князю Потемкину, по отношению к последнему все еще сохраняются знаки расположения, что выглядит весьма странно. Во время поездки в Новгород его во всем обслуживали от двора, и это заставляет предположить, что он вернется туда через несколько недель. Но не верится, что он пользуется абсолютным расположением. Меня уверяли, что он уже вывез часть принадлежащей ему мебели из покоев, которые занимал в Зимнем дворце»{654}.
Оукс также предсказывал, что Потемкин вполне может закончить свои дни в монастыре — как в «наилучшем убежище от безнадежности своих бессильных амбиций»{655}. В Берлине тем временем царило чрезвычайное возбуждение, так как приближалось время прибытия принца Генриха и великого князя. Как сообщил Джеймс Харрис,
«Волнение, которое этот неожиданный визит вызывает во дворце, не поддается описанию. Сам король являет собою пример великолепия, о каком не слыхивали со времен Фридриха Первого. Его верноподданные соперничают друг с другом в изяществе. Те, кому финансы не позволяют принимать участие в этом соревновании и чей кредит исчерпан, делают вид, что заняты срочными делами вне города или вдруг заболели, — но каждый владелец хоть нескольких сотен крон тратит их на кружева и вышивки»{656}.
10 июля великий князь въехал в Берлин сквозь огромные толпы народа в составе процессии из представителей торговых гильдий в форменной одежде. Он восседал с принцем Генрихом в посеребренном экипаже, влекомом восемью лошадьми и следующем за отрядом телохранителей. Фридрих Великий целиком использовал возможности этого визита, оказав великому князю и его свите все существующие почести и раздав подарки. Как едко прокомментировал Джеймс Харрис, «ни один не вернется в Петербург, не потеряв рассудка от любезности и доброты»{657}. Сам Павел, абсолютно уверенный в своих достоинствах и значимости, казалось, меньше всех понимал роль пропаганды в проявленных щедрости и любезности. Вот что доложил Харрис:
«Поведение тут великого князя, без сомнения, показывало, что он считал восторги и простонародья, и знати за акт доброй воли. Он принимал свидетельства почтения как должное, и на дневном приеме не приложил ни малейших усилий, чтобы быть приветливым. Его дары тоже оказались много ниже уровня получаемых. Разочарование было еще глубже из-за того, что многие очень высоко оценивали величие России; ценные подарки и ожидались, и были желанными. Маршал Романцов [Румянцев] высказал великому князю свое мнение по этому поводу, но так как Его императорское высочество был то ли весьма экономным, толи ограниченным в средствах царицей, это не возымело никакого действия — разве что между князем и советчиком надолго установилась холодность»{658}.
Однако поведение наследника Российского престола не оказало отрицательного влияния на основную причину путешествия в Берлин, и 26 июля Ричард Оукс записал:
«В воскресенье императрица приняла курьера от великого князя с сообщением, что Его императорское высочество обручился с княжной Вюртембергской, и по этому радостному поводу при дворе состоялся бал. А вчера рано утром к ее императорскому величеству прибыл граф Гёрц с поздравлениями от короля Пруссии — по поводу того же счастливого события»{659}.
Оукс упомянул еще об одном приезде: «Князь Потемкин прибыл в субботу вечером, и на следующий день появился при дворе. Его возвращение в апартаменты, которые он занимал ранее, заставило многих испытать тревогу — из-за его шанса вернуть расположение, которое он уже утратил»{660}. Потемкин в конце концов не остановился ни в Аничковом дворце, ни в своих старых помещениях, хотя и остался в Зимнем дворце. Он переехал в маленькое здание, выходящее на Миллионную улицу и известное как дом Шепилова. Это здание соединялось с основным дворцом крытым переходом, что позволяло Потемкину в любое время тайно навещать комнаты Екатерины, а ей — наносить визиты прежнему фавориту. Аничков дворец он использовал для развлечений и размещения там своей библиотеки. 18 августа Екатерина сообщила Гримму известия о новой невесте Павла:
«Вы спрашивали меня о моих путешественниках. Имею честь сообщить вам, что половина из них вернулась в воскресенье — это великий князь и его свита. Княжна еще только должна приехать; ее не будет с нами дней десять. Когда она прибудет, мы произведем ее обращение. Чтобы подготовить ее, я думаю, потребуется недели две. Не знаю, через какое время она сумеет зачитать Символ веры на понятном, правильном русском языке, — но чем скорее это уладится, тем лучше. С целью ускорить этот процесс монсеньор Пастухов выехал в Мемель, дабы обучать ее алфавиту и вере по пути; убеждение может прийти и позже. Как видите из всего этого, мы смотрим вперед и планируем заранее, и обращение с принятием веры идут с большой поспешностью. Я организую свадьбу через неделю после этого акта. Если вы хотите приехать и потанцевать на ней, все, что вам надо сделать, это поторопиться»{661}.
Для будущей великой княгини были подготовлены апартаменты. Екатерина сама написала указания о том, как они должны быть декорированы и обставлены. Спальня для обычного пользования должна была иметь голубые стеклянные колонны, стены следовало затянуть белым Дамаском и украсить розовыми панелями, кровать соорудить в том же стиле. Стены парадной спальни должны были быть декорированы золотой парчой с панелями из голубого бархата, вышитого золотом. Столовую следовало отделать гипсовой лепниной с золотым орнаментом. Княжна София Доротея в сопровождении графини Румянцевой пересекла российскую границу в Риге 24 августа. Джеймс Харрис описал ее с умеренным энтузиазмом: «Она весьма склонна к полноте, но вполне привлекательна. Много трудностей было с ее обучением. Ничто не могло сравниться с радостью — и ее, и всего дома Вюртембергов — по поводу этого события»{662}. Неделей позже Павла и Софию Доротею принимали в Царском Селе. Екатерина восторженно написала мадам Бьельке о шестнадцатилетней княжне (которая, как и она сама, родилась в Штеттине):
«Признаюсь вам, что я без ума (буквально без ума!) от этой очаровательной княжны. Она именно такова, какой ее хотели видеть: фигура нимфы, цвет лица — персик со сливками, самая прекрасная кожа на свете. Она высокая, хорошо сформировавшаяся, и все-таки с легкой походкой; лицо выражает очарование, сердечную доброту и искренность; все околдованы ею, и тот, кто не полюбит ее, будет ужасно неправ, потому что она рождена и создана для любви… Короче, моя княжна представляет собою все, что я хотела. Я довольна»{663}.
Екатерина действительно очень хотела снова увидеть Грима. Она писала ему: «Я останусь в Царском Селе до шестого сентября, а потом вернусь со своей княжной в город. Если вы приедете, а я буду еще тут, — приходите, как только вам будет удобно, и мы поболтаем, как болтливые сороки, простите меня за сравнение»{664}. Гримм выполнил свое обещание вернуться после поездки в Италию, вовремя прибыв к свадьбе. Как и в первый свой визит, он ежедневно (кроме того времени, когда болел), виделся с императрицей, ведя с ней беседы с глазу на глаз по крайней мере раз в день, а иногда и до трех раз. Эти беседы обычно длились по два-три часа, хотя одна затянулась на целых семь часов, и Гримм так возбуждался от них, что часто не мог уснуть ночью. Гримм признавал, что Екатерина умела оставаться императрицей — и в то же время вести себя как добрый друг. Чувство собственного достоинства было свойственно ей, похоже, от природы — близкий друг мог быть с ней фамильярным, но никогда не доходил до бесцеремонности. 6 сентября, в четверг, Екатерина с великокняжеской четой уехала из Царского Села в Санкт-Петербург в великолепном парадном экипаже. Обращение Софии Доротеи произошло 14 сентября. Ей дали имя Мария Федоровна. На следующий день состоялась помолвка. Оба события произошли в часовне Зимнего дворца. Во время обеда, последовавшего за помолвкой, звучал концерт итальянской вокальной и инструментальной музыки, а вечером состоялся бал. На этот раз Павел раньше, чем это успела сделать его мать, выдал своей будущей жене письменные инструкции о поведении (хотя Екатерина была в курсе и одобрила то, что он написал). Вдовец хотел доминировать в этом браке, что ему не удавалось в первом. Он настаивал на том, чтобы его невеста серьезно воспринимала свои религиозные обязанности, соблюдала все требуемые ритуалы и полностью зависела от него и императрицы, прося совета по каждому вопросу. Она должна была избегать посредников и никогда не жаловаться на императрицу (наоборот, она должна искать возможности поговорить с ней напрямую, если возникнет нечто, чего она не понимает). Ее единственной задачей оставалось служить императрице и великому князю, своему мужу. Он признавал, что является трудным в общении человеком, так как непостоянен и нетерпелив, и что его жене придется приспосабливаться к нему. Более того, он имеет право критиковать и наставлять ее в любом вопросе, который кажется ему подходящим, и она не должна обижаться — даже если он будет неправ, а он признавал, что такое может случиться. Мария Федоровна, будучи практичной и прагматичной молодой женщиной, похоже, не удивилась, прочитав эти инструкции, и была готова выполнять все необходимое, чтобы ее брак был удачным. Свадьба состоялась 26 сентября, через шесть дней после двадцатидвухлетия Павла. Корону над великим князем держал Григорий Орлов. Бросалось в глаза отсутствие на церемонии Никиты Панина — он был болен, но также и раздражен, так как с ним не советовались по поводу свадебных торжеств. Празднества, которые включали традиционное угощение для народа на площади перед Зимним дворцом, длились почти три недели и завершились салютом 15 октября. Григорий Орлов и сам планировал жениться. Его братья считали партию неподходящей — но императрица, когда они попросили ее вмешаться, отказалась препятствовать. Предполагаемой невесте Григория, Екатерине Зиновьевой, было только пятнадцать лет, ее предназначали во фрейлины к императрице на следующий год. Однако проблема, которую Григорий представлял для этой девушки, заключалась скорее не в ее молодости, а в том, что она была его двоюродной сестрой, и ему нужно было получить специальное разрешение на брак от церкви. Пока Гримм находился в Санкт-Петербурге, Екатерина сделала еще одну, последнюю попытку оставить его насовсем, предложив ему работу по управлению императорскими школами. Теперь она и Гримм знали один другого и верили друг другу достаточно, чтобы не нуждаться в многословии или увиливании. «Хочу, чтобы вы сказали мне совершенно открыто: «я буду» или «я не буду»; «останусь» или «уеду». Я очень обрадуюсь, если вы дадите мне ответ, который я хочу услышать, но не начну думать о вас хуже, если вы решите ответить отрицательно»{665}. Он отказался, опять сославшись на то, что не говорит по-русски. Весной 1777 года Петр Завадовский оказался в состоянии почти полного умственного, психологического и физического срыва. Екатерина забеспокоилась, что его постоянно мрачное настроение может быть признаком приближающегося сумасшествия, хотя продолжала пытаться успокаивать его утешающими записками:
«Мои советы таковы — 1) оставайся со мной; 2) верь, когда я говорю что-то; 3) не ругайся часами по поводу мелочей; 4) отгоняй мысли, свойственные ипохондрику, заменяй их веселыми. 5) Заключение — все это питает любовь, которая без удовольствия мертва, как вера без добрых дел»{666}.
Она чувствовала, что период передышки необходим им обоим, и сказала Завадовскому, что поговорит об этом с Потемкиным — предложение, которое едва ли могло обрадовать Завадовского. Эксперимент с Завадовским, неудачный для него, показал Потемкину, что ménage a trios действительно проложил путь к его собственным особым взаимоотношениям с императрицей, освободив его от неизбежности постоянного личного присутствия, но укрепив его влияние и центральное положение в жизни Екатерины и ее империи — доказав тем самым, что он выбрал правильного человека на роль третьего. Теперь он действовал быстро. Человек, которого он представил на этот раз, был Семен Зорич, тридцатиоднолетний майор, гусар и сын сербского офицера в российской армии. Зорич добился в армии известности дерзостью, с которой пережил турецкий плен. Узнав, что турки казнят простых солдат, но предлагают знати внести выкуп, он немедленно объявил себя графом. По возвращении из плена он написал Потемкину и был принят в его свиту. К началу мая Потемкин представил Зорича Екатерине, которая написала: «С каким смешным созданием ты меня познакомил!»{667}. Красивый, смуглый и кудрявый Зорич вскоре стал известен среди некоторых придворных дам как «Адонис», а в других кругах его называли «lе vrai sauvage» (настоящий дикарь). К 22 мая Екатерина уже обращалась к нему «Сенюшка» или «Сима» и посылала ему записочки, тревожась о Потемкине — и говоря последнему, как сильно ей его недостает. 27 мая она также послала Потемкину часы для Зорича, так как у того не было своих. В этот день Потемкин устраивал в своем новом поместье Озерки обед для императрицы. Среди тридцати пяти гостей были племянницы и кузины князя и, впервые по официальному приглашению, Зорич. С разрешения Екатерины граф Кирилл Разумовский был выбран Завадовским в качестве посредника. Хотя Завадовский и хотел перестать быть фаворитом императрицы, он расстроился до слез и попросил, чтобы ему позволили прийти навестить ее, на что она согласилась. Ясно, что он все еще очень любил ее или по крайней мере зависел от нее эмоционально. Кроме того, он хотел удостовериться, что о нем хорошо позаботятся. Иван Елагин также участвовал в переговорах, которые привели к получению Завадовским четырех тысяч крепостных в Белоруссии (теперь Беларусь), щедрого финансового расчета и традиционного серебряного обеденного сервиза (хотя в его случае только на шестнадцать персон). Ему посоветовали ненадолго отправиться на отдых на родную Украину — с тем, чтобы затем вернуться на службу: должность оставалась вакантной. 5 июня Григорий Орлов добился своего и женился на Екатерине Зиновьевой. Свадьбу праздновали в пригороде Петербурга, и сорокатрехлетний жених плясал от радости. Екатерина пожаловала новой княгине ранг гофмейстерины и позднее приехала отобедать с новобрачными в гатчинском поместье. В тот же день, когда состоялась свадьба Григория, король Швеции Густав III прибыл в Петербург морем и был немедленно принят Екатериной в Царском Селе. Густав был двоюродным братом Екатерины, сыном брата ее матери Адольфа Фридриха, на шестнадцать лет моложе нее. Он путешествовал под именем графа Готланда и попросил, чтобы во время визита ему не оказывали королевских почестей, ибо хотел передвигаться относительно свободно. В этот первый день кузены отобедали вместе и встретились еще несколько раз за время месячного пребывания «братца Гу», как называла его впоследствии Екатерина в переписке с Гриммом. Екатерина организовала ознакомление кузена со всеми достопримечательностями Петербурга. Они обменялись дорогими подарками; Екатерина наградила его орденом святого Александра Невского и подарила ему трость, ручка которой была изготовлена из цельного бриллианта стоимостью в шестьдесят тысяч рублей, а также манто из голубой лисы. Густав заложил камень в основание Чесменской церкви, строящейся в память морской битвы. Екатерина также постоянно передавала Потемкину подарки для Зорича, с которым оба обращались как с любопытной игрушкой. Наконец в августе Гримм покинул Санкт-Петербург. Несмотря на отказ остаться в России, он теперь официально находился на жаловании у Екатерины с годовым окладом в две тысячи рублей. В его обязанности входило быть ее доверенным агентом в Париже и покупать для нее художественные произведения. Переписка между ними немедленно возобновилась. Екатерина сообщала о достижениях в своем саду в Царском Селе и о недавних посетителях — тридцатишестилетнем итальянском композиторе Джованни Паизиелло и герцогине Кингстон, англичанке со скандальной репутацией:
«Опера Паизиелло не будет поставлена до сентября. Ожидая, он ходит на прогулки, и говорят, что без ума от моего парка, который становится красивее с каждым днем: к Гранд-Капрису[45] сделана тропинка, которая мне кажется прекрасной. Но пока она окончена только в воображении, так как деревья там еще не посажены — в наличии только два травянистых склона… Порассуждаем о сумасшествии: герцогиня Кингстон прибыла сюда на собственной яхте под французским флагом; это очень умно; она определенно не лишена интеллекта; она очень любит меня — но так как она почти глуха, а я не могу кричать, ей от этого никакой пользы»{668}.
Герцогиня Кингстон, она же графиня Бристоль, урожденная Элизабет Чадли, родилась в 1720 году и вела в Лондоне скандальную жизнь, достигнув пика известности после появления голой на балу, который давал венецианский посол. Ее брак с чрезвычайно богатым герцогом Кингстоном в 1769 году была вторым браком: Элизабет уже была тайно обвенчана в 1744 году с Августом Харви, позднее третьим графом Бристолем. Герцог Кингстон умер в 1773 году, а в 1776 году Верховный суд Парламента призвал герцогиню к ответу за двоемужие. Она была признана виновной, но наказана только штрафом. Затем она отправилась путешествовать вокруг Европы, чтобы избежать личных денежных затруднений по иску, выдвинутому племянником умершего мужа с целью вернуть имущество Кингстона. В конце концов юристы герцогини выиграли дело в ее пользу. 10 сентября в Петербурге произошло катастрофическое наводнение. Екатерина, которая вернулась в город из Царского Села за день до того, немедленно как свидетель написала Гримму:
«В десять часов вечера поднялся ветер, с грохотом распахнув окно в моей комнате. Немного побрызгал дождь, но потом полетело все подряд: черепица, железные листы, оконные рамы, вода, град и снег. Я спала очень крепко, но в пять часов меня разбудил порыв ветра. Я позвонила, ко мне пришли и сказали, что вода у самых моих дверей и пытается прорваться в здание. Я ответила, что в таком случае нужно переставить гвардейский караул в малый двор, чтобы караульные не погибли, пытаясь предотвратить нашествие вод. Сказано — сделано. Я хотела посмотреть поближе, поэтому отправилась в Эрмитаж. И он, и Нева выглядели как развалины Иерусалима: набережная, которая была еще не достроена, усеяна трехмачтовыми торговыми судами. Я сказала: «Боже мой! Биржа сдвинулась; графу Мюниху придется создавать таможенный пост там, где находился театр Эрмитаж». Сколько было разбитых окон и перевернутых горшков с цветами! И будто чтобы составить компанию цветочным горшкам, фарфор с камина валялся по всему полу и по диванам… Я обедаю дома. Вода сошла, и как видите, я не утонула. Но некоторые только-только начинают выползать из своих берлог. Я видела одного из своих гофмейстеров, который прибыл в английском экипаже; вода покрывала заднюю ось коляски, и у лакея, стоявшего сзади, ноги были в воде. Но хватит говорить о воде. Она смешалась с вином, так как все мои подвалы затоплены, и Бог знает, что из этого выйдет»{669}.
В дополнение к прочим несчастьям, от наводнения сильно пострадал Летний сад: большинство мраморных статуй, которые поставил там Петр Великий, были смыты, так же как и вольеры, теплицы, оранжереи, бельведерыи основная достопримечательность сада — тщательно разработанная система фонтанов, которая снабжалась водой из реки Фонтанки и управлялась насосами, созданными самим Петром. «Только вообразите: недавнее наводнение испортило более трехсот девяноста метров набережных, — сообщила Екатерина Гримму. — С этого дня я сержусь на город святого Петра. В нескольких домах ели рыбу, пойманную в собственном дворе. Граф Панин ходил на рыбалку в свой манеж. Почти все окна в моем Эрмитаже разбиты. Сто сорок кораблей погибло в Неве под моими окнами»{670}. В ноябре Екатерина пережила колики. Всегда с охотой обсуждавшая свою пищеварительную систему, она описала симптомы Гримму во всех деталях:
«Сегодня я проснулась между пятью и шестью часами утра с жуткой болью в теле. Я попыталась сесть, и боль перешла вверх, к груди, так что у меня перехватило дыхание. Я позвонила. Кто-то вошел. Я не знала, что со мной, не могла найти в постели удобного положения; что бы это могло быть? Монсеньор Кельхен заявил, что это колика от метеоризмов. Этот ураган внутри длился без остановки пять часов, а затем ушел так же внезапно, как и начался, непонятно почему и для чего. Бог защити вас от чего-то подобного: и императорское терпение, и медицинская наука были уже у предела разумного»{671}.
К концу месяца Этьен Фальконе доложил императрице о продвижении работ над долгожданной конной статуей, объяснив, что вторая отливка оказалась успешной после исправления некоторых проблем, с которыми он столкнулся. Он пригласил императрицу посетить его студию, чтобы увидеть «продукт одиннадцати-двенадцати лет труда»{672}. Он также напомнил ей, что ему еще не заплатили за мраморный бюст великого князя и покойной великой княгини Натальи. Похоже, Екатерина не вняла просьбе Фальконе посетить его студию, так как в письме 1778 года скульптор говорит о статуе как об «объекте, которого [Ваше императорское величество] еще не видели»{673}. В отличие от Фальконе, великая княгиня Мария Федоровна быстро выполнила первейшую задачу своего прибытия в Санкт-Петербург. 21 декабря 1777 года, с рождением первого внука Александра, начался новый период жизни Екатерины.
14. Внуки и другие приобретения (1777–1779)
Я леплю из него смешную маленькую личность, которая делает все, что я хочу.Через два дня после рождения Александра Павловича Екатерина с радостью написала Гримму:Екатерина II о своем внуке Александре
«Вы знаете монсеньора Александра?.. Готова спорить, что вы не знаете монсеньора Александра — по крайней мере, того, о каком я собираюсь вам рассказать. Это не Александр Великий, но Александр очень маленький, который только-только родился, 12 числа сего месяца, без четверти одиннадцать утра. Другими словами, великая княгиня только что родила сына, которому в честь святого Александра Невского дали пышное имя Александр и которого я зову монсеньор Александр»{674}.
Все задавленные материнские инстинкты Екатерины — задавленные императрицей Елизаветой, распорядившейся двумя ее первыми детьми сразу же после их рождения, и необходимостью скрывать роды в случае рождения сына от Орлова — вылились в любовь к этому внуку. Но то была не только любовь. Екатерина остро чувствовала, что наконец-то появилось маленькое человеческое существо, которое она могла целиком формировать сообразно своим идеалам и теориям — и никто не имел права вмешаться. Она всегда понимала, что Павел был надломлен и физически, и духовно ранним переходом в руки Елизаветы и ее помощников с их старомодными взглядами, с пеленанием и перегревом комнат. Екатерина твердо решила, что подобного вреда не нанесут Александру, которого она с самого начала была намерена превратить в своего достойного преемника. Ко времени его рождения у нее сложились четкие представления о том, как нужно обращаться с детьми. Многое было почерпнуто из книги «Emile» Жан-Жака Руссо, опубликованной в 1762 году, и идеи эти были диаметрально противоположны практике, которая применялась при воспитании ее собственного сына. Конечно, она записала их:
«Детей не следует одевать и кутать слишком тепло ни зимой, ни летом. Лучше, чтобы дети ночью спали без головного убора. Детей как можно чаще следует обмывать холодной водой. У них должна быть легкая обувь без каблуков. Первый год полезно держать головку и ножки раздетыми. Хорошо бы научить ребенка плавать, как только он достаточно подрастет. Пусть дети как можно чаще выходят на свежий воздух. Позволяйте им как можно реже быть у огня, даже зимой. Позволяйте им играть на ветру, на солнце и под дождем без шапки. Детская одежда никогда не должна быть тесной, особенно в груди»{675}.
В некотором роде Екатерина поступила с внуком примерно так же, как Елизавета с Павлом, взяв на себя всю ответственность по уходу за ним с самого его рождения. Не могло быть и речи о том, что Александр — просто сын Павла и Марии Федоровны. После своего отца он должен был унаследовать огромную империю, и его воспитание было делом настолько важным, что вмешательство личных соображений, таких, как отцовские и материнские чувства (в особенности со стороны молодых, неопытных родителей) было исключено. По крайней мере, так считала Екатерина; и родители Александра, не имея права выбора, могли только подчиниться ее плану. За рождение ребенка они получили награду в виде большого поместья, известного как Павловск, к югу от Царского Села, включающего пятнадцать тысяч акров девственного леса. Однако узурпация ребенка Екатериной не была столь деспотичной, как у Елизаветы. Павел и Мария Федоровна всегда имели больше доступа к своим детям, чем когда-либо позволялось иметь Екатерине, но им не разрешали принимать никаких решений, касающихся детей. Первую неделю жизни, до крещения 20 декабря (один из крестных — король Фридрих Великий — отсутствовал), Александру позволили провести в покоях матери, хотя Екатерина немедленно забрала его сразу же после рождения, чтобы обмыть и проследить, как его заворачивают — очень легко и без всякого свивальника. Затем его уложили в корзину, которую, в свою очередь, поставили на диван за экраном. Екатерина была непреклонна, запретив укладывать ребенка в качающуюся колыбель любого типа. Со дня номер один монсеньора Александра запрещалось изнеживать. Жена молодого садовника из Царского Села была выбрана ему в кормилицы, а жену генерала Бенкендорфа выбрали для осуществления общего руководства по уходу за ребенком — и, естественно, для регулярных докладов обо всем Екатерине. После крещения Александра перевели в собственную комнату, где он спал в железной кроватке на матрасике, покрытом звериной шкурой, с подушечкой и под легким одеялом из гагачьего пуха. Делался акцент на свежем воздухе; никогда не допускалась температура выше 14–15 градусов[46]; можно было зажигать не более двух свечей одновременно. Кроватка ребенка была ограждена решеткой высотой в локоть, чтобы вокруг него не толпились люди. Каждое утро (хотя стояла середина зимы) открывались окна, чтобы проветрить комнату. Александра при этом выносили и приносили обратно, когда комната прогревалась. Каждый день его купали в лохани. Единственной уступкой статусу новорожденного было то, что первые несколько недель воду позволялось делать теплой. (Позднее она стала холодной, набранной с вечера и оставленной в его комнате на ночь.) Еще одним новшеством, вошедшим в жизнь Екатерины этого периода, стал прорыв в области оценки музыки. Композитор Паизиелло хорошо изучил своего патрона и ее вкусы и решил не писать ничего слишком сложного для восприятия. Музыкальные комедии, которые он сочинял в это время, сочетали мягкую социальную сатиру с живыми, легко запоминающимися мелодиями. Получалось именно то, что нравилось императрице, чье чувство юмора было не более утонченным, чем ее восприятие музыки (она могла иногда быть недалекой, вообще не воспринимая тонкой шутки). До прибытия Паизиелло единственным композитором, чью музыку оказалась способна воспринять Екатерина, был Галуппи — также имевший дар сочинять то, что можно назвать «барокко легкого восприятия», — и Екатерина в некотором даже недоумении написала Гримму о способности Паизиелло увлечь ее:
«А вы знаете, что опера Паизиелло — чудесная штучка? Я забыла сказать вам об этом раньше. Я вся обратилась в слух на этой опере, несмотря на природное отсутствие чувствительности к музыке у моих барабанных перепонок. Я ставлю Пазиелло вровень с Галуппи. Этот недавно прибывший фигляр очень забавен. Даже мотивчики, которые он напевает, заставляют меня смеяться: Бог знает, как он это делает. Послушайте, вы, развитый человек, разъясните мне следующий вопрос: как получается, что музыка фигляра заставляет меня смеяться, в то время как музыка французских комических опер вызывает у меня — у той, которая не любит музыки и совсем ничего не понимает в музыке — раздражение и негодование?»{676} В начале 1778 года Гримм послал Екатерине несколько новогодних подарков, в том числе аспарагус из Тура, леденцы, сделанные монашками в Мор-сюр-Луань, которые Екатерина неблагодарно скормила своей собаке Леди, и пару носков из заячьей шерсти — которые, по словам Екатерины, Григорий Орлов пожелал взять себе{677}. Новый год привел в Санкт-Петербург нового британского посла — Джеймса Харриса, который находился в Берлине во время визита великого князя. Дипломат привез с собой сестру и шестнадцатилетнюю жену.
«Хотя я и был готов встретить великолепие и шик двора, — сообщил Харрис вскоре после прибытия, — все-таки реальность во всем превосходит мои представления: роскошь дополняется наилучшим порядком и этикетом. Императрица прекрасно соединяет в себе талант ведения беседы самым приемлемым образом для тех, кому она оказывает честь, с сохранением чувства собственного достоинства. Ее характер сказывается на всей ее администрации; и хотя ей беспрекословно подчиняются, она все-таки ввела такие мягкие формы правления, с которыми до ее прихода эта страна была незнакома»{678}.
Как и все другие иностранные посланники, которые хотели успешно работать, Харрис знал, что ему нужно научиться ладить с Никитой Паниным, через которого шли все дела иностранцев. Он описал его как человека «добротного строения, большого тщеславия и избыточной праздности»{679}. Однако он считал его честным и неподкупным. Харрис также быстро оценил положение дел в отношении последнего фаворита Екатерины, сообщив герцогу Суффолку:
«Теперешний фаворит Зорич, похоже, вот-вот падет. Он получил и истратил огромное состояние; но похвально для поднявшегося до таких высот то, что он использовал свое влияние для добрых дел и платил за услуги тем, кого считал обойденным. Вероятно, Потемкину поручат присмотреть свеженького minion, и я уже слышал имя (хотя не могу никоим образом утверждать этого наверняка): якобы выбран некто Архаров, лейтенант полиции в Москве»{680}.
Говорили, что Зорич ожидает немедленной отставки, однако намерен «отрезать уши»{681} любому преемнику. Харрис сообщил также, что Григорий Орлов не отходит от молодой жены, которая «капризна, своевольна и очень молода»{682}(хотя он отмалчивается, когда при нем упоминают о возрасте его жены). После месяца пребывания в Санкт-Петербурге у британского посла сложилось мнение, что худшими врагами императрицы являются чужая лесть и собственные страсти — под которыми он подразумевал ее пристрастие к молодым мужчинам. Каковы бы ни были претензии Семена Зорича в положении фаворита, центром жизни Екатерины оставался Потемкин — и в делах государственных, и в более недолговечных делах придворных. Во время празднований в честь рождения Александра Павловича Потемкин и Екатерина вместе разработали тщательно продуманный прием в ее апартаментах. Потемкин исполнял роль хозяина, изображая африканца по имени Франциск Азор. Тщательно отобранные гости (все высокопоставленные русские) сначала прослушали придворную оперу, а затем из помещения театра по винтовой лестнице прошествовали в комнату, где стояли три покрытых бархатом стола для игры в макао (карточная игра, похожая на баккара: ее цель — удержать на руках карты на девять очков). На каждом столе стояла маленькая коробочка с бриллиантами и позолоченными ложечками. Бриллиантами, которые Джеймс Харрис (ему вместе с другими иностранными сановниками позволили осмотреть место театрализованного приема после его завершения) оценил в пятьдесят рублей каждый, награждались игроки, набравшие девять очков. Игра длилась полтора часа, после чего оставшиеся бриллианты были розданы гостям. Затем они вернулись по лесенке назад и обнаружили, что комната, через которую они прошли ранее, преобразована. Она была вымощена зеркалами — не только стены, но и потолок, — и с каждой стороны от входа, что напротив лестницы, красовалась большая, высотой более двух футов буква «А» (в честь Александра), выложенная из бриллиантов. Двадцать пажей в золотых костюмах с голубыми атласными поясами стояли наготове, чтобы обслуживать гостей за ужином. Столы, богато сервированные приборами из хрусталя с серебром, выстроили вдоль стен так, что гости смотрелись в зеркала. Екатерина приказала сделать гравюру, изображающую празднество, чтобы поразить как можно больше людей. Не вся компания блеском соответствовала сервировке, как следовало из описания события, которое Екатерина отправила Гримму. Она обозвала некоторых гостей «гороховым супом». Очевидно, этот термин они использовали ранее в разговоре, и суть его она позднее определила как «лепет и длинные речи ни о чем, не стоящие записи, с приправой из предположений, которые большею частью не были ни справедливы, ни правдивы, — а ведь так вот и правят миром, так часто и решают судьбы нации»{683}. В письме Гримму, которое Екатерина начала писать 2 марта и закончила двумя днями позднее, она призналась, как нравится ей их переписка, — ибо с ним она скорее «болтает», чем «пишет». Она резюмировала: «Так и продолжайте! Закидывайте, закидывайте меня письмами. Это просто отлично, потому что занимает меня. Я читаю и перечитываю ваши послания и говорю: «Как он меня понимает! О небо! почти никто не понимает меня так хорошо, как он»{684}. Затем она сообщила, что здоровенький малыш Александр не дает никаких поводов для волнения с момента рождения, и выразила удивление, что Вольтер, оказывается, называет ее обычно «Като». Она также упомянула о знаменитом обеденном и десертном фарфоровом сервизе «камея» на шестьдесят персон, который заказала в Севре по безумно высокой цене: «Севрский сервиз, который я заказала, предназначен для самого беспокойного из людей, моего дорогого и верного князя Потемкина. Чтобы быть уверенной, что фарфор будет хорош, я сказала, что он для меня»{685}. От Людовика XVI было получено разрешение использовать на фабрике в качестве образца один из старинных сервизов «камея» прекрасного бирюзового цвета из его коллекции. Эскиз одной из тарелок гулял между Севром и Петербургом восемь раз, прежде чем было достигнуто окончательное соглашение, а технические трудности при изготовлении столь огромного сервиза были таковы, что отжигали три тысячи штук, чтобы получить восемьсот изделий удовлетворительного качества. Блюда сервиза несут изображение самой Екатерины в виде богини Минервы. (В благодарность за этот сервиз Потемкин подарил императрице ангорского кота.) С наступлением теплой погоды малыш Александр первый раз в жизни оказался на свежем воздухе. Его стали выносить на улицу (без чепчика) — побыть на травке или на песочке, или даже поспать несколько часов на подушке в тени дерева. Когда ему исполнилось четыре месяца, Екатерина, желая сократить время его пребывания на руках, подарила ему трехметровый ковер — чтобы он лежал на нем в своей комнате и начинал учиться ползать. Императрица с гордостью сообщала о достижениях малыша своему кузену, королю Швеции. Она явно хотела, чтобы ее представления о воспитании детей оценили и распространили — даже прислала Густаву куколку, чтобы показать, как нужно пеленать новорожденного младенца:
«До чего приятно наблюдать, как он кувыркается [на ковре]: он поднимается на все четыре и двигается назад, когда не получается вперед. Его любимая одежда — очень короткая рубашонка с очень свободной вязаной кофточкой; когда он выходит, поверх надевается легкое маленькое платьице из хлопка или тафты. Он никогда не мерзнет, он крупный, высокий и очень счастливый, зубов пока нет, и он никогда не плачет»{686}.
Этой весной Екатерина вносила изменения в планировку Екатерининского дворца в Царском Селе. Они включали снос большой лестницы на одной оконечности дворца и постройку «маленького придела, который граничит с входной дверью со стороны Гатчины»{687}. Ее намерением стало построить новые комнаты, опираясь при их декорировании на свои представления, почерпнутые из книг по архитектуре. Книги эти она получила от аббата Галиани из Неаполя, друга Гримма и «энциклопедистов». Она также хотела гарантий, что устройство дворца даст ей возможность беспрепятственно наслаждаться видом своих парков. К маю Джеймс Харрис почувствовал неудовлетворительность своих усилий — из-за отсутствия прогресса в переговорах по заключению наступательного и оборонительного союза, согласно которому Россия выделила бы морские пополнения в помощь Британии в войне с Американскими колониями. Французский двор недавно принял решение признать независимость Америки, и Харрис понимал, что и граф Панин, и императрица противодействуют ему: «Императрица мила со мной сверх меры, и я не могу не думать, что она старается этой чрезвычайной любезностью ввести меня в заблуждение… Когда бы я ни пытался вернуть ее к нашим делам, она мгновенно замолкает или меняет тему разговора»{688}. Харрис также доложил, что Григорий Орлов, который всегда был расположен к Англии, сообщил, что больше не имеет влияния при дворе, «противная партия превалирует, и он слишком многим обязан Ее императорскому величеству, чтобы пытаться изменить ситуацию и причинить ей тем самым боль и неудовольствие{689}. Императрица чувствовала себя не очень хорошо и пожаловалась Гримму, что, вероятно, переживает реакцию на период слишком интенсивной работы:
«У меня в голове ощущается полный беспорядок. Я заметила, что атаки следуют сразу же за взвинченным состоянием; последняя такая атака случилась у меня в декабре — и длится до сих пор на полную силу. Все стало огнем и духом — вполне довольно, чтобы ввергнуть меня в экстаз. Но увы, я не ем, не пью и не сплю. Монсеньор Кельхен с трудом находит у меня пульс; давит в груди. Мои друзья бранят меня; они без конца твердят и настаивают, что это не к добру; я и сама понимаю это; они консультируются с докторами и считают, что я больна; они хотят лечить меня; я согласна: если они оставят право выбора мне, то это будет нетрудно проглотить. Итак, что вы думаете обо всем этом? Разве это не доказывает, что я выбита из колеи?»{690}
Кроме стеснения в груди, Екатерина жаловалась на нехарактерное для нее отвращение к перу и бумаге, неспособность сконцентрироваться и отсутствие интереса к беседам на любые темы. Джеймс Харрис также заметил, что у нее исчезло «то рвение в делах, которым она славилась»{691}. Хотя частично это состояние вполне могло объясняться реакцией на переутомление, оно было также связано с продолжающейся нестабильностью в личной жизни императрицы. Предыдущие предположения Харриса о надвигающейся отставке Зорича и его замене были, вероятно, преждевременными и неточными (Екатерина не приняла ни человека, которого Харрис идентифицировал как Архарова, ни «персидского кандидата»{692}, которого он также упоминал), но Зорич не оказался покорной игрушкой, как представлял себе Потемкин вначале, когда выбирал его. В действительности он попытался помериться силами с самим Потемкиным и уменьшить его влияние — чего ни князь, ни императрица не могли разрешить. Зоричу нужно было уходить, и чем скорее, тем лучше. Ситуация стала очень неустойчивой после особо агрессивного столкновения между Зоричем и Потемкиным в начале мая. Хорошо информированный Харрис вскоре узнал, что произошло:
«Несколько дней назад князь Потемкин, недовольный Зоричем, представил императрице, собиравшейся на спектакль, высокого офицера-гусара, одного из своих адъютантов. Она заметила его. При этом присутствовал Зорич. Как только Ее императорское величество ушла, он яростно напал на Потемкина, употребив сильнейшие оскорбления и настаивая на дуэли. Потемкин отклонил вызов и вел себя в сложившейся ситуации как человек, не заслуживший брани, которой его наградили. Когда спектакль закончился, Зорич последовал за императрицей в ее покои, бросился к ее ногам и признался в том, что наделал, говоря, что несмотря на почести и богатство, которые она дала ему, он равнодушен ко всему, кроме ее расположения и благосклонности. Такое поведение произвело свое действие. Когда появился Потемкин, его приняли плохо, и день или два Зорич оставался в милости. Потемкин покинул Царское Село и уехал в Петербург. Однако Зорич тоже был отправлен сюда [то есть в Петербург]: императрица приказала ему пригласить Потемкина на ужин, de raccommoder l’affaire, puisqu’elle n’aimait pas les tracasseries [уладить дело, так как она не любит беспокойства по пустякам и волнений]. Этот ужин состоялся несколько дней тому назад: все с виду добрые друзья, но Потемкин, настоящий хитрец, в конце концов все равно использует резкость и своеобразие Зорича. Потемкин решил убрать его, а Зорич намерен перерезать горло своему преемнику. Судите о сути всего двора по этому анекдоту»{693}. Человеком, которого Потемкин представил Екатерине, был Иван Римский-Корсаков. Потемкин назначил его своим адъютантом 8 мая. Несмотря на кажущееся исправление отношений с Зоричем, последним его письменно зафиксированным днем при дворе стало 13 мая. Двадцать второго Харрис смог доложить, что Зорич наконец удален и что его преемник ждет во флигеле — хотя он не был официально представлен до того, как порывистый Зорич оказался на безопасном расстоянии. Полупубличный образ жизни Екатерины (это относится и к частной жизни) не способствовал ее репутации ни дома, ни за границей, как ясно из доклада Харриса:
«Ваша светлость [то есть лорд Суффолк] не пребывает в неведении по поводу ссоры, которая произошла в Царском Селе между князем Потемкиным и генералом Зоричем. Горячность последнего имела лишь мимолетный эффект; услужливость и полезность князя Потемкина играет лучше любого другого соображения, и монсеньор Зорич несколько дней назад получил окончательную отставку. О ней сообщила ему в очень мягкой форме сама императрица — но получила в ответ совсем другое: забыв, с кем разговаривает, он бросил ей горькие упреки, обрисовал непостоянство ее поведения ярчайшими красками и предсказал самые фатальные последствия этого шага. Меня уверяли, что эти слова были для императрицы чувствительны, но они не привели к изменению изложенного плана. Зорич с увеличенной пенсией, огромной суммой живых денег и вдобавок семью тысячами крестьян для своих поместий собирается уезжать. Его преемник, Корсак, не будет объявлен до его отъезда: импульсивность характера Зорича делает небезопасным для любого мужчины известность в таком качестве, пока Зорич остается в стране. И двор, и город заняты только этим событием, и я вынужден сообщить, что оно всколыхнуло много неприятного и чернит в глазах иностранцев репутацию императрицы и уважение к империи»{694}.
Екатерина выказала Потемкину благодарность за то, что он представил ей (может быть, «доставил ей» было бы более точно) двадцатичетырехлетнего Римского-Корсакова, которого она описала как ангела, похожего на греческую статую. Она часто называла его «Пирр, царь Эпира»{695}. Какое-то время она думала снова вызвать Завадовского, в особенности после того, как Григорий Орлов высказался о вреде быстрой смены фаворитов для ее репутации, но смуглый красавчик Римский-Корсаков оказался слишком притягательным, чтобы устоять. К двадцать шестому мая императрица вернулась из Царского Села в Петербург, все еще не до конца оправившись от своего недомогания и размышляя, не станут ли теперь проблемы со здоровьем образом жизни, так как она приблизилась к пятидесятилетию. Великий князь, по словам Джеймса Харриса, стеснялся поведения матери и замкнулся в себе. 1 июня 1778 года Римский-Корсаков был назначен генерал-адъютантом императрицы. Такой ранг обычно занимал официальный фаворит. Завадовского, вместо того, чтобы восстановить в фаворитах, вернули на службу в администрацию — в область, где лежал его истинный талант. Таким образом, Екатерина смогла сохранить лояльность и дружбу трех своих бывших любовников: Завадовского, преданно работавшего на нее много лет; Григория Орлова, каковой, несмотря на вспышки гнева и упреки, оставался постоянным сторонником женщины, которой помог занять место на троне; и Григория Потемкина, который был ее самым надежным другом и наперсником — а может быть, время от времени и любовником, возможно, и мужем. Удержать любовь этих мужчин, каждый из которых был по-своему выдающимся, причем часто в условиях соперничества, было немалым достижением. Двор вернулся в Царское Село вечером 8 июня. Бурная личная жизнь Екатерины все еще оказывала неблагоприятное воздействие на ее здоровье, и в воскресенье, 10-го, головная боль была настолько сильной, что после посещения литургии она три часа вместо обеда проспала. Затем оделась, посетила парад гренадерского полка и отправилась на прогулку вокруг Большого пруда, хотя головная боль еще досаждала ей. На следующий день ей стало лучше, хотя голова оставалась затуманенной. 21 июня Екатерина с горечью пожаловалась Гримму на смерть Вольтера:
«Увы! Могу только написать вам о сожалении, которое я почувствовала, прочитав ваше письмо № 19[47] До сих пор я надеялась, что слухи о смерти Вольтера ложны, но вы уверили меня в их правдивости, и у меня сразу же наступила реакция — обычный душевный упадок. Я почувствовала огромное презрение ко всему в мире. Май — фатальный для меня месяц: я потеряла двух людей, которых никогда не видела, но которые любили меня и которых уважала я — Вольтера и лорда Чатема[48]. Их никто не заменит, особенно первого, очень, очень долгое время, может быть, никогда, и для меня они — непоправимая потеря; я плачу внутри»{696}.
В ужасе от запрета римской католической церкви хоронить Вольтера в освященной земле Парижа, Екатерина укоряла Гримма — лишь отчасти в шутку, — что он не сообразил удрать с телом великого человека в Россию, дабы похоронить его тут. Теперь же она просила приступить от ее имени к переговорам о покупке Вольтеровской библиотеки — состоящей примерно из семи тысяч томов, переплетенных в красный сафьян и подписанных владельцем, — а также всего, что существует из его бумаг, включая собственные письма Гримма. К концу июня Иван Римский-Корсаков прочно утвердился как фаворит, а Семен Зорич уехал. Екатерина почувствовала, что ее здоровье и психика полностью восстановились, и написала Потемкину: «Благодаря тебе и царю Эпира я весела как жаворонок и хочу, чтобы и ты был весел и здоров»{697}. Если с Зоричем Екатерина и Потемкин обходились как с игрушкой, к более молодому Римскому-Корсакову они относились почти как к своему ребенку. Екатерина даже называла его «дитя». Однажды летом она сказала Потемкину, что «дитя» попросило ее поцеловать Потемкина в губы, если тот приедет в его отсутствие{698}. Едва ли удивительно, что собственный ребенок Екатерины, великий князь Павел, с трудом терпел эти отдающие инцестом отношения. Нельзя, впрочем, сказать, что он переносил ее отношения с Потемкиным много легче — особенно после того, как последний, не сумев добиться расположения Павла, бросил эти попытки как пустую трату времени и попросту перестал замечать его. Как выразился Джеймс Харрис, «с великими князем и княгиней Потемкин и его приближенные обращаются так, будто они несущественные персоны. Павел чувствует это пренебрежение, но он слишком слаб, чтобы сопротивляться даже на словах, и тем более не осмеливается на большее»{699}. Теперь, когда личная жизнь, с ее точки зрения, была улажена, Екатерина могла всем сердцем вернуться к делу. 17 августа она написала Гримму сердитое письмо о недавнем нападении американского капера на ее торговые суда:
«Знаете, что устроили мне противные американские судовладельцы? Они захватили несколько торговых судов, вышедших из Архангельска. Они совершили эти очаровательные делишки в июле и августе, но я серьезно обещаю вам, что в этом же году они дорого мне заплатят за вмешательство в торговлю Архангельска — я ведь не братец Г. [то есть король Георг III]: никто не смеет задевать меня безнаказанно. Они могут делать что им угодно братцу Г., но не мне! Я подпалю им пальчики. Я рассердилась, очень рассердилась»{700}.
Неделей позже, продолжая рассуждения о поступке американцев, Екатерина написала Гримму об отгрузке скульптур и других товаров из Рима:
«Я еще не получила ни одного ящика или пакета с мрамором и прочим, приобретенным монсеньором Райффенштайном по заказу монсеньора Шувалова, который как раз находится здесь [это был Иван Шувалов, бывший фаворит императрицы Елизаветы], — потому что фрегаты, отплывшие из Ливорно, еще не прибыли. В результате нет и остальных прекрасных вещей, отправленных морем, и только Бог может спасти лоджии Рафаэля от бурь и от рук американских судовладельцев, на которых я ужасно сержусь, потому что они мешают торговле с Архангельском»{701}.
Это первое упоминание о лоджиях Рафаэля в переписке Екатерины и Гримма относится к росписям знаменитой галереи, созданной в XVI веке во дворце Ватикана архитектором Донато Браманте. Стены и своды галереи были расписаны учениками Рафаэля — по его рисункам и под его наблюдением. 1 сентября Екатерина получила копии этих рисунков, пришла в неописуемый восторг и решила, что должна воспроизвести эти лоджии для себя. Она немедленно написала Гримму, чтобы тот передал ее инструкции Иоганну Фридриху Райффенштайну — своему агенту в Риме:
«Я умираю, уверена, что умираю: с моря дует сильный ветер, самый ужасный, какой только можно вообразить; этим утром я отправилась в ванну, и кровь прилила к моей голове, а в полдень потолки Рафаэлевых лоджий упали мне в руки. Меня поддерживает только надежда. Прошу вас, спасите меня: напишите сразу же Райффенштайну, умоляю, попросите его достать копии этих сводов в натуральную величину, а также стен, и клянусь святым, Рафаэлем, я построю такие лоджии, сколько бы это ни стоило, и украшу их такой же росписью, потому что просто обязана видеть их в первозданном виде. У меня такое благоговение к этим лоджиям, этим потолкам, что я готова нести расходы по их строительству; у меня не будет ни покоя, ни отдыха, пока этот проект не осуществится. И если кто-нибудь может сделать мне маленькую модель строения, взяв точные размеры в Риме, городе образцов, я стану ближе к своей цели. Итак, богослов Райффенштайн может совершить выгодную сделку, если монсеньор барон Гримм этого пожелает. Признаться, я предпочитаю использовать вас, а не монсеньора Шувалова, потому что последний всегда сомневается во всем, и сомнения его таковы, что заставляют людей вроде меня мучиться больше всего на свете»{702}.
Впоследствии Райффенштайн собрал группу рисовальщиков для копирования стенной росписи на холст под присмотром австрийского художника Кристофера Антербергера. Этот проект реконструкции части Ватиканского дворца в Санкт-Петербурге был самым ярким примером желания Екатерины приблизить к себе эстетику мира. Преимущество такого образа мышления (и особенно образа действия) было двойным: правительнице не приходилось покидать империю, таким образом подвергая ее политической нестабильности и испытывая страх переворота в свое отсутствие, а произведения искусства становились ее собственностью — и заодно собственностью Российской империи — навечно. Вечером двадцатого сентября, в день двадцатичетырехлетия великого князя Павла, Джеймс Харрис играл в карты за столом императрицы в компании Потемкина и Алексея Орлова, который неожиданно приехал ко двору несколько дней назад. Харрис упомянул о напряжении между двумя мужчинами, а также об общем смущении среди остальных лиц, близких к Екатерине или к власти, при появлении графа Орлова. Все чувства, как он выразился, «скрывались с помощью самого изощренного притворства»{703}. Новый фаворит Екатерины, произведенный уже в ранг генерал-майора, оказался честолюбивым. Потемкин посоветовал Римскому-Корсакову стать камер-юнкером, но молодой человек решил, что этого недостаточно, и потребовал, чтобы его сразу же произвели в камергеры. Согласившись на его просьбу, Екатерина заодно назначила на такую же должность двоюродного брата Потемкина Павла — чтобы успокоить князя. Близости Екатерины и Потемкина редко угрожали ее отношения с другими фаворитами — временщиками. Если проводить параллель с двумя равно необычными любовниками XX века, Симоной де Бовуар и Жан-Полем Сартром, отношения Екатерины и Потемкина были им обоим совершенно необходимы, в то время как другие любовные приключения, в которых они оба участвовали, были случайными. Потемкин всегда оставался для Екатерины человеком, к которому она обращалась, испытывая нужду в совете или поддержке. Одна из записок, которую она послала ему в эти годы, гласит: «Очень благодарна тебе за приезд. Не можешь ли подойти на часок хотя бы на маленькую лестницу? Je voudrais Vous parler. [Хочу поговорить с тобой]»{704}. Тем не менее Екатерина не считала прочие свои влюбленности временными, каждый раз воображая, что уж на этот раз нашла нужного молодого человека для удовлетворения собственных сексуальных и эмоциональных запросов, и при этом втискивала юношу в роль, созданную для него ею и Потемкиным на последующие годы. Екатерина и Гримм вступили в переговоры о покупке Вольтеровской библиотеки с племянницей (и когда-то любовницей) философа мадам Дени, которая жила в его шато в Ферни. Назначенная цена составляла тридцать тысяч рублей плюс бриллианты и меха. Екатерина намеревалась купить не только библиотеку, но также и библиотекаря, Вагнера, — хотя приедет ли он с библиотекой в Петербург или останется во Франции на пенсии, было предоставлено решать ему. (В конце концов он решился на первый вариант.) Императрица занималась также детальным просмотром всех писем, полученных ею от Вольтера, и изготовлением с них копий: она хотела отослать свою часть переписки Гримму для каталогизации и включения в библиотеку. Екатерина жаловалась, что Фальконе (который, по ее мнению, по завершении работы уехал из Петербурга, не испросив у нее разрешения на отъезд) забрал с собой несколько писем, которые она одолжила ему. Гримму было однозначно запрещено делать копии с ее писем Вольтеру и перепечатывать любое из них. «Я недостаточно хорошо для этого пишу»{705}, — заметила Екатерина. Теперь в ее Эрмитаже имелось два бюста великого человека — работы Гудона и Коло. Она предпочитала гудоновский, изображающий философа без парика. «Вы знаете мою нелюбовь к парикам, — написала она Гримму, — ив особенности к бюстам в париках. Я всегда считала, что парики созданы специально для того, чтобы заставить людей смеяться»{706}. В середине октября Екатерина попросила Гримма приобрести для нее сто экземпляров нового издания работ Вольтера — чтобы разместить их в местах, которые считала подходящими для продолжения непрерывной кампании по образованию и просвещению ее народа (или по крайней мере верхнего эшелона ее подданных): «Хочу, чтобы они служили примером; хочу, чтобы их читали, учили наизусть, чтобы они питали мозги. Это поможет при формировании горожан, гениев, героев и авторов; разовьет сотни тысяч талантов, которые иначе будут потеряны во мраке ночи, невежества и так далее»{707}. Она задумывалась даже о воссоздании в Царском Селе дома философа в Ферни, но этот план не был осуществлен. Екатерина увлеклась Иваном Римским-Корсаковым, которого описала Гримму в восторженных тонах и с преувеличениями, явно противоречащими его природным совершенствам, если судить по его неважным живописным работам. Такие слова могли быть вызваны только безрассудной страстью:
«Страсть, страсть! Да понимаете ли вы, что этот термин вовсе не подходит для разговора о Пирре, царе Эпира, ловушке для художников, отчаянии для скульпторов? Chefs-d'oeuvre [венец творения] природы, он вызывает обожание и энтузиазм, монсеньор. Прекрасные объекты падают с пьедестала и разбиваются, как идолы перед ковчегом Бога, перед этой изумительной личностью. Когда Пирр берет скрипку, даже собаки следят за ним; когда он поет, птицы слетаются послушать, как было с Орфеем. Никогда не сделает Пирр грубого жеста или неловкого движения; он сияет, как солнце, он распространяет вокруг себя свет, и все-таки в нем нет ничего женственного, он настоящий мужчина, такой, каким по вашему представлению и должен быть мужчина. Короче, он Пирр, царь Эпира: в нем все гармонично, ничто не выбивается из целого. Это результат ценных даров, полученных от природы во всей ее щедрости, а не результат мастерства — все искусственное в десяти тысячах лиг от него»{708}.
Джеймс Харрис, который не был ослеплен любовью, дал фавориту императрицы совсем другую оценку, описав его «очень добронравным, но весьма глупым и абсолютно подчиненным приказам князя Потемкина и графини Брюс»{709}. К несчастью, Екатерина была не единственной женщиной, пораженной физическими чарами Ивана: графиня Брюс сама испытывала к молодому человеку то, что Харрис описал как «дикую страсть». Когда Екатерина впервые узнала об этом, она предупредила графиню — которая была также ее самой старой подругой и доверенным лицом, — и решила, что этого вполне достаточно. Музыкальная одаренность Ивана (которая будет унаследована его самым знаменитым потомком, композитором Николаем Римским-Корсаковым) заставляла Екатерину особенно сожалеть о собственной очень ограниченной тяге к музыке. «Все зависит от того, как человек устроен, ведь так? Я создана неправильно; я бы жизнь отдала за то, чтобы уметь слышать и любить музыку, но ничего не могу поделать — для меня это просто шум. Я выделила бы премию вашему новому медицинскому обществу для вручения любому, кто сможет изобрести эффективный способ лечения невосприимчивости к гармоничным звукам»{710}. Если Екатерине трудно было находить наслаждение в музыке, то с ее собачками у нее не было никаких проблем. Она узнавала каждую индивидуально, по лаю. Тридцатого ноября одна из ее маленьких борзых пыталась помешать ей писать письмо Гримму:
«Извините меня за то, что вся последняя страница очень плохо написана: я крайне стеснена в данный момент некой молодой красавицей Земирой, которая из всех Томассинов [то есть отпрысков, прямых потомков Сэра Томаса Андерсона] расположилась ко мне ближе всех и толкает меня, желая положить лапы на бумагу. Кроме того, она постоянно болтает со мной и тявкает, высказывая свои нужды, капризы и желания. По ней я вижу: мое предсказание о том, что Томасы однажды заговорят, близко в осуществлению. Эта надежда останавливает меня, когда я хочу потребовать от нее соблюдения дисциплины, из страха навредить или затянуть в расе освоение речи»{711}.
В конце года Екатерина с раздражением обнаружила, что ее переговоры с мадам Дени и даже ее просьба о присылке плана шато в Ферни были напечатаны во французских газетах. Она закончила свое письмо Гримму от двадцать пятого декабря весьма нелюбезно: «Так прощайте, в моей биографии не должны говорить, что я провела всю свою жизнь в переписке с вами»{712}. Несколькими неделями позже Екатерина рассказала Гримму, что Иван Шувалов стал религиозным фанатиком, и поэтому его помощью нельзя больше пользоваться при покупке новых картин. Он, например, не захотел предложить ей купить «Венеру» Тициана, потому что это было бы грехом. Шувалов превращался в инвалида, что Екатерина отнесла на счет проведения целых ночей на коленях в молитве. Она также просила Гримма пользоваться при чтении очками, что сама делала уже последние пять-шесть лет{713}. Третьего февраля в театре Зимнего дворца была поставлена опера Паизиелло «Le philosophe ridicule on Le faux savant» (называвшаяся по-итальянски «Gli astrologi immaginari», или «I filosofi immaginari»). Она звучала на итальянском языке, но зрители обеспечивались французским подстрочником. Екатерина продолжала восхищаться композитором, так как он один, похоже, был способен победить ее невосприимчивость к музыке. Либретто этойдвухактной легкой драмы Джованни Бертати рассказывало о самодовольном стареющем отце, двух его дочерях и поклоннике одной из них, некоем Джулиано, выдававшем себя за «знаменитого философа Аргафонтиду». Ария, которая больше всего нравилась Екатерине, вполне могла быть написана специально — так оно, вероятно, и было, — чтобы понравиться тому, кто обычно находит музыку «лишь шумом»: это была песня, в которую Паизиелло включил кашель в унисон с музыкой. Императрица нашла это замечательным и вполне достаточным, чтобы «умирать от смеха»{714}. Паизиелло получил за свои труды коробочку для нюхательного табака, а для жены — бриллиантовую веточку. Теперь Екатерина обсуждала с Гриммом практические шаги по доставке библиотеки Вольтера в Петербург. «Думаю, что в наше несчастное время тревог и раздоров[49], — писала она 5 февраля, — будет лучше послать ящики с библиотекой по суше до Любека, а затем от Амстердама до Петербурга морем, и далеко не одно несчастье может случиться с ними. В Любеке их заберут на один из наших кораблей»{715}. Гласность, окружившая покупку Екатериной вольтеровской библиотеки, привела к потоку слегка замаскированных умоляющих писем из Парижа: их авторы стремились восхвалить ее щедрость. «Но я пока воздерживаюсь от дальнейшей ее демонстрации»{716}, — прокомментировала она. Кроме того, вскоре императрица вступила в переговоры с третьим герцогом Оксфордом о покупке картин, принадлежавших его покойному деду, сэру Роберту Уолполу, приобретшему их для своей галереи в Хоктон-холле в Норфолке. Со временем Екатерина купила двести четыре из этих картин за удачную сумму в сорок тысяч фунтов. (В августе 1779 года за ними был отправлен фрегат из Петербурга.) Весной 1779 года великая княгиня Мария Федоровна ждала второго ребенка. Александр продолжал радовать бабушку, которая описывала его Гримму как «всегда веселого»{717} малыша и сообщала, что он уже начинает ходить и говорить. Единственное требование, которое, похоже, было необходимым, — это забирать у него куклу, когда он плохо с ней обращается. Второй ребенок задерживался с прибытием. 12 апреля Екатерина сетовала в письме Гримму из Царского села:
«Великая княгиня все еще не родила. Если она проходит дольше четырнадцатого, я решу, что вся когорта [медиков] не знает, о чем говорит, настаивая, что женщины носят беременность девять месяцев, и что в будущем они всегда должны добавлять: «за исключением отклонений матушки-природы»{718}. Через несколько дней Екатерина попросила Гримма поручить Райффенштайну заключить для нее еще одну сделку в Риме. На этот раз она хотела пригласить архитекторов.
«Ma si il signor marchese del Grimmo volio me faré un plaisir, будьте добры написать богослову Райффенштайну и попросите его найти для меня двух хороших архитекторов, итальянцев по происхождению и профессионалов, которых он наймет на службу Ее императорского величества всея Руси по контракту на много лет и которых отправит из Рима в Петербург как ящик с инструментами. Он должен не сулить им миллионов, но пообещать честную и разумную оплату; он должен выбрать честных и разумных людей, а не кого-то столь же трудного, как Фальконе, — с ногами, стоящими на земле, а не витающих в облаках. Пусть пошлет их ко мне, или к барону Фридрихсу, или к графу Брюсу, или к монсеньору д'Эку, или к монсеньору Безбородко, или к дьяволу с его бабушкой, если они доедут, потому что веемой архитекторы или слишком стары, или слишком слепы, или слишком медлительны, или слишком ленивы, или слишком молоды, или слишком бесполезны, или слишком велики, или слишком богаты, или слишком солидны, или слишком устарели… одним словом, они являются чем угодно, кроме того, что мне нужно»{719}.
Второй сын Павла и Марии Федоровны, Константин, родился наконец двадцать седьмого апреля, через шесть дней после пятидесятилетнего юбилея Екатерины. «Маленький шельмец заставил нас ждать с середины марта, — сообщила Екатерина Гримму, — но уж когда решил родиться, обрушился как буря, появившись за полтора часа… Итак, вот он, Константин, — такой же крупный, как первый, — и я теперь с Александром справа и Константином слева»{720}. Когда ее не окружали дети, ее окружали собаки: «Один из Томасов лежит частично на подушке позади меня и частично на моем плече. Обратите внимание, он не дает мне писать»{721}. С самого начала бедный малыш Константин не мог даже надеяться сравниться в глазах бабушки со своим образцовым братцем, которому было уже почти полтора года и который забирал все внимание Екатерины, как она рассказала Гримму в конце мая:
«Да понимаете ли вы, что, говоря со мной о монсеньоре Александре, потворствуете моей слабости? Я рассказывала вам раньше, что этот принц хорошо развивается, но теперь это не все: он начинает проявлять исключительный интеллект для ребенка своего возраста. Я теряю с ним голову, и малыш проводил бы со мной все дни, если бы ему позволили. Его настроение всегда ровное, потому что он здоров, и это настроение состоит из постоянного счастья, приветливости, тактичности, отсутствия страха и красоты купидончика. Этот ребенок радуется каждому, и в особенности мне. Я могу делать с ним все что захочу; он уже умеет ходить без посторонней помощи; когда у него режутся зубки, даже боль не меняет его состояния: он показывает, где болит, не прекращая улыбаться и шалить. Он понимает все, что ему говорят, и создал свой собственный, вполне понятный язык, используя знаки и звуки»{722}.
Александр преуспел также в покорении Паизелло, который использовал придворный оркестр, чтобы играть любимые песенки ребенка, после чего Александр благодарил музыкантов «на свой собственный манер». Константин, со своей стороны, пока еще не казался бабушке обаятельным. Она совершенно не принимала ребенка, пока не проявлявшего крепкого здоровья, коим Александр обладал с самого рождения: «Я не возлагаю больших надежд на монсеньора Константина… Это очень слабое существо; он плаксивый, угрюмый, не смотрит по сторонам, избегает света и убирает носик в одеяла, чтобы спрятаться от воздуха. Если он останется жив, я очень удивлюсь»{723}. Пятого июля Екатерина послала Гримму следующее сообщение о развитии Александра и об обучающей игре, в которую она сама с ним с удовольствием играет (из описания ясно, что родителей ребенка не лишали его общества, хотя они, конечно, не следили за его воспитанием):
«С утра я занималась законами, затем прибыли отчеты за день, затем в половине одиннадцатого явился монсеньор Александр. Говорят, что когда я причесываюсь, я заодно леплю из него смешную маленькую личность, которая делает все, что я хочу, и которая счастлива и дружелюбна, насколько позволяет возраст. Его испортили за те четыре дня, что мы не виделись, но сейчас все исправлено, к полному удовольствию мамы и папы (о, это вовсе не мало), которые не могли с ним справиться. Я говорила вам уже раньше и повторяю вновь, что очарована этим ребенком. Каждый день мы узнаем что-то новое — то есть из каждой игрушки делаем десять или двенадцать, и неизвестно, кто из нас двоих больше развивает свои таланты; удивительно, какими усердными мы становимся… После обеда мой малыш возвращается, если хочет, и проводит три или четыре часа в моей комнате. Часто на него не обращают внимания; если ему станет скучно, он может уйти, но такого еще не случалось»{724}.
В том же письме Екатерина попросила Гримма прислать ей недавно вышедшую книгу французского натуралиста графа Бюффона, «которая рассказывает, что мир существует 74 000 лет и просуществует еще 95 000. Я хочу знать, почему»{725}.[50] Вагнер, библиотека Вольтера, и модели лоджий Рафаэля уже находились на пути из Любека, и почти семидесятилетний Ринальди (один из архитекторов Екатерины, который становился «слишком старым») поправлялся после неудачного падения во время работы на стенах здания. 12 июля спектакль Паизиелло «Le philosophe ridicule» («Смешной философ») был поставлен во второй раз. (В прошлом месяце жена композитора прыгнула в пруд в Царском Селе от страха, что ее собирается атаковать лебедь.) Паизиелло достиг замечательных высот, создав мелодии, которые остались в памяти Екатерины, и она попросила сыграть спектакль снова через два дня, когда сообщила Гримму:
«Чем больше я смотрю его постановки, тем больше удивляюсь необычайности того, что он создает из тональностей и звуков. Даже кашель, например, становится мелодичным, и все наполнено гордым безрассудством, и непонятно, как этот музыкант овладевает вниманием органов, совсем нечувствительных к музыке — моих органов слуха. Когда я ухожу после спектакля, моя голова полна музыки; я узнаю и почти могу пропеть его композиции. О, сколь уникальна голова Паизиелло!»{726}
Она начала учить Александра читать, хотя он еще не умел говорить. Малыш уже узнавал букву «А». Следом они собирались учить другие гласные и слоги. В честь именин великой княгини был устроен маскарад, на котором Екатерина напела Паизиелло один из его мотивов. По этому случаю сэр (он стал им недавно) Джеймс Харрис при посредстве своего вновь приобретенного друга князя Потемкина (он уже оставил идею добиться прогресса через графа Панина) получил необычную возможность с глазу на глаз поговорить с императрицей об иностранных делах. Он описал это событие лорду Висконту Уэймоту:
«В понедельник, двадцать второго июля, на маскараде, данном в честь дня рождения великой княгини, через некоторое время после завершения Ее императорским величеством карточной партии, во время которой я помогал, монсеньор Корсаков подошел ко мне, пригласил следовать за собой, провел в личную гардеробную императрицы, представил меня и мгновенно исчез. Императрица предложила мне сесть и начала разговор сама, сказав, что после ее собственных дел наши она принимает к сердцу ближе всех других; что в последнее время они очень серьезно привлекали ее внимание; что она готова выслушать все, что я хочу сказать, и будет счастлива, если сможет устранить огрехи, которые, по ее представлениям, существуют в каждом плане, составляемом ею с пользой для нас… Она заверила, что если бы не имела намерения выслушать меня и не была особо расположена ко мне, она бы никогда не пришла на встречу со мной таким необычным образом. Поэтому она хочет, чтобы я говорил без утайки, а она внемлет и моим чувствам, и моим советам, если они у меня есть. Подбодренный таким образом, я изо всех сил попытался нарисовать перед нею настоящее состояние Европы в общем и положение Англии в частности… Наш разговор длился почти час. Она отпустила меня, когда было уже совсем темно, и яс трудом нашел дорогу через запутанные коридоры обратно в бальный зал»{727}.
23 августа Екатерина рассказала Гримму, что в опере Паизиелло не существует мелодии, которой она не знала бы наизусть, и она считает, что Паизелло, должно быть, колдун, раз способен вызывать любые чувства, какие пожелает{728}. Она также сообщила Гримму о прибытии нового архитектора, Чарльза Камерона: «В настоящее время я заполучила мистера Камерона, шотландца по национальности, по кличке Якобит. Он великий рисовальщик, взращенный на старине, известный по книге о древних банях. Мы моделируем с ним террасный парк с банями внизу и галереей наверху»{729}. Камерон заявлял, что он — прямой потомок Камерона из Лохьела, чьим гербом пользовался, но на деле он был сыном строителя-спекулянта из Лондона, который, когда Чарльз уехал в Россию, находился в долговой тюрьме. Как упоминала Екатерина, Чарльз опубликовал в 1772 году книгу по древним римским баням, которая и убедила Екатерину и ее посла в Лондоне, что стоит пригласить его в Россию — поработать на нее. Партнерство Екатерины с ее шотландским архитектором оказалось очень продуктивным. Планы, о которых она упоминала в письме Гримму, воплотились в Царском Селе в виде павильона Агаты и колоннады, которая стала известна как Камеронова галерея. Однако перво-наперво Камерон (которому вначале дали рабочее помещение над квартирой при оранжерее в Царском Селе, занятой садовником Джоном Бушем и его семьей) приступил к работе по перестройке комнат внутри Екатерининского дворца согласно планам императрицы. Сначала он работал над анфиладой из восьми комнат в северном конце дворца, известной как Первые покои. Они предназначались для великих князя и княгини и состояли из голубой рисовальной комнаты, китайского кабинета, приемной, зеленой обеденной комнаты, спальни, музыкальной комнаты, студии для рисования и резки по слоновой кости и комнаты для слуг. Екатерина одобрила результаты трудов Камерона — анфилада была закончена в 1782 году, — предпочитая его неоклассический стиль с приглушенными цветами и чувством пространства и симметрии барочным красотам Растрелли. Позднее Камерон работал над южным крылом дворца с еще двумя анфиладами — Четвертыми и Пятыми покоями, включавшими общие и личные комнаты императрицы. Екатерина также была довольна, что Райффенштайн нашел для нее еще одного архитектора, итальянца Джакомо Кваренги, который вскоре прибыл со своей женой. Императрица надеялась, что последняя станет доброй подругой жене Паизиелло. Ее письмо от 23 августа заканчивалось обычными похвалами старшему внуку, который по-прежнему оставался таким, какого она только могла желать:
«Но вот идет монсеньор Александр; я смастерила из него прекрасного ребенка. Просто удивительно: хотя он еще не умеет говорить, знания этого малыша на двадцать месяцев опережают возможности любого другого ребенка трех лет. Бабушка делает из него что хочет. Черт побери, он будет всеми любим. Я не ошибаюсь насчет этого: так как он весел и старателен, он способен расположить к себе с самого начала. До свидания, я должна идти играть с ним»{730}.
Пока Екатерина играла с Александром, Иван Римский-Корсаков пребывал в другом месте. Кажется, почти все при дворе, кроме Екатерины, знали, что «дикая страсть» графини Брюс с красивому молодому человеку не была заглушена надолго и что Ивана уговорили ответить. Так как графиня Брюс была ровесницей Екатерины — и ее старейшим другом, — у Римского-Корсакова не было даже того оправдания, что он увлекся более молодой женщиной. Похоже, единственное, что замечала Екатерина, — это что она часто не знала, где находится ее фаворит. В начале июля она сообщила Гримму, что «Пирр» немного приболел, но теперь выглядит еще более гордым и озорным, чем прежде (если это возможно). Детальное описание формальной стороны жизни при русском дворе того времени дано англичанином, архидьяконом Уильямом Коксом, который посетил Россию в качестве компаньона и учителя юного племянника герцога Мальборо, совершавшего пятилетний «Большой тур» по Европе. Кокса и его подопечного представил императрице сэр Джеймс Харрис. Это произошло 20 сентября 1779 года, в день двадцатипятилетия великого князя Павла. Новое лицо оставило следующую запись об означенном событии:
«На входе в гостиную стояли на часах два [вот так] пехотинца-гвардейца. Их форму составлял зеленый кафтан с красными обшлагами и пелериной, белым жилетом и бриджами; на них были серебряные шлемы, закрепленные под подбородком серебряной застежкой, украшенные пышным плюмажем из красных, желтых, черных и белых перьев. Внутри гостиной, у дверей коридора, ведущего в покои Ее величества, стояли два солдата из рыцарей-телохранителей — вероятно, являющихся самыми нарядными во всей Европе. На них были каски, как у античных воинов, с пышным плюмажем из черных перьев, и вся одежда выдержана в том же стиле: цепи и широкие пластины из чистого серебра поверх формы создавали вид удивительных доспехов, сапоги их были богато украшены тем же металлом. В гостиной мы нашли многочисленную толпу иностранных посланников, русской знати и офицеров в разнообразных мундирах, ожидающих прибытия императрицы, которая находилась на церковной службе в дворцовой часовне, куда мы также отправились. Среди удивительного стечения знати я заметил императрицу, стоявшую отдельно за перилами — единственное отличие, которым было отмечено ее место. Прямо вплотную за ней стояли великие князь и княгиня, а позади беспорядочная толпа придворных. Императрица постоянно кланялась и часто крестилась согласно правилам греческой церкви, проявляя набожность. Перед завершением службы мы вернулись в гостиную и заняли место возле двери, чтобы быть представленными при входе Ее величества. Наконец, около двенадцати главный распорядитель двора, дама гардероба, фрейлины и другие камер-фрау прошествовали по двое длинной чередой, объявив о приближении государыни. Ее величество вошла медленной, торжественной походкой с большой важностью, держа голову очень высоко, и постоянно кланялась направо и налево, проходя вдоль рядов. Она приостановилась на входе в большую гостиную и очень приветливо поговорила с иностранными посланниками, пока те целовали ей руку. Затем она сделала несколько шагов вперед, и нас отдельно представил вице-канцлер граф Остерман. Мы тоже имели честь поцеловать руку ее величества. Императрица по своему обыкновению была в русском наряде. Это было платье с коротким шлейфом и жилетом с рукавами до запястья, польского образца; жилет был из золотой парчи, а платье из легкого зеленого шелка; волосы были невысоко уложены и слегка припудрены, шляпа — обильно украшена бриллиантами; на щеки нанесены румяна. Она, будучи немного ниже среднего роста, производит величественное впечатление; лицо, когда она говорит, выражает и достоинство, и любезность. Она медленно прошествовала через гостиную к своим покоям и вошла туда одна. Великие князь и княгиня проследовали за императрицей до двери, а затем ушли в свою гостиную, где у них был собственный прием; так как мы еще не были им представлены на частной аудиенции, мы согласно этикету русского двора не могли последовать за ними. Великая княгиня опиралась на руку Его императорского высочества; они раскланивались с толпой на обе стороны, проходя по коридору, образованному ею»{731}.
Вечером, начавшись около шести часов, в Зимнем дворце состоялся бал, который тоже описал архидьякон Кокс:
«Великий князь открыл бал, идя со своей супругой в менуэте, по окончании которого Его императорское высочество вышел с другой дамой, а великая княгиня с другим джентльменом, с которыми оба протанцевали второй менуэт. Затем таким же образом, одному за другим, они оказали честь многим ведущим представителям знати, а несколько других пар танцевали менуэт в противоположных уголках зала. Менуэт сменили польские танцы, а за ними последовали английские народные танцы. В середине последнего танца в комнату вошла императрица: украшена она была богаче, чем утром, на голове ее красовалась корона из бриллиантов. При появлении Ее величества бал немедленно приостановили. Пока великие князь и княгиня с большинством знатных персон торопились выказать уважение своей государыне, Екатерина обратилась с несколькими словами к отдельным присутствующим, опустилась на сиденье, а когда танцы возобновились, вскоре ушла во внутренние помещения»{732}.
Там императрица села играть в макао с герцогиней Курляндской, графиней Брюс, сэром Джеймсом Харрисом, Потемкиным, графом Разумовским, графом Паниным, князем Репниным и Иваном Чернышевым. Кокс описывает дальше:
«По ходу вечера великие князь и княгиня подошли к императрице и постояли у стола примерно четверть часа. Ее величество время от времени начинала с ними разговор. Казалось, императрица уделяет картам очень мало внимания, общаясь дружески и с большой живостью с участниками игры как с людьми, близко к ней стоящими по рангу. Около десяти Ее величество ушла, и вскоре бал завершился»{733}.
Как объяснил архидьякон Кокс, по такому же сценарию проходил каждый «придворный день» — то есть воскресенья и праздники при дворе:
«Во дворце есть гостиная, в которой каждое воскресное утро и по значительным праздникам около двенадцати часов обычно собираются послы [sic!] и все иностранные посланники, которые однажды уже присутствовали тут и получили позволение посещать прием. Церемония целования руки императрицы иностранцами повторяется на каждом приеме в присутствии камергера, а русскими в другом помещении; последние при этом преклоняют колено; подобное же выражение почтения от первых не ожидается. Никакие дамы, за исключением домочадцев императрицы, на утренних приемах не присутствуют. В каждый приемный день великие князь и княгиня также устраивают прием в собственных апартаментах во дворце. По особым случаям, таким как ее день рождения или день рождения императрицы, иностранцам оказывается честь целовать руку Ее императорского высочества, но в обычные дни эта церемония опускается. Вечером приемного дня во дворце всегда состоится бал, который начинается между шестью и семью часами. В это время иностранные дамы целуют руку императрице, которая треплет им в ответ щечку. Ее величество, если только она не больна, обычно появляется около семи, и если общество не очень большое, играет в макао в бальном зале; великие князь и княгиня после танцев садятся играть в вист. Их высочества вскоре поднимаются, приближаются к столу императрицы, выказывают ей свое уважение, и затем возвращаются к своей игре. Когда собирается много гостей, императрица организует свою компанию, как я уже упоминал, в соседней комнате, которая открыта для всех, кто хочет присутствовать»{734}.
Кокса поразило великолепие и богатство русского двора, которое он отнес «на счет древней азиатской привычки к помпе вперемешку с европейской утонченностью». Он также описывает детали придворных одеяний и мужчин, и женщин:
«Придворное одеяние мужчин имеет французский фасон [то есть бриджи, длинный жилет и жакет, сшитый из золотой и серебряной ткани с шитьем и драгоценными или полудрагоценными камнями]; что касается дам, то это платье с нижней юбкой и маленьким кринолином; платье имеет длинные висящие рукава и короткий шлейф, отличающийся по цвету от нижней юбки. По моде зимы 1777 года в Париже и Лондоне дамы носят высокие шляпы и не ограничивают себя в использовании румян. Среди нескольких предметов роскоши, которые отличают русскую знать, ничто, может быть, не производит большего впечатления на иностранца, чем изобилие бриллиантов, сверкающих на всех частях одежды. В большинстве других европейских стран это дорогостоящее украшение (кроме нескольких самых богатых представителей знати) почти целиком принадлежит дамам; но при этом дворе мужчины соперничают с прекрасным полом в его использовании. Многие представители знати чуть не целиком усыпаны бриллиантами — этот ценный материал использован при изготовлении их пуговиц, пряжек, рукоятей клинков и эполет; шляпы часто, если можно употребить это выражение, вышиты несколькими рядами бриллиантов; бриллиантовые звезды на мундире совсем не выделяются»{735}.
Развязка отношений между Иваном Римским-Корсаковым и графиней Брюс наступила в октябре. В начале месяца императрица все еще счастливо не ведала о существовании проблемы в своей личной жизни. Третьего она пишет Гримму в обычном хорошем расположении духа, снова выражая восхищение своим старшим внуком и гордость за природу своих взаимоотношений с ним:
«Этот ребенок инстинктивно любит меня. Один мой вид успокаивает его. Он твердо придерживается того, что я ему сказала. Если он плачет и вхожу я, он прекращает плакать; если он счастлив, его счастье возрастает. Я говорю с ним на уровне его понимания; он уступает разумным доводам. На днях граф Орлов, увидев такое, удивился и заметил: «Это жеребенок, которому нет еще двух лет! Он не умеет говорить, но зато умеет слушать». Но ребенок этот не с каждым такой послушный. Что касается второго, то он пока еще ничто»{736}.
Неделей позже Римский-Корсаков был официально отставлен самой императрицей. Потемкин, решив, что ситуация не может больше длиться, и понимая, что тонкие меры будут неэффективны, организовал все так, чтобы Екатерина наткнулась на свою лучшую подругу и своего фаворита в компрометирующей позе, если не вообще in flagrante delicto (на месте деликатного преступления). После этого все выплыло наружу, и императрица поняла, что пара обманывала ее долгие месяцы. При поддержке Потемкина она с замечательной стойкостью пережила то, что должно было стать тяжелым ударом. Несколько дней она проболела, но отнеслась к сложившейся ситуации с характерным для нее великодушием по отношению к экс-фавориту, решив, как обычно, не тратить времени и эмоциональной энергии на сбежавшее молоко. Через Ивана Бецкого она сообщила Римскому-Корсакову о своем намерении обеспечить его будущее, поставив условием, чтобы он уехал, попутешествовал и со временем женился на ком-нибудь подходящем. Но высокомерный недоросль Римский-Корсаков был слишком переполнен собой и уверен в своих способностях очаровать любую женщину так, что она ответит ему благосклонностью. Он продолжал разрушать, не только отказавшись покинуть Петербург и сплетничая о своих сексуальных приключениях с императрицей, но предав и графиню Брюс: он вступил в связь с красавицей графиней Екатериной Строгановой, которая была так увлечена, что оставила ради него мужа и ребенка. Бедному графу Строганову ужасно не везло с женами: его первая жена, Анна, находилась в любовной связи с Никитой Паниным; они были на грани развода, когда она умерла. Даже Екатерина впала в ярость, и опасного молодого человека выслали в Москву. Графиня Брюс совсем потеряла голову; тоже лишившись своего положения при дворе, она последовала за Римским-Корсаковым в Москву. Но он больше не желал ее, и ей пришлось вернуться к своему многострадальному мужу, графу Якобу Брюсу. Ее дружба с Екатериной уже не восстановилась. Графиня Брюс умерла в Москве 7 апреля 1785 года. Екатерина отреагировала на это, послав письмо Гримму с типичным для нее великодушием и пониманием: «Невозможно не плакать по ней, если вы знали ее хорошо, потому что она была милой. Шесть или семь лет назад мне было бы гораздо больнее, потому что с того момента мы стали дальше друг от друга, чем были ранее»{737}. До того, как начать действовать после позорного поведения Римского-Корсакова, Потемкин подыскал другого молодого человека на место, дарящее благосклонность и любовь императрицы. Однако на этот раз Екатерина последовала своему собственному вкусу и выбрала двадцатидвухлетнего офицера конной гвардии по имени Александр Ланской. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, в которых этот торопливый выбор был сделан, он оказался одним из самых удачных решений Екатерины.
15. Императрица и император (1779–1781)
Если мне придется начать петь ему хвалы, я никогда не закончу.По мере нарастания количества лет и с появлением статуса бабушки изменилась реакция Екатерины на фаворитов. Хотя она все еще горячо ценила мужскую красоту и нуждалась в том, чтобы иметь рядом любящего и любимого друга, особое внимание уделялось теперь не сексу (который, может быть, никогда и не играл такой уж важной роли в ее отношениях, как любили представлять современники и более поздние комментаторы), а педагогике и желанию разделить с человеком свои артистические и архитектурные наклонности. Потребность обучать и воспитывать и себя, и других всегда была решающей компонентой сущности Екатерины, но появившиеся внуки будто освободили в ней дополнительный очаг энергии, чтобы «сделать что она хочет» из любимых мальчиков возле нее — и внуков, и фаворита. Хотя по всем воспоминаниям Александр Ланской не был особо одаренным или талантливым, он стал в то время идеальным товарищем для Екатерины, потому что обладал выдающимися способностями к обучению — жаждал учиться и очень быстро усваивал информацию (что обычно и определяют термином «развитие»). У него оказалось большое количество родственников, которые были рады обретенному богатству и статусу — потому что его положение неизбежно приносило выгоды им тоже, — и он, похоже, любил и уважал Екатерину, а она любила его. Он, несомненно, принес ей счастье и стабильность. Он вроде бы даже рад был смириться с местом Потемкина в центре жизни Екатерины и в качестве отцовской фигуры по отношению к себе. К концу 1779 и в начале 1780 года Екатерина была очень занята разработкой планов инспекционной поездки, которую решила совершить в мае и июне. Она намеревалась проверить, как работает на практике ее Губернская реформа 1775 года, осмотреть новые территории, приобретенные Российской империей в результате разделения Польши в 1772 году, и повстречаться с Иосифом II, императором Священной Римской империи, правящим совместно с матерью, Марией Терезией. Как она объяснила Гримму, сожаление вызывало лишь одно:Екатерина II по поводу Иосифа II
«Правда, монсеньор Александр не обрадуется моему отъезду, но что я могу поделать? Когда он покидает мои покои по собственному желанию, он совершенно счастлив, но если я ухожу от него, он громко плачет и пишет мне письма из своей комнаты; если он болеет, он посылает за мной. Когда я прихожу, он оживает, что бы с ним ни было. Он очень необычный ребенок; он состоит из инстинктов: те, кто не следил за ним, не верят, что он весь из духа или воображения, но я утверждаю, что он будет крайне редким сплавом из инстинктов и знания; он уже знает больше, чем другой ребенок в четыре-пять лет. Кроме того, его особенно задевают аналогии, и опять именно мне приходится объяснять их ему; так как я всегда нахожу для него простые причины и никогда ни в чем не обманываю его, он считает, что ничего по-настоящему не знает, пока не узнает этого от меня»{738}.
В дополнение к работе над законодательством и подготовке к путешествию Екатерина составляла «Азбуку» правил поведения для детей. При этом она находилась под влиянием друга Гримма мадам д’Эпине, автора «Бесед с Эмили» — работы, где она описывает моральное воспитание своей внучки, используя стиль вопросов-ответов, которую применила и Екатерина.
«Она начинается с сообщения ребенку прямо, что он ребенок, рожденный голым, как рука, ничего не знающим, что все дети рождаются такими, что при рождении все люди одинаковы, но после обучения они становятся бесконечно отличающимися один от другого, и таким образом мы развиваемся от одного вопроса к другому, от максимы к максиме, как бы нанизывая нить жемчуга. Я имею в виду только две задачи: одна — раскрыть ум для понятий о предметах, другая — облагородить душу при формировании сердца»{739}.
После опубликования «Азбука» Екатерины имела успех. 25 июня 1781 года она сообщила Гримму, что двадцать тысяч экземпляров были распроданы в Петербурге за прошедшие две недели. Новость о том, что Екатерина и император Иосиф II планируют встретиться, вызвала в Европе, и особенно при прусском дворе, значительное беспокойство: как бы эта встреча не привела к переменам в российской внешней политике. Союз между дворами России и Вены уменьшил бы прусское влияние в России, и Фридрих Великий не был намерен позволить этому произойти. Сэр Джеймс Харрис считал, что ранней весной 1780 года Фридрих сделал попытку подкупить князя Потемкина, намекнув, что в ответ на поддержку Потемкина он устроит примирение между Потемкиным и великим князем, «чтобы застраховать [Потемкина] на случай передачи императрицей прав наследования, обеспечив безопасность его персоне, сохранение почестей и имущества, возможность лишения которых часто преследует его, и бывают моменты, когда он погружается в глубочайшую меланхолию»{740}. Но князь, так же как и императрица, был настроен на установление более тесных связей с Иосифом, считая, что это путь России к дальнейшей экспансии на юг, что важно в случае будущего конфликта с турками. И хотя Потемкин, несомненно, был озабочен возможным поворотом своей судьбы при правлении сына Екатерины, который вполне мог иметь причины для сведения с ним счетов, он не считал, что может доверить свою судьбу королю Пруссии. В конце апреля он отправился готовить встречу императрицы России и императора Священной Римской империи в Могилев — порт на Днепре, который стал частью Российской империи в 1772 году и был теперь центром Могилевской губернии. Перед своим отъездом Екатерина организовала для английского художника Ричарда Бромптона (который переехал из Англии в Россию по приглашению императрицы, после того, как она погасила все его долги) возможность написать портрет Александра. Задача была не из легких, так как двухлетний малыш не желал сидеть спокойно. Его бабушку рассмешил ответ ребенка на вопрос, как он вел себя во время написания портрета: «Не знаю, — ответил он, — я себя не вижу»{741}. 9 мая императрица выехала из Царского Села со значительной свитой — которая включала ее молодого фаворита Александра (или, как она его нежно называла, Сашу, или Сашеньку) Ланского, но не включала пропрусски настроенного Никиту Панина. Была запланирована тщательная инспекция вновь образованных губерний и вице-регентств. Высшие чиновники, которые были выбраны в правители и вице-регенты, старались устроить так, чтобы Екатерина получила самое благоприятное представление об их деятельности, но тем не менее, были видны и по-настоящему хорошие результаты. Во время всего путешествия она регулярно писала сыну и невестке, а они ей отвечали. Хотя корреспонденция часто содержала лишь обмен сведениями о состоянии здоровья и взаимные приветы, в письмах императрицы встречалось также много интересных деталей — Екатерина наверняка ожидала от Павла и Марии Федоровны интереса к тому, что казалось интересным ей самой. Никто из прочитавших письма не догадался бы, какие непростые личные отношения сложились в этой семье:
«Мои дорогие дети, не буду ничего рассказывать об отъезде, так как не хочу подробно останавливаться на печальных вещах; первые три версты были очень грустными, но сообщу лишь, что я прибыла на место к четырем часам в добром здравии. Говорю об этом, потому что знаю: вам будет приятно слышать это. Прошу вас тоже оставаться здоровыми и радоваться друг другу, ожидая моего возвращения; целую обоих и деток, особенно моего Александра. До свидания, очень вас люблю»{742}.
Из следующего письма, написанного через день после отъезда, ясно, что Павел и Мария Федоровна также поторопились написать императрице, как только та уехала:
«Мои дорогие дети, ваши письма, полные нежности, подействовали на меня отравляюще и оживили сожаления из-за того, что мне пришлось покинуть вас. Будьте уверены, я люблю вас всем сердцем и очень ценю ваши чувства ко мне. Несколько дней у меня было очень тяжело на сердце, но я не сказала об этом ни слова из боязни усилить вашу печаль. Я видела ваши слезы и часто с трудом сдерживала свои. Я буду стараться побыстрее соединиться с вами. До свидания, мои дорогие дети; целую вас, а также деток своих детей; Бог благослови вас и храни в добром здравии»{743}.
10 мая в восемь часов вечера Екатерина прибыла в Нарву (теперь северо-восток Эстонии). На следующий день она сообщила Павлу и Марии Федоровне, что ее секретарь Александр Безбородко искал курьера с трех часов утра, и прокомментировала, что Нарва, вероятно, величиной с Париж, так как люди в ней легко теряются. Во время путешествия у Екатерины сложилась привычка посылать членам своей семьи подарки местного производства, и из Нарвы она выслала материал на платье Марии Федоровне и коробку игрушек для «моего дружка монсеньора Александра»{744}. К концу этого дня она чувствовала себя очень усталой — и раздраженной, так как хозяйка настояла на прислуживании ей за столом, и вокруг толпились люди. О жене доктора она написала: «Я была в ужасе из-за того, что она собирается протирать мои тарелки ревенем, как они протирают их чесноком»{745}. Она также заметила, что «местные красавицы настолько уродливы, что могут испугать — желтые, будто уже умерли, и тощие, как старые клячи»{746}. Заключение в письме сыну и невестке гласило: «Да сохранит вас Бог от семи, а то и восьми женщин Нарвы за вашим столом за обедом. Они так горячо дышали на меня, что я не ощущала прохлады — хотя тут так же холодно, как и у вас»{747}. 13 мая Екатерина была в Гдове на реке Гдовка (узнав о ее приезде, Гдов потребовал статус города), который не нашла особо интересным, так как он был малонаселен. Затем, в девять вечера, она прибыла в древний город Псков, который, как она заявила, очень похож на Новгород. По пути она отобедала, как написала Павлу и Марии Федоровне,
«…с княгиней, соленой, как ветчина — буквально и без преувеличений соленой. Вот как эта свинцовая субстанция была обнаружена: когда я покидала эту особу, она пришла поцеловать мне руку, и я приложилась к ее щеке. Затем, когда шталмейстер вел меня вниз по лестнице и мы беседовали, у меня возникло странное ощущение, будто мои губы присыпаны солью. Смеясь, я сказала об этом. Он посмотрел на меня и увидел белый налет на моих губах. После того, как я села в карету, мадемуазель Энгельгардт несколько минут вытирала меня и с трудом сняла эти гадкие свинцовые белила с моих губ. Если муж княгини имеет привычку целовать ее, он должен постоянно испытывать жажду»{748}.
17 мая, в воскресенье, Екатерина была в Острове, получившем статус города в 1777 году и расположенном на реке Великая примерно в тридцати четырех милях к югу от Пскова. Императрица нашла город, расположенный на холмах и окруженный распаханными полями и деревнями, очень красивым. Она сообщила Павлу и Марии Федоровне, что после встречи с «соленой княгиней» ее дамы всегда держат наготове стакан воды, дабы убирать с ее лица все следы, которыми ее награждают люди. После посещения литургии в Острове императрица со свитой направились в Опочку, еще в сорока шести милях (или около того) к югу, где они провели ночь. На следующий день путешественники прибыли в Долосцы в Белой России (теперь Беларусь). Екатерина сообщила об этом регионе Павлу и Марии Федоровне:
«Вокруг все живут в полной мешанине — православные, католики, униаты, евреи и так далее. Русские, поляки, финны, немцы, курляндцы — нет двух людей, одетых одинаково, которые говорили бы на одинаковом языке правильно или точно. Это смесь людей и языков, как в городе Вавилоне»{749}.
19 мая Екатерина прибыла в Полоцк на реке Двина. Она сообщила Павлу и Марии Федоровне, что тут много поляков — это едва ли удивительно, так как до раздела 1772 года этот город принадлежал Польше, — и продолжила, дав образец обычных антисемитских предубеждений:
«В настоящий момент я равно отстою от Петербурга и от Москвы. Весь день было жарко, и теперь гремит гром. По прибытии я увидела нечто, чего никогда не видела прежде — иезуиты, доминиканцы и так далее, а также евреи, выстроились на парад. Последние ужасно грязные. Другие представляют величественный маскарад. Прощайте, сейчас я измотана, и мои глаза устали от мерцания свечей. Я в полном порядке, как и вся моя свита; целую вас и ваших деток, люблю вас всем сердцем»{750}.
20 мая Екатерина осмотрела Полоцк, заехав при этом в иезуитскую семинарию и церковь, где присутствовала на процессе принятия обета. Она заметила по поводу встречи со своими подданными-иезуитами: «У них тут очень красивая церковь. Они сказали мне все возможные приятные слова на всех возможных языках, кроме тех, которые я понимаю»{751}. Через три дня императрицу и ее свиту принимал Семен Зорич — который был теперь в роли расточительного (и задолжавшего всем) экс-фаворита — в своем поместье в Шклове на реке Днепр. Оставалось всего двадцать пять миль до Могилева, назначенного местом встречи с Иосифом II, который путешествовал под псевдонимом «граф Фалькенштайн». На последнем этапе путешествия два правителя включились в гонку — каждый пытался первым попасть в Могилев. Екатерина объяснила Гримму: «Когда [монсеньор Фалькенштайн] узнал, что я сократила свое путешествие на четыре дня, дабы попасть туда раньше него, он начал передвигаться днем и ночью и обогнал меня на два дня»{752}. Екатерина прибыла в Могилев в воскресенье 24 мая, и они с Потемкиным организовали так, чтобы «граф Фалькенштайн» ждал в ее резиденции, пока она вернется с литургии. Несмотря на первоначально нервное состояние — ибо для нее было очень важно произвести хорошее впечатление на этого весьма могущественного монарха, — император сразу понравился Екатерине, и она написала Павлу и Марии Федоровне после первой встречи: «Он любит поговорить, он образован, он хочет, чтобы все чувствовали себя при нем легко. Никто не знает, как он выглядит, пока не увидит его: портреты совсем на него не похожи»{753}. Когда Екатерина нервничала, она потела; эту беду усиливала влажная погода в Могилеве. «О, как тут жарко, о, как я потею! Все сказали, что я прекрасно владела собой, никто не мог заподозрить, как я смущалась, — ноя очень рада, что графиня Чернышева держит возле моей спальни бочонок с водой. Первое, что я сделаю завтра утром, — залезу в него»noopener noreferrer">{754}. Одна из привычек императора немедленно получила одобрение императрицы. Он, оказывается, был еще более умеренным и организованным в жизни, чем она: «Он ест один раз в сутки, рано отправляется спать и рано встает, ест все, что ему дают, и пьет только воду»{755}. Он, видимо, был крайне говорлив, так как Екатерина постоянно замечает: «Он любит поговорить и очень много знает»{756}. По крайней мере, он не был «гороховым супом»! У него была одна особенность, которую Екатерина намеревалась учесть через несколько недель, во время его визита в Царское Село. Император Иосиф имел особое пристрастие к гостиницам и тавернам, поэтому Екатерина распорядилась переделать один из банных павильонов Царского Села в гостиницу, завершив преобразование вывеской, а ее садовод Джон Буш был переодет хозяином постоялого двора. В качестве последнего штриха это эрзац-заведение было названо «Герб Фалькенштайна». Польстило ли это Иосифу, развеселился ли он или был обманут, нигде не отмечено. А тем временем в Могилеве между беседами («Он говорит уверенно, и что знает — знает очень хорошо; он любит разговаривать, и с ним нетрудно с первой же встречи, которая заставила меня попотеть»{757}) два монарха посетили церковь. Иосиф дважды присутствовал на православной литургии, а Екатерина сопровождала его на католическую мессу, о которой сказала Павлу и Марии Федоровне, что там меньше «декорума», чем при православной службе. Ее последующий отзыв Гримму, однако, проливал совсем иной свет на вещи: «Монсеньор де Фалькенштайн и я слушали католическую мессу епископа Могилева с участием иезуитов, экс-иезуитов и большого количества верующих и неверующих персон. Мы смеялись и шутили больше, чем слушали, — он в качестве гида, а я в качестве глупого зеваки»{758}. Они также заложили краеугольный камень в основание новой православной церкви, которую собирались строить из камня и где должен был сохраняться текст в память об их встрече. Со временем тут поднялся собор святого Иосифа, построенный Скоттом Адамом Менелозом по проекту Николая Львова. (Собор был разрушен в советское время, на этом месте теперь отель.) Екатерина и Иосиф покинули Могилев тридцатого мая, отправившись вместе в шестиместном экипаже, чтобы провести ночь в Шклове, откуда они на следующий день выехали в Смоленск. Тут, в городе, который принадлежал русским с 1654 года, Екатерина ощутила себя в большей степени дома, чем в недавно приобретенных владениях:
«Тут совсем по-другому, чем в Богом забытых городах Белой России. Окружающие виды очаровательны, город живописен, собор великолепен. Монсеньор Фалькенштайн находит его более красивым, чем тот, что в Киеве. Начата постройка множества каменных строений… Я довольна этим местом»{759}.
Даже погода в Смоленске была лучше. Она также написала Павлу и Марии Федоровне: «Не переживайте, разговор с монсеньором Фалькенштайном не доставит вам никаких хлопот. Он очень интеллигентный человек, вы найдете его весьма знающим. Он доставит гораздо меньше неприятностей, чем король Швеции, поверьте мне»{760}. Для знати Смоленска был дан бал, во время которого Екатерина и Иосиф отсутствовали несколько часов: они осматривали город и его окрестности. В восемь часов утра четвертого июня они расстались. Иосиф в сопровождении Потемкина поехал нанести визит в Москву, а Екатерина отправилась в обратный путь в Царское Село, где император собирался присоединиться к ней во время празднования дня святого Иоанна Крестителя — 24 июня. Путешествие из Смоленска было неприятно жарким и очень пыльным. Обратный путь Екатерины, на котором ее, похоже, мало что интересовало, проходил через деревню Пречистое, Великие Луки на реке Ловать, Порхов на реке Шелонь, Мшагу и Новгород. Она вернулась в Царское Село двенадцатого июня, очень довольная поездкой. Та укрепила ее веру в безмерную пользу, которую принесло присоединение к Российской империи простым подданным. Годом позже она с восторгом напишет Гримму:
«Должна пересказать вам любимую поговорку ливонцев, возникшую после того, как они перешли под власть России: теперь в провинции стало больше серебра (и изделий из него), чем раньше было меди. И в Белой России то же самое. Их земли лучше обрабатываются и поднялись в цене; тот, у кого раньше не было избы, строит ее; у кого она была — благоустраивает, и так далее»{761}.
В должное время «граф Фалькенштайн» прибыл в «Герб Фалькенштайна» для участия в праздновании дня святого Иоанна Крестителя, который был также годовщиной битвы при Чесме. В этот день он посетил освящение Чесменской церкви на полпути между Царским Селом и Петербургом и посвятил ее Святому Иоанну Крестителю (краеугольный камень был заложен Густавом III во время его визита в 1777 году). Таким образом, Екатерина была уверена, что двум иностранным монархам зримо напомнили о великой русской морской победе. Построенная Юрием Фельтеном, эта характерного облика, красная с белыми полосами церковь была возведена так, чтобы напоминать беседки и павильоны Босфора. Иосиф покинул Царское Село и вернулся в Вену 10 июля, после того, как познакомился с великими князем и княгиней и пробыл несколько дней с Екатериной в Петергофе. Через две недели Екатерина описала некоторые свои впечатления от него Гримму. Они были чрезвычайно положительными:
«Если бы мне пришлось начать петь ему хвалы, я никогда бы не закончила; у него самая здравая, самая основательная, самая образованная голова из всех, кого я знаю: ей-богу! любому, кто захочет обогнать его, придется вставать очень рано. Мой знаменитый союзник посетил торжественную службу, проведенную во успокоение души Вольтера; я, веря, что его душа уже успокоилась, не последовала его примеру, потому что не люблю повторять то, что уже сделано, и потому, что не следует обижать живущих чрезмерной любовью к мертвым… Монсеньор де Фалькенштайн сказал мне, что слышал о вас тысячу добрых вещей; я ответила ему, что прошу поверить мне: то, что он слышал о вас, правда. И еще, сеньор, музыка Паизиелло очень пришлась ему по вкусу; думаю, что из всех искусств музыку он любит больше всего, и к тому же в ней у него самые глубокие познания»{762}.
В конце лета и с началом осени императрица приняла еще двух визитеров. Оба послужили укреплению доброго впечатления, которое произвел на нее император Иосиф, и усилению ее решимости заключить союз между дворами Петербурга и Вены. Первым прибыл пятидесятилетний Карл Иосиф, принц де Линь, который имел репутацию одного из умнейших людей Европы. Император намеренно прислал его в Петербург своим представителем, зная, что это — именно тот тип человека, который и развлечет, и очарует императрицу. И действительно, 7 сентября она описала принца де Линя Гримму как «одного из самых приятных и легких в общении людей, каких когда-либо встречала»{763}. В том же письме она уведомила Гримма о благополучном прибытии картины Антона Рафаэля Менгса «Персей и Андромеда» и высказала свои мысли о том, как по-разному люди могут воспринимать живопись:
«[Андромеда] в течение двух недель находилась в моем Эрмитаже, выставленная на обозрение тех, кто знает, как смотреть, и тех, кому нужно четверть часа, чтобы разглядеть все, что стоит разглядывания. «Великие люди знают все, ничего не изучая», — говорит пословица. Ей-богу, тут равно много людей, которые смотрят и не видят, и таких, кто все видит мгновенно»{764}.
Она продолжила рассуждения заявлением, что пора прекратить закупать живопись в таких объемах: «После картин, приобретенных у мистера Дженкинса, я больше ничего покупать не буду, и всем моим знакомым запрещено присылать каталоги или предлагать мне что-либо, потому что у меня нет больше денег»{765}. Иногда трудно сказать, кто являлся движущей силой при приобретении картин, Екатерина или Гримм. Один пришпоривал другого — и в то же самое время пытался нажать на тормоза. В одном письме Екатерина упрекает Гримма за критику того, что она желает слишком многого — «Не могу простить вам обвинения в ненасытности к прекрасному»{766} — и за попытку заставить ее продолжать тратиться — «Почему вы хотите, чтобы я покупала всю живопись подряд?»{767} Другой посетитель, прибывший ко двору Санкт-Петербурга тем же летом, не встретил такого теплого приема, как Иосиф II и принц де Линь. Озабоченный необходимостью восстановить свое влияние, пошатнувшееся из-за возобновления дружеских отношений России с Габсбургами, Фридрих Великий делегировал к русскому двору своего представителя в лице племянника и наследника, тридцатишестилетнего принца Фридриха Вильгельма. К несчастью для замыслов короля, решение Екатерины заключить союз с Австрией и ее личная антипатия к «тяжелому» прусаку, так отличающемуся от обаятельного и умного де Линя и разговорчивого Иосифа, привели к тому, что она едва смогла вести себя с ним вежливо, не демонстрируя, однако, ни малейшего расположения. Принц Фридрих Вильгельм был двадцать шестого августа приглашен ко двору Потемкиным и Паниным и официально принят императрицей на следующий день. Сэр Джеймс Харрис немедленно доложил об этой встрече:
«Его беседа с императрицей, имевшая место вчера утром с пышными церемониями и соблюдением этикета, была, как мне кажется, мало удовлетворительной для обеих сторон. Он показался ей тяжелым, скрытным и неловким, а ее прием поразил его холодностью и формальностью, не оставляющими никаких надежд. Вечером была сделана еще одна попытка, и императрица, находясь в своем Эрмитаже, где она обычно делалась очень разговорчивой, замечала его не больше, чем требовали приличия»{768}.
Екатерина не только обращала мало внимания на прусского принца — она отступила от обычной манеры своего поведения, чтобы продемонстрировать отсутствие интереса к нему, отказавшись устроить для него прием при дворе и внезапно прервав игру в карты, потому что больше не могла сидеть рядом с ним. Абсолютно игнорируя необходимость быть дипломатичной, Екатерина однозначно явила антипатию к несчастному принцу — хотя они с Потемкиным вполне могли намеренно разыграть эту партию, чтобы разозлить прусскую группировку при дворе, представленную наиболее ярко графом Паниным, который теперь, когда Екатерина и Потемкин сами занимались иностранной политикой, быстро терял силу и влияние. Через несколько дней императрица приказала графу Панину, чтобы он как можно скорее спровадил прусского принца домой, потому что «она чувствовала, что если он останется дольше, она может сказать ему что-нибудь грубое»{769}. Екатерина прекрасно понимала, что ее поведение будет с интересом отмечено при всех дворах Европы. Она отправила недвусмысленное послание не только королю Фридриху — что дни его влияния при российском дворе закончились, — но также императору Иосифу — что Берлин определенно лишился благосклонности российской императрицы, а Вена ее обрела. Чтобы подчеркнуть это, Екатерина вела себя совсем иначе с представителями Иосифа и постоянно расточала хвалы его послу графу Кобенцлу и принцу де Линю. Двадцать четвертого сентября при дворе состоялся маскарад, на котором императрица присутствовала с семи до десяти. Она использовала сэра Джеймса Харриса в качестве буфера между собой и прусским принцем, попросив его стоять возле нее, чтобы держать скучных персон на расстоянии. Столь явный знак расположения заставил других иностранных посланников отнестись к сэру Джеймсу очень подозрительно, что вдвойне раздражало британского посла, так как в англо-русских отношениях не было ни малейших улучшений — внимание к нему императрицы было сугубо личным. Принц де Линь уехал в конце сентября, а двадцать девятого числа того же месяца сэр Джеймс доложил: «Его королевское высочество наметил отъезд на следующую субботу. Он подарил графу Панину свой портрет в кольце, закрывающийся одним бриллиантом, и передал генерал-майору Потемкину коробочку для нюхательного табака и кольцо, богато усаженное бриллиантами»{770}. Подарки Екатерины прусскому принцу были «менее щедрыми», чем обычно, и состояли из «четырех кусков золотой и серебряной парчи, сорока фунтов ревеня и такого же количества чая»{771}. Все вместе стоило около восьми тысяч рублей. Принц Фридрих Вильгельм уехал первого октября. Как только Екатерина попрощалась с ним, она отправилась в постель с простудой, которая мучила ее уже два дня, хотя второго поднялась. В этот день сэр Джеймс подвел итог визиту принца:
«В поведении Екатерины не было заметно ни малейшего изменения до самого конца. Она демонстрировала постоянное отвращение и скуку в присутствии своего знатного посетителя, а при разговорах с ним расценивала его таланты и способности по самому низшему уровню. Несмотря на множество могущественных друзей, которых он и его партия имеют тут, он, к моему удовольствию, ни в чем не преуспел, что бы ни предпринимал; а что он подтвердил, а не ослабил, — так это высокое мнение, сложившееся у императрицы о графе Фалькенштайне. Он подорвал позиции своего дяди еще больше вместо того, чтобы восстановить их. Князь Потемкин не захотел даже, чтобы его племянница устроила ему ужин. Короче, он уехал недовольным и возмущенным»{772}.
Месяцем позже Екатерина все еще ворчала по поводу прусского принца:
«Клянусь вам: заставив меня терпеть такую скучищу, он значительно усилил ревматические боли в моей руке, которые начали слабеть сразу же, как он уехал. Когда у человека настолько обременительный племянник, не следует присылать его сразу вслед за такими людьми, с какими мы познакомились в Могилеве: только подумайте, мы [то есть Екатерина и Иосиф] сейчас в переписке, и я также получила письмо, сладкое, как мед, от Мамы [то есть императрицы Марии Терезии]»{773}.
Но переписка с Марией Терезией была кратковременной, так как та умерла восемнадцатого ноября, оставив Иосифа II единственным правителем Габсбургских доминионов[51]. Екатерина послала три соболезнующих письма со специальным курьером, и третьего декабря сэр Джеймс Харрис доложил, как это известие приняли при русском дворе: «Чрезвычайной и всеобщей сенсацией выглядит здесь новость о смерти императорствующей королевы. Этот факт куда лучше живописует чувства и расположенность Ее императорского величества, чем когда-либо удалось бы рассказать мне»{774}. Переговоры по заключению союза между двумя империями скоро возобновились. Иосиф предложил оборонительный союз. Екатерина также надеялась на австрийскую помощь против турок в случае еще одной войны (потому что, настаивала императрица, турки постоянно нарушают условия Кучук-Кайнарджийского договора). Британский посол, все еще отчаянно пытающийся добиться активной поддержки русских в американской Войне за независимость, обрабатывал Потемкина, чтобы получить личную встречу с императрицей. Седьмого декабря Потемкин сказал сэру Джеймсу, что Екатерина согласилась принять его на следующий день:
«Он посоветовал мне быть откровенным, открытым и прямым. «Ибо, — сказал он, — она сверхпроницательна, и если почувствует какую-либо несообразность или уклончивость — заподозрит, что вы неискренни. Дайте ей понять, что вы не пользуетесь другим оружием, кроме правды и справедливости, что вы исходите из этих принципов и из любви к своей стране. Льстите сколько хотите; вы не сможете переборщить с елеем; но льстите ей в том, чем она может стать, а не в том, что она есть»{775}.
Итак, восьмого декабря сэр Джеймс был проведен одним из камердинеров императрицы через заднюю дверь в ее личные апартаменты. После встречи он записал разговор, который велся, конечно, по-французски. Сэр Джеймс начал со слов: «Я пришел, чтобы указать вашему императорскому величеству на критическое положение наших дел. Ваше величество знает о нашем доверии. Мы осмеливаемся льстить себя надеждой, что Ваше величество отведет шторм и излечит нас от страха потерять вашу дружбу»{776}. Императрица ответила: «Вы знаете, монсеньор, мою расположенность к вашему народу: он столь же искренен, сколь и постоянен. Но я встретила так мало взаимности с вашей стороны, что, чувствую, больше не могу числить вас среди моих друзей»{777}. Затем сэр Джеймс попытался убедить императрицу, что ее сомнения по поводу британцев — результат махинаций со стороны врагов Англии, особенно французов и — среди ее собственного двора — графа Панина. Он предпринял смелый шаг — сообщил ей, что ее министр находится в сообщничестве с французским послом. Она ответила очень сердито: «Не воображайте, что это что-то значит. Я давно вижу монсеньора Панина насквозь; его интриги на меня больше не действуют; я не ребенок, и никто не остановит меня, если я хочу что-либо сделать»{778}. Сэр Джеймс продолжил в том же ключе. Он рассказал Екатерине, что Панин абсолютно предан королю Пруссии и служит скорее его интересам, чем интересам собственной императрицы. Позднее, после того, как Екатерина выразила готовность выступить в качестве посредника и помочь Британии заключить мир (что было вовсе не тем результатом, которого хотел сэр Джеймс), он сказал:
«Манера, в которой Ваше императорское величество только что высказались, трогает меня; Вы достойны нашего полного доверия и пользуетесь им по праву; мы никогда не перестанем доверять Вашему величеству — но боимся довериться Вашему министру, которого я считаю своей обязанностью представлять своему двору таким, каков он есть. Полагаю, Ваше императорское величество позволит мне заметить, что если мне придется объясняться с ним, он предаст меня или доведет до Вас весьма неточное толкование моих слов»{779}.
На это императрица ответила: «Ничего не сообщайте ему иначе, чем в письменном виде. Тогда он не сможет ничего извратить. Если он попытается скрыть от меня правду, я отстраню его»{780}. Часть проблемы Екатерины при общении с англичанами — даже с таким привлекательным представителем расы, как сэр Джеймс, — заключалась в их манерах и в том, что они явно не воспринимали Российскую империю как великую, каковой она сама ее считала. И поэтому она заявила: «Послушайте, мой дорогой Харрис, я говорю с вами искренне и ожидаю, что вы составите очень серьезное сообщение своему двору. Но если после всех наших бесед я встречу то же равнодушие, ту же негибкость, что имеют место сейчас, тот же тон превосходства по отношению ко мне — не ждите от меня помощи»{781}. После этой аудиенции Потемкин посоветовал сэру Джеймсу, как ему следует вести себя с императрицей. Совет этот демонстрирует, что Потемкин или целиком разделял предрассудки своего века о женщинах, или тайно посмеивался над британским послом и его надеждами на помощь:
«Ради Бога, не стесняйтесь льстить ей — это единственный путь к ее расположению. У нее настолько высокое мнение о вашей нации, что ваш комплимент проникнет глубже, чем заученная фраза любого другого посланника. Она не нуждается ни в чем, кроме похвал и комплиментов. Дайте ей это — и взамен получите всю силу ее империи». Таковы, мой лорд, собственные слова князя, и они содержат весь секрет этого двора»{782}.
Первые недели 1781 года Потемкин и Екатерина проболели — первый вообще слег в постель, а Екатерина страдала от озноба и ревматизма (который вернулся, несмотря на отсутствие «тяжелого прусского принца»). Через два месяца она описала свои страдания Гримму:
«Знаете, когда вы лежали, вытянувшись, в своей постели в Вене, тут все было печально. Ваш скромный слуга ужасно мучился ревматизмом в левой руке, который лечится только шпанской мушкой, заставляющей утихнуть страшную боль, и даже теперь движения этой руки все еще не совсем свободны, особенно во время штормов, которые в этом году очень часты»{783}.
Обычно в медицине испанская мушка (или cantharides) использовалась для образования нарыва или водяных пузырей. Она также известна как опасное и, вероятно, неэффективное средство, возбуждающее половые органы; и возможно, что некоторые непристойные слухи, циркулировавшие о Екатерине в ее более поздние годы, могли возникнуть из злонамеренной дезинформации по поводу использования ею этого средства. К концу 1780 года из разных источников распространились сведения о Григории Орлове — о том, что и он, и его молодая жена больны и путешествуют по Европе, тщетно ища исцеления. Гримм написал Екатерине о том, что узнал:
«Я очень расстроен из-за рассказов о князе Орлове. Говорят, он вверил себя английскому доктору, осевшему в Брюсселе — шарлатану, которого никто не знает. Этот человек дает ему средства, способные убить лошадь. Он принимает их, ему каждый раз становится хуже, но он продолжает… Говорят, что он очень изменился, и я огорчен этим»{784}.
Естественно, Екатерина всполошилась. Но следующее послание, которое она получила, сообщало, что Григорий посетил Гримма, и ему намного лучше. Однако его жена оставалась очень больной (она болела туберкулезом), хотя выглядела довольно хорошо. Она возлагала надежды на некие таблетки, способные помочь ей завести ребенка. Несмотря на употребление в Брюсселе знахарского средства, Григорий был в достаточно хорошем состоянии, чтобы поддразнить своего старого спарринг-партнера — высокомерную княгиню Дашкову, которая оказалась там со своим шестнадцатилетним сыном. Он сказал молодому человеку — который вскоре собирался ехать в Петербург, — что тот обладает нужными качествами, позволяющими занять место фаворита императрицы. Княгиня пришла в ужас, когда князь Орлов бесстыдно намекнул на любовные дела императрицы — о которых она ничего не знала, — и заставила его рассказать о них. Он, конечно, выложил все без прикрас и без утайки. Через пять месяцев жена Григория умерла в Лозанне, и два ее брата приехали забрать безутешного вдовца в Россию. Графу Панину тоже нездоровилось, хотя он оставался в постели скорее от отчаяния из-за недавних событий в русской иностранной политике, чем по причине нездоровья. Что касается Потемкина, то он продолжал болеть до середины февраля. Британский посол находил это чрезвычайно неудачным:
«Мой друг болен и в постели. Его недуг проистекает лишь из странного образа жизни, и пока он его не изменит, не приходится ожидать, что его конституция будет иметь право на хорошее здоровье. Так как его дух и нрав всегда влияют на самые разные события, его болезни естественным образом прерывают развитие дел — особенно из-за того, что прекращаются посещения императрицы, а она, как и ранее, не приходит к нему»{785}.
Зато в отчетах сэра Джеймса теперь все чаще выходит на передний план тот, о ком у Екатерины было еще более высокое мнение, чем у английского посланника. Это ее личный секретарь Александр Безбородко, попавший к ней на службу одновременно с Петром Завадовским по рекомендации фельдмаршала Румянцева. Сэр Джеймс сообщал лорду Висконту Стормонту:
«Граф Алексей Орлов высоко оценивает его способности и неподкупность, и называет его другом Англии. Князь Потемкин весьма откровенно информировал меня о росте его влияния и посоветовал быть к нему внимательнее. Эти мотивы достаточны для моих частых в последнее время встреч с этим джентльменом, который пока что во всем прекрасно соответствует данным ему характеристикам»{786}.
Кроме изумительной памяти, Безбородко обладал образованностью и эрудицией, разбирался в литературе и живописи. Все это очень высоко ставило его в глазах Екатерины. Он был ужасно уродлив, поэтому не возникало и мысли о его физической привлекательности для императрицы — хотя при этом не мешало ему доставлять себе удовольствие множеством сексуальных связей. Безбородко тесно сотрудничал с Екатериной при подготовке переговоров с Австрией, которые в конце февраля споткнулись о неожиданную преграду. Когда договор подписывался двумя коронованными особами, существовала общая практика следования «переменному» протоколу, по которому составлялись две идентичные копии договора. На одной копии монарх А ставил свою подпись над подписью монарха В, а на другой — монарх В расписывался над монархом А. Но Иосиф, настаивая на своем превосходстве в качестве императора Священной Римской империи, отказывался следовать процедуре. Екатерина держалась с такой же твердостью, не собираясь быть младшим партнером. Она написала Потемкину:
«Если Кобенцл говорит тебе, как он часто это говорит, что не может быть равенства между императором и русской императрицей, тогда, пожалуйста, вели ему отбросить эту чушь, которая ведет дело к непреодолимой остановке, и скажи, что мой принцип — не занимать чье-либо место, но также не уступать своего»{787}.
В итоге дело застопорилось на несколько недель. Тем временем Никита Панин прибегал к отчаянным мерам, чтобы вернуть утраченное влияние. Сэр Джеймс Харрис сообщал, что он тратит целые ночи на подметные письма, «рассчитанные на поражение врагов и возвышение друзей»{788}. Он также заявлял, что эти письма — копии с якобы написанных австрийским министром графом Кобенцлом или самим сэром Джеймсом, перехваченных на почте. Как правило, едва перехваченное послание копировали и переводили, оригинал возвращался на почту для отправки, так что никто не мог бы доказать, что «копии» — фальшивки. Однако сэр Джеймс также сообщил, что Екатерина знает о проделках Панина:
«Императрица, похоже, полностью лишила его своего доверия, и хоть все еще слушает его темные инсинуации, поскольку он обладает искусством хорошо выражать свои мысли, что отвечает ее склонностям, — все-таки она делает почти все дела министерства иностранных дел сама — лично или через своего секретаря»{789}.
Более чем через год сэр Джеймс сообщил лорду Грантему подробности унижений, которые он вынес от графа Панина.
«Он обвинил меня (и заставил поверить в это великого князя) в том, что я пытался сжечь русский флот. Он обвинил меня в намерении отравить великих князя и княгиню вместе с детьми, попытавшись убедить их, что некоторые герани и другие равно безобидные растения, которые я послал великой княгине, ядовиты»{790}.
23 апреля сэр Джеймс доложил, что граф Панин вскоре уедет из столицы на несколько недель, дабы посетить свое имение в Смоленской губернии. Это тактичное отстранение произошло не без учета его интриг в связи с проектом брака младшей сестры Марии Федоровны, Элизабет, которая, не желая того, стала залогом в австро-прусской борьбе за влияние при русском дворе. Екатерина предложила, чтобы Элизабет вышла замуж за племянника и наследника Иосифа II эрцгерцога Франца, но Панин — при полной осведомленности Павла и Марии Федоровны — агитировал вместо этого за ее свадьбу с прусским принцем. Он заручился поддержкой Фридриха Великого, и была организована секретная помолвка Элизабет и молодого принца Генриха Прусского (сына Фердинанда), которому было всего десять лет, в то время как Элизабет было четырнадцать. Екатерину держали в полном неведении относительно этого плана, чтобы подорвать ее политику и разрушить ее виды на Элизабет. Но вскоре все обнаружилось, и понятно, что интриганы были напуганы. Сэр Джеймс выразил свое мнение, что недовольство императрицы и ее удивление
«…безусловно, выросли необычайно, когда вся интрига раскрылась — когда она обнаружила, что граф Панин с самого начала предал ее; что именно он без конца побуждал короля Пруссии выдвинуть своего племянника; что ее собственные дети и ее собственный министр действовали в союзе против нее. Мне было бы легко сразу разжечь это пламя; но я убежден, что большая реакция наступит, когда факты будут говорить сами за себя, и очень скоро никакая хитрость или выдумка не предотвратят ответных действий. Граф Панин поторопился скрыться, хотя великие князь и княгиня уговаривали его остаться. Их опасения усиливаются по мере приближения курьера из Монбийяра [то есть из семьи великой княгини], и они боятся остаться один на один с императрицей перед лицом неминуемой бури»{791}.
Несмотря на все усилия Панина и без его ведома Екатерина и Иосиф преодолели свой тупик, согласившись на тайный обмен письмами вместо подписания официального договорного документа. 24 мая 1781 года, через год после того, как два государя встретились, Екатерина подписала в Царском Селе свое письмо Иосифу. Соглашение обязывало стороны к взаимопомощи, тем самым страхуя российские владения в Европе на срок до восьми лет, и обещало вооруженную поддержку в случае любого нападения извне. Самым важным для Екатерины и Потемкина было то, что Австрия взяла на себя обязательство поддерживать Россию в ее отношениях с Оттоманской империей. Очень немногие знали об этом соглашении; большинство считало, что переговоры распались по причине «альтернативного» протокола. Сэр Джеймс высказал свое смущение 8 июня:
«Признаюсь, милорд, я иногда думаю, что по поводу этого договора существует какая-то тайная и непостижимая сделка между императрицей и императором, неизвестная никому, кроме них. Различные обстоятельства убеждают меня в этих подозрениях. Я пытаюсь по мере возможности докопаться до правды, хотя она скрыта глубоко, и не знаю, через какие каналы можно ее добыть»{792}.
Сэр Джеймс также доложил, что Екатерина в конце концов преуспела в осуществлении своих замыслов по поводу брака юной Элизабет: «Я понимаю так, что король Пруссии оставил свои претензии относительно молодой княжны Вюртембергской очень лестным для императрицы образом и что она вполне довольна им»{793}. К 25 июня сэр Джеймс узнал, что происходит. Его информатором стал доверенный секретарь Александра Безбородко — и он считал, что никто, кроме Безбородко, Потемкина и самой императрицы, не знал об этом. В донесении, передающем эту новость, сэр Джеймс держится очень самоуверенно:
«Два властителя империй вполне могут сослужить нам службу, но их добрую волю нужно купить различными способами. Император будет прислушиваться ко всему, что может послужить развитию и безопасности его империи; к предложениям, которые могут помочь ему достичь серьезных преимуществ и истинной славы — одним словом, к языку мудрости и здравой политики. Но характер великой леди, возле которой я имею честь служить, совсем другого свойства. Чтобы угодить ей, мы должны постоянно приносить жертвы ее тщеславию, избегать возражений ее мнению, одобрять то, что предлагает она, обожать ее умственные способности, уважать ее величие, разыгрывать равное доверие ее возможности и склонности помогать нам; и, отдавая должное выдающимся качествам, которыми, по ее мнению, она обладает, заставлять ее действовать так, будто она действительно ими обладает»{794}.
Екатерина и разозлилась, и развеселилась из-за такой оценки — особенно потому, что сэр Джеймс озвучил слова, вложенные в его уста хитрым Потемкиным, — и привлекла внимание посла к списку достижений периода ее правления, который она, как обычно, составляла к годовщине восшествия на престол. 28 июня того же 1781 года Александр Безбородко — ее «мастер на все руки», как она называла его, — представил ей внушительный перечень (который она должным порядком переслала Гримму). Перечень представлял двадцать девять местных правительственных районов, образованных согласно новой системе, сто сорок четыре новых города, тридцать соглашений и договоров, семьдесят восемь военных побед, восемьдесят восемь «памятных эдиктов по поводу принятия законов или учреждения чего-либо», а также сто двадцать три «эдикта с послаблениями народу» — всего четыреста девяносто два достижения. И это не учитывая достижений в области живописи, архитектуры и музыки{795}. Внуки не были заброшены Екатериной в этот период. В тот самый день, когда было отослано письмо Иосифу II, она написала Гримму, вложив набросок:
«Вот так [Александр] одевается с тех пор, как ему исполнилось шесть месяцев: его одежда сшита в одно, надевается одним махом и застегивается сзади четырьмя-пятью маленькими крючочками. Костюмчик украшается снаружи и очень удобно сидит на ребенке. Король Швеции и принц Пруссии просили и получили копию костюма монсеньора Александра. В нем нет никаких завязок, и ребенок даже не чувствует, что его одевают; ручки и ножки вставляются в костюм одновременно — и одевание мгновенно завершается. Этот костюм — моя гениальная находка, и я хочу, чтобы вы знали об этом. Я должна также сообщить вам, что оба ребенка быстро растут и обещают стать высокими, а моя методика прекрасно работает. Бог знает, чего только не вытворяет старший: он говорит, рисует, пишет, копает, фехтует, ездит верхом, делает двадцать игрушек из одной, имеет удивительное воображение и без конца задает вопросы. На днях он захотел узнать, почему в мире существуют люди и каково его собственное назначение в мире и на земле. Я не знаю, что ответить: в голове у этого ребенка рождаются мысли исключительной глубины, и все-таки он остается беззаботным. Я очень стараюсь не заставлять его делать что-либо: он делает что хочет; ему не позволяется только пораниться самому или поранить других»{796}.
Младший брат Александра, Константин, бросил вызов опасениям своей бабушки, выжив в детстве, и теперь она находила его гораздо более привлекательным. «Что касается брата [Александра], — сообщила она Гримму, — необычайная живость Константина не позволяет ему сконцентрироваться на чем-либо, но у него очень умные глазки; более того, у него личико Бахуса, что составляет прекрасный контраст со старшим, которого скульптор мог бы использовать в качестве модели Купидона»{797}.
Узнав, когда детей можно безопасно привить от оспы, Екатерина решила, что правильным временем будет ранняя осень 1781 года, когда Александру исполнится почти четыре, а Константину будет около двух с половиной лет. Поэтому она снова пригласила барона Димсдейла в Петербург, чтобы провести эту процедуру. Шестидесятивосьмилетний барон в сопровождении своей новой сорокавосьмилетней жены Элизабет прибыл в августе. Баронесса нашла для себя много интересного:
«Санкт-Петербург — гораздо более красивое место, чем я ожидала. По приезде он показался мне очень величественным, так как все его колокольни и шпили покрыты оловом и бронзой, а некоторые позолочены. Солнце заставляет их ярко сиять, образуя очень веселый вид. Дворец — изумительно красивое сооружение; огромное количество прекрасных зданий разбросано по центру города. Улицы в основном очень хороши, в особенности те, что ведут к Адмиралтейству; они, я думаю, имеют протяженность около двух миль, в основном вымощены, но некоторые еще в первичном состоянии. Виды на берегах реки Невы представляют собой самые оживленные сцены из всех, что мне приходилось видеть»{798}.
Джон Говард, реформатор тюрем, также находился в это время в Петербурге (он отклонил предложение представить его императрице, сказав, что прибыл не для того, чтобы знакомиться с великими людьми), и Димсдейлы неожиданно столкнулись с ним на Неве. Баронесса окликнула его; он подошел и сказал, «что вспомнил высказывание, услышанное от одного важного господина, который настолько был восхищен прекрасным проспектом, что посчитал его даже излишне великолепным»{799}.
Говард и Димсдейлы были вместе приглашены Иваном Бецким посетить Смольный институт. Похоже, мистеру Говарду понравилось все, что ему показывали, кроме того, что девочки пудрили волосы — он посчитал это негигиеничным. Гостей отлично угостили в институтской столовой: «На столе были сыр и сливки, черный хлеб и самое роскошное масло, какое я когда-либо пробовал с тех пор, как покинул Англию; мы все разделили эту трапезу из деликатесов; было очень приятно»{800}. Баронесса тоже оказалась под впечатлением: «Это благородное заведение доставило мне массу удовольствия своим идеальным порядком и хорошим управлением всеми сторонами жизни, а счастливое выражение лиц детей оставило у меня такие приятные воспоминания, что я, наверное, никогда этого не забуду»{801}. 16 августа Димсдейлы переехали из Петербурга в Царское Село, где намечалось сделать прививки. Они поселились на первом этаже Екатерининского дворца. Однажды баронесса высказала удивление тем, что классовые различия в маленькой английской колонии в Царском Селе не так резки, как в Англии. Больше других ей, похоже, нравилась компания врача императрицы, шотландца Джона Роджерсона:
«Мистер Буш из Англии, с которым я была знакома еще до того, как он приехал в Россию, нанес мне визит утром после моего прибытия и очень учтиво пригласил меня отобедать с ним, так как знал, что барон был приглашен на обед к императрице. Меня это немного расстроило, так как он был всего лишь садовником императрицы. Но все вскоре разрешилось: пришел доктор Роджерсон, который сказал, что услышал обо мне и будет обедать вместе со мной у мистера Буша. Я встретилась с несколькими знакомыми леди из Санкт-Петербурга, а когда мы сели за стол, вошел посыльный в зеленом с серебром и сказал, что если хозяева не спихнут возражать, в обеде хотели бы принять участие сэр Джеймс Харрис и императорский посланник [граф Кобенцл]. Они появились вскоре за посыльным, и я провела день очень приятно, посетив отличный английский обед. Миссис Буш и ее четыре дочери оказались весьма милыми, хорошими людьми»{802}.
После личного представления императрице баронесса Димсдейл описала ее как «прекрасно выглядевшую женщину, не такую высокую, как я, но весьма энергичную, с очень выразительными голубыми глазами и ласковым, умным взглядом»{803}. Она также записала свое мнение о Павле и Марии Федоровне, которым ее представили позже в тот же день, и о двух маленьких мальчиках:
«Князь — невысокий, некрасивый человек — сказал мне лишь несколько вежливых слов, а княгиня была очень добра. Она — женщина выше меня, с очень здоровым, свежим цветом лица, скорее красивая, примерно двадцати двух лет отроду. Два маленьких принца — дети красивые, нежные и умненькие»{804}.
Множество надзирателей и слуг следовало за детьми, куда бы они ни отправились играть:
«Они выходили в парк каждое утро, если погода была хорошей. Мы с бароном шли вместе с ними, и это была очень приятная прогулка — из-за двух дом, заботившихся о детях, миссис Гаслер и миссис Николс, сестер-англичанок, они очень милых и исполнительных. Лакеев и женщин более низкого положения, которые относятся к няням, около двадцати человек, и все они находятся рядом с принцами, когда те в парке»{805}.
В воспоминаниях баронессы есть также намек на то, что Александр и Константин, невзирая на усилия императрицы сформировать их по своему вкусу, были и остались отпрысками старого дома Романовых, как их отец и дед — с любовью к парадам и парадным мундирам:
«[Императрица] необычайно любит их и не может ни в чем им отказать, что бы они ни попросили, но ничто не радует их так, как солдатики и построения… Что касается принца Александра, говорят, он знает каждую офицерскую форму на императорской службе, и настолько хорошо, что просто удивительно»{806}.
Картина повседневной жизни в Царском Селе авторства баронессы Димсдейл включала описание того, как императрица проводит свое время и что она носит:
«Императрица поднимается рано, и очень часто после шести часов она уже в парке. Она ходит в кожаных туфлях, и несколько собак гуляют с нею. Обычно прогулка длится примерно до девяти. Затем, пока она одевается, в ее покоях читаются молитвы. У нее два парикмахера, она всегда носит большую белую шляпу, кроме особых дней, когда прическа спускается двумя боковыми локонами, а сверху пришпиливается вуаль в форме шапочки. Все лето она спит на кожаных матрасах, а ее ночной чепец — это платок, так как русские женщины неравнодушны к использованию платков: это старый русский предмет одежды»{807}.
Хорошая пища в изобилии водилась в Царском Селе. Баронесса сохранила в своих записях типичное обеденное меню:
«Бульон, рыба, отварная курица с цветной капустой; Зажаренная баранья или говяжья нога с картофелем; Маленькое блюдо с передней частью ягненка; Утка, курица и два бекаса (все в одном блюде); Хороший кусок гамбургской говядины; Котлеты и сосиски; Утка, тушеная с грибами; Раки, яблочные слойки; Семь тарелок десерта, апельсины, яблоки, груши, вишни, миндальное печенье, бисквиты, запеченные яблоки пипин и сыр пармезан»{808}.
Сама Екатерина ела мало, ограничивая себя скромными порциями не более трех-четырех блюд. Выпивала она один бокал рейнвейна или венгерского вина. Ужин для гостейрегулярно состоял минимум из семи горячих блюд. Баронесса была неравнодушна к стерляди (один из самых мелких видов осетра, русский деликатес), особенно когда ее подавали холодной в желе. По словам баронессы, именно по совету барона императрица не ела ужина и в результате меньше страдала от жутких головных болей, которые так беспокоили ее, когда она была моложе. Большинство фруктов, подаваемых в Царском Селе, были выращены в теплицах, по которым Джон Буш провел баронессу Димсдейл:
«Тут большое количество теплиц для выращивания различных фруктов, и я считаю, что лучшие дыни, какие я ела, — это выращенные мистером Бушем. Здесь также много арбузов, персиков и нектаринов, очень хороших, и, что меня удивило больше всего, огромное количество отличнейших китайских апельсинов. Обычно они не растут в России, а привозятся из какого-либо другого места. Мистер Буш показал мне основание строящейся теплицы длиной в восемьсот футов»{809}.
Александра и Константина привили 27 августа. Александр очень тяжело перенес прививку. Баронесса пояснила, что он «чувствует себя ослабевшим после проявления сыпи»{810}. Иногда в апартаменты Димсдейлов прибегал посыльный, заставляя их сильно волноваться, — но обычно оказывалось, что к ним явились с вопросом, можно ли Александру съесть апельсин, или с чем-то в этом роде. Когда союз между Россией и Священной Римской империей был заключен, Екатерина решила, что должна найти способ сообщить о нем своему пропрусски настроенному сыну. Если бы Павел получил от императора блестящее приглашение в Вену, он бы более лояльно отнесся к союзу и, может быть, был бы менее склонен уважать Фридриха Великого сильнее, нежели любого другого монарха — во всяком случае, так рассуждала его мать. Идея путешествия великого князя к венскому двору была, вероятно, выдвинута Иосифом, когда два монарха встретились в 1780 году, хотя Павлу ничего об этом не сообщили. Екатерина знала: любое предложение, исходящее от нее, сын воспримет с подозрением. Поэтому они с Потемкиным разработали интригу, чтобы заставить его решить, будто он сам пришел к этой идее. В качестве посредника императрица использовала князя Репнина — племянника Никиты Панина и человека, которому великий князь верил. Она пообещала ему достойную награду, если план сработает. Князь Репнин от всего сердца ответил на этот призыв и внушил великим князю и княгине сильное желание попутешествовать, распространяясь об удовольствии оказаться гостями и постоянно рассуждая о зарубежных государствах. В подходящее время от Иосифа II пришло письмо с приглашением и обещанием устроить для великой княгини во время путешествия свидание с родными. Волнуясь и побаиваясь, Павел и Мария Федоровна спросили графа Панина о его мнении. Поскольку не просочилось никаких свидетельств о том, что за планом стоит императрица, Панин не возразил. Наоборот, он попытался даже убедить Павла, что главной целью путешествия должен стать Берлин, а не Вена, а задачей — дальнейшее восстановление отношений с Пруссией, а не со Священной Римской империей. В середине июня великие князь и княгиня подали запрос императрице, которая получила его с «выражением удивления и тревоги»{811}. По словам сэра Джеймса Харриса,
«…[императрица] ответила, что они сильно смутили ее, поставив в ситуацию, когда, удовлетворив их просьбу, она на весьма долгое время лишает себя их общества, а отклонив ее, гасит в них жажду к познанию и обучению, чего она одобрить не может. После длительного разговора, в течение которого они настаивали на своей просьбе, она понемногу уступила их желанию. Было решено: они отправятся в путешествие, но на условии, что императрица составит план их маршрута и назначит им спутников»{812}.
Затем императрица представила великим князю и княгине свой маршрут и список сопровождающих (детали были, конечно, намечены заранее). Они попросили, чтобы друг Павла (и второй племянник Панина) князь Куракин был добавлен к списку, и это было сделано. Гораздо больше усилий пришлось потратить на то, чтобы уговорить императрицу согласиться на включение в маршрут Версаля. Но в уговорах позволить им посетить Берлин Павел и Мария не преуспели. Не помогло изменить ее точку зрения и обращение самого Фридриха, сделанное через посредство его представителей и доверенных лиц. Великие князь и княгиня должны были путешествовать под именами графа и графини Северных (это инкогнито рассердило короля Швеции, потому что казалось попыткой России распространить свое право на весь север Европы). Теперь граф Панин понял, что его обвели вокруг пальца, и решил использовать все свое влияние на великих князя и княгиню, чтобы отменить это путешествие. Сэр Джеймс описал состояние полной нерешительности, в котором оказались Павел и Мария Федоровна, и взаимосвязь колебаний их настроения с взаимоотношениями между ними и императрицей:
«До тех пор, пока граф Панин оставался здесь, настрой и предрасположение Их императорских высочеств страдали постоянными переломами. Когда курьер привозил им из Вены письма от императора, они настраивались на Австрию и радовались своему путешествию; когда с ними был граф Панин и передавал им наставления из Потсдама, их настроение менялось: они едва разговаривали с графом Кобенцлом и сожалели, казалось, что вообще собирались покинуть Петербург. После отъезда графа Панина в деревню все изменилось. Они окончательно собрались в Австрию, ни с кем не разговаривали, кроме графа Кобенцла и его жены, их переполняли мысли об императоре и Вене. И они никогда не были так сердечны с императрицей, как в этот период. Они были даже вежливы с князем Потемкиным и оказывали ему до некоторой степени свое расположение. Такое последовательное и приятное поведение, которое на деле сблизило их с императрицей и стало причиной их общения с ней в течение двух месяцев с сердечностью и любовью, неизвестными им прежде, окончилось с возвращением графа Панина»{813}.
Когда Панин приступил к работе по разрушению путешествия великих князей, императрица контратаковала. 2 сентября она издала приказ, согласно которому все дела коллегии иностранных дел передавались в ведение вице-канцлера графа Ивана Остермана — включая подпись всех актов и рескриптов, общение с иностранными посланниками и отслеживание иностранной корреспонденции. Остерман, несмотря на то, что был сыном дипломата, не интересовался этой работой и не стремился в область иностранных дел — соответственно, реальная власть в этом департаменте переходила в руки его заместителя, доверенного лица Екатерины и ее талантливого секретаря Александра Безбородко. Сэр Джеймс Харрис сообщил через несколько дней:
«Весьма странное и оскорбительное отстранение графа Панина было задумано императрицей примерно неделю тому назад, но она хранила свое решение в тайне до его прибытия, сделав отставку, насколько возможно, еще более постыдной для него. Все это было совершенно неожиданным; большинство считает графа Панина весьма искусным и слишком хорошо информированным человеком, чтобы подвергнуть его немилости и позору. Это стало большой сенсацией»{814}.
Сэр Джеймс провел вечер 9 сентября с графом и сообщил на следующий день, что Панин, похоже, оправился и продолжил свои интриги, уговаривая великих князя и княгиню, что, поехав в Вену, они «нанесут визит своему самому опасному врагу»{815}. Его собственная отставка оказалась только на пользу этим заверениям. Он также обрабатывал великую княгиню, описав ей опасность прививки. В результате она начала беспокоиться из-за расставания с детьми, когда они еще только пошли на поправку. С великим князем, которого он знал близко, Панин использовал другую тактику; Как пояснил сэр Джеймс,
«Он умудрился выведать секрет князя Репнина и открыл его великому князю: якобы добровольный акт Репнина оказался обдуманным заранее, глубоко проработанным планом других людей; это путешествие — возможность скрыть самые фатальные намерения; вероятно, существует замысел, чтобы Великий князь Павел никогда не вернулся в Россию; вероятно, у него отберут детей. И хотя граф Панин не доказал ни одного из этих фактов, он постарался, чтобы его предположениям и предположительной аргументации поверили. Он говорил об амбициозном и беспринципном характере князя Потемкина и тех, кто окружает императрицу (и даже сама она не избегла его критики). Затем он стал распространяться о том, что назвал явной понятливостью императора, заявив, что тот никогда не намеревался всерьез женить своего племянника на сестре великой княгини, и если бы та однажды оказалась в Вене, он мог бы располагать ею как захочет (и сказал еще такое, что даже шифром, даже через курьера, мое перо не может написать)»{816}.
Панин выполнил свою задачу, напугав подопечных так сильно, что в понедельник 13 сентября великие князь и княгиня объявили, что не уедут, пока их сыновья полностью не оправятся после прививки. Подразумевалось, что они вообще не поедут. В течение следующих трех дней никто не знал, состоится ли путешествие — включая свиту из шестидесяти сопровождающих лиц, людей, занимающихся лошадьми (около двухсот сорока лошадей требовалось на каждом этапе путешествия по Российской империи) и тех, кого отправили вперед готовить гостиницы. Сэр Джеймс Харрис заявил, что стал катализатором разрешения тупика — и может быть, осуществил последний толчок, необходимый Потемкину и Екатерине, чтобы настоять на путешествии. Хотя он, несомненно, имел раздутое представление о своей роли. Многие годы спустя, когда сэр Джеймс уже оставил Россию, Екатерина назвала его «путаником и интриганом»{817} и добавила: «Когда он ничего не запутывает и не интригует, он становится желчным». Сэр Джеймс прибыл в Царское Село в среду и нашел всех в состоянии паники. Посол провел некоторое время с Потемкиным, сосредоточив его внимание на том, что, как он понимает, для императрицы теперь отступить и позволить Павлу с Марией Федоровной отказаться от путешествия равносильно признанию победы Панина и концу отношений России с Веной и другими дворами, которые были намечены к посещению. Потемкин отправился навестить императрицу — и в течение часа все было решено. Павел и Мария Федоровна покинули наконец Царское Село вечером в воскресенье 19 сентября. Их провожали князь Орлов, князь Потемкин, граф Панин и большинство наиболее сановитых придворных, а остальные наблюдали из дворца — из окон баронессы Димсдейл. Княгиня проплакала весь день, прощаясь с Александром и Константином. К вечеру плакали уже почти все. Екатерина попрощалась с сыном и невесткой в своей прихожей и ушла навестить внуков, досадуя, что они стали причиной столь бурного поведения. Сэр Джеймс, осведомленный о деталях через своего наблюдателя, доложил, что при отъезде «осанка и манеры Марии Федоровны принадлежали не человеку, охотно и добровольно отправляющемуся в поучительное путешествие, а приговоренному к изгнанию. Великий князь был почти в том же состоянии. Сев в экипаж, он опустил занавески и приказал кучеру трогать как можно быстрее»{818}. На следующий день, который оказался двадцать седьмым днем рождения великого князя, Екатерина сместила Панина с поста старшего члена коллегии иностранных дел.
«Удар, хотя его и следовало ожидать, застал графа врасплох, и вкупе с разочарованием по случаю отъезда великого князя произвел на него крайне тяжкое впечатление. Примерно в семь часов того же вечера у него случился острый приступ внезапной лихорадки. Началось с головокружения. Скоро дело зашло так далеко, что речи его, становясь все бессвязнее, перешли в бред. В этом состоянии он оставался всю ночь; ему не полегчало, пока наука не исчерпала весь запас водяных пузырей, кровопускания и тому подобного. Затем он стал совсем вялым, и если бы природа не послала ему рожистое воспаление[52] на ноги, то вероятно, его унесла бы апоплексия»{819}.
16. Неудачи врачей (1781–1784)
Мне кажется, что как только кто-нибудь попадает в руки Роджерсона, он уже все равно что мертв.Почти в миле от Царского Села экипаж с великокняжеской четой вынужден был остановиться, так как Мария Федоровна потеряла сознание. Муж сказал ей, что если она не возьмет себя в руки, придется повернуть назад, так как он не вынесет эмоционального напряжения. Похоже, это произвело нужное действие, и Мария Федоровна успокоилась. По словам баронессы Димсдейл, чувство юмора пары восстановил англичанин. «Когда она потеряла сознание, кучер-англичанин сошел с облучка, опустил свою шляпу в воду, которая обнаружилась поблизости, и предложил княгине, что очень развеселило супругов. Этого кучера звали Кларк»{820}. Записка Екатерины, написанная великому князю и княгине по-русски (язык, который она приберегала для самых личных сообщений своему сыну) через день или два после их отъезда, делает ясным, что она не собиралась обсуждать обстоятельства, окружавшие их отбытие: «Было бы неуместным затрагивать ваши чувства, напоминая о расставании, — ведь для долгого путешествия вам больше чем когда-либо необходимы здоровье и бодрость духа»{821}. Она повторила выдумку о том, что никогда бы не санкционировала путешествие, если бы могла предсказать беду, которую оно накликает: «Если бы я могла предвидеть, что после отъезда [Мария Федоровна] три раза потеряет сознание и ее будут вести в экипаж под руки, то простая забота о ее здоровье в свете суровых испытаний заставила бы меня отменить свое согласие на это путешествие»{822}. Она также сообщила, что дети, которых она только что навестила, на пути к выздоровлению, и число прыщиков Александра продолжает уменьшаться. 25 сентября Екатерина вернулась в Петербург с внуками и Димсдейлами (которым был предоставлен собственный экипаж с восемью лошадьми). Баронесса описала сцены отправления и прибытия:Екатерина II — Григорию Потемкину
«В императорскую карету было впряжено десять лошадей (когда императрица садится в свой экипаж, рядом всегда находится человек в очень богатой одежде, пурпурной с золотым кружевом, который подставляет маленькую скамеечку, покрытую малиновым бархатом с золотой бахромой, ей под ноги; тем же порядком она выходит). Всего подготовили пятнадцать экипажей — некоторые с восемью, другие с шестью лошадьми… Все эти экипажи, лошади и толпы [sic!] народу стояли перед дворцом. Незадолго до отправления выстрелила сотня пушек. Играли трубы и другие инструменты; все вместе образовывало зрелище изысканное и грандиозное. Наш экипаж шел четвертым от императорского. При въезде в Санкт-Петербург собрались огромные толпы. Сильнейшее впечатление производила радости народа при виде императрицы и юных князей, которые находились в ее экипаже. Вечером город был иллюминирован, гремело грандиозное празднование»{823}.
На следующий день, в воскресенье, был совершен благодарственный молебен в честь выздоровления мальчиков после прививки, а вечером был дан бал. Баронесса Димсдейл описала наряд Екатерины по этому случаю, состоящий из «пурпурной легкой юбки с длинными белыми легкими рукавами до кистей»{824}. Екатерина привычно, как всегда во время таких событий, обошла игорные столы, чтобы поговорить с людьми, прося их не вставать при ее приближении. Баронесса также описала уход Екатерины: «Вскоре после десяти зашептались, что императрица уходит, и все мгновенно положили свои карты — образовался круг. Я сохранила прочное воспоминание о величии и обаянии, с которыми она покинула комнату, казалось, поклонившись каждому»{825}. Через два дня Екатерина разочарованно, даже гневно попеняла Гримму по поводу последней полученной партии картин, демонстрируя, что она отнюдь не всеядный собиратель, и что хранители, которые работают на нее в Петербурге, по крайней мере, настолько же компетентны, как и ее агенты в зарубежных городах:
«Одним из первых дел, которые я сделала [по возвращению в Петербург], стало ознакомление с тем, что адмирал Борисов привез мне из Италии. К моему громадному удивлению, кроме Менгса и нескольких других вещей все остальное, за исключением лоджий Рафаэля, оказалось дурной мазней. Я вызвала Мартинелли, художника, который следит за моей галереей, чтобы он отобрал мазню и отослал на аукцион в пользу городской больницы. О мой Бог! Невероятно, как священник [Райффенштайн]позволил одурачить себя на этот раз! Также прошу вас передать ему, и высказать просьбу выразительно: не покупать больше ничего у мистера Дженкинса. Это позор — пропускать такие слабые вещи под именем того или этого художника. Мои люди, работающие в Эрмитаже, постыдились пускать туда кого-либо до меня, и недоумение по поводу этой халтуры было очень сильным»{826}.
1 октября Екатерина написала Павлу и Марии Федоровне, что Димсдейлы вскоре вернутся в Англию, а также что она ужасно рассердилась из-за некомпетентности почтовых работников Нарвы, которые умудрились продержать два письма от великих князя и княгини на дне ящика целых две недели. Кроме того, она сообщила, что у нее есть карта их предполагаемого маршрута, каковая расстелена на ее столе, и что она каждый день отмечает, куда они добрались. Императрица очень беспокоилась, когда несколько дней прошли без вестей от путешественников, что и выразила в письме от 19 октября:
«Это десятое письмо, которое я пишу вам, дорогие мои дети, не получая ни словечка от вас. Последнее письмо от моего дорогого сына, полученное из Могилева, было датировано третьим, числом сего месяца. Можете себе представить, как это меня беспокоит. Не знаю, чему приписать это молчание: что это — дороги? Письмо потеряно? Курьера съели волки? Так много поводов для беспокойства, что я живу в постоянном ожидании. Ваши дети в полном порядке и ездят на прогулки вокруг города почти каждый день. Вчера Александр сделал мне подарок в виде силуэтного портрета, а Константин обещал сделать подарок от себя»{827}.
Через два дня сэр Джеймс Харрис смог доложить, что граф Панин «вне непосредственной опасности, но восстановились еще не все функции, и пройдет немало недель, прежде чем он сможет покинуть постель»{828}. В письме от 11 ноября Екатерина изъявила любопытство по поводу недавней встречи Павла и Марии Федоровны с королем Польши, ее бывшим любовником Станиславом Понятовским:
«Я думаю, что Его польскому величеству трудно было отыскать мои черты двадцатипятилетней давности на портретах, которые вы показали ему. Но талант к общению у этого князя был всегда — общению обаятельному, веселому и познавательному. Как вы находите, обладает ли он этим талантом до сих пор или растерял его из-за королевского величия? Мне кажется, что следы еще остались, судя по тому, что он провозгласил тост за мое здоровье»{829}.
В тот же день Екатерина отчиталась, что ее маленькие внучата ходят на придворные балы и в меру своих возможностей танцуют с дамами, доставляя всем огромное удовольствие. 19 ноября она настойчиво писала о важности использования очков для чтения — Мария Федоровна по прибытии в Вену заметила, что, кажется, у императора Иосифа покрасневшие глаза — и о том, что нужно растирать глаза маленьким кусочком льда два-три раза в день. В начале декабря Александр начал покашливать, но, по словам бабушки, вылечился свежим воздухом. Он учился писать родителям, обводя чернилами то, что было записано карандашом под его диктовку. Он также начинал изучать арифметику («мы не позволяем убедить себя, что два плюс два равно четырем, пока не сосчитаем сами»{830}). В письмах к великим князю и княгине в течение их путешествия императрица никогда не упоминала своего фаворита, создавая впечатление, что ее домашний круг состоял только из внуков и собак. На деле Саша Ланской был при ней неотлучно. Зима 1781–1782 годов была в Санкт-Петербурге необычайно холодной. 20 января температура упала до 28° по Реомюру (35° по Цельсию) ниже нуля. Екатерина рассказывала Павлу и Марии Федоровне, как дети занимают свой досуг в таких случаях:
«Ваши дети в прекрасном состоянии. Они выезжают в санях каждый день, когда температура не больше семи градусов ниже нуля, и в экипаже, когда до десяти. При более низкой температуре они остаются дома, а когда та падает до двадцати, мы сидим в моих комнатах. Дети всегда проворны, подвижны и легки. Александр прыгает по всей комнате на одной ножке, как птичка, и, хотите верьте, хотите нет, складывает целые слова из написанных слогов. Он делает и больше: раскладывает на столе географическую карту России, поделенную на губернии; может считать до тысячи, начиная с дважды два; если так пойдет дальше, то по возвращению вы найдете его гораздо более умным, чем оставили. Дети целуют ваши руки за подарки, которые вы послали им, а также благодарят за слова, которые я передала им от вас»{831}.
Когда прошло более десяти дней, а письма не пришли ни от одного из путешественников, Екатерина обвинила их в лености, но затем должна была взять назад свои обвинения, когда задержанные письма прибыли. 19 января она передала от Александра просьбу — по-русски:
«Три дня назад Александр Павлович попросил меня дать ему еще одного брата. Я предложила переадресовать это вам, дорогие дети, и он особенно подчеркнул, чтобы я передала вам его просьбу привезти ему нового брата. Я спросила, зачем ему еще один братик, на что получила ответ: брат абсолютно необходим по очень важной причине. Когда Александр станет кучером, у него останется только один пассажир, а ему нужно, чтобы было два. Понимая справедливость его требования, я передаю его просьбу вам и поддерживаю моего любимого друга»{832}.
Следующей страной, которую посетили Павел и Мария Федоровна, стала Италия. Рано ложащаяся спать Екатерина спросила их, как они справлялись в Вене, где опера не начинается до десяти часов вечера: «Они не начинали для вас в более подходящий час? — спросила она. — Или вы не ложились всю ночь?»{833} Она поздравила великого князя Павла с тем, что его поцеловал Папа Римский, и сообщила, что когда ее сын и невестка вернутся, они увидят изрядную часть лоджий Рафаэля, а также несколько новых статуй — отливки одной они видели в Риме. Она печально заметила, что невозможно купить климат другой страны. В марте сэра Джеймса убедили, что Ланского собираются заменить в качестве объекта привязанности императрицы:
«Могу рискнуть с уверенностью сообщить вам, Ваша светлость, что через очень короткий период времени появится новый фаворит. Он тот, кого я упоминал несколько посланий назад, и он выбран князем Потемкиным среди его приближенных. Единственная оставшаяся трудность — это избавиться, не нарушая приличий, от нынешнего обитателя, который вел, да и сейчас ведет себя с такой потрясающей почтительностью, что к его двери невозможно сложить какие бы то ни было упреки. Он не ревнив, не переменчив, не властолюбив, и даже в настоящий момент, когда он не может игнорировать приближающееся падение, сохраняет тот же спокойный, замечательный характер. Это, однако, только откладывает, а не предотвращает представление публике его преемника. Решение принято бесповоротно, и мой друг [то есть Потемкин] слишком заинтересован в этой перемене, чтобы перенести отказ от нее. Она восстановит всю полноту его власти, и в течение этого месяца или недель шести я увижу Потемкина во всем блеске его могущества»{834}.
Сэр Джеймс сообщил, что все дела заброшены, как обычно происходило в бурные моменты личной жизни императрицы, и что в последние две недели Екатерину «не видят ни с кем, кроме тех, кто составляет ее личное окружение»{835}. Она в это время страдала от простуды, у нее болело горло. Смены фаворита не происходило. 9 марта температура в Петербурге оставалась 15° ниже нуля, и все еще лежал снег. Возле входных дверей были навалены сугробы в человеческий рост, и когда Екатерина отправилась в короткую поездку в Царское Село, она обнаружила, что в некоторых местах снег засыпал парковую ограду. «Ваши дети здоровы, — сообщила она Павлу и Марии Федоровне. — Александр очень занят чтением. Я сделала для него маленькую книжечку с десятком историй о хороших и плохих детях, которая прекрасно действует. Он читает, перечитывает и проецирует истории на себя. Он вежливый, послушный и веселый, как и Константин. Последний копирует брата, у него очень милый характер»{836}. Этой весной сын Екатерины от Григория Орлова, Алексей Бобринский, закончил кадетский корпус и был отправлен в турне по России, которое включало визиты в Москву, Казань, Астрахань, Херсон и Киев. Затем он собирался посетить Польшу и Италию перед тем, как провести несколько лет в Париже. Несмотря на спокойный характер переписки Екатерины с сыном и невесткой, она сердилась и беспокоилась из-за беспорядков, возникших вокруг человека из окружения великого князя — его друга Александра Куракина. Было вскрыто письмо, написанное Куракину Павлом Бибиковым, сыном покойного генерала. В нем Бибиков жаловался на состояние двора и империи, ссылался на других тайных корреспондентов и ругал влияние Потемкина. Хуже всего — что он написал, будто Россию может спасти только великий князь. Как только Екатерина услышала об этом, она приказала арестовать Бибикова и учинить допрос в Секретном отделении. Но никаких следов законспирированной организации выявлено не было, и Потемкин попросил о снисхождении для Павла Бибикова. Того приговорили к пожизненной высылке в Архангельск, где через два года он умер. Павел, похоже, вовлечен не был. И хотя он часто жаловался на мать, ее политику и собственную изолированность от всех аспектов управления, на деле он был абсолютно лояльным подданным. Его убежденность в необходимости автократической власти, которую он надеялся когда-нибудь унаследовать, не позволяла ему вести себя иначе. К 25 марта наконец-то потеплело. Большая часть снега исчезла из города за одну неделю, хотя лед на Неве не таял до шестого апреля, а десятого в лесу все еще оставалось два фута снега. Александр и Константин с надеждой спрашивали, когда поедут в Царское Село. Сэр Джеймс Харрис, все еще ожидавший отстранения Ланского, считал показателем покупку для него дома и подготовку «обычных роскошных прощальных подарков»{837}. Тем временем Екатерина занималась каждодневной рутиной:
«Мы разрабатываем законы, — сообщала она Гримму, — с шести часов утра и до девяти. Затем, до одиннадцати, наступают дневные дела. А там прибывают монсеньоры Александр и Константин. Полчаса до и полчаса после обеда оставляются для указанных джентльменов — мы занимаемся азбукой, рассказами и воспоминаниями. Потом — два часа прекрасного отдыха, а далее полтора часа мы царапаем буквы и делаем тому подобные дела, после чего указанные джентльмены возвращаются к своему гаму до восьми. С этого времени до десяти приходят все, кто хочет»{838}.
Весь этот год она собирала комиссию по народному образованию, которую должен был возглавить Петр Завадовский, с целью организации начального и среднего образования во всех областях и городах. Она также довела до последней стадии подготовки Полицейский кодекс законов, который включал среди других условий возложение ответственности за цензуру печатных работ на начальников полицейских участков. Как и Губернская реформа, Полицейский кодекс во многом использовал материалы, которые накопила Законодательная комиссия и ее подкомитеты. В Кодексе (чье название полностью звучало как «Устав о благочинии») полицию призывали проявлять здравый смысл, добрую волю, гуманность, усердие в пользе, чести и неподкупности. Особо их предостерегали против взяток{839}. К 21 апреля, пятьдесят третьей своей годовщине, Екатерина с внуками (и Ланским) находилась в Царском Селе уже неделю. Дети с нетерпением ждали, когда сойдет снег, который укрывал еще почти половину парка, чтобы можно было там бегать. Вместо этого им приходилось каждый день выезжать на прогулку в экипаже. Екатерина хвасталась успехами Александра и Константина в письмах родителям: «Льщу себя надеждой, что вы будете довольны, когда увидите их снова. Их разум растет с каждым днем, они так же умны, как и милы. Мы не знакомы с плачем, криками и упрямством, и мы таковы, какими вы хотите нас видеть»{840}. Через два дня она сообщила, что они научились кланяться и правильно танцевать полонез — как раз к празднику святых Петра и Павла. В своем письме к Марии Федоровне от 5 мая (к этому времени весна уже наступила, и мальчики были счастливы, бегая на улице) Екатерина описала некоторые последние новшества в Царском Селе:
«Отлиты новые статуи; появились новые павильоны — вы их не можете себе даже вообразить; китайская деревня и китайские мостики; новые аллеи и апартаменты как на картинке. Ты вольна хвалить или критиковать все это, но где я попрошу тебя выказать самообладание, так это в радости, которую ты ощутишь, когда снова увидишь своих детей. Не заставляй их в испуге бежать ко мне от избыточных проявлений радости — обними их сдержанно, дорогая доченька, и кроме того, не упади в обморок»{841}.
25 мая был заложен камень в основание нового дворца в имении Павла и Марии Федоровны. Чарльз Камерон, которому пришлось начать работу над дворцом в отсутствие хозяев, Джон Буш и еще несколько человек проехали от Царского Села около трех миль в экипаже — и их приветствовал управляющий имением Павловск Карл Кюхельбекер. В имении уже существовало два небольших дома — резиденция великого князя Мариенталь («Долина Марии») и дом великой княгини Паульлуст («Утешение Павла»). Оба были окружены парками, разбитыми по английскому образцу, с обычными павильонами — такими как монашеский скит, хижина, отапливаемая углем, китайский летний домик, традиционные руины и мельница. Многие из этих идей пришли не напрямую из Англии, а через родные места Марии Федоровны, через Вюртемберг, где они уже были популярны. Такой тип дизайнерского парка — кусочками, где выбор места строения производился наугад, без общего плана или ощущения целостности — не был по вкусу Камерону, но в Павловске ему пришлось смириться со вкусами Марии Федоровны (а она была серьезным и знающим садоводом). При планировке ландшафта он также принял в расчет страсть Павла к парадам и муштре: с самого начала большие пространства в Павловске были отведены под военные учения. Екатерина никогда не была так счастлива, как в тот период в Царском Селе. Первого июня, сидя в павильоне «Гротто» на берегу Большого пруда и глядя на вечернее солнце, она сравнивала свое спокойствие с церемониями, в которых великие князь и княгиня участвовали в Париже и Версале. Хотя Екатерина интересовалась упоминаниями о французском дворе, теперь, на шестом десятке, она предпочитала уединенную жизнь в Царском Селе — среди друзей, с детьми, с возлюбленным, с полезными занятиями чтением и писательством, любуясь картинами или погружаясь в изучение резных драгоценных камней (глубокая страсть Ланского), с планированием парков и зданий, наслаждаясь бытием, игрой в карты или бильярд, или просто смеясь и болтая по вечерам — формальной помпе и церемониям больших празднеств по государственным поводам. Она смотрела на последние как на дело, которое выполняла превосходно, — но дни ее кутежей на маскарадах, фанфар и придумывания костюмов ради них самих были позади. Физический комфорт становился все более важным для нее, и в течение этого года она ввела новые правила, упрощающие придворную одежду. Женщины все еще должны были надевать на официальные празднования платья из золотой и серебряной парчи, но по воскресеньям они надевали сарафан — традиционное свободное русское платье, ниспадающее от плеч, с традиционным русским головным убором — кокошником. Екатерина сообщила Гримму о новых комнатах, которые Камерон устроил для нее в Екатерининском дворце. Те были созданы как идеальное жилое пространство, в котором при утонченном использовании наилучших материалов, простора и света, симметрии и баланса достигалось внутреннее состояние покоя и мира в душе. Конечно, стараясь достичь такого идеала, никакие расходы не принимали в расчет:
«Например, я пишу вам в кабинете из сплошного серебра с полосами из красных листьев; четыре колонны равномерно поддерживают зеркало, которое служит балдахином для дивана, обитого яблочно-зеленым с серебром материалом, присланным из Москвы. Стены сделаны из зеркал, обрамленных серебряными пилястрами с полосами из красной листвы. Тут же балкон, нависающий над садом. Дверь образована двойным зеркалом, так что она всегда кажется открытой, даже когда закрыта. Это очень богатый, впечатляющий кабинет, веселый, совсем не перегруженный и приятный. У меня есть другой, похожий на табакерку, бело-бронзово-голубой; белое и голубое — это стекло, а украшения — арабески»{842}.
Каждая комната, созданная Камероном, была абсолютно оригинальной и отличной ото всех других комнат — с тем, чтобы посетитель постоянно был заинтересован, удивлен, впечатлен (конечно) — но при этом «просвещался»: архитектура так же служила совершенствованию и облагораживанию людей, как и императрица. Екатерина отпустила несколько пренебрежительных замечаний по поводу встречи Гримма с «графом и графиней Северными» в Париже: «Признаюсь откровенно: то, что вы сообщаете мне об их успехе, превзошло все мои ожидания. Благодарю за подробности, которые доставили мне огромную радость… Правда, графиня сообщила мне, что вы очень растолстели. Думаю, вы можете сказать о ней то же самое»{843}. В письме Потемкину, который недавно по личному делу уехал в Москву, Екатерина признается, как сильно зависит от него, как нуждается в его помощи и совете, когда отношения между Россией и Турцией становятся все более щекотливыми: «Вместе мы можем разобраться во всем за полчаса, но сейчас я не знаю, где тебя искать. Умоляю поторопиться с возвращением, так как больше всего боюсь сказать или сделать что-нибудь неверно»{844}. Ланской, видимо, вполне соответствовал роли, ожидаемой от него в качестве младшего партнера в триаде, потому что Екатерина добавляет: «Вкладываю маленькую записочку от того, кто необычайно к тебе привязан и кому тебя крайне не хватает»{845}. Потемкин, как его и просили, вернулся немедленно. 29 июня Екатерина описала Гримму характер Ланского, начав с замечания, которое сделал в адрес последнего Григорий Орлов в разговоре с одним из друзей. Ее тон здесь заметно походит на тот, в каком она обычно пишет о внуках:
«О! — сказал он. — Видите, какого человека она делает из него! Он рассуждает теперь обо всем на свете». Ланской начал рассуждать о поэтах и поэзии за одну зиму; немного об истории — за другую. Романы скучны для нас, но мы все-таки одолели стиль Альгаротти с друзьями. Не будучи студентом, мы имеем неограниченные познания и получаем удовольствие только в компании людей высоких достоинств и наиболее образованных. Кроме того, мы строим и сажаем. Мы великодушны, веселы, честны и очень милы»{846}.
Вечером 5 августа Екатерина с детьми отправилась в Петербург на долгожданное открытие конной статуи Петра Великого работы Фальконе, которое произошло два дня спустя. Когда статуя, которой предстояло стать убедительным символом города Петра, наконец-то увидела свет дня с громадного постамента, обращенного в сторону Невы, со скромной, но выразительной надписью «Петру Первому — Екатерина Вторая», императрица была тронута чуть не до слез, о чем и рассказала Гримму через несколько месяцев:
«Когда Петр I открылся, он оказался столь же живым, сколь и великим. Казалось, он страшно доволен, что его создали. Долгое время я не могла смотреть на него; я чувствовала всплеск эмоций, а когда огляделась — увидела, что у всех на глазах слезы… Он был слишком далек, чтобы говорить со мной, но выглядел настолько торжествующим, что я тоже испытала удовольствие. Он будто побуждал меня работать в будущем еще лучше, если смогу»{847}.
Екатерина была куда прозаичнее в письме Павлу и Марии Федоровне, уведомив их только, что статуя «очень хороша»{848}. После открытия она вернулась в Царское Село, где оставалась до одиннадцатого сентября. Александр и Константин провели некоторое время в Павловске, откуда посылали бабушке цветы. Позже в том же месяце мальчики посетили императорскую фарфоровую фабрику, где им позволили купить себе несколько статуэток. Как Екатерина сообщила Гримму, Александр на всех произвел впечатление своими вопросами, своей любознательностью и своей обходительностью. 25 сентября 1782 года, в день двадцатилетия своей коронации, Екатерина основала орден Святого Владимира, названный в честь великого князя Владимира Киевского (дав ему официальное православное название Святого равноапостольного великого князя Владимира Крестителя, просветителя земли Русской), который был обращен в христианство в 988 году. Этот новый орден имел символическое значение для так называемого «греческого проекта» Екатерины и Потемкина. То была их мечта восстановить Византию как часть Российской империи с Константином в качестве правителя. Потемкин с разрешения Екатерины назвал новый российский порт на Черном море Херсоном — в память о древнем Херсонесе, который князь Владимир завоевал после своего крещения. 1 октября один из братьев Марии Федоровны, принц Фридрих Вюртембергский, прибыл в Петербург на несколько дней раньше своей жены (принцессы Августы Брауншвейгской, более известной как Зелмира) и был принят Екатериной, которая пригласила его присоединиться к ней за обедом (он прибыл служить в ее армии). К 8 октября принцесса тоже прибыла и, хотя чувствовала себя не очень хорошо, приняла участие в танцах в Эрмитаже. В этот день Екатерина сообщила сыну и невестке: «Погода тут такая же отвратительная, как и дороги, поэтому я остаюсь в своей клетке, как сурок»{849}. 14 октября оба, и принц, и принцесса заболели «невским животиком» — то есть расстройством желудка от невской воды. Принц чувствовал себя больным еще три дня, а принцесса поправилась и даже присутствовала 16-го на представлении в Эрмитаже. Примерно в это время в жизнь Екатерины вошла глубокая печаль, так как резко ухудшилось здоровье Григория Орлова. Пострадал его разум, и ей было очень больно видеть, как этот когда-то находчивый, подвижный, красивый и умный человек, который оставался частью ее жизни более двадцати лет, теряет рассудок и становится беспомощным. 25 октября она сообщила Павлу и Марии Федоровне о болезни Григория и о его скором прибытии в Петербург:
«Мне предстоит иметь перед глазами очень печальное явление в лице князя Орлова, который прибывает сегодня. Граф Алексей приехал заранее, дабы предупредить меня, что за братом нужно следить из-за его психического расстройства, или, скорее, ослабления интеллекта, из-за которого они наблюдали за ним, пока он не сбежал от них. Маршал Чернышев сказал мне то же самое, и эти несчастные обстоятельства причинили мне сильную боль. Похоже, все это правда, и признаюсь, она тяжело огорчила меня»{850}.
1 ноября Екатерина встретилась со своим бывшим любовником.
«Князь Орлов прибыл. Его разум настолько ослабел, что он едва понимает, что говорит и делает. Тем не менее я сохраняю надежду, что он поправится: у нас тут есть человек, который делает необыкновенные вещи, излечивая тяжелые случаи. В него трудно не поверить, хотя я мало верю в медицину, докторов и знахарей»{851}.
Сэр Джеймс Харрис доложил о явном ударе, которым стало для Екатерины состояние Григория: «Похоже, что ни в один период жизни ее чувства ничем не были так сильно и болезненно затронуты, как этим печальным событием, которое выпало на долю ее возлюбленного юных лет, человека, который в свое время был первым объектом ее любви, если не страсти»{852}. Сэр Джеймс продолжил описание того, как она обращалась с Григорием в его несчастье:
«В ее поведении была самая безграничная забота, способная уравновесить любые ее недостатки. Она полностью запретила применять грубые методы, отвергла все соображения об ограничениях и дисциплине, надеясь, наперекор очевидному, восстановить его нежностью и потворством. Она не только мужественно посещала его и принимала у себя, но приказала впускать его в любой час и в любой одежде, одна ли она, в компании или занята наиважнейшими делами. Состояние его ума, когда он бывал во дворце, его дикая, бессвязная речь всегда доводили ее до слез и настолько расстраивали, что остаток дня она не могла ни развлекаться, ни работать»{853}.
Забота Екатерины о Григории, ее преданность и время, которое она ему уделяла, обижали, похоже, и Потемкина, и Ланского, который приходил в постель в глубоком возмущении. Так как время возвращения Павла и Марии Федоровны приближалось — их прибытия в Ригу ожидали уже со дня на день, — сэр Джеймс Харрис начал рассуждать по поводупоследних изменений, особенно закона об упрощении женской одежды и запрещении отделок, оборок и высоких головных уборов, а также о том, какое впечатление все это произведет на великую княгиню,
«…которая вернется страстно влюбленной во французов, их одежду и манеры, и которая, кроме переписки с Мод Берлин [знаменитой парижской портнихой] и другими французскими представителями из той же сферы, завела не менее двухсот коробок, прибывших или еще прибывающих, забитых материями, помпонами и другой дребеденью из Парижа, вместе с новой valets de chamber [прислугой] и различными фасонами невообразимых шляпок. Невозможно представить, чтобы императрица могла сильнее ранить Ее императорское высочество. Я уверен: когда новость дойдет до нее, что произойдет в Риге, это поразит ее более чувствительно, чем любое событие, которое могло подорвать славу и процветание империи»{854}.
13 ноября Екатерина сообщила сыну и невестке, что к настоящему моменту ее надежды на то, что удастся найти способ вылечить Григория, оказались напрасными. «Болезнь князя Орлова продолжается. В течение двух дней он оставался в постели, впав в детство. Сегодня собирается консилиум врачей. Можете по одному этому судить, остались ли надежды на восстановление его мозга»{855}. На следующий день она сообщила дальнейшие подробности Гримму (а также рассказала о разочаровании маленького Александра, когда тот узнал, что Александр Великий умер, поскольку хотел познакомиться с ним лично):
«Помимо работы, я предаюсь смертельному горю из-за состояния князя Орлова: он поехал на воды в Царицын [теперь Волгоград], но едва начал принимать ванны, как стал лепетать всякую чушь. После ванн он вернулся в Москву. Тут он обнаружил средство спасения: своих бдительных братьев, которые едва успели приехать за несколько часов до него. Он приезжал сюда; я видела его три раза. Он тих и спокоен, но слаб; каждая мысль существует отдельно. Он сохранил только свою непоколебимую привязанность ко мне. Вообразите, как я страдаю, видя его в таком состоянии. Он постоянно в постели; считают, что его болезнь — результат апоплексического удара, поэтому едва ли есть надежда на улучшение»{856}.
Генерал Бауэр, давний друг Григория, также был болен. Он послал Екатерине письмо, которое заставило ее расплакаться при мысли, какого преданного слугу она теряет. Злосчастный доктор Роджерсон прибыл именно в этот несчастливый момент и попал под опасную бритву языка императрицы:
«Я сказала ему, что ни один доктор не знает, как лечить даже укус насекомого, и я бы разорвала на кусочки все сборище докторов, потому что они не умеют лечить людей, но заставляют их оставаться в постели по три месяца. Я не успокоюсь, пока он не согласится, что и он сам, и все его коллеги — невежды, не имеющие никакого понятия относительно лечения. Истина смягчила меня. Я сказала: «Достаточно, возвращайтесь» — и начала, чтобы успокоиться, писать своему козлу отпущения»{857}.
Через три дня Екатерина сообщила Гримму, что в семью ее гончих недавно наведалась смерть: умерла супруга патриарха Сэра Тома. Две собаки постоянно проводили время в комнате императрицы — Леди Том и Тезеус Том, причем последнего воспитывал Ланской. Обучение оказалось успешным только частично, так как Тезеус имел привычку кусать за ноги любого, кто пытался делить с ним камин. Исключение он делал только для Александра и Константина, которых любили все собаки. Павел и Мария Федоровна вернулись в Петербург 20 ноября, пропутешествовав год и два месяца. Первая, короткая встреча императрицы с сыном и невесткой прошла наедине, и великого князя наградили только что введенным орденом Святого Владимира. Теплота, которая вроде бы установилась между Екатериной и ее «дорогими детьми» во время переписки, не выдержала живого общения. Императрица знала — конечно, ей все докладывали, — что Павел при некоторых дворах вел себя достаточно неумно, чтобы критиковать отдельные аспекты ее правления, ее стиль и ее политику. Они с женой вернулись с огромными долгами, а Мария Федоровна — еще и с бесчисленными покупками из Парижа, которые ей приходилось возвращать. Для великих князя и княгини это было невеселое возвращение домой. Прежний учитель и наставник Павла был уволен, опозорен и находился при смерти. Павел Бибиков — в ссылке из-за корреспонденции, отправленной другу великого князя Александру Куракину. Маленькие Александр и Константин, хоть и рады были видеть родителей, прекрасно без них обходились и были больше, чем всегда, привязаны к бабушке. Положение Потемкина стало еще более прочным. После годичного пребывания в центре внимания, когда с ними обращались как с самыми важными персонами повсюду, где они с женой останавливались во время путешествия, Павел опять оказался в привычно незначительном положении при дворе матери. Хуже всего были дошедшие до него слухи, будто Екатерина хочет лишить его права наследования в пользу Александра. Они с Марией Федоровной, похоже, решили вести себя тихо и не хвастаться приобретенным в заморских странах опытом, делая вид, что сохраняют почтительное послушание. Однако, по словам сэра Харриса, это сдержанное с виду поведение не получило одобрения императрицы, которой сын и невестка явно больше нравились на расстоянии: «Теперь она называет их скрытными, надутыми отшельниками, говоря, что их испортили иностранные связи и они не могут вернуться к обычаям своей страны. Короче, если она заранее уже решила быть недовольной, то нет такой силы, которая могла бы угодить ей»{858}. Екатерина была также очень занята внешней политикой, в особенности разрешением двусмысленной ситуации с Крымом, который по Кучук-Кайнарджийскому договору был признан «независимым государством» под российским покровительством. Турки так и не приняли этого — как и Потемкин, который побуждал Екатерину присоединить Крым к Российской империи. 14 декабря 1782 года Потемкин получил от Екатерины «самые секретные» инструкции, позволявшие провести аннексию в подходящее для этого время. Остальные европейские силы, по расчетам Екатерины и Потемкина, вряд ли могли активно воспротивиться расширению российских границ. Британия и Франция увязли в борьбе за американские территории — еще не окончилась война за независимость, — а Иосиф II обещал России поддержку. Новый 1783 год начался скверно. Екатерина написала Гримму:
«Князь Орлов движется от плохого к худшему. Он находится под присмотром братьев. Генерал Бауэр тоже не поправляется, как должен бы. Я сверх меры измучена работой и болезнями людей, которых люблю и уважаю. Никто не должен болеть; слушайте, имеющий уши да услышит: вы слышите?»{859}
Генерал Бауэр умер 11 февраля:
«Я ужасно огорчена смертью генерала Бауэра. Я обругала всех докторов, хирургов и всю когорту врачей. Все они толстые и тупые, как бревна. Они убили еще одного человека, который был мне близок в течение тридцати трех лет. Я никогда не дойду до конца, если начну рассказывать об ошибках, которые они совершили со мною в прежние годы. Однако монсеньор Том в порядке — но он ведь держится подальше от докторов»{860}.
К концу февраля самой Екатерине пришлось неделю провести в постели с лихорадкой — однако ее недоверие и гнев по отношению к врачебному сословию были в это время настолько сильными, что она не позволила ни одному «эскулапу»[53] пересечь порог ее спальни. Она находила утешение в написании истории России для Александра и Константина (и для других детей, когда книга была опубликована). Как и всегда, работала она быстро, завершив вторую часть, посвященную периоду с 862 года новой эры до середины XII века, примерно за три месяца. Всего должно было быть пять частей. 9 марта императрица поблагодарила Гримма за несколько отправленных ей коробочек румян, но сказала, что такой темный цвет делает ее фурией, поэтому она ими пользоваться не будет. 31 марта 1783 года сэр Джеймс Харрис сообщил лорду Грантему: «Графа Панина в пять часов утра разбил сильнейший апоплексический удар, и хотя все медицинские средства были немедленно использованы, между десятью и одиннадцатью он умер»{861}. Великие князь и княгиня присутствовали у постели больного, хотя Павел мало виделся со своим воспитателем в течение последних месяцев его жизни. Через двенадцать дней в Москве в возрасте сорока девяти лет умер Григорий Орлов. Екатерина получила это известие по прибытии в Царское Село 19 апреля, за два дня до своего пятьдесят четвертого дня рождения. На следующий день она написала Гримму:
«Хотя я была уже вполне готова к этому печальному событию, признаюсь вам, что испытала самое острое горе: в его лице я потеряла друга и человека, которому необыкновенно многим обязана в этом мире, который оказывал мне необычайно важные услуги. Нет смысла напоминать вам или самой себе то, что обычно говорится по такому случаю. Я плачу, я ужасно страдаю с того самого момента, как получила фатальное известие. Одна работа отвлекает меня, а поскольку у меня нет пока при себе моих бумаг, я пишу вам, чтобы успокоиться. Генерал Ланской делает все, что в его силах, пытаясь помочь мне перенести мое горе; но это заставляет меня плакать еще сильнее»{862}.
Она также высказалась по поводу того, как умершие одновременно Орлов и Панин будут чувствовать себя, прибыв вместе в иной мир после долгой вражды при жизни. Панин, по мнению Екатерины, по сравнению с Орловым ушел нехорошо:
«Граф Панин от природы был ленивым и имел дар выдавать эту лень за намеренную предусмотрительность. Его характер не был ни таким хорошим, ни таким искренним, как у князя Орлова — но сам он был более земным и лучше умел прятать свои недостатки и пороки, которых у него было множество»{863}.
Она никогда не простила Панину его роли в окончании их с Григорием отношений и его манипуляций, спровоцировавших ее на связь с Александром Васильчиковым. Физическая реакция Екатерины на смерть Григория проявилась несколькими днями позже в виде провалившихся щек, очень высокой температуры и бреда. 1 мая она почувствовала себя так плохо, что ей сделали кровопускание. Следующие два дня она была очень слаба и еще три дня ничего не ела. Потемкин находился в Херсоне, наблюдая за подготовкой к присоединению Крыма, которое он намеревался провести бескровно (хотя полки, конечно, находились в полной боевой готовности). Идея состояла в том, чтобы присоединение выглядело проявлением доброй воли самих крымских жителей. В приказах и в манифесте без даты, которые Екатерина выслала ему ранее, весной, присоединение обосновывалось политическими и экономическими причинами. Было заявлено, что татары выказали себя недостойными свободы из-за их «необразованности и дикости», поэтому русским необходимо опередить вторжение турок и компенсировать денежные расходы, уже поглощенные Крымом. 11 мая Потемкин написал Екатерине, что в Херсоне все в страшном беспорядке, но он разбирается с делами со свойственной ему энергией. Он также выразил беспокойство, что от нее нет известий. Екатерина, должно быть, чувствовала, что в этом году болезни и смерть подкрадываются к ее друзьям. Она перекрестилась, услышав весной, что болен Дидро. 1 июня (когда Александр и Константин по колено в воде ловили в ручье рыбу сетью) она написала Гримму письмо с изъявлением сочувствия по поводу недавней смерти его друга мадам д’Эпине: «Я не обсуждаю с вами вашу потерю, так как никто никогда не должен подпитывать печальные мысли или воскрешать их. Но будьте уверены: я разделяю ваше горе так же, как, думаю, вы разделяете мое»{864}. Несколько недель заняла подготовка встречи Екатерины с королем Густавом III Шведским в начале июня в городе Фридриксхамн (ныне известен в Финляндии как Хамина) на Финском заливе. Но седьмого июня она сообщила Гримму: «Моя поездка во Фридриксхамн сокращена и отсрочена, потому что герой-швед из-за застенчивости и из-за того, что он неважный наездник, упал с лошади и сломал левую руку между плечом и локтем. Он прислал ко мне своего камер-юнкера с этим радостным известием»{865}. Несчастный случай произошел во время инспекции войск, когда лошадь короля испугалась пушечного выстрела. Екатерине недоставало Потемкина, а кроме того, она хотела, чтобы Крымский вопрос был решен как можно скорее.
«Часто я не просто думаю о тебе, — написала она Потемкину, — но сожалею и горюю из-за того, что ты там, а не тут, ибо без тебя мне будто не хватает руки или ноги. Прошу тебя, не откладывай захват Крыма. Теперь я боюсь чумы — и из-за тебя, и из-за всех остальных. Ради Бога, соблюдай сам и прикажи соблюдать остальным все возможные предосторожности… Понимаю, что у тебя много забот, но знаю — вместе мы справимся с ними»{866}.
Императрица боялась новой вспышки чумы, такой же, как по окончание последней русско-турецкой войны. Она вновь пишет Потемкину: «Будь добр, дай мне знать, продолжается ли чума, ослабела или прекратилась. Она пугает меня. Я боюсь, что она снова прокрадется в Россию в результате какой-нибудь ошибки на границе»{867}. Встреча с Густавом была переназначена на середину июня, когда Екатерина с маленькой свитой выехала из Царского Села. «Маленькая свита» состояла из пятидесяти одного экипажа, влекомых двумястами девяносто шестью лошадьми. Свита включала княгиню Дашкову (Екатерина решила, что пришло время использовать значительные способности этой дамы, несмотря на ее трудный характер, и назначила ее первым президентом основанной недавно, в декабре 1782 года, Российской Академии наук), Александра Ланского, Ивана Чернышева, графа Строганова, Льва Нарышкина, Александра Безбородко и двух камергеров. Они остановились на обед в Санкт-Петербурге, а затем на баркасе пересекли реку на Выборгскую сторону, где их ожидали кареты. После жаркого и пыльного пути, длившегося два дня, вечером 17 июня императрица со свитой прибыла во Фридриксхамн. На следующий день к ним присоединился король Швеции. Путешествующий под именем «графа Гага», Густав был с рукой на перевязи, все еще болевшей, но в остальном чувствовал себя хорошо. Екатерина показала ему портреты своих внуков на табакерке, которая всегда была у нее с собой (императрица, как и все при дворе, регулярно нюхала табак). Хотя последующие несколько дней монархи не вели серьезных дискуссий по поводу проводимых политических курсов, Екатерина сообщила Густаву о своем намерении присоединить Крым, а также о том, что последствием этого шага может стать война с турками. Короля заранее предупредили, что нежелательно расстраивать Екатерину упоминанием о смерти Григория Орлова и генерала Бауэра. Он исполнил просьбу, упомянув их только после того, как Екатерина сделала это сама. В своих письмах Павлу и Марии Федоровне Екатерина рассказывала, что во Фридриксхамне держится ужасная погода, она чувствует себя подавленной шумом ветра и невозможностью открыть окна. Она не испытывала радости в этой «самой несчастной стране»{868} и рвалась снова оказаться в Царском Селе. «В будущем, — писала она, — я пошлю сюда на несколько дней того, кто плохо отзовется об окрестностях Петербурга»{869}. К счастью, путешествие длилось всего неделю. Российская аннексия Крыма была завершена в июле. Потемкин лично принял клятву верности десятого числа того же месяца. Однако новости этой, как обычно, потребовалось много времени, чтобы дойти, и 15-го Екатерина раздраженно написала ему:
«Можешь себе представить, как я беспокоюсь, не получая от тебя ни слова более пяти недель. Кроме того, тут распространяются ложные слухи, и мне нечем опровергнуть их. Я ожидала, что Крым будет занят самое позднее к середине мая, а вот прошла уже половина июля, и я знаю о деле не больше, чем Папа в Риме. Это неизбежно приводит к разговорам, которые мне вовсе не по вкусу. Прошу тебя: любым способом информируй меня почаще, чтобы у меня были свежие новости о развитии событий. Поскольку рассудок мой работает непрерывно, в голову успевают прийти тысячи разных мыслей, в том числе множество пугающих предположений»{870}.
19 июля Екатерина наконец получила известия, которых ждала. Но ее радость была омрачена падением Александра Ланского с лошади — английской чистокровной, которая однажды уже сбрасывала его. При этом фаворит серьезно пострадал. Через несколько недель Екатерина сообщила о происшествии Гримму — рассказывая о страстном интересе Ланского к «античным камням», то есть резным геммам и камеям:
«Когда генерал Ланской услышал, что вы упустили коллекцию античных камней, он едва не лишился чувств и чуть не задохнулся — потому что произошло это через несколько дней после ужасного падения с лошади, которое на несколько дней уложило его в постель, но от которого он полностью оправился. Хотя грудь еще в синяках и кровохарканье продолжается, благодаря своему прекрасному здоровью генерал, похоже, уже не страдает»{871}.
Во время выздоровления Ланского, 29 июля, Екатерина стала бабушкой в третий раз. На этот раз ребенок оказался девочкой (назвали ее Александрой) — что разочаровало Александра в его надеждах на еще одного товарища для игр и оставило Екатерину более чем равнодушной, как она призналась Гримму:
«Мой пчелиный рой за последние несколько дней вырос на молодую даму, которую в честь монсеньора, ее старшего брата, назвали Александрин. Сказать по правде, я предпочитаю девочкам мальчиков. Мои здоровы, бегают и прыгают — ловкие, подвижные, решительные, — гребут в скифах и прекрасно управляют ими в каналах, где фут воды, и Бог знает, что еще они делают: читают, пишут, рисуют, танцуют, и все по собственной воле. Я недавно брала их с собой в Петергоф, где мы остановились в Монплезире, и там наблюдала, как они шныряют всюду, куда могут добраться; они входили и выходили через окна так же часто, как через двери»{872}.
Екатерина выказала еще меньший энтузиазм по поводу новой внучки в письме от двадцать седьмого сентября: «Малышка Александра Павловна — ужасно уродливое существо, особенно по сравнению с ее братьями»{873}. В тот же день она сообщила, что пятилетний Александр миновал фазу иррациональных страхов и антипатий — включая отвращение к знаменитому кастрату Луиджи Марцези, которого мальчик считал «неприятным, а его гримасы ужасными»{874}. Поскольку Марцези был знаменит своим характером не меньше, чем своим голосом, нелюбовь Александра могла быть не такой уж иррациональной, как предполагала его бабушка. Но в любом случае ребенок решил преодолеть свои страхи сам, исследовав вблизи предметы, которые его пугали. Это решило проблему — хотя осталось невыясненным, насколько внимательно он изучил кастрата. 12 октября 1783 года случилась еще одна смерть, причинившая императрице страдания — умер фельдмаршал князь Голицын, прежний генерал-губернатор Санкт-Петербурга, который много лет тесно сотрудничал с Екатериной. Через четыре дня она написала Потемкину: «Для меня этот год черный: на этой неделе умер фельдмаршал князь Александр Михайлович Голицын. Мне кажется, что как только человек попадает в руки Роджерсона — он сразу же умирает»{875}. В июне 1783 года Екатерина также перенесла потерю своего любимого композитора Джованни Паизиелло — на этот раз не из-за смерти, а из-за отставки, так как ему трудно стало работать с новым начальством департамента, отвечающего за придворные спектакли. Практическим следствием смерти Григория Орлова стало решение Екатерины подарить его поместье Гатчина — включающее деревню Гатчина, дворец со всей мебелью, убранством и подсобными строениями, и еще двадцать деревень, расположенных на расстоянии двадцати шести миль к югу от Санкт-Петербурга вдоль основной дороги, ведущей на Москву — своему сыну. Это помогло избавиться от его соседства с ее собственными владениями на долгое время, так как за последующие годы великий князь фактически создал в Гатчине собственное маленькое государство, где господствовали военные учения, проводимые его личным полком (который он собрал в основном из отслуживших в регулярной армии), одетым в форму прусского образца. Хотя в Гатчине Павел в основном погрузился в собственный мир, обида из-за отторгнутости теперь уже стала доминировать в его чувствах к матери. Записка, которую он отослал в начале 1784 года своему другу барону Сакену, российскому послу в Дании, была полна горечи:
«Я бесконечно благодарен вам, мой дорогой друг, за ваши поздравления с Новым годом, и тоже желаю вам всего доброго. Иначе я свои пожелания выразить не могу — из страха испортить то, что они собою представляют. Мое воздействие часто таково, что мне довольно упомянуть с благосклонностью «что-то или кого-то», чтобы это сразу же забраковали»{876}.
Пока павильон Агаты над новыми банями в Царском Селе еще достраивали, Чарльз Камерон представил на рассмотрение планы и модель длинной двухэтажной прогулочной галереи. Он предложил соединить галерею с дворцом и павильоном Агаты крытой дорожкой, чтобы императрица имела туда прямой доступ прямо из своей комнаты. В хорошую погоду она могла гулять вдоль колоннады на внешней стороне галереи, а когда погода была плохой — пользоваться центральной частью, которую планировалось застеклить. Галерея была создана так, чтобы поражать своей красотой и элегантностью посетителей, находящихся на правой стороне противоположного берега Большого пруда, и обеспечить императрице место, откуда просматривалась бы вся перспектива ее парка и садов. Однако Камерон столкнулся с трудностями при подборе русских мастеровых, могущих и желающих работать по его спецификациям, и получил от императрицы разрешение выписать нескольких строителей из Шотландии. Соответственно, 21 января (нового стиля) в «Edinburgh evening Courant» («Эдинбургских вечерние известия») появилось объявление об этом. Вхождение Крыма в состав Российской империи было формально ратифицировано второго февраля, и Екатерина назначила Потемкина генерал-губернатором новой области Таврида (так ныне в соответствии с «греческим проектом» именовался Крым, поскольку древние греки называли эту область Херсонесом Таврическим), а также президентом Военного колледжа с рангом фельдмаршала. В самом начале года Екатерина сделала еще одно важное назначение. Генерал-аншеф Николай Салтыков стал воспитателем ее внуков, а сама императрица снабдила его набором указаний, касающихся их воспитания. Это были в общем и целом расширенные записи, которые она набросала, когда родился Александр, и касались они одежды, пищи, свежего воздуха, мытья и купания, постели и сна, детских развлечений и хорошего настроения, болезней и лекарств, слёз, желаний, послушания, хороших и плохих примеров, основных добродетелей, которые нужно исподволь внушать детям, мужества, языков и того, как наставникам следует обращаться с детьми. Особое внимание уделялось свежему воздуху, простоте, порядку и мягко внедряемой дисциплине{877}. Многие указания Екатерины звучат необычайно современно и грамотно. Детская одежда, согласно ее наставлениям, должна быть простой, не ограничивающей движений и насколько возможно легкой. «Пища и питье должны быть простыми и просто приготовленными, без острых специй и корешков, разогревающих кровь, и без избытка соли»{878}. Если дети проголодались между приемами пищи, им можно дать кусок хлеба. Похоже, впрочем, что императрица не всегда следовала собственным предписаниям — по крайней мере, когда дети были младше. Баронесса Димсдейл записала в октябре 1781 года:
«За несколько дней до нашего отъезда из Санкт-Петербурга врачи князей Александра и Константина попросили барона, чтобы он намекнул императрице (они сказали, что сами не осмеливаются), как неверно строится образ жизни мальчиков — ибо государыня часто брала их по утрам к себе и давала им очень много фруктов, а обедая с ней, они ели совершенно неподходящие блюда. В связи с этим барон написал ей письмо, упомянув, насколько вышеназванное неправильно и порекомендовав на будущее, как нужно жить детям, чтобы сохранить здравие, и сам отдал ей это письмо»{879}.
Детям не позволялось пить вино, если его не прописал доктор. Летом вместо завтрака и между обедом и ужином им могли дать «вишню, клубнику, смородину, яблоки и спелые груши»{880}. Они не пили холодной воды, когда было жарко, и до того, как что-нибудь пить в таком состоянии, должны были съесть кусок хлеба. Их комнаты — которые не нагревались выше 13° или 14° по Реомюру (16° или 17° по Цельсию) — следовало проветривать минимум два раза в день, и они должны были проводить как можно больше времени на улице (но нельзя было лежать на сырой траве, когда становилось жарко). Они должны были ходить в русскую баню — прогреваться и нырять в холодную воду — раз в каждые четыре-пять недель, и летом и зимой, так как доказано, утверждала Екатерина, что это полезно для здоровья. Было очень важно, чтобы они научились плавать. Им также нужно было часто мыть ноги холодной водой; Екатерина верила, что это помогает избежать простуд, а также мозолей. Им не полагалось спать на мягких матрасах — только на соломенных, к которым они уже привыкли. Они должны были «рано в кровать и рано вставать» — семи-восьми часов сна должно было быть довольно. Будить их следовало ласково, мягким голосом называя по именам — чтобы не напугать. Энергию молодых великих князей не стоило подавлять — лишь направлять в игры и упражнения. Воспитатели не должны присоединяться к играм, если только их особо не пригласили сами дети. Малышам необходимо позволять играть, когда они хотят, если игры, которые они выбрали или изобрели, не опасны. Екатерина понимала важность игр: «Детские игры — не просто развлечение, но и самые полезные для детей упражнения»{881}. Праздность, с другой стороны, никогда не должна поощряться: если дети не играют и не учатся, они должны быть заняты подходящим для их лет разговором. Им необходимо научиться говорить на иностранных языках, но и русским пренебрегать нельзя: крайне важно хорошо писать и говорить на собственном языке. Нельзя также обучать насильно — Екатерина верила, что дети обладают естественной любознательностью и захотят заниматься по доброй воле. Императрица в указаниях сделала акцент на том, что дети, которым повезло быть здоровыми от природы, должны как можно реже обращаться к медицине. К разъяснению этой директивы она приложила особые усилия:
«Частые небольшие лихорадки у детей, такие как от жары или из-за болей в конечностях, происходят от роста или естественного развития и пройдут сами — без врачей, без лекарств и лечения. Использование же лекарств в таких обстоятельствах забирает силы, необходимые для естественной реакции; при отсутствии настоящего заболевания нет необходимости прибегать к медицинским предписаниям, чтобы в случае серьезной болезни, когда другие средства не работают, можно было бы с выгодой воспользоваться советом доктора»{882}.
Странно, но Екатерина, сама склонная к слезам, похоже, проявляла к ним полную нетерпимость:
«Маленькие дети обычно плачут по одной из двух причин: первая из них — упрямство, а вторая — повышенная восприимчивость и желание пожаловаться. Следует различать эти два типа слёз по голосу ребенка, выражению личика и виду; но ни одна из причин слёз не должна позволяться, любой тип плача следует пресекать. Когда они плачут от повышенной восприимчивости, например, если больны, — нужно пытаться принести им облегчение, но стараться не особо замечать в их присутствии боль, слезы и болезнь. Нужно объяснить, что из-за плача они будут чувствовать себя еще хуже, поэтому нужно проглотить слезы и перестать плакать. Лучше принять факт болезни и преодолеть ее при помощи храбрости и терпения. Попытайтесь заставить их думать о чем-либо другом или превратите их слезы в объект шуток»{883}.
Если ребенок падает во время игры, никто не должен устраивать вокруг него суеты или бросаться поднимать его — детям нужно дать возможность подняться самим. Только если это действительно необходимо, помощь должна быть оказана — но без спешки и паники, в которых нет нужды. Малышу нужно сказать, чтобы в будущем был осторожнее, но что таков путь человеческого взросления. Мальчиков следует воспитывать в беспрекословном повиновении императрице и императорской власти. Екатерина заявила, что идея неповиновения ей должна казаться им такой же невозможной, как идея изменить погоду. Но телесные наказания были абсолютно запрещены (как они запрещались во всех имперских учебных заведениях). Привычка к послушанию должна формироваться через обоснование и неодобрение плохого поведения. Наставникам никогда не следует оставлять своих подопечных наедине со слугами; обращаться с детьми должно более или менее как со взрослыми. Мальчикам не позволялось командовать наставниками и теми, кто за ними ухаживает — наоборот, им полагалось спрашивать разрешения, когда хотелось чего-либо, и благодарить, если они это получали. Взрослые не имели права ругаться или пользоваться неприемлемым языком в присутствии детей, а также проявлять гнев. Любые разговоры, могущие потворствовать порокам, недопустимы в пределах слышимости детей. Ведущим из внедряемых принципов должен стать следующий: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». 28 марта Екатерина сообщила Гримму, что Александр и Константин изучают плотницкое дело под руководством немецкого столяра герра Мауэра. Кроме того, тридцатилетний швед Фредерик Цезарь де ла Арп стал учителем Александра. Ла Арп еще раньше доказал Екатерине свою полезность, когда помог «спасти» младшего брата Саши Ланского, который сбежал в Париж за дурной женщиной. В том же письме Екатерина превозносила Сашины добродетели — она сообщила, что он похож на Александра своим энтузиазмом и желанием все потрогать и постоянно занимается аптекарским набором, который дал ему какой-то англичанин и с помощью которого он составляет и исследует медикаменты. Объявление Чарльза Камерона в «Edinburgh Evening Courant» принесло плоды, и третьего мая (нового стиля) партия примерно из семидесяти рабочих с женами и детьми отплыла из Лейте. Туда входили четыре каменотеса, три мастера-штукатура, два каменщика, пятнадцать штукатуров и пять кузнецов. К середине июня они поселились в Софии — образцовом городке, который еще строился, начатый Камероном в 1779 году и расположенный в южной стороне парка в Царском Селе. Этот городок, не менее чем творения Камерона в Екатерининском дворце и прилегающих постройках, замышлялся как образец совершенства и предназначался для создания идеальных условий жизни населения и обеспечения приятного, энергичного соседства обитателям императорского дворца. Городок имел даже уличное освещение, крайнюю редкость для того времени — но лампы зажигались только когда Екатерина находилась в резиденции. Часы работы приезжих мастеров были установлены императорским декретом: нормальный рабочий день длился до шести часов вечера весной и летом, хотя мог быть продлен до девяти вечера, если появлялась необходимость. Для обеда предназначался двухчасовой перерыв, и специальная договоренность существовала для воскресных и праздничных дней. И еще одна важная для Екатерины смерть произошла зимой. Она не смогла заставить себя сообщить о ней Гримму до 19 мая: «Сэр Том Андерсон умер этой зимой. Он был похоронен с эпитафией позади гранитной пирамиды [конструкция Камерона в Царском Селе]. Конечно, пока я еще не смогла взять себя в руки и пойти посмотреть и не объявляла о его смерти до сегодняшнего дня. Он прожил шестнадцать лет»{884}. Португальская певица Луиза Тоди, приглашенная в Петербург Екатериной, прибыла с мужем и детьми 27 мая и была официально принята двумя днями позднее. Тридцатого она дала свой первый концерт в Царском Селе, появившись в спектакле «Армида и Рональдо» Джузеппе Сарти, сменившего Паизиелло на посту придворного композитора. Екатерина была так довольна ее игрой, что подарила ей два бриллиантовых браслета. Череда болезней и смертей, что в течение последних восемнадцати месяцев причиняла Екатерине страдания и истощала ее силы, достигла кульминации в июне 1784 года. Пятидесятипятилетняя императрица пережила катастрофу, из-за которой все ее обычные приказы себе «не думать об этом и идти вперед» оказались полностью бессмысленными. Несколькими месяцами позднее, 14 сентября, она послала своему souffre-douleur отчет о том, что случилось. Это был первый раз, когда она смогла написать о произошедшем. А началось все с того, что у Саши Ланского в среду вечером 19 июня заболело горло:
«В этот день он пришел ко мне сразу же, как горло начало болеть, и сказал, что заболевает тяжело и от болезни не оправится. Я попыталась изгнать эту мысль из его головы, и он, казалось, забыл о своей болезни: в половине пятого ушел в свои апартаменты, а в шесть, когда я отправилась на прогулку в сад, вышел и прошелся со мной вокруг пруда. В моих комнатах он снова стал жаловаться, но попросил устроить, как обычно, вечер реверси[54]. Вечер оказался коротким, потому что я видела, как он мучается. Когда все ушли, я посоветовала ему идти к себе и лечь в постель; так он и сделал, и мы послали за очень хорошим хирургом, который жил у нас в Царском Селе. Последний нашел Сашин пульс скачущим, и на следующий день в семь часов утра дал мне знать, что хотел бы посовещаться с коллегами. Я послала к нему Кельхена и отправила курьера в Петербург, чтобы вызвать Вайкарда [врач-немец, от которого можно было рассчитывать услышать правду]. К середине дня последний прибыл. Я пошла навестить больного, у которого, по-моему, была высокая температура… Я вызвала Кельхена; он, хотя и больший политик, чем [Вайкард], не скрыл, насколько встревожен. Больной, ожидая, твердо решил вообще не принимать таблеток. Он позволил пустить себе кровь, погрузил ноги в воду, пил много воды и другого питья, но не принял никаких снадобий. Он много спал в четверг, все черты его лица заострились, а кончик носа побелел. В пятницу прибыл его друг доктор Соболевский, заставивший его пить холодную воду и есть запаренный инжир. Он не хотел видеть ни Вайкарда, ни кого-либо другого до самого вечера, когда лихорадка усилилась вдвойне, вызвав сильную тревогу. В субботу ему, похоже, стало немного лучше, но к середине дня его начало рвать и рвало весь день, после чего появились икота и красная сыпь. Тем не менее в субботу вечером Вайкард сказал мне, что если не дойдет до мозга, он может выкарабкаться. Он был ужасно горячим; в воскресенье он перебрался в лучше проветриваемую комнату. Там он ходил сам; я пришла навестить его в три часа; вечером он чувствовал себя очень плохо и сообщил мне, какие принял меры. Он еще не бредил, но через час бред начался. Он помнил всех по именам и отчествам, только сердился, что не приводят его лошадей, дабы запрячь в его кровать. Этот гнев дал нам надежду, что его вырвет желчью, но этого не произошло: в понедельник он весь день становился все слабее. Я покинула его комнату в одиннадцать часов вечера, так как больше вынести не могла»{885}.
Саша умер во вторник 25 июня. В понедельник доктор Роджерсон попробовал дать ему порошки Джеймса,[55] но они возымели не больший эффект, чем все остальное. По симптомам, которые описала Екатерина, это, вероятнее всего, была дифтерия. Впервые в жизни Екатерина была выведена горем из строя. Через неделю после смерти Саши она смогла написать Гримму один абзац:
«Когда я начала это письмо [седьмого июня, рассказывая Гримму, как тронуло ее пение Луизы Тоди], я была счастлива и весела, мои дни проходили так быстро, что я не понимала, куда они уходят. Но так длилось недолго: я погрузилась в самое острое горе, моего счастья больше нет. Я думала, что умру сама, безвозвратно утратив своего лучшего друга. Это произошло неделю назад. Я надеялась, что он будет поддержкой моей старости: он работал над собой, он приносил пользу, он воспринял все мои вкусы; это был молодой человек, которого я воспитала, благодарный, мягкий и честный, разделявший мои горести, когда они у меня были, и радовавшийся моим радостям. Короче, я в горе, я рыдаю, генерала Ланского больше нет. Злостная лихорадка, сопровождаемая гнойным тонзиллитом [воспаленные гланды], унесла его в могилу в пять дней, и моя комната, которую я так любила, стала пустым сараем, по которому я едва таскаюсь, как тень. Тем не менее я не ложусь в постель со вчерашнего дня, но так слаба и убита горем, что в настоящий момент не могу без рыданий видеть человеческое лицо. Перехватывает голос; я не могу спать и есть; читать мне скучно, а писать выше моих сил; я не знаю, что со мной станет, но знаю наверняка, что никогда в жизни не была такой несчастной. Мой лучший и самый любимый друг покинул меня. Я открыла ящик стола, нашла там это письмо, начатое давно, добавила несколько строк и больше не могу»{886}.
Александр Безбородко послал срочное известие единственному человеку, который, как рассчитывали, мог вернуть Екатерину к жизни. Князь Потемкин находился в центральной Украине, в Кременчуге — столице Новой России. Получив вызов Безбородко, он немедленно тронулся в путь и прибыл в Царское Село десятого июля, покрыв 760 миль за семь дней. Приехал также Федор Орлов, и присутствие старых друзей немного успокоило императрицу. Позже Екатерина объяснила Гримму: «До этого момента я не могла вынести вида человеческого лица. Эти двое взялись за меня по-умному: они начали плакать вместе со мной, и я почувствовала, что с ними мне становится легче. Но предстоит пройти длинный путь…»{887} Екатерина постоянно спрашивала о Сашином теле и не хотела давать разрешения похоронить его. Похороны наконец состоялись 27 июля, в Софии. Императрица не пришла; в этот день ей пускали кровь. Ее депрессия длилась все лето. Она не делала попыток — да и не могла — спрятать ее даже от сына и невестки, которым написала 2 августа: «Я только что получила ваши письма, дорогие мои дети. Сразу же отвечаю. Сообщения о том, что вы здоровы, как и ваша дочурка, радуют меня. А я точно в том же состоянии, как перед вашим отъездом. Новости мои еще более пусты, чем те, что послали мне вы: я даже не знаю, собрали ли урожай. Будьте здоровы!»{888} Даже Александр и Константин, похоже, не могли принести Екатерине утешения. В этот период не возникало даже вопроса о возможности мгновенно найти замену Саше Ланскому. Тем не менее она продолжала выполнять наиболее важные дела, касавшиеся империи, отдавая, когда было необходимо, соответствующие приказы. Вал непристойных и недобрых слухов захлестнул смерть ее любимого Саши. Княгиня Дашкова была не одинока, когда заявила, что у молодого человека лопнул живот — «буквально лопнул»{889} (может быть, нечто подобное действительно произошло в долгие жаркие недели между его смертью и похоронами); другие утверждали, что его отравил Потемкин. Шептались также, что он умер во время любовного акта с Екатериной или что его смерть была результатом чрезмерного потребления шпанской мушки — вероятно, этот последний слух возник из-за аптекарского набора. К концу августа, как Екатерина сообщила Гримму некоторое время спустя, «наконец стали наступать интервалы сначала более спокойных часов, а затем и дней»{890}. С наступлением осени в Царском Селе стало необходимо растапливать печи, и печь в комнате Екатерины начала дымить. Без предупреждения она приняла внезапное решение вернуться в Петербург. В сентябре она посетила литургию на празднике Рождества Девы Марии в часовне Зимнего дворца: «В результате я заодно впервые увидела всех и все увидели меня. Но по правде говоря, это было такое страшное усилие, что по возвращении в свою комнату я почувствовала себя страшно измотанной — любой другой потерял бы сознание. Однако этого со мной никогда не случалось за всю мою жизнь»{891}. Ряд других смертей имел место в течение нескольких недель отдаления Екатерины, включая смерть сенатора Захара Чернышева 31 августа и Дени Дидро 30 июля (по новому стилю). Екатерина велела Гримму организовать для вдовы последнего получение пенсии в двести ливров в год, с выплатой суммы за пять лет вперед. 9 сентября она все еще чувствовала себя слишком слабой, чтобы разрешить все остальные неординарные вопросы Гримма. Единственным доступным ей делом в период прострации было чтение древней русской истории и работа над сравнением языков — она надеялась этой работой продемонстрировать, что древние славяне отвечают за названия большинства «рек, гор, долин, областей и деревень во Франции, Шотландии и в других местах»{892}. Ее депрессия, безусловно, отступала, но она не переносила напоминаний о Ланском — таких, как его геммы и камни, которые он очень любил, — это видно из того, что она написала Гримму, который предложил приехать в Санкт-Петербург, если это ей поможет:
«Я очень обязана вам за ваше предложение приехать, но советую вам не делать этого, потому что или вы увидите меня мертвой, или я увижу вас мертвым, и это только расстроит того, кто останется. А что касается покупок — не говорите мне больше о них, и особенно об одном их типе. Я давным-давноне делала их для себя»{893}.
Она снова написала Гримму 26 сентября:
«Что касается резных камней, скажите тому, кто вам их предложил, что я никогда не покупала их для себя, потому что ничего в них не понимаю, и что больше покупать их не буду. Если хотите знать мое теперешнее состояние, скажу вам, что в течение прошедших трех месяцев, отсчитывая от вчерашнего дня, я была безутешна из-за безвозвратной утраты; что единственное, к чему я снова начала привыкать, — это человеческие лица, что сердце мое истекает кровью, как в самый первый момент; что я выполняю свою работу и пытаюсь делать ее хорошо, но горе мое настолько ужасно, что никогда в жизни я такого не испытывала. И теперь уже три месяца я нахожусь в страшно жестоком положении, страдая, как проклятая»{894}.
17. Выздоровление и возвращение сил (1784–1786)
Не могу пожаловаться, что возле меня нет людей, чьи любовь и забота отвлекают меня и помогают расслабиться.Когда в сентябре 1784 года Екатерина вернулась в Санкт-Петербург, она не сразу поселилась в своих обычных апартаментах в Зимнем дворце — ибо сочла, что слишком многое там напоминает ей о Саше Ланском. Вместо этого она въехала в маленькую комнату в Эрмитаже (менее двадцати квадратных метров), забросив книги по русской истории, манускрипты и словари. Замкнувшись таким образом, она повторила свое поведение периода депрессии после рождения Павла в 1754 году. Всю эту осень и начало зимы Потемкин оставался с ней постоянно, обихаживая ее и стараясь вернуть к жизни. «О, как он мучает меня, — написала она Гримму, — как я ворчу на него, как сержусь, — но он не прекращает»{895}. К Новому году Потемкин преуспел настолько, что посчитал безопасным оставить свою императрицу на несколько месяцев, и в январе вернулся на юг России. 16 февраля Екатерина наконец переехала в свои покои в Зимнем дворце и возобновила переписку с Гриммом: «Мне нечего рассказать вам, кроме того, как я просуществовала эти шесть месяцев, пока не писала вам. Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понимать без слов: мое здоровье выстояло. Я не писала вам потому, что, говоря откровенно, ничего веселого сказать не могу»{896}. Она упомянула, что внуки растут, и что последняя внучка (родившаяся в декабре) — красивая девочка, поэтому ее назвали Еленой (или Хелен). Затем добавила: «Как видите, я не умерла, несмотря на то, что сообщали газеты. У меня также нет никаких болезней. Но до настоящего времени я была в безжизненном состоянии — жила как растение, без души»{897}. К счастью, с ней оставались верные друзья, главным среди которых был Потемкин. Друзья сохранились у Екатерины и среди придворных, и в среде чиновников — такие, как ее гофмейстерина графиня Анна Протасова, Нарышкины и Энгельгардты (племянники Потемкина), — и все они искренне заботились о ней, стараясь восстановить ее интерес к жизни. Когда Екатерина начала выходить из глубин депрессии, она, как обычно, нашла, что писание — или «шкрябанье» — оказывает терапевтическое воздействие, и в течение зимы освоила новый жанр — пьесы. Пьесы писались для того, чтобы их ставили, и для ближайшего круга Екатерины сочинение с последующей постановкой коротких драматических произведений стало столь же существенной частью вечеров, как бильярд и карточные игры. В том же году, но позднее она рекомендовала свое увлечение Гримму: «Почему вы не пишете пьес? Это развлекло бы вас. Я читаю свои двоим-троим, а затем кладу их в портфель. Он так же набит пьесами, как и документами»{898}. Некоторые написанные ею драмы были показаны более широкой аудитории, хотя и с соблюдением анонимности (во всяком случае официально). Третьего апреля она сообщила Гримму, что ее пьеса «Le Trompeur» («Обманщик») имела огромный успех в Москве, и ее рассмешил семилетний Александр, надевший парик и сыгравший сцену из «Le Trompeur», исполнив все три роли. Пьесы Екатерины, как и все, что она писала, имели поучительный характер, и она надеялась «улучшить» свою аудиторию, мягко подшучивая над различными человеческими недостатками. Интерес императрицы к античным камням также начал возвращаться. Частично проявление скорби выливалось во внимание, которое она уделяла своему кабинету, где обитали мелкие вещицы, столь любимые Ланским. Она смотрела на них каждый день и добавляла новые экспонаты (теперь набралось уже сто двадцать пять полных ящиков), но показывала коллекцию лишь очень узкому кругу людей. Три недавно прибывших члена британского землячества, включая нового посла мистера Аллана Фицгерберта (сэра Джеймса Харриса отозвали — частично из-за того, что в петербургском климате он болел каждую зиму), были приглашены на просмотр и остались под огромным впечатлением. 30 апреля Екатерина попросила Гримма выяснить цену принадлежащей бывшему французскому послу Бретейлю коллекции, которую она отвергла в предыдущем году. Она также передала ему перечень камней, которыми обладала на текущий момент:Екатерина II —Фридриху Мельхиору Гримму
«Моя маленькая коллекция резных камней такова, что вчера четыре человека с трудом вынесли две корзины, вместившие ящички, содержащие примерно половину коллекции. Не сомневайтесь — это те громадные корзины, которые используют зимой для доставки в комнаты дров, и ящички переполнили их. По одному этому вы можете судить, сколь жадными мы стали на сей предмет»{899}.
Чтобы разместить свою постоянно растущую коллекцию наилучшим образом, Екатерина заказала серию кабинетных шкафов самому известному краснодеревщику того времени Давиду Рентгену, изготовителю мебели для апартаментов Марии-Антуанетты. Кроме театральных пьес и коллекции гемм, Екатерина занималась своей обычной работой, одним из результатов которой стало опубликование 21 апреля 1785 года, к ее пятидесятишестилетию, двойной хартии дворянства и городов. Первая часть перечисляла привилегии дворянства, а вторая делила население городов на шесть классов и давала горожанам определенные права — такие, как право восстановления через суд утраченной собственности и доброго имени. Днем позже Екатерина сообщила Гримму, что ее душевное состояние понемножку выравнивается — хотя она не может не опасаться рецидива: «Что касается меня, то могу сообщить: последние два месяца мне лучше — но нельзя говорить о веревке в доме повесившегося»{900}. Через три дня она сообщила детали своего выздоровления и намекнула на способ возвращения к нормальному образу жизни (или, по крайней мере, к тому, что считала нормальным образом жизни):
«Мое внутреннее состояние возвращается к спокойствию и ясности, потому что с помощью друзей мы сделали над собою усилие. Мы начали с комедии, которая, как говорят, получилась милой, что доказывает небольшой возврат живости и веселости. Односложность ответов изгоняется. Не могу пожаловаться, что возле меня нет людей, чьи любовь и забота отвлекают и помогают расслабиться, — но мне требуется некоторое время, чтобы заметить это, и еще большее, чтобы привыкнуть. Короче (одним словом, вмещающим сотню), подле меня единственный друг [un ami], умный и одаренный, и множество друзей, которые не оставляют меня»{901}.
Новым «ami» — слово это может означать и друга, и любовника — стал тридцатиоднолетний офицер по имени Александр Ермолов, высокий блондин с миндалевидными глазами, который был представлен императрице Потемкиным (и затем выжидал своего часа, пока его «заметили»). И наконец, выздоровление Екатерины было отмечено возвращением энтузиазма по отношению к внукам — в особенности, как всегда, к Александру:
«Монсеньоры Александр и Константин находятся теперь в руках генерала Салтыкова, который следует моим принципам и инструкциям во всех вопросах, как делают все, кто их окружает. По правде говоря, эти мальчики восхитительно красивы, высоки, сильны, здоровы, разумны и послушны; одно удовольствие смотреть на них. Я убеждена, что любой способен прекрасно поладить с Александром — ибо тот абсолютно уравновешен и обладает шармом, удивительным для его возраста. Его лицо открыто, улыбчиво и располагающе. Его пожелания всегда благие: он хочет преуспеть — и действительно преуспевает во всем, опережая свой возраст. Он учится ездить верхом, читает и пишет на трех языках, рисует — и его не нужно заставлять делать что-либо. Он пишет работы по истории или географии, а то и просто отдельные фразы, нравоучительные или веселые; у него чудесное сердце»{902}.
Музыка была единственной сферой, не требующей и не стоящей, по мнению Екатерины, никаких усилий для обучения и изучения. Она сообщила Гримму: «Монсеньоры Александр и Константин не будут обучаться музыке. Они могут пиликать, если им захочется, но у них не будет уроков»{903}. Но в итоге она все же поддалась на уговоры, и Александр стал брать уроки игры на скрипке у Генри Дитца, сделавшись вполне приличным исполнителем. 24 мая императрица отправилась в инспекционную поездку, предметом которой была проверка состояния системы каналов, созданной Петром Великим и развивавшейся при ней — часть ее известна сейчас как Волго-Балтийская водная система[56]. По этим каналам доставлялись товары в Петербург. Свита Екатерины состояла из шестнадцати человек, включая Потемкина, графа Ивана Чернышева, камергера Ивана Шувалова, шталмейстера Льва Нарышкина, Александра Ермолова и иностранных посланников — графа Кобенцла, графа де Сегюра и Аллана Фицгерберта (которых Екатерина называла своими «карманными посланниками»; неписаный договор подразумевал, что они платят за ее гостеприимство, расточая похвалы ее достижениям в своих официальных отчетах, рассылаемых к соответствующим дворам — в Вену, Версаль и Сент-Джеймс). Перед отправкой участники провели некоторое время в Царском Селе. Сепор оставил запись ежедневного рутинного времяпровождения гостей:
«Екатерина почти все утро работала, а каждый из нас был волен писать, читать, гулять или делать все, что пожелает. Обед, состоявший из немногих блюд и рассчитанный лишь на нескольких гостей, был хорошим, простым, без помпы, а послеобеденное время занимали игры и беседы. Вечером императрица уходила рано, а мы — Кобенцл, Фицгерберт и я — собирались в апартаментах одного из нас или у князя Потемкина»{904}.
Сепор также описал внешность Екатерины того периода:
«Величавость ее наружности и манера держать голову, а также гордый взгляд и достоинство делали ее зрительно выше, чем в действительности. У нее был орлиный нос, очаровательный рот, голубые глаза и черные брови, очень мягкий взгляд, когда она хотела, и привлекательная улыбка. Чтобы скрыть полноту надвигающихся лет, которая целиком уничтожила грацию, она носила свободное платье с широкими рукавами, похожее на древнюю русскую одежду. Белизна и великолепие кожи были той привлекательной чертой, которую она сохранила дольше всего»{905}.
В поездке Екатерина делила карету с Александром Ермоловым, своей подругой и гофмейстериной графиней Протасовой, а также графиней Ростопчиной. Кроме того, князь Потемкин и граф Кобенцл менялись поочередно с графом де Сепором и мистером Фицгербертом. Иногда к ним присоединялся также Лев Нарышкин. 28 мая они прибыли в Вышний Волочок, где располагались шлюзы, придуманные и построенные в дни Петра Великого. В годы правления Екатерины их улучшили, дерево заменили на камень, и теперь каналы соединяли более удаленные источники воды. Кроме того, строились еще два канала, которые впоследствии должны были соединить Каспийское море с Черным, а Черное с Балтийским через Днепр[57]. Насколько это было возможным, императрица во время путешествия придерживалась своего обычного распорядка дня. Сегюр оставил следующий рассказ:
«Мы выезжали утром в восемь часов, а в два останавливались на обед в городе или в деревне, где все было подготовлено заранее, так что императрица оказывалась устроенной там почти так же удобно, как и в Петербурге. Мы всегда обедали с ней. Наше продвижение прекращалось в восемь часов вечера. Императрица проводила вечер привычным образом — с приемами, игрой в карты и беседами. Каждое утро после часа работы и до самого отправления Екатерина принимала свидетельства почтения от чиновников, дворян и купцов того места, где останавливалась. Она подавала каждому руку для поцелуя и обнимала всех женщин; это вынуждало ее приводить себя в порядок второй раз: поскольку в этой провинции все женщины, даже из буржуазии и крестьян, использовали пудру и краски, лицо императрицы в конце таких аудиенций было покрыто красным и белым»{906}.
На протяжении всего путешествия по прибытии в каждое место Екатерина прежде всего отправлялась в церковь, чтобы продемонстрировать свою набожность, ибо знала: это необходимо для поддержания любви и уважения подданных. Партия покинула Вышний Волочок 30 мая, прибыв на следующий день в Торжок, а еще днем позже в Тверь. Екатерине путешествие нравилось; она настолько хорошо себя чувствовала, что с радостью ответила согласием на просьбу графа Брюса, теперь генерал-губернатора Москвы, продлить маршрут, посетив старую столицу. Там императрица со свитой задержалась на несколько дней. Она воспользовалась возможностью посетить окрестные императорские дворцы, включая Петровский, построенный Матвеем Казаковым между 1763 и 1768 годами, и дворец, совсем недавно возведенный в Царицыно, архитектором которого был Василий Баженов. На обратном пути Екатерина кратко сообщила Петру и Марии Федоровне о своих впечатлениях от различных дворцов:
«Петровский дворец очень хорошее pied-a-terre [пристанище], два других — то есть новые дворцы в Москве и Царицыно — не закончены; последний нуждается во внутренних переделках, иначе будет непригоден для проживания. Коломенское сохранилось в том виде, как я его оставила. Город Москва улучшается, там много и очень хорошо строят; огромная работа над акведуком продвигается вперед»{907}.
На деле Екатерина разразилась гневом, посетив Царицыно. Самым подходящим объяснением этому представляется то, что она заметила различные масонские символы, которыми декорировал здание Баженов — близкий друг ведущего представителя и пропагандиста масонства в России, Николая Новикова. Императрица всегда с подозрением относилась к масонству. Это было, в конце концов, секретное мужское сообщество, куда она не допускалась по определению. Адепты хранили обществу верность, для которой не существовало государственных границ и национальной принадлежности. Это касалось и монархов, таких как Фридрих Великий. Всегда существовала опасность вовлечения в сообщество великого князя Павла, что непременно усилило бы направленную против нее конспирацию. Кроме того, и как глава православной церкви в России, и как проповедник принципов просветительства, Екатерина испытывала отвращение к тому, что считала в масонстве элементами предрассудков. Многое из того, что уже было построено в Царицыно, подверглось перестройке по распоряжению императрицы. В 1786 году Баженов был смещен и заменен на Матвея Казакова. Последний отрезок обратного пути компания проделала по воде, на галерах с собственными оркестрами, которые играли путешественникам до самого отхода ко сну — по реке Мета до Новгорода, через озеро Ильмень и по реке Волхов в Ладожский канал, а оттуда в Неву. Екатерина была довольна и путешествием, и своими спутниками.
«Нужно быть справедливой к монсеньору де Сегюру, — сообщила она Гримму. — Никто не был более приятным и мудрым, чем он. Казалось, он наслаждался нашим обществом и веселился, как жаворонок. Он писал для нас стихи и песни, а мы платили ему плохой прозой. Князь Потемкин заставил нас смеяться в течение всего плавания, и похоже, каждый старался внести свой вклад. Нас сопровождали прекрасная погода и чарующие виды»{908}.
Путешественники вернулись в Петербург 18 июня, и на следующий день Екатерина отправилась в Петергоф, где к ней присоединились Александр и Константин. Там она осталась на праздники по поводу своего восшествия и дня Святых Петра и Павла в конце месяца. Иностранные посланники разъехались по своим домам в городе, но Екатерина заметила: «Бог мой, они поехали бы со мной на край земли, если бы я попросила их»{909}. В июле Екатерина совершила еще одну коротенькую экскурсию со своими «карманными посланниками» и племянницей Потемкина, графиней Александрой Браницкой[58] (и, конечно, с Ермоловым), чтобы посетить свой новый дворец в Пелле и снова вернуться водой — по реке Неве. Она записала об этом веселом путешествии: «Монсеньор Кельхен уверял нас по пути, что невозможно умереть от смеха. Это, должно быть, правда, так как не умер никто, хоть смеялись с утра и до вечера»{910}. Она возвратилась в Царское Село 21 июля. Этим летом Александр и Константин расширили сферу своей активности до наружного декора, помогая белить снаружи Екатерининский дворец «под руководством двух шотландских рабочих»{911}. И к радости Екатерины, в августе прибыла коллекция резных камней Бретейля. 19-го она вернулась в Петербург без фанфар и оповещения. Это было результатом опыта прошлого лета, о котором она, как объяснила Гримму, сохранила полезные воспоминания:
«Вчера я вернулась в город так же внезапно, как в прошлом году. Я нашла это приятным: никто не сопровождал меня, никто не встречал. Я проскользнула как кошка, и никто ничего не заметил. А после моего появления первые двадцать четыре часа все твердили: она приехала под влиянием момента! Но и пустые фантазеры, и политики — все находили для этого подходящие причины, достаточно тонкие, чтобы пройти через игольное ушко. Тем временем ваша покорная слуга прогуливается по Эрмитажу, разглядывает картины, играет с обезьянкой, любуется голубями, попугаями, своими голубыми, красными и желтыми птичками из Америки и позволяет каждому говорить все, что ему вздумается, как обычно делают это в Москве»{912}.
Екатерина по-прежнему вела очень размеренный образ жизни. Единственное различие распорядков дня в Царском Селе и в Санкт-Петербурге состояло в том, что в первом она совершала долгие прогулки по паркам, а в городе бродила по своим галереям. Тем летом и осенью императрица, как обычно, вставала до шести часов утра, варила себе крепкий черный кофе (стало привычкой варить себе кофе собственными руками, так как она не хотела ни беспокоить слуг, ни чтобы они ее беспокоили в первые часы дня), затем шла в déshabillé в свой маленький кабинетик в Эрмитаже, к которому привязалась за время оплакивания Ланского, и там работала над своими «писульками». После этого она отправлялась посмотреть на картины или наблюдала в окно за лодками на Неве. В девять часов приходил ее «мастер на все руки» граф Безбородко (императрица присвоила ему титул графа Священной Римской империи в октябре 1784 года) с ежедневными докладами и вопросами, за ним являлись другие чиновники со своими отчетами. Далее она возвращалась в свои апартаменты, дабы одеться к обеду, а внуки тем временем болтали и играли вокруг нее. Обед накрывали в Эрмитаже для привычной компании избранных придворных. Затем наступало личное время, обычно проводимое ею (с Ермоловым) в своих апартаментах. В три часа она возвращалась (как правило, с фаворитом), в Эрмитаж, чтобы осмотреть, рассортировать и упорядочить последние поступления в коллекцию резного камня. Она могла также сыграть на бильярде, покормить орешками белую белку, которую сама приручила, поиграть с обезьянкой или опять пройтись по галереям. К четырем Екатерина возвращалась в свои комнаты во дворце, чтобы написать письма или почитать, а в шесть выходила в вестибюль — принять придворных, которые хотели с ней поговорить. В восемь она шла наверх, в личные entresol, где избранные друзья присоединялись к ней, чтобы сыграть в карты и поболтать. В одиннадцать она уже была в постели. В августе Екатерина сообщила Гримму, что к Фельтоновскому Эрмитажу скоро добавится новое здание Джакомо Кваренги, развернутое вдоль Зимней канавки и выстроенное специально, чтобы разместить там копии Рафаэлевских лоджий. На него уже ставилась крыша. 28 октября она рассказала о некоторых других постройках, возводимых Кваренги, включая ее новый Эрмитажный театр, который строился на другой стороне Зимней канавки и соединялся с остальным Эрмитажем мостиком.
«Этот Кваренги создает для нас удивительные вещи. Весь город уже начинен его зданиями. Он строит банк, биржу, ряд магазинов, лавок и частных домов, и его здания — самые лучшие. Он строит мне в Эрмитаже театр, который будет готов через две недели и интерьер которого радует глаз; он будет вмещать от двух до трех сотен человек, но не более»{913}.
Эрмитажный театр, скамьи которого нисходят полукольцом к сцене, окруженной розовыми мраморными колоннами и классическими статуями, был уменьшенной копией театра, веком ранее построенного в Виченце архитектором Палладио, который, в свою очередь, тоже скопировал дизайн — с древнего Римского театра. Когда новый храм лицедейства был завершен, Екатерина нашла его идеальным для постановки своих пьес. И марта 1786 года она написала Гримму: «В настоящий момент мы работаем над нашей седьмой в этом году пьесой для театра»{914}. О чем она не захотела упомянуть — так это о количестве работы, которую должны были выполнять ее бедные секретари, делая копии ее пьес. Несколько раз ее секретарь Александр Храповицкий (который вел тайный дневник своей рабочей жизни) делал записи о том, что ему приходилось работать всю ночь. Обычно за такую работу давали премию, но секретари не имели выбора — им оставалось только исполнять работу, и обычно со страшной скоростью. 22 апреля, днем позже пятьдесят седьмого дня рождения Екатерины и накануне отъезда двора в Царское Село, в Эрмитажном театре была поставлена опера «Февей». Либретто к ней написала императрица, а музыку — Дмитрий Бортнянский (который гораздо чаще писал церковную музыку). Третья внучка Екатерины, Мария Павловна, родилась третьего февраля 1786 года. Императрица написала о новорожденной: «Она не красавица, но чрезвычайно крупная»{915}. Еще один член семьи императрицы, хотя и не известный официально, несколько месяцев требовал ее забот. Алексей Бобринский, ее сын от Григория Орлова, наделал в Париже долгов (несмотря на получение щедрого ежегодного пособия). Он связался с людьми, которых его мать считала абсолютно неподходящей компанией, а также проявлял симптомы паранойи, как и его брат по матери Павел. Екатерина попросила Гримма объяснить ему, как следует получить деньги, и заверить, что он свободен оставаться за границей или вернуться домой. Она надеялась, что Гримм сможет уговорить молодого человека приехать навестить его, уточнив: «Вы увидите, что он не лишен интеллекта, но что очень трудно завоевать его доверие»{916}. 17 июня Екатерина совершила еще одну короткую поездку в Пеллу, взяв с собой Потемкина, Ермолова, графа де Сегюра, великого князя Павла, Александра и Константина. В этот день два ее живчика-внука усложнили ей работу над письмом Гримму:
«Сообщаю вам время начала написания письма, потому что моя рука трясется от смеха. Этим утром я приехала сюда из Царского Села с двумя внуками. Между их и моей комнатами расположена всего одна; соответственно, они внедрились в мою и подняли ужасный гвалт. Мне пришлось прогнать их прочь, чтобы получить покой хоть на миг. И еще — они вышли, распевая марш из оперы и держа под лапу каждый по собаке, как по принцессе»{917}.
Несмотря на счастливую домашнюю сценку, которую нарисовала тут Екатерина, в ее личной жизни все было не так уж хорошо. У неопытного и не очень умного Ермолова хватило глупости вообразить, что он может вытеснить Потемкина. Некоторое время отдельные недовольные придворные и чиновники (в том числе президент Коммерческой коллегии Александр Воронцов и Петр Завадовский, который всегда чувствовал некоторую враждебность к Потемкину) поддерживали Ермолова — и на миг даже показалось, что тот может добиться успеха. Граф де Сегюр был заинтересованным наблюдателем (и одним из сторонников Потемкина):
«Все недовольные высоким положением князя Потемкина объединились с монсеньором Ермоловым — и вскоре Екатерину со всех сторон начали бомбардировать доносами на Потемкина. Его обвиняли даже в растратах. Императрица обратила на эти сведения внимание и разозлилась. Вместо того, чтобы объяснить свое поведение и оправдать себя, гордый и дерзкий князь нанес встречный удар — резкими опровержениями, холодным поведением, почти постоянным презрительным молчанием. И наконец он не только прекратил официальные посещения своей государыни, но и вообще уехал, покинув Царское Село, и начал проводить дни в Петербурге со шталмейстером, ничем не занимаясь кроме посещения званых вечеров, развлечений и любви»{918}.
Потемкин приготовился пересидеть неприятности, сказав Сегюру: — Не беспокойтесь, дитя не сумеет свалить меня, и не представляю, кто рискнет. — Будьте осторожны, — ответил Сегюр. — До вас немало фаворитов в иных землях произносило гордые слова «они не посмеют» — и все они не замедлили раскаяться в них. — Ваше сочувствие трогает меня, — ответил Потемкин, — но я слишком презираю своих врагов, чтобы бояться их{919}. Тактика Потемкина сработала. Императрица нуждалась в нем и эмоционально, и в политическом плане, в то время как Ермолов был ей не слишком необходим. Она с легкостью приняла решение, когда князь представил ей другого протеже, своего дальнего родственника. Это был двадцатишестилетний Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов (часто называвшийся просто Мамоновым) — симпатичный гвардейский офицер, намного превосходивший Ермолова по внешним данным, интеллекту и образованию. 15 июля Ермолову отдали последние распоряжения. Отставка была передана от имени императрицы ее государственным секретарем (и экс-фаворитом) Завадовским; оплата его услуг включала сто тридцать тысяч рублей, четыре тысячи крестьян, отпуск на пять лет и разрешение на путешествие. Он покинул двор на следующий день. Через три дня Александр Дмитриев-Мамонов был назначен адъютантом императрицы. Теперь, когда все было сделано по его плану, Потемкин вернулся в Царское Село, и благодарный Мамонов подарил своему благодетелю золотой чайник с надписью «Ближе по сердцу, чем по крови»{920}. В августе 1786 года был издан Устав народных школ, а Комиссия по образованию стала Главной администрацией школ. Устав позволял создать среднюю школу в каждой столице провинции и начальную школу в каждом районном городе. Обучение должно было происходить в основном на русском языке; школы создавались для детей обоих полов и были открыты для выходцев из всех классов (хотя дети крепостных должны были получать разрешение на посещение школы от своего хозяина). Посещение было свободным, а не принудительным. Создание Екатериной пьес продолжалось. 8 сентября За-вадовскому дали прочитать пьесу «Рюрик». Дополненная пояснением «имитация Шекспира» (и никак иначе автором не подписанная), эта пьеса состояла из сцен жизни Рюрика — скандинавского вождя, призванного объединить враждующие славянские племена вокруг Новгорода, и таким образом ставшего основателем Руси. В тот же день Храповицкий засел за работу по копированию первого акта другой исторической пьесы императрицы — «Олег». В середине месяца Екатерина простудилась, очень осунулась, и свое письмо Гримму ей пришлось диктовать. Она воспользовалась возможностью представить нового фаворита (и секретаря) своему другу, прибегая, как делала часто, к прозвищам. К Мамонову она обращалась «господин Красный Сюртук» — потому что он любил этот цвет, выгодно подчеркивавший его красивые темные глаза и прекрасно очерченные брови:
«Мы, мой компаньон и я, только что прочли, что на аукционе продаются медали герцога Орлеанского. Пусть монсеньор императорский козел отпущения любезно примет участие в этой распродаже и купит медали целиком, как резные камни… Я диктовала много разного, но Сюртук не желает этого записывать; со временем вы поймете, кто таков этот Красный Сюртук, если еще не знаете»{921}.
Несколько недель спустя Екатерина поняла, что неразумно было не назвать Гримму верхний ценовой предел для покупки коллекций герцога Орлеанского, и с некоторой тревогой написала, чтобы он не поднимал цену выше сорока тысяч рублей за каждую коллекцию. В отличие от прочих фаворитов Екатерины, в первые дни своего пребывания в этом качестве Александр Мамонов сделал несколько попыток построить отношения с великими князем и княгиней — но не получил одобрения императрицы. Имел место случай, когда императрица отдала своей невестке пару сережек, которые первоначально были подарены ей Мамоновым. Этот акт, похоже, побудил Марию Федоровну позволить Мамонову выказать ей свое уважение. Но когда Мамонов спросил императрицу, можно ли ему пойти, Екатерина ответила: «Ты? Навестить великую княгиню? Зачем?»{922} — и послала невестке записку с просьбой, чтобы такого больше не повторялось. Мария Федоровна, как говорят, расстроилась и так плакала, что заболела. Позднее великий князь прислал Мамонову великолепную выложенную бриллиантами табакерку, но отказался принять фаворита, когда тот пришел поблагодарить его за подарок. После этого установились обычные отношения: великий князь старался как можно меньше замечать молодого любовника своей матери. Семнадцатого декабря Екатерина послала Гримму «метафизическое, физическое и моральное описание» Александра Мамонова (снова используя язык, каким описывала своих внуков, причем употребляя слова «мы» и «наши»); она явно была под большим впечатлением:
«Этот Красный Сюртук облекает существо, соединяющее в себе самое великолепное сердце с большим запасом честности; у него ума на четверых и море неисчерпаемой веселости; он оригинален в восприятии и в выражении, прекрасно образован, необычайно хорошо осведомлен во всех областях, что добавляют блеска рассудку. Мы насмерть скрываем свою любовь к поэзии; мы страстно любим музыку; мы с редкой легкостью все понимаем; Бог знает, чего мы только не знаем наизусть; мы декламируем, мы болтаем, мы легко поддерживаем разговор в любой, в том числе наилучшей компании; мы предельно вежливы; мы пишем по-русски и по-французски так, что здесь это редкость — и по стилю, и по почерку. Наша внешность прекрасно согласуется с внутренним содержанием: у нас правильные черты лица и два потрясающих черных глаза с бровями, проведенными так, что такое вряд ли еще увидишь. Мы выше среднего роста, благородного вида, с легкой походкой. Одним словом, мы так же здоровы внутри, как ловки, сильны и блестящи снаружи»{923}.
В декабре внезапно возникли осложнения в семье великой княгини — из-за ее невестки Зелмиры, которая вечером 17-го числа означенного месяца вбежала в покои императрицы после посещения Эрмитажного театра, кинулась на колени и попросила у Екатерины убежища и защиты от своего дикого мужа, брата Марии Федоровны, князя Фридриха Вюртембергского. Что Фридрих оскорблял жену (и мать троих его детей), Екатерине, похоже, было известно, так как она не выразила удивления по поводу нового поворота событий и предложила Зелмире немедленную помощь. Она написала князю Фридриху, убедительно предложив ему немедленно покинуть двор. Это требование не было «актом справедливости» — скорее хитрым, расчетливо отыгранным ходом:
«Дорогой кузен, сообщаю вашему высочеству, что княгиня со мной. На некоторое время моя резиденция послужит ей убежищем. Я намереваюсь отослать ее назад к родителям. В будущем ваше высочество может адресоваться к ним. Я не являюсь и не буду судьей в таком деле. Но я имею основания предположить, что ваше высочество не захочет оставаться тут дольше. Этим письмом я даю согласие на ваш отъезд в течение одного года. Советую воспользоваться моим согласием как можно скорее и освобождаю вас от обязанности получать официальное разрешение на отбытие. Если ваше высочество считает приемлемым уход с моей службы, дайте мне знать, чтобы я выслала документы»{924}.
На следующий день Екатерина написала о том, что произошло, Потемкину:
«Побои князя Вюртембергского вынудили его жену ретироваться в мои покои, потому что ее жизнь действительно была в опасности. Я воспользовалась этой очень удачной возможностью отослать обоих, и через несколько дней мы от них избавимся. Я сделала то, что должна была, и сделала хорошо: жена уедет к своим родителям, а муж может убираться куда захочет»{925}.
Следующими императрица информировала о случившемся сына и невестку — дабы гарантировать, что они не попытаются вмешаться:
«Мои дражайшие дети! Княгиня Вюртембергская спряталась в моих апартаментах. Я не могу отказать ей в убежище и защите. Я намерена отослать ее к родителям и обеспечить ей тем самым наименее несчастную судьбу в сложившихся обстоятельствах. Прошу вас сохранять спокойствие. Не пытайтесь пока увидеться с ней. Ия тоже не буду судьей в этом деле: оно носит такой характер, что его лучше скрыть под вуалью забвения и самого глубокого молчания. Это самое мудрое и благоразумное из всего, что я могу сказать о предмете, и к этому я попытаюсь все свести. Советую вам сделать то же самое и обязать к тому каждого, кто не желает копаться в чужом белье. Я написала князю Вюртембергскому письмо, копию которого прилагаю»{926}.
Как императрица, без сомнения, предвидела, ее невестка впала в полное неистовство от таких новостей, особенно же из-за трудностей, которые пали на ее брата. Она написала Екатерине следующее:
«Мадам! Мое волнение слишком велико, чтобы суметь выразить вам все, что я думаю. Мой брат служил Вашему императорскому величеству с усердием и преданностью, и, соответственно, не мог ожидать такой суровости, что покрыла его публичным позором. Все это повергает меня в отчаяние и окажется страшным ударом для тех, кто дал мне жизнь»{927}.
Ответ Екатерины не оставил места для дальнейшего обсуждения. Она ни в коем случае не разделяла общепринятый взгляд современников, что жене следует терпеть плохое обращение мужа, какова бы ни была его причина: «Не я покрыла позором князя Вюртембергского — наоборот, именно я пытаюсь погрести его мерзости в забвении, и моя обязанность — пресечь любые дальнейшие их всплески»{928}. Однако отношение Екатерины не разделил отец Зелмиры, который без расположения отнесся к желанию дочери получить развод. Поэтому вместо того, чтобы отослать Зел-миру к родителям, Екатерина разместила ее в замке Лод, имперском поместье на запад от Ревеля. Размолвка между Екатериной и ее сыном с невесткой никоим образом не исчерпывалась в это время темой князя Фридриха и его жены. Несколько месяцев Екатерина готовилась к большой инспекционной поездке к последнему имперскому приобретению — Крыму. Потемкин хотел организовать этот маршрут с самой аннексии в 1783 году. Поездка откладывалась, пока не уменьшилась угроза чумы на юге, но в марте 1786 года она была запланирована на следующий январь. Павел и Мария Федоровна надеялись быть включенными в свиту императрицы, но примирились более или менее с тем, что этого не произошло. К чему они были полностью не готовы — так это к новости, что Екатерина намерена взять с собой Александра и Константина. Узнали они об этом окольными путями — когда воспитатель получил приказ взять в свои руки подготовку к отъезду детей. Родители мальчиков сразу же написали императрице, уведомив ее о своем испуге. Как всегда, когда бывала вовлечена Мария Федоровна, они перестарались:
«В самом глубоком горе мы обращаем эти строки к вашему императорскому величеству, узнав только что о вашем намерении взять с собой наших сыновей в большое путешествие, которое вы намерены совершить. В первый миг потрясения и отчаяния из-за этой новости, а также слишком удрученные, чтобы общаться лицом к лицу, мы обращаемся к перу, чтобы высказать вам, мадам, все, что мы чувствуем по этому поводу. Мысль о грядущей оторванности от вашего императорского величества на шесть месяцев уже была сокрушительной для нас, но долг обязывал нас хранить по этому поводу молчание, мадам, оставляя печаль внутри себя, в то время как новость о приказах, которые вы только что отдали по подготовке к путешествию наших сыновей, тяжко поразила нас, потому что самая мысль об одновременном расставании и с вами, и с ними уже слишком тяжела для нас. Мы опираемся на свой опыт; память о том, что мы выстрадали во время такого же собственного отсутствия, делает для нас непереносимой необходимость пройти через все это снова. Соблаговолите прочесть эти строки с добротой и снисходительностью, мадам, почувствуйте между строк нежность, с которой мы адресуем их вам. Мы обращаемся к вашему материнскому сердцу, пусть оно судит нас, тогда нам не придется бояться отказа. Мы осмеливаемся открыть вам, мадам, картину нашей печали, наших страхов, наших тревог по поводу поездки наших детей; вы легко вообразите наше горе, мадам, вспомнив состояние, в котором мы были в момент своего отъезда за границу. Память об отлучении от вашего императорского величества и от наших детей, которые тогда были совсем крошками, все еще вызывает в нас столь горестные эмоции, что мы искренне не в состоянии найти силы перенести снова подобную разлуку. Наши страхи, мадам, касаются здоровья наших детей, чей нежный возраст вызывает вопрос, в состоянии ли они вынести усталость от долгого пути, предпринятого посреди зимы, а также смену климата — тем более, что мальчики еще не прошли через все обычные детские болезни. Наши страхи основаны также на том факте, что это путешествие и сильное возбуждение, которое будет естественным его следствием, может помешать их продвижению в образовании. Вот, мадам, справедливое и искреннее изложение того, что мы чувствуем. Вы, Ваше императорское величество, слишком справедливы, слишком добры, а сердцем слишком нежны, чтобы не считаться с мольбой отца и матери, которые после уважения и любви к вам не имеют чувств больших, чем нежность, которая привязывает нас к нашим детям»{929}.
Великих князя и княгиню мало удивило, что Екатерину не удалось убедить отказаться от своих планов. Ее ответ был абсолютно предсказуем:
«Мои дорогие дети! Мать, которая видит своих детей страдающими, может только посоветовать им умерить свои страдания, не лелеять мрачные и болезненные мысли и не предаваться печалям возбужденного воображения, а переключиться на причины, которые могут смягчить эти боли и успокоить эти тревоги. Ваши дети остаются вашими — но они также принадлежат и мне, и государству. С самого раннего их детства я сделала своей задачей и своим удовольствием самую нежную заботу о них. Вы говорили мне и лицом к лицу, и в письменной форме, что считаете заботы, которые я посвящаю им, истинным благом для будущего ваших детей и наилучшим из всего, что могло с ними произойти. Я нежно люблю их. И вот что я подумала: для меня, оторванной от вас, будет утешением иметь их возле себя. Из пятерых ваших детей трое останутся с вами. Разве справедливо, что я в мои преклонные годы буду на шесть месяцев лишена удовольствия иметь рядом кого-то из моей семьи? Что касается здоровья ваших сыновей, я абсолютно убеждена: их тело и душа укрепятся в этом путешествии. Климат в Киеве с января до апреля не отличается от здешнего — кроме того, что на несколько недель дольше весна. Также не пострадает и их продвижение в учебе, потому что учи — теля будут их сопровождать. В остальном я бесконечно благодарна нежности, которую вы дарите мне. Обнимаю вас обоих от всего сердца»{930}.
В следующем письме Павел и Мария Федоровна открыли свои истинные желания:
«С самой пылкой благодарностью мы прочли ответ, который дало нам Ваше императорское величество. Если мысль о расставании причиняет нам боль, то в вашей власти ее смягчить и заменить на утешающие и приятные эмоции. Мы принадлежим вам, мадам, даже с большей полнотой, чем наши дети, и бесценное счастье — находиться рядом с вами и с нашими сыновьями. Что касается дочерей, то у них пока нет других потребностей, кроме физических, и присутствие отца и матери для них пока не является жизненно необходимым. Мы можем обходиться без всего и жить светло, когда не оторваны от вас и наших мальчиков. Вот вам излияние наших сердец, которые целиком принадлежат вам; искренние чувства тех, кто является вашими детьми, дорогая мама, — Павлом и Марией»{931}.
Написанный по-русски ответ императрицы на это письмо был однозначным: «Должна вам искренне сообщить: ваше последнее предложение такого сорта, что вызывает одно огорчение. Не стоит даже говорить о том, чтобы ваши самые маленькие дети остались абсолютно заброшенными»{932}. Похоже, так и должно было сложиться — на помощь великим князю и княгине пришли «обычные детские болезни». Александр и Константин свалились с ветрянкой, и, к огромному огорчениюимператрицы, их пришлось оставить дома.
18. Великое путешествие в Крым и «притчи» в Петербурге (1787–1789)
Все это так походит на сны из «Тысячи и одной ночи», что нет уверенности в пробуждении.Императорский обоз, состоящий из четырнадцати огромных экипажей, поднятых на колеса, и ста двадцати четырех саней с сорока дополнительными в резерве, отправился из Царского Села 7 января 1787 года. Графиня Протасова, Александр Мамонов, граф Кобенцл, Лев Нарышкин и великий камергер Иван Шувалов путешествовали с императрицей в ее карете, которая была подобна дому, вмещавшему спальню, гостиную, кабинет и библиотеку; ее везли три десятка лошадей. Граф де Сегюр ехал во второй карете — с Алланом Фицгербертом и графом Иваном Чернышевым. Снова «карманные посланники» по очереди занимали места в головном экипаже: Сегюр и Фицгерберт менялись местами с Кобенцлом и Нарышкиным или, в некоторые дни, с Шуваловым. Потемкин уехал в Крым раньше, чтобы сделать последние приготовления. Бесчисленная обслуга, принимавшая участие в громадном путешествии, включала кучеров, прачек, докторов, аптекарей, разнообразных поваров, полировщиков серебра и других специалистов, требующихся для нормального функционирования путешествующего двора. Пятьсот шестьдесят лошадей ждали на каждой почтовой станции. Температура была 30° ниже нуля по Цельсию; все участники великого похода, помимо собольих шапок, были укутаны в громадные шубы из медвежьих шкур, надетые поверх пальто. Дни были очень короткими, и когда около трех часов дня наступала темнота, по краям дороги разжигали огромные костры, чтобы освещать путь императорскому поезду. Когда кавалькада приближалась к городам и деревням, жители, несмотря на страшный холод и снег, выходили навстречу и выстраивались рядами вдоль дороги, чтобы приветствовать свою государыню — которая во время путешествия придерживалась, насколько это было возможно, своего обычного графика. Как описал Сегюр, «она вставала в шесть утра и работала со своими министрами, затем завтракала и принимала нас. Мы уходили в девять часов, а в два останавливались на обед. Затем мы возвращались в свои экипажи и ехали до семи»{933}. Екатерина работала также большую часть вечера — с девяти до одиннадцати часов. Во время всего путешествия Мария Федоровна сообщала императрице малейшие подробности о жизни семьи в Санкт-Петербурге:Екатерина II — Фридриху Мельхиору Гримму
«Мой супруг кланяется вам земно, мадам, и будет иметь честь написать вам в пятницу; чтобы доставить себе удовольствие писать вам более часто, не беспокоя Ваше императорское величество слишком большим количеством писем одновременно, мы чередуем наши письма. Дети все здоровы, кроме Константина, у которого все еще сыпь; но в остальном он весел, как вы, мадам, узнаете из отчета монсеньера Салтыкова. Кашель Марии уже слабее, но у нее еще нет зубов [Мария Федоровна, вероятно, считала, что кашель детей является признаком режущихся зубов]. Александра учится с большим, усердием и особенно старается научиться писать слово «бабушка». Что касается хорошенькой Елены, как только она видит учителя своей сестры, сразу же говорит ему «до свидания» весьма настоятельным тоном; она всегда сама веселость»{934}.
Императрица ответила так:
«Надеюсь, Александра будет твердо помнить данное мне обещание — во время моего отсутствия быть во всем такой же хорошей девочкой и также ответственно относиться к обучению письму. Ее сестра еще слишком мала, чтобы понимать, какую пользу должно принести обучение»{935}.
Александра Мамонова в начале путешествия лихорадило, и когда 14 января колонна остановилась в Смоленске, у него была высокая температура и болело горло. Императрица решила для его безопасности провести в городе на несколько дней дольше, чем намеревалась первоначально. В данном случае доктор Роджерсон удачно угадал с «курсом лечения». Мамонова подняли на ноги — или, по крайней мере, не помешали ему подняться естественным путем — порошки Джеймса и шпанская мушка. У нескольких человек из-за долгого пребывания на холоде в снегопад начали болеть глаза, поэтому им тоже пошла на пользу передышка. Тем не менее, для отдыха возможностей оказалось мало. Императрица решила, что обязана использовать свое время на каждой остановке с максимальной отдачей, принимая на хозяйских балах местных сановников, представителей купечества и горожан различных классов. Сепор записал: «Я был рад окончанию этих трех дней, которые императрица с удовольствием именовала днями отдыха, и которые, до предела заполненные аудиенциями и представлениями, показались мне гораздо более утомительными, чем дни переездов»{936}. В свободное время по вечерам участники императорского поезда развлекались шарадами или сочинительством, а также беседами. Однажды Екатерина спросила своих компаньонов, кем бы могла стать, родись она мужчиной и рядовой личностью. Сегюр записал ответы:
«Мистер Фицгерберт ответил, что она была бы мудрым юристом; Кобенцл — что она стала бы выдающимся министром или послом; я предположил, что она стала бы знаменитым генералом. «О, — ответила она, — вот тут вы не правы. Голова у меня слишком горяча: я бы рискнула всем, чтобы добиться славы еще будучи младшим лейтенантом — и разбила бы себе голову в первую же кампанию»{937}.
Поезд покинул Смоленск 19 января, направившись на Мстислав, а затем на Кричев — имение в Могилевской губернии, принадлежавшее князю Потемкину. 22 января императрица была в Новгороде-Северском на Украине, где устроила еще один бал (и где построенная по случаю ее визита триумфальная арка стоит до сих пор). 25-го она прибыла в Чернигов и опять дала бал, а 28-го была уже в Нежине. 29 января поезд достиг Киева. Тут завершался первый этап путешествия. Теперь предстояло дождаться, пока лед на Днепре растает достаточно для начала навигации. Императрицу поселили в новом, элегантном и богато украшенном дворце. Там она принимала городское духовенство, аристократов, дворян и купцов, а также иностранцев, желающих с ней повидаться. Тут, как и везде, ее целью была работа — она стремилась выяснить, насколько хорошо функционирует местная администрация (и удостовериться, что ее собственная популярность не падает). Сегюр описал, как она это делала:
«Императрица везде, не ограничиваясь банальными фразами, заботливо расспрашивала чиновников, епископов, помещиков, купцов об их положении, состоянии, пожеланиях и нуждах. Так она обретала любовь подданных и использовала возможность выяснить правду, в том числе о чудовищных злоупотреблениях, которые огромное количество людей было заинтересовано скрыть от нее. «Разговаривая с невежественными людьми об их делах, — сказала она мне однажды, — узнаешь гораздо больше, чем обратившись к экспертам, которые не владеют ничем, кроме теорий, и которым должно быть стыдно высказывать нелепые суждения о вещах, о которых они не располагают никакими реальными знаниями. Как я их жалею, этих бедных экспертов! Они никогда не осмелятся произнести три простых слова: «Я не знаю», которые так полезны всем нам, несведущим людям, ибо иногда сомнения предохраняют нас от опасных решений. Лучше ничего не делать, чем совершать ошибки»{938}.
Пока императрица со свитой находились в Киеве, прибыл Потемкин в сопровождении принца Карла де Нассау-Зигена — солдата удачи и наследника крохотного герцогства. Принц де Линь тогда же приехал из Вены. Часть огромных расходов на путешествие (и на пропаганду) — расходов, частично компенсируемых сбором особого налога — обуславливало гостеприимство, оказываемое иностранным посланникам. Вот как описал это Сегюр:
«По прибытии в очень красивое здание, куда меня определили на жительство, я нашел в нем множество провизии любого рода. Императрица также обеспечила всех нас maître d'hôtel (метрдотелем), камердинерами, шеф-поварами, офицерами, лакеями, кучерами, экипажами, форейторами, прекрасным столовым серебром, великолепным бельем, несколькими фарфоровыми сервизами, редкими винами — ничто не было упущено для создания самого замечательного обслуживания. Она запретила платить за что-либо. Ина протяжении долгого путешествия мы не имели других трат, кроме раздачи подарков хозяевам домов, где мы останавливались; подарки должны были соответствовать рангу и положению наших хозяев»{939}.
Этот блистательный образ жизни, похоже, надоел Сегюру, который надеялся, что в путешествии будет больше новизны, чем в обычной рутинной придворной жизни — короче, он надеялся оказаться скорее «туристом», чем придворным. Его разочарование достигло императрицы и подтолкнуло ее к озвучиванию концепции своей рабочей поездки:
«Я обронил сердитые слова о том, сколь раздражающе путешествие в такую даль, если в нем ничего не увидеть, кроме придворных, ничего не услышать, кроме православных литургий, и ничего не посетить, кроме балов. Екатерина узнала, что я думаю, и сказала: «Мне сообщили о вашей критике — мол, я путешествую по своей империи, ничего не делая, лишь устраивая аудиенции и празднования во всех городах. Но у меня есть на то причины: я устроила вояж не для того, чтобы увидеть места и людей. О местах я знаю вполне достаточно по картам, описаниям и источникам прицельно собранной информации, которой не смогла бы собрать сама за время краткого визита. А что мне нужно — так это дать людям возможность приблизиться ко мне, самой подойти к их жалобам и заставить бояться тех, кто своим поведением пытается оскорбить мой авторитет, так как я раскрою их ошибки, их халатность, их несправедливость. Вот что я наметила получить от своего путешествия. Даже сообщения о нем делают доброе дело. Мой принцип таков — от хозяйского глаза лошадь толстеет»{940}.
Балы, празднества и маскарады пришли к концу с наступлением в понедельник 8 февраля Великого поста. Неделей позже императрица посетила Печерский (от слова «пещера») монастырь и поклонилась его реликвиям. Из Киева она написала Гримму: «Это странный город с крепостями и пригородами; но я еще должна отыскать здесь истинный город, который, согласно тому, что о нем говорят, был в древние времена по крайней мере так же велик, как Москва»{941}. Тем временем Потемкин остановился в Печерском монастыре, наплевав на дворцы и богатые дома, где расположилась остальная императорская свита. Он устроился там так, что Сегюр назвал это «азиатским двором»{942} — раскинувшись на диване в длинном халате, с большими шлепанцами на ногах, с непричесанной головой. В течение недель, проведенных императрицей и ее сопровождением в Киеве, Александр Мамонов счастливо развлекался с «карманными посланниками», в число которых Екатерина включила де Линя. Последний записал, что никогда ничего даже отдаленно неверного не было в публичном поведении Екатерины по отношению к фавориту: «Ни малейшего неприличия, ни очевидного проявления нежности на публике; императрица никогда не позволяет ни себе, ни кому-либо еще ни малейшего легкомыслия в отношении морали или религии»{943}. Графу де Сегюру пришлось тяжко испытать этот запрет, как он сам рассказал впоследствии:
«Однажды, когда я сидел напротив нее в экипаже, она высказала пожелание услышать образчик-другой каких-нибудь веселых виршей моего сочинения. Легкая фамильярность, которую она позволяла людям, путешествовавшим с ней, присутствие ее молодого фаворита, память о тех, кто ему предшествовал, ее веселость, ее переписка с де Линем, Вольтером и Дидро позволяли предполагать, что она не будет шокирована откровенной любовной историей. Поэтому я прочел одно стихотворение — немножко рискованное, но достаточно пристойное по форме, чтобы быть принятым в Париже герцогом де Ниверне, принцем де Бово и дамами, чья добродетель равна их дружелюбию. К огромному моему удивлению, я внезапно увидел, как лицо моей смеющейся попутчицы превратилось в лик величественной государыни, которая прервала меня абсолютно посторонним вопросом и тем самым изменила тему разговора. Через несколько минут, дабы показать ей, что я усвоил урок, я попросил ее прослушать другой отрывок, совсем иной по природе, и на него она обратила самое благосклонное внимание; когда она хотела, чтобы ее слабости уважали, она старалась прикрыть их вуалью приличий и чувства собственного достоинства»{944}.
А в столице ветрянка Александра и Константина сменилась легкой атакой скарлатины; Елена также демонстрировала подозрительные симптомы. Великие князь и княгиня беспокоились за своих малышек, так как те не были еще привиты от оспы — а доктора сообщили им, что иногда скарлатина сопровождается оспой. Поэтому 20 марта Мария Федоровна написала императрице, прося ее разрешения как можно скорее привить двух старших-девочек; придворные доктора рекомендовали для проведения этой операции доктора Холидея. Екатерина целиком одобрила просьбу, явно довольная в данном случае здравым отношением невестки к прививке{945}. Прививку делали в Царском Селе. Увлекавшаяся садоводством Мария Федоровна в этой теме находила полное взаимопонимание со свекровью; тут она тоже любила причуды, обладала чувством юмора и была полна энтузиазма, в отличие от мелодраматизма и излишней эмоциональности в прочих обстоятельствах. Екатерину и порадовало, и рассмешило письмо с вложением великой княгини от семнадцатого апреля: «Я нашла на лужайке пучок свежей травы, сразу же подобрала его — и мне пришло в голову, что первая свежая зелень из дорогого Царского Села может доставить вам удовольствие, дорогая мама, или что вы по крайней мере рассмеетесь примысли, что ее послали в путешествие за шесть тысяч миль. Поэтому я и отправляю травку вам»{946}. Екатерина ответила, послав образчик травы из Кременчуга. Мария Федоровна сообщила также о продвижении в строительстве под руководством Камерона новой галереи — ее крышу поддерживали ионические колонны, заканчивалась она портиком, от которого спускались две грациозные лестницы, соединяясь на полпути вниз: «Мы ходили посмотреть огромную лестницу галереи и нашли ее уже украшенной статуей Геркулеса, которая производит потрясающий эффект; весь ансамбль великолепен и действительно оставляет сильное впечатление»{947}. Наконец, двадцать второго апреля императорская колонна покинула Киев, погрузившись на семь пурпурно-золотых галер, построенных специально для вояжа англичанином Самюэлем Бентамом (кораблестроитель, брат философа Джереми Бентама, он приехал в Россию, чтобы подняться по карьерной лестнице и поэкспериментировать с новыми конструкциями) под руководством Потемкина. Каждая галера, декорированная изнутри золотом и шелком, имела собственный оркестр. На императорской галере, названной «Днепр», плыли Екатерина, Александр Мамонов и графиня Протасова. Граф Кобенцл и мистер Фицгерберт разместились на второй, принц де Линь и граф де Сегюр на третьей. Каждая персона имела личную спальню и кабинет; комнаты были меблированы удобным диваном, обтянутой тафтой кроватью и письменным столом красного дерева. Другие галеры занимали Потемкин с племянницами, главный камергер, шталмейстер, министры и важные чиновники. Была предусмотрена огромная обеденная баржа. На галерах были даже туалеты с собственной системой подачи воды — о такой роскоши не слышали в большинстве домов. За галерами следовала флотилия из восьмидесяти судов, несущая три тысячи солдат, военное имущество и снаряжение. Не удивительно, что зрелище привлекало множество зрителей. Сегюр записал:
«Неохватные толпы народа начинали приветствовать императрицу шумными возгласами, едва заметив, как вдалеке матросы эскадры Ее величества под пушечную канонаду ритмично вспарывают воды Борисфена[59] раскрашенными сверкающими веслами. Постоянно обновляющиеся толпы зевак, выстроившиеся вдоль берегов реки, прибыли со всех уголков империи, чтобы полюбоваться на продвижение нашего кортежа и предложить продукты различных климатических поясов в виде дани своей государыне»{948}.
Все деревни и дома, мимо которых проплывал караван судов, были украшены цветами и триумфальными арками; от этого, вероятно, и возник миф о том, что Потемкин строил вдоль всего маршрута бутафорские деревни и города — «Потемкинские деревни». Галеры очень медленно двигались по извилистой реке со множеством мелей и делали частые остановки. Сегюр описал порядок жизни на судах:
«Свободными у нас были только утра. Мы с приятностью проводили их в чтении, разговорах, визитах с одной галеры на другую, прогулках по берегу. Ежедневно в час пополудни мы собирались на галеру императрицы (сзывали нас выстрелами пушек), где обедали с нею. Обычно ее стол не накрывали более чем на десять приборов. Раз в неделю она приглашала всех, кто имел честь сопровождать ее. Тогда обед накрывали на очень большой барже, где легко размещалось шестьдесят приглашенных»{949}.
25 апреля галеры причалили напротив города Канева и состоялась встреча, вызвавшая большой интерес у свиты императрицы — встреча Екатерины и ее бывшего любовника Станислава Понятовского. Сама она описала это событие Гримму очень коротко: «Вчера польский король провел девять часов на борту моей галеры. Мы вместе пообедали. Прошло почти тридцать лет с тех пор, как я видела его в последний раз. Можете судить, нашли ли мы изменения друг в друге»{950}. Воспоминания Сегюра оказались куда подробнее и сентиментальнее:
«Корабельная и городская артиллерия объявили о сближении двух монархов. Екатерина выслала нескольких офицеров высокого ранга на элегантной лодке, чтобы приветствовать короля Польши. По их прибытии король во избежание утомительного этикета решил соблюдать инкогнито, что явно плохо сочеталось с таким великолепием. Он сказал им: «Монсеньоры, король Польши попросил меня представить вам графа Понятовского». Когда он поднялся на борт императорской галеры, мы столпились вокруг: нам хотелось увидеть первые эмоции и услышать первые слова августейших особ, встречающихся в обстоятельствах, отличных от тех, в которых они виделись раньше, когда их связывала любовь, разделяла ревность и преследовала ненависть. Но наши ожидания почти полностью не оправдались: после обмена приветствиями — степенными, величественными и холодными, во время которых Екатерина протянула Станиславу руку, — они ушли в кабинет и оставались там полчаса»{951}.
Когда два монарха показались после разговора наедине, придворные и министры попытались угадать по их лицам, о чем они думают, — но безуспешно. Екатерина казалась необычайно напряженной, и Сегюр решил, что разглядел налет печали в глазах короля. Затем всех отвезли в лодках на парадную баржу — на обед. Король сидел справа от императрицы, граф Кобенцл — слева. Напротив них сидели Потемкин, Фицгерберт и Сегюр. Последний заметил: «Мы мало разговаривали и ели, но много разглядывали друг друга. Мы слушали прекрасную музыку и пили за здоровье короля под аккомпанемент громких залпов артиллерии»{952}. Императрица, по словам ее секретаря Храповицкого, описала обед гораздо более прозаично: «Князь Потемкин не сказал ни слова. Я была вынуждена разговаривать не останавливаясь — аж высох язык»{953}. Далее была маленькая сценка галантности между бывшими любовниками: «Покинув стол, король взял перчатки и веер императрицы из рук пажа и протянул их ей. Потом он огляделся и не нашел своей шляпы. Императрица, которая заметила ее, принесла шляпу и подала ему. «О, мадам, — сказал Станислав, беря свой головной убор, — когда-то вы дали мне гораздо лучшую»{954}. Затем императрица вернулась с королем и некоторыми придворными на императорскую галеру. Король отбыл в восемь часов. Как только солнце село, запустили огромный фейерверк, превратив гору Канев в вулкан. Флотилия тоже была иллюминирована. Король дал прекрасный бал, который посетили члены императорской свиты, но не Екатерина. Король надеялся, что императрица останется у причала Канева хотя бы еще на один день, и сделал соответствующие приготовления. Но то ли он не передал своего желания группе сопровождения Екатерины, то ли Потемкин решил игнорировать просьбу и ничего не сообщил императрице, которая в любом случае жаждала скорейшей встречи с императором Иосифом, снова путешествовавшим под именем графа Фалькенштайна. Этим вечером она написала Потемкину:
«Александр Матвеевич [Мамонов] сказал мне о желании гостя, чтобы я осталась тут еще на один-два дня, но ты сам понимаешь, что это невозможно из-за моей встречи с императором. Поэтому, пожалуйста, дай ему знать самым любезным образом, что нет никакой возможности поменять мой маршрут. И более того, я ужасно не люблю менять планы, как ты прекрасно знаешь»{955}.
Когда король стал настаивать, попросив, чтобы императрица задержалась на следующий день хотя бы до послеобеденного времени, она отказалась еще яснее:
«Когда я принимаю решение, это обычно не праздный каприз, как часто бывает в Польше. Поэтому я уезжаю, как и сказала, завтра и желаю ему всех мыслимых радостей и благополучия»{956}.
28 апреля Екатерина написала о своем согласии с желанием сына и невестки сделать прививки двум старшим дочкам — с условием, что девочки должны не только не находиться в Екатерининском дворце, но также быть подальше от садовых павильонов Царского Села, в которых они любили играть и где, как она боялась, на стульях, столах и занавесях могла остаться инфекция (в то время это было обычным опасением). Мария Федоровна в тот же день написала подробный отчет о результатах прививки (которая была уже сделана 22 апреля):
«Наши малышки в хорошем здравии и пока без лихорадки, хотя доктора ожидают, что лихорадка появится завтра или еще через день. На третий день место, где была сделана прививка, покраснело, вчера вспухло, и у обеих появилось по два маленьких пузырька с какой-то жидкостью внутри. Наконец Холидей и другие врачи заявили нам, что вид реакции вполне подходящий — это их выражение, и я передаю его Вашему императорскому величеству; они утверждают, что все пройдет наилучшим образом. Вчера вечером Холидей заставил их принять порошок Димсдейла, а этим утром — немного слабительного, что уже произвело свое действие. Дети веселы и счастливы, цвет лица у них здоровый — никто не верит, что они накануне лихорадки. Их питание составляют молоко и фрукты; в комнатах прохладно, воздух свежий, одеты они в льняные костюмчики — короче, все идет так, как происходило с сыновьями… У Александры несколько крохотных точек под глазками, они сомнительны и могут оказаться просто рябинками»{957}.
«Царское Село особенно красиво этой весной, — добавила Мария Федоровна, — погода теплая, воздух чистый, запах свежей травы проникает во дворец». Тем временем Екатерина находилась в Кременчуге, остановившись в «большом, великолепном и очаровательном здании»{958}, построенном Потемкиным возле дубовой рощи. Потемкин смог также с помощью садовника Уильяма Гулда, протеже Ланселота «Умельца» Брауна, за несколько дней создать для императрицы «английский парк» — с деревьями, кустарниками, цветами, гравийными дорожками, скамейками и фонтанами. Екатерина отбыла по воде 3 мая; ее спутники все еще казались ей занимательными: «Если бы вы знали все, что говорилось и делалось каждый день на моей галере, вы бы умерли от смеха. Все путешествующие со мной так привыкли к моей компании, что ведут себя будто дома»{959}. Однажды граф де Сегюр попытался научить императрицу писать стихи. Четыре дня она пыталась рифмовать, но, как позднее призналась Гримму, безуспешно: «Этому нужно уделять слишком много времени, а я начала слишком поздно»{960}. Фицгерберт попытался утешить императрицу, немного расстроенную отсутствием у нее поэтического дарования, сказав, что никто не может быть одинаково превосходен во всем, и посоветовал довольствоваться строфой, которую она создала однажды о своей борзой:
«Седьмого числа сего месяца, находясь на своей галере возле селения Кайдаки, я узнала, что граф Фалькенштайн несется ко мне во весь опор. Я немедленно высадилась, чтобы обогнать его. Мы оба мчались так быстро, что встретились нос к носу в чистом поле. Первыми словами, которые он мне сказал, были слова о том, что мы обманули всех политиков — ибо никто не увидит нашей встречи. Он был со своим послом, а яс принцем де Линем, мистером Красный Сюртук и графиней Браницкой»{962}.
Император и императрица («их объединенные величества», как говорила Екатерина) проследовали вместе в Кайдаки, где встретились с непредвиденной проблемой — отсутствием какого бы то ни было обеда. Шеф-повара и провизия Екатерины все еще находились в нескольких милях выше по реке, с ее флотилией. Потемкин был слишком занят подготовкой встречи, чтобы подумать еще и о еде. Второпях сымпровизировали обед: Потемкин был за шеф-повара, принц Нассау за поваренка, а графиня Браницкая за кондитера. Екатерина с Иосифом, хотя ни один из них не был гурманом, вынуждены были признать, что едали обеды и получше. 9 мая два монарха вместе уложили первый камень в основание нового города Екатеринослава (теперь Днепропетровск на Украине). Затем они три дня продвигались в сторону Херсона, куда и вошли вместе. Екатерина описала город сыну и невестке следующим образом: «Город Херсон очень красив для существа шести лет от роду; местность чудесная, так как тут растет все — только пожелай. Без преувеличения можно сказать, что все тут распланировано и строится наилучшим образом»{963}. 15 мая Екатерина и Иосиф спустили на воду три военных корабля — седьмой, восьмой и девятый из серии, построенной в Херсоне. Хотя император Иосиф смог оценить способности Потемкина и поэтому понял до некоторой степени его прочное положение в Российской империи и его влияние на императрицу, — он был поражен привязанностью Екатерины к Александру Мамонову. «Чего я не понимаю, — заявил он графу де Сегюру, — это как столь гордая женщина, дорожащая своей репутацией, может проявлять подобную слабость к капризам своего молодого адъютанта Мамонова, который на деле не более чем испорченный ребенок»{964}. Императрица, со своей стороны, испытывала сомнения по поводу некоторых аспектов поведения императора. Ее секретарь Храповицкий сохранил ее слова: «Я все вижу и слышу, но не лезу во все постоянно, как император. Он прочитал огромное количество книг и знает ужасно много, но, будучи очень требователен к себе, требует неутомимости и недостижимого совершенства от каждого. Он не знает русской пословицы «среди работы не забывай об отдыхе»{965}. Хотя Иосиф осуждал Екатерину за ее отношения с Мамоновым, он и сам был в этом путешествии не без греха. Как рассказал принц де Линь, однажды ранним утром император (инкогнито, конечно) попытался обольстить молодую крестьянку. Но внезапно нагрянул хозяин девушки, избил ее и обругал «графа Фалькенштайна», пригрозив пожаловаться губернатору провинции. Смущенный император, испугавшись, что императрица может прослышать об инциденте, доверился де Линю. Последний разрешил ситуацию, «взяв вину за разнузданность» с девушкой на себя — это, как он сообщил, развеселило императрицу — и перекинул проблему на хозяина, пригрозив тому доложить государыне, что он избил крепостную. Другой инцидент с «плохим мужским поведением» привел к напряженности в отношениях де Линя и Сепора с императрицей. Эти двое озорников пятидесяти двух и тридцати четырех лет соответственно решили, что их путешествие будет незавершенным, если они не увидят мусульманских женщин без чадры. Они спрятались за кустами и выследили трех женщин, без чадры сидевших у ручья. Но мужчины были разочарованы, увидев, что женщины и не молоды, и не красивы. Де Линь безжалостно заметил: «Вероятно, Мухаммед был прав, когда захотел, чтобы они были закрыты»{966}. А затем он совершил ошибку, рассказав эту историю за обедом (несмотря на попытки Сепора заставить его замолчать, щипая под столом). За рассказом последовал выговор императрицы:
«Монсеньоры, эта шутка имеет очень дурной вкус и подает дурной пример. Вы находитесь среди людей, покоренных моей армией, и я хочу, чтобы их законы, их религия, их обычаи и предубеждения уважались. Если бы кто-нибудь рассказал мне об этом происшествии, не называя имен героев, я никогда бы не заподозрила вас. Я бы, вероятно, вообразила, что преступники — кто-то из моих пажей, и жестко наказала бы их». Нам было нечего возразить. Принц де Линь молчал, как и я, и более того — был смущен из-за своей глупой болтливости»{967}.
Их раскаяние удовлетворило императрицу, которая впоследствии позволила им, спрятавшись за ширмой, наблюдать за аудиенцией мусульманской принцессы (без чадры). 19 мая императрица и Иосиф добрались до Перекопа, а 20-го прибыли в Бахчисарай, еще недавно столицу Крымского ханства (его татарское название переводится как «Садовый дворец»). На Екатерину его облик произвел огромное впечатление, особенно высокие горы, которые император Иосиф сравнил с Альпами:
«То был великолепный спектакль: предшествуемые, подпираемые сзади и окруженные с флангов [верховыми татарами], в открытых экипажах по восемь персон в каждом, мы въехали в Бахчисарай и сразу направились к резиденции ханов. Нас поселили среди минаретов и мечетей, где люди кричали, молились, пели и крутились на одной ноге пять раз в сутки. Мы отлично слышали все это за своими окнами. Так как сегодня праздник Константина и Елены, мы отстояли молебен — во дворе, в специально установленной палатке. О, какое тут идет любопытное представление!»{968}
На следующий день Екатерина и Иосиф осмотрели в Инкермане российский черноморский флот, и императрица выпила за здоровье «своего лучшего друга императора»{969}. (Этот тост, однако, отличался от официального отчета о путешествии.) Тем временем Александр и Константин выехали из Царского Села, чтобы встретить бабушку на обратном пути. От Инкермана императорский поезд добрался до Севастополя, откуда Екатерина сообщила в письме Гримму: «Бог мой, все это так походит на сны из «Тысячи и одной ночи», что нет уверенности в пробуждении»{970}. Следующими городами для посещения были Симферополь, Карасубазар (теперь Белогорск) и Старый Крым. «Этот тур по Крыму оказался очаровательной экскурсией, — написала Екатерина невестке, — и я ничуть не устала. Граф Фалькенштайн расстанется с нами в Бериславе [город на Днепре], а оттуда уже я отправлюсь домой»{971}. Должным образом попрощавшись с императором, Екатерина двинулась в обратный путь, прибыв в Кременчуг 4 июня. Через четыре дня она наградила Потемкина почетной приставкой к его имени «Таврический» (от «Тавриды», — то есть Крыма). Награда была объявлена при символической остановке в Полтаве, где пятьдесят тысяч человек русских войск разыграли перед императрицей и ее свитой великую битву 1709 года, в которой Петр Великий победил шведского короля Карла XII. 9 июня императрица прибыла в Константиноград, а десятого — в Харьков. Тут Потемкин покинул ее и вернулся в Кременчуг. Проехав через Курск, Орел и Мценск, Екатерина 20 июня прибыла в Тулу. Теперь она была очень уставшей и не посетила бал, данный дворянством города. 23-го она встретилась в Знаменском со своими любимыми внуками и вместе с ними направилась в свой дворец в Коломенском, в нескольких милях от Москвы, куда и прибыла вечером. Через два дня она сообщила Гримму, что мальчики устраивают в ее комнате страшный шум, но после шести месяцев разлуки было бы жестоко отсылать их прочь. Императрица официально вступила в Москву 27 июня, во время празднования двадцать пятой годовщины своего восшествия на престол, и оставалась там до 4 июля. Обратное путешествие проходило без приключений и пролегало через Тверь, Торжок, Вышний Волочок и Новгород. Екатерина вернулась в Царское Село в полдень 11 июля. Через два дня она написала Потемкину, поблагодарив его и сообщив, какие ему возносятся хвалы:
«Два дня назад мы закончили наше путешествие длиной в шесть тысяч верст, вернувшись в прекрасном состоянии, и с того самого часа без устали рассказываем об отличных условиях в местах, доверенных тебе, — результате твоего труда, — о достижениях, об усердии, о прилагаемых усилиях и заботе и об остальных качествах, которые ты повсюду проявляешь. Итак, мой друг, наши почти непрерывные разговоры касаются, впрямую или не впрямую, тебя и твоей работы»{972}.
Великий князь Павел был одним из тех, кто решил не верить рассказам государыни о том, что она видела в Крыму, заметив принцу де Линю, с которым ладил: «Люди не делают ничего, только морочат императрицу… Все сделанное и увиденное в Крыму — чистая выдумка»{973}. Де Линь парировал: хоть какие-то «фокусы», может быть, и имели место, но очень многое было реальным, и Екатерина действительно проверяла все сама и видела за дымовой завесой. Павел возразил, что ясное видение недоступно женщине, и в этом причина, почему «эти русские плуты» хотели, чтобы ими правила женщина. Де Линь заметил по поводу этой вспышки: «Великая княгиня опустила глаза, и около четверти часа мы все трое чувствовали неловкость из-за вырвавшегося замечания»{974}. После похожего на сказку Крыма Екатерине пришлось столкнуться с обыденным фактом, что большая часть ее империи испытывает недостаток пищи в результате и плохого урожая, и халатности некоторых губернаторов. 7 августа в Петербурге заволновались рабочие. Делегация из четырехсот рабочих, выходцев из крестьян, пришла в Зимний дворец (куда Екатерина вернулась лишь днем раньше) в надежде передать петицию лично императрице. Несмотря на провозглашавшееся во время тура по Крыму стремление обеспечить открытый доступ подданных, это оказался не тот доступ, который имела в виду Екатерина, и дворцовая стража была развернута, чтобы отогнать рабочих — чего она и достигла, арестовав семнадцать человек и обвинив их в незаконном собрании и конспирации. Практическим следствием этого события для императрицы стало то, что ее обед пришлось отложить до трех часов. Однако жалобы рабочих, которые собрались, чтобы сообщить о плохом обращении с ними купца-подрядчика, нанявшего тысячи трудяг строить гранитные набережные на реке Фонтанке и Екатерининском канале (теперь канал Грибоедова), не были проигнорированы полностью. В следующие дни арестованных выпустили и началось официальное расследование. 1 октября работы на Фонтанке завершились, рабочим заплатили и раздали им паспорта. Храповицкий заметил, что это было сделано, дабы предотвратить повторные их явления ко дворцу. В августе также пришло известие об аресте турками российского представителя в Константинополе, что было равносильно объявлению войны. 21 числа того же месяца из Очакова были начаты военные действия на Черном море. Через десять дней Екатерина созвала свой Совет на первое в этом году заседание, чтобы обсудить неминуемую войну. 7 сентября было подписано встречное объявление войны, и двенадцатого о ней сообщили во всех церквях, включая императорскую часовню, в конце литургии. Несмотря на уверенный вид, часть дня Екатерина проплакала. В этот напряженный период, дабы отвлечься и развлечь тех, кто находился рядом с ней во время крымского путешествия, Екатерина (как и ее окружение) принялась писать спектакли, прозванные при дворе «притчами» — легкие комедии, часто одноактные, которые иллюстрировали отдельные пословицы и поговорки. Эта форма развлечения, похожая на шарады, за исключением того, что притчи писались в форме пьес, была принята по предложению графа Кобенцла — который, несмотря на то, что был уже в летах и удивительно уродлив, брал уроки пения и страстно хотел играть на сцене. Сегюр, Кобенцл, де Линь, Мамонов, Иван Шувалов, граф Строганов, сама Екатерина и даже княгиня Дашкова — все они попробовали перо в написании таких притч и других легких драматических произведений. Большинство пьес было представлено зимой 1787–1788 года в Эрмитажном театре, где обычно ставились домашние комедии. Павел и Мария Федоровна никогда не принимали участия в постановках, но посещали большинство представлений. Все сочинения Екатерины в этом жанре были очень короткими и выводили характерные образы, иногда даже носящие одни и те же имена из пьесы в пьесу. Еще одним способом расслабиться оставалась коллекция резных камней. Александр Мамонов практически освоил этот предмет. Вот что сообщила Екатерина Гримму:
«Должна предупредить вас, что мистер Красный Сюртук еще более меня сумасброден в том, что касается резных камней и медалей. Мне сегодня было очень трудно после двух часов изучения оттащить его от шкафа с медалями, где он так погрузился в ящики и коробки, что невозможно было пройти по комнате, а закончил он тем, что унес ключ от помещения, чтобы никто не смог испортить идеальный порядок, который он там навел. Да уж, он перекрыл доступ в комнату весьма эффективно! Я никого туда не пускаю и без этих предосторожностей, по-моему, вовсе не обязательных, но он считает их исключительно благоразумными»{975}.
Позднее в том же году Екатерина сообщила Гримму, что Мамонов сам учится резать камни и что учитель поражается его успехам. Пока он вырезал шлем с плюмажем, флаг и кадуцей[60]. Мария Федоровна также освоила это мастерство и оказалась очень сведущей в нем. Коллекция императрицы необычайно увеличилась к концу ноября — с прибытием почти тысячи пятисот камней, купленных у герцога Орлеанского. Мамонов сам распаковывал коллекцию, проверяя по каталогу и удостоверяясь, что все тут. 15 октября Екатерина получила сообщение о победе у Кинбурна — первой победе своей армии в русско-турецкой войне. Двумя днями позднее был вознесен благодарственный молебен в Зимнем дворце и в Казанском соборе. Отсутствие регулярных сведений о развитии военных действий добавляло Екатерине напряжения. Она пеняла Потемкину:
«Я буду очень благодарна тебе, мой друг, если ты заставишь себя писать мне чаще и будешь отправлять курьера каждую неделю без пропусков. Это не только успокоит мою душу, но сбережет мне сердце от бесполезных волнений и отведет больше тысячи неприятностей. В этот самый час исполняется ровно месяц с тех пор, как я имела от тебя последнюю строчку»{976}.
Какое-то время казалось, что у Потемкина могут возникнуть дополнительные трудности в виде появления на театре великого князя Павла, который заявил о своем намерении присоединиться к армии. Екатерина предупредила об этом Потемкина 11 января 1788 года, добавив: «Это еще одно неудобство, от которого я бы с радостью тебя избавила»{977}. Избавление пришло в форме еще одной беременности великой княгини. Павел решил остаться дома, пока Мария Федоровна не родит. Другая война шла тем временем при дворе, развлекая императрицу и большинство ее придворных. Это была «война Нарышкинских свиней», и главными действующими лицами в ней выступали Лев Нарышкин и княгиня Дашкова. Суть состояла в том, что свиньи Нарышкина забрели на землю Дашковой и потоптали ее цветочные клумбы. Екатерина так высказалась о паре: «Дашкова и Л. А. Нарышкин рассорились настолько, что когда они сидят рядом, то отворачиваются друг от друга и образуют двуглавого орла»{978}. На следующий день после пятидесятидевятилетия Екатерина плохо себя чувствовала и не выходила 23 апреля в вестибюль. Она провела вечер в покоях Александра Мамонова, где было дано закрытое представление ее притчи «Le Flatteur et les Flattés» («Льстица и Обольщенная»), которая базировалась на басне Эзопа о лисице и вороне. Она чувствовала себя больной еще 26-го, когда рассказала Храповицкому о сильнейшей колике, которая была у нее ночью: «Ничто непомогало — ни горячее, ни холодное; но колика прекратилась, когда я повернулась в постели больным местом вниз. У меня не было этого целый год — последний раз такое случилось на галере и в Чернигове»{979}. В мае Александр Мамонов был произведен в ранг генерал-лейтенанта и получил титул графа Священной Римской империи. В начале того же месяца великокняжеская чета выехала из Павловска и присоединилась к императрице в Царском Селе, готовясь к родам великой княгини. Четвертая внучка Екатерины, ее тезка Екатерина Павловна, родилась десятого мая. Роды были трудными, и Екатерине приписали — с этим соглашался даже великий князь — спасение жизни Марии Федоровны. Через два часа после родов плацента все еще не вышла; когда все запаниковали, Екатерина предложила приложить полынь, что и решило проблему. Мария Федоровна расстроилась, что родила еще одну девочку. Чтобы ее успокоить, Екатерина и дала ребенку свое имя. Международная ситуация стала еще более серьезной к середине 1788 года, с появлением слухов, что Швеция готовится напасть на Россию. 2 июня пришло известие, что у берегов Ревеля появился шведский флот. Слухи оказались ложными — корабли были купеческими судами. Но явно раздраженная императрица приказала принести все карты и атласы, чтобы изучить границы между Россией и Швецией. В такие моменты она чрезвычайно нуждалась в присутствии Потемкина. «Был бы ты тут, — написала она, — я обсудила бы с тобой ситуацию в течение пяти минут и тогда решила бы, что делать»{980}. Природа не способствовала тому, чтобы улучшить ее настроение: «У нас самая поганая холодина; в течение пяти дней держится такой ветер, что на деревьях ломаются ветви»{981}. Однако она повеселела 15 июня — с прибытием курьера, который доложил о победе над турками в лимане, объединяющем устья Буга и Днепра. Именно в день победы Екатерина ясно озвучила в присутствии Храповицкого «Греческий проект», задуманный ею и Потемкиным как конечная цель русско-турецкого конфликта:
«Дайте туркам дойти туда, куда они хотят. Греция может стать царством для Константина Павловича — и как это способно подвергнуть опасности Европу? Лучше уж иметь в качестве соседа христианскую власть, чем варваров. Но даже власть варваров не покажется такой уж страшной, когда она разбита на куски»{982}.
В 1786 году монсеньор де Рейниваль, французский дипломат, который хорошо знал о существовании «греческого проекта», высказался в секретных мемуарах: «Еще несколько лет правления Екатерины — и Европа будет преобразована»{983}. Теперь Екатерина раскрыла из перехваченных донесений, что король Густав Шведский действительно имел намерение начать с ней войну за территории южной Финляндии и Карелии. Она приказала флоту адмирала Грейга встать возле Ревеля, чтобы наблюдать за передвижениями шведского флота и быть готовыми вступить в бой, если шведы начнут какие-либо действия. Тревога по поводу возможности нового конфликта не дала ей спать всю ночь на 17 июня, и утром она приказала морской крепости Кронштадт быть в полной боевой готовности. Она сообщила Гримму о своей непоколебимой вере в правильность своих поступков и об уверенности, которую это придает ей перед лицом иностранного врага:
«Так как я знаю, что моим подданным не на что жаловаться — я не подавляю их свободу, не применяю уловок, притворства или дипломатии при обращении с ними, никогда не позволяю себе вести несправедливую войну, — я вовсе не боюсь, что иностранцы преуспеют в отвращении моих подданных от лояльности, которая тесно связана с их благополучием, их очень важными и истинными интересами»{984}.
Она также решила, что настало время разрешить Александру Мамонову посещать ее Совет. 22 июня шведские войска провели бомбардировку пограничной крепости Нишлот, официально в ответ на рейд «казаков» — но русские считали, что эти «казаки» на деле были переодетыми шведами. Через два дня великий князь Павел написал императрице из Павловска, прося ее разрешения присоединиться к войскам, собирающимся в Финляндии. По возвращении с ежегодного празднования в честь битвы при Чесме она подтвердила, что уже дала ему разрешение. «Для поддержки, — написала она, — так как война еще не объявлена, и никакой враждебности еще не отмечено. Наши первые передвижения пока что носят оборонительный характер»{985}. Были предприняты шаги, чтобы гарантировать невозможность для шведов получить контроль над Ладожским озером, что отрезало бы коммуникационные подходы к Санкт-Петербургу. 29 июня Екатерину разбудили среди ночи, чтобы сообщить, что шведский флот появился у Ревеля. В последний день месяца она подписала декларацию о войне. 1 июля Екатерина получила официальный ультиматум, подписанный Густавом III. Он требовал возврата шведских территорий в Карелии и Финляндии, которые были уступлены России в 1721 и 1743 годах. Он также настаивал, чтобы Швеция действовала как посредник при решении русско-турецкого конфликта, и чтобы Россия вернула все свои приобретения в Крыму и все бывшие оттоманские территории. Все, что он требовал, было абсолютно неприемлемо для Екатерины (которая решила, что ее кузен сошел с ума). На следующий день декларация Екатерины о войне была зачитана в часовне Зимнего дворца после утренней литургии. Первое сражение состоялось у острова Гогланд 6 июля и окончилось победой русского флота. Теперь погода была очень жаркой, и в сочетании с треволнениями это привело к тому, что императрица заболела. Девятого июля она пожаловалась на тяжесть в груди, а десятого написала Павлу: «Язаболела от жары чем-то похожим на ревматизм между лопатками, который сильно меня беспокоит. Меня уверяют, что это несерьезно, и я готова поверить»{986}. Через четыре дня ей стало немного легче, и она неожиданно посетила загородную дачу, принадлежавшую Александру Нарышкину и его жене, где ей и ее сопровождающим подавали свежие фрукты из сада, а когда они уезжали, выстрелила пушка. 20 июля — когда Екатерина сообщила, что чувствует слабость уже тринадцать дней — разразился шторм, который выбил в Зимнем дворце несколько окон. Ее недомогание продолжилось и в августе — с коликами, лихорадкой, головной болью и болями в спине — обычные ее симптомы при волнении и страданиях. Несколько дней она работала в постели, изучая вскрытую дипломатическую почту и иностранные газеты. Ее волнение возрастало из-за продолжающегося молчания Потемкина, который не присылал регулярных свежих новостей о войне с Турцией. 23 августа Мария Федоровна написала императрице, что великий князь впервые увидел врага и «понюхал пороху»{987}. Если говорить точнее, он был в экспедиции по рекогносцировке шведских фортификаций, во время которой была застрелена русская лошадь. Великий князь вернулся в Петербург восемнадцатого сентября, за два дня до своего тридцатичетырехлетия. Несмотря на скачкообразные боли и непрерывную тревогу, Екатерина не прекратила писать свои «притчи», и 27 августа передала Храповицкому новую пьесу с инструкцией, что она должна быть подготовлена для актеров, отрепетирована и поставлена как сюрприз для Александра Мамонова на его именины через три дня. Эта притча называлась «Les Voyage de Monsieur Bontems» («Похождения месье Гуляки»), и ее развязка была надуманной и безошибочно предсказуемой. Накануне святого дня она посетила всенощную службу в монастыре святого Александра Невского (это не означает, что она пробыла там всю ночь — всенощная состояла из длинной службы вечером вместе с вечерней и заутреней), а затем Мамонов сумел испортить праздничный день, впав в дурное настроение и сказавшись больным. Причина дурного настроения заключалась в том, что он надеялся получить от императрицы орден Святого Александра Невского — но узнал, что она решила вручить ему вместо ордена украшенную драгоценными камнями трость. Вследствие его болезни подготовленный ею сюрприз отложили. I сентября Мамонов достаточно «поправился», чтобы вручить Храповицкому (который имел именины в тот же день) табакерку от императрицы. Теперь Екатерина раскрыла причину раздражения Мамонова, и получивший инструкции Храповицкий принес части ордена в кармане на представление комедии в Эрмитаже. После окончания пьесы Екатерина приказала положить их в ее будуаре. И об ордене не было сказано ни слова до 8 сентября, когда Мамонов наконец получил свои желанные звезду и ленту. II сентября Екатерина передала следующую притчу — «Il п’уа point de mal sans bien» («У каждого облака есть серебряная полоска») — с указаниями, что ее тоже нужно подготовить тайно и поставить вместе с первой ко дню рождения Мамонова — к 19 сентября. Сюрприз действительно имел место, и за ним последовал ужин. Актерам заплатили каждому по 200 рублей. Мамонов тоже усиленно работал над трехактной притчей с названием «L'Insouciant» («Беспечный человек»). Это была злая сатира на Льва Нарышкина. В пьесе, где его именуют монсеньор Сан-Суси, он страдает от непрерывного несварения желудка из-за обжорства, постоянно в долгах и отказывается работать. Пьесу поставили в середине октября; маленькая аудитория в Эрмитаже включала Льва Нарышкина, который присоединился к общему веселью. Волнения императрицы возросли 4 октября, когда пришло известие об опасной болезни адмирала Грейга. Он слег с температурой, к которой 23 сентября добавилась желтуха, так что с двадцать восьмого он не мог отдавать приказы — и даже перестал узнавать людей. К нему послали доктора Роджерсона, а корабль приказали отвести в порт Ревеля, чтобы адмирал мог отдохнуть. Военные действия между Россией и Швецией в любом случае с наступлением зимы шли к временному прекращению. Ладожский канал к 11 октября стал замерзать, и все корабли отозвали в порты Кронштадта и Ревеля. 15 октября в восемь часов вечера адмирал Грейг умер. Он верой и правдой служил Екатерине много лет, и ее очень расстроила его смерть. Она приказала похоронить его в Ревеле со всеми почестями и заявила: «Это огромная потеря для страны»{988}. 21 октября Екатерина передала Храповицкому для копирования пьесу «Lа Rage aux Proverbes («Притчевая лихорадка»). В этой работе Екатерина посмеивается над собой, выводя главной героиней некую мадам Тантин, которая увлекается притчами и заставляет всех своих знакомых смотреть ее притчи и сочинять собственные. Через два дня она передала для копирования еще одну притчу — на этот раз сатиру на «свинские войны» между Нарышкиным и Дашковой. Это оказалось своевременно, так как в конце месяца конфликт обострился: Дашкова побила свиней Нарышкина. Смеясь над этим, Екатерина заявила, что дело должно быть вскоре передано в суд, потому что ситуация движется к убийству. Дашкова послала письменное объяснение сложившейся обстановки Александру Мамонову, используя его в качестве канала доступа к императрице. Последняя заметила: «Он любит свиней, а она любит цветы — вот и все, что тут есть»{989}. 15 декабря, после очередного периода нездоровья, Екатерина узнала о взятии Потемкиным порта Очаков. Он осаждал город несколько недель, и Екатерина страстно ждала этого события. Она с радостью написала Потемкину:
«Беру тебя обеими руками за уши, целую тебя, всего в заботах, мой истинный друг, князь Григорий Александрович, за новость, переданную полковником Бауэром, о взятии Очакова. Все переполнены радостью от такого счастливого события… Ты заткнул всем рты, любезный мой друг, и это дивное событие дает тебе еще одну возможность продемонстрировать великодушие твоим слепым и пустоголовым критикам… Я с определенностью заявляю, что ты выполнил нужды армии, и рассчитываю иметь удовольствие видеть тебя здесь, как я уже писала тебе в предыдущих письмах и повторяю сейчас»{990}.
Несмотря на необычайно низкую температуру (между 25° и 28° ниже нуля), Екатерина посетила благодарственный молебен в честь победы. Позднее она расплатилась за это жестокими болями в желудке, спине и левом боку. Затем заболело горло, и она провела следующие три дня в кровати. Она развлекалась, читая «Экспедицию Хэмфри Слинкера» Тобиаса Смоллетта в немецком переводе (и попросила Храповицкого найти кого-нибудь, чтобы перевести книгу на русский язык). Потемкин вернулся в Санкт-Петербург 4 февраля 1789 года. Официальный прием князя при дворе состоялся через неделю. Его сопровождали двести турецких штандартов из Очакова, которые пронесли мимо Зимнего дворца под гром барабанов. День, который должен был остаться в памяти как день славы и торжества, оказался испорчен для Екатерины послеобеденной ссорой с Мамоновым. Тот заставил ее расплакаться, и она провела вечер в постели. Она проплакала также весь следующий день, и единственным, кому позволили ее видеть, был Безбородко. Вечером Потемкин выступил посредником, и мир — временно — был восстановлен. Весной, перед началом следующей кампании против шведов, Павел написал матери, прося санкционировать его отбытие в армию. Она ответила 11 апреля:
«Вот тебе, дорогой сын, мое мнение о характере будущей кампании, о котором ты просишь меня: это будет статичная оборонительная война, даже более скучная, чем в прошлом году. Поэтому я могу по совести рекомендовать тебе лишь одно: во избежание слез и горьких упреков тебе следует оставаться в лоне своей дорогой, очаровательной семьи, чтобы разделить радость успеха, которым, я надеюсь, Всемогущий порадует нас, благословив справедливость нашего дела»{991}.
Через четыре дня состоялась раздача наград за взятие Очакова. Потемкин получил выложенный бриллиантами фельдмаршальский жезл, золотую медаль с грамотой за победу и премию в размере ста тысяч рублей, чтобы закончить новый дворец, который он строил в Петербурге возле Смольного института и конногвардейских казарм. 21 апреля 1789 года Екатерине исполнилось шестьдесят. Она плакала, не переставая, с предыдущего вечера и провела свой день рождения в постели. Александр Мамонов постоянно расстраивал ее своим равнодушием, для нее непонятным, к тому же она тревожилась из-за обеих войн, которые вела Россия (Потемкин собирался вскоре вернуться на юг, где турки готовились возобновить кампанию), и беспокоилась по поводу новостей из Вены, где серьезно заболел император Иосиф. Она никогда не любила свой день рождения, добавлявший ей еще один год, и тот факт, что молодой фаворит, похоже, больше не интересовался ею, делал эту веху еще более горькой. Через неделю она уехала в Царское Село, где надеялась обрести короткое отдохновение. Решительное объяснение между Екатериной и Мамоновым состоялось в понедельник 18 июня, сразу же после обеда. Одним из неудобств при выборе совсем молодых людей в качестве фаворитов было то, что они редко умели вести себя зрело при окончании взаимоотношений. Неспособный признать, что желание закончить их является его собственным, Мамонов попытался обвинить Екатерину, заявив за обеденным столом, что она холодна и игнорирует его. Она возразила, что, наоборот, он стал тяжелым в общении и холодным с прошлой осени, в то время как она, насколько могла, оставалась с ним терпеливой. Но она пообещала с характерной для нее щедростью попытаться найти решение. Ее план был таков: Мамонову следует жениться на молодой девушке, дочери графа Брюса. Хотя ей в это время исполнилось только тринадцать лет, она была необыкновенно выгодной невестой и, по мнению Екатерины, «уже вполне сформировавшейся»{992}. Вопрос о том, была бы сама девушка рада замужеству с «объедками» императрицы или нет, оставался открытым — но Екатерина считала, что будет рад ее отец, а это, в конце концов, только и имело значение. Но ее предложение вызвало у Мамонова совсем иную реакцию, нежели благодарность. «С дрожащими руками»{993} он признался, что уже больше года влюблен в одну из фрейлин императрицы, двадцатисемилетнюю княгиню Дарью Щербатову, и что шесть месяцев назад он обещал жениться на ней. «Я чуть не потеряла сознание от шока, — рассказала позже Екатерина Потемкину, — и еще не оправилась, когда он вошел в мою комнату, упал к моим ногам и признался в своей интрижке, своих любовных свиданиях, переписке и тайном общении с ней»{994}. Она разразилась слезами, лишилась дара речи и провела остаток дня, запершись со своей подругой Анной Нарышкиной. Последняя более чем компенсировала отсутствие слов у императрицы, жестко обругав Мамонова в ее присутствии. Весь следующий день и вечер Нарышкина тоже провела с Екатериной, и среди секретарей ходили разговоры, что некий капитан Платон Зубов намечен новым фаворитом — указанный и поддержанный, как говорили, Нарышкиной и генералом Николаем Салтыковым. 20 июня Екатерина сказала Храповицкому, что она согласна на свадьбу Мамонова и Щербатовой и надеется, что они будут счастливы. Она также выразила недоумение, что пара заперлась в своих покоях, и что Мамонов, который обычно всем интересовался, теперь скучает и жалуется на боли в груди. Мамонов действительно разрывался между противоположными желаниями — жениться на Щербатовой и сохранить свое влияние при дворе. Екатерина призналась Храповицкому, что князь Потемкин пытался предупредить ее о происходившем в течение всей зимы, говоря: «Матушка, плюнь на него»{995}, — но она не обратила на предупреждение внимания. Затем она велела своему секретарю отдать распоряжения о том, чтобы Мамонов получил имение, которое корона купила у князя Репнина, и более двух тысяч крепостных, а также сто тысяч рублей. Когда Мамонову сообщили о щедрости Екатерины по отношению к нему, он расплакался и не мог найти слов, чтобы выразить свою благодарность. Появившись этим вечером в приемной, императрица сама благословила графа Мамонова с княгиней Щербатовой. Они упали на колени и просили у нее прощения. 21 июня после обеда Платон Зубов был отведен Анной Нарышкиной наверх, в entresol Екатерины, и они провели вечер наедине до одиннадцати часов. К следующему дню он был принят в круг ее близких друзей. Александр Мамонов женился 1 июля. В девять часов вечера Екатерина возложила бриллиантовый головной убор на невесту и благословила ее иконой, после чего в часовне Екатерининского дворца в очень узком кругу состоялась свадьба. Граф Мамонов пришел попрощаться с императрицей после ее вечерней прогулки в десять часов. Екатерина написала Потемкину:
«После свадьбы с княгиней Щербатовой, состоявшейся в воскресенье, граф Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов в понедельник уехал с супругой навестить своих родителей [в Москве], и если я передам тебе все, что происходило в течение этих двух недель, ты скажешь, что он совсем сошел с ума»{996}.
Во вторник Платон Зубов был произведен в ранг полковника и назначен адъютантом. В тот же день, 14 июля 1789 года по Григорианскому календарю, в Париже произошли события, знаменовавшие кардинальную перемену на политической карте Европы. Они опрокинули все виды Екатерины на будущее и подорвали ее взгляд на себя как на «просвещенного самодержца».
19. Начало конца (1789–1791)
Я потерял силы и не знаю, каким будет конец.Известие о взятии Бастилии прибыло с курьером в Царское Село 27 июля. Екатерина никогда не испытывала никакой симпатии к революционерам и их товарищам и была озадачена вскрытым письмом Сегюру от маркиза де ла Файета. — Как может министр писать такое о Короне? — спросила она Храповицкого, который ответил: — Они друзья и вместе были в Америке. — Это любопытное письмо, — произнесла императрица. — Он поздравляет Сегюра с тем, что называет счастливой революцией — а ведь та принесла неправоспособность нескольким министрам, груз налогов и разбуженные амбиции Парламента. Я бы скорее опасалась ее, ибо она может разрушить Францию{997}. Появление нового фаворита помогало Екатерине отключать мысли от тревожных политических событий. Ее непосредственной задачей стало получить одобрение Потемкина. Поэтому в письмо от 6 июля она вложила записку от Зубова и сделала особый акцент на его приятных качествах:Григорий Потемкин — Екатерине II
«К этому прилагаю рекомендательное письмо о самой невинной душе, которая имеет наилучшие склонности наряду с добрым сердцем и приятный склад ума. Знаю, что ты любишь меня и никоим образом не обидишь. Только подумай, какие фатальные последствия для моего здоровья могло бы иметь отсутствие этого человека. Пока же, мой друг, будь с нами ласков, чтобы мы могли быть целиком счастливы»{998}.
Платону Зубову было 22 года против шестидесяти лет Екатерины. Он был очень красивым смуглым человеком — поэтому она называла его «le Noiraud» или Черныш, — а также очень амбициозным. Может быть, он и испытывал к Екатерине какое-то влечение — но определенно питал безграничную любовь к самому себе, и намеревался использовать на благо своей семьи слабость стареющей женщины. И все-таки он, похоже, знал, как делать Екатерину счастливой, вследствие чего Потемкин испытывал к нему настороженную благодарность — ибо считал Зубова неизвестной величиной. Покровители молодого человека, Нарышкина и Салтыков, не были друзьями Потемкина, но Екатерина в письме от 14 июля с болью напомнила ему: «Ты прав, когда пишешь, что пребываешь у меня в таком фаворе, в каком никто ни при каких обстоятельствах не сможет нанести тебе вреда. Пожалуйста, сохраняй свое доверие ко мне. Оно мне дорого, и я его заслуживаю»{999}. В том же письме она продолжает хвалить Зубова (используя знакомую манеру относиться к фавориту как к маленькому ребенку, говоря «мы»):
«У нас доброе сердце, самое приятное отношение к людям, без злости и обмана, и очень ясное желание делать добро. У нас четыре правила, которых мы пытаемся придерживаться, а именно: быть лояльным, скромным, преданным и необыкновенно благодарным. При этом у Черныша очень красивые глаза и он начитан — одним словом, он радует меня, и пока никакие проблемы между нами не возникают; наоборот, четвертая неделя проходит вполне благополучно»{1000}.
Потемкин написал, что готов принять ее нового фаворита и хочет также успокоить ее: у него не было доказательств интриг Дмитриева-Мамонова и княгини Щербатовой, хотя он давно подозревал их.
«Возлюбленная матушка, как могу я не полюбить искренне человека, который радует тебя? Можешь быть уверена: я буду питать к нему неподдельную дружественность за его преданность тебе. Не воображай, матушка, что я знал о подлой интриге и скрывал это. У меня не было определенных доказательств, хотя сам я был твердо убежден: различные их махинации казались мне подозрительными… Но скажи мне, благодетельница, как ты могла не заметить? — он посылал ей фрукты с твоего стола, и когда шел наверх, то всегда проявлял глубочайшую летаргию, а по утрам был постоянно занят, бегая туда-сюда. И, как я слышал, они встречались по утрам и имели на Васильевском острове дом для своих рандеву»{1001}.
В знак поддержки Потемкин сделал старшего брата Платона Николая одним из своих ординарцев, наравне с собственными племянниками Александром Самойловым, Василием Энгельгардтом и Н. П. Высоцким. Екатерине очень нравился младший брат Платона, девятнадцатилетний Валериан; она порекомендовала Потемкину и его тоже. Сама Екатерина была в прекрасной форме: «Я чувствую себя хорошо, весела и бодра, как муха летом… Пока, мой друг. Я люблю тебя, моя душа, и знаю, что ты любишь меня тоже»{1002}. После получения известий об удаче в сражении против турок при Фокшанах Екатерина переехала назад в Петербург для присутствия на благодарственном молебне. 15 августа, в день, когда французское Национальное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, дипломат граф Штакельберг принес известие о победе над шведским флотом после четырнадцатичасовой битвы, в которой у шведов было захвачено семь кораблей. Русские потеряли две галеры и канонерскую лодку. Хотя такие вести поддерживали Екатерину, как и новизна ее отношений с Платоном Зубовым, она по-прежнему была подвержена изнурительным болезням, и вечером 17 августа слегла с «коликой от метеоризма»{1003}. В этот день официальное сообщение о революции в Париже появилось в петербургских газетах. Императрице потребовалось десять дней, чтобы полностью поправиться; выздоровление она частично отнесла на счет припарок из ромашки, которыми митрополит Санкт-Петербургский рекомендовал ей обложить все тело. Эта осень ознаменовалась серией побед над турками с кульминацией в виде захвата Бендер. Известия о победах приносил молодой Валериан Зубов, служивший теперь у Потемкина. Его наградили, произведя в ранг полковника и сделав адъютантом. Теперь Екатерина опасалась, что Людовик XVI разделит судьбу Карла I английского. «Как изменились времена!» — жаловалась она Гримму.
«Генрих IV и Людовик XIV называли себя первыми дворянами своих королевств и считали себя непобедимыми вследствие поддержки своей знати. В их время епископы и священники не находили в Библии и остальных святых манускриптах других текстов, кроме тех, в которых подтверждалась божественность королевской власти. Величие правления Людовика XIV признается в иностранных государствах до наших дней. Скажу вам честно, я не люблю, когда важных персон описывают как ночных сторожей, не выношу правосудия без справедливости и варварские казни, когда вешают людей. Я не верю также, что сапожники и каменщики имеют талант к управлению и юрисдикции; попытайтесь устроить, чтобы тысяча людей написала единственное письмо, дайте им время на обдумывание — и вы увидите, что из этого выйдет»{1004}.
1 декабря «трудоголик» Екатерина пожаловалась Храповицкому, что не чувствует себя способной довести что бы то ни было до конца. Он возразил, что она защищает свою страну от двух врагов, но она ответила: «Это дело генералов». Когда Храповицкий заметил, что генералы только выполняют ее приказы, она сказала: «Конечно, но что еще я делаю?» Он попытался убедить ее, что она занимается законотворчеством и написанием истории, и в конце концов она согласилась, что, может быть, в истории преуспевает{1005}. 6 декабря она снова почувствовала колики и осталась у себя в спальне. К весне 1790 года Екатерина уже очень хотела скорейшего окончания войны с Турцией — но доклад Потемкина от 13 марта не оставлял надежды на заключение мира. Пруссия недавно образовала «секретный» альянс с Оттоманской империей; император Священной Римской империи Иосиф умер 9 февраля. Кроме того что Екатерина питала к Иосифу личную симпатию, она хорошо понимала, что его наследник — брат Леопольд, великий князь Тосканский — не будет поддерживать политический курс России. Он не разделял территориальных амбиций покойного императора и не симпатизировал «греческому проекту». И действительно, в июне было заключено перемирие между Австрией и Турцией. Екатерина также очень сочувствовала Марии-Антуанетте, потерявшей брата в такое трудное время. «Никто не сострадает королеве больше, чем я. Я люблю ее как дорогую сестру моего лучшего друга Иосифа II и высоко ценю ее мужество»{1006}. 22 апреля, на следующий день после шестьдесят первого дня рождения, Екатерина в четыре часа дня отправилась в Царское Село, где нашла некоторую передышку от своих забот. В начале 90-х годов XVIII века Чарльз Камерон создал то, что получило название Висячего сада. Архитектор разместил его на террасе, устроенной на арках перед павильоном Агаты, и соединил с апартаментами Екатерины и с колоннадой. Затем Висячий сад был соединен с остальными садами при помощи пологого склона, или pente douce, украшенного бронзовыми статуями античных героев и огромными вазами в античном стиле. Этот сдержанный дизайн был создан, возможно, специально для стареющей и полной императрицы, которая не могла больше ходить по лестницам, — но он также символизировал постепенное восхождение в идеальный мир античности. Но война была недалеко. 27 мая ужасная канонада слышалась весь день с самого рассвета. (Позднее Екатерина рассказала Гримму, что они с Платоном Зубовым сохраняли спокойствие и переводили на русский язык том Плутарха.) В конце месяца Екатерина нанесла визит в Кронштадт, проехав через Петергоф, где пушечная пальба была такой громкой, что тряслись окна. Екатерину также трясло — из-за анонимной публикации в мае книги, озаглавленной «Путешествие из Петербурга в Москву». Произведение содержало критику в адрес правительства России, крепостничества и самой Екатерины. Расследование установило, что автором был некто Александр Радищев, дворянин в возрасте сорока одного года, детство и юность проведший в императорском Пажеском корпусе. В 1766 году он оказался среди дворянских детей, избранных самой Екатериной для продолжения обучения в Лейпцигском университете. По мнению императрицы, он отплатил за все эти привилегии черной неблагодарностью. Его арестовали 30 июня. Одновременно был выпущен приказ о конфискации всех копий его книги. В действительности успели продать лишь около тридцати книг: как только Радищев понял, что попал в беду, он сам уничтожил остальные экземпляры. В тот же день Екатерина посетила благодарственный молебен в соборе святого Николая Чудотворца — покровителя моряков — в честь победы, одержанной над шведами 22 мая. Через шесть дней, во втором сражении, шведы нанесли русским ответное поражение. Принц де Нассау-Зи-ген, командовавший боем, совершил крупные ошибки при оценке противника и был безутешен. Императрица не приняла его отставки, сказав, что ошибки делают все, и что наилучшим искуплением станет исправление причиненного вреда. Екатерина отправила замечания по поводу книги Радищева главе Тайного отдела Шешковскому и сказала Храповицкому, что по ее мнению, автор — «бунтовщик, хуже Пугачева». 24 июля Радищев был приговорен к смерти — но, как обычно, приговор смягчили. Взамен его приговорили к десяти годам ссылки в далекий форт Илимск в Сибири, а также лишили дворянского звания, всех наград и должностей. Война со Швецией закончилась 3 августа. Мирное соглашение было подписано в Вереле. Ни одна сторона ничего не приобрела, и границы остались там же, где были. На следующий день состоялся праздник по поводу еще одной победы на Черном море, а большая мозоль, беспокоившая Екатерину все лето, не давая ей нормально гулять, теперь вдруг отпала, что тоже сильно ее порадовало. Однако императрице не хватало Потемкина. «Я назначила восьмой день сентября для празднования Шведского мира, — написала она ему, — и постараюсь сделать все от меня зависящее. Но, друг мой, частенько хочется поговорить с тобой — хоть четверть часа»{1007}. Она также рассказала ему, что теперь, когда ее тревога уменьшилась, снова начала набирать вес: «С 1787 года мою одежду постоянно ушивали, но за последние три недели платья стали тесны, так что вскоре их будет не натянуть. Я также становлюсь гораздо веселее. Приятное поведение и манеры [Платона Зубова][61] много этому способствуют»{1008}. 8 сентября Александра Радищева в цепях отправили в Сибирь. По императорскому приказу цепи вскоре сняли. Все материальные потребности Радищева удовлетворял его друг и покровитель граф Александр Воронцов. Похоже, что Радищев вообще никогда не имел никаких революционных намерений и лишь выразил свое личное отношение — но его имя стало символом для последующих поколений русских интеллектуалов. Ему позволили на несколько недель остановиться в Москве. К Рождеству он прибыл в Тобольск, где и остался до лета; там к нему присоединились члены его семьи и слуги. В декабре 1791 года он наконец добрался до Илимска. В день, когда Радищев покинул Петербург, столица официально праздновала заключение мира со Швецией. Среди тех, кто по этому поводу получил награды, был и Платон Зубов, которому вручили орден Святого Александра Невского. Назавтра Екатерина почувствовала себя плохо и весь день пролежала на софе. 10 сентября, еще не восстановившись полностью, она тем не менее посетила бал, ужинала и играла в карты со шведским послом графом Штедингом. После праздника она простудилась. Ее мучил кашель, от которого невозможно было избавиться. 30 сентября она писала Потемкину:
«Прости меня, мой друг, что пишу плохо и мало. Я не очень здорова — у меня кашель, болят грудь и бока. Два дня я провела в постели, надеясь преодолеть простуду, вся в поту, но теперь ощущаю страшную слабость, а писать лежа неудобно. [Платон Зубов] ухаживает за мной и так заботится, что у меня не хватает слов благодарности»{1009}.
Внуки по-прежнему оставались для Екатерины источником радости и утешения, и в сентябре 1790 года она послала Гримму два их изображения вместе с длинным описанием характера каждого ребенка. Александр оставался ее любимчиком, в нем она видела надежду на будущее. Она сообщила Гримму, что старший внук — «личность редкая по красоте, доброте и сообразительности», что он «живой и спокойный, быстрый и задумчивый» — короче, соединяет в себе «противоречивые качества, и это означает, что он исключительно любим всеми, кто его окружает; сверстники легко соглашаются с его мнением и охотно следуют за ним». Она боится за Александра лишь в одном отношении: что его слабым местом станут женщины. Она совершенно уверена: они будут «преследовать его» — но пока он не понимает, насколько красив, и те, кто занимается его воспитанием, осторожны, чтобы не сделать мальчика самонадеянным. Он, хвасталась бабушка, говорит на четырех языках, хорошо знает историю и никогда не сидит без дела; он обладает способностью с головой погружаться в любую предложенную ему деятельность, от учебы до помощи слепому человеку. Он также начинает проявлять интерес к изящным искусствам. У Константина был более сложный характер. Он все делал «судорожно, толчками», будучи человечком блестящим, но непредсказуемым, и имел живость, «граничащую с чрезмерной». В сущности, в некоторых проявлениях он был похож на своего отца в детстве — Павел тоже не мог усидеть на месте и имел непредсказуемый нрав, — и даже на своего деда, Петра III. Тем не менее Екатерина считала, что он «сделает себе имя», и особенно радовалась его успехам в греческом языке (которому его учили в рамках подготовки «греческого проекта»). Он говорил своему брату: «Зачем ты читаешь дурацкие французские переводы? Я читаю оригиналы». Раз Екатерина похвасталась: «Увидев в моей комнате Плутарха, он заявил: «Этот и этот отрывки переведены очень плохо, я сделаю лучше и принесу тебе». Как и обещал, он принес мне несколько отрывков… которые подписал: «Переведено Константином». Константин был похож на своих предков и энтузиазмом по отношению ко всему военному, в особенности к морю. Он черпал вдохновение из героических деяний — например, капитана Сакена, который, «увидев себя окруженным турками, взорвал свой корабль». Про внучек Екатерина могла рассказать гораздо меньше, хотя сочла их интересными, когда те вышли из младенческого возраста. В этом она походила на свою мать, которая уделяла дочери мало времени и внимания, когда та была маленькой. Александра, теперь семилетняя, развилась за последние полтора года и уже достигла совершенства в языках, музыке и танцах. Ей приходилось тяжко трудиться, чтобы отвоевать внимание Екатерины у своих братьев. «Я, если хотите, являюсь ее доминирующей страстью, — заметила как-то Екатерина. — Чтобы ублажить меня и привлечь хоть на миг мое внимание, она, я думаю, бросилась бы в огонь». Елена, или Хелен, была хрупкой и грациозной, с очень правильными чертами лица, но, по словам бабушки, «ветреной». «Благодаря веселому нраву ее любят все сестры, — писала Екатерина, — и это все, что я могу о ней сказать». Мария, особенно любимая Екатериной, когда была малышкой (Екатерина называла ее «Машутка» и «та chéretka» — моя дорогая малышка), сильно пострадала от прививки оспы в сентябре 1789 года, и в результате ее черты огрубели. «Она похожа на дракона, — заявляла ее бабушка. — Ничего не боится; все ее склонности и игры мальчишеские; не знаю, что с ней станется». А она в 1804 году вышла замуж за великого герцога Сакс-Веймар-Айзенахского, родила четверых детей и умерла в Веймаре в возрасте семидесяти трех лет. Маленькая Екатерина была еще недостаточно осмысленной, чтобы представлять интерес для своей бабушки:
«Шестая слишком мала, чтобы что-то говорить о ней, ей всего два года; но она, похоже, вне всякого сравнения со своими братьями и сестрами в таком же возрасте. Она — крупный белый ребенок с красивыми глазами — сидит в уголке, окруженная игрушками, и болтает весь день напролет, не издавая ничего стоящего того, чтобы быть услышанным»{1010}.
Осенью 1790 года состоялись различные представления в Эрмитаже, включая постановку пьесы Екатерины «Начало правления Олега» на музыку Сарти, которая представляла собой исторические тексты, перемежающиеся одами Ломоносова, старинными русскими песнями и сценами из Еврипида. Она была показана членам императорской семьи и их гостям 22 и 25 октября. Затем, в воскресенье, 10 ноября, дали особое представление, устроенное Екатериной как сюрприз для придворных. После большого бала и ужина в Эрмитаже гостей провели к креслам, занятым французскими актерами и актрисами. Там им выдали костюмы, которые следовало надеть вместо придворной одежды — женщины получили мужские костюмы, а мужчины женские, — и состоялся маскарад. Вероятно, императрица пыталась вернуть свою юность, когда ее так радовали маскарады с переодеванием, страстно любимые Елизаветой. Год закончился на высокой ноте, так как 29 декабря прибыл Валериан Зубов с отчетом о взятии месяцем ранее крепости Измаил. Екатерина немедленно заказала благодарственный молебен, сопровождавшийся стрельбой из пушек. Валериан привез также собственные рекомендации от Потемкина: «Валериан Александрович доказал, что достоин расположения, а я всегда хотел дать ему возможность доказать это. Будь милостива к нему и не отстраняй от службы. У него большие способности»{1011}. Сам Потемкин рвался в Петербург, чтобы увидеть Екатерину лично (и чтобы познакомиться с Платоном Зубовым и проверить, как обстоят дела в плане его собственного влияния): «Возлюбленная матушка, я направил Валериана Александровича попросить, если на то будет твоя воля, позволить мне приехать — тогда я примчался бы ненадолго. Но я так и не получил ответа, что меня сильно расстраивает. Мне нужно самому поговорить с тобой»{1012}. А Екатерина в это же время писала Гримму, сетуя на положение дел во Франции — и, похоже, предвидя приход Наполеона Бонапарта:
«Никогда не знаешь — может, живешь среди убийц, бойни и хаоса в притоне разбойников вроде тех, что захватили правительство Франции и пытаются превратить ее в Галлию времен Цезаря. Но Цезарь победил их. Когда появится новый Цезарь? О, он придет, не сомневайтесь. Он появится…»{1013}
Князь Потемкин приехал в Петербург к концу февраля. По словам Екатерины, он был «более красивым, милым, умным и блистательным, чем когда-либо прежде, и в самом радужном расположении духа»{1014}. Другие наблюдатели не были так уверены в «радужном» настроении князя. Храповицкий считал Потемкина раздосадованным тем, что Александр Мамонов, не дожидаясь его возвращения, закончил свои взаимоотношения с Екатериной, «к тому же так глупо»{1015}. Если бы он немного повременил, Потемкин смог бы повлиять на выбор преемника. Вскоре Потемкин и Екатерина поссорились из-за несогласия в вопросах внешней политики. Существовала угроза, что Пруссия при помощи Британии и Польши развяжет войну против России. Пруссия и Британия издали совместный ультиматум, заявив, что Россия не должна больше присоединять к себе территории Оттоманской империи. Потемкин хотел, чтобы Екатерина начала мирные переговоры с королем Фридрихом-Вильгельмом III («тяжелым прусаком», которого она так невзлюбила во время его визита в Санкт-Петербург в 1780 году, и который унаследовал трон после смерти Фридриха Великого в 1786 году), но она отказалась. Она также воспротивилась предложению Потемкина начать принимать лекарства от «спазмов и сильного колотья в боку», а также перебоев дыхания, от которых страдала в марте, предпочитая дать природе возможность идти своим путем. Говорили о часто хлопавших дверях и сценах со слезами, за которыми следовали такие же слёзные примирения. Неожиданно на помощь Екатерине пришел британский политик Чарльз Джеймс Фокс, выступив в Вестминстерском парламенте с решительной речью в осуждение планов морской экспедиции против России. Екатерина была так довольна вмешательством Фокса, что заказала скульптору Иозефу Ноллекенсу его мраморный бюст, бронзовую копию которого поставила в Камероновой галерее между Демосфеном и Цицероном. 5 апреля премьер-министр Уильям Питт отозвал британский ультиматум и отправил в Петербург секретного эмиссара, чтобы найти мирный выход из «Очаковского кризиса». Но до 30 апреля, когда наконец прибыл курьер с этим известием, Екатерина тайно поручила Потемкину привести все вооруженные силы в полную боевую готовность. Апрель 1791 года в Петербурге был очень теплым. Екатерина сообщила Гримму: «В тени у нас — девятнадцать-двадцать градусов. Это что-то неслыханное, я никогда не видела такого прежде: всё зазеленело, начали распускаться листья, окнараспахнуты, и мы умираем от жары»{1016}. Однако к концу месяца погода полностью изменилась, и пошел снег. Но погода не испортила великолепного представления, которое 28 апреля устроил Потемкин в своем дворце на Конногвардейской (тот был построен архитектором Иваном Старовым и позднее назван императрицей Таврическим дворцом). Он не пожалел расходов, чтобы создать обстановку несравненного великолепия и очарования. В честь праздника у стен дворца было выставлено угощение для народа. Начало пиршества было приурочено к семи часам — времени прибытия императрицы. Но жаждущая толпа, прождав большую часть дня под проливным дождем, опередила сигнал. К приезду Екатерины люди расхватали почти всю выставленную им еду и растащили ее по домам. Потемкин, ничуть не огорчившись, преклонил колено и, приняв свою императрицу из кареты, ввел ее во дворец, в обширную колоннаду гигантского холла. Далее располагался столь же громадный Зимний сад. Фрейлина графиня Головина описала, как были освещены в этот вечер пространства холла и сада:
«Два портика обрамляли центр помещения, а между ними находился зимний сад, озаренный скрытыми масляными светильниками. Там было множество деревьев и цветов. Основной свет, однако, шел сверху, от купола, с середины которого свешивалась стеклянная монограмма императрицы. Эта монограмма, подсвеченная невидимым отражателем, испускала ослепительное сияние»{1017}.
Определенные идеи, позаимствованные Потемкиным у герцогини Кингстон, также нашли себе место на этом торжестве — в том числе серебряный сосуд для охлаждения вина, использованный под рыбный суп, и два больших позолоченных органа, создававшие музыкальный фон приема. Как только императрица устроилась, из сада показались двадцать четыре пары юных танцоров в розово-лазоревых, усыпанных драгоценными камнями костюмах, исполняющие кадриль. В одной паре танцевал Александр, в другой — Константин. Екатерина была очарована танцем, как и прочими сюрпризами этого необыкновенного приема. На следующее утро она написала Гримму (всего лишь с небольшой головной болью после такого короткого сна):
«Невозможно представить ничего более красивого, разнообразного и блистательного, чем эти две кадрили. Они длились долее трех четвертей часа, после чего любезный хозяин отвел меня и остальную компанию в театр, где была разыграна комедия. Затем мы вернулись в холл и начался бал, посреди которого вместо контрданса наша молодежь решила повторить те самые две кадрили — и опять, во второй уже раз, все были полны энтузиазма. Когда танцы закончились, я пошла отдохнуть в прекрасные апартаменты колдовского дворца. К ночи был объявлен ужин; его устроили в театре; участникам кадрилей накрыли на сцене. Обратите внимание: все мужчины, танцевавшие кадрили, были одеты в испанские костюмы, все женщины — в греческие. Остальные столы заполняли амфитеатр, что производило необыкновенный эффект. После ужина в передней был дан концерт вокальной и инструментальной музыки, и в два часа утра я уехала»{1018}.
Прекрасное представление, устроенное Потемкиным, привело императрицу в столь бодрое настроение, что даже известие о восстании в Варшаве — где недавно была объявлена новая конституция — не развеяло его: «Мы прекрасно подготовлены к любому повороту событий, и Бог свидетель, мы не склонимся перед самим дьяволом»{1019}. Первого мая Екатерина выехала в Царское Село, сообщив Храповицкому, что намерена сохранить поездку в секрете — будто, оставив Эрмитаж, она просто отправляется на прогулку. Едва ли это долго оставалось тайной, но ей доставляла удовольствие игра с придворными; она любила оставлять их в недоумении хотя бы на несколько часов и избегать тщательно разработанного церемониала официального отъезда. На следующий день Екатерина написала Гримму, чтобы сообщить ему о своем гневе и разочаровании в адрес одного из «карманных посланников», человека, которого она раньше считала другом — графа Сегюра:
«Но есть человек, которого я не могу простить за причиненное зло: это Сегюр. Пусть ему будет стыдно! Он лжив, как Иуда, и я не удивляюсь, что во Франции его никто не любит. В этом мире необходимо собственное мнение, а он его не имеет, и поэтому его презирают… Перед некоторыми он выступал демократом, перед другими аристократом — ив итоге одним из первых перебежал к hotel de ville[62], чтобы дать эту замечательную клятву… Я рада, что он не возвращается. Он написал мне очень длинное письмо, на которое потребовал ответа, ибо, как он выразился, я оказываю эту честь принцу де Линю и принцу де Нассау. Я хотела бы ответить ему, что Линь не перебежал на сторону Ван дер Нута[63] и остался верным своему законному господину, а что касается второго, то я обязана писать ему, так как он напрямую нанят мною и находится под моим началом. И поэтому, чтобы мне не пришлось говорить ему то, чего он заслуживает, необходимо, чтобы не я, а кто-нибудь другой ответил ему за меня»{1020}.
Екатерина в тот день чувствовала себя плохо, хотя и погуляла в парке в течение часа. Колики мучили ее и весь следующий день. Она сказала Гримму, что, по ее мнению, вся идея свободы дискредитирована французскими революционерами и что их свобода — это свобода, о которой люди вскоре пожалеют. Она определила свое понимание вопроса в Великой Директиве от 1767 года: «Человек должен обзавестись четким и ясным представлением о том, что такое свобода. Свобода — это право делать то, что позволяют законы»{1021}. 14 мая в Петербург прибыл эмиссар Питта Уильям Фокенер; неделей позже он был представлен императрице в Царском Селе. По этому случаю они вместе отобедали и прогулялись по парку. Когда через два месяца он покидал Россию, ему подарили табакерку стоимостью в шесть с половиной тысяч рублей. Весной и летом того года Екатерина необычайно наслаждалась Царским Селом, особенно колоннадой Камероновой галереи и вестибюлем, ведшим из ее апартаментов в цветущий сад, где она сидела на зеленой кожаной софе, окруженная потомками Сэра Тома Андерсона. Вот как она описала обстановку Гримму: «Эта софа стоит в вестибюле, полуоткрытом в сад. Там я и сижу, как крымский хан в своей беседке или как попугай в клетке. Вы не представляете себе, что такое Царское Село в ясную и теплую погоду!»{1022} Колоннада тоже оказалась местом полезным: оттуда императрица могла наблюдать, что происходит в саду. 6 июля мимо галереи прошествовал двадцатитрехлетний шейх Мансур — пленник, захваченный во время сражения на стороне турок в Анапе на берегу Черного моря, — чтобы она смогла увидеть его. Элиша Мансур был легендарной фигурой и, как говорят, итальянским иезуитским священником, перешедшим в ислам. Несмотря на поражение 1791 года и последующее пленение, он стал вдохновляющим примером для чеченских сепаратистов наших дней — и аэропорт в Грозном назван его именем. Потемкин вернулся на юг 24 июля, оставив Царское Село в пять утра. Через пять дней состоялось решающее сражение, принесшее победу над оттоманским флотом, и десятого августа курьер Потемкина принес сообщение о предварительном мирном договоре с турками, подписанном тридцать первого июля. Благодарственный молебен в Санкт-Петербурге и Царском Селе назначили на пятнадцатое августа, и двадцатого после обеда Екатерина вернулась в город. 24 августа пришло известие о смерти от лихорадки одного из братьев Марии Федоровны, принца Карла Александра Вюртемберг-Штутгартского, который служил с Потемкиным. 26-го Екатерина отправилась в Павловск — утешить невестку — и вернулась, чтобы провести ночь в Царском Селе. Она еще не знала, что Потемкин тоже серьезно болен. Это известие дошло до двора двумя днями позже. Начался период великих волнений с неизбежными запаздываниями медицинских бюллетеней, сообщающих о колебаниях в состоянии здоровья Потемкина: они прибывали, лишь добавляя Екатерине беспокойства. В сентябре Екатерина с ужасом узнала новость из Франции — Людовик XVI принял новую конституцию, дав клятву верности и лояльности. В ярости она написала Гримму:
«Итак, разве в том дело, что сир Людовик XVI швырнул свою подпись на эту экстравагантную конституцию и готов раздавать клятвы, которых не хочет выполнять — однако никто его ни о чем и не спрашивает? Вопрос в другом: кто те люди без малейших понятий, которые заставили его совершить все эти глупые поступки? Это поистине акт недостойной трусости. Можно сказать, что у них нет ни веры, ни закона, ни чести. Я ужасно разозлена; я топала ногой, читая такие… такие… такие… ужасы»{1023}.
Между тем первого сентября из Ясс прибыл еще один курьер с письмом от Потемкина: «Слава Богу, опасность уже миновала, мне лучше. Пока очень слаб. Кризис был ужасным. Я потерял надежду когда-нибудь увидеть тебя снова, любимая матушка, Ваше всемилостивое величество»{1024}. Екатерина ответила: «Твое письмо от двадцать четвертого августа успокоило волнения моей души по поводу тебя, ибо я увидела, что тебе лучше. Но перед тем я волновалась ужасно. Тем не менее я не понимаю, как ты передвигаешься с места на место, будучи таким слабым»{1025}. Следующий курьер прибыл 16 сентября с сообщением, что лихорадка у Потемкина возобновилась. Но он снова поправился и написал Екатерине: «Слава Богу, я помалу набираюсь сил. Однако меня мучает звон в ухе. Еще не было такого года, как этот, — болеют все. Мой дом походит на лазарет… О Боже. Не могу больше писать, голова падает»{1026}. Послание, которое пришло со следующим курьером, 29 сентября, вроде бы означало, что ему становится лучше, так как касалось деталей мирных переговоров и перечисляло всех тех, кто был назначен полномочными представителями с турецкой стороны. Но 21-го Потемкин написал: «Мой приступ продолжается три дня. Я потерял силы и не знаю, каким будет конец»{1027}. 3 октября сразу два курьера доставили сообщения об опасном ухудшении состояния князя и одновременно — о принятии им последнего причастия. 26 сентября Потемкин, слишком слабый, чтобы писать самому, попросил своего наперсника Василия Попова сделать это за него. 27-го он смог написать несколько слов: «Любимая матушка, то, что я больше не увижу тебя, делает жизнь еще тяжелее»{1028}. Потемкин умер утром 5 октября 1791 года в возрасте пятидесяти двух лет в дороге, примерно в сорока милях от Ясс. Его последнее письмо любимой императрице было написано за день до смерти: «Ваше всемилостивое величество, у меня больше нет сил выносить свои муки. Единственное оставшееся мне спасение — в том, чтобы покинуть этот город, и я приказал перевезти себя в Николаев. Не знаю, что станет со мной. Твой самый преданный и самый благодарный подданный»{1029}.
20. Последние годы (1791–1796)
Будьте уверены, я останусь неизменной и буду учить стойкости других; измениться может кто угодно, только не я.Екатерина получила известие о смерти Потемкина 12 октября. Той ночью она не спала и в половине второго села писать Гримму:Екатерина II — Фридриху Мельхиору Гримму
«Вчера в меня угодил еще один ужасный, сбивающий с ног удар. К шести часам пополудни курьер привез мне необычайно печальное известие о том, что зеница ока моего, мой друг и почти что мой идол, князь Потемкин-Таврический, умер после почти месяца болезни в Молдавии! Вы не имеете понятия, как я страдаю: помимо прекрасного сердца, он имел редкую способность понимать и необыкновенную широту души; его устремления всегда были возвышенными; он был очень человечным, всегда осведомленным, исключительно милым и неизменно полным идей; ни один человек не имел такого дара остроумия и таких знаний, как он; во время войны проявился его военный талант, так как он не проиграл ни одного сражения ни на суше, ни на море. Никому в мире не подходила меньше роль ведомого, чем ему. Он также имел особый дар выбирать людей. Одним словом, это был государственный человек — ив планах, и в их осуществлении; он был привязан ко мне и страстью, и усердием; он ругался и злился, когда считал, что человек мог сделать что-то лучше, чем сделал. С возрастом, накапливая опыт, он исправлял свои недостатки; когда три месяца назад он приезжал, я сказала генералу Зубову, что заметила эти перемены, и что у него уже нет тех недостатков, которые привыкли видеть в нем люди. Не оказалось ли то, что я заметила, к сожалению, пророческим? Но его самым редкостным качеством было мужество сердца, ума и души, что сильно выделяло его из остального человечества, а это означало, что мы прекрасно понимали друг друга и могли позволить тем, кто понимает меньше, болтать сколько угодно о том, что содержится в их сердцах. Я считаю князя Потемкина великим человеком, который не осуществил и половины того, что было в его силах»{1030}.
Екатерина рыдала несколько дней. «Кем я могу заменить Потемкина? — горько жаловалась она Храповицкому. — Он был настоящим дворянином, умным человеком, его невозможно было подкупить. Никто не способен занять его место. Кто бы мог подумать, что Чернышев и другие старики переживут его? А теперь все, как улитки, начнут высовывать свои головы»{1031}. В Яссы отправился граф Безбородко, добровольно вызвавшись вести мирные переговоры. Храповицкий считал это неумным шагом, так как понимал: Платон Зубов использует отсутствие Безбородко, чтобы усилить собственное влияние. Екатерина не заблуждалась — смерть Потемкина оставила ее осиротевшей как в политическом, так и в личном плане.
«Смерть князя Потемкина жестко потрясла меня! Все заботы рухнули на меня тяжким бременем. Прошу вас молиться за меня — потому что, в конце концов, все должно двигаться заведенным порядком. Но только подумайте: у меня остался князь Вяземский, который буквально заговаривается последние два года, а во флоте — граф Чернышев, который этой весной перенес апоплексический удар, но снова отправился в поход. И они живы, в то время как человек, обещавший жить долго, ушел от меня!»{1032}
Екатерине необходимо было собрать вокруг себя новую команду, как она сделала, едва став императрицей. Но как ее умение выбирать, так и доступные ей человеческие ресурсы пришли в упадок. Даже она сама еще не до конца представляла себе размеры этой потери:
«О мой Бог! Я сейчас превратилась в мадам Изобретательницу. Снова я вынуждена обучать под себя людей, и начать наверняка придется с обоих Зубовых — самых многообещающих. Но старшему идет двадцать четвертый год, а младшему едва исполнилось двадцать. Тем не менее, они духовные и восприимчивые люди, старший имеет уже начальные познания, все в его голове складывается замечательно упорядоченно, и он действительно добрая душа»{1033}.
«Добрая душа» быстро осваивал преимущества нового положения, связанного со слабостью императрицы, стараясь захватить максимум власти, в то время как Екатерина едва ли в состоянии была заметить, что происходит. Храповицкий хорошо понимал ситуацию, и отныне в его дневнике появляются записи, свидетельствующие о нелюбви и недоверии к Зубову. Даже теперь не возникло и вопроса о привлечении сына императрицы к делам государства: много лет назад она решила, что Павел совершенно не подходит для этой задачи. В годы, последовавшие за смертью Потемкина, пропасть между матерью и сыном стала еще шире. Если раньше Павел регулярно обедал с императрицей и посещал вечерние собрания в Эрмитаже, теперь он приходил только по особым случаям — когда действительно не имел выбора, — предпочитая оставаться в Павловске или Гатчине, где проводил время в обучении личной армии. Екатерина считала эти военные учения безвредным, если даже не слегка нелепым хобби — похоже, она не боялась, что когда-нибудь Павел поднимет свои войска против нее. Первые месяцы после тяжелой утраты настроение Екатерины было непредсказуемым. В некоторые дни казалось, что императрица исполняет свои обязанности вполне нормально, но порой она вдруг начинала заливаться слезами и не могла с собой справиться. Например, в именины, двадцать четвертого ноября, она сначала чувствовала себя достаточно хорошо. Ей сделали прическу, надели чепец — но внезапно она почувствовала дурноту и поняла, что не в состоянии перенести выход к публике. Она расплакалась и не пошла ни в церковь, ни на обед, ни на бал, сказав, что не вынесет шума. Следующую пару дней ей было получше, и двадцать шестого ноября она смогла присутствовать на праздновании дня Святого Георгия. В этом месяце она столкнулась и с другими смертями своих сверстников, а именно — Ивана, старшего среди братьев Орловых, умершего шестнадцатого ноября, и графа Якоба Брюса, скончавшегося в ночь с двадцать девятого на тридцатое. Двенадцатого декабря, в день четырнадцатилетия Александра, Екатерина сообщила Гримму:
«Я в порядке, и дела государства продвигаются, несмотря на ужасную потерю, которую я понесла и о которой сообщила вам в первую же ночь после получения фатального известия. Я все еще глубоко потрясена ею. Заменить Потемкина невозможно, потому что сначала должен родиться кто-то подобный ему, а конец века не заявил о появлении гениев. Но, не надеясь найти одного, мы призовем нескольких способных людей; нужны время, испытания и усердие. Что касается меня — будьте уверены, я останусь неизменной и буду учить стойкости других; измениться может кто угодно, только не я»{1034}.
В Рождество Екатерина посетила литургию и вечерний канун, но с двадцать шестого по двадцать восьмое декабря не выходила из своих апартаментов, жалуясь на озноб, и провела все это время на софе в своей спальне. 29-го она пошла в кабинет, намереваясь поработать над историей России, но вместо этого снова легла. Напоминания о Потемкине были для нее особенно мучительными, как и те моменты, когда она хотела бы видеть его тут или там, так что утром 6 января 1792 года, после заключения мирного договора с Турцией, она плакала, пока ей делали прическу. Во время обеда выстрелила сто одна пушка, но императрица с раздражением отказалась пить за здоровье кого бы то ни было. Она плакала 12 января, когда Василий Попов приехал с бумагами Потемкина, среди которых были и ее письма к нему — все тщательно сохраненные, читанные и перечитанные. На некоторых остались следы слез получателя, пролитых во время последней болезни. Она заперла бумаги в особую коробку и спрятала ключ. Затем, 30 января, генерал Александр Самойлов, племянник Потемкина, привез ратифицированный турками мирный договор. Екатерина отпустила всех, и они с Самойловым, уединившись, рыдали вместе. Член потемкинского штата Адриан Грибовский стал теперь одним из секретарей Екатерины (и Зубова). В более поздние годы он написал воспоминания о дворе и включил в них описание наряда постаревшей Екатерины. Теперь она предпочитала комфорт и простоту. Для работы по утрам, до переодевания к обеду, она облачалась в простое белое атласное платье и чепец из крепа (который обычно сползал на одно ухо), позже переодевалась в лиловое платье поверх белой нижней юбки и в другой белый чепец — с лентами. В праздничные дни она наряжалась более торжественно (в русский шелковый или парчовый сарафан с наградными звездами — и иногда лентами — святого Андрея, святого Георгия и святого Владимира) и надевала при выходе к публике маленькую корону. Волосы она носила зачесанными невысоко, с двумя локонами за ушами — так старомодно укладывал их ее старый парикмахер Козлов. Она любила туфли с очень низкими каблуками, как и великая княгиня, да и все женщины в Петербурге того времени. Четыре пожилых одиноких женщины помогали Екатерине совершать туалет — одна держала лед, которым императрица протирала лицо, вторая подавала чепец, а третья и четвертая закрепляли его шпильками. Затем она со своими дамами переходила из алькова в спальную комнату, где Мария Перекусихина помогала ей надеть платье. Граф Безбородко вернулся в Петербург 10 марта, а через три дня Екатерина получила шокирующее известие о том, что в ее кузена и когда-то врага Густава III, короля Швеции, стрелял на маскараде представитель собственной аристократии. Король промучился почти две недели, прежде чем умер от ран. Неудивительно, что в атмосфере страха, обусловленной революцией во Франции, волнениями в Польше и террористическим актом в Швеции, появились слухи о возможной попытке теракта, целью которого станет Екатерина. 8 апреля поступил отчет о французе, предположительно переправленном через Кенигсберг с поручением убить ее. Через несколько дней Екатерина сообщила Гримму свое мнение по поводу этих и схожих слухов:
«Послушайте, якобинцы повсюду опубликовали, что намерены убить меня и для этой цели подготовили трех или четырех человек, о чем мною получены подробные донесения. Я считаю, что если бы они действительно имели подобные намерения, то не заботились бы о том, чтобы сведения эти непременно дошли до меня»{1035}.
Она считала также, что в происходящем напрасно обвиняют Вольтера:
«Итак, в конце XVIII века убийство стало, очевидно, похвальным действием — и вот ко мне приходят и говорят, что такое проповедовал Вольтер. Как они смеют порочить людей? Думаю, Вольтер предпочел бы скорее остаться там, где похоронен, нежели оказаться в компании Мирабо[64] в Сен-Женевьев»{1036}.
Несмотря на опровергающие замечания Екатерины и явное ее спокойствие, во дворце ввели дополнительные меры безопасности. В особенности тщательно досматривали всех иностранцев в окрестностях Царского Села и Софии. Нервозность из-за возможных заговоров проявилась также в приказе Екатерины, изданном 13 апреля, о необходимости обыска в московской резиденции и загородном поместье видного масона и частного издателя Николая Новикова с целью доказать факт опубликования несанкционированной книги, трактующей религиозные вопросы с точки зрения староверов. Еще раньше генерала князя Прозоровского назначили вести следствие, а также осуществить общее расследование источников богатства Новикова. К концу месяца следователь доложил Екатерине, что книга, которую он искал, не найдена, но обнаружено много других запрещенных текстов и работ масонов. Теперь Новикова держали под стражей в собственном поместье, откуда второго мая прибыл следующий отчет. Екатерина приказала, чтобы отчет показали Зубову, а затем отправили Шешковскому. Неделей позже она расхвалила первого Гримму: «Этот генерал Зубов много работает, честен, полон доброй воли и имеет самое великолепное устройство ума. Это человек, который поддается убеждению. Все, что мне нужно сделать, — это создать из него еще одного верного слугу»{1037}. 9 мая вышел приказ отправить Новикова в Шлиссельбургскую крепость для дальнейшего расследования дела. Его поместили в ту же камеру, где жил и умер несчастный Иван VI. Далее следствие обнаружило переписку с архитектором Василием Баженовым, из которой выяснилось, что масоны замыслили уговорить великого князя Павла присоединиться к ним (хотя Павел отрицал связь с масонским братством). 1 августа Екатерина подписала Новикову приговор — пятнадцать лет в Шлиссельбурге, хотя не было найдено никаких прямых свидетельств вины, способной оправдать настолько долгий срок. Опубликованию дело не подлежало. Тем временем монархи и государственные деятели России, Австрии и Пруссии планировали раздел Польши. Это произошло позднее, в 1793 году; аннексия Россией польских территорий была объявлена 27 марта этого же года. Ранее, в 1792 году, те лидеры польской аристократии, у которых не была в чести новая конституция, вошли в тайный сговор с Екатериной. Как результат в мае была организована Тарговицкая конфедерация, и конфедераты при поддержке русских войск начали военные действия против Польши. Теперь Екатерине нужна была уверенность, что ни Австрия, ни Пруссия не предпримут ничего, чтобы помочь полякам. Гарантирующие это договоры были готовы к концу июля. Екатерина была рассержена провалом короля Станислава Августа, который не сумел твердо противостоять конституции, и его попытками действовать независимо. Она писала Гримму:
«Если бы у меня в руках не было доказательств, я никогда бы не поверила, что король Польши способен оказаться столь неблагодарным, чтобы следовать дурным советам, как в последние четыре года. Или им управляли, или он впал в слабоумие, раз позволил вовлечь себя в действия настолько вредные и так противоречащие процветанию Польши, честности и благодарности»{1038}.
11 июля 1793 года в императорской семье появилось очередное прибавление: у Павла и Марии Федоровны родилась еще одна дочь. Девочку назвали Ольгой. Роды оказались трудными и длились два дня и две ночи. Большую часть времени Екатерина провела возле невестки. Когда Ольга наконец появилась, Екатерина заявила, что плечи у младенца почти такой же ширины, как ее собственные. Императрицу совсем не радовала перспектива находить мужей для огромного количества внучек, и Храповицкий сохранил воспоминание, что когда, объявляя о рождении, начали стрелять пушки, Екатерина воскликнула: «Зачем поднимать столько шума из-за гадкой девчонки!»{1039} Необходимость заключения достойных ее потомства браков (что в случае мальчиков означало производство отпрысков, продолжателей династии Романовых, а для девочек — укрепление влияния России при иностранных дворах) теперь стала первоочередной задачей Екатерины — начиная, конечно, с ее любимого Александра. В сентябре Екатерина добавила еще один дворец к перечню тех, где она регулярно останавливалась — огромный дворец Потемкина возле конногвардейских казарм, который она в память о нем переименовала в Таврический. В первый свой визит она провела там четыре дня. Дворец привлекал ее не только тем, что напоминал о Потемкине — ей нравилось, что он был построен в основном одноэтажным, на одном уровне с садом. В том же месяце князь Александр Вяземский ушел на пенсию с должности генерал-прокурора. Уже несколько месяцев он приносил Екатерине мало пользы, так как его способности с годами убывали, а мысли начали разбегаться. Вскоре он умер, и пост генерал-прокурора занял Александр Самойлов. 30 сентября, в день именин Потемкина, Екатерина плакала, но смогла как обычно появиться в вестибюле, где с чувством вспоминала князя. Годовщину его смерти она провела в одиночестве, но внешне оставалась спокойной. Хотя четырнадцатилетний Александр не проявлял еще интереса к женщинам, его бабушка была намерена ускорить события и женить его как можно раньше. Вечером 31 октября 1792 года две принцессы Баден-Дюрлахские — тринадцатилетняя Луиза и одиннадцатилетняя Фредерика — прибыли в Петербург. Они состояли в родстве с первой женой Павла: их мать была старшей сестрой покойной великой княгини Натальи. Екатерина написала Гримму:
«Вы ведь понимаете, что так рано тут не женятся. Но это не для настоящего времени — скорее, заготовка на будущее, чтобы они привыкли к нам и приняли наш образ жизни и наши обычаи. Что касается нашего мужчины, он и не думает об этом. Он остается невинным в сердце — это я играю для него дьявольскую игру, ибо веду его к искушению»{1040}.
Принцесс поселили в старых покоях Потемкина в доме Шепилова. Позднее принцесса Луиза подробно рассказала своей подруге, графине Головиной, детали своего прибытия и первых знакомств в Петербурге:
«[Императрица] была с графом Зубовым, тогда еще просто месье Платоном Зубовым, и графиней Браницкой, племянницей князя Потемкина. Она сказала, что рада знакомству со мной, и я передала ей послание, которым моя мать передоверяла меня ей… Второй день после приезда был целиком посвящен созданию причесок по придворной моде и облачению в русские платья, потому что вечером нас должны были представить великому князю и великой княгине. Впервые в жизни я надела нижнюю юбку на обруче и напудрила волосы. В шесть или семь вечера нас доставили в резиденцию великого князя, который принял нас очень любезно, в то время как великая княгиня ошеломила меня своими заботами и расспросами о матери, о нашей семье и не тоскую ли я, покинув их. Ее манеры завоевали мою привязанность, и не моя вина, если преданность не переросла в настоящую дочернюю любовь. Мы сели, и великий князь послал за молодыми великими князьями и великими княгинями. Я и сейчас вижу, как они входят. Я рассматривала великого князя Александра столько, сколько позволяли хорошие манеры, и нашла его очень милым, но не таким красавцем, как мне описали. Он не подошел ко мне, лишь кинул очень враждебный взгляд. После ухода великих князя и княгини мы пошли навестить императрицу, которая сидела за игрой в бостон в Бриллиантовой комнате. Нас подвели к круглому столику; графиня Шувалова, дежурные фрейлины и дежурные камер-юнкеры стояли возле нас с сестрой. Два молодых великих князя пришли чуть позже. Великий князь Александр провел весь вечер, ни сказав мне ни слова и не приблизившись ко мне, даже избегая меня взглядом. Но постепенно он стал более воспитанным по отношению ко мне. Дневные игры в Эрмитаже в очень тесной компании, вечера за круглым столом в Бриллиантовой комнате, где мы играли в секретаря или рассматривали гравюры, весьма неспешно смягчали его отношение ко мне»{1041}.
Екатерину сразу же покорила принцесса Луиза. Она сказала Храповицкому: «Невозможно увидеть ее и не быть очарованным ею»{1042}. 3 ноября во дворце состоялся прием для депутатов польской Конфедерации, во время которого юная принцесса Бадена стояла возле трона. Джон Паркинсон, преподаватель из Оксфорда, выступавший компаньоном молодого Эдварда Уилбрема-Бутла во время его большого турне по Европе, смог получить доступ на эту церемонию через каналы доктора Роджерса и оставил записи своих наблюдений:
«Императрица заняла трон, стоявший под балдахином из красного бархата; корона, держава и скипетр лежали на столике возле нее. [Депутатов] было всего шестеро, но в польской одежде не больше двоих-троих. Они вошли через дверь напротив трона в сопровождении соответствующего количества офицеров и все вместе очень низко поклонились Ее величеству — сначала от двери, а потом еще два или три раза, пока шли до середины зала. Один из них, Браницкий, по-польски обратился к императрице с речью, произнося ее очень внятным, мужественным голосом… Ее величество сидела с благородным и властным видом, держа в правой руке веер… Граф Остерман по-русски ответил от имени императрицы — но настолько тихо, что если бы его речь была произнесена по-английски, я бы ее тоже не понял… Граф Остерман, не рискуя довериться своей памяти, держал листок с записью речи в шляпе, к которой постоянно обращал взор… Как только ответ закончился, польские депутаты вслед за Браницким с поклонами приблизились к трону, чтобы передать благодарственное письмо, которое было им вверено, и поцеловать руку императрицы, после чего отошли тем же путем, каким пришли, пятясь и без конца кланяясь. Тогда императрица покинула трон, поддерживаемая, как и при усаживании, обер-шталмейстером Нарышкиным»{1043}.
Вечером принцессы посетили пьесу в Эрмитажном театре — как и Паркинсон, который описал протокол вечера и некоторых участников:
«Великий князь, великая княгиня и юные баденские принцессы, прибывшие в воскресенье вечером, вошли раньше императрицы и заняли свои места по одну сторону. При их появлении все встали. Великий князь имеет очень невзрачную внешность. Великая княгиня — крупная женщина, кажется, соблюдает этикет и при этом обладает чувством юмора… Сопровождавший императрицу мистер Зубов сел рядом с ней, но я не разглядел ни его, ни обоих великих князей, пока они не двинулись на выход. Когда вошла императрица, все встали и продолжали стоять, пока она не села. Тогда великий князь показал пример, и все сели вслед за ним»{1044}.
Великий князь Павел сразу же одобрил принцессу Луизу, а Александр некоторое время продолжал стесняться — едва ли это удивительно, учитывая, что все глаза были направлены на него и все гадали, понравится ли ему девочка и когда. Седьмого декабря Екатерина сообщила Гримму, что Александр начинает «понемножку влюбляться»{1045} в Луизу. Короче, он стал делать то, чего от него ждали, и из воспоминаний принцессы о происходившем тогда ясно, что она тоже подчинилась:
«Однажды вечером, примерно через шесть недель после моего приезда, когда мы сидели за круглым столом в Бриллиантовой комнате и всей компанией рисовали, великий князь Александр подтолкнул ко мне записку, которую только что написал и в которой сообщал, что его родители разрешили ему сказать мне, что он меня любит. Он спросил, могу ли я принять выражения его приязни и вернуть их, и может ли он надеяться, что я найду свое счастье, выйдя за него замуж. Я ответила утвердительно таким же способом — на обрывке бумаги, добавив, что я послушна желанию, которое выразили мои родители, послав меня сюда. После этого мы считались помолвленными, и ко мне приставили преподавателя русского языка и учителя религии»{1046}.
В воскресенье 12 декабря Александру исполнилось пятнадцать лет, и Джон Паркинсон отметил, что тем вечером на балу императрица была особенно весела. Счастье императрицы оказалось кратковременным. В конце января она получила известие о казни Людовика XVI и сразу же слегла в постель. 1 февраля был объявлен шестинедельный официальный траур «в связи со смертью короля Франции, жестоко убитого взбунтовавшимися подданными»{1047}. Неделей позже был опубликован декрет, объявлявший о разрыве политических связей с Францией и высылке из России всех французов обоего пола, кроме давших клятву, указанную в декрете и обязывающую соблюдать лояльность короне. Такой же период траура был объявлен в конце октября — после гибели на эшафоте Марии-Антуанетты. 8 марта Екатерина оступилась, спускаясь по пятнадцати ступенькам ведущей вниз лестницы, когда без сопровождения шла в ванны. Ее камердинер Захар Зотов услышал, как она упала, и с трудом поднял ее. Императрица была в синяках и в шоковом состоянии. Ей пустили кровь, дабы помочь прийти в себя — что она довольно благоразумно и сделала на следующий день, хотя колено, на которое она в основном упала, беспокоило ее до конца жизни, особенно в плохую погоду. В том году Святую Неделю она провела в Таврическом дворце вместе с тремя старшими внучками, гуляя по саду между посещениями служб в дворцовой церкви. Александр и Константин остались с родителями и принцессами Баденскими в Зимнем дворце — к неудовольствию Константина, который заметил: «Это означает, что мой брат будет возле своей красотки. А мне что там делать?»{1048} 9 мая в часовне Зимнего дворца принцессу Луизу Баденскую приняли в лоно православной церкви и нарекли Елизаветой Алексеевной. На следующий день они с Александром были официально помолвлены, после чего она тоже стала великой княгиней. Через четыре дня Екатерина написала Гримму: «Все говорят, что помолвлены два ангела. Невозможно представить более прекрасную пару, чем эти дети пятнадцати и четырнадцати лет. Кроме того, они и правда влюблены друг в друга»{1049}. За несколько месяцев после смерти Потемкина влияние и власть Платона Зубова выросли необычайно. В январе 1793 года он, его брат и его отец были награждены титулами графов Священной Римской империи, а 23 июля Платон получил наперсный портрет императрицы и орден святого Андрея. Его коллега Аркадий Морков также был награжден последним знаком отличия. Морков, которому в 1793 году было сорок шесть лет, худощавый, изуродованный оспенными шрамами, первоначально находился под покровительством графа Безбородко, но оказался достаточно хитрым, чтобы перенести свою преданность на Зубова. Известный своей жадностью, Морков никого никогда не приглашал к себе в дом. Он не был женат, но содержал актрису-француженку, от которой имел дочь. Через два дня после вручения орденов Платон Зубов был также назначен генерал-губернатором Екатеринослава и Крыма. Раньше этот пост принадлежал Потемкину. Вечером 4 августа граф Безбородко вернулся после нескольких недель пребывания в Москве, и на следующий день связался с Храповицким по поводу недовольства администрацией Зубова и Моркова, сообщив, что даже князь Потемкин не вмешивался во все до такой степени, как эти двое. В официальных кругах считали также несправедливым, что хотя честь заключения мира с Турцией и план оккупации Польши принадлежит главным образом Безбородко, награжденными оказались в первую очередь Александр Самойлов, а во вторую — Зубов и Морков. Власть Зубова повлияла также на рост отчужденности между Екатериной и ее сыном, с которым фаворит — весьма глупо не подумав о будущем — обращался с пренебрежением, не позволяемым себе ни одним из его предшественников. Однажды во время обеда, на котором великий князь присутствовал, почти не участвуя в застольной беседе, Екатерина спросила его мнения об обсуждаемом предмете. Он ответил, что согласен с монсеньором Зубовым, на что наглый молодой человек выкрикнул: «Почему? Разве я сказал что-то глупое?»{1050} 2 сентября начались двухнедельные празднования по поводу заключения мира с Турцией. По этому случаю Александр Храповицкий был повышен в чине до тайного советника и сенатора. Таким образом его работа в императорских покоях закончилась. Отчасти это могло быть удачным способом лишить его доступа к деликатной информации — ибо Екатерина знала, что он ведет дневник. Храповицкий попрощался с императрицей в ее кабинете еще в качестве секретаря, получив в подарок три резные геммы. А 5 сентября на балу в честь именин новой великой княгини Елизаветы его поблагодарили за работу Павел и Мария Федоровна. Праздник в честь мирного договора завершился громадным фейерверком. Через две недели в часовне Зимнего дворца состоялась свадьба Александра и Елизаветы. Графиня Головина записала об этом событии следующие воспоминания:
«Церемония проходила на специально возведенной приподнятой платформе, чтобы все могли ее видеть. Когда два прекрасных ребенка — потому что они были лишь чуть старше — появились на своих местах, разразилось общее ликование. Лорд Чемберлен, мистер Шувалов и князь Безбородко держали короны. Когда церемония закончилась, великий князь [Александр] и великая княгиня [Елизавета] спустились с платформы, держась за руки, и великий князь упал перед императрицей на одно колено, благодаря ее. Она подняла его, обняла и поцеловала, рыдая, затем повернулась к великой княгине, которая получила такое же проявление любви. Затем они обняли великого князя и великую княгиню, своих родителей, которые тоже поблагодарили императрицу. Великий князь Павел был чрезвычайно взволнован, это заметили все. В тот момент он любил свою невестку, будто она была его собственным ребенком»{1051}.
После свадьбы состоялся обед, затем вечерний бал в огромном зале апартаментов Александра. Новоиспеченных мужа и жену проводили в супружескую спальню Екатерина, Павел и Мария Федоровна. Хотя Александр еще не достиг эмоциональной зрелости, чтобы ответить на обожание своей юной жены — потому что она действительно влюбилась в него, — свадьба казалась, во всяком случае, со стороны, успешной, хотя впоследствии не принесла большого счастья ни одному из супругов. 6 декабря Екатерина рассказала Гримму об Александре, его жене и его брате:
«Наши новобрачные ужасно заняты, насколько можно судить, друг другом, а этот клоун Константин прыгает вокруг них. Невозможно себе представить, насколько он странный парень: прежде всего, он некрасив — но необыкновенно живой, остроумный и находчивый; крутится, как майский жук, искренне признает свои ошибки чудным сердцем и желает делать добро. По-моему, он чарующее существо и определенно выделяется среди своих сверстников. Он, конечно, делает все наскоками и порывами, и публика предпочитает, без сомнения, его брата. Несмотря на это, я предсказываю ему блестящее будущее благодаря его своеобразию. Как был он неотшлифованным с самого детства, так и остался»{1052}.
9 февраля 1794 года Екатерина записала, что прошло ровно полвека с тех пор, как она впервые прибыла с матерью в Москву, и перечислила Гримму оставшихся, которые могут еще помнить тот день:
«Прежде всего это Бецкой — слепой, дряхлый и бредящий, который спрашивает молодых людей, знали ли они Петра I. Это графиня Матюшкина, которая в 78 лет танцевала на свадьбе, отпразднованной вчера. Это главный виночерпий Нарышкин, который, когда я приехала, был при дворе камер-юнкером, и его жена. Есть еще его брат, шталмейстер, хотя он и отрицает, что присутствовал тут тогда, так как это делает его слишком старым. Есть обер-камергер Шувалов, который теперь едва выходит из дома из-за ветхости. И есть моя старая камер-дама, которая едва помнит сама себя. Вот и все мои сверстники»{1053}.
Несмотря на понимание того, что она стареет, Екатерина сохраняла юную ясность духа и любила наблюдать за своими внуками и их друзьями, играющими в жмурки и в другие игры. И дети тоже любили ее компанию — до взросления, которое приносило с собой понимание сомнительной личной жизни императрицы, а тогда появлялисьпроблемы. Двумя годами раньше Екатерина защищала Вольтера от обвинений в подстрекательстве к убийствам, но теперь она изменила свое мнение. Уничтожение монархии во Франции и продолжающаяся революция, которая вселяла в нее «один только ужас из-за разрушения порядка, спокойствия и блеска великого королевства и наводнения его убийствами и преступлениями»{1054} заставили ее отказаться от тех, кого она многие годы считала своими учителями. Теперь она видела семена революции в работе, которую когда-то предлагала напечатать в России — в «Энциклопедии». Она прямо написала об этом Гримму:
«Помните ли вы еще, как покойный король Пруссии заявлял, будто Гельвеций признался ему, что программа философов призывает низвергнуть все троны и что «Энциклопедия» написана ни с какой иной целью, но лишь с желанием уничтожить всех королей и все религии? Помните ли вы также, что никогда не хотели считаться одним из философов? Конечно, вы правы, что не желали быть отнесенным к illuminati — просветителям, потому что их единственной целью, как показал опыт, является разрушение»{1055}.
Когда с Петропавловской крепости начали палить пушки, объявляя, что лед на Неве тронулся, Екатерина написала Гримму о своем прежнем идоле: «Вы говорили мне, что однажды отомстите Вольтеру за его вклад в подготовку революции и укажете действительных ее авторов. Прошу вас, сообщите мне их имена и скажите, что вы о них знаете»{1056}. Если в свои самые мрачные моменты Екатерина размышляла о поддержке, которую когда-то оказывала философам, то она должна была чувствовать себя Франкенштейном, который помог спустить на мир монстра с привязи. Но существуют признаки, что ее память по этому поводу стала избирательной и что она чувствовала себя скорее преданной, чем одураченной. Разочарование стареющей Екатерины лишь обострилось из-за вспышки проблем в Польше. Тадеуш Костюшко, патриотически настроенный офицер, принимавший также участие в Войне за независимость Америки, поднял в Кракове мятеж, быстро перекинувшийся в Варшаву, где в апреле повстанцы убили или захватили в плен более трех тысяч русских. Были отдельные случаи неповиновения в Вильно, в Литве и в Курляндии. 20 апреля, за день до шестидесятипятилетия Екатерины, Платон Зубов сообщил о ситуации Совету. Русские войска совместно с прусскими и австрийскими выступили против восставших, которые 29 мая потерпели поражение у Хелма. К середине июля Екатерина уже обсуждала с Пруссией третий — и окончательный — раздел Польши, узнав из вскрытой переписки пруссаков, что Фридрих Вильгельм II решил получить равные доли с Австрией. Восстание было решительно и окончательно подавлено украинскими войсками под руководством генерала Александра Суворова, который заслужил позорное имя «душитель Праги» (имелся в виду укрепленный пригород Варшавы). 29 октября это привело к сдаче Варшавы. Суворов арестовал революционных лидеров, в том числе и короля, разоружил польскую армию и конфисковал королевские регалии. 31 декабря 1794 года закончился срок найма воспитателя великого князя Александра — Фредерика Цезаря де ла Арпа. Некоторое время Екатерина подозревала ла Арпа в либеральных настроениях и возможных симпатиях к революционерам, но в любом случае она считала, что семнадцатилетний — к тому же женатый — Александр не нуждается более в воспитателе. Сам Александр был подавлен увольнением ла Арпа, которого считал своим близким другом. Письмо, которое он написал воспитателю, узнав, что тот уезжает, показывает, как глубоко несчастен был молодой человек, как ненавидел он двор Екатерины и как боялся будущего:
«Вы достаточно хорошо знаете интерес, который я питаю к вам и ко всему, что касается вас; нет нужды повторять это; поэтому вы понимаете, мой дорогой друг, какую боль я должен испытывать, думая, что вскоре буду отделен от вас, особенно оставаясь один при дворе, который я ненавижу, предоставленный условиям, суть которых заставляет меня содрогаться… Мне остается единственная надежда — думать, что я смогу увидеть вас снова через несколько лет, как вы сами мне сказали. Однако из того, что вы сказали в своем письме, мне представляется, будто ваше увольнение почетно. До свидания, мой дорогой друг. Будьте уверены, что я до последнего вздоха весь ваш и что я никогда не забуду того, чем обязан вам, и всего, что вы сделали для меня»{1057}.
Еще одна императорская внучка, Анна, родилась седьмого января 1795 года; через неделю ее крестили. По словам ее бабушки, она была еще одним ужасным ребенком. Затем, на следующий день после крещения Анны, ее двухлетняя сестра Ольга умерла из-за мучительной болезни, во время которой она не могла прекратить есть. Хоть и искренне сопереживая страданиям маленькой девочки, Екатерина отнеслась к этой трагедии в своей обычной манере, отказавшись на ней задерживаться. Без сомнения, она поощряла родителей поступить так же. Теперь Екатерина направила свое внимание на поиск подходящих партий для следующих по очередности внуков, Константина и Александры. Для последней Екатерина наметила наследника своего покойного кузена Густава III Шведского. Эту идею предложил еще Потемкин, в декабре 1789 года, после окончания войны со Швецией, написав императрице: «Сделай все возможное, чтобы привязать к себе Швецию. Почему бы для этой цели не пообещать выдать одну из великих княгинь за их принца? Право, благодетельница, это было бы хорошо, очень хорошо»{1058}. Екатерина обсудила эту возможность с Густавом, который тогда был еще жив — и кажется, он одобрил идею. Его наследник, молодой принц, о котором шла речь, официально числился его сыном, хотя вопрос, был ли печально известный своими гомосексуальными наклонностями Густав его реальным отцом, остается открытым. Ходили слухи, что король обманом заставил жену вступить в сексуальную связь со своим конюшим, графом Мюнком, и что Густав-Адольф стал плодом этого союза. Но для династического брака данный вопрос был чисто академическим. Густав IV Адольф был теперь королем Швеции, хотя еще несовершеннолетним и некоронованным, а правление осуществлял его дядя и регент герцог Сёдерманланд. Екатерине нравилась мысль, что Александра станет королевой Швеции, но не было особой спешки, поскольку обе стороны были еще слишком молоды. Так она и написала Гримму: «Молодая дама вполне может подождать, пока король достигнет совершеннолетия, прежде чем решится ее судьба, потому что сейчас ей всего одиннадцать лет, и она вполне утешится, если он сбежит от нее, посчитав, что это будет его потеря»{1059}. Ситуация с Константином была более неотложной, так как, по словам бабушки, он завидовал семейному положению своего брата и хотел подражать ему и в этом. Екатерина начала поиски предполагаемой невесты шестнадцатого апреля, попросив Гримма взглянуть на дочерей княгини Мекленбургской и как следует прояснить отношение этого дома к религии. Польша была фактически поделена на части в 1795 году; Россия аннексировала Курляндию и Земгалию 15 апреля. Король Станислав Август отрекся от престола позже в этом же году. Одним из результатов этого раздела стал наплыв в Россию польской знати, включая двух молодых братьев Чарторыйских, которые прибыли в Петербург 1 мая. Очень скоро они узнали о влиянии, которое имел фаворит императрицы, и вскоре по прибытии ему их представили. Адам Чарторыйский оставил в своих мемуарах живые воспоминания о том, как Зубов ежедневно принимал жалобщиков. Не похоже, что Екатерина, занятая работой и прочей утренней рутиной, знала о том, какой вид напускает на себя ее фаворит:
«Каждый день около одиннадцати часов он становился передаточным звеном — в прямом смысле этого слова. Огромная толпа жалобщиков и придворных всех рангов торопилась поприсутствовать при его туалете. Улица снаружи наполнялась шести- и четырехконными экипажами, как перед театром. Иногда, после долгого ожидания, толпе объявляли, что граф не появится, и все расходились, говоря: «До завтра!» Другой раз двойные двери распахивались — и все, от генерал-аншефа и кавалеров до черкесов и длиннобородых купцов, толкаясь, толпой устремлялись вперед. Среди жалобщиков в то время можно было встретить много поляков, которые приходили просить о возврате их собственности или исправлении какой-то несправедливости. Это торжественное действо всегда проводилось заведенным порядком. Открывались двойные двери, и Зубов выходил легким шагом, в халате, не имея, похоже, ничего под ним. Он слегка наклонял голову, выражая признательность просителям и придворным, собравшимся в уважительный кружок, и начинал свой туалет. Камердинеры подходили ближе, чтобы взбить ему волосы и напудрить его. В это время прибывали другие просители; им также оказывалась честь легким наклоном головы, если граф узнавал кого-нибудь из них. Все неотрывно следили за фаворитом в надежде поймать его взгляд. Мы были среди тех, кто всегда получал доброжелательную улыбку. Все стояли, никто не осмеливался выдохнуть ни слова. И в течение этого немого представления, в выразительной тишине каждый передавал прошение о своих нуждах всесильному фавориту. Я повторяю: никто не открывал рта, лишь граф иногда адресовал кому-нибудь словечко, и при этом никогда — по поводу просьбы. Часто он не произносил ни слова, и я не помню, чтобы он когда-либо предложил кому-нибудь сесть, кроме фельдмаршала [Николая] Салтыкова, который был первой личностью двора и который, как говорили, и сделал из Зубова фаворита. Это была благодарность за его посредничество, когда граф Платон сменил Мамонова. Пока фавориту прибирали волосы, его секретарь Гри-бовский обычно приносил бумаги ему на подпись. При этом просители перешептывались, обсуждая, сколько нужно платить этому человеку, чтобы иметь успеху его хозяйки… Но вот операция причесывания завершена, несколько подписей поставлено, и граф надевает мундир или сюртук и уходит в свои покои. Это делалось с полным безразличием, которое напускалось, быть может, для важности и имитации достоинства. В этом человеке не оставалось ничего естественного, все было отрепетировано по системе. Граф заканчивал представление — и все бежали к экипажам, более или менее недовольные его аудиенцией»{1060}.
По словам Чарторыйского, один Безбородко имел мужество не склоняться перед Зубовым: он даже не приходил навестить его. «Все ценили его храбрость и никто не соперничал с ним»{1061}. Зубов оставался близок со своим благодетелем, графом Салтыковым, который иногда после обеда переходил из апартаментов императрицы в зубовские, пользуясь маленькой соединяющей лесенкой. Салтыкову — невысокому, худому, остроносому человеку — в 1795 году было пятьдесят девять лет. Очень набожный, он многие годы каждое утро проводил в молитвах; у него, видимо, были больные ноги, поскольку он хромал. Кроме того, он носил высокую напудренную и напомаженную прическу и имел странные привычки — например, постоянно поддергивал штаны. Братьев Чарторыйских представили императрице в Царском Селе, и снова Адам записал свои впечатления в мемуарах. Нужно помнить, что для него Екатерина была разрушителем его любимой страны, и он не мог не видеть ее в этом свете:
«Императрица была еще в часовне, когда все те, кого ей собирались представить, вошли в салон. Сначала нас представили графу Шувалову, обер-камергеру и бывшему фавориту Елизаветы. Он построил нас в ряд возле дверей, расположенных на пути императрицы. Когда месса закончилась, по двое двинулся кортеж, состоящий из камер-юнкеров, камергеров и других важных сановников. Наконец появилась сама императрица в сопровождении князей, княгинь и дам двора. У нас не хватило времени рассмотреть ее, потому что необходимо было преклонить колено и поцеловать ей руку; в это время объявлялись наши имена. Затем со всей толпой дам и важных персон мы перестроились в круг; императрица двинулась по этому кругу, обращаясь к каждому с несколькими словами. Она оказалась пожилой, но бодрой женщиной, скорее маленькой, чем высокой, и очень полной. Ее походка, осанка, вся ее фигура несли отпечаток величия и элегантности. У нее отсутствовали резкие движения, все в ней было веско и благородно; но она походила на реку, которая все сметает на своем пути. Ее лицо, в морщинах, но полное экспрессии, свидетельствовало о высокомерии и духе господства. На губах покоилась вечная улыбка; но помня о ее деяниях, я понимал, что это демонстративное спокойствие прячет самые дикие страсти и непреклонную волю»{1062}.
Чарторыйских пригласили во время обеда присоединиться к императрице за ее столом, расположенным в колоннаде; то был знак уважения. Впоследствии братья стали посещать Царское Село по воскресеньям и праздничным дням и присутствовали на вечерних представлениях, которые при хорошей погоде проходили в саду. Императрица или ходила в сопровождении своих придворных на прогулку, или сидела с пожилыми людьми на скамье и наблюдала за внуками и их друзьями, играющими на лужайке. Великий князь Павел не оставался на отдых, возвращаясь в Павловск после церковной службы или, в крайнем случае, после обеда. У самых разных людей, в том числе и у Чарторыйских, возникла привычка заканчивать вечера в апартаментах Платона Зубова. А Зубов между тем демонстрировал влюбленность в жену Александра, Елизавету, и его преследования стали для нее источником смущения. Однажды он даже разглядывал в телескоп через окно ее апартаменты, пока графиня Головина не задернула шторы. По крайней мере, один иностранец, датчанин, чей отчет затерялся в министерстве иностранных дел Франции, предположил, что видимая всем безрассудная страсть Зубова была игрой, имеющей целью приобрести влияние на Александра и его жену — в надежде и ожидании, что скорее всего Александр, а не Павел, станет императором после смерти Екатерины. Если это и было так, то задумка не сработала. Понятное дело, Александр вовсе не был рад, сообразив, что фаворит его бабушки имеет виды на его жену. Кроме лишнего веса, императрица теперь страдала еще и от флебита, и иногда у нее на постоянно отекших ногах появлялись открытые язвы. Однако в то время считали, что это очищает тело от мокроты. Екатерина принимала ножные ванны из морской воды и верила, что это ей помогает. Вторым признаком наступающего старения стал хриплый голос. Но ей повезло: она сохранила все зубы, кроме одного. Этим летом в возрасте девяноста трех лет умер ее старый друг и помощник во многих образовательных проектах Иван Бецкой. Екатерина сообщила Гримму:
«Он впал во второе детство на последние почти семь лет, и иногда погружался в маразм. Десять лет назад он ослеп. Когда кто-нибудь приходил навестить его, он говорил: «Если императрица спросит, чем я занят, скажите, что работаю со своими секретарями». Кроме того, он скрывал от меня потерю зрения, чтобы я не забрала ни одного из его постов. На деле все посты заполнены уже давно, но он этого не знал»{1063}.
Поиск подходящей невесты для Константина привел Екатерину к трем юным принцессам Сакс-Кобургским, которые в должное время, 6 октября 1795 года, приехали в Санкт-Петербург со своей матерью. Константин, редко отдававший время раздумьям, почти немедленно влюбился в младшую. Екатерина писала Гримму:
«Я так устала за три дня от Константина и от всего, связанного с ним! Это наложилось на обычную суматоху — и мне не осталось ни мгновения для себя лично. Наследная принцесса Сакс-Кобургская очень достойная, почтенная дама; ее дочери — очень хорошенькие. Жалко, что намеченный жених может взять только одну — так как хорошо было бы оставить всех троих. Но кажется, наш Парис отдаст яблоко самой младшей: вы увидите, это будет Юлия, та, которая уведет его»{1064}.
Окончательное решение было принято к полудню 14 октября: «Наше дело улажено. Константин женится на Юлии; они в равной степени находят друг друга приятными. Ее мать и все остальные смеются и плачут по очереди над этой любопытной парой: жениху шестнадцать лет, а невесте четырнадцать. Вместе они — два маленьких бесенка»{1065}. Екатерина рассказала Гримму о приготовлениях, которые делаются для маленькой невесты Константина: «Принцессы Сакс-К[обургские] уедут в субботу. Младшая остается и будет жить до свадьбы с великими княгинями Александрой и Еленой. Дата свадьбы еще не определена»{1066}. Она также заметила: «Послезавтра состоится большой маскарад: почему бы вам не приехать?»{1067} Пока принцессу Юлию отдали под присмотр воспитательницы великих княгинь мадам генеральши Ливен и поручили тем же учителям, что учили великих княгинь, с коими она и проводила большую часть своего времени. По наблюдениям графини Головиной, будущее не обещало большого счастья принцессе Юлии:
«Всю зиму великий князь Константин приходил на завтрак в десять утра с невестой. Обычно он приносил барабан и трубу и заставлял ее играть на клавесине марши, которым он аккомпанировал на своих весьма шумных инструментах. Это было единственным проявлением любви, которую он к ней испытывал. Иногда он крутил ей руку и бил — но это была лишь прелюдия к тому, что ждало ее после свадьбы»{1068}.
Среди отмеченных монаршьей милостью, оглашение коей было назначено на 1 января 1796 года, оказались и братья Чарторыйские, произведенные в камер-юнкеры. Другим получателем императорской милости стал фельдмаршал Суворов, которому в знак признания его польских заслуг императрица вручила выложенную бриллиантами табакерку со своим портретом. Живость была одной из самых заметных черт фельдмаршала на новогоднем балу: он станцевал примерно двадцать танцев, как юноша, несмотря на пожилой возраст (они с Екатериной родились в один год). Императрица тоже находилась в явно приподнятом настроении и несколько раз подзывала Суворова, чтобы посмеяться и пошутить с ним, пока играла в карты с Зубовым и послами — австрийским и английским (последним в то время был Чарльз Уитворт). Принцесса Юлия перешла в православие 2 февраля. Ей дали имя Анна Федоровна. Помолвка Константина и Анны состоялась на следующий день, а за ней вскоре (уже 15 февраля) последовала свадьба. После церемонии в новом Георгиевском зале, построенном Кваренги, был дан обед с вокальным и инструментальным сопровождением. За здоровье молодоженов пили под грохот труб, барабанов и пушек — пятьдесят одно орудие стреляло в честь императрицы и тридцать одно — в честь всех остальных. Вечером целая процессия экипажей присоединилась к новобрачным на коротком пути до Мраморного дворца (первоначально построенный для Григория Орлова, теперь дворец отошел короне и был отдан Константину). По описанию, данному Константину графиней Головиной, он выглядел как юноша, за которого вышла замуж сама императрица Екатерина. Но обращали на себя внимание жесткие черты его лица:
«Его поведение, когда он считал себя хозяином в собственном доме, убедительно доказывало, как сильно он еще нуждается в строгом надзоре. Вскоре после женитьбы он стал, среди прочего, развлекаться стрельбой из пушки крысами в школе верховой езды Мраморного дворца — заряжая пушку живой крысой как снарядом. Поэтому когда императрица вернулась в Зимний дворец, она поселила его в апартаменты возле Эрмитажа»{1069}.
Бедная юная жена Константина также срочно нуждалась в ком-нибудь, кто бы подсказывал ей:
«Великая княгиня Анна, которой было четырнадцать лет, была очень хорошенькой, но не обладала ни грацией движений, ни образованием. Она имела маленькую романтическую головку, которая была опасной для хозяйки особенно потому, что в ней напрочь отсутствовали и знания, и принципы. Девочка имела доброе сердце и быстрый от природы ум, но, не обладая никакими качествами, способными предохранить ее от искушений, была со всех сторон окружена опасностями, а отвратительное поведение великого князя Константина вносило свой вклад в дальнейшее разрушение ее устоев»{1070}.
Но Константин был популярен среди людей, которые считали, что видят в нем истинного потомка Петра Великого. Говорили, что вскоре после женитьбы он возил свою молодую жену на прогулку по Петербургу в открытых санях, без слуг и соблюдения церемоний. Людям это нравилось, но императрица позже запретила давать Константину лошадей без ее разрешения. В письме, которое Александр написал во время свадебных церемоний своему бывшему воспитателю ла Арпу, есть подтверждение эксцентричного поведения Константина, а также откровенно упоминается желание Александра избежать своей судьбы:
«Дорогой друг! Как часто я думаю о вас и обо всем, что вы мне говорили, когда мы были вместе! Но это не может изменить решения, которое я принял для себя, — избавиться в будущем от своей судьбы. День за днем для меня становится все более непереносимым происходящее вокруг. Я наблюдаю нечто непостижимое: все воруют, невозможно встретить честного человека; это страшно… Мой режим чрезвычайно устраивает меня, я вполне здоров, весел большую часть времени, несмотря на свои печали, очень счастлив с женой и невесткой. Что касается мужа последней, то он часто доставляет мне огорчения. Он стал более буен, чем прежде, и очень своеволен; его желания нечасто совпадают с доводами разума. Война свихнула ему мозги. Он бывает жесток с солдатами своего полка; у него есть такой — он сам его создал, и в нем видит только начало»{1071}.
25 марта Платон Зубов был награжден титулом князя Священной Римской империи, а Аркадий Морков получил титул графа. Теперь, когда и Александр, и Константин были женаты, Екатерина всерьез обратила свое внимание на проект брака между внучкой Александрой и молодым королем Швеции. Первым препятствием, которое следовало преодолеть, была вызывающая глубокое раздражение Екатерины уже состоявшаяся помолвка между Густавом Адольфом и принцессой Мекленбург-Шверинской. Но, похоже, шведы не прочь были разорвать ее ввиду перспектив русского брака. Екатерина ясно изложила свою позицию в письме русскому послу в Стокгольме генералу Будбергу.
«Я, как всегда заявляла, никогда не согласилась бы завязать этот узел, если он не станет результатом личного знакомства и взаиморасположения. Я все-таки настаиваю на необходимости путешествия, которое король и регент могут совершить к моему двору, чтобы осуществить это знакомство. Я тем больше придерживаюсь этой идеи, что, позволив себе быть слепой из-за нежности к внучке и желания видеть ее королевой Швеции, делаю самый лучший из всех возможных подарков королю и его королевству. Но необходимо, чтобы она тоже нашла свое счастье, которое является предметом всех моих молитв и моей самой трепетной заботы»{1072}.
Ко времени, когда двор в мае текущего года двинулся в Царское Село, Екатерина наконец заметила, к чему готовится ее фаворит. Она велела Платону Зубову прекратить проявлять внимание к жене Александра, и в этом году «не было больше прогулок, взглядов и вздохов»{1073}. Екатерина сообщила Гримму, что она в добром здравии и делает много упражнений. Снова ожидались роды Марии Федоровны. Константин заявил, что никогда не видел такого огромного живота — в нем, должно быть, четверо. Долгожданный третий сын, Николай Павлович, появился 25 июня. В пять часов утра в Царском Селе начали стрелять пушки, объявляя о рождении. Екатерина, которая, как обычно, всю ночь оставалась с невесткой, написала Гримму о новом внуке в тот же день:
«Сообщаю монсеньору Козлу отпущения, что в три часа утра маман родила огромного мальчишку, которому дали имя Николай. У него бас, и кричит он очень странно; его рост один аршин без двух вершков [более двух футов], а руки почти такие же, как мои; я никогда в жизни не видела такого богатыря. До свидания, будьте здоровы. Если он продолжит так же, как начал, его братья станут казаться миниатюрными рядом с этим колоссом»{1074}.
5 июля Екатерина сообщила Гримму об удивительно быстром развитии нового внука:
«В последние три дня сэр Николас начал есть бульон, потому что он хочет есть все время. Думаю, что восьмидневный ребенок не должен столько есть. Это неслыханно! У всех нянек опускаются руки. Если это продолжится, в шесть недель его отлучат от груди. Он смотрит на всех, держит голову и двигает ею, как я»{1075}.
Крещение Николая состоялось на следующий день; его брат Александр был крестным отцом. 4 августа граф Шверин, конюший короля Швеции, объявил о скором приезде семнадцатилетнего короля Густава IV Адольфа, который путешествовал (как и его отец до него) под именем графа Гага. Его сопровождал дядя-регент, в путешествии звавшийся графом Ваза. Шведская делегация прибыла в Санкт-Петербург вечером 13 августа и через два дня была принята в Эрмитаже. Первоначально Екатерина встретила молодого короля и регента одна. Шведский путешествующий двор состоял из двадцати трех человек; вкупе со слугами — из ста сорока; вся свита остановилась у шведского посла Штединга. Когда Екатерина описывала Гримму свое первое впечатление по их прибытии, она, вероятно, смотрела сквозь розовые очки, так как позднее описала короля как «меланхоличного и смущенного мечтателя»{1076}:
«Пятнадцатого августа в шесть часов вечера графы появились в Эрмитаже, где в течение четверти часа познакомились со всеми. Граф Гага заслужил не только одобрение, но даже немедленную всеобщую любовь; и заметьте, такого тут никогда и ни с кем не случалось до него. Он весьма замечательная фигура: величественный и мягкий, с очаровательной физиономией, на которой написаны интеллект и обаяние. Он очень достойный молодой человек, и, несомненно, ни один другой трон в Европе не может похвастать чем-либо столь же обнадеживающим. У него доброе сердце, он очень вежлив, но проявляет осмотрительность и сдержанность, не свойственные его возрасту; одним словом, повторяю, он очарователен. Шестнадцатого он провел вечер со мной в Таврическом дворце, где, как и в первый день, был бал и ужин. Сплетники заявляют, что заметили, как его взгляд становится мягче и его величество порой розовеет от удовольствия. Что касается юной леди, то она потеряла свою собаку, и это заставило ее плакать всю ночь и все утро; мадам генеральша Ливен, ее гувернантка, умирала от страха, как бы глаза не остались красными. Вчера, семнадцатого, хотя собака еще не найдена, она, тем не менее, повеселела. После обеда граф Гага долго беседовал с ней, и хотя оба стояли на солнце, которое было очень жарким, нельзя было не заметить, что ни один, ни другая не ощущали жары»{1077}.
Графиня Головина составила собственное видение молодого короля:
«Мы присутствовали при посещении королем Эрмитажа. Появление Его величества в гостиной было впечатляющим. Дети держались за руки, достоинство и благородная внешность императрицы ни в коей мере не затмевали отличной осанки молодого короля, чей черный шведский сюртук и длинные, до плеч, волосы придавали вид рыцарского благородства его внешности. У всех сложилось благоприятное впечатление»{1078}.
Вечером 18-го состоялся еще один бал, за которым последовал еще один ужин — на этот раз в апартаментах великого князя Александра. Теперь Екатерина, кажется, заметила несчастный вид Александра, сообщив Гримму: «Похоже, все тут радуются, и на этом фоне лишь один ходит при своем мнении»{1079}. Неделей позже она написала сыну:
«Я очень расстроилась, дорогой мой сын, что нездоровье не позволило тебе вчера прийти на обед в городе; посылаю своего камердинера выяснить твое самочувствие. Вот почему я связываюсь с тобой: вчера, вернувшись с обеда, я пошла в сад и села на скамью под деревьями напротив лестницы; молодой король подошел и сел рядом со мной. Остальная компания пила кофе на лужайке у цветника. Увидев, что оказался со мной наедине, он сказал, что хочет воспользоваться моментом и открыть мне свое сердце. После нескольких любезностей, преодолев застенчивость, он очень ясно выразил мне чувство, которое испытывает по отношению к твоей старшей дочери, и желание получить ее в жены, если она не испытывает к нему отвращения. Я подтвердила: наша с ним дружба заставила меня выслушать его речь с удовлетворением. Но я должна заявить, что несчастный договор, связывающий его, делает невозможным строить иные планы, пока он полностью не разорван, и что со своей стороны до того я не могу слушать его долее. Он сказал, что именно так и намерен поступить, и просит меня не разглашать его слова и дать ему согласие, но хранить все в тайне до того, как дело будет полностью устроено. Я попросила несколько дней на обдумывание. Я знаю, что ни ты, ни моя дорогая дочь не возражаете против этого плана, но необходимо, чтобы все было сделано как положено — ты видишь, как обстоят дела. Я решила, что необходимо предупредить тебя, чтобы ты, как только почувствуешь себя лучше, приехал в город — потому, что легче разговаривать, чем писать, и потому, что приближается развязка. Прощаюсь с обоими. В случае, если Бог будет против и ты окажешься не в состоянии приехать в город между сегодняшним днем и послезавтрашним, пришли мне открытое письмо от вас обоих с согласием и благословением для своей старшей дочери, которое я сама передам ей, — но она ничего не будет знать об этом до нужного момента»{1080}.
Павел не приехал в город, как его просили, но с удовольствием передал свое согласие на брак. Екатерина передала согласие Густаву Адольфу на условиях, что помолвка с принцессой Мекленбургской будет недвусмысленно разорвана и что великая княгиня останется в той религии, «в какой рождена и воспитана»{1081} — потому что хотя протестантские принцессы переходят в православие, вливаясь в русскую императорскую семью, об обратном процессе вопрос возникать не должен. Тут-то и проявилась реальная проблема. Регент и шведские государственные деятели в ответном договоре между двумя странами — с участием Остермана, Зубова, Безбородко и Моркова с российской стороны — без труда согласились на это условие, но молодой король оказался глубоко преданным евангелистом. Тем не менее казалось, что его сомнения можно преодолеть, и 30 августа Екатерина была все еще довольна намеченным женихом, что ясно из ее письма Гримму:
«Все от мала до велика обожают молодого короля: он очень любезен, очень хорошо говорит, чудесно болтает. У него милое лицо; черты лица тонкие и правильные, глаза большие и живые; он имеет величественную осанку, высок, строен и подвижен; ему нравится прыгать, танцевать и совершать любые телесные упражнения; он разряжается в них легко и умело. Похоже, ему тут очень нравится; он хочет остаться еще на десять дней. Он тут уже три недели, и день его отъезда еще не назначен, хотя время летит быстро… Публика заметила, что день ото дня Его величество все чаще танцует с мадемуазель Александрой и у них постоянно есть что сказать друг другу. Еще говорят, будто Его величество заявил своим людям: «Устройте все как можно скорее, ибо я чувствую, что влюбляюсь до безумия; а когда я теряю голову, я теряю всякий здравый смысл». Похоже также, что молодая леди не испытывает антипатии к вышеназванному лорду: она перестала стесняться, как было в начале, и чувствует себя легко в присутствии своего обожателя. Нужно признать, что они составили редкую пару. Никто не вмешивается, никто не препятствует; все выглядит так, будто дело уладится или по крайней мере решится до отъезда Его величества, который вовсе не торопится уезжать, хотя его совершеннолетие будет объявлено первого ноября по новому стилю»{1082}.
2 сентября венский посол, граф Кобенцл, давал бал. Бедная тринадцатилетняя Александра выглядела такой невинной — но ее бабушка рассказала об инциденте, произошедшем на балу:
«Не знаю, как это случилось — то ли из-за избытка веселости, то ли еще почему-то, — но наш любезник позволил себе сжать руку своей нареченной во время танца. Она побледнела как смерть и сказала своей воспитательнице: «Пожалуйста, представьте, что он сделал — он сжал мою руку, когда мы танцевали; я не знаю, что еще может случиться». Та спросила ее: «И что же ты?» Она ответила: «Я боялась споткнуться»{1083}.
На том же балу король подошел к Екатерине и сказал, что готов к компромиссу по вопросу религии. Она тем временем кое-что написала ему, объяснив собственную позицию и то, как она видит его положение. Екатерина вынула бумагу из кармана и сказала, чтобы он внимательно прочитал ее в своей резиденции. Идея личной веры, приобретаемой путем выгодного договора, была абсолютно чуждой и непонятной для нее. По ее мнению, Бог всегда поддерживает монархов, которые во главу угла ставят интересы своей страны. Она была уверена, что поведение Густава Адольфа в основном является результатом его неопытности, и сказала ему так: «Будьте добры, поверьте тридцатилетнему опыту правления, во время которого я преуспела в большинстве своих предприятий. Этот опыт в сочетании с чувством самой преданной дружбы смеют дать вам искренний и прямой совет — без всякой иной цели, лишь только чтобы вы имели счастливое будущее»{1084}. Что касается вопроса о религии ее внучки, то следует учитывать скорее ее имперский статус и высокое положение — а также кругозор русских людей, — нежели личную веру, которая делает самую идею ее обращения невозможной. Вспомнив аргументы времен ее собственного обращения, Екатерина сделала итоговый вывод: между православием и лютеранством нет существенного различия. Итак, обрисовав свою позицию королю, она сообщила, что «не подобает российской принцессе менять свою религию»{1085} и использовала в поддержку своего заявления пример собственного покойного мужа — наличие православной матери не лишило его права на шведский трон. Екатерина заключила: «Приглашаю Ваше величество внимательно обдумать то, что я написала, моля Бога, который управляет сердцами королей, облегчить собственное ваше сердце и вдохновиться в нем на решение, согласное с пользой для вашего народа и с вашим личным счастьем»{1086}. Вечером 3 сентября состоялся большой салют, во время которого король поблагодарил императрицу за ее записи и сказал, как его расстроило, что она считает его неспособным думать о муках другого, «тем более об объекте, столь дорогом для его сердца, как великая княгиня»{1087}. Все выглядело вполне готовым для договора и составления свадебных планов. 8 сентября, во время бала в Таврическом дворце, Екатерина предложила регенту, чтобы церемония помолвки состоялась по православному обычаю с благословления епископа. С этим с готовностью согласились все, включая короля, и помолвка была назначена на четверг, 11 сентября. Церемонию планировалось провести в императорских апартаментах, а не в церкви или дворцовой часовне. Шведы просили, чтобы все прошло тайно, так как о свадьбе невозможно объявить во всеуслышание, пока король не достигнет совершеннолетия. «Тайно» означало участие всех членов императорской семьи и обычной массы священников и придворных. В назначенный день примерно в двенадцать часов русские и шведские полномочные представители собрались для подписания договора. Подписывающие с российской стороны — граф Салтыков и мадам генеральша Ливен — изрядно удивились, обнаружив, что отдельный пункт, оставлявший Александре свободу выбора религии, отсутствует среди остальных пунктов документа. Шведские представители объяснили, что король изъял этот пункт и хочет обсудить его с императрицей. Екатерине послали записку, сообщив, какая возникла проблема. Было уже четыре часа дня. Екатерина поняла, что до помолвки уже не осталось времени для объяснений. А потом было бы уже слишком поздно что-либо предпринимать (видимо, молодой король на это и рассчитывал). В результате она отправила графа Моркова к королю и регенту с сообщением, что этот пункт должен быть завизирован вместе с остальными параграфами договора до помолвки, как было оговорено ранее. Морков вернулся через два часа, ничего не добившись. Пытаясь преодолеть тупик, Екатерина написала еще несколько слов и сказала, что если король подпишет записку, она этим временно удовлетворится. Текст, на котором она хотела увидеть его подпись, гласил:
«Я официально обещаю оставить Ее императорскому высочеству великой княгине Александре Павловне, моей будущей жене и королеве Швеции, полную свободу совести в выборе религии, в которой Она родилась и была воспитана, и прошу Ваше императорское величество считать это обещание самым обязательным и торжественным словом, которое я даю»{1088}.
Граф Морков вернулся со следующим ответом короля:
«Дав уже слово чести Ее императорскому величеству, что великая княгиня никогда не будет стеснена в выборе религии, и имея впечатление, что Ее величество согласилась с этим, я уверен: Она не усомнится в том, что я достаточно хорошо знаю священные обязательства, которые эта помолвка налагает на меня по каждому другому внесенному пункту, и запись этого нахожу совершенно излишней»{1089}.
Екатерина посчитала это заявление слишком неопределенным, чтобы удовольствоваться им. Было уже десять часов вечера. Ожидавшие помолвки между тем собрались в вестибюле императрицы к четырем часам. Как записал Адам Чарторыйский:
«Гофмейстерины, фрейлины, двор, министры, сенаторы, множество генералов собрались и стояли рядами в приемной. Ждали несколько часов; становилось поздно. Среди присутствующих, которые что-то знали, поползли шепотки. Входили и выходили какие-то люди, торопящиеся во внутренние покои императрицы и выбегающие оттуда. Это были тревожные часы»{1090}.
Теперь императрица вызвала сына, и они сошлись на необходимости сказать королю, что она заболела и мероприятие будет отменено. Позже Чарторыжский вспоминал:
«Нам сообщили, что церемонии не будет. Императрица прислала извинения архиепископам за то, что заставила их преосвященства прийти зря. Дам в их огромных кринолинах и всех остальных в богатой и красивой одежде попросили уйти, так как церемония, в связи с некоторыми трудностями и неожиданными деталями, отложена»{1091}.
Как чувствовала себя молодая великая княгиня Александра, можно только догадываться. Такое смущающее публичное фиаско было беспрецедентным за все время правления Екатерины. Она негодовала — особенно в адрес короля, который хоть и был моложе ее старшего внука, осмелился противостоять ей. Гневалась она также и на министров, которые уверили ее, что все аспекты договора пребывают на своих местах. Такая ситуация никогда бы не возникла, если бы процессом управлял Потемкин — или Александр Вяземский до того, как постарел и ослабел. Безбородко, похоже, во время переговоров находился в тени, позволив вести их Моркову и Зубову, а Остерман никогда не был результативным работником. На следующий день, который оказался днем рождения великой княгини Анны Федоровны, король и регент попросили встречи с императрицей. Несколькими днями позже Екатерина описала ход разговора своему послу в Стокгольме генералу Будбергу:
«Я приняла их в своих внутренних покоях. Было заметно, что регент в отчаянии. Что касается короля, он был окостеневший, как кочерга. Он положил мою записку на стол. Я предложила ему сделать в ней изменения, как было предложено прошлым вечером — но ни доводы регента, ни мои не заставили его согласиться. Он твердил слова Пилата: что я написал, то написал; я никогда не изменяю того, что написал. Кроме того, он был невежлив, упрям и упорен как бревно, не готов ни говорить, ни слушать. Регент часто говорил ему что-то по-шведски и объяснял последствия его упрямства — ноя могу утверждать, что он отвечал с гневом. Через час они наконец ушли, очень недовольные друг другом. Регент рыдал»{1092}.
Видя, что никакого прогресса не предвидится, Екатерина приказала прекратить все переговоры. Бал этого вечера, даваемый в честь дня рождения Анны Федоровны, был печальным. Адам Чарторыйский записал:
«Императрица прибыла с вечной улыбкой на губах, но во взгляде ее можно было увидеть темную печаль и ярость. Помочь было невозможно — можно было только восхититься бесстрастной твердостью, с которой она принимала своих гостей… Говорят, великий князь Павел был ужасно раздражен, хотя я подозреваю, что он испытывал некоторое удовольствие от тяжелого faux pas (промаха) кабинета. Великий князь Александр негодовал из-за оскорбления, нанесенного его сестре, но возлагал вину на графа Моркова. Императрица была рада видеть, что внук разделяет ее негодование»{1093}.
Графиня Головина также вспоминала тот бал:
«Король Швеции появился печальный и смущенный, но императрица была сдержанна и разговаривала с ним со всей возможной легкостью и достоинством. Великий князь Павел был в бешенстве и кидал на короля уничтожающие взгляды»{1094}.
Тупик сохранялся 13 и 14 сентября, когда императрица скрывалась от взглядов публики. Сообщали, что в шведской резиденции кипят бурные споры, слышные на всех трех этажах здания. Вечером 14-го Екатерина получила от регента письмо, в котором тот извинялся за глупость своего племянника. Екатерина ответила, что искренне не знает,что ответить. В конце концов 17 сентября договор, включающий статью о религии, был подписан властью регента — но с оговоркой, что он будет выполняться только если король ратифицирует его в течение двух месяцев после достижения совершеннолетия. Екатерина рассчитывала, что этого не произойдет, но понимала: такой маневр помогал регенту сохранить лицо. Описав всю историю, чтобы ознакомить с ней своего посла, Екатерина признала, что она заставила ее думать о короле гораздо хуже, и на деле она полностью утратила хорошее мнение, которое создалось у нее о нем вначале. Она закончила свое письмо так: «Говорят, они уезжают завтра. Слава Богу»{1095}. Когда король и регент пришли в Бриллиантовый зал попрощаться с императрицей, второй сказал, что первый хотел бы поговорить с нею наедине, и поспешно вышел из комнаты. Екатерина рассказала своему послу, что затем произошло между стареющей императрицей и юным королем:
«Регент вышел; я пригласила короля сесть со мной на софу… Он начал излагать речь, которая, думаю, была подготовлена заранее. Он поблагодарил меня за то, каким образом его принимали, и заявил, что сохранит память об этом и благодарность на всю жизнь. Затем сказал, что очень сердит из-за непредвиденных препятствий, которые помешали его желанию соединиться со мной еще более тесно; что он разослал в Швецию письма, дабы узнать мнение соплеменников; что это ни в коей мере не роняет его авторитет, как я могу предположить, поскольку он несовершеннолетний; что он действовал в соответствии со своими убеждениями и со знанием своего народа, любовь которого должен сохранить. Я дала ему высказать все, что он хотел; выслушала его с большим вниманием и очень серьезным выражением лица, не издав ни звука. Когда он закончил и наступила тишина, я сказала, что с большим удовлетворением услышала, что он доволен оказанным приемом и что он запомнит его навсегда; что я также вижу возникшие препятствия для нашего более тесного союза, и очень раздражающие; что я действовала, как и он, в согласии со своими убеждениями и своим долгом. Когда я сказала это, он похвалил мою внучку и спросил о состоянии ее здоровья. Я ответила, что все четверо простудились. Он вернулся к сожалениям, которые испытывает из-за того, что религиозный вопрос породил препятствия его желаниям. Так как разговор превратился в обмен заготовленными репликами, я сказала ему в разговорном тоне: вам следует знать, что вы должны делать, и вы вольны делать что захотите; но я не могу изменить своего мнения — вам ни в коем случае не следовало поднимать тему религии; сделав это, вы совершили очень грубую ошибку, вредную прежде всего для вас самого. Потому что если когда-нибудь моя внучка окажется достаточно слабой, чтобы изменить своей религии — знаете, каков будет результат? Она потеряет уважение в России, а за этим последует обязательная потеря уважения также и в Швеции. Он хотел возразить мне относительно уважения к ней в Швеции. Я сказала ему: отлично, но какая вам с нее польза, если она потеряет то, чем обладает в России? Это, похоже, поразило его, и он замолчал. Молчание длилось долго, после чего он заговорил о дожде и о погоде, а я предложила вернуть регента. Он побежал к двери, чтобы позвать его. Когда тот вошел, мы попрощались, явилась свита, а они откланялись. За время всего разговора, что я вела с королем, он не издал ни звука о договоре — ратифицирует он его или нет. Он сказал мне только, что считает достаточной гарантией свое слово. На это я ответила, что в принципе все можно принять на словах — но заключение и развитие всех принципиальных отношений между государствами делаются в письменной форме»{1096}.
На этом дело остановилось. 19 сентября Екатерина сообщила генералу Будбергу о мере двуличности молодого короля — ибо теперь она выяснила, что, нашептывая на виду у всех сладкие безделицы о своих намерениях, он на деле пытался обратить девочку:
«Великая княгиня-мать считала, что заметила в короле большую любовь к своей дочери, потому что он часто и подолгу разговаривал с ней тихим голосом. Так вот что я выяснила: эти разговоры оказались далекими от объяснений в любви — его речи касались религии. Он пытался обратить ее в свою веру — абсолютно секретно, заставив ее пообещать не говорить об этом ни одной живой душе. Он говорил, что хотел бы читать с ней Библию, и даже сам объяснял ей догматы; она должна была принять единую с ним веру в день, когда ее коронуют; и так далее. Она ответила, что не сделает ничего подобного, не посоветовавшись со мной. Но королю только семнадцать лет, и он, занятый лишь своими теологическими идеями, не может предвидеть печальных мирских последствий и для великой княгини Александры, и для него самого, поменяй принцесса религию»{1097}.
Екатерина поведала Будбергу, каковы могли быть эти последствия:
«Начать с того, что первым результатом этой непродуманной акции стала бы потеря ею всего своего влияния в России; ни я, ни ее отец, ни мать, ни братья, ни сестры не смогли бы увидеться с нею снова, и она никогда бы не осмелилась даже ногой ступить в Россию. Вследствие этого она тут же потеряет свое значение для Швеции и останется с очень значительным приданым на милость бедной и ненасытной страны, которая не удержится и начнет отнимать у нее, кусок за куском, под предлогом необходимости для государства, деньги и остальные ценности»{1098}.
Екатерина проинструктировала своего посла, чтобы отныне он ничего больше не предпринимал в этом направлении, не говоря на эту тему и тем более — не настаивая на ратификации договора, но наблюдал и замечал, что король сделал или сказал — и передавал ей все, что было сказано после возвращения делегации из Петербурга. Шведы уехали 20 сентября, в день сорокадвухлетия Павла. Тот факт, что они выбрали именно этот особый день для отъезда, не оставшись на праздник, чрезвычайно поразил публику и подчеркнул, что все неблагополучно. О том, что произошло, не было сделано никаких официальных заявлений. А после всех фанфар, которыми сопровождалось прибытие ко двору шведской делегации, неизбежно распространились слухи, что дело пошло не так. Один слух сообщал, что Густав-Адольф был щедро подкуплен королем Пруссии, заинтересованным в том, чтобы он не женился на русской княгине, а другой — что вся вина на Моркове, и что его удалили от двора. Великий князь Александр был рад увидеть спины шведов — не только из-за оскорбления, нанесенного его сестре, но также потому, что не любил явления, названного (в письме ла Арпу) «еще одним разгулом праздников, балов, различных ужинов всех сортов»{1099}. Несмотря на гордую похвальбу в его детские годы, Екатерина не преуспела в ваянии из «монсеньора Александра» того, чего ей хотелось. Он не только проявлял нелюбовь к атмосфере и стилю двора своей бабушки и отвращение к идее в свою очередь стать императором, — в последние несколько лет он стал вызывающе близок с отцом. И он, и Константин с энтузиазмом принимали участие в военных занятиях Павла в Гатчине и Павловске. Екатерина воображала, что к этому времени Александр достаточно пропитается презрением, испытываемым к великому князю Павлу всеми при дворе, чтобы стать невосприимчивым к его влиянию. Но этого не произошло. Похоже, Александр боялся и отца, и бабушки — но первого больше уважал. Попавшийся между ними двоими, он решил притворяться. В то же время его бабушка ждала срочного ответа на вопрос — можно ли подготовить его к приему императорского трона после ее смерти, таким образом отрезав Павла от наследования. Эта идея была отвратительна Александру, и не по одному пункту, но он не мог заставить себя высказаться откровенно. Летом 1796 года Екатерина также попыталась заручиться в этом вопросе поддержкой Марии Федоровны, попросив ее уговорить Павла подписать акт о самоотречении. Она думала, что сможет сыграть на семейных неурядицах великой княгини — потому что Павел влюбился в одну из фрейлин жены. Но великая княгиня осталась непоколебимо лояльной — и в любом случае Павла было бы не уговорить подписать такой документ. В октябре Екатерина напрямую подступила к внуку; он доверился своей матери и не дал ясного ответа. К концу месяца вопрос наследования все еще не был решен. 20 октября Екатерина написала Гримму:
«Я проповедую и буду проповедовать здравый смысл всем королям — назло разрушителям тронов и общества и несмотря на всех приверженцев дурной противостоящей системы. Увидим, кто окажется царем горы — рациональный довод или чушь, провозглашаемая вероломными сторонниками отвратительной системы, которая сама по себе исключает и топчет основу самих понятий религии, чести и славы»{1100}.
Можно сказать, что это были ее последние слова — и Гримму, и миру.
21. Смерть и похороны
В среду, 5 ноября 1796 года, Екатерина поднялась, как обычно, рано, оделась, выпила кофе и села работать. Когда ее верная личная горничная Мария Перекусихина спросила, хорошо ли она спала, императрица ответила, что уже давно не спала так хорошо. Вскоре она отправилась в ванную. Через полчаса она все еще не вышла, и слуги начали волноваться. Сначала они подумали, что, может быть, она отправилась на прогулку в Эрмитаж, проскользнув так, что они не заметили; но когда ее камердинер Захар Зотов проверил, взяты ли из шкафа шуба или теплая накидка, и обнаружил, что все на месте, всеобщий испуг усилился. Зотов решил поискать ее. Он осторожно приоткрыл дверь ванной комнаты и увидел императрицу упавшей. Камердинер приподнял ей голову и обнаружил, что глаза ее закрыты, лицо багрового цвета, а дыхание хриплое и затрудненное. Он позвал на помощь; вбежало несколько слуг. Они не смогли поднять императрицу из-за ее веса и из-за того, что одна ее нога заклинила дверь. Призвали новых слуг и все вместе с большим трудом перенесли Екатерину в спальню, где положили на пол, на матрас из марокканской кожи. Затем вызвали докторов. Первым спустя сорок пять минут прибыл доктор Роджерсон. Он немедленно диагностировал удар и не оставил надежды на выздоровление. Тем не менее он пустил императрице кровь и наложил пластыри из шпанских мушек ей на ноги. Графа Николая Зубова, старшего брата Платона, отправили в Гатчину, чтобы предупредить великого князя; послали скороходов на поиски Александра. По прибытии в Зимний дворец последнего не пускали к бабушке несколько часов — по-видимому, граф Салтыков боялся, что он может попытаться объявить себя царем. Великий князь Павел в тот день обедал на мельнице в Гатчине, примерно в трех милях от дворца. Он и его гости, вернувшись, обнаружили князя Зубова, который сообщил им во всех подробностях о болезни императрицы. Великий князь приказал немедленно запрячь восьмерку лошадей и выехал с женой в Петербург; граф Зубов поскакал вперед, чтобы организовать смену лошадей в Софии. В четыре часа Александр направил к Павлу собственного курьера, который встретил великокняжескую карету уже в пути. По дороге Павла перехватило еще несколько курьеров — самые разные люди рвались первыми донести до него весть и таким образом проявить свою лояльность. В пять часов Александр с Елизаветой наконец получили от графа Салтыкова разрешение войти в апартаменты императрицы. В тусклом свете спальной комнаты они увидели Екатерину, которая, все еще без сознания, лежала на полу, отгороженная ширмой. Ее дорогой друг и первая гофмейстерина Анна Протасова находилась рядом с нею вместе с Марией Перекусихиной: они постоянно вытирали темную жидкость, сочащуюся из ее рта. Александр и Елизавета оставались в спальне недолго: Александр, продемонстрировав широту духа, отправился искать Платона Зубова, а Елизавета выбрала компанию жены Константина, великой княгини Анны. Платон, взъерошенный и беспокойный, не знал, что с собой делать. Совсем прекратив важничать, он то кидался жечь потенциально компрометирующие бумаги, то проверял, не помогают ли императрице применяемые средства. В какой-то момент распространился слух, что Екатерина открыла глаза. Ненадолго зажглась искра надежды. Великий князь Павел прибыл в Зимний дворец сразу после половины девятого вечера и немедленно прошел в апартаменты матери. Он призвал Александра и Константина, велев невесткам оставаться дома. Потом расположился в маленькой комнатке позади спальни матери, так что каждый, являвшийся к нему испросить руководства к действию, должен был проследовать через спальню, мимо сраженной ударом императрицы, лежащей на полу. На рассвете 6 ноября Павел спросил у докторов, остается ли какая-нибудь надежда. Когда те дали отрицательный ответ, он вызвал епископа и священников и приказал провести последние обряды. Известие о смертельной болезни императрицы распространилось по городу, и все принадлежавшие ко двору начали собираться в Зимнем дворце. Большинство пришедших было искренне расстроено. Утро прошло в ожидании смерти императрицы. Смена администрации стала уже очевидной. Придворные и чиновники Екатерины сидели в удрученном молчании, в то время как люди в форме, которой большинство никогда не видело прежде — они прибыли из Гатчины, — бегали туда-сюда с важным видом, отдавая приказания. Александр и Константин тоже переоделись в мундиры прусского образца — форму своих гатчинских батальонов. В час дня Павел и Мария Федоровна вместе отобедали за столом, который поставили в коридоре позади спальни. В три часа вице-канцлеру Остерману приказали пойти в контору графа Моркова и изъять все бумаги, касающиеся иностранных дел. Тот сложил документы в два огромных пакета, завернул для прочности в простыни и сам поволок их через дворец. В середине дня Павел вместе с графом Безбородко просмотрел также все личные бумаги Екатерины. Существует версия, что в бумагах содержался составленный императрицей документ по отстранению Павла от наследования, который великий князь бросил в огонь. Безбородко было приказано подготовить манифест, объявляющий о вступлении на престол сына императрицы. Среди бумаг своей матери Павел нашел также записку от Алексея Орлова, в коей тот признавался в убийстве Пет-pa III. Она лишь подтверждала то, что великий князь давно подозревал — но по крайней мере освобождала его мать от подозрений в прямом соучастии. Он совершил свой первый акт сыновней преданности и восстановления справедливости, устранив от двора князя Федора Барятинского, ныне гофмаршала, но тридцать четыре года назад — одно из основных действующих лиц драмы, разыгравшейся в Ропше. Пульс императрицы начинал слабеть. Три или четыре раза доктора думали, что конец приближается, но ее крепкая конституция поддерживала продолжение агонии. В девять часов вечера доктор Роджерсон вошел в комнату, где ждали великий князь Павел и Мария Федоровна, и сказал, что теперь осталось недолго. По приказу Павла четверо старших внуков Екатерины — Александр, Константин, Александра и Елена — вошли с ним и Марией Федоровной в спальню. За ними последовали мадам генеральша Ливен, князь Зубов, граф Остерман, Безбородко и Самойлов; все собрались вокруг умирающей императрицы. Доктора и личные слуги находились уже там. Екатерина умерла без четверти десять, так и не придя в сознание. Несколькими минутами позже Павел, чье лицо было мокрым от слез, поклонился телу и оставил комнату. Сразу же зарыдали и завыли женщины, прислуживавшие императрице. Почти у каждого первой была мысль о собственном выживании при смене режима на совершенно иной. Граф Самойлов вышел в Рыцарский зал и объявил о смерти императрицы Екатерины и о восшествии императора Павла. В 11 часов Александра послали за великими княгинями Елизаветой и Анной. Он отыскал их и объяснил, что им следует преклонить колени, когда будут целовать руку нового императора. Они поздравили Павла, после чего их отправили через спальню умершей императрицы в смежную комнату, где они нашли плачущих Александру и Елену. Тем временем Мария Федоровна с большим знанием дела и апломбом следила за обмыванием и одеванием покойной, а также за подготовкой комнаты. Тело Екатерины облачили в простое платье и уложили на кровать. Затем в присутствии императорской семьи прочли молитвы по усопшей. Прежде чем покинуть комнату императрицы и идти в императорскую часовню присягать на верность Павлу, каждый присутствовавший во дворце поцеловал руку Екатерины. Все повторяли клятву за священником, затем целовали крест и Евангелие, вписывали свое имя и целовали руку императору Павлу Петровичу и императрице Марии Федоровне. Это продолжалось примерно до двух часов утра. Позднее в тот же день было произведено вскрытие умершей императрицы, подтвердившее, что причиной смерти явился инсульт. После того, как тело было забальзамировано, придворным гофмейстеринам, фрейлинам, высоким чиновникам и кавалерам высших орденов было приказано стоять возле него в карауле день и ночь, сменяясь каждые два часа. Это дежурство длилось первые шесть недель траура. Павел, Мария Федоровна и прочие родственники императрицы дважды в день, постояв у тела, целовали руку умершей. Тем временем по приказу нового императора в присутствии митрополита Петербургского был вскрыт склеп покойного мужа Екатерины. Гроб извлекли и поставили в церкви Благовещения в Александро-Невской лавре. Пятнадцатого ноября от спальни Екатерины двинулась процессия с кадилами, ладаном и пением похоронных псалмов. Через Рыцарский зал, пол, потолок и стены которого были затянуты черной тканью, она проследовала в тронный зал. Позади священнослужителей шла императорская семья, а следом несли тело Екатерины II, одетое в серебряную шелковую парчу. Все ее награды несли за великолепным похоронным катафалком, покрытым императорской мантией. По завершению религиозной церемонии члены императорской семьи по очереди простиралась перед телом и целовали руку Екатерины. Затем семья отошла, перед троном встал священник и начал читать Евангелие, а шесть императорских гвардейцев заняли посты вокруг катафалка. В тот же день церемонию, в точности повторившую торжественное препровождение покойной императрицы в тронный зал, провели в Александро-Невской лавре, где гроб с останками Петра III с такой же торжественностью преодолел короткое расстояние от церкви Благовещения до собора Святой Троицы. Тут гроб открыли. Тело Петра не было забальзамировано; в гробу оказались только его шляпа, перчатки, ботинки — и прах. Через пять дней ему пропели реквием в соборе, после чего кортеж из сорока двух карет проделал путь от Зимнего дворца, и Павел отдал праху своего отца почести, велев всей семье проделать то же самое. 25 ноября тело императрицы Екатерины с золотой короной на голове было положено в гроб и отнесено в Большую Галерею, где в более счастливые времена давались балы. Тут гроб поставили на платформу под черным бархатным балдахином с серебряной бахромой. Вокруг него горело шесть свечей. Священник снова неумолчно читал Евангелие; члены императорской гвардии стояли на ступенях. В это же время в Александро-Невской лавре императорская корона — которую привезли из Москвы — была положена на гроб Петра (теперь снова запечатанный) в качестве акта посмертной коронации. 3 декабря, в солнечный и очень холодный день, гроб Петра погрузили на колесную платформу, которую тянуло восемь лошадей, и медленно, торжественно провезли от Александро-Невской лавры до Зимнего дворца. Павел шел за гробом, за ним — придворные высокого ранга. Император проследил, чтобы те, кто сыграл роль в свержении и убийстве его отца, участвовали также в его посмертном восстановлении в правах. Князю Барятинскому и генерал-губернатору Пассеку приказали идти в кортеже, а графу Алексею Орлову была оказана сомнительная честь нести на подушке императорскую корону. Граф Орлов, который, по общему свидетельству, получив этот приказ, сел в угол и зарыдал, во время церемонии вел себя спокойно, с чувством собственного достоинства, шел твердо и с бесстрастным лицом. Процессия, сопровождаемая пушечными выстрелами, растянулась на всю длину Невского проспекта; ей потребовалось несколько часов, чтобы дойти до места назначения. По прибытии в Зимний дворец гроб Петра поставили рядом с гробом Екатерины. Так, возле бывшего супруга, которого она презирала и в конце концов свергла, покойная императрица принимала свидетельства почтения своих подданных, которым позволили пройти мимо двойного катафалка. Многие увидели в этом оскорбление памяти Екатерины, акт сыновнего неуважения, и это не прибавило новому царю любви подданных[65]. Гробы стояли рядом два дня. Затем, после похоронной службы, состоявшейся 5 декабря, их отнесли в Петропавловский собор — традиционное место захоронения Романовых. Императорская семья шла следом по льду Невы, на фут отстав от катафалка. В соборе останки на две недели были выставлены на обозрение публики, а затем похоронены рядом под мраморными надгробиями, на которых Павел велел начертать даты рождения и похорон — но не даты смерти. Этим он сделал все, чтобы казалось, будто Петр III правил вместе с Екатериной II. Он был отнюдь не последним среди русских правителей, пытавшихся переписать историю.Эпилог
22 февраля 1788 года Екатерина просила Гримма не титуловать ее:«Прошу вас больше не называть меня так и не давать мне в дальнейшем прозвание Екатерина Великая, потому что, во-первых, я не люблю прозваний, во-вторых, мое имя Екатерина Вторая, в-третьих, я не хочу, чтобы кто-нибудь говорил обо мне, как о Людовике XV, что люди неверно меня назвали, и в-четвертых, по размерам я не большая и не маленькая»{1101}.
Она верила, что только потомки смогут судить о ней верно, хотя и составила себе бодрую эпитафию по образцу эпитафии для своей борзой Сэра Тома Андерсона, написав ее на обратной стороне могильного камня над усопшей борзой:
«Тут лежит Екатерина Вторая, рожденная в Штеттине двадцать первого апреля (второго мая) 1729 года. Она приехала в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. В возрасте четырнадцати лет она составила тройное правило: угождать мужу, Елизавете и нации. Она не отвергала ничего, что могло помочь его осуществлению. Восемнадцать лет скуки и одиночества заставили ее прочитать уйму книг. Сев на российский трон, она хотела принести пользу и обеспечить своим подданным счастье, свободу и богатство. Она легко прощала и никого не ненавидела; она была снисходительной и веселой от природы, с ней легко было ужиться; она обладала республиканской душой и добрым, сердцем, имела друзей, легко находила работу, любила хорошее общество и искусство»{1102}.
Хотя «республиканская душа», если она когда-либо и существовала, стала незаметной в годы, последовавшие за Французской революцией, это наверняка точное отображение ее собственного мнения о себе[66]. Юмористически и сжато, но ни в коем случае не сглаживая образ, это резюме демонстрирует самоуверенность и умение жить в ладу с собой — чего сын от нее не унаследовал. Павел I был императором неполных пять лет, и царствование закончилось его убийством И марта 1801 года. Во время правления он снискал крайнюю непопулярность своим предельным высокомерием. Он настаивал, например, что при встрече с императором, в том числе случайной, все, независимо от ситуации или погоды, обязаны падать на колени — даже если для этого придется покинуть карету и встать на колени в грязь[67]. Среди заговорщиков, убийц Павла, был последний фаворит его матери Платон Зубов. Павел всегда боялся покушений, и его грубый, невротический, властный темперамент сделал его легкой мишенью. Он считал, что предпринял все необходимые шаги для самозащиты, построив укрепленный, обнесенный рвом Михайловский замок — на берегу Фонтанки, на месте Летнего дворца, который он ради этого приказал снести. Но убийцы, его собственные придворные и чиновники, находились внутри замка, и никакие рвы и толстые стены не смогли помочь ему. Любимчик Екатерины «монсеньор Александр» стал, таким образом, императором в 23 года. Неуверенность, которую он всегда испытывал относительно своего призвания быть императором, только усилилась из-за обстоятельств, при которых он получил трон. Он никогда не оправился от чувства вины из-за участия в заговоре по свержению отца (хотя он пытался настаивать, чтобы Павла не убивали). Тем не менее, царь Александр I занял в русской истории почетное место как победитель Наполеона Бонапарта[68]. Желание Александра освободиться от унаследованного императорского положения, вероятно, выплыло снова в конце его жизни. Его внезапная смерть в Таганроге в 1825 году стала предметом странной легенды — якобы он вовсе не умер. Ходили слухи, что тело в гробу (которое никогда не выставлялось на публичное обозрение) принадлежало другому человеку, а царь отправился скитаться по России как юродивый под именем «Федор Кузьмич». У Александра и Елизаветы не было сыновей; их единственными детьми были две дочери, умершие маленькими. Правда, Александр был отцом большого количества незаконных детей от нескольких матерей. Предсказание Екатерины, что женщины будут его погибелью, оказалось точным. Может быть, в этом, с поправкой на противоположный пол, он был похож на свою бабушку. Поэтому трон должен был бы перейти к Константину, если бы этот эксцентричный и трудный в общении человек не отказался от своих прав на престол в 1822 году, после чего последовал его морганатический брак с польской католичкой Иоганной Грудзинской. Некоторые поступки ужаснули бы его бабушку еще больше. Первый брак Константина распался в 1801 году, когда Анна Федоровна ушла от него и насовсем вернулась к родителям. Он развелся с ней в марте 1820 года, чтобы жениться снова через два месяца. В 1808 году Константин стал отцом незаконного сына (от не упоминавшейся ранее женщины) и в 1831 — умер от холеры. Замешательство относительно наследования престола в 1825 году стало катализатором для мятежа декабристов. Некоторые из мятежников выступали от имени Константина (или считали, что делают это), требуя, чтобы он был провозглашен императором и ввел конституцию (такое желание вряд ли имело что-то общее с ненавистником либерализма Константином и его милитаристской натурой). Наследником престола стал Николай I — тот самый огромный младенец, родившийся в последние месяцы жизни Екатерины; еще один мужчина из дома Романовых, интересующийся только военными делами. Заняв трон после восстания, он ввел репрессивные меры, пытаясь усилить автократию. Что касается внучек Екатерины, мужья были найдены им всем. Александра Павловна, жертва бегства короля Швеции в 1796 году, через три года вышла замуж за австрийского герцога — но умерла вскоре после рождения мертвой дочери в 1801 году в возрасте семнадцати лет. У прекрасной Елены жизнь сложилась не намного лучше: на неделю раньше сестры она вышла замуж за великого герцога Мекленбург-Шверинского и умерла в 1803 году в возрасте восемнадцати лет. После нее остались сын и дочь, дожившие до зрелого возраста. Мария, которая была так «мужеподобна» маленькой девочкой, оказалась более крепкой и процветала, как говорилось ранее. Первым мужем Екатерины Павловны был герцог Голштин-Готторпский и Ольденбургский; от него она имела двоих сыновей, которых окрестили Александром и Константином. После смерти герцога в 1812 году она вышла замуж за короля Вильгельма I Вюртембергского, от которого имела двух дочерей. Умерла она в 1819 году, в возрасте тридцати лет. Анна в 1816 году вышла замуж за короля Нидерландов, родила пятерых детей, четверо из которых дожили до зрелого возраста, и умерла в 1865 году в возрасте семидесяти лет. Мария Федоровна, после смерти Екатерины родившая еще одного сына — Михаила, оставалась грозной вдовствующей императрицей на протяжении всего царствования Александра и умерла в 1828 году в возрасте шестидесяти девяти лет. Одним из первых актов правления Павла I стало уничтожение любой возможности появления такой женщины, как его мать. В проведенном в апреле 1797 года законе о наследовании он снова восстановил право мужского первородства и запретил любой женщине наследовать трон. Эра великих русских императриц пришла к концу; ее место занял грубый мужской мир. Николаю I наследовал его сын, либерал Александр II, известный актом освобождения крепостных в 1861 году и награжденный за свои усилия восемью попытками покушения, последняя из которых оказалась успешной. Церковь Спаса-на-Крови, один из самых впечатляющих ориентиров современного Санкт-Петербурга, возведена на месте убийства Александра. При Александре III маятник снова качнулся в сторону репрессий, а его сын Николай II унаследовал ситуацию, при которой старые методы автократии оказались неподходящими и гибельными. На несколько месяцев после падения империи Александровский дворец, построенный Екатериной в Царском Селе для любимого внука, стал тюрьмой для ее потомков — до того, как царя с семьей увезли в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где всех и убили в июне 1918 года. Революция, «растоптавшая самые понятия религии, чести и славы»{1103}, приближению которой с такими усилиями противилась Екатерина, все-таки пришла. В 1647 году некто Адам Олеариус, придворный из Голштинии, опубликовал рассказ о путешествии по России в 30-х годах XVII века, в который включил свои наблюдения, будто бы русские склонны потакать содомии, даже с лошадьми. Именно эта беспочвенная клевета после смерти Екатерины десятилетиями вертелась на языке особенно злобно настроенных сплетников. Поскольку было известно, что Екатерина любила секс, успешно приспособилась к русским обычаям и была прекрасной наездницей, не потребовалось слишком большого воображения, дабы предположить, будто Екатерина практиковала секс с лошадьми и умерла во время такого акта. Неизвестно, кто первым пустил позорную «жеребячью историю» — похоже, она распространялась устно до того, как была записана, — но можно выделить отдельные слухи и предположения, которые ее питали. Непристойные изображения Екатерины появились в сатирической печати Британии и Франции еще до ее смерти, особенно во время «Очаковского кризиса» 1791 года, когда Британия и Пруссия чуть не начали войну с Россией на стороне Турции. Ее страстная оппозиция французской революции — а также тот факт, что правящие круги Европы, в представленные основном мужчинами, так никогда и не привыкли к мысли об этой безмужней женщине, постоянно увеличивающей размеры и влияние своей империи, — все это делало ее постоянной мишенью для тех, кто искал способа опорочить ее достижения. Из вступительной статьи в журнале Джона Паркинсона 1792 года ясно, что сексуальная жизнь Екатерины стала обычной темой для непристойностей в среде жителей Петербурга: «Обсуждался вопрос, какой из каналов стоил дороже всего; когда один из них рассмотрели игриво, не осталось сомнений в сути: Екатерининский канал (это название одного из них), несомненно, был самым дорогим»{1104}. Слухи всегда окружали смерть обожаемого молодого фаворита Екатерины Александра Ланского, и, без сомнения, не было забыто, что в предсмертном бреду он то и дело просил запрячь в свою кровать лошадей. Этот отчет, объединившись со слухами о том, что он умер от передозировки возбуждающих средств — и конкретно во время любовного акта с Екатериной, — стал вероятным первым шагом, с учетом прежнего «отчета» Олеариуса и легендами о мастерстве Екатерины как наездницы в молодости, на пути распространения «жеребячьей истории». Я впервые услышала «историю смерти Екатерины Великой» — и услышала как истину (хотя, слава богу, не от преподавателя истории) — будучи студенткой последнего курса института славистики и Восточной Европы. Эта непристойная фальшивка, которая была бы смешной, когда б не стала трагической, прилепившись к памяти Екатерины — якобы специально сконструированный подъемник, помогавший императрице осуществлять сексуальный акт с конем, внезапно развалился, и жеребец рухнул на нее сверху, изломав ее так, что она умерла. К несчастью, эта легенда относится к историям такого рода, которые, будучи однажды услышаны, не забываются уже никогда. Надеюсь, образ Екатерины, возникший на этих страницах, позволит уничтожить упомянутый бред навсегда. Конечно, Екатерина не была императрицей-девственницей. К концу жизни она уже не сомневалась (как объясняла Потемкину, рассказывая ему о Платоне Зубове), что ей для поддержания здоровья необходим молодой человек, способный любить и быть любимым. И ясно, что она не могла продуктивно функционировать как императрица, если ее эмоциональные и физические потребности не удовлетворялись. При этом Екатерина увлекалась своими приобретениями. Она выбирала нового фаворита или соглашалась на рекомендованный ее «экспертами» выбор примерно так же, как выбирала живопись для своей коллекции. Она придирчиво перебирала молодых людей, так как они находились рядом, под рукой, и сами желали ее внимания — потому что даже если молодой человек не получал особого удовольствия от физической близости со стареющей женщиной, его самого и его семью не могла не привлекать компенсация в виде статуса и богатства. В воспоминаниях Екатерины есть отрывок (запрещенный в издании Российской академии наук 1907 года), проливающий некоторый свет на ее любовные отношения и на то, как она их воспринимала. Для Екатерины начало новой любви несло ощущение неизбежности, она не могла не увлечься и не отозваться:
«Соблазнять и быть соблазненной — вещи очень близкие. И несмотря на все прекрасные моральные устои, гнездящиеся в голове, когда вмешиваются эмоции, когда появляется чувство, — человек завлечен уже гораздо дальше, чем осознает. Я все еще не научилась предотвращать появление чувств. Может быть, единственное решение — это бегство. Но существуют ситуации и обстоятельства, когда бегство невозможно — ибо как можно спастись, уклониться, повернуться спиной в атмосфере двора? Такой акт сам по себе может дать пищу для пересудов. А если вы не убежите, то, по моему мнению, нет ничего более трудного, чем избежать того, что влечет вас принципиально. Утверждение обратного может быть только проявлением стыдливости, а не порождением человеческого сердца. Невозможно держать сердце в руках, принуждая его или выпуская на волю, стискивая или ослабляя тиски по желанию»{1105}.
Екатерина верила, что была призвана править Россией, и расходовала всю свою энергию на служение стране, которая первоначально приняла ее и которую она затем сделала своей. Она верила, что выполнила свою миссию, что ее правление принесло России огромную пользу — пользу, которая перевешивала соображения о том, что она заняла трон — и удерживала его — нечестным, даже преступным способом. Во многом она была абсолютно права. Ее достижения, многие из которых осуществлены с помощью надежных чиновников и военных — и в особенности князя Григория Потемкина, — были огромными. При Екатерине Российская империя расцвела политически и культурно и стала во многом более приятным местом для проживания. Она продолжила начатую Петром Великим работу по превращению России в основного игрока на мировой арене и улучшила судьбу многих своих подданных, добившись громадного прогресса в реформировании местного самоуправления и в распространении образования[69]. Может быть, она и обманывалась в том, насколько эффективны были ее реформы, и ничего не сделала для изменения основной структуры общества, основанного на институте крепостничества, выказав тем самым мало интереса к огромной массе крестьянского населения — кроме того, что хотела накормить ее, наделить домом и научить эффективно работать, тем самым обеспечив прирост населения.[70] Но это — малая толика в выливаемых на нее ушатах грязи, особенно учитывая век, в котором она жила. Идеалы Екатерины, выразившиеся в желании создать организованное общество, в котором каждый выполнял бы предназначенную ему роль и получал средства, дающие ему возможность делать это и впредь, вполне соотносилось с XVIII веком вплоть до точки катаклизма — революции. Екатерина была гуманной женщиной, и ее гуманность передавалась подчиненным. Сравнивая атмосферу ее двора с атмосферой дворов ее предшественников и непосредственных преемников, конечно, видишь непрерывный ряд фаворитов и крайности, выражавшиеся в огромных тратах, — но видишь также отсутствие трусости и цивилизующее влияние этой необычайно цивилизованной женщины. Чиновники Екатерины и ее придворные в большинстве своем не смещались, не наказывались, не отдавались под пытки, не отправлялись в армию или в ссылку. Безусловно, существовали исключения, и заговорщики — или те, кто подозревался в заговоре — не могли рассчитывать на милосердие. Но люди, работавшие с Екатериной, могли без страха выражать свое мнение, даже когда оно противоречило ее собственному — если она видела, что они честны с нею и нет сомнения в их принципиальной лояльности, — чего ни один чиновник ее сына, например, сделать не мог бы, и до ее правления это тоже было неслыханным. Екатерина при общении со своими подчиненными не была ни капризна, ни несправедлива. И многие из личных слуг обожали ее. В итоге весы склоняются в пользу Екатерины, и потомки, зная ее слабости и неудачи, ее предубеждения и гордость, справедливо называют ее Великой.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Отец Екатерины, Христиан Август Ангальт-Цербстский. Портрет кисти Антуана Песне. Холст, масло. 1725 год. Государственный Эрмитаж, Санкт Петербург, Россия

Мать Екатерины, Иоганна Элизабет Голштин-Готторпская, вероятно также кисти Антуана Песне. Холст, масло. Около 1746 года. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Портрет императрицы Елизаветы работы Луи Токке, написанный за два года до ее смерти. Екатерина говорила о ней: «Она была крупной женщиной, которая, несмотря на полноту, ничуть не потеряла формы и не была стеснена в движениях; ее голова тоже была прекрасна». Холст, масло. 1758 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Великий князь Петр и великая княгиня Екатерина. Портрет написан Георгом Христофом Гроотом примерно в год их свадьбы. Художник умер в 1749 году, именно его вдове было поручено посвятить Петра в тайны секса — после того как Екатерина не смогла этого сделать. 1740–1745 годы. Холст, масло. Одесский музей изящных искусств, Украина. Художественная библиотека Бриджмена

Великий князь Петр. Портрет написан Федором Степановичем Рокотовым. К этому времени отношения Екатерины с мужем исправить было уже невозможно. Холст, масло. 1758 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия/Художественная библиотека Бриджмена

Великий князь Павел, сын Екатерины — и, вероятно, Петра. Портрет написан в классной комнате Виргилиусом Эриксеном. Образование Павла включало языки, историю, географию, математику, рисование, танцы, фехтование и музыку. Холст, масло. 1766 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Портрет великой княгини Екатерины кисти Виргилиуса Эриксена. Написанный перед переворотом 1762 года, он показывает зрелую женщину, способную взять в руки свою судьбу. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Императрица Екатерина в коронационном платье и короне, со скипетром и державой. Картина написана Алексеем Петровичем Антроповым. Холст, масло. До 1766 года. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Портрет Алексея Бобринского, сына Екатерины от Григория Орлова, в маскарадном костюме. Художник неизвестен. Бобринский унаследовал от матери острый подбородок. Холст, масло. Конец 1770-х годов. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Миниатюра, изображающая Григория Орлова — любовника Екатерины примерно с 1761 по 1772 год и близкого друга до самой ее смерти. Работа предположительно Андрея Ивановича Черного? Эмаль на меди, конец 1760-х — начало 1770-х годов. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Екатерина II в первые годы своего правления. Портрет, изображающий императрицу перед зеркалом, написан Виргилиусом Эриксеном. Холст, масло. Между 1762 и 1764 годами. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Портрет короля Польши Станислава II Августа кисти Марии Луизы Элизабет Вижи-Лебрюн. Еще будучи просто Станиславом Понятовским, он стал любовником Екатерины, когда та еще являлась великой княгиней; именно под ее давлением в 1764 году Понятовский был избран королем Польши. Холст, масло. 1797 год. Шато де Версаль, Франция/Художественная библиотека Бриджмена.

Самый важный человек в жизни Екатерины — князь Григорий Потемкин. Портрет работы Иоганна Баптиста Эдлера фон Лампи, примерно 1790 год. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия/Художественная библиотека Бриджмена

Рисунок Луи Карроджиса Кармонтеля, изображающий барона Фридриха Мельхиора Гримма, агента Екатерины по искусству, ее корреспондента и заочного наперсника. Бумага/карандаш. Музей Конде, Шантильи, Франция, Жирадон/Художественная библиотека Бриджмена

Джованни Паизиелло — композитор, которому удалось заставить Екатеринуценить музыку. Портрет кисти Марии Вижи-Лебрюн Холст, масло. Шато де Версаль, Франция, Лувр/Жирадон/Художественная библиотека Бриджмена

Форма Екатерины, сделанная в 1763 году по образу гвардейской формы Преображенского полка. Екатерина объявила себя полковником Преображенского полка во время возведения на престол, и надевала это платье на церемониях полка. Форменное платье Екатерины II, созданное по образцу формы лейб-гвардии Преображенского полка. Шелк, металлическая нить, металл и галун, позолота. 1763 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Еще одно форменное платье Екатерины, созданное по образу формы кавалерийского полка личной охраны. Это платье датируется 1773 годом; оно замечательно тем, что показывает, как сильно раздалась талия императрицы за десять лет. Форменное платье Екатерины II, созданное по образцу формы лейб-гвардии кавалерийского полка. Шелк, металлическая нить, металл и галун, позолота. 1773 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Великий князь Павел. Портрет на фоне Невы и шпиля Петропавловской крепости вдали. Работа кисти Александра Рослина, 1777 год. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Портрет работы того же художника, сделанный в том же году, изображает Марию Федоровну — вторую жену Павла и мать множества его детей. Она старалась следовать пышной моде, насколько ей это позволяла свекровь, и так же любила парки и парковый дизайн. Холст, масло. 1777 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Портрет Александра и Константина, внуков Екатерины. Работа кисти английского художника Ричарда Бромптона, которого императрица спасла от нужды. Холст, масло. 1781 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Семен Зорич, один из временщиков Екатерины. Портрет кисти неизвестного художника. Зорич пробыл фаворитом императрицы чуть меньше года. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Александр Ланской, один из молодых фаворитов Екатерины, пробывший с ней дольше всех и самый любимый. Также портрет работы неизвестного мастера. Холст, масло. 1783/84 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Еще один юный фаворит — Александр Дмитриев-Мамонов. Портрет кисти Михаила Шибанова. Гаснущая императрица превозносила его «прекрасные темные глаза, благородный вид и легкую походку». (копия). Холст, масло. 1800 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Екатерина в кокошнике — традиционном русском женском головном уборе. Портрет кисти Виргилиуса Эриксена, написанный между 1769 и 1772 годами (копия 1830-х годов). (копия с оригинала 1769–1773 годов). Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

Екатерина II в костюме для путешествия. Портрет написан Михаилом Шибановым в 1787 году. Так Екатерина выглядела во время своего большого турне в Крым, совершенного в этом году. Холст, масло. 1787 год, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия / Художественная библиотека Бриджмена

Портрет императрицы, написанный Владимиром Лукичом Боровиковским. Так Екатерина выглядела во время прогулок в парках Царского Села в компании одной из ее любимых борзых. Позади видна ростральная колонна, возведенная в честь битвы при Чесме. Третьяковская галерея, Москва, Россия / Художественная библиотека Бриджмена

Портрет императрицы, написанный Антоном Альбертранди. Холст, масло. Королевский замок, Варшава, Польша, Мацей Бронарски / Художественная библиотека Бриджмена

Стареющая Екатерина. Портрет работы Александра Рослина. Холст, масло. Музей изящных искусств, Ля-Рошель, Франция/Художественная библиотека Бриджмена
Литература
Мемуары, дневники и письма
Anon., Authentic Memoirs of the Life and Reign of Catherine //, Empress of All the Russias. Collectedfrom authentic mss, translations, etc of the King of Sweden, Right Hon. Lord Mountmorres, Lord Malmesbury, M. de Volney, and other indisputable authorities, B. Crosby, London, 1797 (Анонимный автор, Подлинные воспоминания о жизни и правлении Екатерины II, Императрицы всея Руси, собранные из подлинных рукописей, переводов и т. д. короля Швеции, достопочтенного лорда Маунтморриса, лорда Малъмсбури, маркиза де Волни и других неоспоримых авторитетов. Б. Кросби, Лондон, 1797)Anon., Memoirs of Prince Potemkin; comprehending numerous original anecdotes of the Russian Court, translated from the German, Henry Colburn, London, 1813 (Анонимный автор. Мемуары князя Потемкина, включающие множество подлинных историй русского двора, переведенные с немецкого. Генри Колбурн, Лондон, 1813)
Anspach, Margravine of (Lady Craven), Memoirs. Vol. 1, Henry Colburn, London, 1826 (Анспаш, маркграфиня (леди Грэйвен). Воспоминания. Т. 1. Генри Колбурн, Лондон, 1826)
Болотов А. Т. Памятник прошедших времен. Калининград: Янтарный сказ, 2004 (первая публикация — 1875).
Саrrere d’Encausse, H. (ed.), L’Imperatrice et l’Abbe: Un duel Htteraire inédit entre Catherine II et L’Abbe Chappe d’Auteroche, Fayard, Paris, 2003 (Каррере д’Анкос, X. (ред.). Императрица и аббат: литературная дуэль между Екатериной Ии аббатом Шаппом д’Оторошем. Файярд, Париж, 2003)
Casanova, J., The Complete Memoirs of Casanova, Globusz Publishing, New York/Boston, 2004 (Казанова Дж., Полные мемуары Казановы. Изд. «Глобус», Нью-Йорк/Бостон, 2004)
Catherine II, Correspondence of Catherine the Great when Grand-Duchess, with Sir Charles Hanbury-Williams and Letters from Count Poniatowski, ed. & tr. The Earl of Ilchester & Mrs Langford-Brooke, Thornton Butterworth Ltd, London, 1928 (Екатерина II. Переписка Екатерины Великой, тогда великой княгини, с сэром Чарльзом Хэнбери-Уильямсом и письма от графа Понятовского. Под ред. и в переводе графа Илчестера и миссис Лангфорд-Брук, Торнтон Баттерворуорт Лтд, Лондон, 1928)
Catherine II, Documents of Catherine the Great. The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767 in the English text of 1768, ed. W. F. Reddaway, Cambridge University Press, Cambridge, 1931 (Екатерина IL Документы Екатерины Великой. Переписка с Вольтером и Наказ 1767 года в английском варианте 1768 года. Ред. В. Ф. Реддауэй, издание Кембриджского университета, Кембридж, 1931)
Catherine II, Les Lettres de Catherine IIau Prince de Ligne, G. Van Oest, Brussels & Paris, 1924 (Екатерина IL Письма Екатерины II принцу де Линю. Г. ван Ист, Брюссель — Париж, 1924)
Catherine II, Mémoires de Pmperatrice Catherine II, ed. A. Herzen, Trubner & Со., London, 1859 (Екатерина IL Мемуары императрицы Екатерины IL Под ред. А. Герцена, Трюбнер и К0, Лондон,1859).
Catherine II, Memoirs of the Empress Catherine II, Written by Herself, tr. Hilde Hoogenboom & Markus I. Cruse, Random House, New York, 2005 (Екатерина II. Мемуары императрицы Екатерины II, написанные ею самой. Перевод Хильде Гугенбум и Маркуса И. Крузе. Рэндом Хауз, Нью-Йорк, 2005)
Catherine II, The Memoirs of Catherine the Great, ed. D. Maroger, tr. Moura Budberg, Hamish Hamilton, London, 1955 (Екатерина II. «Мемуары Екатерины Великой». Ред. Д. Мароджер, пер. Моуры Бадберг. Гэмиш Гамильтон, Лондон, 1955)
Coxe,W., Travels into Poland, Russia, Sweden & Denmark. Vols. 1&2, T. Cadell, London, 1792 (Кокс В. Путешествия в Польшу, Россию, Швецию и Данию. Тт. 1 и 2. Т. Каделл, Лондон, 1792)
Cresson, W. Р., Francis Dana: A Puritan Diplomat at the Court of Catherine the Great, The Dial Press, New York, 1930 (Крессон В. П. Френсис Дана: Пуританин-дипломат при дворе Екатерины Великой. Дайл Пресс, Нью-Йорк, 1930)
Cross, A. G. (ed.), An English Lady at the Court of Catherine the Great: The journal of Baroness Elizabeth Dimsdale, 1781, Crest Publications, Cambridge, 1989 (Кросс А. Г. (ред.). Английская леди при дворе Екатерины Великой. Дневник баронессы Элизабет Димсдейл, 1781 г. Крест Пабликэйшенс, Кэмбридж, 1989)
Czartoryski, Prince A., Mémoires. VolA, Plon, Paris, 1887. (Чарторыйский A.,князь. Мемуары. T. 1. Плон, Париж, 1887)
Diderot, D, Mémoires pour Catherine II, ed. Paul Verniere, Gamier Freres, Paris, 1966 (Дидро Д. Воспоминания о Екатерине II. Ред. Поль Вернье. Братья Гамье, Париж, 1966).
Fitzlyon, К. (tr. & ed.), The Memoirs of Princess Dashkova, Duke University Press, Durham/London, 1995 (Фицлайон К. (пер. и ред.). Мемуары княгини Дашковой. Издание университета Дюк, Дарем/Лондон, 1995)
Golovine, Countess, Memoirs: A Lady at the Court of Catherine II, tr. G. M. Fox-Davies, David Nutt, London, 1910 (Головина, графиня. Мемуары: Леди двора Екатерины IL Пер. Г. М. Фокс-Дэвис. Давид Натт, Лондон, 1910)
Грибовский А. М., Воспоминания и дневники. Издательство Московского университета, 1899
Harris, J. Diaries & Correspondence of James Harris, First Earl of Malmesbury, ed. Third Earl of Malmesbury, Vols. 1 &2, Richard Bentley, London, 1844 (Харрис Дж. Дневники и корреспонденция Джеймса Харриса, первого графа Малмесбери. Тт. 1 и 2. Под ред. третьего графа Малмесбери. Ричард Бенди, Лондон, 1844)
Храповицкий А. В. Памятные записки. Москва, 1862
Ligne, Prince de, Lettres et Pensees, Tallandier, 1989 (Де Линь, принц. Письма и размышления. Талландье, 1989)
Ligne, Prince de, Mémoires, Mercure de France, Paris, 2004 (Де Линь, принц. Мемуары. Меркурий Франции. Париж, 2004)
Лопатин В. С. (ред.). Екатерина II и Г. А. Потемкин: личная переписка 1769–1791 гг. Москва: Наука, 1997
Masson, С. F. P., Secret Memoirs of the Court of St Petersburg, tr. from French, H. S. Nichols & Co., London, 1895 (Массон С. Ф. П. Тайные воспоминания о Санкт-Петербургском дворе. Пер. с французского. X. С. Николс и К0., Лондон, 1895)
Oberkirch, Baroness d’, Memoirs of the Baroness d’Oberkirch, ed. Count de Montbrison, London, 1852. (Д’Оберкирх, баронесса. Мемуары баронессы д'Оберкирх. Под ред. графа де Монбризон, Лондон, 1852)
Parkinson. J., (ed. William Collier), A Tour of Russia, Siberia and the Crimea 1792–1794, Frank Cass & Co, London, 1971 (Паркинсон Дж. (ред. Уильям Колье). Путешествие по России, Сибири и Крыму 1792–1794 гг. Франк Касс и К°, Лондон, 1971)
Порошин С. Записки Семена Порошина. Ред. М. И. Семиев-ский, Санкт-Петербург, 1881
Poniatowski, S. A. Mémoires secrets et inédits, Wolfgang Gerhard, Leipzig, 1862 (Понятовский С. A. Воспоминания секретные и ненапечатанные. Вольфганг Герхард, Лейпциг, 1862)
Потемкин Г. А. От вахмистра до фельдмаршала: воспоминания, дневники, письма. Ред. 3. Е. Журавлева. Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 2002
Richardson W., Anecdotes of the Russian Empire, Strahan & Cadell, London, 1784 (Ричардсон В. Анекдоты о Российской империи. Страхан и Каделл, Лондон, 1784)
Segur, Comte de, Mémoires, ou Souvenirs et Anecdotes, Vols. 2 & 3, Alexis Eymery, Paris, 1827 (Сегюр, граф де. Мемуары, или воспоминания и короткие рассказы. Тт. 2 и 3. Алексис Аймери, Париж, 1827)
Smith, D. (ed. & tr.), Love & Conquest: Personal Correspondence of Catherine the Great & Prince Grigory Potemkin, Northern Illinois University Press, DeKalb, 2004 (Смит Д. (ред. и пер.). Любовь и победы: переписка Екатерины Великой и князя Григория Потемкина. Издание университета Северного Иллинойса, ДеКальб, 2004)
Ward, Mrs., Letters from a lady who resided some years in Russia to her friend in England, with historical notes, J. Dodsley, London, 1775 (Миссис Уорд. Письма от дамы, проведшей несколько лет в России, своей подруге в Англии, с историческими замечаниями. Дж. Додели, Лондон, 1775)
Монографии о Екатерине[71]
Alexander. J. Т., Catherine the Great: Life and Legend, Oxford University Press, New York/Oxford, 1989. (Александер Дж. T. Екатерина Великая: жизнь и легенды. Издание Оксфордского университета, Нью-Йорк/Оксфорд, 1989)Билбасов В. А. История Екатерины Второй. Тт. 1 и 2. Берлин, 1900.
Carrere d’Encausse H., Catherine II: Un age d'or pour la Russie, Fayard, Paris, 2002 (Каррере д’Анкос X. Екатерина II: Золотой век России. Фаярд, Париж, 2002)
Cronin. V., Catherine, Empress of All the Russias, Collins Harvill, London, 1989. (Кронин В. Екатерина, императрица всея Руси. Коллинз Харвилл, Лондон, 1989)
Dixon, S., Catherine the Great, Longman, London, 2001 (Диксон С. Екатерина Великая. Лонгман, Лондон, 2001)
Gooch, G. P., Catherine the Great, & Other Studies, Longmans, London, 1954 (Гуч Г. П. Екатерина Великая и другие исследования. Лонгмане, Лондон, 1954)
Любавский М. К. История царствования Екатерины II. Санкт-Петербург: Лань, 2001
Madariaga, Isabel de, Catherine the Great: A Short History, Yale Nota Bene, New Haven & London, 2002 (Изабель де Мадарьяга. Екатерина Великая: краткая история. Йель Нота Бене, Нью-Хэйвен/Лондон, 2002)
Madariaga, Isabel de, Russia in the Age of Catherine the Great, Phoenix Press, London,2002 (Изабель де Мадарьяга. Россия при Екатерине Великой. Феникс Пресс, Лондон, 2002)
Сафонов М. Завещание Екатерины II: роман-исследование. Санкт-Петербург: ЛИТА, 2002
Монографии о других личностях
Bain, R. N., Peter III, Emperor of Russia: The Story of a Crisis and a Crime, Constable & Co, London, 1902. (Бейн P. H. Петр III, император России: история кризиса и преступления. Констебль и К0, Лондон, 1902)Bain, R. N., The Daughter of Peter the Great, Constable & Co, London, 1899. (Бейн P. H. Дочь Петра Великого. Констебль и К°, Лондон, 1899)
Leonard, С. S., Reform & Regicide: the reign of Peter HI of Russia, Indiana University Press, Bloomington, Ind., 1993 (Леонард К. С. Реформа и цареубийство: правление в России Петра III». Издание университета Индианы, Блумингтон, Индиана, 1993)
McGrew, R. Е., Paul lof Russia 1754–1801, Clarendon Press, Oxford, 1992 (Мак-Грю P. E. Павел IРоссийский, 1754–1801. Кларендон-Пресс, Оксфорд, 1992)
Мыльников А. Петр III: повествование в документах и версиях. Москва: Молодая Гвардия, 2002.
Peskov A., Paul Ier, Empereur de Russie, ou le 7 novembre, tr. Elena Balzamo, Fayard, Paris, 1996. (Песков А. Павел I, император России, или 7 ноября. Пер. Елены Бальзамо. Фаярд, Париж, 1996)
Sebag Montefiore S., Prince of Princes: The Life of Potemkin, Phoenix Press, London, 2001. (Себаг Монтефиоре С. Принц принцев: жизнь Потемкина. Феникс Пресс, Лондон, 2001)
Zamoyski, A., The Last KingofPoland, Jonathan Cape, London, 1992 (Замойский А. Последний король Польши. Джонатан Кейп, Лондон, 1992)
Искусство, архитектура, костюм, музыка и театр
Алексеева М. А, Михаил Махаев, мастер видового рисунка XVIII века» // Нева, Санкт-Петербург, 2003 [Месяц не указан]Althaus F. & Sutcliffe М., Petersburg Perspectives, Fontanka with Booth-Clibborn Editions, London, 2003 (Олтеус Ф. и Сатклифф М. Петербургские перспективы. «Фонтанка» совместно с Бут-Клайбборн, Лондон, 2001)
Берман Е., Курбатова Е. Русский костюм 1750–1830 гг. Москва: Всероссийское театральное общество, 1960.
Bradbury, М., То The Hermitage, Picador, London, 2001 (Брэдбери M. В Эрмитаж. Пикадор, Лондон, 2001)
Catherine II et al., Theatre de l’Hermitage, 2 vols., F. Buisson, Paris, 1798. (Екатерина II и др. Эрмитажный театр. Тт. 1 и 2. Ф. Бю-иссон, Париж, 1798)
Cross A., By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives and Careers of the British in Eighteenth-Century Russia, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. (Кросс А. На берегах Невы: главы из книги «Жизнь и карьера британцев в России XVIII века». Издательство Кэмбриджс-кого университета, Кэмбридж, 1997)
Figes О., Natasha's Dance: A Cultural History of Russia, Allen Lane, London, 2002. (Файгс О. Танец Наташи: культурная история России. Ален Лейн, Лондон, 2002)
Forbes I. & Underhill. W. (eds.) Catherine the Great — Treasures of Imperial Russia from the State Hermitage Museum, Booth-Clibborn Editions, London, 1990. (Форбс И. и Андехилл В. (редакторы). Екатерина Великая — драгоценности имперской России из Государственного музея Эрмитаж. Бут-Клайбборн, Лондон, 1990)
Norman G., The Hermitage: The Biography of a Great Museum, Jonathan Cape, London, 1997 (Норманн Г. Эрмитаж: биография великого музея. Джонатан Кейп, Лондон, 1997)
Ribeiro, A., Dress in Eighteenth-century Europe 1713–1789, Yale University Press, New Haven & London, 2002. (Рибейро А. Одежда Европы XVIII века. 1713–1780 гг.» Издание Йельского университета, Нью-Хэйвен/Лондон, 2002)
Shvidkovsky, D., The Empress & the Architect: British Architecture and Gardens at the Court of Catherine the Great, Yale University Press, New Haven & London, 1996 (Швидковский Д. Императрица и архитектура: британская архитектура и сады при дворе Екатерины Великой. Издание Йельского университета, Нью-Хэйвен/Лондон, 1996)
Фон Штелин Й. Музыка и балет в России XVIIIвека. Пер. с немецкого Б. И. Загурского. Ленинград: Тритон, 1935 Zinovieff К. & Hughes J., The Companion Guide to St Petersburg, Companion Guides, 2003
(Зиновьев К. и Хьюз Дж. Карманный путеводитель по Санкт-Петербургу. Компаньон Гайде, 2003)
Другие материалы
Alexander}. Т., Bubonic Plague in Early Modem Russia. Public Health & Urban Disaster, Johns Hopkins University Press, Baltimore/London, 1980 (Александер Дж. T. Бубонная чума в начальный период современной России: здоровье нации и беда горожан. Издательство университета Джонса Хопкинса. Балтимора /Лондон, 1980)Cracraft J., The Revolution of Peter the Great. Harvard University Press, Cambridge, Mass. /London, 2003 (Крэкрафт Дж. Революция Петра Великого. Издание Гарвардского университета, Кэмбридж (Массачуссетс)/Лондон, 2003)
Dukes Р., The Making of Russian Absolutism, 1631–1801, Longman, London, 1990. (Дьюкс П. Практика русского абсолютизма, 1631–1801. Лонгман, Лондон, 1990)
Freeze, G. L. (ed.) From Supplication to Revolution: A Documentary Social History of Imperial Russia, Oxford University Press, Oxford/New York, 1988 (Фриз Г. И. (ред.). «Оги просьб до революции: документальная социальная история имперской России. Издание Оксфордского университета, Оксфорд/Нью-Йорк, 1988)
Hosking, G., Russia: People and Empire 1552–1917, HarperCollins, London, 1997 (Хоскинг Г. Россия: население и империя 1552–1917», Харпер-Коллинз, Лондон, 1997)
Kaun A. S. & Kornilov А. Н., Modem Russian History: Being a Detailed Historyof Russia from the Age of Catherine the Great to the Revolution of 1917. Vol. 1, A. A. Knopf, New York, 1916 (Кон А. С. и Корнилов A. X. Новая русская история: подробная история России от времени Екатерины Великой до революции 1917 года. T. 1. А. А. Кнопф, Нью-Йорк, 1916)
Klyuchevsky I. V. «A Course in Russian History: The Time of Catherine the Great» tr. Marshall S. Shatz, M. E. Sharpe, Armonk, NY, 1997 (Ключевский И. В. Курс истории России: время Екатерины Великой. Пер. Маршалл С. и Шварц М. Е. Шарп. Армонк, Нью-Йорк, 1997)
Mole-Gentilhomme & Saint-Germain Leduc, Catherine II ou la Russie au XVIIIE siecle: Scenes historiques, Victor Lecou, Paris, 1854 (Господин Моле и герцог Сен-Жермен. Екатерина II или Россия XVIII века: Исторические сцены. Виктор Леко, Париж, 1854)
Петинова Е. Е. Во дни Екатерины. Санкт-Петербург: Книжный мир, 2002.
Pushkin A. S., History of the Pugachev rebellion, tr. Paul Debreczeny. Vol. 14 of The Complete Works of Alexander Pushkin, Milner, Downham Market, 2000 (Пушкин А. С. История Пугачевского бунта. Пер. Павла Дебрецени. Т. 14 из «Полного собрания сочинений Александра Пушкина». Милнер, Даунхем-Маркет, 2000)
Pushkin A. S., The Captain's Daughter. Vol. 7 of The Complete Works of Alexander Pushkin, Milner, Downham Market, 1999 (Пушкин А. С. Капитанская дочка. T. 7 из «Полного собрания сочинений Александра Пушкина». Милнер, Даунхем-Маркет, 1990)
Radishchev A. N., A Journey from St Petersburg to Moscow, tr. Leo Weiner, ed. Roderick Page Thaler, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1958 (Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Пер. Лео Вейнера, ред. Родерик Пейдж Талер, издание Гарвардского университета, Кембридж, Масс., 1958)
Wolff L., Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, Stanford, CA, 1994 (Волф Л. Открытие Восточной Европы: карта цивилизованного мира в просвещенных умах. Издание Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния, 1994)
Благодарности
Я хотела бы поблагодарить мистера Александра Дягилева из церкви Богоявления на Гутуевском острове в Санкт-Петербург, и людей из Загубья за то, что они всегда были рады ответить на мои вопросы о русском православии; доктора Брайана Дикса — за то, что он делился со мною своими знаниями о садах в Царском Селе; доктора Дадли — за то, что тот был моим первым читателем, творческим и критичным; доктора Луизу Фокскрофт — за ее полезные комментарии по поводу надуманных детских болезней, приписываемых Павлу I; Герлинду Фредсэм — за перевод отрывков с немецкого; доктора Лесли Холла из библиотеки Уэллкома — за историю развития медицины и объяснение некоторых ее аспектов, а также профессора Айлин Рибейро из института Куртолда — за ответы на мои вопросы по специфике женской одежды. Я благодарна Мелани Джонсон за ее помощь с неясными русскими словами; Марку де Мони, Андрею Решетину и оркестру Екатерины Великой из Санкт-Петербурга — за возвращение к жизни музыки двора Екатерины; епископу Серафиму Сигристу — также за ответы на вопросы о православной церкви. Кроме того, я хочу выразить благодарность своему издателю Полю Сайди, его помощнице Тиффани Стенсфилд и моему агенту Кларе Александер. Я благодарна дирекции архивов министерства иностранных дел на Кэ д’Орсэ, Париж, за разрешение выписывать цитаты из неопубликованных воспоминаний и документов; Университету Эдварда Кеннеди — за позволение делать выписки из «Воспоминаний княгини Дашковой», профессору А. Г. Кроссу и мистеру Майклу Димсдейлу — за разрешение делать выписки из работы «Английская леди при дворе Екатерины Великой: дневник баронессы Элизабет Димсдейл, 1781 год», и университету Северного Иллинойса — за разрешение выписывать цитаты из работы «Любовь и победы: личная переписка Екатерины Великой и князя Григория Потемкина», изданной и переведенной Дугласом Смитом. Были приложены все усилия, чтобы найти держателя авторских прав на перевод Доминика Мароджера «Воспоминания Екатерины Великой» — но пока безрезультатно.INFO
Подписано в печать 21.06.10. Формат 84x108 1/32. Усл. печ. л. 38,64. Тираж 3000 экз. Заказ № 5349
Роундинг, В. Р58 Екатерина Великая / Вирджиния Роундинг; пер. с англ. Н. Тартаковской. — М.: ACT: Астрель, 2010. — 730, [6] с.: 16 л. ил. ISBN 978-5-17-067769-6 (ООО «Изд-во АСТ») ISBN 978-5-271-29295-8 (ООО «Изд-во Астрель») УДК 94(47)(092) ББК 63.3(2)46-8
Научно-популярное издание Роундинг Вирджиния Екатерина Великая
Редактор Э. Байгильдеева Художественный редактор О. Адаскина Компьютерная верстка: М. Белякова Технический редактор О. Панкрашина
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953004 — научная и производственная литература
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.09 г.
ООО «Издательство АСТ» 141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96 Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru
ООО «Издательство «Астрель» 129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. За
Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14…………………..
Scan by Vitautus & Kali FB2 — mefysto, 2023
Текст на задней обложке
София-Фредерика-Августа Анхалmn-Цербстская. Екатерина Великая… Принцесса из крошечного немецкого княжества, волей судьбы вознесенная на вершину власти и могущества. Самая неординарная, умная и сильная правительница XVIII века, изобиловавшего талантливыми монархами. Ее вклад в становление и укрепление Российской империи трудно переоценить. Ею восхищались не только соотечественники, но и философы, дипломаты и политики всей Европы. Ее эпоха вошла в историю нашей страны как «золотой век Екатерины», — а ее личная жизнь была овеяна сплетнями, слухами и вымыслами… Какова же была Екатерина Великая в реальности?Вирджиния Роундинг ищет и находит истину в истории великой императрицы, которая умела ценить верных друзей и преданных союзников — но никогда не прощала зла и предательства…
Примечания
1
Поскольку данное издание рассчитано именно на русскоязычную аудиторию, редакция не сочла правомерным запутывать читателя искажёнными именами — но сохранила указание на свойственный иностранным исследователям подход к русской (и не только) истории. (Прим. ред.) (обратно)2
Титулы даны в соответствии с российской традицией данной эпохи: prince — князь, grand duke — великий князь. (Прим. ред.) (обратно)3
Годы жизни указаны нами — автор их не привел. (Прим. ред.) (обратно)4
А также великий русский полководец, один из основоположников русского военного искусства, князь Российской империи с титулом князя Италийского (1799), граф Российской империи с титулованием Суворов-Рымникский (1789) и Священной Римской Империи (1789), генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов. (Прим. ред.) (обратно)5
По нашим сведениям, происходил из «людей барских» и к семейству генерал-аншефа сенатора Григория Чернышева официально отношения не имел. (Прим. ред.) (обратно)6
Точно так же Арман Жан дю Плесси, в будущем кардинал де Ришелье, являлся наследственным епископом Люсонским. (Прим. ред.) (обратно)7
Гнойничковое заболевание кожи, вызываемое стрептококками и стафилококками. (Прим. ред.) (обратно)8
В то время герцогство Курляндское формально принадлежало Польше; Митава (нем. — Митау) расположена недалеко от Риги, почти на самой границе. (Прим. ред.) (обратно)9
На самом деле Дерпт — современный город Тарту в Эстонии. (Прим. ред.) (обратно)10
Этот дворец был разрушен во время чумы 1771 года в Москве. (обратно)11
Филиокве (от лат. «filioque» — «и от сына») — добавление, сделанное Западной (Римской) церковью в Никее-Царьградский символ веры 1Увека в догмате Троицы: об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «и от Сына». (Прим. ред.). (обратно)12
Для православных христиан праздник святого, по имени которого они названы, всегда так же важен, как и день рождения, и празднуется таким же образом. (обратно)13
Дамы двора, которые удостоились чести получить разрешение на ношение миниатюрного портрета императрицы. (обратно)14
Незаконным детям часто давали фамилии их отцов без первого слога. (обратно)15
Петр не любил и презирал Алексея за слабохарактерность. Но здесь дело было не в самом Алексее и не в его убеждениях — а в его связях с боярской оппозицией реформам Петра, для расследования которых и было назначено следствие. (Прим. ред.). (обратно)16
Эти традиции продолжают соблюдать в православной церкви и сейчас, хотя с разной степенью строгости. (обратно)17
Карлики были обычным явлением придворной жизни во многих странах. (обратно)18
Копию ботика можно увидеть в Ботном домике в крепости; оригинал хранится в Центральном военно-морском музее на Васильевском острове. (обратно)19
Неизвестно, почему автор пришел к такому выводу. Это не соответствует ни одному из законов о наследовании, действовавших в описываеваемый период. Ни один из детей Анны Леопольдовны, кроме Ивана Антоновича, не был назначен в наследники действующим монархом, и ни один, включая Ивана Антоновича, не был старшим ребенком монарха. (Прим. ред.). (обратно)20
Это популярное придворное устройство. Такое было также в замке короля Фридриха Вильгельма, а позднее во дворце Сан-Суси Фридриха Великого, а также в маленьком, обнесенном рвом двухэтажном домике в Петергофе, который Петр Великий называл своим Эрмитажем. Их изобрели, чтобы гарантировать уединение и сохранение в тайне бесед, а не для того, чтобы дать отдых слугам. Елизавета имела еще одно такое устройство в своем собственном Эрмитаже, построенном в 1740 году в Царском Селе. (обратно)21
Например, военный ранг второго класса был главнокомандующим, морской — адмиралом, гражданский — вице-канцлером или действительным тайным советником, а придворный ранг второго класса имели обер-камергер, обер-гофмаршал, обер-гофмейстер, обер-шталмейстер, обер-егермейстер и обер-шенк. Стоящий ниже по шкале камер-юнкер имел придворный ранг, эквивалентный военному рангу «бригадир». (обратно)22
Упоминание о Бестужевских каплях в «Отверженных»: «В глазах мистера Гилленормана Екатерина Вторая загладила преступление разделения Польши, купив у Бестужева за три тысячи рублей секрет эликсира золота. Он оживился по этому поводу: «Эликсир золота, — воскликнул он, — желтый краситель Бестужева, в восемнадцатом веке — капли генерала Ламотта. Это было прекрасное средство при любовной катастрофе, панацея против Венеры, за один луидор — пузырек на пол-унции. Луи XV послал двести пузырьков средства Папе. Он был бы сильно раздражен и выбит из колеи, если бы кто-нибудь сказал ему, что эликсир золота — это ничто иное, как хлорное железо». (обратно)23
То есть «Дневник историка и критика». (Прим. ред.) (обратно)24
См., например, «Прискорбный случай, представившийся докторам в бане» в «Сочинениях праведного досточтимого сэра Ч. Хэнбери-Вильямса» с замечаниями Горация Уолпола, графа Орфорда. Эдвард Джеффери и сыновья, Лондон, 1822 г., т. 1, стр. 237–238. (обратно)25
Cordon Bleu — голубая лента ордена Св. Духа, тж. кавалер этого ордена или просто заслуженный человек. (обратно)26
Резиденция английских королей. (Прим. ред.). (обратно)27
Чуть больше чем через два года он покончил жизнь самоубийством. Симптомы, которые начали беспокоить его в последние месяцы пребывания в России, оказались проявлением начальной стадии умственного расстройства. (обратно)28
Камерализм был наукой о правительстве, разработанной при малых немецких дворах в XVII и XVIII веках; центральным его принципом было то, что государство может достигнуть своих целей путем ежеминутного регулирования всех форм активности в правительстве и обществе. (обратно)29
Тот факт, что князья Голштин-Готторпские были дядьями скорее Екатерины, чем Петра, делает эту сцену еще более странной; можно предположить, что император искал повода, чтобы оскорбить жену. (обратно)30
«Матушка» — традиционная форма обращения к царице, женский эквивалент слову «батюшка» («батюшка» используется и для царя, и для священника). (обратно)31
Князь Георг Людвиг умер 27 августа 1763 года в возрасте сорока четырех лет. Екатерина устроила так, чтобы сыновей князя, одиннадцатилетнего Вильгельма и девяти летнего Петера Фридриха Людвига, привезли в Петербург. Они воспитывались и получили образование при дворе. (обратно)32
Голицын был русским послом в Лондоне до возвращения в Петербург, где занял пост вице-канцлера в последние месяцы правления Елизаветы. 8 Екатерина Великая (обратно)33
«Беру свои узелки» относится к популярному в то время времяпровождению дам — вязанию, при котором пряжа из шелковой нити вязалась маленьким челночком в тесьму, азатем тесьму использовали как орнамент на одежде или на мелких текстильных предметах. Для Екатерины характерно, что она никогда не сидела с пустыми руками. (обратно)34
Имеется в виду Императорский Воспитательный дом в Москве, при котором был учрежден Родильный институт. (обратно)35
Воронцов писал Екатерине о дочери некоторое время тому назад, прося для нее разрешения на развод. Екатерина ответила, что это не ее дело — ей лично все равно, — это дело священнослужителей. (обратно)36
Каролина Матильда, дочь Фредерика, принца Уэльского, вышла замуж за короля Христиана VII Датского в 1766 году. Психически неуравновешенный Христиан решил, что может не любить Каролину Матильду, так как «не модно любить собственную жену». Брак распался в 1772 году. (обратно)37
Карта мира (лат.). (обратно)38
Так называемая «коровья оспа». (Прим. ред.) (обратно)39
Ныне Лахта — один из северных пригородов Петербурга. Территория, на которой она расположена, находится на Карельском перешейке, но не имеет никакого отношения к Карелии; ее историческое название — Ижорская земля, в XVIII веке она именовалась Ингерманландией. (Прим. ред.) (обратно)40
Это был Михайловский монастырь, который находился в Кремле на месте, занятом теперь зданием Президиума. (обратно)41
Староверы, или раскольники, были — и остаются — схизматиками, которые не приняли некоторых реформ в текстах и практике, введенных патриархом Никоном в 1666 году, чтобы сблизить русскую православную церковь с греческой. (обратно)42
Верста равна примерно 0,66 мили. (обратно)43
Русский православный священник покрывает голову кающегося своей епитрахилью, когда произносит отпущение грехов. (обратно)44
Скорее всего — акушерские щипцы, расширители и заостренные крючья, которые использовались для расчленения и удаления мертвого ребенка. (обратно)45
Сводчатый проход сквозь рукотворный холм, созданный Василием Нееловым между 1770 и 1774 годами. (обратно)46
Возможно, по шкале Реомюра: 14–15° по Реомюру составляет 18° по Цельсию или 65° по Фаренгейту. (обратно)47
Екатерина и Гримм тщательно вели каталог своих писем, очевидно, чтобы избежать недоразумений, когда их ответы ходили туда-сюда. Они, однако, также прекрасно осознавали ценность этих писем для потомков. (обратно)48
Уильям Питт Старший, который умер 11 мая (по новому стилю). (обратно)49
Шла Баварская война между Австрией и Пруссией. (обратно)50
Екатерина ссылается на работу Бюффона «Epoques de la Nature» («Эпохи природы»), опубликованную в 1779 году. Бюффон определил возраст земли в 75 000 лет — исходя из экспериментов по охлаждению скал. (обратно)51
Принц де Линь рассказывал, что сэр Джеймс Харрис спрашивал его мнения о том, каким императором станет Иосиф без сдерживающей руки матери, на что он ответил: «Il b[ande] toujours, et ne d[écharge] jamais». («У него постоянная эрекция, и он никогда не кончает») (Линь, Мемуары, стр. 362.) (обратно)52
Заразное инфекционное заболевание кожи, известное раньше как Антонов огонь (Прим. авт.) Как правило, «антоновым огнем» в России называлась гангрена. (Прим. ред.) (обратно)53
Эскулап (Асклепий) — греческий бог медицины. (обратно)54
Карточная игра для четырех игроков, в которой главное — избегать взяток, содержащих штрафные карты. (обратно)55
«Порошки доктора Джеймса» предназначались против лихорадок, оспы, кори, простуд и т. д. (обратно)56
В действительности Волго-Балтийская система была создана только в начале XIX века под названием Мариинской (в честь императрицы Марии, супруги Павла I, начавшего ее строительство); она проходила через Онежское озеро вверх по реке Вытегра, через Маткозеро, соединенное Мариинским каналом с рекой Ковжа, а дальше вниз через Белое озеро по реке Шексна, впадающей в Волгу у Рыбинска. В данном же случае имеется в виду созданная при Петре I Вышневолоцкая система — канал и система шлюзов и водосборных прудов в районе города Вышний Волочок, соединяющих верховья реки Тверца с рекой Цна, левым притоком Меты. По этой системе могли проходить лишь малотоннажные барки, тянущиеся бурлаками. Тем не менее, со времен Петра и вплоть до середины XIX века она имела огромное транспортное значение, утратив его лишь с появлением железной дороги Петербург — Москва. (Прим. ред.) (обратно)57
Огинский канал, соединявший верховья Днепра и Немана через реки Щара и Ясельда, был построен в 1770–1784 годах; однако он мог пропускать суда с осадкой не более 70 см. Канал (точнее, систему шлюзов), для соединения верховьев Дона с Окой через Иван-озеро, реки Шать и Упу, начали строить только в 1807 году, при Александре I — но так и не достроили из-за грубых ошибок проектировщиков. (Прим. ред.) (обратно)58
Упоминавшаяся выше Александра Энгельгардт в замужестве. (обратно)59
Древнее название Днепра. (обратно)60
Символический жезл, известный с глубокой древности. В христианстве стал атрибутом Богоматери (Софии). В оккультизме считается ключом, стерегущим предел между светом и тьмой, добром и злом, жизнью и смертью. Последнее значение, видимо, сделало его символом медицины. (Прим. ред.) (обратно)61
Екатерина называет Зубова «твой корнет», так как Потемкин назначил его на этот почетный пост, чтобы угодить императрице. (обратно)62
Устойчивое сочетание «Отель де Виль» во французском языке используется для обозначения Ратуши или Парламента. (Прим. ред.) (обратно)63
Генрих Ван дер Нут был бельгийским юристом и политическим деятелем, который в 1789 году возглавил неудавшийся мятеж против режима Иосифа II. (обратно)64
Граф де Мирабо умер вскоре после того, как был избран президентом Национального собрания в январе 1791 года. (обратно)65
Точнее, это вызвало настороженность элиты, на которую опирался прежний режим, и которую Екатерина щедро подкармливала за счет государственной казны. (Прим. ред.) (обратно)66
Нельзя не заметить, что как минимум в одном пункте это мнение предельно лживо и лицемерно. (Прим. ред.) (обратно)67
Эта байка была придумана противниками Павла, дабы оправдать цареубийство и его участников. На самом деле Павел всего лишь запретил ношение круглых шляп как «французской манеры», символизирующей вольномыслие. В то же время именно Павел «реабилитировал» и вернул в столицу жертв произвола Екатерины — Радищева и Новикова. (Прим. ред.) (обратно)68
Однако это не помешало Пушкину характеризовать Александра в зашифрованной главе «Евгения Онегина» весьма нелестным образом:69
Заметим, что большинство начинаний в общественной и культурной области, приписываемых Екатерине, на самом деле принадлежат ее предшественнице — императрице Елизавете. Сама Екатерина больше красиво рассуждала, чем делала — и в книге (возможно, против воли автора) это показано достаточно наглядно. И уж точно реформа образования или медицины прошла бы гораздо успешнее, если бы на них была дополнительно потрачена хотя бы часть тех казенных денег, которые шли на щедрые подарки многочисленным фаворитам императрицы. По сути, истинную цену всем красивым и громким пожеланиям Екатерины, всему ее показному либерализму, показывают истории с Бибиковым, Радищевым и Новиковым — людьми, всего лишь осмелившимися высказать несанкционированное мнение о положении в империи. (Прим. ред.) (обратно)70
И опять — на словах не одобряя крепостное право и даже признавая необходимость его отмены, на практике Екатерина вполне сознательно и целенаправленно способствовала укреплению ирасширению этого института. Выше неоднократно перечисляется, сколько душ она подарила тому или другому фавориту или обласканному ей лицу. Между тем все это были государственные крестьяне, обязанные барщиной империи — но, по крайней мере, не зависящие от произвола конкретных частных лиц. В дореформенной России социальный статус государственного крестьянина был значительно более высоким, чем крестьянина помещичьего (при либеральном Александре I, разрешившем продажу крестьян без земли, последний вообще стал неотличим от раба). Основным лозунгом многочисленных локальных крестьянских бунтов было требование земледельцев забрать их у помещика и сделать казенными. Екатерина, как мы убедились, занималась совсем обратным — в ущерб как декларируемым ею принципам, так и государственным интересам. (Прим. ред.) (обратно)71
Их существует гораздо больше, перечислены лишь самые лучшие. (обратно)Комментарии
1
СИРИО, № 23, р. 177.Аббревиатура СИРИО означает «Сборник императорского русского исторического общества», Санкт-Петербург, 1867–1912 годы. (обратно)
Последние комментарии
7 часов 57 минут назад
7 часов 58 минут назад
13 часов 16 минут назад
16 часов 58 минут назад
17 часов 19 минут назад
18 часов 13 минут назад