Мастера и Маргарита [Маргарита Александровна Эскина] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Эскина М.А. Мастера и Маргарита
В ОПРАВДАНИЕ СЕБЕ
Сама себе завидую: с какими людьми общалась, работала, дружила. С какими связана сейчас. Но раньше в голову не могло прийти, что решу написать книгу. Когда я училась в ГИТИСе, профессор Марков, прочитав однажды мой текст, заметил: «Знаешь, лучше устно высказывай свои мысли». До сих пор я следовала его совету. Отступаю от него впервые. Все начиналось в больнице. Соседка по палате красавица Маргарита, телеведущая из Бишкека, расспрашивала меня о моей жизни. Потом стала записывать на диктофон. Спасибо, Маргоша! Тебя уже давно нет на этом свете, но я помню тебя. Добрый друг, поэт Юрий Кушак, не отверг мои записи. Журналист Юлия Ларина помогла упорядочить обрывки воспоминаний. За что я им очень благодарна. Эта книга о счастливых и трагических моментах моей жизни. А жизнь связана с Домом актера. Поэтому еще книга — об актерах, режиссерах, телеведущих, с которыми меня свела судьба. Я не пытаюсь оценивать их профессиональные качества — это сделают и без меня. Не сообщаю и подробностей их личной жизни, поскольку не терплю вторжения в нее. Я часто помню не события и явления, а свои ощущения от них. Эти ощущения я и постараюсь передать в книге.ПАПА

Я стала более-менее самостоятельной только за три года до папиной смерти, когда мне было уже хорошо за сорок. Папа серьезно заболел, и пришлось решать все вопросы самой. До этого я без него не могла ничего: надо детей пристроить в пионерлагерь — к папе, купить обновку — к папе. Мне казалось, я знаю папу. Но после его смерти открылись совершенно новые факты.
До 1917 года папа учился в медицинском институте. Тогда были очень модны благотворительные студенческие вечера, на которых выступали знаменитые артисты и литераторы. Как самому красивому и обаятельному, папе доверяли приглашать на эти вечера знаменитостей. И те ему обычно не отказывали. Папа так увлекся новым делом, что проглядел Октябрьскую революцию, Правда, справедливости ради надо заметить: этому способствовало и состояние влюбленности, в котором он постоянно пребывал. Однажды я спросила папу, как большевики брали власть. — Знаешь, Маргуля, — ответил он, — в тот день я ходил к Н., а жила она на окраине. Вечером мне сказали, что в центре Москвы стреляют… Постепенно папа сам начал устраивать вечера и умудрялся приглашать людей такого масштаба, как Евгений Вахтангов и Анатолий Луначарский. Он с юности очень увлекался театром. Почти ежедневно ходил на спектакли. Многие, особенно мхатовские, видел десятки раз. Администраторы уже знали его в лицо и давали контрамарки. В конце концов с четвертого курса медицинского он ушел и стал импресарио: возил по Союзу актеров, писателей, политических и общественных деятелей. Ездил с Пастернаком, Белым, Маяковским… Успел поработать и в театре у Мейерхольда. Но там вышел небольшой скандальчик из-за женщин. Папа, очевидно, был влюблен в Бабанову, а Всеволод Эмильевич оказывал предпочтение Райх. И он обвинил папу в том, что тот организовывает аплодисменты Бабановой. Папа оскорбился и ушел из театра. Он перезнакомился почти со всеми знаменитостями и сам стал уже известен. В 1936 году Всероссийское театральное общество, возглавляемое Александрой Александровной Яблочкиной, пригласило его, чтобы создать Дом актера. Он с огромным желанием взялся за это дело. Открытие состоялось 14 февраля 1937 года. С тех пор в течение 48 лет (с небольшим перерывом в первые годы войны) он был директором Дома актера.
* * *
В искусстве театра папа понимал далеко не все. Однажды мы с ним смотрели спектакль во МХАТе. Во время действия я вдруг услышала шепот: «Больше не могу. Я думал, это комедия». И, не выдержав, он ушел после первого акта. В театре он был не профессионалом, а зрителем. Причем нередко зрителем очень усталым. Однако интуитивно чувствовал многое. Выводил на сцену Дома актера никому не известных талантливых артистов, представляя их театральному миру. Он любил театр, закулисье, горячий возбуждающий воздух премьер. Но знал и оборотную сторону актерской жизни: интриги и зависть, работа на разрыв в нескольких местах одних актеров и трагедия незанятости и неуспеха других, публичная востребованность и катастрофическое одиночество. Он глубоко сочувствовал актерам и помогал им. Ради них готов был на все. Мог в 6 часов утра мчаться во Внуково, чтобы встретить гостя из Грузии, объехать полгорода в поисках фруктов, которые любила заболевшая Марецкая… Сергей Юрский рассказывал, как он и его коллега, еще совсем молодые, отправились из Ленинграда в Москву, чтобы выступить в Доме актера. В поезде почти всю ночь прокутили. Утром, подъезжая к столице, увидели идущего по перрону с букетом цветов Эскина, Начали гадать, кого он встречает — в Ленинграде известных людей у поезда не заметили. Когда же стало ясно, что встречают их — молодых, утомленных кутежом, — Юрский, по его словам, впервые ощутил, что значит профессия актера. Папе было свойственно благоговение перед актерами (чего, к сожалению, лишена я). Казалось бы, он общался с ними ежедневно на протяжении многих лет и тем не менее с такой радостью и гордостью порой сообщал: «Знаешь, Маргуля, мне сегодня звонил Станицын!» Помню, папа говорил по телефону одной актрисе: «Смотрел вчера спектакль. Потрясен! Вы так никогда не играли!» А я знаю, что в театр он вчера не ходил. Иногда он немного привирал, чтобы выразить на самом деле искренние восхищение и любовь. Недавно в одном из журналов в очерке о Рине Зеленой я прочитала историю, которую тоже знала. История очень характеризует папу. Рина Зеленая всем рассказывала: «Я стала такой знаменитой, что Эскин мне сказал: „Конечно, ваша панихида будет в Доме актера“». Они с папой были в очень хороших отношениях (мы даже приходили к ней домой, и она подарила мне фарфоровую кукольную посуду — королевский подарок по тем временам). И вот Рина Зеленая эту историю про панихиду рассказывала как анекдот, и все всегда хохотали. Но однажды она ее пересказала в присутствии директора ЦДРИ Бориса Михайловича Филиппова. Надо заметить, что ревность папы к ЦДРИ была просто болезненной. Он не мог слышать про Дом работников искусств, хотя считал Филиппова великим деятелем и своим учителем. Борис Михайлович к Дому актера относился так же ревниво. Услышав рассказ Рины Зеленой, он возмутился: «Что Эскин себе позволяет? Какой Дом актера?! Вы — наш человек, и ваша панихида будет в ЦДРИ!» Где в итоге была панихида по Рине Зеленой, я уже, к сожалению, не помню. Актеры чувствовали преклонение папы перед ними. Неслучайно 75-летие Эскина вылилось в такой праздник, какого на моей памяти не было. Пришли все. Зал Дома актера был набит битком — Олег Ефремов немного опоздал и стоял, не найдя свободного места О папе говорили со сцены с большой нежностью, любовью и благодарностью.* * *
Папа был очень разным: с одной стороны, он проявлял удивительное благородство, с другой — позволял себе чрезвычайную бестактность. В 14 лет я влюбилась в актера Малого театра Дмитрия Павлова (такой тип русского мужчины всю жизнь был моей страстью). Павлов снялся тогда в фильме «Моя любовь». А в Доме актера в то время размещалась выставка, где были три его фотографии. Когда выставку разбирали, эти снимки я взяла себе. Позже мы встретили Павлова, и папа немедленно объявил: «Моя дочка в вас влюблена!» Я стояла, не зная, куда себя деть. Он совершенно не думал о моих чувствах и порой не проявлял никакой деликатности. Мог у себя в кабинете при всем народе спросить меня: «Что это ты так дико причесалась?» Папа был очень внимателен к людям и в то же время позволял себе орать на подчиненных. Почти тридцать лет он проработал с двумя замечательными помощницами — Адриенной Сергеевной Шеер и Галиной Викторовной Борисовой. Галина Викторовна, чрезвычайно коммуникабельная, покоряла чуткостью и обаянием. Мало кто мог отказать ей в просьбе. Она легко подхватывала идеи и с энтузиазмом воплощала их (не зря долгие годы она вела молодежную секцию). Адриенна Сергеевна брала другим. Темпераментная властная женщина, она умела добиться своего, не останавливаясь ни перед какими трудностями, обнаруживая невероятную фантазию и авантюризм. Про ее способность справляться с безнадежными ситуациями ходили легенды. Рассказывают, как во время одного из вечеров в Доме актера позвонил Дмитрий Шостакович и предупредил, что не сможет выступить, поскольку ему не с кем оставить заболевшую жену. Адриенна схватила в буфете белый халат и помчалась к композитору. Объяснила ему, что она — медицинская сестра и ее прислали побыть с больной. Вечер был спасен. Папа, Борисова и Шеер безумно любили друг друга. Но как же при этом кричал на своих помощниц отец! Допустим, входит в кабинет Шеер, он ее спрашивает: — Адриенна, вы позвонили Плятту? — Да, 27-го числа я набрала 299… — Адриенна, быстрее. — Нет, вы меня дослушайте. Я набрала номер, мне ответили сначала, что… — Адриенна! Говорите сразу! Адриенна продолжает свой подробный рассказ, и тогда папа швыряет что-нибудь на стол и кричит: — К чертовой матери! Так работать невозможно! Адриенна, рыдая, уходит. Папа идет домой и за обедом рассказывает бабушке о случившемся. Бабушка бросается к телефону: «Адриенна Сергеевна, родная, ну вы же его знаете. Он же вас любит…» Это продолжалось бесконечно. Он кричал, но кричал не как начальник. Так орут в семье на своих близких. Поэтому ссоры быстро забывались. Через несколько лет после того, как его помощниц не стало, папа с Борисом Поюровским организовали в Доме актера трогательный вечер в память Адриенны Сергеевны и Галины Викторовны. Никто не мог припомнить, чтобы где-то устраивали подобное в честь умерших сотрудниц.* * *
Папу знал весь театральный мир. Он был известен также в литературных и научных кругах, Да и не только в них. Знакомые были в продуктовых и промтоварных магазинах, в аптеках. В условиях дефицита он мог достать все. Причем себе почти ничего не приобретал. Разве что галстуки. Когда он садился есть, вечно заляпывал галстук, и приходилось покупать новый. До сих пор помню большой магазин одежды по дороге на Каширку, директором которого был некий Эдуард Григорьевич, Папа привозил меня туда одеваться. Из всех подсобок выглядывали люди и радостно бросались помогать: «Александр Моисеевич, что Маргарите нужно? Платье? Туфли?» Такая же картина наблюдалась в отделе заказов «Елисеевского» — все старались ему угодить. И он при этом чувствовал себя абсолютно комфортно. Он никогда ни о ком не забывал: доставал костюмы, лекарства, продукты. Перед любым праздником отправлялся в подшефный совхоз, закупал цветы и развозил их по множеству адресов, Приезжал, целовал руку, дарил букет, произносил какие-то нежные слова — и эта его галантность была дороже любого подарка.* * *
Поразительно, но папу любили и в райкоме, и в горкоме партии. Хотя почти после каждого «капустника» его вызывали «на ковер». «Капустники» были одной из немногих форм, позволявших тогда говорить правду или хотя бы намекать на нее. Начинались они в 12 часов ночи. Подразумевалось, что в это время, после спектаклей, собирается только актерская аудитория, хотя приходила вся культурная элита Папу невозможно было наказать по партийной линии (он всю жизнь оставался беспартийным, в связи с чем любил говорить: «Я не большевик, я сочувствующий»). Наверное, многое сходило ему с рук, потому что он не принимал героической позы. Партийных боссов подкупали его наивность и обаяние. На такое, к сожалению, не способна была я. Мне казалось, надо обязательно демонстрировать свое несогласие, решительно бороться за правду и справедливость. У меня вечно были конфликты с начальством, и я считала, что я — молодец, а вот папа… И только с годами поняла, насколько мудрее и результативнее действовал он.* * *
Папа никогда не забывал о своей национальности. С гордостью рассказывал, что в детстве благодаря ей имел даже некоторые привилегии: поступив в гимназию по введенной тогда квоте, он, на зависть большинству одноклассников, не посещал уроки Закона Божьего. После революции евреев не притесняли, и национальность стала дома предметом для шуток: папа называл себя Айзеком Мойшевичем и с удовольствием произносил единственное известное ему еврейское ругательство. Внешность папы, особенно в молодости, была вполне русской, так что с бытовым антисемитизмом ему вряд ли приходилось часто сталкиваться. Все изменилось после войны, когда разогнали Еврейский антифашистский комитет, закрыли Еврейский театр и убили Соломона Михоэлса. Естественно, в эти годы папа ощущал себя так же, как и миллионы других евреев. В 1958 году он сделал все мыслимое и немыслимое, чтобы мою младшую сестру Зину в паспорте записали русской, по национальности матери. Сложность состояла в том, что метрику надо было добывать в Фергане, где в эвакуации родилась Зина и где после родов умерла мама. Тем не менее в семье этой теме уделялось мало внимания. Даже то, что меня не приняли в институт из-за еврейской фамилии, не стало поводом для возмущения. К зигзагам в линии партии папа примерялся, как к новым обстоятельствам. Иногда он смеялся: «Чем евреям плохо? Вот вчера у меня был вечер — ну, одни евреи пришли. Все директора театров — евреи». Национальное самосознание у папы с бабушкой проявлялось только в одном случае: когда мы получали газету со списком лауреатов Сталинской премии. Они садились за стол и обводили карандашом каждую еврейскую фамилию. Это доставляло им удовольствие и вызывало в них национальную гордость. Жили мы в большой коммунальной квартире, населенной в основном русскими. А командовала всем (кому дежурить, сколько платить за газ…) наша бабушка. Она пользовалась громадным авторитетом. Лишь когда возникло «дело врачей», бабушка вдруг растерялась и не знала, как вести себя дальше. Впрямую репрессии нас не коснулись, но снаряды падали очень близко. Вечерами бабушка ждала папу, стоя у окна: придет — не придет. Он приходил, и мы садились ужинать. Когда кто-то звонил в дверь, все застывали, не донеся ложки до рта. Прислушивались: открывается дверь, звучат чужие голоса, дверь закрывается, раздаются одинокие шаги соседа. И все облегченно вздыхали.* * *
Нередко папа возвращался поздно. Лежа в кровати, я всегда думала, что, если с ним что-то случится, я напишу Сталину, и все уладится. Мы жили на Арбате, а он был тогда правительственной трассой: в каждом подъезде, в любой подворотне постоянно дежурили сотрудники госбезопасности. Когда в дальнейшем мы захотели поменяться с Арбата, это оказалось чрезвычайно сложно: без тщательнейшей проверки туда никого не прописывали. Очевидно, уже то, что папа жил на Арбате, делало его в какой-то степени неприкосновенным. Папа не был борцом с режимом, но порой совершал смелые и опасные по тем временам поступки. Он взял в Дом актера дочь своего друга — Нину Михоэлс, которую после убийства отца выгнали из института и никуда не брали на работу. Он пришел проведать Светлану Таптапову — дочь другого его давнего друга, Нины Давидовны Таптаповой, когда та после ареста родителей находилась в каком-то закрытом детприемнике. Светлана, которая сейчас работает в Доме актера фониатром, рассказывает, что была ошеломлена его приходом. Ведь для того, чтобы им разрешили встретиться, нужно было доказать свою близость к семье ребенка. Помню еще один случай. В 60-е годы папа с группой московских актеров поехал в Грузию. На одном из банкетов подняли тост за Сталина. Все встали. Папа единственный отказался поддержать тост. Мне кажется, что и для этого требовалось определенное мужество. Он был человеком цельным и органичным. Все его решения и поступки вытекали из его натуры — доброй, великодушной и глубоко порядочной.* * *
Даже в старости в папе не замечалось занудства. Он был человеком скорее легкомысленным, жадным до жизни, а в юности — очень озорным. Конечно, с годами, под тяжестью той ответственности, которую налагают семья и работа, характер менялся. Но легкомыслие и озорство все равно прорывались. Случалось, придет домой в хорошем настроении и с порога начинает танцевать канкан, припевая: «Я шансонетка — поберегись! Стреляю метко — не попадись!» Или неожиданно заявит: «Девочки, сегодня вечером идем в гости к Сталину». Мы с сестрой, как сумасшедшие, гладим платья, одеваемся, причесываемся. И когда стоим уже почти готовые, вдруг слышим: «Вы слишком долго возились. Пожалуй, уже поздновато. Да и я устал». Как-то в праздник он появился дома с огромным кульком и предложил отгадать, что в нем. Мы начали перечислять, но все — мимо. Тогда он положил кулек на стол, осторожно развернул его, и оттуда высыпали штук семь малюсеньких цыплят. Какое было счастье! Любил подурачиться: кокетничая с нашими подругами, пел им всякие нескромные песенки и доводил до того, что они краснели и бледнели. Обожал анекдоты. Заносил их в кодированном виде в записные книжки. А мы с сестрой потом старательно их расшифровывали. Воспитывал он нас безо всякого морализаторства. Порой лишь бурно реагировал на какие-то наши поступки — с его точки зрения, недопустимые. Никогда не запрещал нам что-то читать или смотреть. Не требовал особой дисциплины. Хорошо помню, как папа переходил улицу Горького в неположенном месте — часто вместе с кем-нибудь из нас. Шел спокойно, не суетясь (правда, движение тогда было несравнимое с сегодняшним). А Зина любит вспоминать, как в доме отдыха в Щелыкове, он, уходя после ужина играть в преферанс, всегда строго говорил ей, тринадцатилетней: «Без меня не ложись!» Понятно, почему и внуки обожали отдыхать с дедом. Но папа умел быть и устрашающе строгим. Если мы с друзьями слишком шумели в моей комнате, он входил и произносил всего од-ну фразу: «Что здесь происходит?!» Но тон был таким, что всех как ветром сдувало. После этого мои однокурсники долго еще, завидев на улице папу, переходили на другую сторону.* * *
Особой, огромной и в основном счастливой частью папиной жизни были женщины. Он обожал их и пользовался взаимностью. Папа был человек влюбчивый и безумно чистый, поэтому каждую свою новую любовь считал первой и последней. Но мне всегда говорил, что так, как он любил мою маму, не любил никого. Правда, однажды, во время довольно долгого его романа с чудесной женщиной, диктором радио, он все-таки признался: «Риву я, пожалуй, тоже так люблю». Ухаживал он по старинке. Утверждал, что нет женщины, способной устоять перед мужчиной, который каждый день дарит ей цветы. Свою возлюбленную постоянно удивлял хоть и недорогими (семья не должна страдать), но полными смысла подарками. Любил поражать неожиданными поступками. Проводив даму с московского вокзала в Ригу, встречал ее с цветами на перроне рижского. В ход шли стихи (чаще Северянин), романсы, песни Вертинского и шансоны Изы Кремер. Ко всей этой романтике добавлялось еще то немаловажное обстоятельство, что папа сразу кидался улаживать все бытовые проблемы своей возлюбленной. Но бывало и наоборот: какая-нибудь роскошная дама в вуалетке приходила к нам домой и начинала мыть пол (бабушка лежала больная, а я отворачивалась, выражая тем самым свое отвращение). Другая возлюбленная приносила сладости. Третья дарила мне наимоднейшие босоножки. Вообще папа невероятно ценил, если что-то делалось для семьи, и особенно для меня. Расставались они всегда друзьями. И женщины испытывали благодарность к папе за эту страницу своей жизни. Мы с сестрой говорили: интересно было бы собрать всех папиных возлюбленных в одном месте и посмотреть на эту толпу. И однажды такое случилось. На похоронах бабушки. Обычно бабушка знала все папины дела, в том числе и личные. Пока очередной роман был в разгаре, она раздражалась, ревновала и не могла слышать даже имени «этой женщины». Но как только роман заканчивался, она проникалась к прежней возлюбленной папы искренней симпатией. Многие «бывшие» становились верными бабушкиными друзьями. Когда она поняла, что связь с дикторшей Ривой — это серьезно, разнервничалась не на шутку. У Ривы был маленький сын Вова. Папа порой звонил и говорил: «Маргуля, я приведу Вову. Мне нужно идти по делу, а его не с кем оставить». Боже мой, что только не кричала бабушка, узнав об этом! Правда, через десять минут она уже была вся в заботах: чем накормить, напоить, куда спать уложить. Позже папа стал посвящать в свои взаимоотношения и меня. Начинал рассказывать, и я, глядя на его счастливое лицо, понимала: любовь опять первая и последняя. Я спрашивала про его новую женщину: «А чем она занимается?» И он, блаженно улыбаясь, говорил о ней, как о звезде Голливуда: «Шьет бюстгальтеры и пояса». Когда я сказала, что выхожу замуж, папа (однажды вмешавшийся в мою судьбу и не позволявший себе сделать это вновь) все свое возмущение выплеснул на бабушку. «Шура, — возражала та, — почему она не может выйти замуж?» В ответ папа кричал: «Она не имеет права разрушать семью!» И вдруг он сообщил, что женится. Получилось, мы расписались одновременно. С Ириной Николаевной Сахаровой он прожил долгие годы, до самой смерти. Ирина Николаевна, человек умный и широко образованный, была его неизменным помощником и советчиком. В ней соединяются две ветви русской интеллигенции: со стороны отца — это Сахаровы, она выросла вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, а со стороны матери ее двоюродным братом был известный киновед Ростислав Юренев. Я очень рада, что Ирина Николаевна до сих пор рядом.* * *
Папе доставляло огромную радость сделать что-то для нас. Он мог позвонить и сказать: «Маргуля, зайди сегодня ко мне!» Уже по голосу я догадывалась, зачем. Прихожу в Дом актера. Папа встает, закрывает дверь кабинета, которая всегда была открыта настежь, и говорит: «Нам сегодня выдали премию, и вот я тебе приготовил…» Лицо его при этом становилось таким счастливым, будто это я давала ему деньги (причем тогда я получала больше, чем он). За полмесяца до 22 апреля, своего дня рождения, папа обычно привозил нам какую-нибудь электробритву со словами: «Это вы мне подарите». Конечно, мы все равно дарили ему и что-то свое, но от этого он только страдал: «Ну зачем вы тратились?! Я же вам все купил!» Сердился папа и на подарки сотрудников. Это было для него ежегодной мукой. А все, что преподносили ему гости Дома актера, оставалось в многочисленных шкафах кабинета. Один из зарубежных бизнесменов, желая сделать приятное, подарил ему торшер. Вручая, уточнил: «Это — не Дому актера, а лично вам». Через некоторое время бизнесмен обнаружил торшер в кабинете отца и тогда сам отвез подарок к нему домой. Он был отличным семьянином: нежнейшим, внимательнейшим сыном и отцом. Даже смог заменить нам с сестрой рано умершую маму. Бесконечно любил внуков, быстро начинал скучать по ним. Мой муж, знавший это, часто приводил их из детского сада в Дом актера. Дед был счастлив. Он очень гордился всеми нашими достижениями. Обзванивал друзей: «Леонид Осич, это Эскин. Как у вас? А Маргуля сегодня получила повышение!» Потом набирал следующего — Плятта, Менакера… Особенно приятно было отцу, когда говорили что-то хорошее о моей младшей сестренке — Зина была трудным ребенком. Позже он так же гордился внуками. «Вы знаете, — рассказывал кому-нибудь он, — у меня вышла из строя розетка, так пришел внук и мгновенно починил!» А уж когда внучка Саша стала танцевать на сцене (она занималась в хореографическом коллективе), восторгам не было конца. Сам папа никогда не хвалился. А если и гордился совершенным поступком или чьим-то высказыванием о себе, то делал это, преодолевая застенчивость. Он был чрезвычайно скромным человеком. На пленках с записью передачи «Театральные встречи» папа всегда — в самой глубине кадра.* * *
Надо отдать должное руководителям ВТО: беспартийный еврей без высшего образования возглавлял Дом актера! Что бы ни происходило, разговоров о замене за 48 лет не возникало — даже в последние три года, когда он был слаб. После болезни у него сильно дрожали руки. Трудно было есть, и поэтому в ресторане его кормили отдельно. Шеф-повар готовил для него специальные блюда. Сидя в кабинете при открытых дверях, папа мог задремать. Я ужасно стеснялась, что он работает в таком состоянии. Но сотрудники дружно успокаивали меня: «Маргарита, лишь бы он был! В каком угодно виде. В тот день, когда ею не станет, здесь все закончится». Это понимали многие. Мне казалось, если папа умрет, жить дальше будет бессмысленно. Но последние несколько лет он уже не был самим собой, что доставляло мне невыносимые страдания. Поэтому, страшно сказать, но, когда он умер, наступило облегчение. Эта жуткая страница его нежизни кончилась.Прошло много лет со дня смерти папы, но я не перестаю изумляться, сколько людей в актерском мире помнят его.
ПИСЬМА СЧАСТЬЯ
До сих пор ко мне подходят женщины, знавшие папу, и говорят, что к ним он относился не так, как ко всем. Действительно, каждой казалось, что именно ей Александр Моисеевич уделяет особое внимание. И с его стороны в этом не было неискренности.Долгие годы приятельских отношений связывали папу с писательницей, драматургом и переводчицей Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник и дочерью Марии Ермоловой — Маргаритой Николаевной Зелениной. Татьяна Львовна жила в квартире у Маргариты Николаевны, и папа раз в неделю, в свой обеденный перерыв, отправлялся не к себе домой (что очень обижало бабушку), а к ним, на Тверской бульвар. Его всегда с радостью принимали и кормили обедом. Бабушка потом ревниво спрашивала: «Чем же таким тебя там кормят?» И папа с довольным выражением лица отвечал: «Щами и гречневой кашей». После обеда ему разрешалось часок поспать. Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна были первыми гостя-ми в нашей квартире на Петровке. Они пришли поздравить нас с переездом и принесли сказочной красоты и немыслимой дороговизны старинную люстру. К сожалению, в нашей семье не ценились такие вещи. Папа покупал мебель красного дерева, когда она ничего не стоила. Потом мы ее выбрасывали на помойку. То же самое произошло и с люстрой. Татьяна Львовна была такого маленького роста, что, когда она садилась на стул, ей надо было подставлять скамеечку. У нас скамеечки не нашлось, поэтому мы подкладывали несколько томов энциклопедии. Обе женщины трогательно заботились о папе, старались чем-то помочь. Он отвечал им тем же. В разлуке постоянно переписывались. Сохранилась переписка папы с Татьяной Львовной. Хочется привести отрывки из этих писем. Они лучше моих рассказов дадут представление о том, как папа умел дружить.
6.09.1948 Глубокоуважаемая Татьяна Львовна! Простите, что беспокою Вас во время Вашего отдыха в Малаховке. В связи с 50-летием МХАТа Всероссийское театральное общество организует в октябре в Доме актера ряд вечеров: 1. Первые зрители МХАТа в воспоминаниях современников. 2. Вечер, посвященный Станиславскому. 3. Вечер, посвященный Немировичу-Данченко. Мы уверены, что Вам есть что рассказать. Когда Вы вернетесь в Москву, буду еще просить Вашего согласия на празднование в Доме актера 24 января 1949 года Вашего 75-летия. Сердечный привет Маргарите Николаевне. Искренне уважающий Вас Эскин.
9.09.1948 Дорогой Александр Моисеевич, я отдыхаю не столько в Малаховке, сколько в поселке за четыре километра от нее, где даже нет почты, так что мне для корреспонденции надо пользоваться, как в старину, оказиями. Конечно, я очень рада принять участие в праздновании юбилея МХАТа и могу взять или первую, или вторую тему — в зависимости от того, когда состоится вечер. Вашим намерением отметить мое 75-летие очень тронута. Хотя не знаю, следует ли праздновать такую дату. «Помышления суетные» давно оставили меня. Но я с растроганным чувством вспоминаю, какой милый праздник устроило мне ВТО пять лет тому назад. И, если Вам этого хочется, я готова с благодарностью принять Ваше предложение. Жму Вашу руку. Марг. Ник. шлет привет.
* * *
30.05.1949 Дорогая Татьяна Львовна! Очень хочу знать, как наладилась Ваша жизнь в Малаховке… В Москве следующие новости, о которых Вы, наверное, уже слышали. Пьеса Софронова «Карьера Бекетова», получившая первую премию на Всесоюзном конкурсе и доведенная до генеральных репетиций в Малом театре, а в ряде театров страны уже шедшая, снята с очень резкой формулировкой. Вторая новость касается С. Он большой специалист по питейной части. На днях в компании друзей был в баре «Националь» зело пьян. Увидев за соседним столиком одинокого человека — явно выраженного моего собрата по национальности, — он начал проходиться по его адресу и по адресу его нации. И довел этого человека до такого состояния, что тот размахнулся и одним махом выбил С. несколько зубов. Дело пытаются замять. Ибо этот человек оказался штангистом, чемпионом мира Григорием Новаком. Эти новости занятные. А печальная и Вам известная — освобождение Таирова и все с этим связанное. Я знаю подробности заседания по Камерному театру. Когда я увижу Вас, все расскажу. А видеть Вас и Маргариту Николаевну очень хочется, и надеюсь воспользоваться Вашим разрешением Вас навестить. Если есть какие-нибудь поручения, я с радостью все для Вас сделаю. Умоляю, эксплуатируйте меня, мне это будет, только приятно. Преданный Вам Эскин.5.06.1949 Дорогой Александр Моисеевич! Я от души посмеялась над Вашими «светскими новостями» и вспомнила эпизод из далекого прошлого. Лет пятьдесят назад в Москве был один журналист, который печатал на своих визитных карточках: «Такой-то, битый председателем атлетического общества в Москве таким-то» (это не анекдот): Посоветуйте С., чтобы он заказал себе визитные карточки: «Витый чемпионом мира». Это будет звучать гордо. У нас здесь, как всегда, мило — в нашем домике и садике. А выйдешь за калитку — нищая природа мещанского поселка. Но все-таки «голубое небо над головой», все-таки птицы и запах сосны, и все-таки ночные фиалки и белые розы на моем столе. Так вот и живем — на «все-таки». Иногда схватит острая ностальгия по природе, по красоте ее, но быстро прогоним ее — «не говори с тоской: их нет, а с благодарностию: были». Если бы Вы вздумали нас навестить, мы были бы очень рады… Вы себе представить не можете, как нас трогают Ваши бескорыстные внимание и забота. Поручений никаких, кроме одного — не забывайте. Искренне преданная Вам…
Харьков, 10.07.1949 Дорогая Татьяна Львовна! Сегодня только 8-й день, как я уехал из Москвы. Побывали в десяти городах, и дальше ждет нас много интересного. И все это было бы очень хорошо, если бы не люди, с которыми мне приходится ездить. А впереди еще три полных недели мотни по городам и весям Украины и Крыма. Для меня не явились неожиданностью свойства моих спутников — в нагие время с этим сталкиваешься на каждом шагу. Поэтому мне особенно приятно думать о Вас, хотя бы письменно общаться с Вами, ибо Вы — явление уникальное. Людей с такими душевными и моральными качествами все меньше, и к ним стремишься, как к маяку. Надеюсь по приезде в Москву пристать к этому маяку… …Я сегодня, не зная, куда себя девать, ходил по улицам, зияющим каркасами разрушенных в войну зданий, и вдруг обнаружил музей изобразительных искусств. Оказалось, очень хорошая картинная галерея. И вот в Репинском зале я вижу поразительно знакомое женское лицо. Подойдя ближе, читаю: «Репин. Портрет Щепкиной-Куперник. 1914». Считаю своим долгом известить Вас об этом. Ваш Эскин.
21.07.1949 Дорогой мой Александр Моисеевич, с приездом! Хочу, чтобы это письмо застало Вас дома и принесло мои пожелания хорошего, удачного сезона… …Так Вы видели мой портрет в Харькове? Я знала, что он там. Я не люблю этот портрет. Репин написал не меня, а какую-то ухмыляющуюся экономку у старого генерала, только что приложившуюся к рюмке. Он все говорил мне: «Я хочу писать не вас, а вашу улыбку». По не получилось. Этот портрет купили за границу, и я была довольна, что его здесь не будет. И вдруг после революции он попал в СССР. Но, право, я была лучше (простите мне это запоздалое кокетство)… Последним Вашим письмом Вы меня тронули. Я приписываю Ваше незаслуженно доброе отношение к нам вот чему: как у меня здесь, в скудной и убогой природе, бывает иногда прямо «кислородный голод» по красоте, так, вероятно, у Вас, в той атмосфере, которая Вас окружает и часто тяготит, бывает такой же голод по искренним отношениям, простым словам, бескорыстной симпатии, интересу к человеку вне вопроса «чем он может быть полезен» (всего этого, надо признаться, мало в актерском мире). И вот Вы это находите у нас и чувствуете, что мы обе — и я, и Марг. Ник. — очень Вас любим… Крепко жму Вашу руку. Как Ваши девочки? Любящая Вас…
* * *
12.07.1950 Дорогие друзья, Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна! Через пару часов уезжаю, и в минуты расставания с Москвой мне хочется послать вам, самым близким мне людям, сердечный привет. Я уезжаю с горячим желанием, вернувшись, застать вас здоровыми и жизнерадостными. Буду очень по вам скучать. Но в то же время уверенность в вашем добром ко мне отношении будет помогать мне в поездке, как помогает в Москве жить и бороться с трудностями. Любящий вас Эскин.14.07.1950 Дорогой мой Эсинька, очень была тронута тем, что в момент предотъездной суеты Вы нашли время вспомнить о Вашей старой (увы, в буквальном смысле слова) приятельнице. Мы тоже часто-часто вспоминаем о Вас. В наши годы новая дружба — редкость, но мы обе с М.Н. чувствуем в Вас друга, и это очень облегчает нашу жизнь — морально, так как при всем количестве и разнообразии людей кругом нас, мы, в сущности, очень одиноки, и нам «не на кого положиться». Но, думаю, что не ошибаюсь, — на Вас можем… Я сейчас пишу маленький очерк о С. Ковалевской, а потом хочу взяться за пьесу, хотя хорошо знаю, что это будет только «для души» — никто никогда ее не поставит, а написать хочется. Мар. Ник. варит варенье, которым мы надеемся Вас осенью угостить. Вы сейчас в красивом старинном городке. Ходите по улицам, по которым ходил когда-то Кант, размышляете о «звездном небе над головой и о нравственном законе в душе человека». Звездное небо осталось таким же, как и при нем, а вот насчет нравственного закона многое поменялось. Все-таки, возвращаясь с концерта, взгляните на звездное небо и вспомните Канта. И меня (это вроде «я и Ниагара», как написал один молодой человек на фотографическом снимке)… Целую Вас в лоб. Мар. Ник. тоже.
…07.1950 Дорогая Татьяна Львовна! Ваше неожиданное письмо от 14.07. доставило мне много-много радости. Благодаря Вам я начинаю понимать, что дружба — это самая великая вещь. Завтра едем в Советск (бывший Тильзит). А мне уже чертовски надоели поездка и разлука с друзьями. Одним словом, заработок достается не так легко. Хотя в смысле затрат энергии и нервов, ничего лучше не придумаешь. В этот раз, не в пример прошлому году, мы очень дружно живем с Ильинским. Надеюсь увидеть Вас здоровыми. Мечтаю о поездке в Ленинград. Из этого я делаю нескромный вывод, что у меня душа на первом месте, ибо поездка с Вами в Ленинград будет для души, а эта — презренный бизнес. Целую Ваши ручки.
27.07.1950 Дорогой мой Эсинька! Наша жизнь, не сглазить бы, течет мирно… Недавно поехали на три дня в город… В этот раз 6 Москве были непривычные ощущения: я никому не позвонила и прожила тихо и приятно. Сказала Маргуле: «Эси нет, и больше я не хочу никому звонить». Да, мой дорогой Эсинька, Вы заняли хорошее и прочное место в нашей жизни. Буду надеяться, что так останется до ее окончания и что Вы не окажетесь моей «последней иллюзией». Я ведь уже давно живу без иллюзий. Любящая Вас…
04.08.1950 Дорогие и любимые Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна! Говоря откровенно, не. собирался вам писать, но последние дни настроение ужасное — надо кому-то поплакаться в жилетку. Надо, чтобы кто-то пожалел. Когда сам себя жалеешь, этого недостаточно. А к кому же мне адресоваться, как не к вам? Тем более я в свое время усвоил правильную мысль Татьяны Львовны о том, что друзья как раз и нужны, когда что-то нехорошо. Но это мое состояние я объясняю только дурными свойствами моего характера. Уж очень не люблю я отрываться от своих близких и друзей. Я не могу жить не просто без людей, а именно без тех, кто дорог. Я чувствую себя без них безумно одиноким. И вот бессонница мучает, хотя могу спать по 20 часов в сутки. Города хорошие, интересные: Каунас, Витебск… Но все это не радует. Если бы у меня были и Париж, и Лондон, я ни на что не променял бы Тверского бульвара, по которому очень скучаю. Часто-часто думаю о вас.







4.08.19 50 Дорогой Эсинька, писала Вам в Ригу и напишу туда еще, а пока шлю не сколько приветов в Таллин. Когда он был еще Ревелем, я в нем пережила самые волнительные дни в моей жизни. Там мы венчались с Н.Б. в Ревельской Николаевской церкви. Боже мой, это было столько лет назад, а я помню все, как сейчас. Теперешняя Т.А. — ничего, живет помаленьку. И не без удовольствия помышляет о городской сухой квартире, об уютных обедах с милым другом Эсинькой. Мы часто с М.Н. о Вас вспоминаем и с нетерпением ждем встречи. Любящая Вас…
* * *
…1951 Дорогая Татьяна Львовна! Очень грущу оттого, что вырваться к Вам пока не удается. Во-первых, занят обменом квартиры. Дал объявление, теперь приходится ходить смотреть и показывать свою. Во-вторых, начал работать… в одной с Вами области. Не пугайтесь. Вам моя конкуренция не угрожает, Вы печатаете на машинке свои произведения, а я — чужие (в большинстве — бездарные творения). За отсутствием дел ни от какой работы отказываться нельзя. Вначале я печатал две страницы в час, сейчас уже — три. И до чего дойдет моя техника, не знаю. И третье, самое важное, — это судьба старшей дочки. Из 20 мест на театроведческом факультете 10 отдают абитуриентам из национальных республик, на остальные 10 мест — 70 претендентов. Это трудный конкурс… Надеюсь на будущей неделе повидать Вас. Целую ручки Вам и Маргарите Николаевне. Любящий Вас Эскин.20.09.1951 Милый, дорогой Эсинька, не могу Вам сказать, как меня трогают Ваши забота и внимание! Мы ведь, как ни странно, не очень этим избалованы. Много-много милых слов я получаю и комплиментов, и восхищений, а как дойдет до дела… Вы же никогда лишнего не говорите, а я во всем чувствую Ваши внимание и помощь. Верьте, я глубоко это ценю, и не говорите, что это пустяки, мелочи и тому подобное. Из мелочей составляется грунт, как из единиц — тысячи. Мне хочется хоть как-то, хоть чем-то отблагодарить Вас… Целую Вас, всегда помню, мой друг.
Огромная благодарность Российскому государственному архиву литературы и искусства за предоставленные письма Александра Эскина.
«ВАХТАНГОВ ПРИГЛАШАЛ МЕНЯ СТАТЬ АКТЕРОМ»
Летом 1975 года состоялись две беседы папы с литературоведом Виктором Лувакиным[1]. История появления этих интервью любопытна. Доцента филфака МГУ Виктора Дувакина уволили с факультета после суда над Даниэлем и Синявским — он выступал в защиту Андрея Синявского, своего любимого студента. Дувакин начал работать на кафедре научной информации и записывать на магнитофон интервью с известными людьми, создавая фонд звуковых мемуаров по истории русской культуры первой трети XX века. Его собеседниками за пятнадцать лет стали более 300 человек, среди которых — писатель Вениамин Каверин, биолог-генетик Николай Тимофеев-Ресовский, актер Ростислав Плятт, режиссер Евгений Симонов… Дувакин не рассчитывал, что эти интервью будут опубликованы при его жизни, — готовил их для XXI века. В беседах Дувакина с папой нет ничего такого, что нельзя было напечатать в прежние годы. Тем не менее истории, рассказанные тогда, публикуются впервые. Как раз в XXI веке.Учеба
Гимназию я окончил в 1918 году. Это был первый выпуск после Октябрьской революции. Никаких экзаменов не проводилось — нам просто выдали аттестаты. В университет брали всех, подавших заявление. Например, на медицинский факультет обычно принимали от 300 до 400 человек. А тогда подали заявление две с половиной тысячи — и все стали студентами. Но число педагогов не увеличилось. И мы долго болтались без дела, пока не умолили профессора Петра Ивановича Карузина, известного анатома, взять нашу группу. У профессора была большая семья, и мы из своих пайков отдавали ему какие-то продукты, чтобы он мог накормить голодных детей. Потом его обвинили в том, что он нарушил бесплатный принцип обучения, и судили. Поддержать профессора на процесс пришло все студенчество Москвы. Карузина приговорили к общественному порицанию с опубликованием приговора в печати. Но мы были на его стороне.Южин
Тогда существовала касса взаимопомощи Первого Московского университета, и периодически устраивались благотворительные концерты. Старые актеры с удовольствием в общественном порядке помогали студенчеству. Как-то мы делали вечер в Большом зале консерватории. Мне тогда было лет двадцать. Я обратился к Александре Александровне Яблочкиной. Она моментально согласилась выступить и сказала, что хотела бы сыграть сцену из спектакля «Василиса Мелентьева» по пьесеОстровского, но для этого нужен партнер — Александр Иванович Южин. Я пришел к Южину домой, объяснил ситуацию. И вдруг актер поднимается со своего кресла, вынимает бумажник и говорит: «Благодарю за честь, которую вы оказываете мне, приглашая участвовать в таком благородном деле. Разрешите прежде вручить вам все деньги, какие у меня сейчас есть в наличности, и я, конечно же, буду выступать». Сумма, замечу, оказалась довольно большой. Времена изменились, и сейчас в эту историю уже трудно поверить.Семашко
Я учился в одной группе с женой наркома здравоохранения Семашко, порой занимался у них дома, и Николай Александрович меня знал. Как-то я рассказал ему о вечере, который мы организуем, и перечислил, кто из известных людей будет в нем участвовать. Семашко спросил: «А вы хоть чем-нибудь угощаете актеров?» Я удивился: «Откуда же у нас на это деньги?» И тогда он говорит: «Вы напишите мне заявление, и вам будут выдавать с базы Наркомздрава продукты». И с этого момента перед каждым вечером я готовил заявление, а он писал на базу — отпустить столько-то сахара, колбасы, головок сыра. Мы начали давать актерам в качестве подарков продукты. Допустим, Москвину дарили полголовки «голландского» сыра, Тарасовой — четверть. Актеры были счастливы. Многих я предварительно спрашивал, что им хочется получить. Когда я в очередной раз приглашал Михаила Александровича Чехова и сказал, что мы можем дать ему что-нибудь из продуктов, он произнес «Если бы вы достали лист ватманской бумаги, я был бы вам благодарен значительно больше». И мне, опять же через Семашко, удалось заполучить лист бумаги, который мы и вручили Чехову. Через какое-то время я вновь прихожу к нему договариваться о выступлении. Жена провожает меня в гостиную, я остаюсь ждать и вдруг вижу на столе тот самый лист ватманской бумаги, а на нем — чертеж. Дело в том, что Михаил Александрович Чехов был антропософ. И на этом листе он начертил схему устройства мира: сверху кружок с надписью «Бог», а от него — ответвления. Все это было похоже на государственную структуру. Мне потом рассказывали, что после отъезда за границу Чехов одно время даже считался наместником Бога на Земле.Театр
Я часто бывал в театрах. Помню, как сидел в театре «Летучая мышь» на одном из спектаклей. В зале было пять человек — при том, что все билеты продали. Шел, кажется, 18-й год. В тот день, вечером, начались взрывы в стороне Ходынки. Потом выяснилось, что взрывались артиллерийские склады. Когда я подошел к театру, у входа стояли Никита Федорович Балиев, другие актеры, и никто не знал, что происходит. Настало время начинать спектакль. Коммерческий директор сообщает Балиеву, что в зале 4 человека. Конечно, людям было в тот момент не до зрелищ — может, вся Москва взорвется. Но Балиев говорит: «Если в такое время пришел бы даже один человек, все равно надо было бы играть». И они отправились на сцену, а я — в зал. Ко второму отделению подошло еще несколько зрителей.Кони
Зарабатывал я тем, что устраивал выступления писателей, ученых, общественных деятелей. К примеру, привозил Бехтерева. Однажды организовал выступления в Москве Анатолия Федоровича Кони. Это происходило в начале 20-х, он уже был старый, ходил с палочкой. Я поехал в Ленинград, договорился с ним и объявил о четырех его лекциях в Политехническом музее. Билеты были проданы в течение нескольких часов. И если бы они не разошлись сразу, после первой лекции ни один билет никто бы не купил. Тогда не существовало усиления звука, а Кони говорил так тихо, что было слышно только первым двум-трем рядам. Через полчаса зал начал таять. И в следующие дни перед началом его лекций можно было наблюдать одну и ту же картину: у входа стояли сотни людей, предлагавших свои билеты, которые они брали сразу на все вечера.Первая работа
Моим первым местом работы стал Театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. В начале 20-х годов в Москве открылось много частных театров. Этот располагался на улице Горького. Когда-то он находился в другом месте и руководил им сам Комиссаржевский, но к тому моменту он уже был в эмиграции, и театр возглавляли Василий Григорьевич Сахновский и Николай Иосифович Волконский. Мне предложили должность главного администратора. Театр был очень маленький, но стоил владельцу больших денег. Его жену-актрису никуда не брали, и для того, чтобы она где-то могла выступать, он затеял этот театр. В труппе были Ильинский, Кторов, Лобанов, Абдулов… И шли очень интересные спектакли — «Мертвые души», «Свадьба Кречинского»… Первый год я еще совмещал работу с учебой, но потом бросил медицинский факультет.Маяковский
В начале 1925 года мне поручили проводить гастроли Московского художественного театра в Грузии. Это были первые гастроли МХАТа в полном составе с выездом в Тбилиси. Они стали огромным событием в жизни Грузии. За несколько месяцев до приезда театра там выстраивались очереди за билетами. Поездка решила мою личную судьбу — я женился на уроженке Тбилиси и остался там жить. Об этом узнал мой друг-импресарио и прислал мне телеграмму, в которой предложил взять на себя проведение месячных гастролей в Закавказье Тамары Семеновны Церетели и Владимира Владимировича Маяковского. Я согласился и организовал их гастроли в Баку, Тбилиси, Батуми, Сухуми и Кутаиси. Я очень любил ходить на выступления Маяковского. Такого трибуна мне в своей жизни встречать не приходилось, хотя слышал я многих. Для Маяковского эти гастроли были очень материально эффективными. Тогда, в эпоху нэпа, не существовало никаких ставок, и он получал огромные деньги. Потом, уже в Москве, мы с ним устраивали выступления на паритетных началах. Перед каждой поездкой за рубеж он давал прощальные вечера, а по возвращении — приветственные, с рассказом о том, что видел за границей. Мы с ним работали так: вычитали расходы — плату за аренду помещения, налог, затраты на рекламу, — а все остальное делили пополам. Последнее выступление для меня оказалось грустным. Перед очередной его поездкой была выпущена зазывная афиша, но два дня шел ливень, и люди не покупали билеты. Он под это выступление взял у меня какие-то деньги. А тут выяснилось, что у нас не хватает средств заплатить даже за аренду помещения. И мне пришлось самому возместить все затраты. Маяковский часто приходил в качестве зрителя на вечера, которые я устраивал. К примеру, где-то в конце 20-х в Большом зале консерватории я проводил вечер современного европейского танца. Он присутствовал на нем и потом благодарил с трибуны танцевальные пары. Иногда он звонил мне с какой-нибудь просьбой: что-то достать, чем-то помочь. Я часто бывал у Маяковского дома, в проезде Серова, в той комнате, в которой он покончил с собой.Луначарский
Когда я жил в Тбилиси, ко мне там очень хорошо относился нарком просвещения Грузии Канделаки. Однажды Канделаки вызывает меня и спрашивает, не хочу ли я поработать с Луначарским. Он тогда находился в Боржоми, и у него был месяц свободного времени, чтобы поездить со своими лекциями. Я согласился. Мы объехали с ним все Закавказье. Луначарский переезжал из города в город в салоне-вагоне. Везде его встречали триумфально. В день приезда отменялись занятия в школах. Сначала он отправлялся на какой-нибудь завод и делал доклад о международном положении, а вечером читал лекцию. Он был очень образованный человек. Мог говорить на любую тему. Мы снимали самые большие залы. В Грозном он вообще выступал под открытым небом — там сгруппировали скамейки со всего парка. Пара лекций была сорвана, Один раз он попал в объятия к Собинову, Неждановой и Голованову. Они выпили, и он был не в состоянии выйти к аудитории. Второй случай связан с Канделаки. В Тбилиси публика уже заполнила зрительный зал, а Луначарского нет. Звоню на вокзал — он жил в своем салоне-вагоне — мне говорят, ищите его у Канделаки. Прибегаю к тому домой и вижу, что Луначарский спит совершенно пьяный. Мне пришлось вернуться в зал, объявить зрителям, что Луначарский болен, и возвратить деньги за билеты. Организация выступлений Луначарского — это был самый крупный заработок в моей жизни. Когда я вернулся в 1928 году в Москву, мы продолжали сотрудничать и ездили с ним по регионам. Луначарский мне очень доверял. Уже сразу после знакомства он дал мне стопку пустых бланков со своей подписью.Чехов
Я хочу вернуться к фигуре Михаила Александровича Чехова. Он был гениальным актером. Чехов — мое самое сильное впечатление от актерской игры. Я не пропускал ни одного спектакля «Ревизор», в котором он играл Хлестакова. Пользовался тем, что меня в Художественный театр пропускали бесплатно, и сидел на ступеньках третьего яруса. Я приходил ко второму акту и уходил после четвертого — смотрел только те сцены, в которых был занят Чехов. Каждый раз он импровизировал. Я видел его почти во всех ролях. Потом пытался ходить на спектакль «Ревизор» в другие театры — и после первого акта уходил. Меня все раздражало. Сейчас ведь стремятся к новаторству, накручивают чего-то. Прошло уже столько лет, а Чехов остался у меня в памяти во всех ролях. Я не раз бывал у него дома. Михаил Александрович оказался свидетелем того, как Вахтангов приглашал меня стать актером. 14 он меня даже уговаривал. Но я, слава Богу, этого избежал.«ГЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КОНТАКТА»
Сохранились воспоминания известных актеров, режиссеров, писателей о папе и о Доме актера прежних лет. Некоторые рассказы ценны еще тем, что самих рассказчиков уже нет с нами.В 1991 году отмечалось 90-летие Александра Эскина в доме-музее Марии Николаевны Ермоловой. Выяснилось, что папа в течение нескольких лет добивался в разных властных структурах решения о создании музея Ермоловой — в общем, стоял у его истоков. В 91-м сгоревший Дом актера еще не получил нового здания, и мы устроили вечер в помещении музея. Там с трудом разместились все, кто пришел вспомнить папу. А спустя 10 лет столетие отмечали уже в Доме на Арбате. Оба вечера записаны на пленку.
Борис Поюровский, критик: — Я хочу прочитать отрывок из письма актрисы Ксаны Бассен. «Когда праздновали 75-летие Александра Моисеевича, я находилась в больнице и очень переживала, что не могу быть на этом торжестве. Лежу в постели, пишу поздравление Александру Моисеевичу — вдруг открывается дверь палаты и красивый, в парадном костюме, с болгарскими розами входит Александр Моисеевич. Полуплача, я стала причитать: „Зачем же вы пришли в такой день, в свой юбилей?“ А он начал меня успокаивать: „Не волнуйтесь, врачи запретили вам волноваться. Я просто хотел вас навестить“». В этом был весь Александр Моисеевич. Я думаю, многие из нас могут вспомнить подобные моменты в своей жизни. Александр Моисеевич обладал удивительной способностью оказывать внимание каждому.
Владимир Этуш, актер; — Хоть он был сильно потерт жизнью, все же оставался очень наивным человеком. Этот наив также был свойствен вечерам в Доме актера, на которые собирались все знаменитости. И чем он их занимал? Они вставали на стульчики — и кто дальше прыгнет или кто съест быстрее кашу. Сейчас будут актеры есть на скорость кашу? Не будут. А он умел увлечь даже этим.
Евгения Фарманянц, балерина: — Я знала Александра Моисеевича с 1939 года. Тогда прошел Первый Всесоюзный молодежный смотр балета. Я получила первую премию, и нас пригласили в Дом актера, о котором я ничего не слышала. Там меня встретил Эскин и сказал: «Женечка, я очень рад вас видеть. Мы пойдем сейчас в ресторан, и вы будете сидеть за столом с Асафом Михайловичем Мессерером и Екатериной Васильевной Гельцер». Я и представить себе такого не могла. Мы общались, Гельцер рассказывала много историй, а потом обратилась к Эскину: «Александр Моисеевич, разрешите мне этой молодой балерине дать три заповеди. Первая: балерина никогда не должна пить вино, только водку — она не действует на связки. Вторая: никогда не одевайся в „Мосторге“ — только в Париже. И третья — запомни ее на всю жизнь: о тебе должны говорить всегда, что бы ни говорили — хорошее или плохое. Не говорят — значит, тебя нет». Потом я постоянно бывала в Доме актера. Этот Дом нас создавал, он формировал наше мышление.
Александр Свободин, критик: — Как определить сущность Александра Моисеевича? Мне кажется, он был гением человеческого контакта. И другого такого гения я не встречал. Кроме того, Александр Моисеевич воплощал формулу, выведенную Уинстоном Черчиллем: «Надо очень серьезно относиться к своему делу, но не слишком серьезно — к самому себе». Мы все время встречаем людей, которые путают эти два положения. Александр Моисеевич не путал. Мне посчастливилось помочь ему сделать книгу о Доме актера. И именно благодаря его рассказам, а не текстам научных изданий, я знаю историю театра. Театр — это игра. И в характере Александра Моисеевича был позыв к игре, готовность к ней. Однажды, накануне его дня рождения, Шура Ширвиндт предложил Ростиславу Яновичу Плятту и мне поздравить Эскина необычным образом. Шура сказал: «Надо быть первыми в этот день — приехать к нему в пять утра». Я не спал практически всю ночь. На рассвете поехали с Шурой на Тишинский рынок, купили какие-то веники в подарок, заехали к Плятту. Договорились, кто что скажет: один — «Милиция», другой — «Откройте дверь», третий — «Именем закона»… Но Александр Моисеевич нас переиграл. Мы позвонили в начале шестого утра, дверь распахнулась, и он стоял в парадном костюме, в белой рубашке, а в комнате был накрыт стол И Эскин произнес: «Прошу к столу».
Владимир Канделаки, артист оперетты: — Никто не мог произнести слово «нет» в ответ на просьбу Александра Моисеевича. Если актер был занят в репертуаре, он менялся с дублером, просил режиссера отпустить. Помню, как ансамбль «Джаз-гол» из актеров нашего театра с трудом вырвался на гастроли в Тулу. И вдруг на третий день — звонок Эскина: «Немедленно приезжай, будет такой-то вечер». А в Туле уже проданы билеты на наши концерты. Мы что-то приврали, сказали, что Немирович-Данченко нас зовет. В общем, вернулись в Москву и выступили в Доме актера.
Александр Белинский, режиссер, создатель ленинградских «капустников»: — Многими счастливыми днями и годами моей жизни я обязан только Александру Моисеевичу. Я считал его своим вторым отцом. Один раз он вдруг перестал со мной здороваться. В полном отчаянии я побежал к нему выяснять, что случилось. Он с горечью произнес: «Как вам не стыдно? Вы с вокзала сначала заехали к Менакеру и только потом пришли ко мне». И я бесконечно долго извинялся. Мы ездили из Ленинграда выступать в Дом актера каждый год. И самая большая гордость моей жизни, когда на одном из наших «капустников» в переполненном зале Лемешев и Козловский вдвоем сидели на одном стуле.
Мария Миронова, актриса: — У меня с Александром Моисеевичем были особые отношения. Мы жили через дорогу, на Петровке. Он как-то позвонил: «Говорит Онегин, ваш сосед». С тех пор он был для меня Женя, а я для него — Таня. Мы так и называли друг друга: «Алло, это Женя? Это Таня говорит». Я очень часто днем заходила в Дом актера, и в какой бы день я ни зашла, там всегда сидели Менакер и Утесов. Александр Семенович днем на минуточку куда-то уходил из дома. И я знала, куда он шел «на минуточку». Александр Моисеевич был удивительным человеком. Он был человеком для людей.
Рубен Симонов, актер, режиссер: — У Плутарха есть сочинение «Сравнительные жизнеописания»: человек описывается сравнительно с кем-то. Я не могу представить себе Александра Моисеевича вне других людей. Александр Моисеевич — Яблочкина. Александр Моисеевич — Остужев. Александр Моисеевич — Качалов. Александр Моисеевич — Утесов. В моих воспоминаниях он связан с актерами. Тарханов и его сын читают в Доме актера «Булочника». Будучи за кулисами нормальным человеком, на сцене Тарханов вдруг резко изменяется — его лицо все съеживается. После выступления я бегу за кулисы и вижу опять совершенно нормального Тарханова. Спрашиваю Эскина: «Как он это делает?» Александр Моисеевич отвечает: «Это старый номер провинциальных артистов. Они вставную челюсть вынимают. И лицо становится с кулачок. А вам, неопытным ребятам, кажется, что это образ». Случай с Александрой Александровной Яблочкиной. Готовилось ее выступление. Александр Моисеевич очень волновался и постоянно повторял: «Лишь бы только что-нибудь не сморозила». Время было сложное. Яблочкиной написали доклад аршинными буквами, она взяла лорнет и безупречно прочла текст. Эскин, сидевший рядом со мной в зале, тихонько произнес: «Господи, кажется, пронесло». И вдруг в конце Александра Александровна гордо встала, как Жанна д’Арк, и крикнула с предельным темпераментом: «Да здравствует, — тут Эскин схватился за голову, — наше родное партийное бюро и наше славное коммунистическое, — Эскин просто замер, — управление!» Когда-то существовала старая студийная традиция: актеры приходили в театр, даже если у них не было репетиций. К Александру Моисеевичу в Дом актера шли люди, не занятые в концерте. Шли, чтобы поговорить, пошутить. Шли в качестве зрителей на знаменитые вечера. И если сегодня каждый из нас вспомнит свои сильнейшие впечатления от искусства, то выяснится, что это впечатления от увиденного на сцене Дома актера.
Григорий Горин, писатель: — Нас с Аркановым подобрал Ширвиндт в ресторане ВТО. Мы тогда писали для ЦДРИ. И Шура сказал, что надо немедленно переходить в ВТО. Мы спросили, почему. Шура ответил: «Потому что там Эскин». Мы поднялись наверх. Шура представил нас Александру Моисеевичу и пояснил: «Вот эти ребята напишут „капустник“. Напишете?» Мы сказали: «Попробуем». И Шура произнес замечательную фразу: «Но так, чтобы Эскина уволили». И Александр Моисеевич сказал: «Пожалуйста, я вас очень об этом прошу». Он, кстати, был близок к истине. Тогда прошел XX съезд, мы раскрепостились. Первый «капустник» был действительно страшный, мы обидели всех, включая Михаила Ивановича Жарова. Он встал и пошел через зал к выходу. Я посмотрел на Эскина. Он был мрачный, но высидел до конца. И я понял, что капитан — он. Он не ушел с этого корабля. Александр Моисеевич позвонил мне после всех вызовов его в инстанции и сказал: «Григорий Израилевич, большое вам спасибо». И я понял, что этот человек берет меня навсегда. Я сегодня попытался представить, как я сказал бы какому-нибудь иностранцу, что иду на вечер памяти Александра Эскина. — А кто это был? — спросил бы он. — Директор-распорядитель Дома актера, — ответил бы я. — То есть менеджер? — уточнил бы он. — Нет, не менеджер. — Импресарио? — Нет, не импресарио. — Просто директор-администратор? — Нет, не просто. И я понял: то, чем занимался Александр Моисеевич, — непереводимо. Я начал вспоминать, не говорил ли Эскин сам про себя. И вспомнил один случай, свидетелем которого я оказался. Александр Моисеевич сидел в кресле в своем кабинете, и тут вошли несколько актеров, вернувшихся из ЦК партии, куда они ходили с каким-то прошением. Актеры говорили Александру Моисеевичу: «Вы понимаете, эти люди — и показывали наверх, — это шпана. Просто шпана». Александр Моисеевич, который не был очень смелым человеком (не будем приписывать ему ненужные добродетели), боясь прослушивания, все-таки снял с аппарата телефонную трубку, но кивал. Когда они ушли, я сказал, что они правы: в ЦК, в общем-то, шпана. И вдруг он говорит: «Конечно, шпана. По большому счету, актеры — тоже шпана, но талантливая. А та шпана — бездарная. А я — буфер — между этой шпаной и той». Он абсолютно точно сказал. Вся его жизнь была направлена на то, чтобы самортизировать нас с той большой шпаной. И если его предок Моисей вывел народ к свободе, потому что знал, что сорок лет можно вести, но потом все-таки откроется свободная земля, то потомок Моисея — Александр, понимал, что этой свободной земли у нас нет. Он нас водил по кругу — до той поры, пока мы не стали чувствовать себя свободными людьми здесь, в его Доме. Почему к нему ходили люди, почему приятно было сидеть у него? Ощущение свободы было с самого начала. Например, можно было не снимать пальто. Лучше, конечно, снять. Но если поднимешься, можно пальто положить наверху. Можно было говорить на любую тему. Можно было сидеть по ночам. Можно было попросить выпить — даже в самые трудные времена. Кстати, в один из таких моментов я видел его грустным. Тогда, перед Новым годом, отменили праздники в связи с борьбой с алкоголизмом. Эскин уже болел, приходил в кабинет усталый, но все равно никому не разрешал рассаживать знаменитых людей в новогоднюю ночь за столики. Он сам брал карандаш и чертил. И когда я вошел, он, показывая мне схему, сказал: «Я их рассадил, посмотри. Так складно расселись все — и отменилось». Я заметил ему: «Ну и ладно — не придется вам нервничать, волноваться». И тогда он грустно произнес: «А чем я тогда буду заниматься? Это у меня профессия такая — устраивать все и волноваться». И я понял, что он второй раз сформулировал свою должность.
Александр Ширвиндт, актер: — Это было счастливое время. Я на империю зла зла не таю. Мы в малой империи Шуры жили счастливо. Он не хотел знать, чем мы занимаемся. Мы ему читали тексты, он не обращал внимания. Он смотрел на нас влюбленно и произносил: «Может, коньячку?» Когда приезжал какой-нибудь Сартр и говорил: «У вас застенок». — «У нас?» — переспрашивали его и вели на 5-й этаж Дома актера, где мы несли бог знает что (по тем временам). Это была разрешенная крамола для 300 человек и Сартра.
Зиновий Паперный, писатель, критик: — Я был выведен под уздцы из рядов КПСС После этого стал получать рукописи из всех редакций с ответом, что, к сожалению, напечатать ничего не могут. И уже было ощущение, что меня не существует. И вдруг звонит Александр Моисеевич и приглашает зайти. Прихожу. Он говорит: «Вам надо отдохнуть. Идите в бухгалтерию, поедете в „Рузу“». В бухгалтерии выясняется, что платить мне практически ничего не нужно — такую скидку дал Эскин. Приезжаю в Рузу, и оказывается, что Александр Моисеевич отвел мне коттедж, в котором до меня жил Царев. Ничего не понимая, я пошел в столовую и увидел того самого секретаря, который исключал меня из партии. То есть Александр Моисеевич создал совершенно парадоксальную ситуацию: исключавший меня босс жил в каком-то скромном номере, а исключенный им и превращенный в ничто жил, как Царев. Это мог сделать только Александр Моисеевич.
Михаил Жванецкий, писатель: — Это был лучший Дом в Москве. Помню, зашел в Дом писателей (после того, как меня приняли в Союз), а там в туалет ведет кровь… Самая настоящая, человеческая. Какие-то братья били морду другим братьям. Тот писатель — этому. Я подумал: о чем они пишут, что так сатанеют? Почему писатели, собравшиеся вместе, худшая компания в мире? Я помню, когда первый раз там выступал, как светлели лица у братьев-писателей. Они говорили: «Это не литература. Это эстрада». Видимо, у них было понятие о том, что такое литература, и кровь из туалета об этом свидетельствовала. И существовал Дом актера. Сколько в нем было нежного: Боже мой, какие красивые женщины! И компания актеров — самая доброжелательная. Я же трус по натуре. Я просто из-под крыла Райкина перебрался под крыло к Эскину и к актерам, которые собирались в этом Доме. Они всегда так кричали «браво» и так поддерживали, просто разрывались на куски. И все брал на себя Александр Моисеевич, когда мы это все у него читали.
Закончить воспоминания я хотела бы замечательным монологом Михаила Жванецкого, написанным к 75-летию папы.
Александру Моисеевичу Эскину Что по понятиям моим, механика Одесского порта, может быть лучезарней, чем директор Дома актера посредине Москвы?.. Только директор санатория посредине Сочи! Боже мой, разговаривать со всеми актерами, шикарно спускаться в ресторан, проходить между рядами склоненных официантов, шикарно входить в библиотеку, проводить пальцем по корешкам любимых книг. Внезапно войти в бухгалтерию и распечь вскочивших. Провести платком по подоконнику и жестом подозвать уборщицу… А в Новый год! Ослепительное собрание звезд. И проходить сквозь звезды, и отвечать сквозь зубы: «Вас также… Вас также. И вас также». Нет. Что ты, Эскин, есть работы похуже. А если твоя жизнь покажется тебе обыкновенной, то спроси меня по фамилии Выходец из Одессы со Старопортофранковской, 133, там, где у нас живет портной, и там, где ему тоже семьдесят пять. Войди к нему и посмотри, как он засуетится, как он закроет дверь в кухню и комнату и будет говорить с тобой в прихожей, только чтобы ты не видел, хотя ему тоже нет равных. Нет, что ты, Эскин, это же надо быть посредине Москвы, директором в этом Доме и прожить жизнь, длинную и полосатую, как шлагбаум. И вот в такой счастливой жизни это же надо… Это же надо чего-то хотеть, когда никто нигде ничего не хочет?! Это же надо чего-то делать, когда повсюду гремит клич: «Зачисляйся к нам — у нас ничего не надо делать». Это же надо рисковать, когда никто нигде ни с кем не рискует! Это же надо помешивать ложкой в мозгах, вызывая со дна пузыри! Да на черта тебе, старый ты, мудрый ты змей. Чего ты устраиваешь вечера памяти Адриенны и Галины и будоражишь в нас совесть и память? Видишь, в других местах и сап, и храп, и чьи-то носки так чудно пахнут, и едут все куда-то. И не мешай ты им ехать… Как ты вообще сохранился? Где ты родился? Где ты ночуешь? В какую поликлинику ходишь?.. Ты что, на «разрешите» ответишь «пожалуйста»?! Нет, ты должен делать невозможное. Лечиться у лучших, глотать все, что есть нового, бегать, тренироваться и жить бесконечно, хотя бы потому, что без тебя здесь будет так плохо, здесь все так развалится, когда придет молодой и крепкий с высшим, душу его на столб, гуманитарным, как раз по этому профилю и точно с этим образованием и даже с опытом работы с людями. Держись за это место. Мы все тебе будем помогать держаться. В твоем кабинете господь бог произвел точное попадание человека на стул, что в последнее время ему уже стало редко удаваться. Никто из нас не виноват, что тебе крюкнуло семьдесят пять, но, честное слово, в сорок ты бы таким не был. Это соединение мудрости и служебной настырности. Это владение двумя языками. Один для разговора вверх, другой вниз. Это когда уже понимаешь то, что понять нельзя. Это когда видишь невежество и понимаешь его. Это когда видишь, как двигает асфальт молодой гений, и чувствуешь, чем он кончит. Это когда видишь, как будущее ходит рядом с настоящим и они не узнают друг друга. Это семьдесят пять… Это семьдесят пять… Может быть, тебе и не страшно умереть. Это страшно нам. Потому что кого мы будем показывать своим детям и когда они еще увидят настоящего интеллигента?! В Белую книгу записаны белые журавли. Их осталось мало. Сберечь хотя бы парочку.
МОЯ ЖИЗНЬ
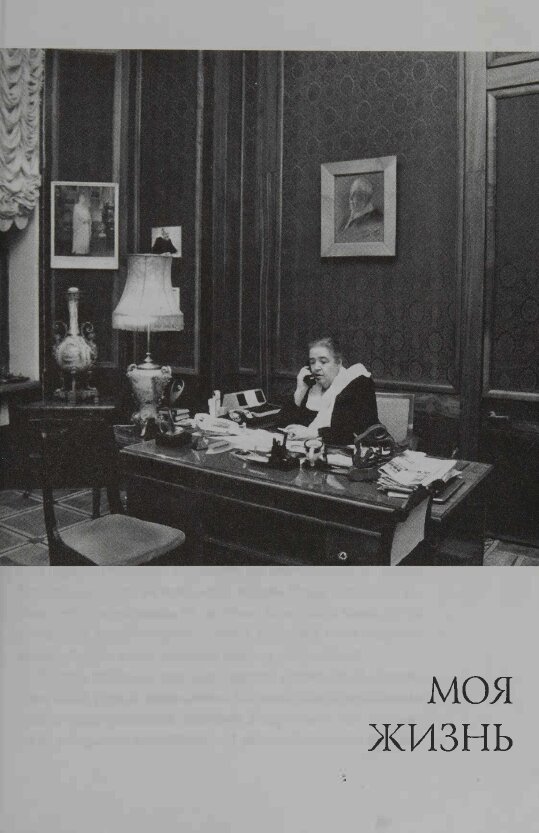
Если бы я сейчас у вспоминая жизнь, графически изобразила бы ее, то получилась бы странная картина, не соответствующая реальности: длинные-длинные линии и несколько точек между ними.
Линии означали бы на этом рисунке периоды счастья. Иногда они взмывали бы вверх, отражая моменты любви. Таких моментов было очень мало, и длились они недолго. Но те минуты настолько значительны, что создается впечатление, будто это продолжалось годы. Несколько точек между линиями — периоды несчастий и даже трагедий. И хоть несчастья быстро не кончались и трагедии тянулись годами, с течением времени (опять же вопреки реальности) возникло ощущение, что это были лишь минуты. Первую трагедию я оценить по-настоящему не могла. Но она сказалась на всей моей жизни. Когда мне было восемь лет, умерла мама. Ее не стало через пять часов после рождения моей сестренки Зины. Конечно, папа старался заменить нам ее, но все-таки мамы у нас не было. Вторая трагедия случилась спустя много лет. Я вынуждена была уйти с телевидения. Без него я не представляла своего существования, поэтому в сорок лет мне показалось, что жизнь закончилась. И только благодаря произошедшим в стране изменениям я смогла прожить еще одну жизнь после телевидения — в Доме актера, Там в 1990 году случилась следующая моя трагедия — пожар. Сгорел дом, судьба которого переплетена с моей — с самого детства. Дом, который вверили мне после смерти папы. Дом, в котором я к тому времени проработала уже три года, сумев, как мне кажется, доказать, что продолжаю дело отца. Пожар — это не просто уничтожение чего-то твоего, родного. Пожар — это финал части жизни. Мне — 57. Понятно, что с работой закончено и пора заняться внуками. Но, как это ни страшно звучит, именно пожар дал мне возможность заново создать Дом актера. Уже на новом месте — на Арбате. Сохранив все, чем славился Дом при отце. Пожар был трагедией, которой могло хватить на всю жизнь. Но он оказался не последним моим испытанием. Узнав, что у меня рак, я уже не спрашивала себя, как раньше, — за что мне это? Я стала иначе смотреть на мир и понимала: каждому отпущено все сполна. Прошло уже несколько лет после операции, я постоянно должна быть начеку. Но работаю я не меньше, чем прежде, голова наполнена разными «революционными» идеями, которых ужасно боятся в Доме актера. И только больные ноги не могут поспевать за моими планами. Наверное, смешно и даже нахально звучит, но я вспоминаю Рузвельта, сидевшего в инвалидной коляске, — ив таком состоянии можно работать. Когда я раньше говорила, что рождена для счастья, и возмущалась любой мало-мальской преградой на моем пути, мудрая младшая сестра Зина возражала: «Что за глупости? Никто не рожден для счастья, такого не бывает». Думаю, испытания, выпавшие на мою долю (а выпадали они равномерно — через какое-то количество счастливых лет), позволили мне проверить себя, и, пережив минуты отчаяния, поверить в себя.
ДЕТСТВО
Детских воспоминаний немного. Может, потому, что активно существую в «сейчас» и нет свободных клеточек для памяти. А может, дело в другом: я была такая послушная, тихая и безупречная, что и рассказать о себе особенно нечего.Дома на Арбате, где я родилась, уже нет. Это была трехэтажная развалюха. На последнем этаже располагалась 5-комнатная квартира. Мы с папой и мамой жили в двух смежных, довольно больших, комнатах. Родители были удивительно красивыми. И отношения между ними были красивыми. Друг к другу они обращались на «Вы»: «Зиночка, Вы…», «Шурочка, Вы…». Маму помню плохо. Это и понятно: ее не стало, когда мне было меньше восьми лет. Она — из русской семьи. Работала балериной в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, потом танцевала на эстраде. А закончив выступать, вела кружок модного в то время бального танца. По хозяйству нам помогала домработница Нюра. Запомнилось, как мама очень деликатно объясняла Нюре, что нужно обязательно чистить зубы. «Да я же чищу!» — возражала Нюра. «И где ваша щетка?» — удивленно спрашивала мама. На что Нюра невозмутимо отвечала: «Так я же вашей!» Из-за войны в ноябре 41-го мы покинули Москву. Был сформирован железнодорожный состав для актеров разных московских театров и их семей. В этом составе вместе с Театром Ленинского комсомола мы отправились в эвакуацию. Ехали в международном вагоне — ни до, ни после я в таком не ездила. До Ферганы добирались почти месяц. По дороге какие-то вагоны отцепляли — театры оставались в разных городах. Под Москвой вдоль пути стояли зенитки, а в самом поезде, как ни странно, продолжалась мирная жизнь, и ехавшая в соседнем купе костюмерша Аделя Павловна занималась со мной французским. В Фергане московская труппа стала играть спектакли по очереди с узбекской. Поселили нас в здании театра. Комнаты, в которых мы жили, до нашего приезда, очевидно, были гримерными. Каждое утро мама, несмотря на то что должна была вот-вот родить, проводила с актерами зарядку. Как сейчас вижу ее, идущую по фойе театра в беличьей шубке, Шубка уже потрепанная, но на плечах очень красивой мамы смотрится элегантно. Последний мой день рождения, который я отпраздновала с мамой, — 22 декабря 1941 года. Помню ее счастливое смеющееся лицо. На столе стоял необыкновенный разноцветный торт — как потом выяснилось, из ненавистной мне манной каши.
* * *
В Фергане — теплынь. Дивные розы на улицах. Очень добрый и гостеприимный народ. Во дворах — широкие деревянные кровати под пологом, а в комнатах — одеяла и подушки до потолка. Голову моют простоквашей. Жгуче-черные волосы заплетают в бесчисленное количество косичек. Но с бытом я столкнулась, когда уже не стало мамы. Ранним утром 14 марта 1942 года ко мне на кровать присел папа и сказал: «Маргуленька, у тебя родилась сестренка». Какие чувства вызвала во мне эта новость, не помню. Папа повел меня в роддом. Он вошел в здание и потом появился уже с каким-то «перевернутым» лицом. Мы возвратились домой. А на следующее утро я услышала, как папа с соседями обсуждал, «сказать Маргуле или не говорить?» Память запечатлела фойе театра, гроб с телом мамы и папу, повисшего на чьих-то руках… День рождения моей любимой сестренки совпал с днем смерти мамы. Актриса Театра имени Ленинского комсомола Тамара Хижнякова сочинила стихи, строчки из которых высечены на мамином памятнике: «Приветливая, светлая, Простая и любимая, Тебя мы будем в памяти Всегда хранить такой. И пусть чинары стройные Под синим небом Азии, Как ты, всегда спокойные, Твой берегут покой». В марте 1942 года папа написал письмо Соломону Михайловичу Михоэлсу. Это письмо я прочитала много лет спустя — после смерти уже не только мамы, но и папы.«Дорогой и любимый Соломон Михайлович! В дни, когда на меня обрушилось страшное несчастье, я не могу не обратиться за моральной помощью и поддержкой к Вам — к человеку, которого я горячо люблю, беспредельно уважаю и считаю своим, старшим другом и товарищем. 14 марта я потерял свою любимую жену Зиночку. Роды на рассвете этого дня прошли вполне благополучно. Операция после них — удаление последа — была сделана хорошо. А в 10 часов 10 минут утра, жена внезапно умерла от кровоизлияния в мозг. Вскрытие показало, что у нее была больная печень (но без внешних симптомов) и. беременность была ей противопоказана. В результате ребенок — девочка Зиночка — достался слишком дорогой ценой. Несмотря на исключительное отношение всего коллектива, и особенно Ивана Николаевича, Софьи Владимировны и Серафимы Германовны, несмотря, на ласку и заботу окружающих, мне так невыразимо тяжело, так мучительно. Мне хочется услышать от. Вас слова утешения и ободрения, без которых невозможно пережить эту катастрофу. Вы Зиночку знали немного, но, думаю, она оставила о себе светлое воспоминание. Она к Вам относилась так же, как я. Потеря ее для меня — страшный и непоправимый удар. Нет человека, с которым я прожил неразлучно 12 лет. Она была мне не только любимой женой, матерью моей любимой дочери — она была настоящим другом. И остался я теперь один с двумя дочками. Не могу осознать происшедшее. Страшно поверить в него. Простите, что изливаю Вам свою душу. Простите, что часто беспокою Вас своими несчастьями. Но мое отношение к Вам дает мне на это право. Горячо целую Вас и Анастасию Павловну. Любящий Вас Эскин».
* * *
Когда папа решился взять из роддома Зиночку, я была счастлива. А он пришел, положил ее на тахту, сел и закрыл лицо руками. Но всегда деятельный папа не мог долго страдать. Он нашел женщину, на несколько дней раньше мамы родившую сына, договорился, что она будет кормить Зину. А сам (ему такие поступки были свойственны) взял на себя ответственность и за эту семью: Зинину молочную маму, ее сестру и двоих детей — 9-летнюю Аллу и младенца Жорика. Бывало, мы с Аллой съедали часть детского питания, которое выдавали для малышей. Нам не хватало столовского супа «затирухи» (думаю, это была вода, заправленная мукой, — но вкусно!). Весь театр помогал папе воспитывать меня. Театральный плотник смастерил из неокрашенных досок кроватку для двух младенцев. Ее ставили в парке на скамейку, а мы с Аллой «хозяйничали». Вечером, укачивая Зину, я бродила по театральному фойе, заглядывала в зал. Спектакли смотрела по сто раз. Саму меня никогда не тянуло на сцену. Мешали зажатость и стеснительность. Но в эвакуации я играла с Софьей Гиацинтовой и Иваном Берсеневым в «Норе» Ибсена. В Москве эту роль исполнял мальчик — Сева Ларионов. А в Фергане взяли меня. На первых порах помогала мама. Когда ее не стало, кто-нибудь из актрис заплетал мои волосы в толстые косы и делал из них корзиночку, укладывая ее близко к лицу. Прическа мне очень нравилась. После того как мы вернулись в Москву, я сыграла в спектакле всего несколько раз. Потом мудрый папа решил, что не стоит мне увлекаться театром. И я абсолютно спокойно перестала играть. Сцену я полюбила только лет в шестьдесят.* * *
Серафима Бирман, Иван Берсенев и Софья Гиацинтова помогли папе после смерти мамы, когда он решил вызвать из Москвы в Фергану бабу Ирину. Ирина Адольфовна Аусберг была очень близким нашей семье человеком. Моя мама, очевидно, предчувствуя свою смерть, писала ей: «Дорогая Иринчик, если со мной что-то случится, надеюсь, ты поможешь воспитать Маргулю». Мама и не подозревала, что, кроме Маргули, надо будет еще воспитывать маленькую Зину. Баба Ирина приехала в Фергану со своим мужем дядей Эдей. Они были прибалтийскими немцами, и, чтобы им разрешили во время войны отправиться в Фергану, надо было приложить немало усилий. Поручителями за бабу Ирину и ее мужа как раз выступили знаменитые актеры. Баба Ирина — это отдельная страничка. В 18 лет она приехала в Россию и работала бонной в большой русской семье Мануйловых, в которой было 8 детей. Старшим она быстро стала подругой. С этой семьей баба Ирина на всю жизнь сохранила дружеские отношения. Мы часто бывали на мануйловской даче в Отдыхе. Там, на террасе, накрывался огромный стол, за который садились все — и домашние, и гости. Наверное, с тех пор я обожаю, когда в доме много народа и все вместе сидят за столом. К сожалению, в этом все меньше испытывают потребность мои дети и внуки…* * *
Из Ферганы мы уехали еще во время войны — в 43-м. В дорогу гостеприимные узбеки дали нам мешки с грецкими орехами. Мы, дети, в поезде продырявили эти мешки и тихонько таскали из них орехи. Приехав в Москву, я впервые пошла в школу. А папа начал работать заместителем директора в Театре Ленинского комсомола. На Арбате жить почему-то было нельзя, и мы поселились на улице Немировича-Данченко в доме, который называли Бахрушинским. Мы жили в бельэтаже, но достаточно высоко. Квартира состояла из пяти или шести комнат, одна из них принадлежала папиной маме, бабушке Саре. И вот в этой 29-метровой комнате жили: папа, бабушка Сара, которую папа тоже вызывал в Фергану, сестренка Зина, я, баба Ирина с мужем, помогавшая нам по хозяйству женщина и завхоз театра. Я спала на металлической кровати. Это была сетка, установленная на четырех кирпичах. Сначала ее поставили на восемь — по два друг на друга, но испугались, что кровать окажется неустойчивой, и оставили четыре. В этой, я бы сказала, очень коммунальной квартире помимо комнат были огромный коридор, ванная и кухня. Рядом с газовой плитой на кухне висела записная книжечка и на такой же привязи болтался карандашик. Каждый записывал, когда включил газ и когда выключил. И никому в голову не приходило заподозрить, что кто-то указал меньшее время. Думаю, наше семейство было наиболее интеллигентным. При этом папа считал, что выйти в трусах (а какие тогда шили семейные трусы, известно) — вовсе не зазорно. Бабушка стыдила его, но он отвечал, что находится в своей квартире. У папы было ужасно неспортивное и бледное тело. Даже на курорте, на взморье, куда вывозили нас с Зиной, он ходил в пиджаке. Поскольку ванная в квартире была общей, то мылись там все жильцы. Ирине Адольфовне, по-немецки чистоплотной, казалось невозможным купать нас в ванне, которой пользуются еще человек пятнадцать-двадцать. Поэтому она водила нас в соседний дом — Дом артиста. Это актерский кооператив, где жили мхатовцы. Там же была квартира у театрального администратора Леонида Салая и его красавицы-жены Наташи. Дядя Леня знал все наши сложности — в эвакуации мы оказались вместе. Своих детей они не имели, поэтому Наташа занималась нами. Баба Ирина приводила нас мыться в их роскошную квартиру.* * *
У нас была веселая семья. Бабушка Сара обладала очень колоритным еврейским характером. Любила рассказывать анекдоты. Произносила первые слова: «Еврейский портной…», после чего начинала хохотать. Продолжение анекдота мы никогда не слышали. Фразы бабушки становились в семье афоризмами. Мы смеялись над ней: «Бабуль, ты же никогда не работала». Она возмущалась: «Я не работала?! Да я даже работала под носом у ЧК!» Это она продавала пирожки на Лубянке. Жили весело, но бедно. Туфли покупались одни на год. Папе приходилось трудно. Получал он немного, поэтому подрабатывал — возил актеров на гастроли. А еще мы с ним заворачивали книги для ВТО (их потом отправляли почтой), что тоже приносило небольшие доходы. Я обожала воспитывать Зину. Пела ей песни (пела ужасно, но Зина, к счастью, этого не понимала). Бесконечно читала ей стихи. И в дальнейшем по части литературы сестра меня сильно обошла. Зина была невероятно трудным ребенком. С малых лет куда-то пропадала. Уже в три года самостоятельно отправилась на улицу Горького, и мы бегали искать ее. Когда Зина пошла в школу, в первый же день она собрала весь класс и повела детей обследовать здание — вплоть до чердака. Зину не раз пытались выгнать из школы. Идем мы однажды с папой по коридору к директору и слышим, как кто-то из учителей говорит: «Это папа и сестра Зины Эскиной. Посмотрите, какие приличные люди!» Из уважения к нашей приличности Зину оставляли в школе. Зина — невероятно талантлива, причем во всем. Она даже может починить электричество. Я всегда думала, что, если бы при моей энергии и моих возможностях такие таланты, я достигла бы страшных высот… В юности я носила медальон — в такие медальоны обычно помещали портрет любимого. Несмотря на то что любимый у меня уже был, в медальоне лежала прядь волос Зины. И я говорила, что Зина для меня — самый дорогой человек… Я резко повзрослела в 8-м классе. Стали заметны до того непроявлявшиеся лидерские задатки. Совершенно неожиданно меня избрали секретарем комитета комсомола школы. По тем временам — высокий пост. И как только я стала «общественной», очень многое в себе пришлось исправлять. Жизнь наказывала за двуличие, лицемерие, нежелание ни с кем ссориться. Началось болезненное обтесывание — думаю, крайне полезный процесс. Я считала, что стану знаменитым педагогом. Это подтверждала и моя работа в пионерском лагере. Один год я была вожатой, а следующий — уже старшей пионервожатой. Увлечь детей, стать руководителем не по должности, а фактически — это необъяснимое счастье. Нельзя забыть торжественную линейку, на которой построились 11 отрядов школьников — все в пионерской форме, а я стою на трибуне и принимаю рапорты. Уже тогда стало понятно: работа для меня интересней влюбленностей.


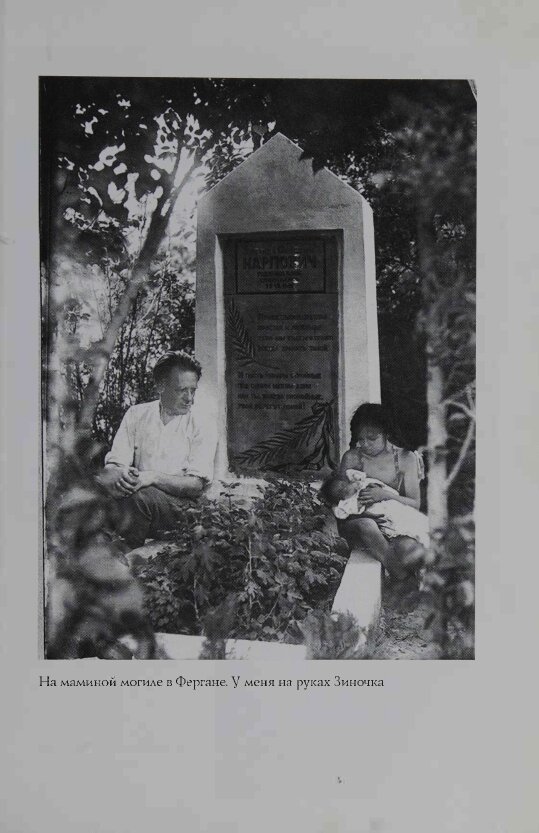



ГИТИС
Я пошла на театроведческий в ГИТИС, поскольку меня не приняли в Педагогический институт, о котором я мечтала. На похоронах моего школьного учителя Ивана Ивановича Зеленцова я произнесла речь от имени учеников и поклялась, что продолжу его дело. Но педагогом мне стать не удалось. И в этом не было моей вины.Я поступала в Педагогический институт на исторический факультет. На собеседовании руководитель факультета спросил: «Что у вас за фамилия — Эскина? Эстонская?» Я объяснила, что еврейская. Тогда он поинтересовался, на каком языке мы разговариваем дома. Мне это было смешно слышать — на идише у нас не говорила даже бабушка. Однажды папа повел меня на спектакль «Тевье-молочник» — с его другом Михоэлсом в главной роли. Я пыталась убедить его, что мы ничего не поймем. Тогда он уверенно заявил: «Я тебе буду все переводить». Во время спектакля папа каждую минуту спрашивал меня: «Что он сказал?» А я тогда занималась немецким языком и кое-что понимала из-за близости идиша и немецкого. Декан намекнул: лучше забрать документы. Директор моей школы Елена Хорохордина считала, что я создана для педагогики, и даже звонила в институт. Но из этой затеи ничего не вышло. И тогда я отправилась в ГИТИС. Не знаю, думала ли я о том, что мне легко будет поступить — ведь там знали папу. Экзамены сдала не блестяще: требовалось написать рецензию на спектакль, а пишу я плохо. Меня приняли на театроведческий факультет. Руководителем нашего курса стал лучший театральный критик страны — Павел Александрович Марков.
* * *
У нас преподавали замечательные профессора, известные сейчас по учебникам; Алексей Дживелегов, Александр Аникст, Стефан Мокульский, Григорий Бояджиев, Константин Локс. Они считались космополитами, и поэтому на какое-то время их отстранили от работы. Вернулись они в ГИТИС как раз в тот год, когда поступили мы. Александр Аникст читал спецкурс по Шекспиру, Стефан Мокульский — по Мольеру. Константин Локс преподавал нам зарубежную литературу. Он уже тогда был известен своими переводами. Лекции Локс читал странно: монотонным голосом, опустив глаза. Когда подошло время экзамена, мы были уверены, что никого из нас он не знает в лицо. И вдруг выясняется: он запомнил всех, причем даже по именам. И так же, не поднимая глаз, он перечислял: «Вы пропустили такую-то лекцию, а вы — такую-то». Самой колоритной фигурой был Алексей Карпович Дживелегов — армянин с итальянской внешностью. Его лекции начинались примерно так: «Когда мы с моей спутницей бродили по Венеции…» И дальше — об итальянском театре. Иногда он так увлекался рассказом, что студенты вынуждены были его прерывать: «Алексей Карпович, вы сейчас лекцию для какого курса читаете?» — «Для третьего». — «Так мы же еще на первом!» Ему тогда уже было за семьдесят. И он очень любил опереться на какую-нибудь студентку, чтобы дойти до аудитории. Помню, пятикурсники мне говорят: «Ты зачем его тащила?» — «Так ведь он ничего не видит». — «Да все он видит! Ему просто хочется обнять девчонку!» Историю музыки нам преподавала Вера Россихина. Мы должны были не только слушать произведения, но и исполнять их сами. Пели хором. Что-нибудь вроде «Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами…» Слова песен я знала наизусть, но мотив верно воспроизвести не могла и всех только сбивала. Однокурсники даже предлагали: «Давайте сложимся, купим Эскиной мороженое, чтобы она помолчала». Курс «Русский театр» преподавал Юрий Арсеньевич Дмитриев, человек легендарный, доктор искусствоведения, крупнейший специалист по цирку. Лекции он читал очень эмоционально, с большим напором. Читает-читает — и вдруг падает со стула. И, как будто ничего не случилось, продолжает лекцию, уже лежа под столом. Юрий Арсеньевич был очень оригинальным педагогом. Я отправлялась в пионерлагерь вожатой и попросила разрешения сдать экзамен досрочно. Он разрешил. Пришла, ответила, как мне показалось, хорошо. Открываю зачетку, а там — тройка. Пытаюсь протестовать, а он говорит: «Ничего, пересдашь». Я напоминаю ему, что должна уехать в лагерь. «Я к тебе туда приеду», — неожиданно произносит он. И действительно приехал и принимал у меня экзамен в лагере! Всех этих выдающихся преподавателей собрал в ГИТИСе Матвей Алексеевич Горбунов. Он был совсем не похож на ректора. Очень смешно говорил. Как-то попался ему в коридоре Борис Владимиров (будущий актер из знаменитого эстрадного дуэта — Авдотья Никитична и Вероника Маврикиевна), у которого уши были несколько оттопырены. Горбунов останавливает его и спрашивает: «Что у тебя с ушами? На ночь обязательно завязывай полотенцем». Или говорил студентам: «А режиссеры идут заниматься с Марией Осиповной Кнебелью». Мы и позже продолжали над ним смеяться, но уже признавали его заслуги: он создал замечательную атмосферу в институте. Все, что читали нам наши педагоги, не касалось политики и сиюминутной жизни. Они были выше этого.* * *
Мы практически не сидели дома; разрывались между ГИТИСом, общежитием на Трифоновке, в котором жили иногородние, и театрами. Спектаклей приходилось смотреть много. В том числе огромное количество несусветной ерунды — про рабочих и колхозников. Но были и замечательные постановки Театра имени Вахтангова с Рубеном Симоновым, Цецилией Мансуровой. Ходили мы в знаменитый, один из лучших тогда, Детский театр, в котором работали Мария Осиповна Кнебель, совсем еще молодой Анатолий Васильевич Эфрос и подающий большие надежды актер Олег Ефремов. Часто мы стояли у окошечка администратора и просились пройти внутрь. Нас пропускали на свободные места. Мы садились в партер, но нас гнали на бельэтаж, потом на первый ярус, на второй — какой только есть… Мы покорно перебирались наверх. Когда были просмотры спектаклей в Театре Вахтангова, мы перед началом собирались у входа, дожидались большого скопления людей и всем курсом — десять человек — напирали на впереди стоящих. После чего оказывались внутри. И не было нам нисколько стыдно. Сейчас меня в театрах встречают и ведут на хорошие места. Но мне с тех студенческих пор совсем неважно, где сидеть.* * *
Обычно я не пользовалась тем, что я дочь Эскина. Стеснялась. Но когда в Доме актера выступал Вертинский, туда с моей помощью нагло прорывался весь наш курс. После концерта мы ехали в Сокольники к моей самой близкой подруге Ире Жаровцевой и у нее дома опять слушали Вертинского — записи на пластинках и рентгеновских снимках. А то, чего не было на «костях» и что не входило в концертные программы, пел нам Эдик Евгенов, прекрасно знавший творчество Вертинского. Причем пел он только при условии, что мы заплатим за него комсомольские взносы. Прослушав все песни, мы могли начать сначала. Спать оставались у Иры. Рано утром вставала одна я, чтобы вовремя поспеть на лекцию. Из общежития на Трифоновке в институт приезжала Аля Аралбаева, которая обычно с нами не гуляла. И на лекции мы сидели вдвоем.* * *
На одном из курсов нам ввели предмет «Актерское мастерство». Хотя театроведам он был не очень-то и нужен. Я никогда не хотела стать актрисой. Но в то время я влюбилась в актера МХАТа Михаила Болдумана, который играл в «Платоне Кречете». И я больше всех кричала, что надо ставить именно эту пьесу. Хотела сыграть Лиду. «Платона Кречета» приняли к постановке, но мне досталась роль матери героя. Нужно было найти одежду, в которой я выглядела бы немолодой женщиной. Однокурсница Оля Пыжова принесла платье своей мамы, Ольги Ивановны, — синее в мелкий горошек. Когда я появилась на сцене, Ольга Ивановна, сидящая в зале, воскликнула: «Ой, она в моем платье!» Мы самозабвенно спорили о спектаклях. Вася Журавлев из Подмосковья считал, что я, в отличие от него, росла в аристократических условиях, и возмущался любым моим мнением: «Откуда ты знаешь жизнь? К тебе что, молочница приходит и рассказывает?» Мы, москвичи, тогда действительно жили несколько лучше наших иногородних однокурсников, у которых не было под боком родителей. Помню, как Толя Миляев, Володя Деревицкий и Олег Елисеев между лекциями шли в пустой буфет, брали кипяток и разводили в нем бульонные кубики.* * *
С продуктами в то время было плохо. Однажды на масленицу я, как главный повар, взялась испечь блины (это мы могли себе позволить). Но тогда в Москве пропало из продажи молоко. И нужно было проявить изворотливость ума. Я купила мороженое, растопила его и испекла блины. Единственный раз в жизни мы ели блины на мороженом! На наши посиделки мы часто приглашали педагогов — Павла Александровича Маркова, Константина Григорьевича Локса. Если Павел Александрович уезжал дня на три в Ленинград, мы шли встречать его на вокзал. К тому моменту у нас уже все стояло на столах, а он привозил ящичек копченой салаки. Меня назначали кашеваром, и когда мы ходили в походы по Подмосковью. Мы шли, пели «Дорогой длинною, да ночкой лунною…», останавливались на привал, разжигали костры. С собой брали тушенку. Ребята, честно скажем, воровали с огородов капусту и картошку, а я варила из всего этого смешанные блюда, которые нам казались очень вкусными. Ходили мы в одной и той же одежде — рукава подштопаем, бахрому подрежем — и нормально. При этом еще считали себя симпатичными. Мы с Ирой Жаровцевой начиная с 3-го курса получали повышенную стипендию (имени то ли Качалова, то ли Станиславского). Обычная составляла 240 рублей, а повышенная — 500–600 рублей. По тем временам — деньги немалые. Мне не надо было отдавать стипендию семье. И, поскольку на курсе жизнь была коллективной, деньги шли в общий котел. Но если нам с Ирой хотелось невероятной светской жизни, мы покупали самую дорогую колбасу из тех, что была нам доступна, — «Языковую», а также бакинское «Курабье», которое продавалось в Столешниковом переулке в магазине «Восточные сладости». И мы на какой-то миг ощущали себя настоящими графинями.* * *
Папа никогда меня ни в чем не ограничивал. Педагог он был никакой, но, как я теперь понимаю, делал все очень разумно. Если моим подругам не разрешали что-то читать (а они все равно это читали, спрятав книгу под партой), то мне не запрещали ничего. Поэтому острого интереса к тому, что так волновало других, у меня не было. Из-за этого и мои познания в интимных вопросах оказались чрезвычайно слабыми. На последних курсах я общалась с компанией людей гораздо старше меня. В нее входили художник, театральный критик, звукооператор… Однажды я услышала, как бабушка говорила папе: «Мне не нравится, что Маргуля — с такими взрослыми…» А папа — в ответ: «Пусть делает, что хочет, я ей абсолютно доверяю». Я и впрямь была идеальной дочкой: совершенно не взрослой и невероятно дисциплинированной. Со мной не возникало никаких проблем.* * *
В ГИТИСе училось много иностранцев — болгары, румыны, албанцы, испанцы… Некоторые из них стали потом знамениты. Так, испанец Анхель Гутьеррес сыграл в многосерийном фильме «Салют, Мария!» с Адой Роговцевой. Румыны и албанцы были потрясающе красивы, И, конечно, завязывалось много романов. Нередко трагических, потому что браки с иностранцами запрещались. Однажды я вошла в ГИТИС, а там творится что-то невероятное: все бегают, смеются, обнимаются, целуются. Оказалось, в этот день разрешили браки между гражданами СССР и соцстран. Но в дальнейшем интернациональных семей создавалось не так много. Видимо, пока запрещали, желание жениться и выйти замуж возникаю чаще. С нами из иностранцев училась только девушка из Болгарии. Но наш курс тоже был интернациональным. Среди моих однокурсников — татарка из Ашхабада Фрида Таирова, эстонки Леа Руммо и Вирве Коппель, приехавшая из Башкирии Аля Аралбаева… Кто-то хорошо знал русский язык, кто-то хуже. Но на человеческих отношениях это никогда не сказывалось.* * *
Наш курс не дал знаменитостей. Их дали другие. Когда мы учились на первом, Павел Александрович Марков выпускал очень сильный курс. Среди его студентов были Наталья Крымова, ставшая одним из ведущих театральных критиков, любимец факультета Юрий Рыбаков, в 60-е возглавлявший популярный журнал «Театр». Параллельно, на режиссерском, учились Игорь Таланкин, Слава Бровкин, Ваня Уфимцев, будущий знаменитый эстонский режиссер Вольдемар Пансо. На актерском — Марк Захаров, Володя Андреев, Люся Овчинникова… Когда мне надо было выбирать тему диплома, я почему-то решила писать об ирландском драматурге Шоне О’Кейси. Основные его пьесы не были тогда переведены на русский. Моя подруга, оканчивавшая Институт иностранных языков, взялась мне помочь. И мы часами переводили пьесу «Красные розы для тебя». Оппонентом был Стефан Стефанович Мокульский. Наверное, моя работа выглядела крайне нелепой, поскольку то, что я писала о драматурге, являлось по большей части вымыслом. Но тема была оригинальной, материал — малоизвестным, так что диплом очень хвалили и оценили на пятерку. Десятилетия спустя в Советском Союзе наконец издали произведения ирландского драматурга. С изумлением я обнаружила, что предисловие к этому изданию — слово в слово мой диплом. Только подписано оно другой фамилией. Защита диплома проходила 9 мая. Когда объявили оценку, грянул салют. Под его залпы я и окончила ГИТИС.* * *
Очевидно, настолько хорошо жилось нам на курсе, что мы не ощущали атмосферы, которая царила вне ГИТИСа. Не могу вспомнить, чтобы мы проявляли озабоченность обстановкой в стране. Даже известие о гибели Михоэлса не заставило меня задуматься. Хотя папа очень дружил с Соломоном Михайловичем. Я была у него дома на Никитской, знала подробности его жизни. Но сопоставить факты не сумела. Когда умер Сталин, я плакала. Мне казалось, жизнь кончилась. Я уже собиралась идти на похороны, и вдруг баба Ирина, которая нас воспитывала, спокойно произносит: «Маргуленька, знаешь, что я тебе скажу: вечный покой, сволочь такой!» Я была в ужасе от этих слов. Понимать, что к чему, я стала только на телевидении. Но я продолжала верить партии. Правда, вступила я в нее не сразу и лишь потому, что иначе мне не удалось бы продвинуться по службе. А я была уверена: я рождена для того, чтобы руководить.ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Меня часто приглашают на телевидение как человека, который стоял у его истоков. На самом деле это не совсем так. Когда я пришла на Шаболовку, там уже работало около двухсот сотрудников. Но телевидение, если можно так сказать, начиналось долгие годы. 14 при мне оно все еще начиналось. Память сохранила многое из того, что тогда представлялось очень важным. Но порой я слышу рассказы коллег и понимаю, что либо я ошибаюсь, либо не правы они. Возможно, те, кто проработал на телевидении значительно дольше, невольно начали преувеличивать свою роль. Я постараюсь быть объективной и не забыть заслуги других.Театроведческий факультет ГИТИСа, конечно, не направлял меня на телевидение. Тогда существовало железное распределение, и я (не без помощи папы) получила вызов на работу в ВТО. Я даже прошла некоторую подготовку: Любовь Марковна Фрейдкина, замечательный критик, специалист по МХАТу, брала меня с собой в командировки. Мы смотрели спектакли провинциальных драмтеатров и участвовали в их обсуждении. Устные выступления давались мне легко, а вот писала я с трудом. Жутко не хотелось заниматься этой работой. И мне повезло. Я еще сдавала последние экзамены в ГИТИСе, когда позвонил работавший на телевидении в отделе программ Сергей Муратов (сейчас он профессор кафедры телевидения и радиовещания МГУ). Сережа сказал: «Мне не дают отпуска, потому что нет человека, который мог бы с ходу разобраться в моей работе и заменить меня. А ты ведь смогла бы?» Так я переступила порог Шаболовки. До меня на телевидение пришли Рудольф Борецкий, Александр Юровский (будущие профессора МГУ), Юрий Зерчанинов (известный впоследствии журналист и муж Клары Новиковой)… На работу меня принимала директор Центральной студии телевидения музыковед Валентина Николаевна Шароева. Моей задачей было составление программы. Тогда в основном показывали тележурналы: «Искусство», «Знание», «Юный пионер»… Я спрашивала редакторов, у кого что есть на послезавтра. К вечеру у меня в голове выстраивалась вся программа. Потом я должна была написать дикторский текст (это была на редкость творческая работа): «Здравствуйте! Мы начинаем передачи. Сегодня мы покажем то-то и то-то…» До недавних пор я считала, что после возвращения из отпуска Сережи Муратова меня оставили на его месте. Но, по словам Юрия Зерчанинова, я заняла его должность. Сергей с Юрой, насколько я помню, впервые начали делать сетку вещания. Потом уже этим занимались я, Виктор Лытаев и Антонина Капитонова. Мы приучали зрителей к тому, что в определенное время идет определенная передача. Но праздники должны были отличаться особой программой. Заранее начинали теребить редакции. Если что не складывалось, бежали в молодежную. Вообще редакции тогда делились на отраслевые и жанровые: литературно-драматическая, музыкальная, международная… Молодежная выбивалась из ряда. Поэтому она то создавалась, то упразднялась. Когда я пришла на телевидение, молодежную редакцию возглавляла Елена Гальперина, человек очень талантливый. Именно она была первым редактором и руководителем КВН. В молодежной редакции все время пульсировала творческая мысль. В то время Центральное телевидение возглавил Георгий Александрович Иванов (для меня — лучший руководитель в жизни), и я со слезами объясняла ему, что окончила ГИТИС с отличием и хочу перейти в какую-нибудь вещательную редакцию. А он мне говорил: «Ну, окончили с отличием. И что? Замечательно, работайте здесь». И действительно я полюбила работу в программной редакции, потому что тогда все только начиналось: первые «Новости», первые внестудийные передачи, первые телеспектакли. Установка, которую мы с Георгием Александровичем Ивановым провозглашали: телевидение должно быть независимым от кино и театра. Если я иногда приносила ему программу на неделю, в которой стояли три фильма, возникал скандал. Мог идти только один. А все остальное — собственного производства. Тогда на телевидении появились интересные режиссеры. Начал ставить телеспектакли Владимир Андреев. Володя впервые расписывал весь спектакль как: телевизионную постановку, то есть по камерам, по кадрам. При мне был создан и первый эстрадный телеконцерт по специальному сценарию, в котором отдельные выступления были связаны вставными номерами. Тогда ассистентами и помощниками режиссера работали в основном бывшие актеры. Они-то и играли в этих сценарных связках. Под руку попала и я — меня взяли на роль «девушки с Луны», потому что лицо у меня было круглым. Уже работали ПТС — передвижные телевизионные станции. Хорошо помню, как впервые в жизни меня привели на внестудийную передачу из Театра киноактера. Происходящее казалось чудом. У меня обязанностей прибавилось. Теперь я еще составляла расписание передвижек. Чрезвычайно сложной задачей для телевидения стал в 1957 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве: множество площадок, на которых устанавливались камеры, круглосуточная работа всех ПТС, сложнейшее расписание. Все это себя оправдало — фестиваль посмотрело огромное количество зрителей. Никаких исследований предпочтений аудитории тогда, конечно, не проводилось. Мы сами пытались определить, какие передачи интересны зрителю и в какое время их удобнее смотреть. Считали, что цикловые передачи нужно ставить строго в определенное время. Но в выходные программа должна быть неожиданной. Когда сейчас по субботам и воскресеньям я вижу одно и то же, меня это раздражает. Кроме того, мы координировали программы на разных каналах (к концу моей работы на телевидении их уже было четыре). Такой подход мне кажется правильным. Сейчас каналы руководствуются только своими корпоративными интересами. У одних идут новости — и у других в это же время новости. У тех — юмор, и у этих — юмор. Такая программа совершенно неудобна зрителю, но устраивает каналы: они могут сравнивать рейтинги. На мой взгляд, в нашей сетке вещания здравого смысла было значительно больше.
* * *
Разумеется, все программы шли в живом эфире. О записи тогда и речи не было. Мы даже не представляли себе, что это возможно. Живой эфир — особая статья. На студии говорили, что нет такого помощника режиссера, чья рука хоть однажды не побывала бы в кадре. В один из первых дней моей работы мне велели поменять диктору текст. Я впервые попала в студию в то время, когда горят юпитеры, работают камеры. Иду себе прямиком к диктору. И вдруг слышу в наушниках оператора вопль режиссера Бори Ниренбурга: «Уберите оттуда эту идиотку!» Сложностей с прямым эфиром было — масса. Случалось, пора уже начинать передачу, а диктора нет (в коридорах и комнатах Шаболовки многие просто терялись). Тогда ты мечешься по всей студии, хватаешь какого-нибудь выпускника актерского факультета приятной наружности и умоляешь его сесть в кадр. Удача, если найдешь Майю Маркову — она подходила по всем статьям. Если нет — выбегаешь в сад и там ищешь, нет ли кого, кто бы мог произнести текст в живом эфире. Когда я пришла на телевидение, дикторами были Нина Кондратова, Валя Леонтьева и вернувшаяся на короткое время Оля Чепурова. Она страдала туберкулезом. Мы даже выясняли, можно ли ей работать, и из страха заразиться протирали микрофон. Оля выходила в эфир недолго. Вскоре она умерла. Первым телевизионным диктором была Нина Кондратова. Ее знала и любила буквально вся страна. Нине пришлось пережить страшную трагедию: во время съемки телесюжета корова выбила ей глаз. Казалось, ни о каком возвращении на экран не может быть и речи. Так считала и сама Нина. Долгие месяцы ее пытались уговорить сесть перед камерой. И только благодаря любви и настойчивости мужа, известного танцовщика Юрия Кондратова, Нина вернулась в эфир. В последние годы своей жизни Нина стала очень близким мне человеком. Когда я сегодня слышу по телевизору немыслимые ударения и безграмотную речь, я вспоминаю Нину. Она блестяще владела русским языком и тем не менее, если хоть немного сомневалась в правильности произнесения или употребления какого-то слова, могла перерыть кучу справочников и обзвонить пол-Москвы. А как Нина умела общаться с куклами в детских передачах! Жаль, что всего этого не сохранилось на пленке. Долгая дружба связывала меня и с семьей Нонны Бодровой. Мы знали, что она живет очень бедно, что муж у нее — инвалид. Нонна работала помощником режиссера и однажды приняла участие в конкурсе дикторов. После красавиц-претенденток на одно лицо мы увидели на экране нечто совершенно иное: подтянутую, сдержанную, даже немного строгую, но очень живую и выразительную Нонну. Во время одного из таких конкурсов мы посмотрели Игоря Кириллова. Нам казалось, он и в помощниках режиссера не очень-то заметен: в кургузом пиджачке, смешной на вид. Но тут мы сразу поняли — диктор, красавец. Особенно трогательно я относилась к Вите Балашову. Внешне он напоминал мою первую любовь — одного ленинградского актера. О чем я ему в первые же дни и сказала. Сейчас дикторы (хоть они и называются ведущими) читают текст с монитора, и порой это заметно. А в те годы текст писался на обычных листочках. И, произнося его, дикторы еще должны были общаться со зрителями. Что достаточно сложно. Когда в эфир выходили Балашов и Бодрова, новости звучали очень убедительно. Мы, правда, смеялись над Витей: читая погоду, слова «минус два — плюс три» он произносил так, как будто он — Ромео и находится под балконом Джульетты.* * *
Однажды меня вызвал Георгий Иванов и сказал, что готов осуществить мою мечту — работать в вещательной редакции, и хочет перевести меня в Главную редакцию телепрограмм для детей и молодежи исполняющей обязанности заместителя главного редактора. А я не была никаким начальником в отделе программ, для меня это — прыжок через несколько ступенек. И я два месяца рыдала. Но Иванов меня уговорил. Долго, как мне кажется, я входила в курс дела. А когда разобралась, почувствовала вкус и начала уверенно всем управлять, было принято решение разделить редакцию на детскую и молодежную. Собрали коллектив и сообщили, что главным редактором детской будет Валентина Федотова, а молодежной — Валерий Иванов. И все. Наконец кто-то спросил: «А как же Эскина?» — и получил какой-то невразумительный ответ. В итоге я стала заместителем Валерия Иванова. Надо заметить, что у меня были довольно сложные отношения с большим начальством. Георгий Александрович Иванов меня уважал и ценил. Сложнее было с председателем Гостелерадио Николаем Месяцевым. Впервые он появился на редакционной летучке, когда я обозревала программы за неделю. Месяцев пришел в полный восторг от моего обзора и, кажется, полюбил меня. Через некоторое время состоялось общее профсоюзное собрание на Пятницкой, и я, как председатель профкома телевидения, сидела в президиуме. Месяцев всячески демонстрировал свое хорошее отношение. Я же со свойственной мне жаждой правды и уверенностью, что меня поймут правильно, вышла на трибуну и начала «поливать» его за волюнтаризм. Месяцев был совершенно потрясен. С тех пор называл меня «товарищ Еськина» и нападал на всех партсобраниях. Поэтому, когда Георгий Иванов предложил меня на должность заместителя главного редактора, все боялись, как к этому отнесется Николаи Месяцев. Но тот дал согласие. Видимо, Николай Николаевич верил в меня. И, несмотря на некоторое совершенно обоснованное недовольство мною, переступил через него во имя дела. Позже произошел несчастный случай с КВН. Это была одна из самых популярных передач. Ее придумали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. Сначала в 1957 году появилась передача «ВВВ» — «Вечер веселых вопросов». Она прошла, кажется, два или три раза. В последней программе в одном из конкурсов для телезрителей на сцену повалили люди в валенках и шапках. Это могло кончиться страшным скандалом. Передачу прекратили прямо в эфире, а директора Центральной студии телевидения Владимира Осьминина сняли. А потом появился КВН. При мне он по-прежнему шел в прямом эфире, что всегда было связано с невероятным напряжением. Тот злополучный КВН собирались показывать не то из Харькова, не то из Одессы. На съемки уехали режиссер передачи Белла Сергеева и редактор Марианна Краснянская. Они каждый день звонили. А мне, в свою очередь, звонил Месяцев: «Товарищ Еськина, почему вы сами не едете?» Я говорила, что не могу — много дел, да и нужды нет — там все в порядке. В тот вечер, когда должен был идти КВН в живом эфире, включаю телевизор и вижу в кадре молодежь с политическими лозунгами в руках. Понимаю, что на советском экране происходит нечто невообразимое. Тут камера начинает раскачиваться, создавая впечатление, будто пошли помехи, и все отключается — якобы по техническим причинам. Догадываюсь, что передачу как полную антисоветчину вырубили по распоряжению высокого начальства. Впервые в жизни я приняла успокоительное. Ранним утром уже сидела в приемной Месяцева. Он вошел со словами: «Что же это вы, товарищ Еськина?!» И на этом — все! Никаких громов и молний, никаких приказов. Пригласил жестом в кабинет, попросил секретаршу принести мне чаю. Надо отдать ему должное — никогда в жизни он не упрекнул меня за этот КВН. А удар он принял на себя, за что я ему очень благодарна. Был еще один случай, за который меня могли снять. Когда появилась видеозапись и стали показывать повторы программ, я постоянно предупреждала всех ассистентов и редакторов, что необходимо просматривать пленку перед эфиром, так как со времени первого показа ситуация могла измениться. И вот должен был идти повтор передачи «Алая гвоздика». А я вечерами дома смотрела начало каждой программы. Включаю телевизор, в голове прокручиваются кадры, и я вспоминаю, что в передаче произносят — и не один раз — приветствие трем космонавтам, которые во время первого показа были в космосе, а на этот момент уже погибли. Неизвестно, вырезаны ли эти приветствия. Дозвониться не могу. Хватаю с кровати спящую дочку Сашу (старшего, Лешу, можно было оставить одного) и бегу на улицу ловить машину. Но, как назло, — ничего нет. Возвращаюсь к телефону, вновь набираю номер и наконец дозваниваюсь. Одно приветствие уже прошло в эфир, но дальше еще одно — большое. Объясняю ситуацию. И вот — взаимовыручка! Тогда огромные бобины с пленкой крутились на двух аппаратах — если выйдет из строя один, нажимается кнопка, и изображение идет со второго. И техники, нарушая все правила, остановили один аппарат, перемотали пленку, нашли это место и в нужный момент перескочили с одной ленты на другую, убрав приветствие. Самое страшное в эфир не прошло. Тем не менее утром я пришла на работу полуживая. И тут же раздался звонок зампредседателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию Энвера Мамедова. Он говорит, что звонили из ЦК партии, и велит мне зайти. Понимаю: придется отвечать. Тогда действовало распоряжение, согласно которому записи всех передач должны были сохраняться после эфира в течение 10 дней. Но когда Мамедов потребовал, чтобы ему принесли вчерашнюю запись, доказывающую, что приветствия прошли в эфир, выяснилось: нигде нет ни видео, ни фонограммы — коллеги стерли все. Таким образом, самый большой промах сошел мне с рук.* * *
В нашей редакции, в отличие от других, не существовало жанрового ограничения. Что мне нравилось. Благодаря этому мои недостатки были не так заметны: я человек не очень глубокий и не слишком эрудированный, поэтому отраслевой редакцией руководила бы с трудом. Но я обладаю здравым смыслом, быстро все схватываю и ничего не откладываю на потом. Я дохожу до той глубины, до которой способна дойти в данную минуту, и сразу принимаю решение. В молодежной редакции это было очень важно: в ней готовились самые разные программы — от сельскохозяйственных до международных. Так что моих положительных качеств хватало. Нам удалось разрушить существовавший стереотип: передачи нужно делать «для сельской молодежи», «для рабочей молодежи», «для студентов»… Я считала, что программы должны быть интересны всем. Тогда началось на меня гонение за так называемые массовые передачи. Но мы были уверены: именно они и есть истинно телевизионный жанр. Если КВН придумали на телевидении до меня (а «учуяла» успешное будущее этой программы Лена Гальперина), то передачи «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки!», «От всей души» и «Аукцион» созданы в молодежной редакции уже при мне. Часто я была способна сразу оценить идею программы — есть в ней что-то или нет. Это не признак ума или таланта, а просто данное мне чутье. Так было с передачей «А ну-ка, девушки!». На общей летучке вовсю ругали программы для женщин, считая их убогими, рассказывающими про кастрюли и прически. Я предложила придумать что-то новое. И вот приходят ко мне редактор Марат Гюльбекян и режиссер Володя Акопов (они тогда делали КВН) с идеей передачи «А ну-ка, девушки!». Мне показалось, что должно получиться. И действительно, программа очень понравилась зрителям. Вела ее Кира Прошутинская. Я познакомилась с Кирой, когда ей было лет семнадцать. Она пришла в детско-молодежную редакцию еще до меня и работала ведущей тележурнала «Искатели». Когда Кира стала вести «А ну-ка, девушки!», на каждой летучке говорили, что она — не годится. Кира совершенно не соответствовала образу ведущего, принятому на телевидении. Мы привыкли к тому, что ведущим должен быть довлеющий над всем журналист — такой, как Валентин Зорин или Юрий Фокин. А тут — тоненькая зажатая девочка. Это вызывало раздражение у руководства. Мне же, напротив, очень нравилось то, что делала Кира. Как-то она позвонила мне и сказала, что ей нужно со мной посоветоваться. Мы почему-то встретились в Доме актера на Горького. Кира со слезами на глазах сообщила, что забеременела, поэтому программу, запланированную, допустим, на 27 августа, вести не сможет, но она родит и уже 15 сентября выйдет в эфир. Видимо, сказать об этом своему руководителю Ларисе Муравиной она не решилась — та была неумолимой: какие могут быть роды, когда надо вести передачу? И Кира выбрала меня. А я действительно всем женщинам на телевидении, кто сомневался, говорила, что надо рожать. В общем, судьба рыжего мальчика Андрюши, который появился на свет (сейчас он работает на «Авторском телевидении»), решалась при моем участии. Кира — очень одаренная. Но все-таки у меня тогда было ощущение, что скромность не позволит ей добиться успехов. Однако с годами ее характер претерпел изменения. И теперь она вместе с мужем Анатолием Малкиным руководит большим коллективом. Перед Анатолием Григорьевичем можно преклоняться. Не имея нефтяных скважин и газовых труб, он с Кирой создал собственное телевидение. Я помню Киру крайне несамостоятельной, всего пугающейся и, как казалось, избалованной девочкой. За прошедшие годы она стала настоящей хозяйкой, мудрой женщиной и очень хорошим другом. Я ей полностью доверяю и, пожалуй, только с ней могу быть совершенно откровенна.* * *
Сейчас, когда на экране долго идут титры с именами тех, кто подготовил программу, мне становится страшно. В наши времена самую большую передачу делала постоянная бригада из 8—10 человек: автор, редактор, режиссер, ассистент и помощник режиссера, три оператора. Очень популярной стала программа «От всей души» (она отдаленно напоминала какую-то западную передачу). Я обожала ее. Считала, что со слезами или без них, но какое-то очищение души, несомненно, происходило. Кроме того, люди узнавали много нового о своих сослуживцах, об их подвигах и невероятных судьбах. Они становились внимательнее и добрее друг к другу. Роль человека в появлении какой-то телевизионной идеи в 60—70-е годы была более значительной, чем сейчас (правда, менее заметной). Мы ведь все создавали с чистого листа. Я понимаю, что читать интересно о тех, кого знаешь. Но если наряду с популярными личностями не сказать о людях, которые сейчас уже, может, не так широко известны, хотя сыграли важную роль в жизни телевидения (и в моей тоже), это будет исторической несправедливостью. Передача «От всей души» для меня началась с другой передачи — «Стоянка поезда — 1 минута», которую придумала Лариса Муравина. Она узнала, что начальник станции Дурово Белорусской железной дороги — участник Великой Отечественной войны. И возникла идея поздравить его с днем рождения. Ларисой Муравиной была проделана огромная подготовительная работа. В конце концов договорились с МПС. В специальном вагоне в Дурово отправились творческая бригада, актеры, оркестр, победительница передачи «А ну-ка, девушки!», ведущие — Кира Прошутинская и Анатолий Лысенко, а также однополчанин нашего героя. Стоянка поезда на этой станции действительно была 1 минута, но мы попросили продлить ее до двух. Двери нашего вагона открыли в сторону, противоположную станции, — так, чтобы нас не заметили. Поезд уехал, и мы двинулись через пути. Впереди несла огромный торт победительница конкурса «А ну-ка, девушки!» среди кондитеров, за ней шел оркестр. Мы заранее продумали программу поздравления и устроили неожиданный для этого человека праздник. И в житейском, и в телевизионном смысле это было замечательно. Вскоре после того началась работа над программой «От всей души». Лариса Муравина, Кира Прошутинская и руководитель группы Марианна Краснянская отправлялись в какой-нибудь коллектив, собирали материал о герое программы, Когда они рассказывали о нем в редакции, раздавались охи и ахи, текли слезы. Потом разрабатывался сюжет, готовились неожиданные для героя встречи. Дальше писался дикторский текст. Надо отдать должное Валентине Михайловне Леонтьевой, она блистательно запоминала все имена, фамилии, даты и произносила текст очень искренне. Сейчас на телевидении есть программы, построенные по тому же принципу, что и «От всей души». Но каждая из них — лишь часть той передачи. «От всей души» была очень разнообразной. Но главное — она рождала сильные эмоции и большое уважение к людям. И в этом была заслуга Марианны Краснянской и Ларисы Муравиной. Когда я пришла в молодежную редакцию, Лариса внештатно работала редактором программы «Родителям о детях». Случайно я узнала, что ее не берут в штат из-за национальности — она еврейка. И мне с помощью других людей удалось добиться, чтобы ее взяли. Лариса обладала особым профессионализмом. Думаю, ее роль в создании программ недооценена. К сожалению, в те времена редактор на телевидении считался лишь организатором. Судьба Ларисы изменилась неожиданно: ее дочь вышла замуж за американца. Мужа Лары, оператора Аркадия Едидовича, исключили из партии, хотя он был «правоверным», каких немного — занимал пост заместителя секретаря комсомольского, затем партийного бюро по идейно-воспитательной работе. А Ларисе пришлось уйти из молодежной редакции. Они уехали в Америку. В самые трудные минуты моей жизни — в том числе после моего ухода с телевидения — рядом была Лариса. Сейчас она далеко, но я по-прежнему ощущаю ее заботу. Лариса не забывает никого: сочла своим долгом помочь уехать всем, кто хотел, а оставшимся постоянно шлет письма и подарки.* * *
Много в моей жизни значил покойный Володя Соловьев. Зрители знали его по передаче «Это вы можете». Володя был увлечен одержимыми «чудиками», народными умельцами. Сначала он мне казался несколько ленивым. Кроме того, он не выговаривал половину букв, и я вообще не понимала, как его взяли ведущим. С Володей происходили какие-то немыслимые случаи. Мы снимали программу про исследователей океана. И почему-то некому оказалось ее вести. Попросили Володю. Тема была не его, но деваться некуда, и он вышел в прямой эфир. Задавал вопросы, герои программы что-то рассказывали. И вдруг мы замечаем, что ведущий не реагирует на ответы гостей. Он заснул прямо в эфире! Мое отношение к Володе изменилось, когда я пришла в студию на съемки программы «Это вы можете». Известные профессора и академики, которые оценивали работы народных умельцев, беспрекословно выполняли все, что требовал ведущий. Он пользовался у них огромным уважением. После того как Володя умер, люди, которых он находил для своей программы, долгие годы собирались в его день рождения и день смерти. Выяснялось, он сыграл невероятную роль в их жизни. Мы ничего этого не знали. Нам казалось, что у нас в редакции есть гораздо более важные передачи. Пока я работала на телевидении, мы с Володей не были особо дружны. Хотя общались, я знала его жену. Помню, как увидела ее на каком-то вечере, и стала переживать: такая красивая женщина, она его бросит — ведь он очень мало получает. Через два дня терзаний я прибавила Володе зарплату: со 130 рублей подняв ее до 140. Впоследствии он, смеясь, говорил мне, что ту десятку не забудет никогда. Володя жаждал крестить моего внука в той же церкви, где был крещен сам. Меня, как всегда, отвлекали какие-то дела. Уже родился второй внук, и Володя наконец добился своего. За два дня до назначенного времени мы с дочерью тоже решили пройти обряд крещения. Так Володя стал и моим крестным. Он всегда был вне политики. На телевидении сознательно выбрал для себя эту нишу — программу про изобретателей. Так он отстранялся от происходящего. Володя понимал жизнь гораздо глубже, чем многие, и я в том числе.* * *
Долгие годы единственной, как я говорила, «личной жизнью» были для меня дни и часы, проведенные в разговорах с Кирой Прошутинской и Леной Смелой. Елена Смелая, ныне уже покойная, была талантливейшим режиссером-документалистом. Не знающая суеты, зависти, тщеславия и злобы, она ощущала истину и создавала щемяще-правдивое кино. Моя дружба с Леной, как и с Володей Соловьевым, началась, когда я уже ушла из молодежной редакции. Это вполне объяснимо: на телевидении все-таки существует иерархия, и, пока я была руководителем, приятельских отношений не возникало. Помню, как Лариса Муравина впервые попросила меня посмотреть фильм Лены Смелой. Я сделала попытку увильнуть — однажды уже общалась с Леной, и она мне показалась такой тоскливой. Но от Лары отвертеться было невозможно. И я пошла смотреть картину «В деревню за музыкой» — про сельскую музыкальную школу. Как человек эмоциональный, к концу фильма я смеялась и плакала. И мне уже было ясно, что я беру Лену Смелую на работу в молодежную редакцию. Лена на это никак не отреагировала. Дальше она была совершенно безучастна к тому, что происходило в редакции. Она стала работать с Кирой Прошутинской. Снимала фильмы — и каждый получался очень талантливым. Не сказать, что она делала антисоветское документальное кино, но в ее картинах была правда, которую тогда не показывали. Спустя годы Лена вместе с Еленой Гальпериной сняла блестящую картину «Пожар» о сгоревшем Доме актера. Вроде бы замышляли фильм о конкретном трагическом событии, но получилась картина — о стране, о ее истории, в которой пожар — всего лишь деталь. Однажды Лена мне сказала: «Знаешь, Маргарита, сняла бы я фильм о тебе», Я запротестовала: «Хоть у меня и нет больших недостатков, но никогда я бы не согласилась, чтобы фильмобо мне делала ты. Я просто этого боюсь. Ты не ведаешь, что творишь». В конце жизни Лена стала режиссером программы «В поисках утраченного» Глеба Скороходова. В день ее смерти Глеб всегда звонит мне, и мы с ним и Кирой Прошутинской обязательно встречаемся.* * *
Хотя в нашей редакции работало много способных людей, все-таки, если говорить о гении телевидения, то для меня им был Владимир Ворошилов. Володя, театральный художник, пришел на телевидение, и ему предложили сделать программу «Письма войны» — на основе реальных писем 1941–1942 годов. Передача получилась очень хорошей, и мы взяли его в штат. Он звонил мне и говорил: «Маргарита Александровна, это Володя Ворошилов». А я думала: как странно, старый человек, а называет себя Володей. Мне казалось, он намного старше меня. На самом деле он был старше на год-два. По-моему, придуманный им «Аукцион» оказался единственной передачей, которая сразу стала популярной. Даже КВН в течение двух лет шел по второй программе и никак не мог пробиться. Первый «Аукцион» сделали, кажется, чайным. Передача должна была идти из дворца «Крылья Советов». Днем я прихожу на репетицию. Ворошилов разбирает конверты с какими-то вопросами, а репетируют только девочки в мундирчиках — танцуют в стиле мюзик-холла. Для советского телевидения этот мюзик-холл был немыслимой и довольно опасной затеей. Но поскольку я человек, особенно страха не знавший или привыкший к нему, — не вмешиваюсь. Да и поздно уже вмешиваться. Заполняются трибуны. Начинается прямой эфир. Я наблюдаю за происходящим по телевизору в администраторской. И вижу ошеломляющее новое телевизионное зрелище. Когда передача закончилась, я сорвалась с места и помчалась, как безумная, в зал. Целовала Ворошилова, кричала «ура». Это было потрясение. Но выходила программа, к сожалению, недолго. Тогда совершенно необычным выглядело сотрудничество телевидения с «Союзторгрекламой». Этим немедленно заинтересовалась комиссия партконтроля. И передачу закрыли. То, что Владимир Ворошилов был театральным художником, существенно отразилось на его телевизионных работах. Он умел видеть образ передачи, а на телевидении это — самое главное.* * *
В молодежной редакции сложилась замечательная атмосфера, потому что удивительно совпали люди. И прежде всего два человека — Валерий Иванов и я. Хотя, наверное, это звучит нескромно. Трудно понять, как это вдруг в номенклатуру попал такой идеально чистый, добрый, интеллигентный человек, как Иванов. Валерия Александровича любили все: ЦК ВЛКСМ, парторганизация, руководство. Он легко и просто со всеми общался. Мне абсолютно доверял. Валерий Иванов был лицом редакции, а я всегда находилась «в лавке» и свободно работала. Думаю, я компенсировала его слабые стороны: неспособность к быстрым решениям, некоторую, как мне тогда казалось, интеллигентскую мягкотелость. Были и другие удивительные люди в молодежной редакции. Толя Лысенко, который, тоже впоследствии пройдя испытание властью, сумел, на мой взгляд, остаться самим собой, сохранить человеческие качества. Толя поглощал немыслимое количество книг. Он знал ответы на все вопросы. И хоть мы понимали, что из тридцати ответов двадцать восемь — приблизительных, мы все равно обращались к нему. Огромная детско-молодежная редакция располагалась в одной большой комнате корпуса, выходившего на Дровяную площадь. Шум стоял чудовищный. В одном углу дрались Евгений Шенгелевич с Федей Надеждиным — они вместе делали передачу, и их драки возникали исключительно на творческой почве. В другом углу режиссер КВН Белла Сергеева громко учила молодых ассистентов и помощников, не обидно называя их «курами» и «дурами». В этой комнате встречались телевизионные бригады, проходили откровенные летучки, рождались замыслы. Мы жили одной семьей. Причем порой — в буквальном смысле. Помню, как ассистентом режиссера пришла работать будущая жена Саши Маслякова — Светлана. И мой муж Юра Игнатов работал на телевидении — оператором. Операторы считались эталоном мужчины. Они действительно были титанами: камеру весом 300–400 кг толкали лбом — руки заняты, держат фокус. Невероятной красотой и мощью обладал легендарный оператор, к сожалению, рано умерший, — Владимир Киракосов (его именем названа одна из студий на Шаболовке). Он мог виртуозно, не теряя фокуса, сделать наезд через всю студию. На его работу приходили смотреть из всех редакций. Замечательным оператором был Аркадий Едидович. Я уже упоминала, что Аркаша являлся моим замом по идеологической работе в первом комсомольском бюро на телевидении. В бюро входили также мой будущий муж и Марианна Краснянская. С Марьяной мы знакомы еще со времен учебы в ГИТИСе. На телевидении она вела замечательную детскую викторину, затем в молодежке была редактором КВН, а потом и создателем передачи «От всей души». Влюбленная в своих героев, она умела разглядеть в них черты, недоступные мне. Какое счастье, что и в Доме актера она — рядом, делает очень важное дело — ведет клуб ветеранов.* * *
Когда председателем Гостелерадио стал Сергей Лапин, мы не сильно обеспокоились. Мы на своем веку повидали немало руководителей и понимали, что и этого переживем. Но получилось иначе. Началось гонение на неугодных. Лапин, как человек неглупый, какую-то цель, несомненно, преследовал. Но я и сейчас не могу сказать, что это была за цель. Он не желал вдаваться в подробности технологии создания программ, людей уважаемых и авторитетных явно не ценил. На большой летучке мог, не дожидаясь окончания, встать и, уходя, заявить: «Ну, вы тут пообсуждайте, а я уже все решил». Лапин начал смещать тех, кто, на наш взгляд, олицетворял собой телевидение. Первым стал Георгий Александрович Иванов, под руководством которого создавались все новые программы. При нем начало свою работу объединение «Экран». Георгий Иванов обожал телевидение, преклонялся перед творческими людьми. Лапин унижал его открыто, при нас. Он не дал нашему любимому руководителю работать на телевидении — Георгий Иванов вынужден был уйти. Потом начались нападки на Николая Карцева. Николай Пантелеймонович одно время возглавлял литературно-драматическую редакцию, потом стал главным редактором телевидения. Это было существо такого благородства, такого интеллекта и такой образованности, какие, честно говоря, на телевидении встречаются нечасто. Гонениям подвергались не только руководители, но и обычные сотрудники, жизнь которых давно была связана с телевидением. Порой, когда кто-нибудь говорил Лапину: «Я здесь работаю двадцать лет», он прерывал: «И хватит!» «Уничтожали» одного из лучших редакторов Женю Кабалкину, очаровательную, преданную телевидению Фаину Яковлевну Хаскину, возглавлявшую редакцию кинопрограмм. Когда Лапин вызывал кого-то к себе, все высыпали в коридор и ждали, чем закончится разговор. Страшное время. Из какой-то ерунды возникало политическое дело. Защитить и защититься было невозможно. И все больше людей покидало телевидение. Дольше других почему-то продержалась я. Может, потому, что молодежная редакция числилась на хорошем счету и трудно было к чему-то серьезно придраться. Тем не менее напряжение не отпускало. Особенно нервными были моменты, связанные с КВНом. Помню, я вынуждена была лететь на финал в Одессу. Руководство требовало, чтобы я принимала игру, хотя в то время это не имело никакого смысла: заранее можно было посмотреть лишь домашние заготовки, все остальное являлось чистой импровизацией — КВН же шел в живом эфире. На одном из партактивов под удар попала бессменный режиссер КВНа Белла Сергеева (ей обязаны все, кто стал популярным благодаря этой игре, в том числе и Александр Масляков). И Беллу отстранили от дела, которому она посвятила жизнь. Это происходило на моих глазах, и я ничего не сделала. В конце концов дошла очередь и до меня. Я была вызвана к начальнику отдела кадров Петру Шабанову. Он сказал, что Сергей Георгиевич Лапин не может больше со мной работать, что надо уйти самой — если я оставлю номенклатурную должность, они подыщут новую номенклатурную, а иначе… Я ответила высокопарно, что, мол, хоть вахтером, но останусь на телевидении. Думала, если не напишу заявление, ничего не произойдет. Но через какое-то время я получила строгий выговор за передачу «Куда пойти учиться» об Институте связи.ПРИКАЗ Председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию № 307 от 24 июля 1974 года Гор. Москва 15 июля по первой программе телевидения прошла передача Главной редакции программ для молодежи «Куда пойти учиться» (автор КРАВЧУК Н.Д., редактор и режиссер ВОЛОДИНА С.К.) Заместитель главного редактора т. ЭСКИНА М.А., утверждая передачу и отмечая ее недостатки, не приняла, однако, мер к тому, чтобы предотвратить включение в телевизионную программу явно слабой и по содержанию и по режиссерскому решению передачи. Участники ее читали ответы на вопросы по бумажке или заглядывали в тексты, чего можно было бы легко избежать, если бы работники Главной редакции и режиссер предоставили им достаточно времени для подготовки. Ведущий передачи т. МАСЛЯКОВ ограничился формальным объявлением о начале и завершении передачи и не попытался улучшить передачу, а т. ЭСКИНА М.А. не предупредила Главную дирекцию программ о низком уровне передачи и не позаботилась о том, чтобы программа была предварительно просмотрена Главной дирекцией программ. ПРИКАЗЫВАЮ: За безответственное отношение к подготовке передачи «Куда пойти учиться» заместителю главного редактора Главной редакции программ для молодежи т. ЭСКИНОЙ М.А. ОБЪЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР. Редактору т. ВОЛОДИНОЙ С.К., назвавшей себя и режиссером передачи, — ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР. Лапин С. Г.
Вслед появился другой приказ — о переводе меня в Телерадиофонд, то есть фактически в архив. Видимо, Лапин догадывался, что новая работа — не для меня, и долго я там не продержусь. Прихожу в архив и со свойственной мне энергией и отсутствием мудрости затеваю реформы. Отношения обостряются: люди в архиве привыкли годами тихо делать свое дело по устоявшимся правилам. Понимаю, что это — финал. И подаю заявление об уходе. Я думала, прекратит существование телевидение, на баррикады выйдут все. Но революции не произошло. Ко мне домой потоком шли те, с кем я работала. Каждый пытался чем-то утешить: приносили мороженое, цветы и даже подарили щенка. Это, конечно, скрашивало жизнь, но все же я чувствовала себя обманутой. Мне казалось, на телевидении не должны были смириться с моим увольнением. Но, с другой стороны, как люди могли сопротивляться? Я ведь тоже ничего не сделала в случае с Беллой Сергеевой. Двадцать два года я проработала на телевидении. Конечно, оно создавалось не мною, но все-таки при моем участии. Поэтому я считала, что телевидение — это мое, и Лапин пришел туда ко мне. До сих пор не понимаю психологию таких руководителей — желание разрушить то, что хорошо налажено. Почему надо влезть именно в успешное дело? Ведь кругом — полный бедлам и можно приложить свои руководящие силы куда угодно. Не хочется думать, что это характерная российская черта. Ведь в таком случае — положение безнадежное.
* * *
Чтобы можно было ощутить атмосферу того времени, приведу еще один документ — антисемитское письмо, которое случайно оказалось у меня.«Осторожно! Сионизм! Его насаждает в Молодежной редакции Центрального телевидения группа евреев, возглавляемая главным режиссером Сергеевой и зам. главного редактора по творческим и кадровым вопросам Эскиной. Но дело не в том, что процент штатных работников-евреев возрос за последние 2 года до 80 процентов, сионизм проявляется и в подборе авторов, комментаторов, ведущих программы, выступающих и даже в прославлении „героев“-евреев. Например, передачи, сделанные зав. отделом Краснянской (и она же ведущая в кадре) и редактором Муравиной о „героине-разведчице“ Мамчиц, геройство которой еще следует проверить. Об этом сообщали на студию некоторые боевые товарищи, но к их мнению не прислушались. Главное же заключается в преднамеренной аполитичности, в уходе от современной тематики. Большинство эфирного времени отдано так называемым „развлекательным“ передачам, где современная молодежь бренчит на гитаре, пляшет, упражняется в сомнительном остроумии (КВН, „Алло, мы ищем таланты“, „Аукцион“ — какое-то торгашеское название. Чем они собираются торговать?!) А где передачи о подлинных героях наших дней: рабочих, колхозниках, строителях всесоюзных ударных комсомольских строек? Где серьезный разговор с молодежью о вопросах, ее волнующих? Гонорарная политика также ведется не в интересах и не для поддержания политико-воспитательных программ. Все это НЕ СЛУЧАЙНОЕ ЯВЛЕНИЕ. А ПОЛИТИКА нарочитой аполитичности, ухода от действительности в прошлое, которому посвящены главные полотна политического вещания Главной редакции программ для молодежи».






* * *
Уход с телевидения был трагедией. Тогда мне казалось, что, если я буду писать книгу, начну ее так: «Жизнь моя кончилась рано, мне было 40 лет». Я не представляла, что могу работать где-то еще. Всегда думала, умру здесь. И хотела, чтобы лет через двадцать-тридцать на панихиде вместо хвалебных речей произнесли бы только одну фразу: «Она пришла на телевидение в 1956 году». Этим все было бы сказано. Долгое время я даже ездить не могла в сторону Останкина. Эту рану ничем нельзя было залечить. Может быть, она не залечена до сих пор, хотя у меня есть потрясающая работа, лучше которой, на мой взгляд, не придумаешь. Но и сейчас я считаю, что создана для телевидения. Часто слышу разговоры о том, что руководство каналов последних лет вышло из нашей молодежной редакции. В какой-то мере так. Наверное, можно было бы порадоваться этому факту, но мешает ощущение, что главный наш принцип следующими поколениями унаследован не был. Мы делали телевидение, а не карьеру на телевидении. Работа не была для нас источником большого заработка и сытой жизни, Мы получали одинаково мало, но чистоту наших отношений и ту творческую атмосферу не сравнить ни с каким богатством. Если бы я осталась на телевидении, вряд ли смогла бы сегодня там работать. Современное ТВ не соответствует не только моим понятиям о морали и нравственности, У него совсем иной художественный язык. Не хочу быть брюзгой, но нынешнее телевидение меня пугает. Думаю, вред, наносимый им, мы еще не осознаем. Наши дети и внуки, отказавшиеся от книг, представление о жизни и культуре получают из телевизора. А что он предлагает, известно: насилие, агрессию, потребительскую философию, бесконечную развлекаловку и игры, в которых требуется добить слабого или, сложив два и два, получить миллион. Погоня телевизионщиков за прибылями привела к тому, что на одной чаше весов, доверху загруженной и опустившейся до земли, оказались шоу-бизнес, эстрада, пошлый юмор и агрессивный кинематограф, а на другой чаше, вознесенной недосягаемо высоко, — вся мировая культура. Думаю, используя опыт других стран, мы все же должны идти своим путем. Знаю, как тяжело придумать идею программы, но именно это и ценно. Мы старались, чтобы ни одна передача не была похожа на другую. Сейчас это, по-моему, вообще не входит в понятие профессионализма — на разных каналах идут одинаковые программы. Конечно, мы испытывали идеологическое давление, и очень стальное. Но нам удавалось отстаивать свои взгляды и выражать их с экрана, И что еще важно, — создавались передачи, которые объединяли людей, и, можно смело сказать, страну.СКИТАНИЯ
Оказывается, перемена места работы — это не всегда плохо. Приходит опыт, а главное — столько новых людей появляется в твоей жизни. Где бы я ни работала, мне надо было все перевернуть. Даже в оркестре, где, казалось бы, нечего перевернуть, кроме нот.Телевизор я не смотрела, в «Останкино» не ездила, но с коллегами отношения поддерживала. Мою должность предложили одной девушке из ЦК комсомола. Она сказала, что на место Эскиной не пойдет. Занял мое место Эдуард Сагалаев из того же ЦК. С этого времени он связан с телевидением. Я не представляла, где искать работу. И тут главный редактор популярного журнала «Клуб и художественная самодеятельность» Вадим Чурбанов предлагает мне стать заведующей отделом сельской молодежи. То, что работа в журнале — не для меня, я понимала еще со времен студенческой практики в издательстве «Искусство». Но выбора не было. В редакции собрались сильные журналисты: Алла Боссарт, Нина Павлова, Аркадий Петров. Проработала я там около года. Считается, сделала для журнала, что-то полезное. Но для меня это был кромешный ад. В 1979 году близкий папин друг Иосиф Михайлович Туманов создавал режиссерско-постановочную группу для подготовки Олимпиады. При ней была организована целая структура, которая занималась доставкой олимпийского огня и церемониями открытия и закрытия игр. Туманов предложил мне возглавить отдел закрытия Олимпиады. Я согласилась. Отдел — небольшой, поскольку церемония закрытия предполагалась менее массовой (в ней должно было принять участие, кажется, 8 тысяч человек, в то время как в церемонии открытия — 17 тысяч). Открытие поручено человеку из партийных органов. Но вскоре он уходит, и все отдают в мои руки. В режиссерско-постановочную группу, возглавляемую Иосифом Тумановым, входили дирижер Одиссеи Димитриади, главный хореограф Михаил Годенко, второй режиссер Борис Петров. Живой фон на трибунах создавал Лев Немчек. Кроме творческих руководителей, были директора сборов. А как же без них? Например, у Годенко в хореографической сюите участвовали 3600 человек. Всех надо было разместить, накормить. И мы никак не могли найти директора сбора. Тогда я предложила назначить Людмилу Краузову. До того она 20 лет танцевала в ансамбле «Березка», была секретарем парторганизации. Пришла Мила, и все сразу наладилось. Каких-то людей мы набирали сами, а кого-то нам присылали из органов. Так, мне назначили двух замов. Оба выпивали. И утром они просто не могли включиться в работу. Потом мои замы куда-то выбегали, опохмелялись и возвращались довольными. Оба заместителя очень хорошо ко мне относились. Один порой расслабленно говорил: «Ой, мать, я про тебя вчера писал. Как я о тебе написал, ты не представляешь! Это песня!» Работа на Олимпиаде была в основном организационная, чрезвычайно объемная, изматывающая — перед началом игр даже ночевать домой не ездили. Церемонии разрабатывались, как военные битвы: все рассчитано по секундам — на каком поле собирается та или иная группа, сколько времени она идет до места назначения, когда выходит, чтобы не столкнуться с другой группой. Это была очень полезная для каждого из нас работа. Первой на стадион выезжала греческая колесница. Сколько возникло сложностей с лошадьми! Выяснилось, что лошади не ходят четверками. Мы связывались с конезаводами, с научными институтами, пытались как-то решить эту проблему. Впереди команд шли девушки с флагами. Мы заранее продумали, что в комплекте должно быть три флага каждой страны: один — на поле, второй, запасной, — где-то неподалеку, третий лежит запертым. На открытии Олимпиады стали проходить команды, и вдруг слышу по рации: «Нет румынского флага». Началась беготня. Хорошо, что все было предусмотрено. Тяжелее всех приходилось Иосифу Михайловичу Туманову: люди, которые принимали сценарий, были сделаны совсем из другого теста. Туманов очень нервничал. Я сама не всегда была убеждена в его правоте. А он твердо знал, что хотел. Он был полон идей, умел привлечь и организовать людей. Но любые его идеи подвергались сомнению. И от многого пришлось отказаться. Единственное, на чем он настаивал до конца, — это полет Мишки. Ему говорили: «И так считается, что в России медведи по улицам ходят. А тут еще летающий медведь». Но он не отступил. Трудности с Мишкой возникали и позже. Надо было эту громадину изготовить, где-то поблизости накачать, раскрасить. Согласовывали с различными службами, куда он полетит, не заденет ли проводов, куда сядет. Он ведь был неуправляемым. Мишек готовили двух — на случай, если первый не взлетит. Просчитывали, сколько нужно времени, чтобы поднять с резервного поля второго. Мишка взлетел успешно. Стадион ревел. Я сама ревела от счастья. Но напряжение во мне спало только тогда, когда по рации сообщили, что он благополучно приземлился. Олимпиада приобщила нас к некоторым благам западного мира. Хорошо помню, каким потрясением стала привезенная фанта. Пить ее на работе позволяли сколько угодно (и некоторые напивались до аллергии), выносить же запрещалось. Потом все-таки разрешили брать на вынос, но бутылки надо было возвращать. Начальству, и мне в том числе, раз в месяц полагалась фанта в баночках. У моего сына тогда намечалась свадьба, и я попросила выдать мне фанты побольше — в счет следующего месяца. Когда на свадебном столе стояли эти яркие баночки, у всех было ощущение некой избранности… С началом соревнований открылись многочисленные кафе и ресторанчики. Жизнь смахивала на коммунизм: все нарезанное, в упаковках — салями, сыры, финское и голландское масло… Мы пировали в ресторане: брали бифштекс, грибы, запивали хванчкарой или киндзмараули (когда начались соревнования, мы могли уже немного расслабиться). Стоило все копейки. После закрытия Олимпиады рестораны продолжали работать, но цены уже были другими. Когда все закончилось, решили наградить организаторов. А я считалась человеком подозрительным. Во-первых, потому, что ушла с телевидения, с номенклатурной должности (тогда это воспринималось как идеологический шаг). Во-вторых, двоюродным братом жены моего папы был Андрей Дмитриевич Сахаров. В-третьих, моя сестра Зина всегда занималась правозащитной деятельностью. И все-таки кто-то настоял на том, чтобы меня наградили. И мне вручили медаль «За трудовое отличие». До того у меня была только одна награда — «К 100-летию со дня рождения Ленина», которую я получила на телевидении. Думаю, что не оценили по достоинству работу на Олимпиаде Иосифа Михайловича Туманова. Он был очень масштабным человеком, Провел Олимпиаду сквозь невероятные трудности, которые создавала административная машина. Привнес в эту политическую акцию театральную культуру. Мы чувствовали перелом в отношении к нашей стране, произошедший сразу же после открытия. Удивительно стройное, красивое зрелище (греческие колесницы, талантливо придуманные спортивные, хореографические и цирковые композиции на множестве площадок, живой фон) сломило напряжение, которое существовало в мире в связи с Олимпиадой. А полет Мишки в финале принес ощущение победы. Вскоре после Олимпиады Туманова не стало. Уже нет в живых выдающихся мастеров — Михаила Годенко, Одиссея Димитриади, Льва Немчека, Бориса Петрова. Но то, что они сделали, запомнилось миллионам: они сумели создать зрелище, долгие годы считавшееся непревзойденным. Что же касается моей работы, то когда на весь огромный стадион, где репетировала масса людей и снимало телевидение, раздавался голос Туманова: «Маргарита Александровна Эскина! Просьба срочно подойти к Северной трибуне!» — я понимала, что все-таки существую. Хотя знала, что могу делать гораздо больше.
* * *
Кончилась Олимпиада. Я опять без работы. Вдруг звонит человек, которого я знаю с детства, — театральный администратор Леонид Салай (я звала его дядя Леня). Он в то время был директором оркестра Вероники Дударовой и предложил мне идти к нему замом. Поскольку должности замдиректора в штатном расписании не существовало, меня оформили заведующей постановочной частью. Услышав, что я устроилась на работу в оркестр, мои друзья и знакомые умирали от смеха, ибо я и музыка — вещи несовместимые. Оркестр имел базу на Самотеке, в очень красивой церкви, правда, тогда довольно обшарпанной. Я сразу поняла, что замдиректора там нужен как собаке пятая нога. Делать совершенно нечего, тем более с моей энергией. И вот как находит себя человек: я открываю буфет! Приглашаю тех, кто работал со мной на Олимпиаде. Так, администратором становится Мила Краузова, и мы начинаем благоустройство буфета. Моя сестра с подругой берутся помочь. До того музыканты питались черствыми бутербродами с бледным чаем. Мы покупаем плиту, наводим чистоту и красоту, приносим из дома сковородки, вазочки, салфетки. Ранним утром я отправляюсь в магазины, закупаю продукты и волоку все на работу. Делаю простые и дешевые блюда, какие умею. Например, соленый творог (с луком и помидорчиками), который мажется на черный хлеб. Мы вводим новые формы торговли. Если раньше во время перерыва весь оркестр, как полоумный, мчался наверх, чтобы занять очередь и успеть поесть, то теперь спешить нет нужды: на прилавке в вазах лежат свежие бутерброды, куски нарезанного торта, на подносах стоят разные напитки (а для духовиков — в холодильнике). На плите — яичница с тертым сыром или луком, горячие сосиски, горячие бутерброды. Цена бутерброда — 15 копеек. Каждый берет, что захочет, и расплачивается, положив деньги в специальную тарелку. Довольно быстро выяснились пристрастия, и в соответствии с ними менялось меню. Музыканты были ошеломлены такой заботой о них. Стали появляться в буфете и до репетиции, и после. Начали туда приходить и наши друзья — уютно, дешево, вкусно. Со временем в оркестре работали уже все члены моей семьи: сестра и сын — на вахте, дочка помогала в буфете, муж подвизался дворником. Прежде двор убирали клиенты соседнего вытрезвителя. Поэтому иногда музыканты, показывая на моего Юру, говорили: «Маргарита Александровна, посмотрите, какого замечательного парня прислали сегодня из вытрезвителя!» Думаю, за буфет (больше не за что) меня взяли на гастроли по Чехословакии, хотя я там была напрочь не нужна. Это была моя первая поездка за рубеж.* * *
Следующей моей недолгой остановкой стал Дворец культуры МАИ, куда меня пригласили художественным руководителем. Там было много талантливых людей. Потрясающий агитколлектив создал Михаил Задорнов. Появился замечательный коллектив Валерия Девушкина. Но у Дворца культуры имелся еще и директор, а для меня быть не первой — трудно. Да и по размаху работа — совершенно не моя. И тут раздается звонок бывшего секретаря парторганизации Гостелерадио Владислава Карижского, который стал директором Союзгосцирка. Вообще-то партийная организация меня недолюбливала (я долго сомневалась, вступать ли в партию). Но Карижский, очевидно, считал меня хорошим работником. В это время цирк курировал мой любимый со времен телевидения руководитель — Георгий Иванов, ставший замминистра культуры. Карижский предложил мне любой отдел на выбор, но заметил, что основной у них — художественный. Его я, конечно, и выбрала. Союзгосцирк был управлением, объединяющим все цирки Советского Союза — государственная монополия, вне которой никаких цирковых трупп не существовало. В этом штабе создавался конвейер, определялось, какая группа, где и в каком месяце будет работать. Когда я впервые пришла в здание на Кузнецком Мосту, зрелище напомнило мне ГИТИС. Там репетировали представители всех национальностей. Был полный творческий роскошный кавардак. Через какое-то время звонит Карижский и говорит, что все сорвалось. Вмешался замминистра Петр Ильич Шабанов, который на телевидении при Лапине был заведующим отделом кадров. «Мы не знали, как от Эскиной избавиться, а вы ее хотите взять!» — сказал он. И меня в министерстве не утвердили. Как порой складывается жизнь! Когда Дом актера переехал на Арбат, то, по-моему, первой в акте передачи здания стояла подпись Шабанова, по-прежнему бывшего заместителем министра культуры СССР. В дальнейшем Петр Ильич возглавлял фирму, которая располагалась в нашем доме. Не стоит помнить недоброе. Человек почти всегда — заложник обстоятельств. Это надо уметь прощать. Но тогда я опять осталась без ничего и была в некотором не свойственном мне отчаянии. У меня даже возникла идея пойти работать в детский дом, о чем я всегда мечтала (но выяснилось, что без педагогического образования туда не берут). Потом я решила устроиться в киоск «Союзпечати». На что бывший редактор журнала «Клуб и художественная самодеятельность» Вадим Чурбанов сказал мне: «Не делайте глупости! Наша страна — не Америка, где сегодня ты — киоскер, а завтра — директор театра. У нас — номенклатура. Я узнал: то, что вас не утвердили, не связано ни с какими политическими мотивами. Значит, это временно. Не разрушайте свою жизнь». А на следующий день звонит Карижский, и я говорю, что согласна на любую должность. Прихожу в отдел, но уже не заведующей, а то ли редактором, то ли заместителем. И сразу возникает интересное дело: под руководством Георгия Александровича Иванова решено провести первый Всесоюзный конкурс цирковых номеров и аттракционов. Мне поручают его организацию. И хотя я ничего не понимаю в цирке, с увлечением берусь за дело: езжу по стране, собираю жюри и знакомлюсь с новой для меня сферой. Поразительная жизнь. Дома нет, живут на колесах. Гастроли расписаны на год вперед: месяц — в Ташкенте, месяц — в Караганде… С семьями, с детьми, со всем домашним скарбом, со своими животными цирковые артисты движутся по заданному маршруту, мгновенно обживая любое место. Селятся в общежитиях, условия в которых чаще всего — чудовищные (в передвижных цирках — это не оборудованные домики). А они живут, женятся, рожают и растят детей. С артистами цирка происходят невероятные превращения. Женщины, которых ты только что видела неухоженными, с кастрюлей борща, с плачущими детьми на руках, через 15 минут выбегают на парад-алле красавицами. Даже возраст не имеет значения: и пожилая актриса, и девочка-школьница на арене — королевы. Но цирковой народ сложен и противоречив. Видно это на примере национальных коллективов, в которые набирали людей в аулах, в деревнях, на ярмарках, где только могли найти талантливого, наделенного необычными способностями человека — наездника, акробата, канатоходца. В цирке очень много личностей уникальных, но не имеющих образования и лишенных культуры. Сочетание таланта, самобытности, невероятной трудоспособности с отсутствием общей культуры и создают сложности внутри цирка. С одной стороны — самоотверженность, постоянная взаимопомощь, крепкие семейные традиции, а с другой стороны — страшные, жестокие поступки. Очень способная клоунесса Ирина Асмус (ее многие помнят по первой передаче «АБВГДЕЙКа», где Ира была Ириской) долго репетировала номер с животными. И когда он был наконец готов, животных отравили. Таких случаев в цирке довольно много. Видимо, сказывается то, что месяцами артисты вынуждены жить в условиях общежития: раздражение, обиды, конфликты накапливаются и перерастают в жестокость. С конкурсом цирковых номеров и аттракционов мы ездили по стране. Председателем жюри была Ирина Бугримова. Она стала моей основной учительницей, много рассказывала о цирке, объясняла, что можно и чего нельзя по цирковым законам, как разговаривать с животными. Чего мне стоило посещение вольеров! Я жуткая трусиха, и никогда не забуду, как Марица Запашная повела меня ночью смотреть ее зверей. Открыла ворота сарая, а там — узенькая дорожка между клетками. Все звери начали рычать. Марица понимает, что мне страшно, идет вперед, поглаживая пуму, тигра и приговаривая: «Тихо, это со мной». Мне даже приходилось порой, преодолевая страх, выгуливать животных. Помню, как в Калинине гуляла возле цирка с медвежатами. Часто артисты обращались с просьбами помочь. В минском цирке мне показали довольно большую клетку с медведем. Он сидел в ней, упираясь во все стенки. Сказали, что это медведь, подаренный Маргарите Назаровой. Она к тому времени уже не работала. Что делать с медведем, никто не понимал: убить нельзя, выпустить — тем более. И бедное животное сидело в этой клетке, где невозможно было даже повернуться. Медведю, как не занятому в цирковой программе, не полагалось довольствие. И сотрудники цирка не знали, чем его кормить. Это было страшное зрелище. Вообще цирк произвел на меня сильное впечатление. Я жалею, что ничего вовремя не записала. Цирковые истории (в том числе о Галине Брежневой), все то, что я успела услышать и увидеть, и люди, с которыми я познакомилась, — ни на что не похоже. При мне начинал замечательный иллюзионист Рафаэль Циталашвили. Я помню потрясающего Сашу Фриша. Мне повезло увидеть, как ставил свои первые номера с силовыми гимнастами Валентин Гнеушев, который потом побеждал на всех международных конкурсах, работая в цирке у Никулина. Самого Юрия Никулина я узнала близко в то время, когда он строил новый «старый цирк» (раньше я часто видела Юрия Владимировича в Доме актера — он жил по соседству с Пляттом, дружил с ним и всегда был близок к театральному миру), Новый «старый цирк» оказался гигантским делом, которое потребовало огромных сил. Вообще Никулин умел добиться своего, причем — не ради себя. В цирке его обожали. Хотя некоторые злоупотребляли добротой Юрия Владимировича. Например, номер уже отработан в Москве, надо уезжать, а артисты разжалобят Никулина, и он их оставляет. Цирк — это другая галактика, Самобытное сообщество со своими законами. Здесь все друг друга знают, и любое слово или поступок на следующий день становятся известны каждому. Расположение этих людей надо завоевать. И, кажется, за полтора года работы я сумела это сделать. До сих пор в цирковом мире у меня немало друзей. Я очень страдала от того, что многое в этой сфере организовано неправильно. И мне казалось, что, если бы мне отдали в руки Союзгосцирк, я знала бы, как надо все переделать.* * *
После цирка очень короткое время я проработала директором Международной ассамблеи АССИТЕЖ (ассоциация театров для детей и молодежи). Затем мне позвонил Анатолий Васильевич Эфрос и попросил зайти к нему по поводу работы. Я приехала. Он открыл дверь, и я увидела необыкновенные глаза — какие-то детские, совершенно прозрачные, святые… И вся трагедия с отъездом Юрия Любимова и приходом на Таганку Эфроса вдруг отошла на задний план. Одного взгляда на Анатолия Васильевича мне хватило, чтобы согласиться работать с ним. В тот момент я не осознавала всей сложности ситуации. Я пришла на Таганку завлитом. Из меня такой же завлит, как и редактор журнала, но жена Эфроса, критик Наталья Крымова, считала, что моей задачей должно стать создание творческой, дружеской атмосферы, которая облегчила бы Эфросу работу. Тогда в театре ставили спектакль «На дне». Это повергло меня в ужас. Горького я не очень люблю, смотреть, как его репетируют, — такая тоска. Но тут я сидела в зале, и было ощущение, что Эфрос первым прочел эту пьесу, что до него никто никогда ее не ставил. И актеры Любимова раскрылись иначе. Удивительно играли все: Ваня Бортник, Люба Селютина, Валера Золотухин. Эфрос на репетициях — это отдельный спектакль. Наблюдая со стороны, я понимала, что он — не просто художественное явление, он явление изобразительное. Если бы сняли репетицию без звука — зрелище оказалось бы завораживающим. Хотя внешне Эфрос ничем не привлекал. Двигался он кошачьей походкой. Помню, объяснял Ольге Яковлевой, что ей нужно делать на сцене. И Оля, как машина на буксире, следовала за ним, повторяя каждое его движение. Однажды мы шли с Анатолием Васильевичем из театра, и он говорил мне о том, какая это демократичная труппа. Эфрос считал, что актеры Таганки — особые, «не театральные». «Ни в одном театре нельзя репетировать сразу с несколькими составами, — пояснял он, — а здесь — пожалуйста: будут играть по очереди…» Я не ощущала противостояния актеров Эфросу, о котором все говорили. Даже не верила, что мелкие пакости режиссеру делают те, кто с ним работает. Думала, конфликт подогревался откуда-то извне. Эфрос же, как мне казалось, вообще не обращал на это внимания. Он был занят только репетициями и не отвлекался даже тогда, когда ему сообщали, что кто-то проколол шины его автомобиля. Но, очевидно, все-таки сказывалась невероятная разница между двумя художниками — Любимовым и Эфросом. Хотя вроде бы Эфрос мог работать с актерами этого театра. Достаточно вспомнить прекрасный «Вишневый сад», поставленный им при Любимове. Кроме того, находясь рядом с Эфросом, невозможно было не попасть под луч его гениальности. Но сложности, конечно, существовали. И я Эфросу не помогла, не стала его защитой. Да и не могла я справиться с этой задачей. Я человек самостоятельный, а хороший завлит должен не просто быть единомышленником главного режиссера, но и в какой-то степени раствориться в нем. Мне же всегда важно опекать человека — стать ему старшей сестрой, мамой, бабушкой. А с Анатолием Васильевичем так не получалось. Еще и профессионально я была не готова, что, естественно, не придавало мне уверенности. Поняв, в каком положении очутилась, я решила уйти. Во мне остались нежная любовь к актерам Таганки и чувство вины перед Эфросом. Хотелось бы верить, что виноватыми себя признают и те, кто своим бессмысленно жестким администрированием создал эту сложнейшую ситуацию. Столкнули двух великих режиссеров, две разные театральные системы, два противоположных подхода к актерам, да и к самой жизни: Любимова, остро ощущающего время, и Эфроса, живущего вне времени, озабоченного вечным. Актеров же обрекли на трудности, а подчас и — страдания.* * *
Успела я недолго поработать и в управлении культуры Мосгорисполкома заведующей репертуарным отделом. Испытываю огромное удовлетворение от того, что именно при мне главным режиссером ТЮЗа была назначена Гета Яновская (хоть это и не моя заслуга). Десять лет прошло с тех пор, как я рассталась с телевидением. Я многому научилась, но понимала, что жизнь уже доживаю: через год — пенсия. Но тут началась перестройка, и я, которая десять лет не могла найти работу по душе, вдруг оказалась всем нужна. Звонит Михаил Левитин, главный режиссер театра «Эрмитаж», зовет к себе директором. Звонят другие. Моя мудрая сестра Зина удерживает меня от всех соблазнов. Проходит революционный съезд ВТО, создается Союз театральных деятелей. Звонит Михаил Шатров и говорит, что новый секретариат решил: главным критерием в подборе кадров будет незапятнанность репутации. По этому критерию я подхожу, и мне предлагают создать Бюро пропаганды советского театра. Шатров спрашивает, сколько мне нужно времени на размышление. Отвечаю, что нисколько — я согласна. Счастлива невероятно: создать с нуля что-то новое — после стольких-то лет невостребованности! Немедленно берусь за дело, разрабатываю структуру, хожу по инстанциям — выбиваю ставки, набираю людей, придумываю название — «Союзтеатр»… И тут как-то захожу в СТД и в коридоре встречаю Михаила Александровича Ульянова, который всегда был для меня воплощением всего самого народного, самого мужского и правдивого. Когда Ульянов в меховом полушубке предстал передо мной, я потеряла дар речи. А он вдруг предлагает мне должность директора Дома актера.ДОМ АКТЕРА
В Дом актера на улице Горького я впервые вошла в 4 года. С тех пор он, с одной стороны, был для меня доступным, а с другой — недосягаемым. Когда я приходила туда ребенком, я могла что-то разглядеть, лишь приподнявшись. И это детское ощущение долго жило во мне. Годы работы на телевидении немного возвысили меня. Иногда даже казалось, что сравняли с папой. Но только иногда.После того как у папы случился первый инфаркт, Михаил Иванович Жаров высказал мысль пригласить меня в Дом актера заместителем директора, чтобы я могла помочь отцу в работе. И многие его поддержали. Но папе было неловко назначать меня на эту должность — я его понимаю. Потом несколько лет вопрос о моем назначении не обсуждался и вновь возник, лишь когда папа стал совсем слаб. Меня вызвал для разговора Михаил Иванович Царев, а в отделе кадров даже заполнили анкету. Но, видимо, испугавшись эскинского влияния, в тот же день папе назначили другого заместителя — Марию Вениаминовну Воловикову. Через некоторое время она возглавила Дом актера. Маша Воловикова долгие годы работала референтом, была абсолютно театральным человеком, интересной и обаятельной женщиной. Она сделала для Дома актера много хорошего. Но еще при папе жизнь Дома немного затихла, а потом суше и строже стала его атмосфера, появилось больше официальных вечеров типа «Союз труда и искусства». Позже я прочитала письмо Бориса Тенина и Лидии Сухаревской. В ответ на приглашение принять участие в каком-то вечере, они писали, что никогда не придут в Дом актера, поскольку человека, олицетворявшего этот Дом, больше нет. Сама я тоже почти перестала там бывать. Дом актера становился чужим, и это было горько. Знаю, что и в те годы мысль пригласить меня на место отца продолжала витать в воздухе. К Цареву обращались Людмила Касаткина, Юлия Борисова и другие. Мне же эта идея всегда казалась невероятной. А когда Михаил Ульянов начал уговаривать, стало просто страшно. Многие считали (да я и сама понимала), что на этом месте я всегда буду обречена на сравнение с папой. И это сравнение окажется не в мою пользу. Помню, мне позвонил Александр Петрович Свободин, замечательный критик (помогавший папе издать его книгу) и сказал: «Конечно, вы можете принять это приглашение. Но есть то, чего вам никогда не добиться: Александру Моисеевичу никто не мог сказать „нет“». Однако я понимала и другое: это по-настоящему мое дело. Да и душа всегда болела за Дом актера. Так что была и романтическая сторона — «поднять повергнутое знамя», продолжить дело отца.
* * *
Летом 1987 года я вошла в папин кабинет, в котором все было переставлено, все непривычно. Я начала готовить открытие сезона. При папе это мероприятие считалось официальным, политическим. А тут и так кругом — кипение перестроечных страстей. Но все-таки, следуя традиции, первую часть вечераоставляем политической. Неутомимая Ирина Дмитриевна Месяц, которой к этому моменту — за семьдесят, сумела пригласить людей, с чьими именами связывали перестройку: Егора Яковлева, Виталия Коротича, Михаила Ульянова. Для второй части вечера подготовили «капустник». Я разослала приглашения и с трепетом ждала, кто откликнется. Откликнулись все — у входа нельзя было протолкнуться. Ульянов выглядел счастливым. Сказал, что давно мечтал, чтобы в этом зале собралось столько актеров. А у меня была и своя, отдельная, радость, Я пригласила на вечер Тенина и Сухаревскую. И они пришли! Мое назначение приветствовали многие. Я расставила в кабинете мебель, как при папе. Некоторые пожилые актеры вставали в проеме двери (тоже, как при папе, всегда открытой) и плакали — от счастья, что все здесь по-старому и на этом месте сидит Эскина. Обрадовались моему приходу и многие работники Дома. Знаю, например, что для Ирины Александровны Резниковой перестройка — это Горбачев во главе страны, Ульянов во главе СТД и Эскина во главе Дома актера. Но были люди, которые хотели видеть на этой должности кого-то другого. Так, Евгений Павлович Леонов, после смерти Жарова ставший общественным директором, прекратил работать в Доме. Может быть, приходил два или три раза на вечера, но никакого участия в обсуждении дел не принимал. Я старалась привлечь его, но потом поняла, что это бессмысленно. Я замечала, что не ходят в Дом актера и многие другие — Александр Ширвиндт, Сергей Юрский…* * *
Мы старались сохранить традиции. Восстановили очень популярные прежде программы посиделок «Междусобой» и «При свечах». Первую готовила Ирина Дмитриевна Месяц, а вел специально приезжавший из Ленинграда Владимир Дорошев. Посиделками «При свечах» занималась Ирина Александровна Резникова (это она делала на телевидении передачу «Театральная гостиная»). Я уже рассказывала о двух замечательных женщинах — Адриенне Сергеевне Шеер и Галине Викторовне Борисовой, которые долгие годы вместе с папой создавали традиции и атмосферу Дома актера. Позже его верными помощницами были Месяц и Резникова. Они стали и моей опорой. Ирина Дмитриевна и Ирина Александровна сами считали и всем актерам и режиссерам внушали, что нет ничего важнее происходящего в Доме. Никакие спектакли, съемки и записи не могли быть оправданием неучастия в вечере. И что меня всегда поражало: организовав все с огромным трудом, они отходили в сторону и были счастливы, когда после вечера гости благодарили меня за доставленную радость. Они отдавали все силы, нервы и душу, но, получается, работали на одного человека, зная, что «спасибо» будут говорить ему. На это не каждый способен. Одним из самых крупных вечеров, которые мы тогда провели, был «антиюбилей» Михаила Александровича Ульянова. Полукапустническую, полуторжественную форму «антиюбилеев» придумал Борис Михайлович Поюровский (в отличие от юбилеев, она дает возможность пошутить над теми, во имя кого затевается праздник). Борис Михайлович вообще очень помогал мне. Готовил вечера, не уставая рассказывать, как это делалось при Эскине и что по тому или иному поводу считал Александр Моисеевич. Вечер Ульянова был для меня очень ответственным. Михаил Александрович — председатель СТД, член Центральной ревизионной комиссии ЦК, и, ко всему этому, — человек, при виде которого у меня замирает от счастья сердце. Появлялись какие-то новые идеи, возникали новые формы не только вечерних, но и дневных мероприятий. Например, я придумала нечто вроде консультативного дня, когда актер может посоветоваться со специалистами: юристом, модельером… Занималась этой программой Маргарита Саксаганская. Помню, звонит мне как-то Кира Прошутинская и просит: «Возьмите для этого дня очень хорошего мальчика — Валю Юдашкина. Его надо немного продвинуть». Упрашивала она долго, и я нехотя согласилась — ладно, пусть приходит. В Дом актера стали возвращаться бывшие его постоянные обитатели — Александр Ширвиндт и Сергей Юрский. Пришел Гриша Горин. Возобновились встречи Нового года, а встречи старого Нового года, которые делали Гриша Гурвич и Люся Черновская, и не прекращались.* * *
Был период, когда у театральной общественности совсем не пользовались успехом творческие вечера. Политические волновали людей гораздо больше. К нам приходили Аркадий Ваксберг, Владимир Познер, Геннадий Бурбулис, Ярослав Голованов… Борис Ельцин выступал в Доме актера еще до избрания президентом. Ельцин тогда был необычайно популярен. Переговоры мы вели с его помощником Львом Сухановым. Он к этому моменту немного проработал с Борисом Николаевичем, но уже был восхищен им. Рассказывал, какой Ельцин честный, масштабный. Говорил, что у него очень скромная жена — может, она будет на вечере, но, если и придет, то незаметно. В Дом актера набилось несусветное количество народу. Ельцина ждали в фойе, а я находилась в своем кабинете. Момент встречи с ним запомнился хорошо. Дело в том, что ко мне зашла актриса еще фронтовых театров Ксана Бассен. Она обожала папу, потом перенесла эту любовь на меня. И всегда приходила с каким-нибудь угощением собственного приготовления. В этот раз она протягивает мне студень с соленым огурцом и требует, чтобы я немедленно все это попробовала. И вот стою я со студнем и с огурцом, и в этот момент входит Ельцин. Мы порадовали Бориса Николаевича тем, что пригласили вести вечер выдающуюся балерину Екатерину Максимову, — слышали, что она ему очень нравится. Ельцин выступал долго. Мне показалось, говорил он не очень популярно и в меру интересно. Но что меня поразило — это его знание проблем. У нас в фойе тогда была открыта выставка, посвященная Щелыково — бывшему поместью Островского, где находился Дом отдыха ВТО. Поблизости от него собирались строить химзавод, что могло ухудшить экологическую ситуацию. Я подвела Бориса Николаевича к стендам. И вдруг не я ему, а он мне начал излагать эту проблему. Оказывается, он был в курсе и знал даже мельчайшие детали. В те времена мы не заказывали ничего в ресторане — считалось, дорого. Поэтому будущего президента страны мы угощали чаем. Но чай у нас готовили удивительный — этим специально занимались две женщины-«чайницы». Ельцин остался доволен. В дальнейшем Борис Николаевич не раз помогал нам и был добрым гением Дома на протяжении долгих лет.* * *
Нам уже казалось, что жизнь постепенно налаживается. Мы были полны планов и идей… И вдруг однажды вечером у меня дома раздается телефонный звонок. Зять снимает трубку и, слушая, как-то странно смотрит. Повесив трубку, осторожно произносит: «Звонили из Дома актера, там что-то горит. Но просили вам не говорить, чтобы не волновать». Через несколько минут мы с ним — уже на месте. Издалека вижу много пожарных машин и «Скорую помощь». Чувствую страх. Подбегаю к подъезду. Навстречу — какой-то мужчина начальственного вида. Кидаюсь к нему: — Что там? — Горит. Перекрытия-то деревянные. В раздевалке на скамейке сидит наша дежурная, с ней — администратор Дома Ира Докшицер, еще кто-то. Сажусь рядом — дальше все равно не пускают. Проходит час за часом. С лестниц водопадом течет вода. Периодически появляется следователь, что-то спрашивает. В 5 утра мы с Ирой вспоминаем, что в 6 должны прибыть из Горького секретари СТД. Едем на Ярославский вокзал, там с Ульяновым, Уриным, Литвиновым и другими садимся в машину и мчимся к Дому актера. Михаил Александрович спрашивает: «Что, Дома нет?» Отвечаю, что пока, вроде, еще есть. Подъезжаем, выясняем обстановку. Наверх подниматься по-прежнему нельзя. Все уезжают. Мы бродим по вестибюлю. Воды по колено. Понимаем, что вся вода с первого этажа уходит вниз, в наш знаменитый ресторан. А там продукты, вещи, документы. Пытаемся дозвониться до руководства ресторана, но тщетно. (Работники ресторана будут рваться туда на следующий день, потому что срочно понадобятся белые скатерти — кормить руководство СТД. Тут немного сдали нервы, звоню на Страстной и прошу не беспокоить из-за ерунды.) После ухода пожарных понимаем, что надо охранять дом, оставшиеся вещи, уцелевшие бумаги. На свой страх и риск поднимаемся наверх. Хорошо, что сознание затуманено, все воспринимается, как кинокадры. Большая часть крыши и 6-го этажа рухнули и лежат в зале и фойе 5-го. Все утонуло в обломках, среди которых видны наши шикарные люстры — разбитые, обгоревшие, расплавившиеся. Над залом зияет небо. В помещениях, спасенных от огня, все залито водой. Уйти домой невозможно. Ищу место, где можно приткнуться и немного отдохнуть. В первый же день после пожара была создана комиссия СТД Но никого из ее членов в нашем сгоревшем доме я не видела. Когда в печати появились неведомо откуда взявшиеся домыслы о причинах пожара (например, что в Доме торговали обувью и загорелись коробки), я просила защитить нас от напраслины. На мои просьбы руководители СТД отвечали: «Вот вы этим и займитесь, это ваше дело — защищаться». Именно в тот момент произошло разделение на СТД и Дом актера. У работников СТД возникали подозрения, не украли ли чего ценного. А ведь кроме сотрудников Дома актера, спасением мебели, имущества многочисленных кабинетов СТД, аппаратуры никто вообще не был озабочен. Шофер Дома актера Сережа Пелипас привел своих друзей-скалолазов и спасателей. Они разработали специальный план с учетом возможного обрушения здания. Адвокат Андрей Макаров объяснял мне: если что-нибудь в доме случится, отвечать буду я, так как нет никакого приказа вышестоящей организации — СТД — что-либо предпринимать. Но мы начинаем работы. Каждое утро — обход. Впереди — я в каске, за мной — спасатели и замыкающим — главный инженер Виктор Левак, который знает в доме каждую кнопку, каждый шнур. Театры приходят на помощь, дают помещения, куда можно временно складывать вещи. Заказываем грузовики, распределяем людей. День заполнен до отказа, страдать некогда. Наш «штаб» расположился в пристройке, у меня малюсенький кабинетик. Основное здание охраняем на всякий случай и днем, и ночью. Спасатели полны внимания и заботы. И еще один добрый человек не забывает о нас — начальник отделения милиции Игорь Громов. Он нам очень помог, когда возникла очередная неприятность: огромный кусок внешней стены дома отделился от массива здания и в любую минуту мог рухнуть — внутрь дома, разрушив все здание, или наружу, прямо на улицу Горького! Посылаю сообщение во все московские начальственные инстанции — ни ответа ни привета. И только Громов вникает в суть проблемы, успокаивает и говорит, что обойдемся сами. Договаривается, чтобы на время перекрыли движение по улице Горького. Спасатели разрабатывают операцию. Задача — аккуратно положить внутрь отколовшийся кусок. Наступает критический момент. Я на улице. Знобит. Рядом Громов. Кто-то с рацией дает команду спасателям. Те начинают двигать плиту… Но, нет, первая попытка не удалась. Знобит еще сильнее, на меня набрасывают пальто. Вторая попытка — и наконец плита достаточно мягко положена внутрь здания. …А рядом с нашим двором, под окнами «Московских новостей», бушует и пенится политическая жизнь. Толпы людей горячо обсуждают события, чего-то требуют, кого-то клеймят. Однажды под горячую руку попал наш мирный заведующий постановочной частью Борис Кивелевич, его ударили, а за что — не сказали. Через некоторое время после пожара проводим вечер в помещении библиотеки СТД у Вячеслава Нечаева. Приходят все приглашенные. Такая демонстрация единства придает нам силы. Помогают и друзья с телевидения: по разным каналам проходят сюжеты о Доме актера. С восхищением вспоминаю, как великий Борис Александрович Покровский дает интервью о нашей беде, стоя среди дворовой помойки. Всегда рядом Владимир Михайлович Зельдин, приходят Георгий Павлович Менглет с женой Ниночкой, Евгений Александрович Евстигнеев, Гриша Горин и многие-многие другие.* * *
В каком-то интервью я назвала время, проведенное на пепелище, счастливым. Оно действительно было не только драматичным. Коллектив Дома актера стремился сохранить что-то необычайно важное. Мы понимали, какое это богатство для Союза театральных деятелей: в Москве на самом лучшем месте стоит дом, в котором оставили частицы своей души многие великие люди. Ясная цель — спасти Дом и выжить — делала жизнь осмысленной. И сильно объединила нас. Вспоминаются даже наши обеды. Главная по обедам у нас была Лиля Мазо (папин секретарь, а при мне — завкадрами). Мы накрывали стол прямо посреди окружавшего кошмара. И еще приглашали к этому столу актеров, которые нас навещали. А на Страстном в СТА — своя жизнь. Чувствовала, там вынашивается план закрыть Дом актера. Сразу после пожара я подготовила письмо на имя председателя исполкома Моссовета Сайкина с просьбой передать нам на баланс все здание. Раньше мы уже обращались к районным властям с такой просьбой, так как у нас постоянно возникали трудности с эксплуатацией здания: старые коммуникации требовали большого внимания, а часть дома занимали другие организации: болгарское представительство, редакции газет и журналов… Письмо подписал Ульянов. Я была уверена: он — наш главный союзник. Но потом Михаил Александрович попал в больницу и оттуда очень странно разговаривал со мной по телефону. Все время повторял: «Нам надо договориться на берегу». И я ощущала, что мы уже — на разных берегах. Приходит ответ, что дом передать нам не могут, поскольку район потеряет средства от аренды. Средства по тем временам были мизерные. Ничего не понимаю. Но живу в абсолютной уверенности, что все будет хорошо, Просто надо терпеливо и настойчиво биться. Удивляет только, что сражаться приходится с теми, для кого Дом много лет был своим. Может быть, сказалась известная, хотя и скрываемая, неприязнь к Дому актера? Тогда ведь вышестоящие организации не терпели под собой тех, кого все любят. Папу было трудно притеснять — очень уж он прирос к своему месту, а я только назначена — и туда же: слишком самостоятельна и не проявляю должной почтительности к работникам аппарата СТД Много пришлось пережить в те дни унижений, обид и даже предательств. Но самым трудным было осознать, что за моей спиной договариваются о судьбе здания. Дом отдали (применить иной глагол не решаюсь, поскольку точно не известно, что произошло) другим людям. Не сразу я поняла, что жизнь меняется коренным образом, а перестройка — это разрушение и обвал всего, что было раньше.* * *
Чуть позже разносится информация о создании Фонда помощи Дому актера. Какие-то люди, в основном, как всегда, — неимущие пенсионеры, присылают на счет СТД деньги. Узнав об этом, мы с Борей Поюровским посылаем откликнувшимся на нашу беду благодарственные письма. Нам была очень дорога в те дни человеческая верность. На телевидении решили провести благотворительный марафон. Все переговоры велись с СТД. И я не понимала, почему Союз театральных деятелей организует марафон, ничего не говоря об этом мне. Но поскольку в тот момент было много более важных проблем, я занималась ими. И вдруг буквально за день до марафона меня попросили принять в нем участие — помочь ведущему Володе Молчанову какими-то историческими сведениями о Доме актера и встретить гостей программы. Марафон проходил в спорткомплексе «Олимпийский». Мне выделили там комнату, в которую мы привезли несколько предметов интерьера из моего уже не существовавшего кабинета. Помню, когда в эту комнату вошла Вера Васильева и увидела знакомую лампу, у нее потекли слезы. Весь день я живу в этой комнате, актеры идут один за другим. Что из отснятого выдается в эфир, я не знаю. В какой-то момент меня ведут вниз, на спортивную арену, где идет благотворительный концерт. Я сижу в первом ряду и смотрю, как мелькают на табло миллионы — деньги, которые поступают на счет. Для меня весь этот день был и торжественным, и трогательным. С тех пор я довольно часто появляюсь в эфире и, не скрою, с удовольствием исполняю роль «подсадной утки»: внимать собеседникам, время от времени задавать вопросы — вовсе не обидная, а даже приятная роль. А тут еще эмоции захлестывали, вместе плакали и смеялись, вспоминая прошлое. Выступила даже наша Вера. Долгие годы Вера была официанткой в ресторане Дома актера, а потом работала в буфете на пятом этаже. Ее знала почти вся театральная Москва. Вера становилась свидетелем многих посиделок и встреч. И ей было о чем рассказать. Дочери Веруши тоже связаны с Домом актера. Одна из них, красавица Лариса, до сих пор работает у нас буфетчицей. А младшая, Юля, которая сейчас живет в США, буквально выросла в Доме актера Она — победительница первого конкурса «Мисс СССР». Марафон многое значил для меня. Это был новый поворот в моих отношениях с телевидением, и, кстати, именно тогда я поняла, что камеры меня нисколько не смущают. Это был иной поворот в отношениях с людьми — марафон сблизил меня с актерами: я ведь к тому моменту возглавляла Дом актера всего три года и не всех еще хорошо знала. И в то же время остался какой-то осадок: марафон проводился по инициативе СТД, и собранные средства шли не на счет Дома актера, хотя именно трагедия с Домом побуждала людей к благотворительности.* * *
Нам дают залы для вечеров: Дом архитектора, Киноцентр, Дом кино, Театр на Таганке… К нам приезжают ленинградцы, одесситы… Чудесный вечер готовит для нас знаменитый ансамбль архитекторов «Кохинор» и «Рейсшинка». Но я понимаю, что долго без своего дома мы обойтись не сможем. Все предлагаемые помещения не подходят, а то, что мы присматриваем для себя сами, нам не дают. И тут звонит критик Александр Шерель и сообщает, что министр культуры Николай Николаевич Губенко предлагает ему должность советника, и он примет предложение, если можно что-то сделать для Дома актера. Отвечаю, что было бы хорошо для наших вечеров получить большой зал министерства. Через несколько дней узнаю, что Губенко готов его сдать нам и просит посмотреть. Прихожу, вижу холодное мраморное фойе и зал, приспособленный лишь для заседаний и показа кино. Поскольку момент критический, говорю «да». И Дом актера подписывает договор аренды с Министерством культуры. 16 ноября 1991 года состоялся первый вечер — открытие зала. Мы вывели на сцену тех, кто присутствовал на открытии Дома актера в 1937 году. Это были Иван Козловский, Николай Анненков, Ольга Лепешинская, Асаф Мессерер, Софья Пилявская. Позже я узнала, что на открытии в 37-м присутствовала и Мария Владимировна Миронова. Наконец у нас есть дом, пусть маленькая, одна на всех, но своя комната, есть зал, зритель и жажда действовать. Вдруг срочно вызывает Губенко. Сообщает, что был в мэрии и договорился — здание бывшего Министерства культуры СССР передадут той организации, которую назовет он. И он предлагает его нам, Дому актера. Я лепечу что-то невнятное: «Оправдаю доверие. До конца дней у вас останется свой кабинет в этом здании…» Губенко дает мне наказ, чтобы завтра в 8.30 десять-двенадцать корифеев сцены сидели в приемной Лужкова. И корифеи, мои милые борцы — Вертинская, Этуш, Табаков, Ширвиндт и другие — встают ни свет ни заря и собираются в приемной. Входит Лужков, видит эту компанию, радостно удивляется, приглашает в кабинет. Светский разговор длится час-полтора, и под конец, как бы между прочим, Губенко кладет перед мэром распоряжение о передаче здания Дому актера. И хотя еще не все визы собраны, Лужков (спасибо ему за быстроту решений!) подписывает. Я считаю, что одного этого поступка достаточно, чтобы считать, что Николай Николаевич Губенко не зря был министром. Хотя всегда обидно, когда актеры, да еще такие мощные, как Губенко, тратят свой творческий потенциал на административную работу. Но, поскольку актер — существо эмоциональное, его поступки, даже на посту министра, — человеческие.* * *
Никто не верил, что дом на Арбате можно обжить. Михаил Жванецкий на открытии сказал: «Нельзя сделать в КГБ ресторан, а в Министерстве культуры — Дом актера. В этом здании принимали спектакли, давали ставки. Здесь брали за горло». К счастью, любимый мною мудрый Жванецкий на этот раз ошибся. Мы постепенно обживали новый дом. Я не представляла, что делать с фойе — таким холодным и отталкивающим. Обращалась к художникам. Они говорили: «Это мрамор, его можно оживить, если пустить по нему большие куски ткани». Какие ткани?! За свет расплатиться нечем. И меня начинает преследовать идея: чтобы великий фотохудожник Валерий Плотников хоть ненадолго повесил бы в фойе свои фотографии. Я с Плотниковым даже не была знакома. Однажды где-то встречаю его, осторожно обращаюсь с просьбой. И он, не раздумывая, соглашается. Плотников оживил фойе второго этажа. А сам фактически стал жителем этого Дома. Он женился на нашей сотруднице, он празднует здесь все свои даты. Он любит Дом. А я уже и забыла, что он — великий Плотников, и числю его родным человеком. После пожара актеры звонили и первое, что спрашивали: «А кабинет Эскина уцелел?» К счастью, уцелел. Мебель из того кабинета и сейчас стоит у меня: папин стол, кресла, диван, на котором сидели многие великие люди — вплоть до Поля Робсона. По-прежнему держу пианино. Как инструмент оно не существовало уже при папе. Но до сих пор, случается, кто-то здесь репетирует, хотя все настройщики мира отказались за него браться. Лампы, фотографии, картины — почти все папино. Зеркало тоже, только тогда оно находилось не в кабинете, а в коридорчике перед ним. Там члены общественного совета снимали одежду и вешали ее в шкафы. Это была великая привилегия. Если человеку говорили, что он может раздеться там, это означало его признание. А смотрелись все актеры в это зеркало. Раньше я даже не знала, когда день рождения Дома актера. Мы его не отмечали, проводили лишь открытие и закрытие сезона. После пожара заглянула в книгу отца и впервые увидела строчку, написанную мелким шрифтом: «Когда открылся Дом актера — это было 14 февраля 1937 года — страна отмечала столетие со дня смерти Пушкина, и первым нашим вечером был пушкинский…» Я опешила. Мне это показалось какой-то мистикой: сгорел он тоже 14 февраля.* * *
Неожиданно мне приносят правительственный конверт с указом президента Ельцина. Согласно указу, наше здание передается из муниципальной собственности в федеральную и переходит в управление Министерством культуры. А у министерства были свои планы в отношении здания. Так совпало, что на следующий день в нашем зале назначен сбор московской театральной общественности. Теперь я уверена — это был знак свыше. Утром звонит Николай Николаевич Губенко и просит встретиться до собрания. На встречу приходят также министр культуры Евгений Сидоров и Михаил Ульянов. Свыше опять подоспела неожиданная помощь: в кабинете появилась съемочная группа «Авторского телевидения». Журналисты не в курсе событий, просто решили взять у меня интервью. Таким образом, наши отношения выясняются перед камерой. Идем в зал. Ульянов отчитывается о деятельности СТД и вынужден сказать о Доме актера. Поднимается шум, актеры требуют, чтобы я выступила. Говорю сдержанно, но уверенно: «Указ нарушает предыдущую договоренность, и это несправедливо». Со страстными речами в защиту Дома выступают Элина Быстрицкая, Сева Шиловский и другие. В результате появляется новый указ Ельцина. У нас опять праздник после очередного этапа борьбы. Теперь надо оформить отношения с Госкомимуществом, во главе которого — Анатолий Борисович Чубайс. Мне совершенно все равно, что думают и говорят об этом человеке. Я верю в него, хотя знаю, что он не только невероятно целеустремлен, но и упрям, даже когда не прав, а бывает и такое. Мы подписали договор об аренде здания на Арбате на 49 лет. И очень важно, что в договор со слов Чубайса вписано «без арендных платежей». Это дало нам возможность встать на ноги, научиться хозяйствовать и заняться благотворительностью.





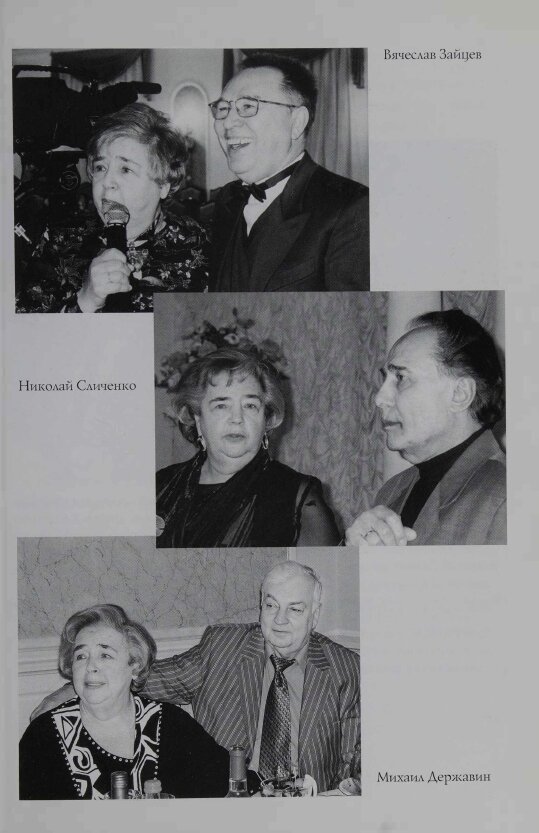
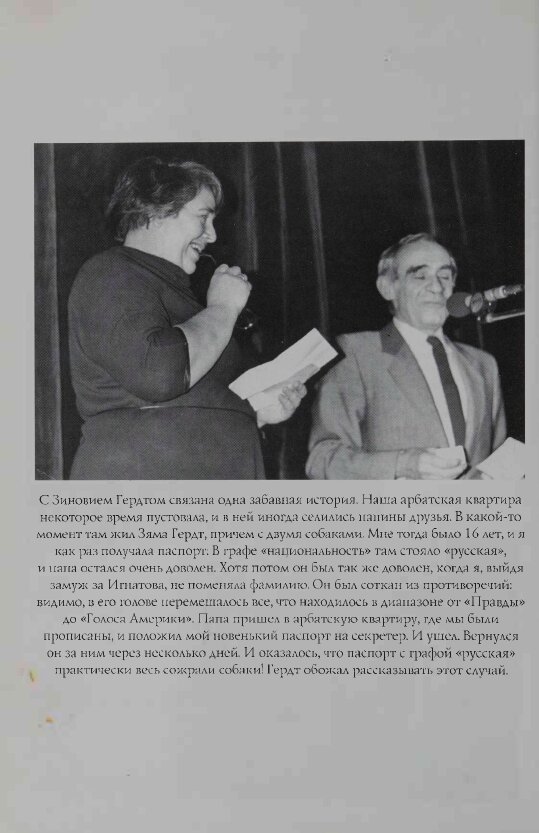
* * *
Не могу не сказать еще об одном человеке, который был в курсе всех перипетий с Домом и опекал нас, — это Наина Иосифовна Ельцина. Я познакомилась с ней благодаря Марии Владимировне Мироновой. Наина Иосифовна приходила в Дом актера. Меня всегда восхищало, как она проста, умна и невероятно элегантна. И как трогательно она объясняла поступки Бориса Николаевича. Я помню, был фуршет в нашем ресторане, совпавший по времени с началом чеченского конфликта. Наина Иосифовна сидела за столом и разъясняла окружившим ее актерам, почему Борис Николаевич так поступает. Всем было понятно, что разумное объяснение найти трудно. Но как искренне она это делала! Вообще ее отношение к Борису Николаевичу — удивительное. Она всегда любила и уважала его. Она говорила дочкам: «Вы у меня не спрашивайте, спросите папу — он все читал и все знает». Мы довольно много вместе занимались не только делами Дома актера. К примеру, ездили с ней под Загорск, в детский дом для слепоглухонемых детей. Она там себя очень естественно вела, внимательно слушала, брала на руки ребенка. Она всегда старалась помочь. Очевидно, по-человечески, по-женски, она решала много государственных дел. Это подтверждают и случаи с Домом актера. Когда у меня возникали трудности, я знала, что могу позвонить двум людям — Анатолию Борисовичу Чубайсу и Наине Иосифовне. Не так давно я написала ей письмо. Это было уже после того, как Борис Николаевич ушел в отставку, и мне неизвестно, передали ли ей это письмо. Я написала Наине Иосифовне, что она для меня — человек совершенно самодостаточный. Независимо от того, жена она президента или нет. Возможно, то, что она была женой президента, лишь подчеркнуло ее замечательные качества, которые в других обстоятельствах оказались бы не такими заметными. Ни мною, ни Домом актера Наина Иосифовна никогда не будет забыта.…Возможно, то время сумеет описать какой-нибудь настоящий писатель. Политическая, социальная ломка влекла за собой человеческую. Как будто бульдозер шел по людям. И главное было — успеть отбежать в сторону или, в крайнем случае, врыться в землю между колес. Слава Богу, эти наезды происходили с перерывами, и можно было отдышаться.
ДОМ АКТЕРА СЕГОДНЯ
Дом актера зародился в те годы, когда пойти было особенно некуда. Кроме того, сам Дан стоял на юру, на улице Горького, поэтому актеры заходили в него, даже если просто шли мимо из своих, театров. И вдруг ситуация меняется: на каждом шагу — клубы, кафе, рестораны, казино. А к нам, на Арбат, еще нужно специально добираться. Как же сделать, чтобы Дом актера стал притягательным?Каждый год, приходя после летнего перерыва на работу, я с радостью произношу: «У нас начинается революция». При этом я вовсе не желаю ломать все, что было прежде. Наоборот, считаю необходимым сохранить самое главное. Для меня революция — это некий творческий и организационный прорыв, потребность в чем-то лучшем. Приятно знать, что Дом актера популярен. Но если хоть один год мы не сделаем новый рывок, мы можем безнадежно отстать. Грише Горину понравилось, как я однажды сказала: «Мы должны причинять людям радость». Собственно, на это и направлена вся деятельность Дома актера. У нас часто проходят творческие вечера, на которых актеры выступают перед своими коллегами. И даже признанные мастера необычайно волнуются перед этими выступлениями. Когда раньше проводились праздники в Доме актера, мой папа мог позволить себе потратить на бутерброды три рубля. Если вдруг выписывались счета на пять рублей — значит, ожидались великие мхатовцы. У нас же теперь есть возможность накрывать столы. Пару лет назад, к примеру, родилась идея программы «Круглая дата». В начале каждого месяца мы приглашаем всех, отпраздновавших юбилей в предыдущем месяце. Те, кто никогда не был в Доме актера, спрашивают: «А сколько надо за это платить?» Но Дом актера — одно из немногих мест, где за хорошее отношение к тебе ничего платить не требуется.
* * *
Полтора десятка лет назад мне пришло в голову создать Клуб директоров московских театров. Ведь директора, впрочем, как и художественные руководители, работают достаточно обособленно друг от друга. На мою идею в течение первых двух лет откликались максимум пять-шесть человек. Мне уже стало казаться, что затея нежизнеспособна. Но вдруг через два года собрались все. С тех пор больше десяти лет они перезваниваются, решают вместе какие-то вопросы, обращаются друг к другу с просьбами, что раньше случалось нечасто, и ежемесячно встречаются — каждый директор по очереди принимает в своем театре весь клуб. Так возникло новое сообщество профессионалов. Свой клуб существует у ветеранов. Он называется «Еще не вечер». В таком клубе не было необходимости в советские годы — жизнь актера-пенсионера сложной и безрадостной стала потом. Мы старались сделать так, чтобы пожилые актеры знали, что их помнят. Случалось, какая-то организация выделяла продукты, и мы их по праздникам раздавали нашим ветеранам. Мой папа обожал дарить подарки. И я такая же. Каждый год думаю, чем бы еще удивить актеров. Когда в магазинах ничего не продавалось, легко было порадовать человека. Например, коробочкой конфет. С фабрикой «Красный Октябрь» дружил еще отец. А те, с кем он дружил, его не забудут. Однажды я позвонила на фабрику. Услышав мою фамилию, там спросили: «Вы имеете отношение к Эскину из Дома актера? Тогда для вас сделаем все». С тех пор и я дружу с «Красным Октябрем». Когда-то мы покупали у них «Сливочную помадку», «Южный орех», набор шоколада «Театральный». Я очень хорошо помню, как в те дефицитные времена я преподнесла коробочку «Сливочной помадки» Олегу Табакову в благодарность за то, что он делает для Дома актера. Его счастливое лицо — до сих пор у меня перед глазами. А эти конфеты стоили тогда всего 66 копеек. Степень благодарности и умение выразить эту благодарность у актеров — невероятные. Мы посылаем открытки с днем рождения. И однажды позвонила пожилая одинокая актриса и, поблагодарив за поздравления, сказала: «Я спала, положив рядом ваше письмо». Тех, у кого жизнь в театре еще впереди, тоже должен привлекать к себе Дом актера, иначе у него нет будущего. Мы начали проводить посвящения в актеры. В этих вечерах участвуют выпускники училищ, только что принятые на работу в московские театры. Бывшие студенты сначала с удивлением восприняли нашу идею, но потом охотно подключились к подготовке вечера, а теперь уже стали в Доме своими. Дом актера объединяет людей разных возрастов, разной степени популярности и востребованности, связанных с разными театрами. Особенность Дома — в нем все равны. Мне кажется, это очень важно сейчас, когда жизнь всех сильно расслоила.* * *
В Доме актера существуют удивительные объединения. В какой-то период актеры вдруг увлеклись теннисом. Я сначала сопротивлялась их затее, потом сдалась. До сих пор, когда я прихожу на турнир, поражаюсь: солидные люди, все — заслуженные и народные — как дети отдаются игре. По окончании турнира они придумывают «капустник» и устраивают в Доме актера замечательный праздник. А накануне дня рождения Дома, завершив свой турнир, на праздник собираются футболисты. Это молодые актеры тридцати-сорока московских театров. Они одержимы футболом, знают все о клубах и игроках. Готовясь к турниру, специально тренируются. У них есть даже свои болельщики. Еще человек сто объединяет рыбалка. По окончании театрального сезона мы отправляемся на озеро Сенеж на утреннюю ловлю. Там уже несколько лет проводится турнир, который носит имя Григория Горина. Актеры приезжают с семьями. По вечерам на берегу устраиваются посиделки: песни, танцы, розыгрыши… Когда берет гитару Аристарх Ливанов, все замолкают, немея от восторга. Это такая поющая душа, такое море глубоких чувств! Для меня сразу все меркнет: я целиком наполняюсь этим удивительным человеком. Однажды дочка сказала мне: «Он похож на папу». И действительно — та же мужественность, та же русская натура (правда, Юра, в отличие от Аристарха, не был таким красивым). На берегу озера Сенеж Ливанов, закрыв глаза и целиком уходя в музыку, поет песни, которые он любит и которые уже невозможно не любить и нам. Ближе к ночи подъезжает главный режиссер Театра имени Маяковского Сергей Арцибашев. Он тоже поет, вызывая всеобщий восторг. Сережа не рыбак, поэтому вскоре возвращается в Москву. Он проезжает десятки километров, чтобы побыть с нами совсем немного. То, что актеры так ценят общение друг с другом, — для меня огромная радость. И я готова создавать для этого любые условия. Я обожаю поездки Дома актера за рубеж. Не из-за того, что это загранкомандировки. Городов я обычно не вижу — больные ноги не позволяют. Мы были, к примеру, во Флоренции. Все осматривали достопримечательности, а я сидела в номере. С тем же успехом я могла бы побывать в Мытищах. Но для меня счастье — ездить с актерами. Если я не могу в какие-то моменты быть с ними, я провожаю и встречаю их на крыльце гостиницы. Такие поездки раньше являлись одной из форм благодарности актерам за то, что они делают для Дома. Сейчас в выезде за границу нет ничего необычного. Может быть, даже, наоборот, отправляясь с нами, актеры теряют какие-то заработки здесь. Ведь выступают они за границей перед бывшими соотечественниками бесплатно. И в самом Доме, кстати, выступают бесплатно. Я каждый раз бываю потрясена: актеры приходят на репетиции, играют, как сумасшедшие. Многие программы готовят ночами. При этом о деньгах не может быть и речи. Даже если в вечере заняты знаменитости. Мне порой кажется, чем более коммерциализированной становится жизнь, тем больше актерам хочется быть бескорыстными. И поддержание этой традиции крайне важно для нашего общества.* * *
Очень часто я с удивлением узнавала, что значил для многих талантливых людей Дом актера. Замечательная актриса Лиза Никищихина из Театра Станиславского говорила мне, как важен был для нее творческий вечер, устроенный в Доме. Дело в том, что после своего успеха в спектакле «Антигона» она какое-то время не получала ролей. И в этот тяжелый для актрисы период папа предложил ей сделать вечер. Всю жизнь, до самого последнего часа, был связан с Домом Борис Александрович Львов-Анохин. Его память мы очень чтим. Всегда участвует в наших вечерах уникальный человек Владимир Михайлович Зельдин. Несмотря на свои годы, он поет, танцует, причем делает это очень вдохновенно и элегантно. Сразу представляются балы XIX века. Что, кроме профессии, помогает Владимиру Михайловичу быть молодым? Мне кажется, абсолютная доброта, редкое бескорыстие и порядочность. Друг нашей семьи Борис Гаврилович Голубовский стал и другом Дома актера. Он возглавляет секцию, которая раньше называлась политмассовой, а теперь — «Актер и время». Надо заметить, что за эти годы менялись и актеры, и время. Александр Лазарев и Светлана Немоляева — удивительная пара. Вот семья настоящая, не для показухи, не для пиара семейной жизни. Всегда вместе. Свои даты они порой отмечают в нашем ресторане, Наблюдать за этим даже издалека — счастье! Без многих людей жизнь Дома невозможна. Это его замечательные авторы Вадим Жук, Борис Львович, Сергей Плотов и Эдуард Ливнев. Это знающий все и всех, легкий в общении Федор Чеханков. Красивая во все дни и времена моя любимая общественная деятельница Ирина Карташева. Строгая, даже слишком, но очаровательная Людмила Касаткина. Несказанно прелестная Светлана Варгузова. Одаренный, с прекрасным голосом, внешностью и человеческими качествами Юрий Веденеев. Стройная красавица Лилия Амарфий. Само очарование и доброта Михаил Державин. Хранящий память Дома актера Борис Поюровский. Театральные иерархи, знакомые мне еще со времен ГИТИСа, Марк Захаров и Владимир Андреев. Подлинный талант и несгибаемая личность Михаил Левитин. Родное семейство Наташеньки Гвоздиковой и Женечки Жарикова. И очень близкие мне Аристарх и Лариса Ливановы. Боюсь, мед моих слов, восторг и нежность (а иначе не могу) затопят страницы книги…* * *
Не раз мы достаточно убедительно доказали (и самое главное — люди это подтвердили) — Дом приносит пользу. Эта польза, безусловно, — заслуга государства. Оно выделило здание, в котором помимо Дома актера находятся различные организации, что дает возможность содержать здание и заниматься благотворительностью. Но в стране, где столько проблем, чиновники почему-то с особым рвением стараются пересмотреть договор, по которому мы безвозмездно владеем зданием на Арбате, 35. Я сейчас даже не хочу говорить про закон — он на нашей стороне. Я — о моральной стороне дела и человеческих отношениях. Порой во всем этом участвуют очень интеллигентные высокопоставленные люди, хорошо знающие Дом и посылающие на мои юбилеи проникновенные поздравления. Очень неловко постоянно говорить, что мы используем здание не ради наживы. Кроме того, мы не приватизировали этот дом, не создали акционерного общества. Есть лишь региональный фонд. Все его средства идут на то, чтобы как-то скрасить жизнь актеров. По какому праву любой чиновник начинает пересмотр этого дела только потому, что недвижимость ему кажется важнее того, что в стенах этой недвижимости делается? Слово «обидно», наверное, не для меня — я все обиды уже пережила. Но ведь мы переселились с улицы Горького не по своей воле — наш дом сгорел. Причем его подожгли, и, вероятно, с этого начался передел собственности в стране. С годами все меньше желания бороться, хочется просто работать.* * *
Сколько бы клубов ни существовало, сколько бы новых центров ни рождалось, даже таких близких нам, как Театральный центр на Страстном, Дом актера все-таки будет стоять особняком. Его отличают особая атмосфера, широта деятельности и благотворительная направленность. Работа Дома актера не связана с каким бы то ни было коммерческим эффектом. Это, конечно, несовременно. И по этой, а также по многим другим причинам Дом теоретически уже не должен существовать. Но пусть, пока это возможно, есть место, где коммерческая отдача — не главное, где люди морально вознаграждаются за их вклад в создание актерского братства, И в этом смысле, я думаю, Дом актера — вне конкуренции.Я ЛЮБЛЮ ВАС
 Практически ни с кем из актеров и режиссеров я не дружу домами, но все они мне интересны и всех их я люблю. Внимание нашей прессы чаще всего направлено на негативные стороны жизни и творчества известных людей. Мне это кажется неправильным. Это делает нас хуже. Гораздо важнее знать о них хорошее, Я считаю, что творческого человека надо беречь, лелеять и носить на руках. Тогда ему будет лете жить и радовать нас, сидящих в зрительном зале.
Практически ни с кем из актеров и режиссеров я не дружу домами, но все они мне интересны и всех их я люблю. Внимание нашей прессы чаще всего направлено на негативные стороны жизни и творчества известных людей. Мне это кажется неправильным. Это делает нас хуже. Гораздо важнее знать о них хорошее, Я считаю, что творческого человека надо беречь, лелеять и носить на руках. Тогда ему будет лете жить и радовать нас, сидящих в зрительном зале.
Есть люди, дружба с которыми перешла ко мне от папы. Это главное мое наследство наряду с фамилией. В папином кабинете, в Доме актера, всегда сидели Леонид Утесов, Ростислав Плятт, Иосиф Туманов, Виктор Комиссаржевский… В этой компании бесконечно травили байки, обменивались свежими анекдотами. Хохот был слышен уже на лестнице. Я все думала: когда же папа работает? Но он говорил, что именно во время этих бесконечных «сидений» рождались замечательные идеи поздравлений и вечеров. Билеты на вечера раздавало бюро обслуживания, а первым двум-трем рядам — лично папа. Он приоткрывал ящик письменного стола, поднимал глаза, видел — входит Этуш. Рылся-рылся и вынимал заранее надписанные билеты. Когда заглядывала я, говорил: «Маргуля, подожди». И если не приходили Плятт или Туманов, мне доставались их места. Как утверждает Александр Ширвиндт, папа безошибочно определял место человека в театральной иерархии. Если в этот вечер тебя сажали не в 5-й ряд, как прежде, а в 8-й, ты не должен был обижаться. Тебе следовало задуматься, что же в твоей жизни произошло. Многие годы я знала актеров лишь как зритель. Друзей папы я сторонилась — будучи очень застенчивой, испытывала в присутствии знаменитостей некоторую неловкость. Я вообще со многими людьми чувствовала себя некомфортно. Мне было хорошо лишь с теми, с кем я работала. Поэтому когда я начала работать в Доме актера, все стало на свои места. Оказалось, что здесь мне так же хорошо, как было на телевидении.
ЛЕОНИД УТЕСОВ И POCTИСЛАВ ПЛЯТТ
Самыми близкими папиными друзьями, как мне кажется, были Леонид Осипович Утесов и Ростислав Янович Плятт. Помню, как папа водил меня в сад «Эрмитаж», где в деревянном эстрадном театре летом давали концерты. Утесов так завораживающе пел, двигался и дирижировал, что зритель сразу подпадал под обаяние этого человека. Я бывала у Леонида Осиповича дома. Помню, его дочка Дита показывала мне свои платья и шляпы. А я, как человек совершенно далекий от моды, чувствовала себя очень неуютно и с трудом могла оценить очередную шляпку. Тем более Дита была небольшого роста и, как и я, полненькая, а эти шляпы делали человека похожим на гриб. Перипетии жизни Утесова я знала — чему-то была свидетельницей сама, что-то рассказывал папа (он нередко делился со мной проблемами своих друзей). Умерла Елена Осиповна. Муж Диты, Альберт, долгие годы страдал страшной болезнью Паркинсона. Болели и Дита с Леонидом Осиповичем. Когда они оба лежали в больнице, им помогала Тоня — танцовщица из джаз-оркестра Утесова. Она стала другом семьи. Я видела, что Леонид Осипович старается как-то «подать» Тоню. На дне рождения папы за столом сидели Борис Голубовский, Ростислав Плятт и другие гости. Под конец вечера приехала Тоня — за Леонидом Осиповичем. Мы с женой папы, Ириной Николаевной Сахаровой, уговаривали ее посидеть с гостями. Она отказывалась, но потом все-таки сдалась. Леонид Осипович (не настаивавший на том, чтобы Тоня приняла участие в застолье) решил, видимо, как-то представить ее, показать в лучшем свете. Он сказал, что Тоня замечательно пародирует. «Ну, покажи, покажи», — требовал он. Тоня встала и сделала пародию то ли на Зыкину, то ли еще на кого-то, но у меня осталось ощущение жалости и неловкости: вдруг ни с того ни с сего передвсеми этими выдающимися людьми Тоня должна была что-то спеть. На том папином дне рождения Леониду Осиповичу очень понравился торт, который я испекла — из бисквита и безе, промазанных сгущенным молоком с маслом. Леонид Осипович сказал: «Испеки такой торт и на мой день рождения». Но порадовать Утесова, к сожалению, мне не довелось: он не дожил до своего дня рождения. Я стала свидетелем разрушения жизни большой семьи Утесова. Болезни, старость, невостребованность подкосили артиста и его близких. Огромная квартира постепенно приходила в упадок. В ней с каждым годом оставалось все меньше признаков прежнего благополучия… Папу отличала открытость, и достаточно много людей (может, даже слишком много) знало о том, что происходит в его личной жизни. Но, наверное, его самым доверенным человеком был Ростислав Янович Плятт. Как и Утесов, Плятт тоже всегда приходил на папины дни рождения. Однажды подарил ящик коньяка. В поздравлении он как-то смешно оправдывал свой подарок — папа ведь был непьющим. Бывал Плятт у нас обычно с женой. После ее смерти отец очень жалел друга, зная, как ему тяжело приезжать с гастролей в пустую квартиру. Но все-таки, надо сказать, что про своих лучших друзей папа многого не понимал. Он, например, и дальше продолжал считать, что Плятт — совершенно одинокий, а у него уже была Милочка, которая потом стала его женой. Или он долго думал и даже советовался со мной, стоит ли Утесову жениться на Тоне, а тот уже давно это сделал. Не то чтобы друзья намеренно его обманывали, просто папа был настолько наивен, что сам хотел быть немного обманутым. Помню, как мы однажды пришли с ним в дом на Бронной, где Ростислав Янович жил с Милочкой. Какой это был ухоженный дом! И как красиво нас принимала Милочка. Мы общаемся с ней до сих пор, я знаю ее проблемы. И часто думаю, как трудно приходится женщинам, которые остались одни после смерти таких выдающихся людей. Даже тем из них, кто всегда был самостоятельной творческой личностью. Эти женщины вдохнули другой жизни. И я всегда чувствую себя виноватой перед ними, поскольку, к сожалению, всего, что надо сделать для них, я сделать не могу. Когда Плятт умер, Ирина Николаевна Сахарова отдала мне один из подарков, который он преподнес папе, — графин со стаканами. Он стоит у меня в шкафу и напоминает о Ростиславе Яновиче. И я часто вспоминаю, как после моего назначения директором Дома актера Плятт звонил мне и говорил, что плохо себя чувствует и мечтает только дойти до Дома, чтобы увидеть за столом Шуры его дочь. А о Леониде Осиповиче Утесове мне напоминают пластинки с его записями. Голос Утесова и сейчас действует на меня так же завораживающе, как в детстве.ИВАН БЕРСЕНЕВ, СОФЬЯ ГИАЦИНТОВА И СЕРАФИМА БИРМАН
Для меня эти три личности неразрывно связаны. Ивана Николаевича Берсенева в детстве я побаивалась — и правильно делала: он был очень требовательным и достаточно жестким человеком. Но, наверное, иначе он не смог бы руководить театром. Особенно в то трудное время. Я запомнила его и другим — чутким и заботливым: когда возникла необходимость его участия в жизни нашей семьи, он сделал все, что было возможно. Даже будучи ребенком, я ценила редкую, аристократическую красоту Ивана Николаевича (так же красив, на мой взгляд, был еще один человек — Всеволод Аксенов). Я помню Берсенева во всех ролях. Как забыть его потрясающего Сирано? Он играл с Окуневской (почему-то память не сохранила в этой роли Серову). Закрывая глаза, я и сейчас вижу декорации, костюмы этого спектакля, слышу реплики актеров. Замечательным казался мне и спектакль «Валенсианская вдова» по пьесе Лопе де Вега, который играли на сцене Театра Ленинского комсомола в Фергане. Очаровательной и изысканной выглядела Софья Владимировна Гиацинтова. Невероятно хорош был и Иван Николаевич Берсенев: фигура, стать, интеллигентность… Врезалась в память одна сцена из спектакля. Иван Николаевич взлетает вверх по лестнице. Он бежит спиной к залу. Спина — невероятно прямая. Лица актера не было видно, но осанка смогла выразить все его чувства. Берсенев и Гиацинтова казались мне совершенно неразлучной парой. Но однажды, шатаясь за кулисами, я увидела, как Иван Николаевич целуется с кем-то из актрис. Потом уже в Москве, в Доме актера, я не раз заставала в папином кабинете очень озабоченного Ивана Николаевича. Если я входила, разговоры прекращались — видимо, они касались чего-то личного. Когда я узнала, что Иван Николаевич ушел от Софьи Владимировны, я была в шоке. Понятно, я не обсуждала с Берсеневым эту тему, но он, очевидно, что-то почувствовал и сказал папе: «Как она может меня осуждать?» Расставание стало для Софьи Владимировны трагедией. Наверное, разрыв отношений дался непросто и Ивану Николаевичу. Но, когда я вспоминаю спектакли с участием Галины Сергеевны Улановой, понимаю, что влюбиться в эту женщину было нетрудно. Однажды папа с Иваном Николаевичем уезжали в Ленинград (Берсенев тогда был общественным директором Дома актера). Обычно мы старались папу провожать и встречать, даже если он отправлялся в командировку ненадолго. Галина Сергеевна Уланова тоже была на вокзале. И когда поезд тронулся, она вдруг очень грустно сказала мне: «Не представляю, как проживу эти три дня». Что я, девчонка, могла ей ответить? Много лет спустя Галина Сергеевна пришла в Дом актера на Арбате на один из вечеров. Мы сидели с ней в моем кабинете. И, поскольку мебель там — папина, она чувствовала себя, как в те времена. А мне этот момент казался невероятно значительным: сама Уланова сидит здесь. Что касается Серафимы Бирман, которая связана для меня с Гиацинтовой и Берсеневым, то она была актрисой до мозга костей. Думаю, Серафима Германовна — недооцененная, недоигравшая актриса, обладавшая поистине огромными возможностями. В дальнейшем Серафиму Германовну мне напоминала Сухаревская — угловатые и некрасивые, обе они при этом были очень органичны, выразительны и хороши! В эвакуации я недолюбливала Бирман. Она сокрушалась по всякому поводу: и волосы у меня не расчесаны, и руки не вымыты… Доставалось также сестре Зине, Серафима Германовна подходила к кроватке, в которой лежало мое любимое существо, и театрально произносила: «Боже мой, какая же она страшная! Что если она будет такая же страшная, как и я?! Но я-то — талантлива!» Я не могла понять: она действительно сложный и конфликтный человек или же это какой-то актерский образ, из которого она не выходит даже в повседневной жизни? Но когда мы приехали в Москву и я попала домой к Серафиме Германовне, она показалась мне совершенно другой: тихой, мягкой и доброй. Три руководителя Театра имени Ленинского комсомола — Берсенев, Бирман и Гиацинтова — умели создать творческую атмосферу. И моей маме в последние месяцы ее жизни было уютно с ними.АНГЕЛИНА СТЕПАНОВА И ЛИДИЯ СУХАРЕВСКАЯ
Я уже работала в Доме, но многих актеров по-прежнему считала небожителями. Недоступной звездой была для меня Ангелина Степанова. Я очень благодарна Виталию Вульфу — один из вечеров Ангелины Иосифовны в Доме актера связан с презентацией его книги «Письма. Николай Эрдман, Ангелина Степанова». Потом была еще пара вечеров с ее участием. Она очень интересно рассказывала о переписке с замечательным драматургом Николаем Эрдманом, о МХАТе, о своих партнерах по спектаклям. Я по-прежнему относилась к ней, как к божеству, не переступала никаких границ в общении. И была удивлена, когда Ангелина Иосифовна вдруг пригласила меня на свой день рождения. Оказывается (я об этом узнала позже), после одного из вечеров она сказала Вульфу: «Вы знаете, меня поразила Маргарита Эскина. Какой она тонкий человек». Видимо, наступил момент, когда она оценила меня как самостоятельную единицу — отдельную от папы. Я приходила к ней на дни рождения в последние годы ее жизни. Ангелина Иосифовна тогда уже практически не видела. Но в общении это не замечалось. Она была прекрасной актрисой: поворачивая голову на звук голоса, смотрела в вашу сторону так убедительно, что вам казалось — она вас видит. И еще с одной актрисой я подружилась под конец ее жизни — с Лидией Сухаревской, Я навещала Сухаревскую в кардиоцентре. Она не любила нежностей, и я боялась проявления чувств к ней. И вдруг Лидия Павловна сама говорит: «Обними меня. Тебе можно». Она, уже очень слабая, прижалась ко мне, мы посидели так немного. Это был мой последний приезд к ней. Она рассказала приснившийся ей сон. Что меня потрясло, он касался Дома актера. И Степанова, и Сухаревская — это были люди такой жизненной школы! Сейчас мы слышим про актрис: «Она замужем за одним, а встречается с другим…» — все это носит адюльтерообразный характер. А там были драмы и трагедии. Я очень люблю сегодняшних актеров и актрис, но, мне кажется, мельчает масштаб человеческой личности. А человеческий масштаб — это всегда и актерский масштаб.МИХАИЛ ЦАРЕВ И МИХАИЛ ЖАРОВ
Порой говорят: «Когда ВТО руководил Эскин…» Это неверно: на самом деле Дом актера являлся подведомственной организацией Всероссийского театрального общества. И хотя папа был известным и достаточно независимым человеком, все равно он находился в подчинении. Но возглавлявший ВТО Михаил Иванович Царев не ограничивал папину свободу. Михаил Иванович не раз становился поддержкой для папы, Даже когда тот был уже очень болен и не мог в полную силу руководить Домом актера, Михаил Иванович продолжал его защищать, В самые сложные моменты папа, правда, обращался не к Цареву, а к Варваре Григорьевне Царевой, и она умела договориться с Михаилом Ивановичем по всем вопросам. Она и сейчас, когда уже нет в живых ее мужа, старается помогать актерам. Надо сказать, что быть женой руководителя ВТО или театра — это не так просто. Мне кажется, Варвара Григорьевна удивительно хорошо влияла на Михаила Ивановича — человека требовательного, порог! жесткого. Она сглаживала какие-то острые моменты. Это всегда подчеркивал папа, и в этом убедилась я сама за годы дружбы с ней. Еще одной защитой для папы стал Михаил Иванович Жаров — общественный директор Дома актера. Общественный директор у Дома актера был почти всегда. Начальству хотелось видеть популярную личность во главе Дома. И такого человека папа подыскивал сам. Первым, насколько я помню, был Николай Николаевич Озеров, отец Николая и Юры Озеровых. Потом директором стал Иван Николаевич Берсенев, затем на короткий период — Елена Николаевна Гоголева. А после нее эту должность занял Михаил Иванович Жаров. Папа и Михаил Иванович одно время внешне были очень похожи друг на друга. Потом это сходство уже не казалось таким заметным: Михаил Иванович сильно похудел. Жаров, как и многие актеры, был абсолютным ребенком. К примеру, ревниво относился к подаркам, которые преподносили другим. Спрашивал папу: «Сколько вам в этот раз надарили? Неужели? Гораздо больше, чем мне в день рождения». Или в поездках, видя, что папа с Ириной Николаевной купили больше вещей, чем они с Майей, огорчался: «Вы сумели все это найти, а мы нет». Михаил Иванович оказывал поддержку в самых разных делах. Когда папа издавал свою книжку (что нас очень удивляло: папа пишет книгу! — мы его потом стали называть «великий еврейский писатель»), достать бумагу стоило огромных трудов. И этим тоже занимался Михаил Иванович. Меня Жаров поразил дважды. Ему одному из первых пришла мысль привлечь меня к работе в Доме актера — в помощь перенесшему инфаркт папе (хотя о моих деловых качествах Жаров мог знать только понаслышке). Но Михаил Иванович понимал, что решение должен принять сам Эскин. А папа возражал против моего прихода в Дом актера. И я считаю, в тот момент он был прав. Тогда сильный папин характер помог ему перенести инфаркт, и здоровье практически восстановилось. Второй случай, поразивший меня, произошел в доме отдыха. После ухода с телевидения я от безвыходности собиралась устраиваться на работу в журнал «Клуб и художественная самодеятельность». Перед этим мы отдыхали с семьей в Рузе и там увидели Михаила Ивановича Жарова. Он шел уже очень похудевший, в длинном пальто, подчеркивающем его изменившуюся фигуру. Мы остановились поговорить. И вдруг Жаров достает из внутреннего кармана пальто газетные вырезки со статьями о журнале «Клуб и художественная самодеятельность». У меня даже сейчас, при воспоминании об этом, наворачиваются слезы. Оказывается, Михаил Иванович был так погружен в мою проблему и так хотел помочь, что собирал положительные отзывы о журнале, чтобы я не переживала по поводу перехода на новую работу. Я не люблю винить и казнить себя. Но так получилось, что я не пригрела двух дочек Михаила Ивановича, когда это нужно было сделать. Я виновата и перед замечательным актером, и перед его любимыми дочками.ВЛАДИМИР ЭТУШ
Владимир Абрамович — близкий папин друг (хотя после смерти папы он сказал, что относился к Эскину, как к отцу). Этуш стал и мне очень дорог. Я всегда удивлялась невероятной силе и твердости характера Владимира Абрамовича. Понимаю, что такой человек мог пройти войну, после нее окончить институт и уже в возрасте, несмотря на свою актерскую востребованность, решиться возглавить Щукинское училище. Это было новое для Владимира Абрамовича дело, но он никогда не стеснялся учиться и задавать вопросы. Он очень требователен к студентам. Владимир Абрамович вообще довольно строгий. Даже «капустники» в Доме актера он обычно смотрит с некоторым раздражением — ему все не нравится заранее. Возможность лучше узнать Этуша у меня появилась в зарубежных поездках. Дом актера иногда выезжает за границу — выступать перед русской диаспорой. Эти путешествия очень сближают всех. Когда набиралась группа в Прагу, позвонил Этуш и сказал, что не хочет в день своего 75-летия находиться в Москве. «Не возьмете ли вы меня с собой?» — просящим голосом произнес Владимир Абрамович, как будто именно его можно было не взять. А потом еще осторожно спросил: «А нельзя ли и Ниночке поехать?» Мне даже доставило удовольствие пригласить жену Этуша. Вспоминая Ниночку, я думаю о публикациях в прессе, появившихся уже после ее смерти, когда Владимир Абрамович женился на молодой женщине. У нас любят вмешиваться в личную жизнь, смаковать подробности и упрекать: «Только что потерял супругу и уже женился». Но я никогда не осуждаю человека. Мужчина, а тем более занятый в такой эмоциональной сфере, как театр, не может быть один. И неверно считать, будто он недостаточно любил покойную жену. Может быть, как раз наоборот: он так ее любил, что с ее уходом потерял интерес к жизни. И вывести его из этого состояния помогла другая женщина. Не думаю, что память Ниночки была оскорблена. Эта женитьба никак не изменила моего отношения к Владимиру Абрамовичу. Недавно мы были в Берлине, жили и выступали в Русском доме. И я видела, как Этуш относится к жене Лене. В первый же день он пошел показывать ей город и дальше без отдыха ходил с нею всюду. Лена также отвечала ему заботой. Я никогда не забуду Ниночку, но считаю, что союз с Леной — очень естественный. Этуш иногда открывался для меня с неожиданной стороны. К примеру, решив купить новый автомобиль, он интересовался только одним: какую скорость может развить та или иная модель. И как-то он попросил моего шофера Леню уступить ему водительское место. Этуш сел за руль нашей машины и рванул так, что я закричала, чтобы он немедленно прекратил. На что Владимир Абрамович невозмутимо сказал: «Я для того и сел, чтобы проверить, быстро ли она едет». Спустя некоторое время он купил машину и попал в аварию. Автомобиль несколько раз перевернулся, Владимир Абрамович при этом пострадал, но больше даже был потрясен случившимся. Правда, оправившись от аварии, он снова сел за руль. Мне не хочется судить о людях только по тому, что они сделали для Дома актера, хотя считаю это очень важным. Когда в очередной раз у нас отнимали наш Дом, Владимир Абрамович на одном из приемов подошел к президенту Владимиру Путину и попросил его встретиться с театральной общественностью. Владимир Владимирович подвел его к главе своей администрации, чтобы они могли обговорить детали. И потом Владимир Абрамович очень ждал этой встречи. Но представителей театральной общественности к президенту так и не пригласили. Я понимаю, что у президента есть более важные заботы. Но мне кажется, для него встреча с выдающимися актерами, уважаемыми людьми была бы даже полезней, чем для них. Что же касается Владимира Абрамовича, то этот случай подтвердил: сколько бы ни было лет папиному другу, как бы тяжело ни приходилось ему, если что-то необходимо будет сделать для Дома актера, он это сделает.ЮЛИЯ БОРИСОВА
Я уже писала, что папа умел дружить с женщинами. Относился к ним по-рыцарски. Он безумно любил Юлию Константиновну Борисову — очаровательную актрису Вахтанговского театра — тогда одного из лучших в Москве, если не в стране. Борисова рассказывала, как однажды папа позвонил ей и произнес: «Юлия Константиновна! Мне необходимо вас увидеть!» Она не могла отказать и попросила приехать за полчаса до начала спектакля. Папа появился в артистической с цветами. Юлия Константиновна, нервничая (скоро на сцену), спросила, в чем дело. И выяснилось, что никаких дел нет, просто папа хотел увидеть ее. Этот приезд запомнился ей на всю жизнь. Юлия Константиновна досталась мне в наследство от папы, но в дальнейшем мы укрепляли дружбу уже самостоятельно. Внешне хрупкая, Борисова обладает невероятной внутренней силой. Это очень помогло, когда после периода успеха и огромной популярности у нее не было значительных ролей. Надо заметить, что популярности Борисова смогла достичь работами не столько в кино, сколько в театре — что редко случается в наше время. Хотя ее роли в кино — в фильмах «Идиот» и «Посол Советского Союза» — по-моему, замечательные. Недавно я видела отрывок из фильма «Посол Советского Союза», в котором Борисова играет с Анатолием Кторовым. Сегодня никто из актеров уже не способен одним лишь взглядом выражать такую гамму и глубину переживаний. Юлия Константиновна — человек невероятной духовной чистоты (подтверждением чего служат и ее личная, и ее актерская жизнь). Это восхищает, но я понимаю, что это же может многих и раздражать. Ее взгляды и принципы кажутся несовременными. Она не хочет делить себя: всю жизнь верна была своему мужу, своему театру и своей профессии. Как-то, потрясенная игрой Борисовой в спектакле «Без вины виноватые», я позвонила ей (надо сказать, что Юлии Константиновне, в отличие от других актеров, можно звонить по утрам — она хозяйка дома и встает рано). Очевидно, ей передался мой эмоциональный порыв, и она вдруг начала рассказывать мне о Театре Вахтангова, о том, что за долгие годы утеряно и что удалось сохранить. Юлия Константиновна стройна, как в юности, взбегает на высоких каблучках по любой лестнице, словно двадцатилетняя, совершает на сцене такие кульбиты, на какие способны далеко не все молодые актеры. Она одна из немногих актрис, которые не мелькают на экране телевизора и редко проводят встречи со зрителями. Она приходит на вечера в Доме актера, но свои юбилеи отмечать отказывается. Лишь однажды она дала себя уговорить. Борисова, прежде не соглашавшаяся и на интервью, тут мужественно заявила, что ответит со сцены на любые вопросы, причем честно. Вечер прошел блистательно. Юлия Константиновна считала, что у нее может быть только один-единственный вечер. Единственным он и остался. Я как-то советовалась в ГИТИСе (ныне РАТИ), кого из выпускников можно взять на работу в Дом актера. Мне порекомендовали Дашу Борисову, внучку Юлии Константиновны. Я пригласила эту скромную и разумную девушку работать у нас. Так что Юлия Константиновна внесла еще один вклад в деятельность Дома.МАРИЯ МИРОНОВА
Возглавив Дом актера, я поняла, что мой ум в сравнении с папиным ничего не стоит. И мне не обойтись, как сейчас сказали бы, без прикрытия. Еще очевиднее это стало после пожара — я знала, что битву за Дом одной не выиграть. И хотя мне помогали все актеры, нужен был особый человек: уважаемый, с безупречной репутацией, не имеющий корыстных интересов — в общем, такое ангелоподобное существо. И я подумала о Марии Владимировне Мироновой. Мы не были с ней хорошо знакомы, она прежде не занималась общественной работой, но я все-таки решила позвонить. Мы встретились. Я объяснила Марии Владимировне, что очень хочу видеть ее председателем общественного совета Дома актера. И после секундных раздумий, она согласилась. Последствия этой короткой встречи оказались судьбоносными для Дома актера. А значит, и для меня. Новая деятельность позволила Марии Владимировне проявить качества, которые не были заметны прежде. Миронова, хлопотавшая не за себя лично, а за Дом актера, могла позвонить любому человеку, какой бы высокий пост он ни занимал. Она искренне уважала и любила Ельцина. И Борис Николаевич относился к ней так же. Поэтому, когда было необходимо, Мария Владимировна безо всякого стеснения обращалась к президенту. Несколько моментов можно считать историческими. На столе у Бориса Николаевича лежал указ, по которому здание на Арбате переходило Министерству культуры. Я уже рассказывала, что мы подготовили другой проект указа — о передаче здания Дому актера. Делегации театральной общественности удалось с этим проектом попасть на прием к Ельцину, и Борис Николаевич пообещал подписать наш вариант. Мы, обрадованные, собрались уже было уходить, но тут Мария Владимировна сказала Ельцину: «Я посижу и подожду, когда вы подпишите». Мы вышли в приемную. Ждали долго. Через какое-то время Марию Владимировну снова пригласили в кабинет. Вышла она оттуда с подписанным указом в руке. Но за Дом приходилось бороться и дальше. И был еще один очень острый момент, когда у нас опять отнимали здание. Мы подготовили очередное письмо в его защиту. Так совпало, что в те дни Мироновой должны были вручать в Кремле правительственную награду. Она пригласила меня сопровождать ее. Я просила Марию Владимировну не отдавать Ельцину письмо, подписанное актерами, в момент вручения награды. Лучше это сделать после церемонии, в неформальной обстановке. И вот я вижу, выходит Мария Владимировна, огромный Борис Николаевич почтительно к ней, маленькой, склоняется и целует руку. И вдруг Миронова достает письмо, что-то шепчет Ельцину и сама кладет ему конверт в карман. К своему ужасу, я слышу, как она произносит: «Прочтите вечером с Наиной Иосифовной». Мария Владимировна, не послушавшись меня, отдала письмо в самый торжественный момент. И, надо сказать, очень скоро последовало решение нашей проблемы. Мария Владимировна была абсолютно лишена чинопочитания и невероятно мудра. У нее сложились дружеские отношения с Наиной Иосифовной Ельциной. Когда Мироновой вырезали желчный пузырь (ей тогда было хорошо за восемьдесят), звонит она мне уже из дома и сообщает, что навещать ее приходила Наина Иосифовна. «Идет, а из сумки у нее торчит сырая утка», — рассказывает Мария Владимировна. Утку, естественно, после операции есть не разрешалось, поэтому она сказала супруге президента: «А это заберите — дома зажарите Борису Николаевичу!» Дела Дома актера были делами Марии Владимировны. Иногда она, правда, возмущалась, когда мы просили ее подписать очередное письмо. Говорила: «Вы меня просто подписанткой какой-то сделали». Если мы с ней ходили по инстанциям и я в пылу борьбы за Дом бросала начальству резкие слова, Мария Владимировна, сидевшая рядом, хватала меня за коленку. И как только мы выходили из кабинета, спрашивала: «Александровна, вам нужен Дом или правда?» «Дом», — отвечала я. «Тогда заткнитесь!» И верно — нельзя забывать, за что борешься. Мария Владимировна прежде была замкнута на своей семье. Она с невероятным уважением говорила об Александре Семеновиче Менакере и всегда подчеркивала (порой, может, даже излишне), что в их паре главным был он и все творческие идеи исходили от него. Ее рассказы об Андрее никогда не носили сентиментально-слюнявого характера. Она признавала, что как актер сын превзошел и ее, и отца. В Доме актера Мария Владимировна стала жить судьбами других людей, помогать тем, кому приходилось трудно. Даже когда я принимала какие-то кадровые решения, она вставала на защиту обиженных. Я удивлялась, что ее это волнует. Мария Владимировна всегда казалась мне человеком достаточно жестким. В Доме актера она, наверное, не стала мягче, не превратилась в милую старушку, но добро делала с радостью. Миронова была царственно хороша. Она не позволяла себе неопрятности даже дома. Ходила в красивом халате и с сеточкой на голове. Эти сеточки для волос мы привозили ей из всех заграничных поездок. Из первой командировки я привезла две. На что она сказала: «А больше вы не могли купить?» Увидев на мне какой-нибудь костюм (хотя ничего особенного я никогда не носила), она говорила: «Я тоже хотела бы такой». И однажды мы с ней поехали к Славе Зайцеву. В итоге шил он, но руководила процессом она: на каждой примерке указывала Славе, что и как надо сделать. Знаменитый модельер вынужден был выполнять все ее требования. В результате костюм получился очень удачным. Мария Владимировна, правда, по свойственной ей привычке, костюм хаяла, однако с удовольствием его носила. Мария Владимировна с годами не утратила остроту ума и реакцию. Она мгновенно схватывала суть проблемы. Несколько раз мы бывали у Чубайса, и она настолько быстро вникала в понятия «аренда» и «субаренда», что Анатолий Борисович даже сказал мне: «Если бы все мои работники были такими сообразительными, как Мария Владимировна…» Миронова прониклась родственным чувством к Чубайсу. А он однажды послал ей письмо, в котором написал, что она ему как бабушка. Поэтому она называла его внуком. Когда Мария Владимировна умерла, Анатолий Борисович пришел на панихиду в Доме актера и, несмотря на свою занятость, пробыл там до самого конца. Мария Владимировна, никогда не имевшая отношения к политике, в последние годы своей жизни стала человеком государственным. Ее мнением интересовались, ей в интервью задавали вопросы, касающиеся ситуации в стране. Совершенно не чувствовалось, что Мария Владимировна старше нас. Она обладала великолепной памятью и остро ощущала время. Часто говорила о том, как повторяются времена, Я тогда спорила с ней, а сейчас понимаю, что она была нрава.АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ
С Шурой Ширвиндтом подружился еще мой папа. И я всегда относилась к нему с симпатией. Но меня убивало, что к папе, находящемуся, на мой взгляд, на недосягаемой высоте, он обращался, как ко всем, на «ты». Папа разрешал мне приходить на «капустники», хотя они начинались в 12 часов ночи. Вначале на сцене появлялся Шура Ширвиндт, и зал ахал при виде этого красивого, интеллигентного, обаятельно-язвительного мужчины. «Капустники» вроде бы — дело несерьезное, но создавались они всегда очень крупными и талантливыми личностями. Их было не так много: Виктор Драгунский, автор известных «Денискиных рассказов» (он организовал первый на моей памяти «капустник»), Шура Ширвиндт, Саша Белинский, Вадик Жук и Гриша Гурвич. Я уверена: то, что делалось этими людьми, — высокое и редкое искусство. Когда я возглавила Дом актера, Шуры не было среди тех, кто приходил к нам. Первое, что готовил Ширвиндт уже при мне, — вечер памяти Андрюши Миронова. Они делали его с Гришей Гориным. Но в то время мы с Шурой общались мало. Постепенно жизнь нас очень сблизила. И сейчас я надеюсь на него даже больше, чем на себя. Мне кажется, Шура как актер полностью не реализовал себя. Он слишком мудр. Где найдется режиссер, который перемудрит Ширвиндта? Был Эфрос… Шура взялся за непосильный труд — возглавил театр. Когда я читаю в газетах, что Ширвиндт делает не то и не так, думаю, какие все-таки странные эти критики. Желая лишь высказать свою точку зрения и продемонстрировать себя, они не вникают в суть, не стараются понять, что движет другими людьми. Не умеют объективно оценивать важные и ответственные человеческие поступки: поступок Александра Ширвиндта, поступок Михаила Ульянова, поступок Татьяны Дорониной, взвалившей на себя часть МХАТа… Ширвиндт пошел на этот жертвенный шаг ради тех, с кем много лет работал. Шура — человек невероятно ответственный, и он не может руководить театром между делом. Я очень жалею его. А жалею — значит, люблю. Его жена Наташа однажды сказала мне слова, от которых и сейчас становятся влажными глаза: «Как мы с тобой его любим, его никто не любит». Это правда. Я стараюсь бережно относиться к Шуре и не отвлекать его по пустякам, хотя, когда планируешь какой-нибудь вечер в Доме актера, хочешь, чтобы его делал именно Ширвиндт. Надо, чтобы все делал Ширвиндт. Но это невозможно. Как-то я сказала Шуре, что Дому актера нужен режиссер. Он, недолго думая, произнес: «Вовка Иванов». «Какой Вовка? Откуда?» — удивилась я. И Шура познакомил меня с Владимиром Владимировичем Ивановым. Как Ширвиндт сразу понял, что из всех режиссеров именно Владимир Иванов (кстати, один из лучших театральных педагогов Москвы) — тот самый человек, который нам нужен? Мы с Владимиром Владимировичем теперь работаем вместе, и он как нельзя лучше подходит Дому актера. Не хочу никого обидеть, но, если бы меня спросили, кто мог бы возглавить актерское братство, я назвала бы Александра Анатольевича Ширвиндта.ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ
Жизнь свела меня с Василием Лановым по трагическому поводу. На телевидении в одно время со мной работала режиссером жена Василия Семеновича Тамара Зяблова. Однажды съемочная группа выехала на пушкинский праздник и попала в аварию. Машина перевернулась, и Тамара погибла. Тогда на телевидении работала и сестра Ланового — Валя. Она была диктором. Мы с ней познакомились несколько позже. И потом я уже смотрела на Василия Семеновича глазами Вали, для которой в брате было заключено все. Разногласия у них вызывал единственный вопрос — политический. Валя не разделяла взглядов брата. Когда я стала директором Дома актера, Василий Лановой пришел ко мне в кабинет — невероятно красивый, с огромным букетом жгуче-красных роз на высоких стеблях (что я очень люблю). Много цветов преподносили мне в жизни, но тот букет я не забуду. Мне даже кажется, что подарил мне его Василий Семенович не пятнадцать лет, а две минуты назад. И мало-помалу Лановой обживался в Доме актера. Он приходил почти на все заседания женского клуба, который создала Валя Лановая. В зарубежных поездках Дома актера Василий Семенович старался как можно больше узнать о городах, где мы бывали. Его интересовали не магазины, а музеи. Причем он рвался даже в те, в которых уже прежде бывал. В нем — невероятная тяга к искусству. Я помню, на каких-то наших посиделках Михаил Михайлович Жванецкий говорил о том, что он потрясен Лановым, который вырос в простой семье, но несет в себе аристократизм русского человека. И для меня совершенно ясно: Лановой — аристократ. Нас с Василием Семеновичем тоже, кроме некоторых политических взглядов, ничего не разделяет. Когда мы готовились отмечать 60-летие Дома в Театре имени Вахтангова, Лановой по сценарию должен был вывести на сцену актеров, участвовавших в первом вечере в 1937 году. Я объясняю ему: «Потом вы не уходите, к вам на сцену поднимется Чубайс». На что Василий Семенович говорит: «Я с ним на одной сцене стоять не буду». И действительно, Лановой спустился раньше. Не хочу спорить с Василием Семеновичем по политическим вопросам. Я с уважением отношусь к его мнению, но остаюсь при своем. Вспоминаю, как у Ланового вышла какая-то статья в газете, которую посчитали антисемитской. Она бурно обсуждалась в обществе. Буквально на следующий день после выхода этой статьи Василий Семенович быстрыми шагами вошел в мой кабинет, поцеловал меня и ушел, не сказав ни единого слова. Я связываю эти два факта, хотя точно не знаю, чем был вызван его поступок. Лановой — один из любимых мною людей. А теперь, после смерти Вали, он для меня еще и часть ее.


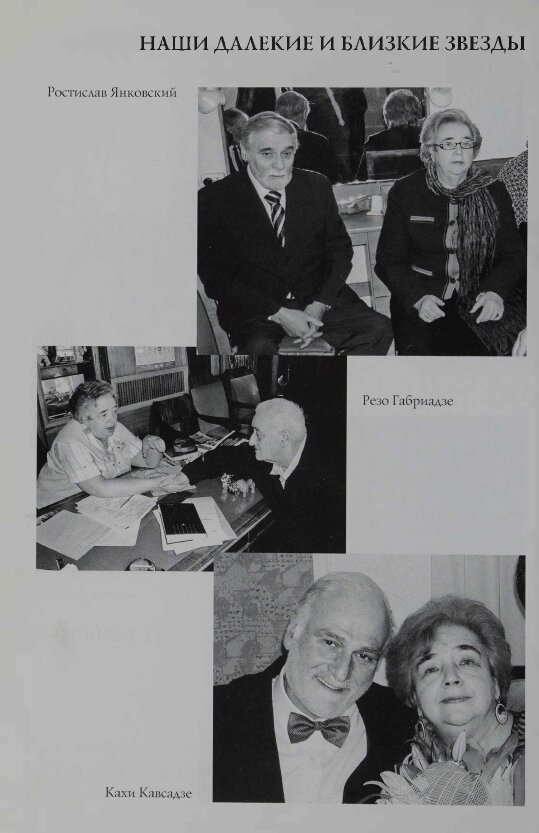

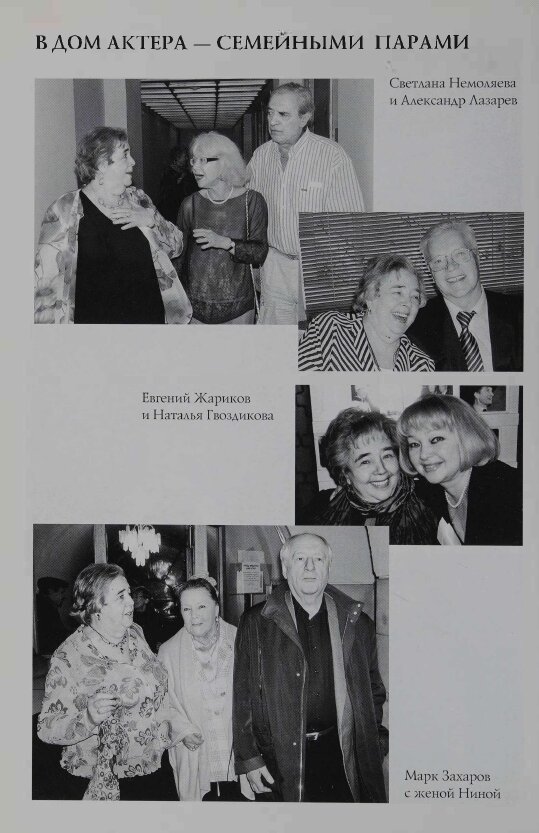


МИХАИЛ УЛЬЯНОВ
Михаил Александрович Ульянов — мой идеал мужчины: сильный, простой русский человек. Когда-то он мне, девчонке, в Доме актера подал пальто. Это было с его стороны дежурное джентльменство, но оно оказалось настолько значимым для меня, что я запомнила его на всю жизнь. Следующая важная для меня встреча с Ульяновым произошла, когда я начала создавать Бюро пропаганды советского театра. Я уже упоминала об этом. После долгих лет невостребованности я развила бурную деятельность, набрала людей… Оказавшись по каким-то делам в СТД, я увидела Михаила Александровича Ульянова. И вдруг он отвел меня в сторону и сказал, что я должна возглавить Дом актера. «Все другое, за что бы вы ни взялись, — объяснял он, — будет обычной работой, а Дом актера — это дело вашей жизни». Я очень испугалась, потому что попала в сложное положение: с одной стороны, обязательства перед председателем правления Союза театральных деятелей СССР Кириллом Лавровым — я должна была создать Бюро пропаганды, а с другой стороны, предложение Ульянова. Михаил Александрович не отступал, звонил домой, настаивал на переходе. После некоторых терзаний, прямо скажу, не очень долгих, решила принять предложение Ульянова. Надо отдать должное Кириллу Юрьевичу — когда он узнал, что речь идет о Доме актера, сказал: «Не может быть никаких возражений». Самый сложный момент моих взаимоотношений с Ульяновым связан с пожаром. В первые дни после пожара, не выдержав невероятного напряжения, я в отчаянии пришла в кабинет Михаила Александровича. Я относилась к нему, как ни к кому другому. И мне казалось, что и он ко мне очень внимателен. Буквально за пару месяцев до того Ульянов поздравлял меня с 55-летием и преподнес огромный букет роз. Я решила, что в трудную минуту смогу опереться на этого сильного человека. Начинаю разговор о том, как мне тяжело, и вижу, что Ульянов никак не реагирует. Почему, понять не могу. Я вышла из его кабинета, так и не получив поддержки. Михаил Александрович Ульянов — неоднозначен, поэтому ухватить суть его характера очень сложно. Все, что он делает, — масштабно. К сожалению, и плохое тоже. Позже Ульянов подписал письмо, в котором мы просили передать нам на баланс здание Дома актера. И я не знала, что буквально через несколько дней было отправлено второе письмо. В нем шла речь о возможном создании Союзом театральных деятелей совместного (с группой инвесторов и городскими структурами) предприятия, которое восстановило бы здание и в дальнейшем сдавало бы его под офисы. А на вырученные от аренды деньги построили бы другой Дом актера. В фильме «Пожар» есть кадры то ли съезда СТД, то ли какого-то иного мероприятия, на котором Ульянов рассказывает, как было бы хорошо, если бы в здании расположились офисы, а на углу Страстного и Пушкинской построили бы новый Дом актера с несколькими залами, оснащенный гораздо лучше, чем нынешний. Я понимала: вернуть Дом нет никакой возможности. В дальнейшем Михаил Александрович был против того, чтобы мы устраивали пикет с требованием отдать Дому актера бывший Английский клуб, затем — против передачи нам здания на Арбате. Почему он занял такую позицию, я не понимаю. Возможно, на него кто-то влиял. Но так или иначе Ульянов оказался не на нашей стороне. И это мне было перенести не менее тяжело, чем сам пожар. Сейчас Михаил Александрович с уважением относится ко мне. И я ценю его и очень переживаю за него, потому что он взвалил на себя трудную ношу — Театр имени Вахтангова. Наверное, можно найти недостатки в его методах руководства. Но у Театра Вахтангова есть одно безусловное достоинство: он с радостью принимает в свои ряды молодых актеров. Михаил Ульянов — один из тех немногих людей, которые сделали эпоху. И я удивляюсь сегодняшнему времени: мы совершенно не понимаем, кто есть кто. Звезды эстрады празднуют свои юбилеи в концертном зале «Россия» и даже в Кремлевском дворце. Дни рождения и круглые даты Михаила Александровича Ульянова, отмечаются в маленьком подвальчике-ресторане, где собирается пара десятков друзей. Михаилу Александровичу я обязана не просто тем, что пришла в Дом актера, но и тем, что смогла прожить новую жизнь.ОЛЕГ ТАБАКОВ
Олег Павлович на моих глазах из скромного провинциального мальчика в очках превратился в крупнейшего театрального деятеля. Я не вхожу в круг друзей Табакова, но могу позвонить ему утром и сказать: «Олег, это Маргарита». Есть лишь несколько актеров, к которым я так просто обращаюсь. Мне приятно, что Олег Павлович часто вспоминает о своей первой награде — часах, полученных из рук Александра Моисеевича Эскина за общественную деятельность в Доме актера. Наверное, Табаков ощущает разницу между тем, кем был мой отец, и тем, что представляю собой я, но, надо отдать ему должное, он ценит работу Дома актера и сам старается в ней участвовать. Ему свойственно удивительное чувство ответственности. Как бы он ни был занят, если понимает, что его участие в каком-то деле важно, бросит все и придет. Случалось, Табаков неожиданно для меня появлялся на сцене Дома актера — выходил с букетом цветов и произносил очень нужные слова. Олег Павлович обладает какой-то хитрой мудростью (или, может, мудрой хитростью). И все, что он делает, — так обаятельно. В сложные моменты в его голове включается какой-то компьютер, который просчитывает ситуацию, расстановку сил и подсказывает верные решения. И этот компьютер дает Олегу Павловичу возможность руководить двумя театрами одновременно. Вообще я считаю, что нельзя совмещать несколько работ. Надо посвящать себя целиком одному делу. Но Олега Павловича я готова признать исключением из этого правила. Он берется за разные проекты и успешно справляется с ними. Он абсолютно уверенно ведет МХТ, несмотря на то что окружающие могут сомневаться в правильности выбранного им пути. Я тоже не всегда бываю на его стороне. Мне кажется, созданная им «Табакерка» (компания единомышленников — студентов, видящих в Табакове своего лидера) и МХТ — явления разного масштаба. И задачи перед ними стоят несравнимые. У Табакова есть важное качество: в отличие от многих, он не разрушает, а строит. Но строит так, как считает нужным. Что касается актера Табакова, то хочется, чтобы он сыграл какую-нибудь очень трудную для себя роль и мы увидели бы другого Табакова. Думаю, один из лучших российских актеров еще может нас удивить.ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ
Одним из актеров, к которым я раньше боялась даже приблизиться, был Евгений Александрович Евстигнеев. Когда мы готовили «антиюбилей» Ульянова, Ирина Александровна Резникова предложила пригласить для участия в нем Евстигнеева. Она договорилась со знаменитым актером, но в день «антиюбилея» выяснилось, что Евгений Александрович плохо себя чувствует и вряд ли сможет прийти. И вдруг в середине вечера он неожиданно для нас появился на сцене. Он вышел с Петром Тодоровским, и они показали блестящий номер: Тодоровский играл на гитаре джазовую импровизацию, а Евстигнеев с вилками в руках исполнил соло на тарелочках. Надо было видеть Евгения Александровича: его ноги, двигающиеся в такт мелодии, его улыбку. Выступив, Евгений Александрович тихонько ушел — ведь приходил он только потому, что обещал. Евстигнеев поддерживал нас после пожара, приезжал к сгоревшему Дому, давал интервью телевидению. Иногда просил: «Если не трудно, пришлите машину, я что-то в плохой форме». Я сначала воспринимала эти просьбы как каприз, но потом поняла, что Евгений Александрович действительно помогает через силу. Потом мы устроили акцию: отправились к Музею революции, желая в этот бывший Английский клуб вернуть клубную деятельность. Актеры под идейным руководством Элема Климова перед закрытыми дверями музея произносили эмоциональные речи. А затем был важный исторический момент: мы завели всех в Дом актера, хотя это считалось крайне опасным. Полуразрушенный ресторан к тому времени уже освободили от мебели, поэтому мы накрыли не стол, а пол — на постеленных простынях стояли рюмочки с водкой и лежали бутерброды. Так мы последний раз оказались в нашем знаменитом ресторане. Евгений Александрович Евстигнеев был с нами. Его речь сохранилась на пленке. Он говорил, что какой бы дом нам ни дали, мы сможем вдохнуть в него жизнь. Говорил не дежурно, понимая, что он теперь связан с Домом и будет одним из тех, кто эту жизнь в него и вдохнет. Наша последняя встреча состоялась во МХАТе. Евгений Александрович пригласил меня на премьеру «Игроков». Он должен был уезжать за границу на операцию. Поэтому, прощаясь, произнес: «Приеду — позвоню, как договорились». Через несколько дней во МХАТ позвонила из Лондона жена Евгения Александровича Ирина и сказала, что его не стало. Она просила передать о случившемся мне и добавила: «В последнее время они были очень дружны». Меня потрясла не только весть о смерти, но и эта фраза Ирины. Я и представить себе не могла, что величайший актер, о знакомстве с которым я когда-то не смела и мечтать, будет считать меня другом.ГРИГОРИЙ ГОРИН
Многие помогли создавать Дом актера на Арбате. Но есть люди, которые играли главные роли — Гриша Горин и Гриша Гурвич. Особенно мы это ощутили, когда их не стало. Гриша Горин был в хороших отношениях с папой, а меня называл сестренкой. К моей великой радости, свое 50-летие Гриша решил отметить в Доме актера. Принес фотографии, материалы из домашнего архива. А тут — пожар, и все сгорает! Гриша перенес юбилей в ресторан Дома архитектора. Собрались Ахмадулина с Мессерером, Рязанов, Галя Волчек, Губенко, Ширвиндт… Гриша блестяще вел застолье. Прочитал адресованное ему очень смешное письмо Аркадия Хайта. И я подумала: каким же надо быть замечательным человеком, чтобы в свой день рождения как лучшее прочитать не свое произведение, а письмо друга. Помню, как с Гришей Гориным и Марией Владимировной Мироновой мы поднимались в мой разрушенный и залитый водой кабинет в сгоревшем Доме актера. Меня трясло, а Гриша, наоборот, казался очень спокойным. Это было спокойствие мудрогочеловека, понимавшего, что не этот, так другой Дом актера все равно будет. Гриша Горин провел первый вечер «При свечах» в новом Доме на Арбате. Он все делал истово — так, как будто пишет пьесу для главного театра страны за очень большие деньги. И в тот день он пришел что-то доделать. А мне как раз принесли альбом с фотографиями дома и описанием его истории. Среди прочего, в альбоме упоминалось, что дом связан с булгаковской Маргаритой, которая пролетала на метле мимо его окон. Я показала этот текст Горину. Он замер на какое-то мгновение, а затем, как сумасшедший, сорвался и убежал. Через час звонит: «Приготовь веник или щетку». Он уже знал, как использовать новый факт. В этот вечер в здании бывшего Министерства культуры, а теперь — Дома актера, собрались замечательные люди; Губенко, Табаков, Рязанов, Этуш, Гердт… Мы проходили по 6-му этажу, где размещались кабинеты замминистров. В каждом разворачивалось какое-то действо. На 7-й этаж я передвигалась уже на метле. Мария Владимировна Миронова несла свечку. Гриша Горин тогда произнес речь, в которой заметил, что совпадение имени булгаковской героини с моим — не случайное. Я слушала Гришу с замиранием сердца. Что такое талант Гриши, можно показать и на другом примере. Мы готовили 60-летие Дома актера в Театре Вахтангова. Мне казалось, что обязательно надо собрать людей у того Дома, на Тверской, а потом на троллейбусе привезти их сюда, на Арбат. Излагаю замысел Горину. «Замечательно!» — восклицает он и начинает произносить речь, которая к моей примитивной идее — везти всех оттуда сюда — имеет уже весьма отдаленное отношение. У него в голове возникает образ. И на этом образе он построил весь вечер. Открылся занавес, на сцену под песню Окуджавы «Синий троллейбус» выехал настоящий троллейбус с надписью «Тверская, 16 — Арбат, 35». Он двигался мимо установленного на сцене памятника Пушкину, а затем — мимо фонарей на Арбате. Из троллейбуса вышли участники первого вечера в Доме актера, состоявшегося в 1937 году. Когда передачу готовили к эфиру, я попросила написать: «Идея — Григория Горина». Потому что действительно это была уже его идея. Он рождал идеи легко. Брошенные кем-то слова в его голове приобретали смысл и выстраивались в сценарий. Однажды мы уговорили его поехать в качестве члена жюри в Нижний Новгород на фестиваль «капустников» «Веселая коза». Посмотрев выступления, он сказал мне, что надо привезти молодых актеров в Москву. Потом не раз напоминал об этом. И когда актеры наконец приехали, Гриша счастливый сидел в зале и следил за реакцией публики так, как будто это он сам выступал. В том, что теперь победители фестиваля «Веселая коза» ежегодно приезжают в Дом актера, большая заслуга Гриши. Гриша многое мне подсказывал. Вообще у меня складывалось впечатление, что Гриша Горин ничего не делает: сидит дома, ждет, когда я ему позвоню, и мгновенно откликается на мою просьбу. Но выходили книги, появлялись новые спектакли. Когда он успевал? Не было случая, чтобы он отказал мне, сославшись на какое-то срочное дело. Наверное, он единственный человек, который не позволял себе этого. Когда мне позвонил Шура Ширвиндт и сообщил о смерти Гриши, я тут же бросилась к нему на квартиру. Там был совершенно подавленный его друг Игорь Кваша с женой Таней. В абсолютной растерянности находилась Люба Горина. Гриша брал на себя все семейные заботы, и Люба в этот момент, видимо, ощущала наступление какого-то финала. Григорий Горин был выше наших сиюминутных забот и переживаний, мелких политических игр и человеческих страстей. Он видел мир иначе. К счастью, он иногда показывал его и нам.ГРИГОРИЙ ГУРВИЧ
Внешне необаятельный — полный, с заметным, искажающим его лицо тиком, Гриша Гурвич обладал огромным внутренним обаянием. Кажется, самый первый номер Гриши, который мне довелось посмотреть в Доме актера, — «Мишки». Номер оказался очень актуальным: тогда на устах у всех были Михаил Сергеевич Горбачев, Михаил Михайлович Жванецкий, Михаил Александрович Ульянов и Михаил Филиппович Шатров. Каждому из них посвятили куплет. Эту песню я могла слушать непрерывно. Были две песни, посвященные мне: «Позвони мне, позвони…» и на мотив «Рио-Риты». Грише удавалось так писать, что я и смеялась и плакала одновременно. Грусть и радость, лирика и юмор, соединившись в Грише Гурвиче, давали невероятный результат. Я очень ревниво отнеслась к тому, что Гриша занялся другим делом — взялся ставить спектакль. Мне казалось, он рожден именно для «капустника», и не верила, что он добьется успеха в ином жанре. Обидно мне было еще из-за того, что Гриша ставил этот спектакль в учебном театре ГИТИСа, а не в Доме актера. Но Гриша так решил, а своих решений он обычно придерживался твердо. Первый спектакль — «Чтение новой пьесы» — мне понравился сразу. Вспоминая сейчас все, что поставил Гриша, — вплоть до последнего спектакля «Великая иллюзия» — я понимаю, какой путь прошел театр за несколько лет. Наверное, другого такого примера не найдешь. Актеры ведь начинали фактически с самодеятельности. Музыкальные спектакли Гриши вызывали во мне множество чувств, ни одно из которых я не испытываю, когда смотрю современные мюзиклы. Гриша был создан для этого жанра, что сразу понял Марк Захаров, который и посоветовал ему ставить музыкальные спектакли. Несмотря на страшную занятость в театре, про старый Новый год в Доме актера Гриша никогда не забывал, Он не только был автором большинства номеров, но и вел этот вечер. И всегда писал новую песню. Ее исполнял хор, включавший в себя несколько поколений. Гурвич объединял многих. И все — Константин Эрнст, Андрей Разбаш, Вячеслав Зайцев, Валерий Плотников и даже Александр Ширвиндт — беспрекословно его слушались. А на 60-летии Дома актера Гриша в финале выпустил на сцену меня, чтобы я исполнила последний куплет песни. Я тогда не могла попасть ни в одну ноту (сейчас иногда попадаю). Но мое пение произвело на зал ошеломляющее впечатление. Таким образом, Гриша и меня вывел на большую сцену. Проходят годы, и я понимаю, что такого «домактерского» человека, как Гриша Гурвич, мне уже не встретить.ОЛЕГ ЕФРЕМОВ
Актером Ефремовым я увлеклась не сразу. Мне он казался каким-то неказистым. Но, прочитав об Олеге Николаевиче в книге Натальи Крымовой «Имена», я посмотрела на него другими глазами. Когда Ефремов с трибуны съезда Всероссийского театрального общества произносил пламенную речь о перестройке, об отжившем уже свое ВТО, о новом Союзе театральных деятелей, я сидела у радиоприемника, плакала от счастья и верила в будущее. С годами я вынуждена была признать: перемены не принесли желаемых результатов. Но это не значит, что Олег Николаевич ошибался. Скорее, мы не оправдали его надежд. То же самое касается МХАТа. Думаю, необходимость преобразовать его была. Другое дело, что это не смогло произойти безболезненно. И разумное решение привело к раздраю (так это обычно называет Ульянов). Разрушались судьбы людей. Бывшие единомышленники оказывались в разных лагерях. Наверное, Олег Николаевич не ожидал, чем это все обернется, и сам попал в жуткое положение. Мне нравилось в Ефремове то, что он был выше мелочей. Однажды в газете «Да», издаваемой Домом актера, всех режиссеров, как военных, выстроили по рангу. К этой газетной затее я не имела никакого отношения, но она стоила мне многих неприятностей, Ефремова поместили куда-то в конец. Олег Николаевич был, конечно, потрясен заметкой, но обиду на меня держал недолго, и на наших отношениях эта публикация никак не отразилась. Как-то перед Новым годом, зная, что Ефремов болеет, я позвонила поздравить его. И услышала в трубку: «А, это ты, мормышка моя». Мы не были так близки, и это неожиданное обращение «мормышка моя» я запомнила. Дистанция между мной и Ефремовым всегда казалась мне огромной, даже если мы находились близко друг к другу. На каком-то вечере мы сидели в зале рядом. Он уже плохо чувствовал себя, тяжело дышал и никак не мог удобно устроиться в кресле. Я ощущала его боль каждой частичкой своего тела. Но произнести ободряющие слова так и не смогла — я терялась в его присутствии. Помню нашу последнюю встречу. После какого-то вечера мы ехали вместе в машине. И опять — присутствие Ефремова действовало на меня настолько сильно, что не давало сосредоточиться на беседе и запомнить ее суть. Ефремов создал «Современник», он замечательно играл в театре и кино, Он был выдающейся личностью и абсолютным лидером отечественного театра.ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
Наверное, это звучит смешно, но однажды я танцевала с Владимиром Васильевым. Когда мы отмечали мое 70-летие в ресторане Дома актера, оркестр заиграл еврейскую музыку, меня понесло, и я стала что-то выделывать на глазах гостей. И вдруг мне на подмогу выскочил Володя Васильев. Сердце мое замерло от восторга. А Володя даже со мной танцевал божественно. Владимир Васильев, как и Михаил Ульянов, является, на мой взгляд, символом эпохи. Володя необычайно талантлив и очень красив. У него благородное, удивительное русское лицо. Володя Васильев и Катя Максимова — украшение российского балета. Помню, как в первый раз увидела Катю. Я работала на телевидении. Мне позвонили и говорят: «Беги скорее в аппаратную». Прибежала. Там собралось довольно много народу, и все смотрели через стекло в студию. А в центре студии стояла миниатюрная девушка в «пачке». И кто-то из знатоков балета сказал: «Запоминайте — это будущая звезда Катя Максимова». Много лет спустя у Кати с Володей состоялся вечер в Доме актера. Дело в том, что мне тяжело было видеть Володю Васильева после того, как его «убрали» из Большого театра — он не мог скрыть своего состояния. Настолько противоестественно такому одаренному человеку быть отвергнутым. Очень хотелось поддержать его. И мы устроили «Рождественский вечер с Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым». На сцену выходили Ахмадулина и Мессерер, Гафт и Остроумова, Вознесенский и Богуславская — цвет российской интеллигенции. Мы все ищем национальную идею. Мне кажется, самая главная идея — ценить и беречь талантливых людей, являющихся гордостью страны.ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ
Сложнее всего рассказать об актрисах, внешне неприступных — Элине Авраамовне Быстрицкой и Татьяне Васильевне Дорониной. Элина Авраамовна — не тот человек, к которому бросишься в объятья, и вы будете дружны всю оставшуюся жизнь. Я познакомилась с Быстрицкой, когда сгорел Дом актера и мне приходилось просить о помощи. Элина Авраамовна с готовностью, но без лишних сантиментов, откликалась на мои просьбы. Так, она повела меня к одному из руководителей правительства Москвы. Меня поразило, как принимают Элину Авраамовну. Она уже в то время снималась нечасто, но ее встречали, словно главную героиню только что прошедшего в эфире популярного сериала. 14 Быстрицкая могла позволить себе держаться не как просительница, а как человек, снизошедший до того, чтобы прийти в этот кабинет. На одном из вечеров, проводимых Домом актера, я вдруг услышала в фойе чей-то голос: «Маргуля!» Так меня называл только папа. Я обернулась и увидела Элину Авраамовну. В моей душе все перевернулось. И с тех пор мы стали ближе друг другу. Я с нежностью могу называть ее Элечка, а она меня — Маргулечка. Я знаю, что Элечка в трудную минуту всегда мне поможет. Так было перед моей операцией, так было, когда она занималась вместе со мной делами Дома актера. Элина Авраамовна вообще очень деятельна. Причем независимо от того, что происходит вокруг: дают ей роли или не дают, хорошо относятся директор и художественный руководитель к ней или не очень. Она самодостаточна и умеет не сломаться. Еще она всегда невероятно хороша собой. Элина Авраамовна во всем этом — пример для меня, И я хотела бы, чтобы ощущение, что где-то рядом есть Быстрицкая, сохранилось как можно дольше.ТАТЬЯНА ДОРОНИНА
Я помню Татьяну Доронину с молодых лет. Папа возил меня в Ленинград, и мы в театре Георгия Александровича Товстоногова смотрели «Варваров». Я была потрясена игрой актрисы. Потом, когда она уже переехала в Москву, я видела первые фильмы с ее участием. Я знала историю разделения МХАТа, была в курсе тех сложностей, которые возникали в театре, в Союзе театральных деятелей. С одной стороны, меня это не сильно касалось, но, с другой, было желание как-то помочь Татьяне Васильевне. Я всегда остро ощущаю, когда какого-то человека (особенно если речь идет о творческой, сильной личности) стараются прижать. У нас так умеют — загонят в угол, а потом говорят: «Видите, как он себя ведет?» А ведет он себя соответственно тому, как к нему относятся. Мне хотелось, чтобы Татьяна Васильевна не чувствовала себя одинокой. Мы предложили ей сделать вечер в Доме актера. Люся Черновская, с ее умением часами и месяцами обхаживать актеров, добилась согласия Дорониной. Пока готовился вечер, я поняла, какой разной может быть Татьяна Васильевна. Если она не ждет удара или подвоха, она проявляет свои лучшие качества. Но когда она подозревает, что кто-то настроен против нее, становится совершенно другой. Мне жаль, что так происходит, ведь это мучает саму Татьяну Васильевну гораздо больше, чем окружающих. На вечере в Доме актера Доронина сыграла отрывок из спектакля, а потом начала читать стихи. Мы, приученные к тому, что незатейливые строчки нынешних песен сами вливаются нам в голову, уже отвыкли воспринимать серьезную поэзию. Но здесь зал был буквально наэлектризован: Доронина читала великолепно. В последней части вечера Татьяна Васильевна пела специально написанные на мотивы известных песен посвящения Славе Зайцеву, Геннадию Хазанову, Юрию Яковлеву. Сначала это показалось странным: величайшая актриса решилась на «самодеятельность», но затея нашла такой отклик у зрителей! Когда же Татьяна Васильевна запела на мотив «О, голубка моя» песню, посвященную мне и папе, я дала волю слезам. Мне кажется, вечер стал важным событием не только для Дома актера, но и для самой Дорониной. Преклоняясь перед Олегом Николаевичем Ефремовым и любя Татьяну Васильевну, я считала, что они могут преодолеть разногласия. После какого-то заседания в Государственной думе но вопросам театра я подошла к Татьяне Васильевне и спросила, не хочет ли она вместе с нами поехать поздравить Олега Ефремова с днем рождения? Она достаточно враждебно на меня посмотрела. Я поняла, что напрасно полезла со своим предложением. Но все-таки я мечтала увидеть стоящих рядом Татьяну Васильевну и Олега Николаевича. Когда мы готовились отмечать 60-летие Дома актера, мы включили в сценарий эпизод, в котором с одной стороны на сцену должен был выйти Олег Николаевич с букетом цветов, с другой стороны — Татьяна Васильевна. Не требовалось произносить никаких слов — он просто молча вручал ей цветы. Но этому не суждено было состояться. Может, мы проявили недостаточно терпения и настойчивости. А может, это просто было невыполнимо. Решать за двух великих художников трудно. Татьяна Доронина — мощнейшая актриса. Это становится еще яснее теперь, когда после современных кинопроизведений увидишь вдруг «Еще раз про любовь» или «Три тополя на Плющихе».ЮРИЙ СОЛОМИН
В молодости, живя на Петровке, я порой встречала Юрия Мефодьевича, идущего на работу в Малый театр. Уже появился к тому времени фильм «Адъютант его превосходительства», и я, видя Соломина на улице, если можно так сказать, издали преклонялась перед ним. Я не могу утверждать, что прекрасно знаю Юрия Мефодьевича. Но я его безумно люблю. По-моему, он совершенно незащищенный, ранимый человек. Я не представляю, как он мог быть министром, — он слишком мягкий для этого. Кроме того, он не способен к интригам и хитросплетениям и даже не замечает их. Подтверждение этому — случай с избранием председателя Союза театральных деятелей. Михаил Ульянов собирался покинуть свой пост, но все умоляли его остаться. Шел съезд театральных деятелей, и долгое время на съезде не было понятно, останется он или нет. А я в те годы чувствовала прилив сил: удалось после пожара поднять из руин Дом актера, и мне казалось, я могу больше, чем руководить Домом. Я понимала, что это переворот в сознании: всегда председателем был великий актер и вдруг — Эскина. Но ведь изменилось время, и во главе должен был встать человек, который знает, как надо вести дело в новых условиях. Я предварительно поговорила с секретарем Союза Анатолием Мироновичем Смелянским, и он обещал обсудить это с Ульяновым. Появились публикации в газетах. Моя кандидатура не вызывала негативной реакции. На съезде Михаил Александрович говорит, что не будет баллотироваться, но его продолжают уговаривать. Я слышу разговоры, что возможна кандидатура Соломина, которого скорее всего не выберут из-за «его националистических взглядов». Начинается выдвижение кандидатур — в том числе предлагают Соломина и меня. Хотя я уже поняла, что мое выдвижение — полная нелепость. Меня знают в Москве, а на съезде Москвы и не видно. Во время обсуждения Юлия Борисова и Сергей Юрский говорят обо мне замечательные слова, а затем выходит директор одного из региональных театров и заявляет, что это немыслимо: «Я приеду к себе, соберу театральных деятелей, как я им объясню, кого мы выбрали? Кто такая Эскина?» Я спокойно воспринимаю его выступление — в этом смысле я человек совершенно не самолюбивый. Какие-то люди выступают и против Соломина. Атмосфера накаляется. Тут оборачивается ко мне Юрий Мефодьевич и предлагает пойти на выборы вместе: он возглавит Союз, а я займу одну из ключевых должностей. Но мне, во-первых, трудно быть вторым человеком (это не очень хорошее качество, но ничего не поделаешь). А во-вторых, в тот момент я вспоминаю разговоры о националистических взглядах Соломина (сейчас-то я знаю, какая это была глупость). В общем, я не ответила на предложение Юрия Мефодьевича, Он выступает. Расстановка сил в зале, интриги — все как на ладони. Но он ничего этого не видит. Он абсолютно открыт, и мне становится за него страшно. Перед самым голосованием Михаил Александрович Ульянов вдруг предлагает новую систему: у Союза будет председатель и первый секретарь. Его кандидатуры — Калягин и Тараторкин. Меня это потрясло — значит, все было решено заранее, хотя два дня на съезде нельзя было понять, остается Ульянов или уходит. Объявляют перерыв, я подхожу к Михаилу Александровичу. Он дает какое-то интервью. И я, не сдерживая себя, произношу: «Что же вы так подло поступили?» Он удивленно спрашивает: «Это вы мне?» Я говорю: «Почему же вы молчали два дня?» И ухожу. В итоге все проголосовали за предложение Ульянова, меня избрали в секретариат, а Соломин в него якобы не прошел Потом я узнала Юрия Мефодьевича ближе. Он по-прежнему поражает меня своей бесхитростностью. Он по-детски наивен. Это редко встречается в наше время, поэтому крайне ценно. По моим ощущениям (а я доверяю чаще всего именно ощущениям), Соломин ничем не запятнал себя. Мне кажется, он живет по правде. Я считаю, что Юрий Мефодьевич Соломин и директор Виктор Иванович Коршунов хорошо руководят Малым театром. Сейчас, когда классический театр уже кажется несовременным, очень важно, что в Малом театре придерживаются прежних традиций.ПЕТР ФОМЕНКО
О Петре Фоменко мне еще в студенческие годы писал в письмах мой любимый человек — ленинградский актер. Петр Наумович ставил тогда у них в театре спектакль. Когда Фоменко создавал уже свой театр, нужно было найти какое-то место для репетиций. Мы тут же выделили комнату в Доме актера. Конечно, для театра комната — не выход из положения. Но Фоменко как-то выкручивался. Я видела, как Петр Наумович ставил «Войну и мир». В овальном зале, рядом с моим кабинетом, по всем стенам были развешаны цитаты. Он работал со своими актерами каким-то совершенно особым образом. И ощущалась удивительная слаженность его коллектива. Я с большой любовью отношусь к Петру Наумовичу, мне хочется хоть как-то облегчить его жизнь. Наверное, он сложный человек — не может в таком таланте все быть просто и ясно. Но сегодня, когда ценится новая драма, когда возносятся режиссеры, ставящие спектакли нетрадиционно, хочется укрыться от всего этого в светлом, понятном и глубоком театре, созданном Фоменко, Неужели руководство страны и Союза театральных деятелей так долго не понимало, что театру Фоменко нужно создать условия для работы? Мы можем завоевать призы на каких-то фестивалях, показав там необычные по форме и содержанию спектакли, но это не решит судьбы российского театра. Гордостью его является как раз то, что делает Фоменко.РОМАН ВИКТЮК
Есть люди, которые тебе как будто приходятся родственниками. Такой человек для меня Роман Виктюк. Я познакомилась с ним давно. Роман Григорьевич приходил в Театр на Таганке к Анатолию Васильевичу Эфросу. Потом нас связывали какие-то дела, он мне звонил и почему-то говорил: «Здравствуйте, это дедушка». Я помню свое впечатление от его спектакля «Рогатка» с Сергеем Маковецким. Я крайне традиционна и даже несколько убога в интимных вопросах. Но тут мне впервые было неважно, что друг друга любят двое мужчин. Я вместе с героями спектакля пережила эту любовь. Она меня потрясла. А потрясение в театре бывает нечасто. Позже Виктюк устраивал в Доме актера творческие встречи — и толпы театроведов, режиссеров мчались, как безумные, на этот разговор. Причем разговор велся на таком интеллектуальном уровне, на который не всякий собеседник способен подняться. Но Виктюк — маг, он завораживает беседой. Он проводил вечера своих учеников в Доме актера. Все ученики — разные, но все — его слепок, все стараются мыслить его необычными категориями. Он комментировал происходящее на сцене, и опять-таки создавалось впечатление, что ты присутствуешь на сеансе какой-то магии. Актеры и актрисы, которые работали с Виктюком, говорят о нем, словно о божестве. Причем они обожают его не только как режиссера, но и как человека, Роман Григорьевич очень изменился. Когда-то он ходил в одном и том же пиджаке. И был жутко трогательным в этом единственном пиджаке. Теперь он каждый раз поражает новым нарядом — порой такой расцветки, в какой мало кто решился бы выйти. И вроде бы я не очень люблю эпатаж, но, глядя на него, наполняюсь светлым чувством. Видно, что он сам очень рад, и тебе становится радостно. Изменился и образ мышления Романа Григорьевича. Я иногда слушаю его по телевизору и удивляюсь тому, как он стал мыслить. Но когда мы встречаемся, он кажется мне таким простым. Мы по-прежнему разговариваем на равных. Я говорю, что дважды два четыре, он подтверждает: ну да, наверное, четыре. Я скучаю по нему, если мы долго не видимся, — просто не могу. Я не знаю, что нас с Романом Григорьевичем Виктюком объединяет — взгляды на жизнь, взгляды на театр? Но это человек, очень к себе располагающий.АКТЕРЫ СНГ
Однажды Дом актера проводил вечер замечательной грузинской актрисы Софико Чиаурели, Она приехала в Москву вместе со своим мужем Котэ Махарадзе. Мы познакомились. В дальнейшем мне выпало счастье быть на 75-летии Котэ Махарадзе — его последнем юбилее. Меня пригласили в Тбилиси вместе с Кириллом Лавровым, Алексеем Петренко и Галей Кожуховой. После вечера Софико Чиаурели, состоявшегося в Доме актера, мне пришла в голову идея в Международный день театра собрать звезд бывшего Советского Союза. И к нам приехали Вия Артмане, Донатас Банионис, Регимантас Адомайтис, Кахи Кавсадзе, Ивар Калныньш, киргизские актеры Арсен Умуралиев и Джамал Сейдахматова… Вечер назывался «С любимыми не расставайтесь». Актеры достаточно быстро поняли, что это не фестиваль, на котором нужно отметиться, а что в нашем Доме их на самом деле ждали. Я познакомилась и, с гордостью могу сказать, подружилась с замечательной женщиной и актрисой Гурандой Габунией, женой величайшего актера Отара Мегвинетухуцеси. Потом у нас состоялся их вечер. Отар сделал все, чтобы на сцене главенствовала его Гуран-да. Он показал себя не только настоящим актером, но и любящим мужем. Очевидно, Гуран да многое значит в его жизни. Она дает ему силы. Отар — человек сдержанный, немногословный. А у Гуранды темперамент — просто ураганный. Я знаю, что Гуранда — очень хороший друг. Это проверено неоднократно. Друзьями стали нам и другие актеры. Мы отыскали Михая Волонтира и пригласили его. Мик Миккивер привез к нам Тыниса Мяги (они тогда вместе играли). Актеры показывали фрагмент из спектакля «Три сестры». Никаких языковых барьеров на этих вечерах не возникало. Миккивер читал монолог, переходя с русского на эстонский. Кахи Кавсадзе, красивый, мужественный, удивительно пластичный, пел с замечательным грузинским ансамблем «Для тебя». А Джамал Сейдахматова выступала на киргизском. Хотя каждый из актеров — это другой национальный характер, когда смотришь на сцену, не чувствуешь различий между нами. Наоборот, возникает парадоксальное ощущение: чем ярче передается национальный характер, тем более интернациональной становится игра актера. Сколько есть московских актеров, с которыми я вижусь довольно часто, но не менее близки мне звезды бывшего Союза, хотя они и далеко.МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Актеры для меня — как дети. Они и называют меня мамой. Причем иногда даже те, кто старше. К актерам нашей молодежной секции я тем более испытываю материнские чувства. Когда я пришла в Дом актера, в эту секцию входили Наташа Трихлеб, Женя и Нина Дворжецкие, Юра Нифонтов, Гриша Гурвич, Лена Бушуева. Потом стали появляться и другие. Я очень люблю всех: Марину Голуб, Максима Суханова, Сашу Жигалкина, Эдика Радзюкевича, Пашу Сафонова, Лену Сотникову, Диму Певцова, Олю Дроздову, Марину Есипенко, Дусю Германову, Нонну Гришаеву, Аню Большову, Андрюшу Ильина… С ужасом думаю, что не могу перечислить всех, кого хотелось бы. На моих глазах прошел путь этих актеров. Просто жизнь, к сожалению, не дает мне возможности быть ближе ко многим из них. Поэтому об одних я знаю и могу рассказать чуть больше, о других — меньше. На нашей сцене когда-то начинал Алеша Колган. Первая же пародия, которую показал никому не известный тогда актер, — сразила. Так точно, ярко, талантливо, пожалуй, не работает никто из современных пародистов. Алеша сам пишет, сам режиссирует, к тому же он удивительно музыкален. Его дуэт с Александром Бобровским восхитителен. Участие в домактеровских посиделках решило Лешину судьбу — из Театра Моссовета он перешел в Театр сатиры. Помню, как Леша неожиданно объявил о том, что женится на Нине Дворжецкой. Свадьбу устроили в Доме актера. Я много плакала (хорошо, если молодые этого не замечали). Да, я была очень рада за Лешу и Нину, за детей Нины и покойного Жени Дворжецкого. Но перед глазами стоял образ Жени. К молодежи я причисляю и людей среднего поколения. Для меня Федя Добронравов — молодежь, а у него уже взрослые дети: старший сын Виктор — актер Театра Вахтангова, младший Ваня — трогательный и искренний — стал знаменитостью после фильма «Возвращение». Федя — украшение спектаклей Театра сатиры. Разное впечатление производила на меня Юля Рутберг. Она казалась мне слишком умной и уверенной, а иногда я сомневалась в ее искренности. Например, когда она говорила о любви к старшему поколению. Но постепенно я пришла к выводу, что Юля — открытый человек. Все, что она говорит, — на самом деле у нее на душе. Просто, в отличие от многих, она не стесняется это говорить. И сейчас я уже слушаю ее даже с некоторым благоговением. Меня радует, что она умеет так мыслить и так чувствовать. Юля очень востребована — играет в своем театре, в антрепризах, в кино. Кроме того, она занимается общественной деятельностью (в наше время многие потеряли интерес к общественной деятельности, даже это словосочетание сейчас звучит странно, а мне оно очень нравится). Юля именно общественный деятель. И я могла бы ей доверить многое. Я очень люблю актерские династии: интересно следить за тем, как меняются поколения и что в людях остается неизменным. Когда-то в нашей молодежной секции был нежно любимый мною Миша Ефремов. Династия, которую представляет Миша, соединяет в себе несколько линий российской культуры и интеллигенции. Его отец — Олег Ефремов, мама — актриса, режиссер и блестящий педагог Школы-студии МХАТ Алла Борисовна Покровская. Дед Миши Борис Александрович Покровский — выдающийся оперный режиссер. Я хорошо помню, как в папином кабинете за круглым столом сидел Борис Александрович со своей женой Ириной Масленниковой. Я тогда училась в ГИТИСе и считала его классиком, поэтому, когда входила в кабинет и видела живого Покровского, просто цепенела в его присутствии. Борис Александрович остался преданным Дому актера и когда не стало папы. Он поддерживал нас после пожара, принимал участие в вечерах. И Алла Борисовна тоже стала своей в Доме — была членом жюри молодежного фестиваля «Московские дебюты». Мишу Ефремова я также помню еще по тому Дому актера. Позже, когда у нас возникли очередные проблемы с Домом, я решила, что мне, помимо Марии Владимировны Мироновой, нужны еще люди, с которыми я могу посоветоваться. И я вспомнила о Жене Лазареве и Мише Ефремове. Я пригласила Мишу поговорить. Это был очень откровенный разговор о жизни, и я помню, как мне было радостно общаться с ним. Мне даже показалось, что я разговариваю с человеком, который старше и мудрее меня. Я не представляла Мишу таким. И тогда я поняла, что он — наследник этой линии. Как бы мне хотелось, чтобы Миша каждую минуту своей жизни помнил, чей он сын и соответствовал своим родителям. Одна из самых известных молодых театральных актрис сегодня — Маша Аронова. На спектакли Маши в Театре Вахтангова приходят по нескольку раз. В «Дядюшкином сне» она играет с Владимиром Абрамовичем Этушем. Маша — выпускница «Щуки», ректором которой столько лет был Владимир Абрамович. Но когда они играют в одном спектакле, разницы в возрасте не ощущаешь — это дуэт больших актеров. Особым актерским обаянием обладает Сережа Маковецкий. Популярность Сережи меньше всего связана с сериалами, с какими-то сегодняшними, так сказать, поделками искусства. Это популярность настоящего мастера — актера кино и театра. После одного из спектаклей в Театре на Покровке Сережа сказал, что хочет представить мне свою маму. Рядом с ним стояла простая украинская женщина, явно гордившаяся своим сыном. Я вспомнила маму Сережи чуть позже, в Берлине. Мы выезжали туда с Домом актера. Сережа чрезвычайно талантливо делал несколько очень разных номеров — сцену из «Заката» Бабеля (спектакля Театра Вахтангова), затем обожаемую в Доме актера уморительную считалку на украинском языке, а потом запел «Ридна мати моя». И в моих глазах возник образ его мамы. Когда Сережа пел эту песню, в зале плакали. И я, стоя на сцене, не могла сдержать слез. Сережа — поразительный актер. Он органичен в любом образе. В его ролях проявляется и глубокая душа. Я немногое знаю о Сереже, но мне кажется, я его чувствую. Очень важный человек для Дома — актер Театра сатиры Юрий Васильев. Он много сил отдает Дому. Юра — участник всех наших «капустников». Когда народный артист России страстно и истово играет в «капустнике» — это истинно театральное зрелище. Юра Васильев достигает успеха благодаря не только своим способностям, но и невероятному трудолюбию. Кроме того, Юра ставит спектакли. Для меня важно, что он при этом совершает поступки. Он режиссер спектакля «Секретарши», в котором представлены актрисы разных поколений, в том числе те, кто последнее время уже не играл. Я была так рада за Зою Зелинскую, Валю Шарыкину, Нину Корниенко. Для меня Юра открыл Наташу Саакянц. В ней есть что-то от старого театра настоящая элегантность. Как он это разглядел! Наташе, по-моему, было уже за семьдесят, когда она начала играть в «Секретаршах». И я понимаю, как Юрин спектакль важен для этих женщин. С моей точки зрения, это уже не только режиссура, но и человеческий поступок. Есть люди, которые получили в Доме актера первое признание, — это и Сережа Безруков, и Дина Корзун, и многие другие. Но потом, к сожалению, их жизнь и наша разошлись. Порой мне кажется, что старшее поколение все-таки больше ценило и ценит Дом. Хотя сущность человеческая не меняется. Время может лишь высвечивать те или иные черты характера. Молодежь стала более прагматичной. Но отношения между актерами и Домом актера в принципе не изменились. Может быть, как раз потому, что в Доме ничего не изменилось с прежних времен, Я бы очень хотела, чтобы наша молодежь осталась с Домом актера. Не могу сказать, что я чем-то помогла этим людям, что-то для них сделала. Но душевных сил затрачено много. Я очень ценю всех. И благодарю судьбу за то, что мне позволяется присутствовать в их компании.Актеры — особые люди. Они эмоциональны, поэтому сначала переживают что-то, а уже потом осмысливают пережитое. Это делает актеров по-детски чистыми, Их первая, эмоциональная, реакция всегда кажется мне самой верной. Я порой думаю: как было бы хорошо, если бы государство обращалось к актерам, чтобы выслушать их сердце.
ЛИЧНОЕ
МУЖЧИНЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Теперь — об очень личном. У меня были сомнения, надо ли об этом писать. Но почему-то хотелось. А я верю своим (как, впрочем, и чужим) порывам. И, кроме того, я — человек абсолютно открытый. Когда я своей дочке Саше рассказываю, что в юности на меня не обращали внимания мальчики, а в дальнейшем — и мужчины, Саша говорит: «Мама, ты просто ничего вокруг не видела и до сих пор не видишь!» Это правда. Общественная деятельность и работа казались мне всегда важнее личной жизни. Но все же были минуты, превратившиеся в гигантское время — по размеру тех чувств, которые в это время вместились.Я росла без мамы. Поэтому какая-то часть женской жизни прошла мимо меня. Кроме того, я была комсомольским лидером и не отвлекалась на мальчиков. После седьмого или восьмого класса папа отправил меня в пионерский лагерь Союза писателей в Голицыно. Запомнился лагерь по двум причинам. Во-первых, там осуществилась моя мечта: я не любила свое имя, поэтому сказала, что меня зовут Машей. И была страшна рада, что ко мне все обращались по имени, которое мне очень нравилось. В отряде мальчиков тогда отдыхал Валя Никулин. И Валя, единственный, всю жизнь называл меня Машей. Еще лагерь запомнился потому, что я влюбилась в вожатого того самого отряда, в котором был Валя Никулин. Мы играли в «Ручеек», и держать вожатого за руку казалось немыслимым счастьем. Первая, совершенно детская влюбленность настолько потрясла мой организм, что я похудела на семь килограммов (в другое время сбросить вес для меня довольно трудно). Настоящая же первая любовь возникла, когда я уже училась в ГИТИСе. Мы с подругой приехали отдыхать в Комарово. Видимо, в жизни каждой девушки бывает такое лето, когда она необыкновенно хороша. В то лето я пользовалась вниманием всех. Но больше — родителей молодых людей. Были даже мамы, которые уговаривали меня подружиться с их сыновьями. Влюбилась же я в человека старше меня лет на тринадцать — отдыхавшего в Комарове актера одного из ленинградских театров. Я помню то место в Комарове, где мы сидели рядом, и я впервые прислонилась к его плечу. Помню, как мы ехали в поезде. Как потом я впервые увидела его в театре — мне казалось, что лучшего актера на свете нет. Первая любовь была безумием, но и невероятным счастьем: когда ты никого не видишь, кроме одного человека, когда ты знаешь все, что касается его, когда у тебя буквально горит ухо во время телефонного разговора с ним. Я вернулась в Москву, он остался в Ленинграде. Я получала письма и зачитывала их до дыр. Сама писала ему. Причем бывало так, что он — в Москве на гастролях, а я — в отъезде, и, совершенно обезумев, шлю ему телеграмму, в которой пять или шесть раз повторяю: «люблю, люблю, люблю…» Не соображая, что в квартире, где он живет, эту телеграмму могут прочитать все. Но главным в моей жизни оставался папа. А он не хотел, чтобы я выходила замуж за актера и, чего я понять не могла, испытывал неприязнь к моему возлюбленному. Доходило до нелепостей. Мы жили на Петровке, и у нас были две комнаты в огромной коммунальной квартире. В одной комнате сижу я с моим другом, приехавшим в Москву, в другой — папа. Вдруг раздается звонок во входную дверь. Выхожу открывать — стоит папа в пижаме. Говорю: «Папа, ты что?» Он просит налить ему чая (сам никогда ничего не мог сделать). Спрашиваю: «Почему же ты просто не постучал в комнату?» «Я видеть его не могу», — отвечает он. Но когда папа наконец понял, что я совершенно сошла с ума от любви, перестал противиться нашим отношениям. Я в то время писала дипломную работу и сделала вид, что мне надо позаниматься в библиотеке в Ленинграде. И папа, благородный человек, отправил меня туда и даже договорился с Домом ветеранов сцены о комнате для меня. В этой комнате лютой зимой я пыталась что-то написать, хотя жила только ожиданием, когда придет он. Летом я защитилась, получила красный диплом и уже строила планы, как мы поедем отдыхать вдвоем. И вдруг что-то произошло — я заметила это по письмам. Самолюбие в юном возрасте — чрезмерное, чувства обострены от безумной любви, и я перестала писать, Не писал и он. Потом я получила от него письмо с сообщением, что он случайно оказался где-то в Карелии, на даче у актрисы из его театра Я все поняла и испытала трагедию покинутой женщины. В таком состоянии я пришла работать на телевидение. Там было много очень красивых мужчин. Но это не сильно успокоило меня. Через полгода, 22 декабря, в мой день рождения, я впервые после своего несчастья собрала гостей. И вдруг папа кричит: «Маргуля, тебя к телефону!» — и довольно раздраженно дает мне трубку, Мое сердце начинает биться, я понимаю, что после долгого перерыва услышу удивительно красивый голос любимого человека. Он говорит: «Маргуша, я тебя поздравляю. Если ты хочешь, я завтра приеду». И я сказала: «Не надо». Не знаю, была ли я права. Но в том возрасте поступить иначе я не могла — я еще не умела прощать. Мы увиделись лет через десять — его театр приехал на гастроли. Когда мы разговаривали по телефону, мое ухо горело, как прежде. Мы договорились встретиться. Я бежала к Александровскому саду, ничего не соображая и ничего не видя кругом. Мне казалось, в любую минуту могу упасть. Когда я заметила его, идущего навстречу, все обиды забылись. Я была уже замужем за оператором Юрием Игнатовым, уже росли двое детей. Удивительно, как бывает: мой муж никогда никуда не уезжал один — без меня он не мог, и поэтому, даже когда его посылали в командировки, вынуждены были отправлять и меня. А тут он первый раз в жизни уехал. Мало того — командировку пришлось продлить. Поэтому практически все время гастролей театра я находилась в Москве без Юры. Это позволило мне видеться с любимым и думать, что за эти десять лет ничего не произошло — не было ни моего замужества, ни его женитьбы. В редкие минуты жизни я становлюсь романтически настроенной и далекой от реальности. У меня не было сомнений — я уезжаю с ним. Хотя он не говорил мне об этом ни слова и даже, скорее всего, и не думал о таком варианте. Мне казалось: разлука кончилась, теперь мы будем вместе. Я всегда мечтала иметь от него сына, печь ему пирожки… Даже когда мы встречались, я больше жила мечтами. Естественно, он уехал. Мы не объединили свои судьбы, и я не знаю, плохо это или хорошо. Мы продолжали видеться. При встречах по-прежнему возникало ощущение, что рядом — родной человек. Хотя мы ведь были мало знакомы. Если сложить все то время, что мы провели вместе, получится дней двадцать-тридцать. И сейчас, когда я редко, но все-таки слышу по телефону его голос (а голос у него действительно очень красивый), сердце мое так же трепещет. Прежних чувств, конечно, уже нет — прошла жизнь, возникали другие эмоции. Но те дни до сих пор кажутся счастьем — может, потому, что их было немного. Сейчас он — в другой стране. И я опять мечтаю — поехать туда, посмотреть, как он живет. Мне важно знать, что и в конце нашей жизни мы можем просто побыть вместе, держа друг друга за руки, как это было раньше.
* * *
Когда я пришла на телевидение, вокруг меня вилось много мужчин: кто-то провожал сегодня, кто-то — завтра. Постоянно же оказывался рядом один человек — Юра Игнатов. Но я даже не думала о его чувствах ко мне. С моим приходом число комсомольцев достигло десяти, что позволяло избрать бюро. Естественно, я стала секретарем. А спортивным сектором заведовал Юра. Я все время просила его организовать хоть какое-нибудь мероприятие. И однажды он объявил мне, что мы будем кататься на коньках в Парке культуры. Я, которая не умеет и не любит кататься на коньках, беру свою сестру Зину, которая все умеет и все любит, и тащусь с ней в парк. И вижу: стоит Юра — один, никого из бюро больше нет. Я тогда даже не поняла, что мероприятие так и было им задумано. С Юрой Игнатовым мы поженились в 1957 году, Спустя год родился сын Алеша, а в 61-м — дочка Саша. Юра — из очень простой семьи. Но он был наделен качествами, придающими масштаб личности. Я боготворю Михаила Александровича Ульянова и, конечно, понимаю, что его и моего мужа сравнивать нельзя (Михаил Александрович — великий человек), но почему-то мне кажется, что у них — много общего. Это люди, которым силу и мудрость дает земля, а сверху посылаются особые способности. Юра был удивительно талантливым оператором. Он мог стать и хорошим руководителем, но, как человек мудрый, понимал, что происходит вокруг, никогда не вступал в партию, хотя был ведущим оператором и работал на всех правительственных съемках. Для меня же главное — каким он был мужем. Я чувствовала себя защищенной и любимой. Не забуду, как он смотрел на меня, когда забирал нас с Лешкой из роддома. Он не давал мне по ночам вставать к маленьким детям — поднимался сам. Все делалось ради меня. Денег у нас всегда было очень мало, и тратились они прежде всего на меня: чтобы я могла надеть что-то красивое или съесть что-нибудь вкусное. Он обожал детей, много ими занимался, но все равно говорил: «Мать — на первом месте». А мне объяснял: «Они еще будут в жизни все иметь. Сейчас это нужно тебе». Я считаю свое замужество счастливым. Только счастье оказалось коротким. Начиная с 1966 года Юра стал выпивать, потом пить и дальше — пить по-страшному. Так пьют, как ни странно, люди, обладающие редкими человеческими качествами. Юра всегда говорил: «У нас с тобой какое-топротивостояние». Он болезненно относился к тому, что я очень сильная натура. Ему казалось: в этом смысле он мне — неровня. Это было совершенно не так. Думаю, продолжая пить, Юра доказывал себе, что хотя бы в этом он может не пойти мне навстречу. Конечно, сыграла свою роль и дурная наследственность. Но мне порой кажется, если бы Юра был женат на другой женщине, более слабой, умеющей подчинить свои интересы интересам мужа, он смог бы преодолеть болезнь и благодаря своему удивительному мужскому характеру бросить пить. А он видел: я обхожусь сама, дети растут. Я действительно старалась сделать так, чтобы сын с дочкой не страдали. Объясняла им, что у многих — родители больны, просто у кого-то — одно, у кого-то — другое. К нам приходили гости, мы жили, вроде бы не замечая происходящего. Наверное, по отношению к детям это было правильно, а вот по отношению к Юре, видимо, нет. Юра пил до самой смерти, до 1996 года. Более страшную семейную жизнь трудно себе представить. Человек, который пьет, находится в каком-то иллюзорном мире, и он втягивает в этот мир окружающих. Сначала ты живешь надеждой, что сегодня он придет не пьяным. Потом ты уже стараешься предугадать, в каком именно виде он придет. Затем ты ждешь звонка — где его найдут. Дальше ты начинаешь испытывать жуткую жалость: на работе у него неприятности. Но самое ужасное, когда ты понимаешь, что мужчина, с которым ты прожила годы и воспитала детей, которого ты знаешь как талантливую и масштабную личность, на твоих глазах и при твоей полной беспомощности превращается в нечеловека. Лет двадцать — двадцать пять я жила, словно в сумасшедшем доме. При этом надо было работать, заниматься детьми, сохранять видимость благополучия, хотя все всё знали. Юра работал на телевидении, и я понимала, что его терпят лишь из уважения. Врачи, ссылаясь на опыт, говорили: надеяться не на что. Но, конечно, я думала, что в нашем случае будет иначе: сейчас вот Леша женится — и Юра перестанет пить, или, как только Саша выйдет замуж, — Юра бросит, или внук родится — Юра исправится. Но ничего этого не происходило. Хотя были и светлые дни. Зять Александр приобрел старую хату в деревне, в 450 километрах от Москвы, в районе Кинешмы. Я тогда и представить не могла, что эта деревня на высоком берегу Волги станет одной из лучших страниц в моей жизни. Я приехала туда и увидела дом с маленькими окнами и облезлыми стенами, совершенно заросший участок в 17 соток и огромную черемуху у калитки. В доме была горница с легкой перегородкой и кухня вдоль всего периметра, тоже разделенная на клетки. Ужас! С годами золотые руки моего зятя превратили халупу в благоустроенный, просторный, разумно спланированный дом, который я очень полюбила. И вот однажды дети с внуками уехали в деревню, а я собиралась присоединиться к ним на выходные. Вдруг звонит Юра и говорит: «Меня отправляют на пенсию, нужно получить обходной лист». Мы вместе поехали в «Останкино», обошли все необходимые службы, и я подумала: конечно, Юра много пил в последние годы, но ведь он — один из первых операторов советского телевидения, снимавший «Огоньки», правительственные передачи, спортивные программы, телеспектакли, неужели можно вот так, без единого доброго слова, проводить на пенсию человека-историю? Мне стало жалко Юру, и я повезла его к нам в деревню. И там, в деревне, где все пьянствовали с утра до вечера, Юра впервые за десятилетия не пил в течение трех месяцев. Я привезла его и на следующий год, и все повторилось. Очевидно, жизнь на природе подходила ему. Он был уже не такой, как раньше, — тяжело дышал, плохо ходил. Но даже в этом состоянии делал все, чтобы облегчить мою жизнь. У меня начали болеть ноги. Посоветовали держать их в теплой соленой воде. Когда Юра тащил ведро воды, страшно было смотреть. Невероятно заботливый человек. Он до последнего старался делать, что мог. Нас уже соединяли только дружеские отношения, но все равно Юра был тогда очень нужен мне. Потом мы приезжали в Москву. И буквально за неделю он превращался в алкоголика. У дочки была однокомнатная квартира. Удалось убедить Юру переехать туда — находиться с ним под одной крышей стало невыносимо. Мы помогали ему. Хотя жил он уже, как бомж. Тогда в Москве началась чесотка, и Юра заболел, Дети ездили к нему, стирали, гладили — ничего не спасало. К счастью, нашлась удивительная женщина-врач, которая уложила Юру в больницу и вылечила. Выглядел он уже жутко: зубы выпали, лицо стало одутловатым. Юра был по-прежнему аккуратным, но все же имел вид опустившегося человека. Когда в Доме актера устраивались какие-то мероприятия, встречи с политическими деятелями, Юра звонил и спрашивал разрешения прийти. Он всегда интересовался политикой. Однажды мы ждали его дома — прописанный у нас, Юра должен был приехать голосовать на выборах президента. Но он не приехал. Мы начали волноваться, звонить — никто не отвечал. Тогда дочка Саша с мужем отправились его искать. Вечером дочка позвонила и сообщила: «Папа умер». Он сидел на лавочке, ему стало плохо, «Скорая» приехала, но было поздно. Я кричала криком… Мы узнали, что Юра отправлен в морг как неопознанный — при нем не было документов. В морге мне пришлось пройти тяжелую процедуру опознания. Приоткрыли покрывало, я узнала Юру. Но потом всю ночь мучилась: вдруг я ошиблась, вдруг это не он? Мы договорились его кремировать. Я понимала, что народу на похоронах не будет — Юра последние годы уже не работал на телевидении. Но когда мы приехали в крематорий, со всех сторон туда стекались люди — операторы захотели проститься с Юрой. Я увидела в гробу гладкое, как высеченное, лицо. И при взгляде на него ушло все, что было плохого и мучительного. Осталась только память о мощном, большом человеке, по-настоящему не реализовавшемся ни в работе, ни в семейной жизни, но, несмотря на это и на тяжелую болезнь, оставшемся личностью. Я знаю, что виновата. К сожалению, я не способна целиком посвятить себя другому человеку. Этого завидного женского качества во мне нет. Юра часто говорил: «Почему твоей любви хватает на всех, кроме самых близких?» Это страшный упрек, но, видимо, верный. Я могу отдать себя народу, как это ни смешно звучит. Отдавала себя целиком на телевидении, Всю, без остатка, могу посвятить себя актерам. Не остается меня только на родных. Поэтому единственное, что я знаю твердо: работа, конечно, важна, но люди должны складывать свою семью. Это не происходит само собой. Это большой и тяжелый труд. Я с ним не справилась. У нас — замечательная семья, но я не смогла сделать для мужа то, что должна была сделать. Мне повезло: я и в семьдесят с лишним лет работаю, как безумная. А ведь могла бы уже давно быть на пенсии. Поэтому, конечно, должно сложиться личное — то, что дает тебе желание жить.







* * *
Откровения в личных и тем более интимных вопросах мне не свойственны. Но все-таки должна сказать, что мой опыт не ограничился первой безумной любовью и Юрой. В моей жизни были еще два человека. Начав работать на телевидении, я вдруг однажды поняла, что кроме Юры еще один телевизионный оператор в меня влюблен — он совершенно неожиданно обрушил на меня бурю чувств. Иногда мы ездили куда-то вместе, ходили к его друзьям. Как-то раз я даже оказалась у него дома. В кого я была влюблена — в Юру или в того, другого, — сказать не могу: тогда для меня это не имело большого значения — я жила еще прошлыми переживаниями. А главное — несмотря на опыт первой любви, я все равно оставалась диковатой в этих делах. Когда надо было решать, за кого из двух приятелей выходить замуж, определяющим являлось не их отношение ко мне, не их благосостояние (последнее вообще в те времена роли не играло — мы все были одинаково бедны) — меня почему-то волновало только одно: кто из них выше ростом? Это говорит лишь о том, какой дурой я была и как безответственно относилась к созданию семьи. Я вышла за Юру. Второй друг пришел на свадьбу. Причем с какой-то женщиной — возможно, так ему было легче. Свадьба получилась веселой. Никаких сомнений я уже не испытывала, хотя и не очень понимала, зачем выхожу замуж. Потом тот оператор уехал в другой город. Я не знала, из-за чего: то ли ему было нелегко жить там, где находилась я, то ли по какой-то иной причине. Он женился. Иногда приезжал в Москву. Помню даже, как мы втроем — с ним и с Юрой — пошли покупать мне пальто. Приобрели серое в белых яблоках, длинное, чуть приталенное пальтишко — очень дешевое и сомнительного качества. Но тогда это казалось роскошью, и я была счастлива. Приезжал он и после. Заглядывал к нам. В один из его приездов у меня было давление, я лежала на диванчике, а он вел себя так откровенно, не сдерживая своих чувств, что я даже удивлялась, как это терпит Юра. Но муж, видимо, понимал, что никакой угрозы нет, и относился к этому спокойно. Однажды я должна была ехать в командировку в его город. И вдруг стала ощущать какую-то пронизывающую меня дрожь. Потом, уже сидя в гостинице, я хотела набрать его номер, чтобы договориться о встрече, и эта непонятная дрожь возникла вновь. Я вспомнила, что ранее ощущала его дрожь, когда он провожал меня с телевидения домой. Получалось, что спустя годы она передалась мне. Я постаралась спокойным голосом поговорить с ним по телефону. Мы встретились. Он был сдержан, и мы разошлись. Но меня все время трясло, как в лихорадке. Еще раз мы встретились уже в Москве. Я работала в журнале «Клуб и художественная самодеятельность». Был очень трудный для меня год, совершенно неинтересное дело. И тут звонит он, говорит, что приехал. В этом не было ничего неожиданного — очередная его командировка. Но на меня вдруг нашло какое-то наваждение. Я поняла, что должна назначить ему свидание. Спрашиваю, когда мы увидимся. Один раз спрашиваю, второй, а он все говорит, что надо бы встретиться вместе с генералом (так называли Юру). А Юра к тому времени уже редко приходил домой трезвым, поэтому договариваться о такой встрече было трудно. И я, взрослая женщина, у которой двое детей, пошла на идиотский обман. Я сказала, что мы могли бы увидеться завтра, но я должна дежурить у подруги — в общем, несла какую-то абракадабру. На другой день я поехала на квартиру к своей самой близкой подруге. Стала ждать, когда он позвонит и придет. Лихорадочное состояние ко мне вернулось. Он пришел, мы разговаривали в комнате. Я сидела на диване, он — в кресле, как мне казалось — безумно далеко. В какой-то момент он сел на пол около дивана. У меня было чувство, что он преодолел километры пути. Все горело внутри, в голове стоял туман. Я, уже будучи не в состоянии себя обуздать, положила руку на его плечо. Он положил свою руку на мою. Эти две руки, коснувшиеся друг друга, эти минуты остались в памяти на всю жизнь. Он оказался рядом, и возникло ощущение, что нет никакой иной жизни, что есть только он и я, и, естественно, мы теперь уже не разлучимся. …Настало время уходить из квартиры. Мы шли по Сокольникам, и мне было хорошо, как никогда. Мы поймали такси и ехали, держась крепко за руки. Около моего дома он поцеловал меня, и я вернулась к себе, невероятно счастливая. Мы встретились еще раз. Мне казалось, все замечательно, но вдруг он говорит, что нам не надо больше видеться, — и решительно уходит. Он уехал, но все мои мысли были о нем. Меня уже не так волновало, что Юра приходит пьяный. Я жила в другой реальности. Потом я была занята Олимпиадой, а эта безумная работа затмевала все личное. Но как только заканчивается Олимпиада, я придумываю какую-то невероятную причину для поездки в его город. Приехав, узнаю, что в этот день он снимает футбол. По аккредитации на Олимпиаду я прохожу на стадион. Футбол меня не интересует, я сижу и глазами ищу камеры операторов. Наконец вижу где-то надо мной на трибунах его камеру и просто умираю, оттого что он рядом. По окончании матча подхожу к нему. Мы идем, и он очень резко говорит, чтобы я его не преследовала. Потом я еще раз приехала, просила его зайти в гостиницу. Я так нервничала, что не заметила, как у меня поднялась температура. Я ждала, что он подойдет ко мне, обнимет, но ничего этого не произошло. Он был зол и потребовал, чтобы я перестала вмешиваться в его жизнь. Когда он ушел, я впервые поняла, что могу покончить с собой. Мой поезд отправлялся на другой день вечером. Я чувствовала, что не проживу в этом городе, в этом номере ни дня. Зареванная, отправилась на вокзал. Билетов не было. Я пошла к начальнику поезда и, очевидно, отчаяние, которое было написано у меня на лице, заставило его отдать мне целиком купе. Казалось, жизнь кончилась. О детях, о работе я не думала. В поезде ко мне подсела какая-то женщина, и я начала рассказывать ей свою историю. Когда выговорилась, стало немножко легче. Через несколько дней он позвонил мне в Москву с просьбой купить и прислать нужную ему книгу. Я поняла: это только предлог, на самом деле он звонит, чтобы убедиться, что я доехала. Он чувствовал свою вину. Но просьбу его я исполнила. Позже я послала ему еще одну бандероль. Он праздновал юбилей, и я решила выразить свои чувства, отправив маленький подарок. У дочки Саши была очень симпатичная куколка. Я попросила дать ее мне. Дочка отдала, удивляясь, зачем мне понадобилась кукла. В дальнейшем мы созванивались: когда умер Юра, после пожара в Доме актера, в связи с какими-то датами… Я знаю: его судьба сложилась непросто (так получилось, что у обоих мужчин, с которыми я рассталась, были сложности и даже трагедии в семье). Возможно, невольно я разбила жизнь человеку. Не скрою, мне бы очень хотелось сесть с ним рядом, сказать ему что-то не сказанное раньше. Ведь, несмотря на то что тебя окружает огромное количество людей, навсегда ты оказываешься связанной лишь с немногими. Они остаются где-то в душе и не отпускают тебя. И ты постоянно ощущаешь эту недопрожитую жизнь.* * *
Самая странная история любви в моей жизни произошла, когда мне было уже за шестьдесят. Юра стал совсем больным человеком, за которым требовался уход. Я о мужчинах уже и не думала. Была занята творческими делами. И вдруг с одним человеком у меня возникла странная энергетическая связь. Во время случайной встречи меня как будто ударило током. Что произошло, я еще не осознавала. Но этот человек не выходил у меня из головы. Настоящая любовь и страсть впервые соединились во мне. Я испытала то, что прежде не было мне дано. Поняла, как много в жизни недополучила. И эту любовь, такую позднюю, я восприняла как награду. Может быть, награду за ту сдержанность, которую я проявляла раньше. Впервые я могла не думать, как выгляжу со стороны — до того я всегда контролировала себя, не в силах отключить сознание. Окружающая действительность перестала иметь значение. Ты идешь с любимым по улице и ничего не замечаешь. Тебе кажется, что весь мир наполнен счастьем. В свои шестьдесят я спрашивала себя: зачем бы я родилась, если бы этого не испытала? Я благодарна судьбе и человеку, с которым мы так совпали. Трудно себе представить, чтобы люди, прожившие довольно долгую жизнь, настолько не сумели реализовать свои чувства и сохранили, не побоюсь этих слов, внутреннюю чистоту. У нас оказалось много общего: мы были честны в личных отношениях, в чем-то очень одиноки, и нас тянуло друг к другу. Поздняя любовь сильно изменила меня — я помолодела, даже обрела какую-то женскую суть, которой прежде не было. Появилась уверенность в себе. Конечно, можно сожалеть о том, что нам нельзя быть вместе. Порой нет больше сил — хочется, чтобы он подошел, положил руку на спину, и ты могла бы прижаться к нему. Но ты знаешь, что надо терпеть, что нельзя распускаться. И живешь дальше. Хотя это очень непросто. Ведь ты всегда одна. Конечно, есть дети, внуки, но большую часть времени ты все равно — одна. Иногда я думаю о том, что не зря я не расплескала свои чувства, не растратила себя. Иначе я не ощутила бы настолько радость последней любви. Но, с другой стороны, может, неправильно так жить — надо было, как это делают многие, всякий раз безудержно, бездумно кидаться в пучину любви. И всякий раз испытывать от этого счастье.ДЕТИ И ВНУКИ
Я очень люблю своих детей, но внуков обожаю до исступления. При этом думаю, что ни как мама, ни как бабушка я себя особенно не проявила. Более того, мой опыт, к сожалению, не может служить примером: с семейными сложностями мне справиться не удалось.Сын Леша родился, когда мне было 24 года, и, честно говоря, никто его особенно не ждал. Муж взвалил на себя большую часть забот о сыне. Кроме того, помогала баба Ирина. Я сидела с сыном семь месяцев, но в основном потому, что нам с Юрой было хорошо вместе. Мы все время куда-то ездили, взяв с собой Лешку. Возили мы его в хозяйственной сумке, держа ее с двух сторон за ручки. Лешке было несколько месяцев, когда мы с Юрой и с моей подругой Ирой Жаровцевой решили поехать отдыхать на Украину. Мы уже выходили из дома, и папа, выглянув из своей комнаты, театрально, как он иногда делал, но искренне воскликнул: «Я вас проклинаю!» Он считал безумием ехать неизвестно куда с таким маленьким ребенком. Сейчас я понимаю, что он был прав. Кроме Украины мы с Лешкой побывали еще в Ленинграде. Юра как-то пришел с работы в отчаянии — его посылают в командировку, на съемки балетов «Пахита» и «Шопениана». Расстаться было выше наших сил, поэтому решили поехать все вместе. Папа в очередной раз нас проклял. В Ленинграде мы хорошо проводили время. По вечерам, уложив грудного Лешку спать, ходили в какой-нибудь ресторан. Нас потом спрашивали, как мы решались оставлять ребенка одного в гостиничном номере, на что мы невозмутимо отвечали: «Он же не мог из него уйти!» Когда Лешке исполнилось три с половиной года, родилась Санька. В дочке, вероятно, взыграли гены бабушки-балерины. Она танцевала с четырех лет. Я очень расстроилась, когда ее не приняли в школу ансамбля Моисеева. Но, очевидно, специалисты предвидели, что девочка будет очень крупной и танцевать не сможет. Долгие годы Леша был мне как-то ближе, чем Санька. Вроде бы детей любишь одинаково, но во взглядах на жизнь, в отношениях к людям мы совпадали больше с Лешей. Он вместе со мной радостно принимал дома бесконечных гостей. Все его обожали. Мы понимали: Леша пойдет в технический вуз. Он был поразительно безграмотен. Поступить удалось, по-моему, с четвертой попытки. Но учился он очень хорошо. В студенческие годы Леша женился на однокурснице-отличнице. Таня, его жена, родила Дашу. Радость рождения первой внучки не передать никакими словами. Все было хорошо, мы жили дружно. И вдруг совершенно неожиданно произошел какой-то невнятный конфликт, и я перестала общаться с Лешиной семьей. Мои друзья не могли в это поверить. Зная свою уживчивость, я искала вину в сыне и невестке. Очень страдала, но, как всегда, забывалась в работе. Прошло немало лет, пока восстановились отношения. Так же неожиданно, как и прервались. Теперь я понимаю, что вина на мне. Нельзя было допустить расхождения. Наверстать упущенные годы уже невозможно. Сейчас нам очень приятно собираться вместе. Таня и Леша вырастили замечательную дочь. Даша — умница, трудоголик. Мне с ней тепло и хорошо. Что же касается Саши, которую я критиковала за многое, — она стала для меня опорой во всем. Я не знаю человека, который так менялся бы с годами к лучшему. Для меня Саша — и дочь, и подруга. В ней есть моя общественная закваска, к ней обращается огромное количество людей с просьбой помочь. Ее дети — Саша и Гоша — как будто мои дети. Мы растили их вместе. Судьба внуков волнует меня даже больше, чем в свое время судьба детей. Я хочу сохранить дружбу с ними и не отягощать их собой. Мы с дочкой часто слушаем, какими талантливыми бывают дети: эти учатся за границей, те — с отличием окончили консерваторию… Про наших ничего подобного не скажешь. Но они выдержали разные экзамены в жизни, проявив лучшие человеческие качества, А это, наверное, самое важное. Я почему-то всегда считала, что дети у меня не очень получились. И однажды моя невестка заметила мне: «Ваши дети без всякого вашего участия достигли в своих профессиях уровня, которым вы можете гордиться». Мне это не приходило в голову. Мои дети действительно не пользовались протекцией. Когда был жив папа, еще в какой-то мере могло влиять отношение к нему. Хотя, допустим, дочка дважды поступала в педагогический институт, но так и не поступила и пошла в медицинское училище. Она окончила его с красным дипломом и продолжила учебу в медицинском институте. И сын, как я говорила, поступил в вуз далеко не с первой попытки. Сейчас дочка работает в медицинской фирме, сын стал генеральным директором одной американской компании. Я поняла, что действительно недооцениваю своих детей. Думаю, что дети и внуки не уронили чести своего дедушки и прадедушки.
НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Я — безумный трус. А медицины вообще боюсь панически. Даже непонятно, как я рожала. Я никогда не болела, и вдруг узнаю, что у меня самая страшная болезнь — рак и надо делать операцию. Но характер — он и есть характер: после полного отчаяния ты берешь себя в руки, как будто внутренне расправляешься и начинаешь преодолевать то, что тебе ниспослано.В подготовке к операции, как и во всем в жизни, было сколько трагического, столько же и смешного. Так как прежде с медициной я не соприкасалась, то с удивлением открывала для себя факты, которые в 65 лет пора бы уж и знать. Под настроение я рассказывала подруге и дочке о своих открытиях, и мы тряслись от хохота. Не могу сказать, что я думала о смерти. Я продолжала работать, причем очень интенсивно — хотя уже ездила не только на обследование, но и на лучевую терапию. Однако в машине порой представляла: если сейчас произойдет авария, то меня не станет и операция не состоится. Пока я лишь изредка ночевала в больнице. Утром сдавала анализы и уезжала на работу. Палата была в ужасном состоянии. Я решила купить занавески и поменять сантехнику. В общем, потихоньку обустраивала свое будущее жилище. Это как-то отвлекало от мыслей об операции. Ее назначили на пятницу. В четверг с утра я приезжаю в больницу, и мне ставят капельницу. Лежу под капельницей первый раз в жизни, поэтому чувствую некоторое нервное напряжение. Входит лечащий врач и говорит, что не знает, будет ли завтра операция, потому что «вас на лист не поставили». Советует спросить Михаила Ивановича Давыдова (это главный врач — удивительный человек, красавец необыкновенный). У меня вынимают из вены иголку, я прихожу к главврачу со словами: «Мало того, что мне назначили операцию, хотя обещали лечить, так ее еще и отменили». Он спрашивает: «Зачем оперировать в пятницу? Сделаем все во вторник». Иду к своему хирургу, Виктору Васильевичу Кузнецову, объясняю ситуацию, И он так спокойно говорит: «Ну и давайте делать во вторник. А сейчас поезжайте домой, в понедельник вернетесь». Я, еще несколько минут назад лежавшая под капельницей, звоню, счастливая, на работу, прошу за мной приехать. Потом вспоминаю, что пальто у меня нет, а на дворе — декабрь. Надеваю два махровых халата и уезжаю работать. Операцию сделали во вторник. Я не представляла себе, какие будут сложности после нее. Но, как всегда, сложности, которые кажутся непреодолимыми, не только преодолеваются, но и забываются. Когда я вышла из больницы, выяснилось, что еще не все закончилось — у меня долго держалась температура, а потом было подозрение на метастазы. И я опять получила довольно большую дозу облучения. На сеансы приезжала с работы. Напряжение сохраняется до сих пор. Когда я прихожу на обследование в кабинет к молодому доктору наук Марине Чекаловой, делаю вид, что я совершенно не боюсь, а сама ловлю каждый ее взгляд. И если она у меня ничего не находит, смотрю на нее, как на самого любимого человека. Когда я думаю о том, что наступит время и меня не будет, возникает какой-то панический страх. Как же я не увижу своих детей и внуков, не узнаю, что с ними станет? Однако с годами страх перед неизвестностью становится меньше, и я надеюсь, он вообще пройдет. Мне кажется, возраст и болезнь сделали меня мудрее. Во время болезни ты перестаешь реагировать на мелочи и смотришь на жизнь иначе. Как будто поднимаешься на ступеньку выше, откуда больше видно.
* * *
Я не суеверный человек, но почему-то боюсь написать завещание. К счастью, завещать мне практически нечего. А папа писал свое завещание лет десять. Вообще-то ему уж тем более завещать было бы нечего, но случилось так, что Татьяна Львовна Щепкина-Куперник оставила ему в наследство кольцо (оно сейчас перешло моей дочке), и 7 или 8 тысяч рублей — огромные по тем временам деньги. У папы впервые оказалась такая большая сумма, Скрывать он ничего не мог, и я знала о неожиданном наследстве. Эти деньги папа очень берег (лишь когда он уже довольно серьезно болел, ему приходилось немного брать из них на лечение). Папе хотелось завещать деньги всем родным, и он постоянно распределял эту сумму. Сначала разделил ее на три части: жене Ирине Николаевне, Зине и мне. Потом взял у всех нас понемногу — так, чтобы Леше и Саше досталось по 700 рублей. Это тоже были хорошие деньги (моя максимальная зарплата в те годы составляла 260 рублей). Потом он снова стал мучиться: «Может, мне отдать внукам деньги при жизни?» Я поддержала его: «Конечно, ты увидишь, как они рады». Когда папы не стало, Ирине Николаевне, Зине и мне досталось по полторы тысячи рублей. Это наследство позволило мне сделать ремонт в квартире. Папино завещание было очень коротким. И деньги были в нем — не главное. В завещании папа, обращаясь ко мне, писал, что очень горд мною, благодарит судьбу за то, что у него такая дочь, и просит меня о том, о чем я никогда не думаю, — заботиться о своем здоровье. Еще папа написал, чтобы я продолжала опекать Зину, воспитывать детей, и просил не оставлять Ирину Николаевну — она была ему верным другом и много для него сделала. Вспоминая папино завещание, я тоже очень хочу что-то написать детям и внукам. Но не нахожу в себе силы.ПРИЯТНО ГОВОРИТЬ СРАЗУ СО ВСЕМИ
Однажды мне нагадали, что я напишу книгу. Я искренне удивилась и объяснила гадалке, что никогда ничего не писала. Она тем не менее сказала: «Книга будет издана. И не только у нас, но и за рубежом». Можно считать, что половина предсказания сбылась.Когда Инга Гаручава, известная как драматург, первый раз предложила мне погадать, я сначала была категорически против. Но Инга сумела меня к себе расположить. Это было давно, во времена моей работы в Театре на Таганке, в очень тяжелый период. Инга, гадая на кофейной гуще, рассказала всю мою жизнь, хотя ничего обо мне не могло быть ей известно. И она произнесла слова, которые в тот момент я не поняла: «Вы войдете в кабинет, знакомый с детства». Эта фраза всплыла в памяти через несколько лет, когда я возглавила Дом актера. С тех пор Инга часто гадает мне про Дом. Бывало даже, она предостерегала меня от каких-то необратимых поступков. Нагаданная Ингой книга подходит к концу. Я изложила на бумаге то, что было на самой верхушке моей памяти. Но искренне не хотелось отправлять это «в свет». Во-первых, потому что кажется, очень многое не написано — огромная, насыщенная жизнь вылилась в клочки и обрывки. Во-вторых, потому что я, как уже говорила, достаточно трезво оцениваю свои литературные способности. А в-третьих, это действительно только верхушка — мои воспоминания очень поверхностны. Но издаю книгу лишь для того, чтобы добавить еще один маленький штришок к общей памяти поколения. Больше всего меня беспокоило, что много, очень много людей, прошедших со мной по жизни — и те, кто рядом, и те, кто вдали, и те, кого уже нет, — не названы мною на страницах книги, хотя я никогда не забываю и не забуду их. Видимо, мне везло на окружение: людей, с которыми не сложились отношения, очень мало. Наверное, они, увидев книгу, без любви и радости подумают обо мне. Не сердитесь! Честное слово, плохое не помнится. О тех многих, без которых нет меня и моей жизни, хочется сказать еще раз. Дорогие мои одноклассники, однокурсники, телевизионщики, вся молодежка, мой цирк, нежно любимые артисты Таганки (обоих театров — они для меня один потрясающий коллектив), все девочки Комитета по культуре и АССИТЕЖ, музыканты оркестра Вероники Дударовой, а главное — вся моя актерская братия и мои родственники, особенно старшее поколение! Все вы — любимые, лучшие! Помню каждого.
* * *
Пора подводить некоторые итоги. На протяжении жизни мои принципы проверялись, корректировались и даже менялись. Я всегда была уверена, что главная моя страсть — работа, а отношения с мужчинами и так называемая личная жизнь мало что для меня значат. Теперь же я могу с уверенностью сказать: лишь моменты, когда ты любишь, остаются в памяти ярко высвеченными. Любовь не знает возраста — в шестьдесят я точно так же сошла с ума, как и в 18. Но с годами понимаешь, какое страшное ощущение, когда из твоего «я» уходит это потрясающее чувство. Есть еще один важный вопрос, который в разные годы решался мною по-разному: бороться со злом или делать добро? Когда-то я готова была насмерть биться за правду, отстаивать Дом актера на Тверской, который олицетворял для меня все лучшее. Я проиграла в битве за него. Но появился другой Дом, на Арбате. А с ним — возможность делать что-то для людей. И оказалось, что это важнее. Сегодня это моя самая большая радость. Я люблю актеров. Не скрою, мне нравится, когда они в ответ любят меня. Я буквально расцветаю от их хорошего отношения ко мне. Ушли зажатость, остатки комплексов. К семидесяти годам я вполне освоила сцену. Запела при отсутствии слуха, затанцевала на больных ногах. Готова на любой сценический эксперимент. Не смущаюсь перед микрофоном и камерой — так приятно говорить сразу со всеми. К сожалению, мне не хватает знаний. Вот быстро решать любые вопросы, используя природный здравый смысл, ничего не откладывать — это моя стихия. Думаю, у меня достаточно сил даже для того, чтобы начать новое дело. Но это нелепо. Во-первых, есть Дом актера, который я должна веста дальше. А во-вторых, кому же я нужна в свои годы? Главное — я продолжаю жить абсолютно полной жизнью и остаюсь в Доме актера не потому, что не смогла бы существовать иначе (я очень приспособляемый человек). В служении Дому актера я вижу свой долг. Это, конечно, звучит пафосно, но ведь так оно и есть.МАСТЕРА О МАРГАРИТЕ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЭСКИНА?
Я спокойно отношусь к себе, да и привыкла к тому, что мое имя звучит со сцены, поэтому пронять меня трудно. Но было два случая, когда я не смогла сдержать слез. Я плакала во время исполнения Татьяной Дорониной песни «Голубка», которую она посвятила мне и папе. И была невероятно растрогана песней на слова Эдуарда Ливнева «С чего начинается Эскина?», которую спели Аристарх Ливанов и Валерий Баринов на вечере по случаю 65-летия Дома актера.«ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…»
Гриша Турбин сочинил замечательную песню. Ее исполняли на разных вечерах. Сергей Шустицкий сидел за роялем, а на сцену вслед за Гришей выбегали Игорь Верник, Дима Певцов, Юра Васильев, Миша Ефремов… Обращаясь ко мне, они просили: «Позвони мне, позвони». А предварял песню Гриша такими словами: — Когда-то мы каждый вечер проводили в Доме актера. Звонил телефон, и плачущий голос говорил, что немедленно надо прийти, устроить чей-то праздник. Правда, других занятий не было. Потом жизнь изменилась, появились спектакли, телевизионные передачи. Я даже сейчас не знаю, успеют ли мои товарищи на выход. Жизнь изменилась к лучшему, но звонков стало меньше…«В МОСКВЕ, В САМОМ ЛУЧШЕМ РАЙОНЕ…»
При Гильдии киноактеров существует ансамбль «Генофонд». В его звездном составе — Евгений Жариков, Александр Голобородько, Игорь Старыгин, Борис Химичев, Борис Клюев, Аристарх Ливанов и многие другие замечательные актеры. Ансамбль выходит на сцену по случаю юбилеев и памятных дат и исполняет торжественные, но при этом очень смешные песни. Руководит «Генофондом» талантливый человек — Борис Львович. Я помню «капустники» Дома актера прежних лет, но такого мужского хора — с такими известными лицами и таким уровнем текстов — никогда не было. Я считаю это открытием в искусстве. То, что делает Боря Львович, — новый и очень трудный жанр. Хочу привести здесь одну из исполненных «Генофондом» песен, в которую удалось уложить всю жизнь — мою и Дома актера.(«В Москве, в самом лучшем районе»)
(«Враги сожгли родную хату»)
(«Комсомольцы — добровольцы»)
ПОЭМА ПЕТРА ФОМЕНКО
Когда на одном из юбилеев Дома актера Петр Наумович Фоменко стал читать со сцены посвященную папе, мне и Дому актера поэму, я была потрясена. Может, это самая большая моя гордость.Выступление Петр Наумович предварил такими словами: «Первый, и дай Бог, последний раз позволил себе что-то написать. В Доме актера мы свили себе гнездо. И, думаю, Маргарита простит нам и это затянувшееся бытие в ее Доме, и некоторое амикошонство, которое я сейчас себе позволю. Я буду краток. Поэма. Александр Блок. „Возмездие“».
«РИО-РИТА»
Мое 60-летие отмечалось в ресторане Дома актера. Собрались самые близкие мне люди. Никаких концертных или «капустнических» номеров предусмотрено не было. И вдруг в середине вечера вышли Гриша Гурвич, Дима Певцов, Юра Васильев, Игорь Верник, Миша Ефремов… и исполнили «Рио-Риту». Песня на слова Гриши получилась очень проникновенной. А одна строчка меня просто поразила. Я всегда держу в руках платочек, за что дочка меня упрекает. Но я не думала, что кто-нибудь, кроме нее, это замечает. Оказывается, платочек видят, все, а Гриша даже вставил эту деталь в песню.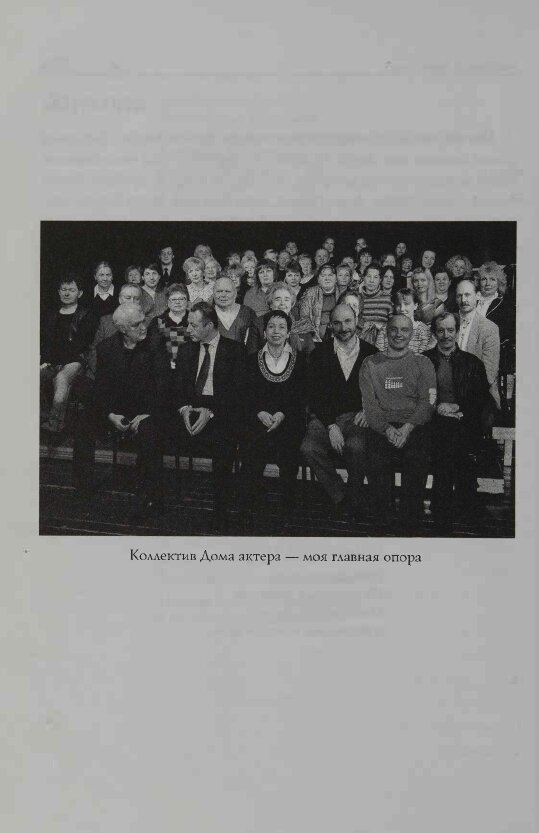




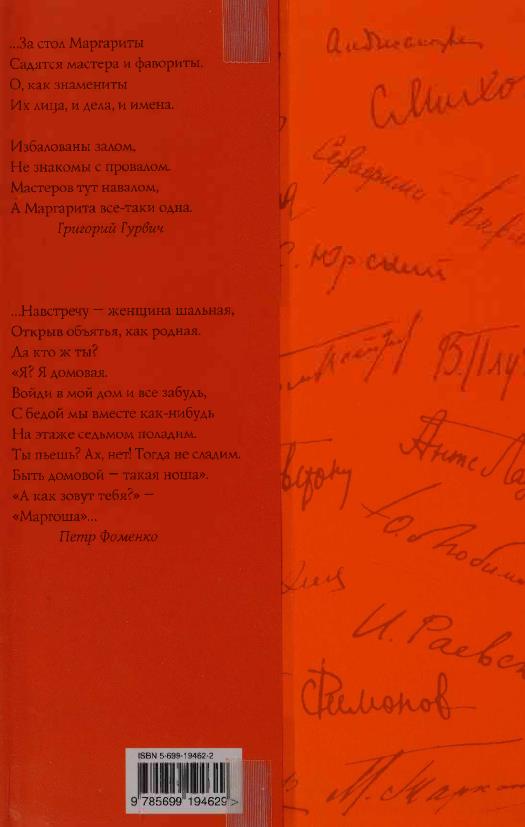


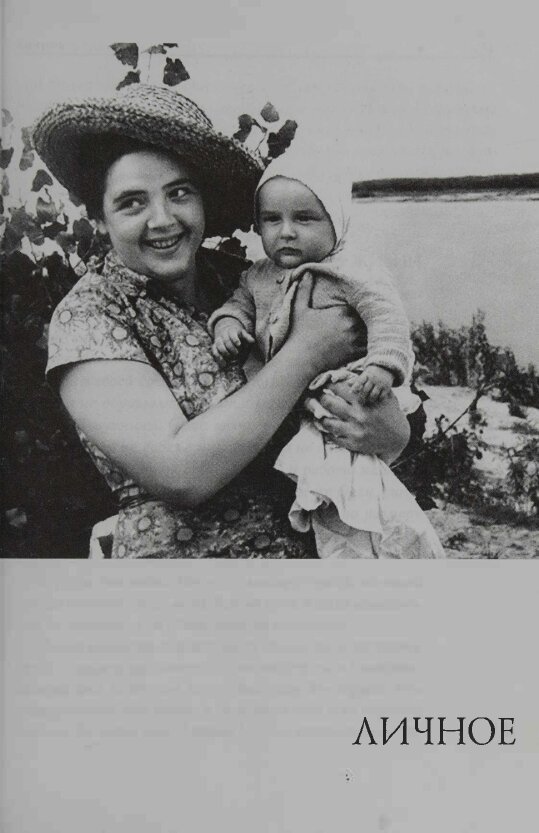

Последние комментарии
6 часов 7 минут назад
8 часов 38 минут назад
8 часов 46 минут назад
1 день 20 часов назад
2 дней 17 минут назад
2 дней 2 часов назад