Пророк из 8-го «Б» [Константин Иванович Курбатов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
К. Курбатов ПРОРОК ИЗ 8-го «Б» Повести и рассказы


ПРОРОК ИЗ 8-го «Б», или Вчера ошибок не будет Повесть, совершенно фантастическая
От автора
Почему у одного человека жизнь складывается удачно, счастливо, а у другого — нет? Наверное, однозначно ответить на этот вопрос нельзя. И семья, и школа, и друзья, и многое-многое другое влияют на формирование личности, на выбор пути, когда подходишь к развилке дорог. И все же, как бы там ни было, в конечном итоге дорогу ты всегда выбираешь сам. Человек всегда сам творец своей судьбы, своего взлета или падения. Вот мысль, которая должна была стать основной в моей повести «Пророк из 8-го «б». Чтобы отстоять эту мысль, можно было, разумеется, пойти прямым путем — рассказать о судьбе сильного, смелого и честного человека, который умел критически относиться к собственным поступкам и одержал победу. Но я избрал путь негативный, сатирический. Я решил вести доказательство как бы «от обратного». Вынося на суд читателя исповедь неудачника, я хочу наглядно показать молодому человеку, до чего можно докатиться, если смотреть на мир глазами моего героя. Однако что это такое — смотреть на мир? Разве окружающий нас мир не является объективной реальностью, не зависящей от того, как мы на нее смотрим? Дело вот в чем. Одно и то же явление (абсолютно любое, без исключения!) рассматривается каждым человеком с каких-то определенных позиций. В сосне, что растет на берегу ручья, лесник видит лес, который нужно сберечь от порубки; мальчишка — дерево, на которое тянет забраться; столяр — материал, из которого получится добрый шкаф; браконьер — ценность, которую можно втихую спилить и продать. В раннем детстве, в возрасте куличиков-лопаточек, многие городские детишки завидуют дворникам. Еще бы: дворник целый день в свое удовольствие гуляет и машет метелкой. Чуть подрос ребенок — и уже восторженными глазами смотрит на шофера или, тем более, на летчика. Еще бы: целый день сидишь себе и крутишь баранку или штурвал. Но все кончается. Детство, как известно, кончается тоже. Человек становится мудрее и начинает переоценивать ценности. У него появляется свой взгляд на вещи, более глубокий и мудрый. Какой же конкретно? Забраться на сосну ему уже не хочется. А чего хочется? Сберечь ее для людей? Выстроить из нее дом? Или спилить, продать и приобрести себе модные туфли? Что? Один человек приходит в мир, чтобы подарить людям научную идею и посадить сад. Другой — чтобы одеться в красивые одежды и съесть побольше вкусной пищи. Все зависит от того, каким видит человек окружающий его мир, — мастерской, как тургеневский Базаров, или спальней, как гончаровский Обломов. Герой моей повести Гремислав Карпухин смотрит на жизнь как на источник непрерывных удовольствий. Он хочет возможно больше брать и ничего не давать взамен. Он ярко выраженный тип эгоиста-потребителя, живущего одним собой и только для себя. Во всем, что Карпухин встречает в жизни, он неизбежно видит одно — то, что можно взять, употребить в свою пользу. Этим он одновременно напоминает и ребенка, завидующего дворнику, и браконьера, видящего в сосне модные туфли. Карпухин — существо одноклеточное. Становясь взрослым, он никак не может выбраться из примитивных суждений, расстаться с милым его сердцу иждивенчеством. Карпухин с его хватательным инстинктом обречен на неизбежный крах. Потому что люди, приходящие в мир лишь для того, чтобы брать, решительно отвергаются обществом, они несовместимы с нашим обществом, как заноза, попавшая в здоровое тело. К сожалению, Карпухин не знает этого. Он слеп и глух, ему не дано понять, в чем причина его неудач, что происходит вокруг. А неудачи сыплются на Карпухина одна за другой. И отсюда появляются озлобленность, ложь, грязь. Но ведь то, что тебе хочется увидеть, можно разглядеть во всем. Для жуликов весь белый свет состоит из воров, для лгунов — из вралей. Карпухин, как и каждый из нас, сам избрал свой путь. Карпухин недоволен, он негодует, мечется, ищет виноватых. А ты, читатель, доволен тем, как у тебя складывается жизнь? Не забываешь ли ты порой святую истину, что твой успех или неудача зависят прежде всего от самого тебя, от того, к чему ты стремишься, что видишь в сосне, растущей на берегу ручья? Я хочу надеяться, что моя повесть поможет тебе чаще вспоминать об этом.
Глава первая С ШАМПУНЕМ ИЛИ БЕЗ?
Тот зимний день, когда со мной произошла эта совершенно невероятная история, поначалу ничем не отличался от других. Как всегда, я мыл с утра легковые машины, и мне, как всегда, казалось, что они выбегают за ворота лишь для того, чтобы тотчас вернуться обратно заляпанными по самую макушку грязью. Я мыл их, мечтал о хорошей жизни (кто из нас о ней не мечтает!) и, разумеется, ни на секунду не мог себе представить, что меня ожидает после работы в кафе «Снежинка». В моечной в тот день, как обычно, было сыро, холодно и неуютно. Вспотевший кафель грязных стен сочился кривыми дорожками. У потолка туманным облаком кудрявился пар. Лампочки в ржавых металлических сетках светили сквозь пар мутными пятнами. — Да затворяй ты там! — кричал я, оборачиваясь к воротам и выжимая над железной бочкой вафельное полотенце. — Холодрыга же на улице! Хы-хы-хы-ы! Если на людей прикрикнуть просто так, то некоторые ни с того ни с сего обижаются. Поэтому на всякий случай я всегда прибавляю «Хы-хы-хы-ы!». Это у меня давно вошло в привычку. Получается вроде шутки. Пробуксовав на скользком пороге, в моечную въезжала с мороза очередная машина, и ворота наконец закрывали. Холодный воздух, леденящий ноги сквозь резиновые сапоги и забирающийся под длинный прорезиненный фартук, сменялся более теплым. Я неторопливо шлепал по мокрому асфальту к ребристой батарее отопления и развешивал на ней выжатое полотенце. Очередной водитель, как всегда, спрашивал, можно ли загонять машину на подъемник. И я, как всегда, несколько минут ничего не отвечал. Делал выдержку. Уж мне-то известно, что тех, кто торопится и суетится, люди не уважают. Люди по-настоящему уважают лишь тех, кто их заставляет ждать. Я всю жизнь чего-то прождал. А чего дождался? Теперь пускай-ка подождут меня. Владельцы всех этих грязных «москвичей», «жигулей» и «волг» были людьми солидными. И, конечно, именно такие, как они, заставляли меня всю жизнь чего-то ждать. Теперь терпеливо ждали они. А я, усевшись на скамеечке перекурить, перекладывал с места на место ветошь и прикидывал, кто он такой — этот очередной частник. Врач? Ученый? Художник? Отставной полковник? Очень мне это нравилось — угадывать. И еще представлять, как все они шикарно живут. — Друг, так можно загонять или нет? — начинал волноваться какой-нибудь, по виду, директор универмага, в пыжиковой шапке. Видал! Я ему уже друг. Еще чуть-чуть подержи — и в любви объясняться начнет. Все они одинаковые. — Ладно, давай, — небрежно махал я рукой. — Нервные все шибко стали. Хы-хы-хы-ы! Отступая перед «волгой» и показывая, куда подвернуть, я помогал директору универмага загнать машину на подъемник. Положив под «волгу» колобашки, включал гидравлический насос. С надсадным гудением из пола вылезал блестящий металлический столб, поднимая на балках-рельсах машину. По столбу потеками стекала черная смазка. Сильной струей я промывал машину снизу и под крыльями. Со шваброй без ручки проходился по колесам. Я механически выполнял то, что с нудным однообразием десятки раз повторялось каждый день, и представлял, как хорошо, наверное, быть директором универмага. Продавцы — те за прилавками толкутся да с покупателями переругиваются. Тоже, считай, работенка, хотя и не пыльная. А директор? В отдельном небось кабинете сидит и бумажки подписывает. Секретарша у него длинноногая и персональный оклад. За какие такие, интересно, особые достоинства он в уютном кабинете подписывает бумажки, а я обязан в холодрыге и сырости мыть его машину? Разве это справедливо? Меня все время не оставляла мысль о несправедливости. И если владелец машины казался мне директором, я думал так о директорах. Если ученым — об ученых. Если пенсионером — о пенсионерах. Чем, в конце концов, не жизнь тому же пенсионеру? Встал, когда захотел. Чаёк погонял. В кинишко сходил. А пенсия ему ежемесячно, хоть он вообще из кровати не вылезай. Может, это тоже справедливо? Ни шиша не делают, а денежки загребают! — Мотор тебе мыть? — спрашивал я, спустив машину. Некоторые мотор не мыли, только кузов. Но я мог помыть и мотор, даже если в наряде данная работа указана не была. Ну и что, если не указана? Я тебе помою без наряда, ты мне заплатишь без огляда. Не боись, не дороже денег. Сколько не пожалеешь, столько и ладно. Если все равно отказывались, говорил: — Не желаешь, как желаешь. Катайся с грязным. Мне до лампочки. Пускай хоть клопы в твоем моторе заводятся. Видать, привык дома к клопам-то. Хы-хы-хы-ы! Я разговаривал с ними со всеми чуточку свысока. А что? Приди я к ним, еще и в приемной бы насиделся. И резолюцию бы наискосок по заявлению получил: «Отказать!». А тут я хозяин. И я им не отказывал. Просто немножечко тешил себя тем, что мог ими несколько минут покомандовать. Да и когда я говорил им, как равный равному, «ты», меня тоже несколько поднимало. Какое-то вроде удовольствие в работе чувствовал. Однажды к нам на станцию заехал даже один известный киноартист, которого я не раз видел в кино и по телевизору. Машину я ему отдраил на совесть. Стекла и те протер не только снаружи, но и внутри. И подсказал, что люфтит переднее правое колесо. Просто так подсказал, без всякой корысти. Хотя, откровенно говоря, тоже было немножечко обидно: чего в нем такого особенного, в этом артисте? А тянут в каждый фильм. И телевизор, как ни включи, его физиономия. — Думаешь, люфтит? — спросил артист, осторожно трогая колесо рукой в кожаной перчатке. — Чего, думаю? — удивляясь его серости, хмыкнул я. — Я вижу, а не думаю. Я машину до последнего винтика знаю. Здесь я так, на мойке… случайно. Подшипник у тебя, наверное. Ты попроси там механика на яме, чтобы он посмотрел. Я бы и сам тебе подтянул, да некогда. И когда я небрежно произносил «подшипник у тебя», «ты попроси», «я бы и сам тебе подтянул», сердце у меня сладко и как-то испуганно замирало. А после меня долго не оставляло приподнятое настроение. — Спасибо, дружище, — сказал артист, когда я протер ему насухо машину. — Огромное спасибо. Очень приятно было познакомиться. Мы с ним от души поговорили. Он мне вопросы разные задавал. Интересовался. И я с него денег принципиально не хотел брать. Уважительный человек. И я таких тоже уважаю. Думал, еще приедет — друзьями будем. Несколько дней после знакомства с артистом я ходил какой-то сам не свой. Мне все представлялось, что вот-вот распахнутся ворота и снова въедет серая «волга». Из нее выскочит артист, хлопнет меня по плечу и скажет, что он приехал не только помыться. Вернее, не так. Он скажет, что это последняя машина, которую вымоет Гремислав Карпухин. В новом фильме для одной очень важной роли никак не могут подобрать актера. А я именно то, что нужно. И рост, и поворот головы, и жизнерадостный смех. Зачем бы он иначе меня обо всем расспрашивал? — Давай, дружище, соглашайся, — скажет артист. — Думаешь, сниматься в кино так уж трудно? Не трудней, по крайней мере, чем мыть машины. И в тысячу раз приятней. А уж о деньгах я и не говорю. А что, действительно, особенного — сниматься в кино? Где потрудней, прыжки какие, скачки, вместо тебя снимают спортсмена. Остальное делай и говори, что тебе скажут, да по-умному долго и задумчиво смотри крупным планом в объектив. Вот оно, вот! Не попал в летчики-истребители, так артистом ничуть не хуже. Даже, пожалуй, еще лучше. Фотографии летчиков небось в газетных киосках не продают, а фото кинозвезд — на каждом углу. Наконец-то сбудется мамина мечта. Мама всегда говорила, что я еще покажу себя. Недаром она дала мне такое звучное имя — Гремислав, что означает «греметь» и «слава». Уж через кино-то слава обо мне могла прогреметь на весь мир. Кино — это вам не истребительная авиация. А те, о ком гремит слава, наверняка живут припеваючи, получше, чем любые директора универмагов, ученые и тем более отставные полковники. Ну чего я в конце концов прицепился к летчику-истребителю? Разве летчик-истребитель в итоге не тот же отставной полковник? Зарплата, разумеется, у летчиков наверняка дай боже! И кормят их всякими шоколадами. Да еще обмундирование бесплатное. А что дальше? Живут вечно в какой-нибудь дыре. И те же, как в обычной пехоте, построения, тревоги, гауптвахты. Перед каждым, кто старше тебя по званию, тянись. Возражать не моги. А отпуск, чтобы отвести душу, один раз в году. Разве это жизнь? Нет уж! Если вдуматься, то в мытье машин тоже есть своя прелесть. Сидишь вот и ветошь перебираешь. А тебя ждут. В порядке живой очереди. Словно в приемной. А свобода? Могу хоть завтра плюнуть и уйти на другое место. Наш брат где угодно требуется. А приварок? Бывали дни, когда приварок у меня набегал до десяти рублей. Чем не житуха? Уметь надо. Но, между прочим, тот день, когда со мной приключилась совершенно невероятная история, о которой я собираюсь рассказать, оказался не очень удачным. В смысле, я имею в виду, приварка. И все же к вечеру в кармане ватника под моим фартуком кое-что позвякивало. Для зимы, по крайней мере, вполне терпимо — пять рублей двадцать восемь копеек. Приварок у меня обычно получался не только на мытье моторов, но и на шампуне. — С шампунем не желаешь? — говорил я какому-нибудь смахивающему на художника типу с бородкой. — Как новенькая твоя тачка засверкает. Шампунь специально автомобильный. Только у меня. Хы-хы-хы-ы! — С шампунем так с шампунем, — соглашался художник и звякал в мою руку мелочишкой. И вот, когда накопилось пять двадцать восемь, в ворота, за которыми уже совсем потемнело, въехал вишневого цвета «москвич». С мороза машина покрылась испариной, и сквозь помутневшее ветровое стекло я водителя не разглядел. — Да ворота-то затворяй! — как обычно, крикнул я, постукивая зябнувшими в резиновых сапогах ногами. — Не к теще на блины прикатил. Хы-хы-хы-ы! И мотор глуши. Мотор, говорю! Угорай тут из-за вас. В окно «москвича» выглянула мохнатая шапка с опущенным на самые брови козырьком. Ниже козырька сидели большие, в красивой модной оправе очки с запотевшими стеклами. А еще ниже вызывающе торчал розовый круглый подбородок, подпертый пышным мохеровым шарфом. — Я могу заехать? — спросила шапка. — Мотор выруби, — приказал я, не успев еще причислить пижона в очках и с подбородком к какой-нибудь определенной профессии. Шапка смахивала и на музыканта из симфонического оркестра, и на заведующего магазином «Фрукты-овощи». «Заехать!» Быстрые все какие. За картошкой небось в магазине и у кассы постой, и у прилавка потопчись. А здесь сразу — заехать. Однако для симфонического оркестра или завмага пижон в шапке был слишком молод. И я безошибочно определил, что это обычный «папенькин сыночек», любимый сын какого-нибудь профессора, генерала или другого большого начальника. Деньги у таких деточек не свои, и они без особой жалости расстаются с рублями и двугривенными. Мысленно прибавив к пяти двадцати восьми еще рубль, я изобразил на лице свой обычный глубокомысленно-рассеянный вид, собираясь заставить мальчика подождать подольше. И тут мне показалось, что я уже где-то его видел, этого мальчика. Нет, не то чтобы он приезжал к нам. Другое. Я его хорошо знал. Но когда? — Швабра еще куда-то делась, — подосадовал я вслух, продолжая припоминать. — Какая швабра? — услышал я и оглянулся. Из открытого окна «москвича» на меня смотрели большие модные очки. Под ними топорщился круглый розовый подбородок. — Не вон та? — качнулся подбородок к бочке с водой, на краю которой лежала мочалочная швабра. — Вы же сами ее туда положили. При чем тут «куда-то делась»? Сами же положили и ищете виноватых. Он сказал «ищете виноватых», и я мгновенно вспомнил и этот самоуверенный взгляд, и этот тон, и этот ненавистный подбородок. Конечно же, это был Андрей Зарубин, мой самый заклятый враг! Как я только сразу не узнал его? Это он, «великий математик», как мы его называли в школе, десять лет назад бросил в меня первый камень, с которого начался горный обвал. Это он, ставший теперь, по дошедшим до меня слухам, уже кандидатом наук, показывая тогда свою принципиальность, раздул историю, которая закончилась моим исключением из школы. Кажется, Андрей Зарубин тоже узнал меня. И будто между нами никогда ничего не происходило, абсолютно не смутился. Он всегда отличался наглостью. Растягивая слова, словно силясь что-то вспомнить, сказал: — У меня в школе был один однокашник. Тоже всё кругом виноватых выискивал. Все ему были виноваты, кроме него самого. И, выдержав паузу, спросил: — Простите, вас случайно зовут не Гремиславом Карпухиным? Что мне было ему ответить? Я, разумеется, совсем не обрадовался такой милой встрече. Я вовсе не собирался ворошить прошлое. За прошлое Зарубину следовало бы… Да ладно уж! Пусть себе раскатывает. Однокашник! И, лихорадочно соображая, как себя вести и что сейчас сказать, я бросил первое пришедшее на язык: — Ладно, мыться приехал — и заезжай. Нечего тут. Как только я сказал это, мне сразу стало легче. Я даже развеселился, неизвестно почему. — Хы-хы-хы-ы! — бодро засмеялся я. — Заезжай, Андрей Зарубин. Вымою тебя что надо, с шампунем. Только не вздумай мне свои барские денежки совать. Я не меньше тебя зарабатываю, кандидата. Сам могу тебе на бедность подбросить. Заезжай. Кто старое помянет, тому… Я чуть не сказал «глаз вон», но вовремя спохватился. Про глаз вспоминать не стоило. Потому что вся та давнишняя школьная история произошла именно из-за глаза.
Глава вторая БОТИНКИ С НАДРАЕННЫМИ НОСАМИ
Директор нашей станции технического обслуживания вообще-то правильно, наверное, говорит: — Авторитет зарабатывается годами, а смазывается одним плевком. Что он этим хочет сказать, я как-то раньше не очень задумывался. А тут увидел Андрея Зарубина — и сразу пришли на ум директорские слова. Точно ведь! Сколько я зарабатывал в школе свой авторитет. А Зарубин смазал его одним плевком. И главное, что Зарубин показал пример. За ним живенько на меня бросились все остальные. Все! Взять, к примеру, того же директора, который так красиво разглагольствует об авторитете. Когда недавно один олух запорол мотор у своей «волги», а свалить вину решил на меня, директор не очень разбирался. Раз есть жалоба, нужно реагировать. Директор решил, что авторитет станции дороже переборки одного мотора и какого-то там Славы Карпухина. А то, что олух запорол свой мотор где-то за городом, в ста километрах от станции, это никого не интересовало. Меня взяли и перевели из ремонтного цеха на мойку. Вот, дескать, меры приняты, виновный наказан. Виновный! Известно, кто на железной дороге всегда виновный: стрелочник. Я всю жизнь был стрелочником, еще со школы. Как что, так тычут пальцем в меня: — Это он! И раз авторитет у меня так и так смазан, давай тычь в меня по любому поводу. И даже вообще без всякого повода. А началось все именно с Андрея Зарубина, которого мы в восьмом классе избрали секретарем комсомольской организации. И я еще за него руку поднимал. Знал бы я, за кого голосую и чем он мне отплатит! Он мне сполна отплатил. Выслуживаясь перед учителями и показывая свою принципиальность, Зарубин дошел до того, что однажды вывесил лозунг:
«Позор Гремиславу Карпухину, который тянет назад весь класс!»Кому это понравится, если про тебя вывешивают такие лозунги? Ясно, я возмутился. Да и весь класс тоже возмутился. Даже учительница Софья Владимировна, мягче которой я вообще никого не знал. — Повесить ярлык на своего товарища, — сказала Софья Владимировна, — это самое распоследнее дело. Конечно, самое распоследнее. Но разве Андрей Зарубин что-нибудь понял? Ничего он не понял. Мало того, что он дурацкий лозунг вывесил. Он еще и Софью Владимировну стал учить. Отсутствием наглости наш Андрюша никогда не страдал. Ну, я и не выдержал: решил проучить зарвавшегося умника. Получилось, разумеется, не совсем удачно. Но я-то здесь при чем? Андрей Зарубин и тогда уже носил очки. Осколок стекла от очков попал Андрею в глаз. Но не я же ему бил по очкам. Я до него и пальцем не дотронулся. Об этом все знали. Только без стрелочника у нас никуда. А стрелочник, как обычно, я. В результате не дали закончить десятилетку. Потом, естественно, так и покатилось под гору. Без десятилетки в летное училище и соваться было нечего. А я с пятого класса мечтал стать летчиком-истребителем. Вместо летного училища — ПТУ, вместо штурвала самолета — гаечный ключ. Да ладно бы еще, если просто гаечный. А то ведь нужно было вляпаться в такую специальность — в сантехники. Грязнее дела не придумаешь. Унитазы, рукомойники, подтекающие краны. Думал, все, крышка. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В армию меня призвали и выучили там на шофера. Шоферить, конечно, тоже не компот. Но все же посимпатичнее сантехника. А потом, после армии… После армии появился в моей жизни еще один человек, который ударил меня посильнее Зарубина. Тут уж был полный нокаут. Не знаю, как у меня вообще хватило сил подняться. Зарубин в конце концов что? Ну, не закончил я из-за него десятилетку. Обидно, конечно. Только не в десятилетке ведь счастье. Когда я встретил Таню, то решил, что нашел свое счастье. Поначалу она казалась мне чистой, светлой, какой-то даже неземной. Таня Каприччиоза, как я назвал ее. Чего я только для нее не делал! А на проверку оказалось — зря. Оказалось, я попросту ее выдумал, свою Таню. Она была как все. Даже, может, чуточку хуже других — лживее, лицемернее. Не зная, что сказать мне, придумала глупейшую историю с ботинками. Люди любят друг друга и далеко не всегда понимают за что. Люди расходятся и, естественно, не всегда могут объяснить почему. Но я-то знал что и почему. Знал, чего она перепугалась. Так ее, вроде бы, устраивало во мне все. Да и смешно — что во мне могло ее не устроить? И собой представителен, и не глуп, и рост соответствующий, и зарплата не хуже, чем у других. Что ей было еще нужно? Хоть бы сказала, что ли. Но она не сказала. Придумала отговорочку: дескать, ей не по душе мои ботинки, вернее, как я их чищу. И нужно же было докатиться до такой низости, чтобы любовь свести к сверканию ботинок! У меня после того к ней всякое уважение пропало. — Мне не нравится, — капризно заявила она, — когда у ботинок начищают одни носы. Более чудовищного удара я никогда не получал. И самое дикое, плюс ко всему, заключалось в том, что я все равно, несмотря ни на что, продолжал любить ее, взбалмошную и злую Таню Каприччиозу. Что с собой поделаешь, когда любишь? Я не знаю как ее любил, свою выдуманную Таню. И, расставшись с ней, наделал из-за нее кучу ошибок. Мы все делаем ошибки с горя или в горячке, не зная, куда в этот момент броситься, что сотворить. Я взял и под горячую руку, назло Тане, женился на Машеньке. Но тут, конечно, и мама была во многом виновата. Даже еще, пожалуй, больше Тани. Уж больно моей маме нравилась Машенька. А милая Машенька через месяц после свадьбы превратилась в жадную и вздорную Маруську. Если бы мы еще жили вместе с моими родителями, то мама наверняка поставила бы Маруську на место. Но мы поселились отдельно. И заварился такой тарарам, хоть домой не появляйся. Я до сих пор каждый день возвращаюсь домой не то чтобы без всякой радости, но прямо с каким-то отвращением. И никуда от этого не денешься. Машенька во всем блеске сумела показать мне, на что способна женщина. Жизнь, она ведь все время в замкнутом круге. Одно цепляется за другое, то, в свою очередь, за третье. У меня и так с работой не очень ладилось: не научился я авторитет зарабатывать, подмазывать начальству. Так и ходил по-прежнему в стрелочниках. А тут еще, плюс ко всему, дома кромешный ад. Ну и естественный результат. Не знаю, кто бы на моем месте не сорвался. Спасибо моей милой женушке, но только из-за нее я остался без водительских прав. Только из-за нее. Больше тут винить некого. Если, правда, не считать старшину ГАИ. Дома ад, голова забита бог знает чем, ну и допустил маленький промах. Там, если по совести, и говорить-то не о чем. Но старшина ГАИ думал иначе. Нехороший мне попался старшина ГАИ. И чего привязался? Всего-навсего из-за того, что я забыл включить сигнал поворота. Вот ведь человек! И не объяснишь ему, почему забыл. Что ему до Андрея Зарубина, до Тани Каприччиозы, до моей милой женушки? Его интересует одно: почему не включил сигнал поворота? Остальное его не касается. Что в результате? У других бы наверняка обошлось. Ну, в крайнем случае рублевку бы штрафа заплатил. А я стрелочник. Меня сразу по голове. Живенько отобрали водительские права. И с приветом! Вот ведь как бывает в жизни. Попадется на твоем пути такой Андрей Зарубин, подставит тебе ножку — и пойдешь получать тычки. Загрохочешь, точно с горы Арарат. Не остановиться. А ведь куда проще было с самого начала не связываться с Зарубиным, обойти его. Закончил бы, как человек, десять классов, подался бы в летное училище. Смотришь, крутил бы сейчас в небесах виражи и мертвые петли, носил бы красивую летную форму, ездил бы мыть собственный автомобиль на станцию технического обслуживания. А дома бы меня ждала не Маруська, а Таня Каприччиоза. Ведь если до конца откровенно, почему Таня придумала про ботинки? Да потому, что я шофер, обыкновенный работяга-шоферюга. Тут и дураку ясно. А пришел бы я к ней в летной форме, из заоблачных высот, все вышло бы иначе. Девчонкам — им внешний блеск подавай, красивые звания. В душу в наше время не очень заглядывают. В карман — да. Поэтому летчик им вполне подходит, а шофер — не шибко. Да, куда как просто было обойти подставленную мне ногу. Но это сейчас мне кажется просто, издали, через десять лет. Знал бы я тогда, чем кончится та идиотская история с лозунгом! Эх, если б знал! В жизни вообще, если б знал, где упадешь, то заранее соломки подостлал бы. Но в том-то и беда, что шлепаемся мы все время о голую землю и без всякой соломки. И вот теперь, будто специально в издевку, кандидат наук Андрей Зарубин пожаловал на станцию мыть свой новенький «москвич». И мыть его «москвич» обязан был не кто-нибудь, а именно я. Но у меня все-таки, слава богу, хватило достоинства и мужества не спасовать перед кандидатом. — Заезжай, Андрей Зарубин, — бодро сказал я ему. — Вымою тебя что надо, с шампунем. Чтобы ты свои беленькие ручки не испачкал. Хы-хы-хы-ы! Я мыл и балагурил. Я отпускал шутку за шуткой, всем своим видом показывая, что лучшего места, чем мойщик автомобилей, не придумаешь. А на душе у самого скребли кошки. Муторно было у меня на душе, когда я мыл зарубинскую машину. И когда вишневый «москвич», сияя стеклом и хромом, наконец укатил, я почувствовал, что неимоверно устал. Скинув резиновый фартук, я отправился в душ. Меня не оставляло ощущение, что Зарубин хитро провел меня за нос, а я не сумел отплатить ему по заслугам. Я даже не намекнул ему о прошлом. Почему? Не знаю. Наверное, потому, что он стоял руки в карманы, а я вылизывал его машину. Чего же было еще больше унижаться? Больше некуда. А я, в конце концов, человек гордый. Кафе «Снежинка» находилось недалеко от нашей станции обслуживания. Я иногда, чтобы отвести душу, заглядывал туда. Сегодня я просто не мог не забежать в «Снежинку». Душа у меня ныла и стонала совершенно отчаянно. И разве же я мог хотя бы на секунду представить, что меня ожидает там, в знакомом кафе!
Глава третья СУМАСШЕДШИЙ ФИЗИК
У дверей кафе «Снежинка», как обычно по вечерам, стояла небольшая очередь. Над входом, на черном металлическом стержне, висел модерновый фонарь — зауженный книзу квадратный ящик с матовыми стеклами. В свете фонаря хороводом кружили колючие снежинки. К кафе я подошел решительной походкой и с ходу протиснулся к дверям. — Разрешите, товарищи, разрешите, — приговаривал я, пробивая себе дорогу. Поеживаясь на холоде, люди неохотно расступались и ворчали: — Почему это без очереди? Что за нахальство! — Я здесь работаю, — пояснял я. — Не нужно волноваться, товарищи. Хы-хы-хы-ы! Работаю. Понимаете? Над дверью кафе белой аркой нарос кудрявый иней. Я постучал в стеклянную дверь, за которой висела табличка «Мест нет», и крикнул швейцару: — Спишь, Никитыч? Толстый Никитыч с золотыми нашивками на воротнике суконной куртки, напоминающей матросский бушлат, сурово щелкнул задвижкой и пропустил меня. Внушительно выставив перед напирающей очередью ладонь, сипло прохрипел: — Местов нету, граждане. Нету, вам говорят! Из сизых глубин кафе вместе с гулом голосов уютно несло запахом еды, дрожжей и настоем табачного дыма. Я небрежно бросил гардеробщице тете Оле пальто и шапку, сунул в пухлую ручищу Никитыча смятую рублевку и нырнул в табачный дым. Пробираясь между столиками, помахивал у плеча растопыренной пятерней: приветствовал знакомых. — Салют, старик! — Красавицам — мое почтение! — Боб, тебе не хватит? У тебя пиво уже на лбу выступило и с ушей капает. Хы-хы-хы-ы! Место за столиком я разыскал не очень удобное, на проходе. Но других не оказалось. Пришлось довольствоваться этим. Меня пригласил какой-то дядя с мушкетерскими бородкой и усиками. — Присаживайтесь, — сделал он элегантный жест рукой. — Ждал товарища, да он, видно, уже не придет. — С удовольствием, — сказал я. Взявшись за спинку легонького, на гнутых алюминиевых ножках стула, я обратился к парню с девушкой, которые сидели рядом с «мушкетером». — Если вы тоже не возражаете, — сказал я. Парень с девушкой, занятые друг другом, меня не заметили. — Ваше здоровье, молодой человек, — поднял «мушкетер» стакан, когда официантка Томочка принесла мне две бутылки «Жигулевского» и закуску — темно-коричневые кусочки селедки с колечками лука и похожую на огрызки карандашей соломку. — И ваше, — сказал я. — Хы-хы-хы-ы! Впервые, наверное, здесь? А зря. Теплое местечко. — Нет, далеко не впервые, молодой человек, — осушив стакан, задумчиво возразил «мушкетер». — На этом самом месте, милейший, семьдесят лет назад был великолепный трактир купца Туголеева, и ваш покорный слуга частенько к нему заглядывал. — Вы? — ткнул я в него пальцем. — Семьдесят лет назад? Хы-хы-хы-ы! Сколько же вам годков-то, дедуля? — Пивко, доложу я вам, у Туголеева подавали первоклассное, — не обратив внимания на «дедулю», продолжал «мушкетер». — И водочку в любых количествах, «Смирновскую». Графинчик запотевший. На тарелочке янтарный балычок. Пальцем чуть поманишь, летит к тебе со всех ног половой в белой рубахе и с подносом. На согнутой руке полотенце, и сам весь изогнут от чрезвычайного к тебе почтения. «Чего изволите-с?» — «Еще водки, каналья, — скажешь ему. — И быстро, пока я тебе по шее не накостылял». — «Сей момент-с», — отвечает. И мгновенно перед тобой на столике графинчик. А теперь? — Теперь бы тоже не худо графинчик, — подтвердил я, потирая шею. — Хы-хы-хы-ы! И тут «мушкетер» неожиданно понес такое, какого мне не доводилось слышать ни разу. — День р-рождения у меня сегодня, — тыркал себя кулаком в грудь «мушкетер». — Круглая дата. P-ровно сто пятьдесят лет назад моя прекрасная бедная мамочка р-родила меня на свет. Имею я право выпить в собственный день р-рождения или не имею? Я при Александре Первом родился, при победителе французов. Но, грешен, совершенно не помню Александра благословенного. Мне всего пять годочков минуло, когда государь почил в бозе. А вот с Пушкиным я встречался. Встречался с р-разбойником. А ты с Пушкиным не встречался? — Я… нет, — растерянно сказал я. — Как же я мог с ним встречаться? Он когда жил-то. А в школе мы этого… Лермонтова проходили. Белеет парус… как его? Ну? Единственный. Пушкина вообще-то мы тоже проходили. Давно только. Позабыл все. А Лермонтова помню. Белеет парус единственный… — Одинокий, глупец, — захлопали на меня распухшие веки.

— Ага, верно, — подхватил я. — Вспомнил! Белеет парус единственный одинокий глупец! Хы-хы-хы-ы!

— Бедный, бедный Лермонтов, — замотал головой «мушкетер». — Бедняга. Я не встречался с ним, нет. С Михаилом Лермонтовым я не встречался. И с Альбертом Эйнштейном не встречался. Ты Эйнштейна знаешь? Великого Эйнштейна! — Это который какой-то там киношник? — сказал я. «Мушкетер» поднял голову, хлопая распухшими веками, долго смотрел на меня. Наконец строго сказал, обиженно топорща усы: — Ты глуп, мой мальчик. И неразвит. Мне стыдно. Твой киношник — это Сергей Эйзенштейн. — Он подчеркнул: — Эйзен! — Хы-хы-хы-ы! —засмеялся я. — Эйзен не эйзен. Подумаешь! Какая разница? — Такая же, — поджав губы, проговорил «мушкетер», — как между государем императором и выражением «милостивый государь». Запомни: на земле было всего три великих физика: Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн и я. — Ты что, тоже физик? — удивился я. — Привет физикам! А знаешь, по виду ты больше на закройщика из ателье смахиваешь. Или на бухгалтера. Если бы я начал жить сначала, я бы тоже не машины сейчас мыл, а физиком работал. Нет, вернее, не физиком, летчиком. Я летчиком мечтал стать, истребителем. — Я великий физик! — вздернул «мушкетер» свою козлиную бородку. — Великий! Еще за двадцать лет до рождения Эйнштейна я в деталях разработал теорию относительности. И я пошел дальше Эйнштейна, который лишь подтвердил мою теорию. Я сумел практически сдвинуть время! Я заставил время для какого-то определенного субъекта двигаться медленнее обычного или, наоборот, быстрее. Ты представляешь, что это такое? Мне нужно еще лет пятьдесят — и я переверну мир. — A-а, вон в чем дело, — вздохнул я. — Ты псих, оказывается. Ты из какого дурдома-то сбежал, субъект? — Да, меня считают сумасшедшим, — согласился физик. — Ты угадал. Но кого из гениев современники считали нормальным? Слушай. Я постараюсь растолковать тебе хотя бы самые примитивные, доступные твоему куцему умишку истины. Нагнувшись к столу и притянув меня к себе за галстук, он заговорщицки зашептал: — Что такое космическая ракета, знаешь? — Ну, — сказал я. — Знаешь, что она летит в мировом пространстве со скоростью двадцать восемь тысяч километров в час? — Ну, — сказал я, хотя на самом деле совершенно не представлял, с какой она там летит скоростью в мировом пространстве, эта ракета. — А может она полететь быстрее, обогнать скорость света? — Ну, — сказал я, хотя тоже не знал, может она или не может. — Ну, ну! — рассердился физик. — Занукал! В мире ученых не принято нукать. Это у извозчиков принято. Так вот, она сможет полететь со сверхсветовой скоростью. Потому что иначе людям никогда не достичь соседних галактик. Но если можно развить такую скорость, чтобы обогнать скорость света, то можно и дальше беспредельно увеличивать ее. В сто раз, в тысячу, в десятки тысяч раз. Правильно? А если я полечу на космическом корабле со скоростью, в десять тысяч раз превышающей скорость света, то уже через три-четыре дня обгоню световые лучи, ушедшие от земли десять лет назад. Это ты понимаешь? — Ага, абсолютно чистый псих! — обрадовался я. — Хы-хы-хы-ы! — А угасшие миллионы лет назад звезды, которые ты сейчас видишь, хотя их давно нет, это ты понимаешь? — спросил он. — Они давно угасли, но их лучи все еще продолжают идти до нас в космическом пространстве. Ну, как письмо. Ты написал письмо и умер. Друг получает от тебя письмо как от живого, а тебя на самом деле уже нет. — А я никогда никому не писал писем, — сказал я. — Только матери из армии. Хы-хы-хы-ы! — Так вот, — упрямо продолжал физик, — если на том космическом корабле установить сверхмощный телескоп, в который за миллиарды километров можно разглядеть иголку, то я увижу, что происходило на Земле десять лет назад. Вот ты идешь в школу, и мама сует тебе в портфель бутерброд. Вот… — Мама мне не давала бутербродов, — сказал я. — Я деньгами брал. — Вот ты, вместо того чтобы изучать физику, гоняешь в футбол. — Мы в футбол не гоняли, — сказал я. — Мы — в хоккей. Ух, здорово мы гоняли с Димкой Соловьевым в хоккей! Но вообще-то я дурак, конечно, был. Учиться нужно было, а я гонял. Если бы вдруг снова все начать, я бы лучше всех в классе учился. Даже лучше Андрея Зарубина. Я бы… Но тут студенистые глаза с набухшими веками таинственно приблизились к самому моему лицу и физик спросил: — Ты что, действительно хочешь обратно? На десять лет? Считаю, мне повезло. Не зря я тебя пригласил за свой столик. Устрою. Абсолютно элементарно. Раз! И тебе уже не двадцать четыре, а снова четырнадцать. Хочешь? — Хы-хы-хы-ы! — залился я. — Да случись вдруг такое, я бы… Ведь, главное, понимаешь, превосходно знаю, из-за кого так получилось. Перво-наперво не нужно было с Андреем Зарубиным связываться. Культурненько обойти его нужно было. Потом… — Задним числом все всё знают, — пожевал губами физик. — Знают и ошибаются. Потому, что не то знают. Заранее предупреждаю тебя, ты снова споткнешься на тех же самых местах, что и раньше. Если… Впрочем, получается, что я тебя вроде как отговариваю. А я тебя упрашивать должен. Ведь мне все это в сто раз нужнее, чем тебе. — Я споткнусь? — возмутился я. — Да я… Постой, а тебе-то зачем все это нужно? — Мне? — сказал физик. — А я баш на баш, милейший. Только при таком условии. Я тебе десять лет назад, ты мне десять лет вперед. — Это каким же макаром? — не понял я. — А таким. Из того, что тебе предстоит прожить, десять лет — мне. Иными словами, ты умрешь на десять лет раньше, чем тебе написано на роду. Мне нужно время, чтобы довести до конца свою работу. Я уже получил подобным образом сто лет. Но мне опять мало. Между прочим, знаешь, с кого я начинал? С Мити Каракозова. Он мне сразу двадцать лет отвалил. «Бери, — говорит, — мне они все едино ни к чему. Как пристрелю, — говорит, — Александра Второго, так все равно меня схватят и повесят. На чудо, — говорит, — я не надеюсь». — Это кого он хотел пристрелить? — заинтересовался я. — Царя, что ли? И пристрелил? — Нет, промазал. Под руку его толкнули, когда стрелял. Ну, а повесить, разумеется, повесили. В апреле тысяча восемьсот шестьдесят шестого года выстрелил, в сентябре того же года и повесили. Я еще и на Смоленское поле ходил смотреть, когда его вешали. Двадцать шесть лет человеку было.Чуть постарше тебя. — А остальные? — спросил я. — Что — остальные? — Ну, у которых ты столько лет набрал. — Остальные восемь человек верили: вернутся на десять лет назад, все у них получится иначе. Я ведь с каждым по-честному. Не ошибешься, говорил им, приходи, верну твои десять лет обратно. Никто не пришел. — Хы! Я бы пришел, — заверил я. — Я бы не ошибся. Будь спок. Я бы летчиком стал. На реактивных бы истребителях в-ж-жих! И после бы еще обратно свои десять лет вернул. — Выходит, согласен? — сказал физик. — А! — отмахнулся я от него. — Псих ты. В твоем дурдоме сейчас, наверное, все врачи с ног посбивались: тебя ищут. Помереть, дедуля, оно только сегодня страшно. А когда-нибудь — там все едино, что на десять лет раньше, что на десять лет позже. — Считаю, договорились, — сказал физик. — Не ошибешься, приходи через десять лет сюда же, в «Снежинку». Буду ждать. Я человек слова. Получишь обратно свои десять лет, которые тебе еще предстоит прожить. Почему-то сразу же у меня закружилась голова и перед глазами все поплыло. — «Я могла бы убежать за поворо-от!» — тоскливо запел я, сшибая со стола пустые бутылки. Неторопливо подошедший к столу швейцар Никитыч молча сгреб меня под одну руку, сумасшедший физик — под другую. Они доволокли меня до гардероба и одели. На улицу мы вывалились вместе с физиком. Помню еще, я полез с ним целоваться. И говорил, что я его страшно полюбил. Над входом в кафе в расплывчатой снежной круговерти раскачивался и повизгивал модерновый фонарь. И вся улица вместе с прохожими и ярко освещенными троллейбусами, вместе с домами и заснеженными деревьями тоже раскачивалась и куда-то уносилась в мутной белой мешанине. — «Я могла бы убежать за поворо-от!» — отрешенно выл я. — «Я могла бы убежать за поворо-от! Только гордость, только гордость не да-ет!» Сумасшедший физик остановил такси и запихал меня на заднее сиденье. Протягивая шоферу деньги, попросил: — Отвезите его, будьте добры, на улицу Желябова. — Это почему на Желябова? — возмутился я. — Чего я там не видал, на Желябова? Мамочку с папочкой? Не желаю к мамочке с папочкой. Желаю домой, к Маруське. У меня имеется своя законная родная жена Маруська. И вези меня к моей законной родной жене Маруське. На проспект Космонавтов вези. Хы-хы-хы-ы! Водитель оглянулся на меня и удивленно выругался. — Ты, юнец, в каком классе-то учишься? — поинтересовался он. — Куда у вас в школе, интересно, смотрят? — Юнец?! — заорал я. — Сопляк ты после этого, вот ты кто! Да знаешь ли ты, сколько я за баранкой просидел? Не чета тебе, недоучке. Сказано, жми на проспект Космонавтов, значит, — жми. И без разговорчиков. Я хлопнул его по спине. Он передернул плечами и погрозил сумасшедшему физику. — Детей спаиваешь, черт! В милицию бы тебя отправить за такие штучки. — Верно, черт! — обрадовался я. — Самый натуральный черт. Я даже рога у него на башке нащупал. Когда целовался. Хы-хы-хы-ы! Ему сегодня сто пятьдесят лет шарахнуло. Он из дурдома сбежал. Давай кати скорее, шеф, к моей родной жене Маруське. Таня не пожелала стать моей женой, так кати меня теперь к Маруське. Водитель снова выругался, стукнул дверцей и дал газ. А я стал чувствовать, что катастрофически трезвею. Не успели доехать до Невского, хмель из меня испарился начисто. Словно я и в рот ничего не брал. Но помимо этого со мной происходило еще что-то. Не пойму что. Где я сейчас был? С кем разговаривал? Откуда еду? Куда? Я это помнил и вроде как не помнил. Будто все это мне приснилось. Нет, приснились не только кафе и физик. Нет! Все: и как я работал сантехником, и как шоферил, и как встретил Таню, и как мыл машины. Все! Длинный и страшный сон. С мельчайшимиподробностями. Но разве бывают такие сны? И на такси же я еду не во сне. И шофер сидит впереди не во сне. И у перекрестка под красным светофором мы остановились не во сне. Что же это такое? Я никак не мог понять, что со мной происходит. Со мной происходило что-то совершенно невероятное.
Глава четвертая МОЯ ЛАСТОЧКА
Знакомая с детства парадная показалась мне удивительно просторной. И лестничные марши вроде длиннее, и потолки выше. Даже маленькая кабина лифта будто раздалась и подросла. Да и откуда она взялась, эта старая кабина? Я отлично помнил, что ее лет пять назад заменили новой, со стенками из муарового пластика с голубыми прожилками. На деревянной стенке кабины, под правилами пользования лифтом, было нацарапано: «Карпуха + Галя = любовь». Я улыбнулся, увидев эти забытые каракули, и даже потрогал их. Когда-то, очень давно, я влюбился в Галю Вострикову из тридцать восьмой квартиры и, не зная, как сообщить ей о своем глубоком чувстве, нацарапал вот это. Никому и в голову тогда не пришло, что я мог сам про себя нацарапать подобное. Сами про себя мальчишки такого не царапают. Даже мой друг Димка Соловьев и тот сказал: «Видал, там какой-то паразит что про тебя нацарапал?» А Галка Вострикова долго потом не пользовалась лифтом, пока надпись не подчистили и не покрыли темно-коричневым лаком. Сбоку от дверей родительской квартиры одна над другой белели три кнопки. К нам была самая верхняя. И я снова удивился, когда, дотягиваясь до кнопки звонка, мне пришлось приподняться на носках. Послышалось, как в квартире кто-то бежит по коридору. Дверь передо мной распахнулась и… блям! Трах! Трах-тарарах! — Вот тебе, негодяй! Вот! Весь в папочку! Где ты был? Я обзвонила всех знакомых, всех твоих товарищей, подняла на ноги всю милицию. Где ты был? Ты мне ответишь, где ты был, или не ответишь? Меня больно поволокли за ухо, лупцуя при этом по голове, спине и прочим местам. Ответить, где я был, я не мог по многим причинам. Во-первых, я сам точно не знал где. Во-вторых, я давно отвык от такого грубого обращения и совершенно растерялся. В-третьих, я боялся, что у меня вот-вот не выдержит и оторвется ухо. Но самое главное, в мамину скороговорку все равно нельзя было вставить ни одного слова. В прихожей на старом сундуке в мохнатых синих шароварах и в полосатой кофточке без рукавов сидела в обнимку с телефонной трубкой студентка Нина Бочкарева. Она отняла трубку от уха и прикрыла ладошкой мембрану. Я знал, с кем разговаривает Нина Бочкарева. Об этом знала вся квартира. Конечно же, со своим женихом, архитектором Ильей. Весной Нина и Илья собирались пожениться, а пока на полную катушку использовали телефон. — Вы бы все-таки потише немного, — сказала Нина Бочкарева, прикрывая трубку. — Не одна здесь живете. Сами же воспитали сокровище, а теперь возмущаетесь.

Нина Бочкарева училась в педагогическом институте и главным в воспитании считала доброе слово и личный пример. Физическое воздействие она отрицала категорически, считая его унизительным и для воспитуемого и для воспитателя. — Что такое? — вскинулась мама, выпуская мое ухо. — А ты кто? Вот такие, как ты, и калечат в школе детишек. Какая из тебя учительница? Как из веревки половник, из тебя учительница. Только и умеешь со своим Ильей по телефону болтать да за нос его водить. Про то, что Боренька к тебе похаживает, Илья небось не знает. Про это ты небось помалкиваешь. Моя мама могла делать со мной что угодно. И как угодно могла меня обзывать. Но остальным касаться меня запрещалось под страхом грандиозного скандала. Устраивать грандиозные скандалы моя мама умела, как никто. Из комнат в коридор молча выглядывали соседи. И так же молча прятались обратно. Мама кричала, что ей очень интересно посмотреть, какие дети получатся у Нины Бочкаревой. Если бы, кричала мама, Илья был поумней, то он, разумеется, не взял бы в жены такую, как Нина Бочкарева. И вообще если бы там (мама ткнула пальцем в потолок) были умнее, такую, как Бочкарева, не подпустили бы к детишкам на тысячу километров. Она еще много чего кричала. Мама всегда, когда у нее случались неприятности, набрасывалась на первого, кто ей подвертывался под руку. Мама кричала, а я, прижавшись к стене, растирал пылающее ухо. Я никак не мог понять: неужели мне все это действительно приснилось — как я был взрослым, ремонтировал краны, бегал с противогазной маской на лице в армии, держал в руках Танину скрипку? Неужели такое может присниться? А на самом деле все те же домашние трагедии, школа, невыученные уроки, двойки, воспитательные речи «великого математика» Андрея Зарубина… — Илюша, ты меня слышишь? — сказала Нина, нагнувшись к трубке и свертываясь на сундуке калачиком. — Извини, родной. Тут очередное коммунальное землетрясение. Сейчас извержение вулкана кончится — и мы с тобой поговорим дальше. Зажав правой рукой мембрану и постукивая трубкой о ладонь левой руки, Нина выпрямилась и выжидательно уставилась на мою кричащую маму. А у меня даже перехватило дыхание. Сердце запрыгало в груди, точно просилось наружу. Я оторопело уставился на Нину, точно на какое-нибудь немыслимое чудо. Я отчетливо вспомнил, что все это уже было! Да, да, было! Именно это! И кричащая мама, и мохнатые синие шаровары, и полосатая кофточка и трубка, стучащая по ладони, и точь-в-точь эти слова: «Илюша, ты меня слышишь? Извини, родной. Тут очередное коммунальное землетрясение. Сейчас извержение вулкана кончится — и мы с тобой поговорим дальше». Да и как же не было, когда позднее, уже весной, Нина Бочкарева перестала звонить Илье. Весной Нина поссорилась с Ильей и завалила сессию. Конечно же, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, она целыми днями лежала на кровати в своей комнатухе с окном во двор и бездумно смотрела в потолок. А мама еще тогда сказала, что не Нина поссорилась с Ильей, а просто он сам разобрался, кто она такая, эта Нина. Мама всего лишь намекнула Илье про Борю, и Илья живенько во всем разобрался сам. А осенью Нина снова по вечерам стала висеть на телефоне. Только теперь она разговаривала не с Ильей, а с тем самым Борей. Они когда-то учились в одной школе, и Боря был влюблен в Нину. Но пока Нина дружила с Ильей, он женился на другой девушке. Боря был каким-то энергетиком и каждый вечер дежурил на заводе. Кажется, Нина не отказалась бы теперь выйти за Борю. Но получилось, что она опоздала. И она, уже перед самым окончанием института, вышла замуж за Александра Семеновича, заведующего отделом инквизиции из Музея религии. У «инквизитора» Александра Семеновича болталась на подбородке бородавка и надо лбом светилась небольшая, но очень умная лысина. Проходя по коридору, он шаркал шлепанцами и мычал под нос мотив песни про горькую рябину. А Нина, закончив институт, стала работать в музее экскурсоводом. И детей у них никаких не получилось. Так что посмотреть на них моей маме, к сожалению, не удалось. Было ведь все это! Было! Или тоже сон? А может, я просто чуточку рехнулся? Мне даже захотелось подойти к Нине и потрогать ее. Чтобы убедиться — не сплю ли я и сейчас. Но мама, основательно высказавшись в адрес Нины Бочкаревой, схватила меня за руку и потащила дальше по коридору. А я так ошалел, что почти не сопротивлялся. Я никак не мог прийти в себя. — Ребенок пропал, а его милый папочка даже не почесался! — воскликнула мама, с силой зашвыривая меня в комнату. — Твоему милому папочке плевать, что из тебя получится. Ему лишь бы целый вечер просиживать у телевизора да пускать колечками дым. Нет, не сон! Явно не сон! От маминого швырка я крутнулся вокруг собственной оси и боком ударился о стол с горой грязной посуды. — Он, видишь ли, устал! — возмущалась мама, нервно закалывая шпильками рассыпавшиеся волосы. — Он устал, а я не устала. Я вдвойне устала, от вас обоих. «Он» — относилось к папе, который сидел на трех, плашмя лежащих один на другом чемоданах и смотрел телевизор. Мама всегда говорила о папе так, словно он отсутствовал. Непосредственно к нему она обращалась лишь в исключительных случаях. По телевизору транслировали хоккейный матч. Сборная команда Советского Союза играла со сборной Чехословакии. На телевизоре стояла сковородка с длинной ручкой и одна в другой две кастрюльки. А по комнате — на стульях, спинках кровати, письменном столе, диване и даже на круглом аквариуме — валялись рубашки и полотенца, пиджаки, галстуки и кофточки. Казалось, в комнате что-то недавно искали и раскидали вещи куда придется. Комната у нас всегда выглядела так, словно в ней недавно что-то искали. И ботинок совершенно неожиданно оказывался на столе, а немытые тарелки — под кроватью, которую никогда не застилали. — Нет, он, конечно, ничего не слышит! — крикнула мама. — Хоккей ему дороже собственного сына. Его совершенно не интересует, где пропадал его сын. Хватит, я выключаю телевизор. — Попробуй, — сказал папа, не отрываясь от телевизора и пуская колечками дым. Попробовать выключить телевизор мама, однако, не решилась. Она снова обрушилась на меня. — Ты мне скажешь, где ты шлялся? — закричала она. — Или так и будешь молчать, как истукан? На хоккейном поле у ворот нашей команды образовалась свалка. Стадион выл, гудел и топал ногами. Иржи Холика за грубость удалили на две минуты с поля. — Сейчас все равно нашим штуку заколотят, — сказал я, отчетливо вспомнив весь этот матч, который уже когда-то видел. — Недоманский сейчас вырвется один на один со Старшиновым, обведет его и — бенц! — заколотит. Хы-хы-хы-ы! Папа не среагировал на «бенц!» Он весь вытянулся к телевизору. Наши играли с численным преимуществом, и над воротами чехов нависла серьезная угроза. — Мне долго тебя уговаривать? — не отставала от меня мама. Наши игроки блокировали ворота противника. Они всей командой оттянулись на половину чехов. И вдруг длинная передача, рывок Недоманского — и перед ним один Старшинов. Удачный финт! Удар! Гол! Телевизор захлебнулся от рева. Сверху зазвенели одна в другой кастрюльки. Папа медленно повернул ко мне лицо и спросил: — Где тебя носило? Мать, вроде бы, к тебе обращается, не к стенке. — Хы-хы-хы-ы! —обрадовался я. — Заколотили! Видал? Я же сказал, что заколотят. И именно Недоманский. Сказал же. — Где ты был? — повторил папа. — Где, где! — хмыкнул я. — С одним психом сидели, с физиком. Он свой день рождения отмечал, сто пятьдесят лет ему шарахнуло. Папа поперхнулся дымом и встал. — Что? — сказал папа. — Мало, шляешься по ночам, так еще и хамишь? — Почему — хамишь? — возразил я. — Я по-честному тебе говорю. Он при Александре Первом родился и с Пушкиным был знаком. Если не врет, конечно. И если все это мне не приснилось. Папа растерянно посмотрел на маму. Мама сидела на неприбранной кровати и держалась за сердце. — Вот они, плоды твоего воспитания, — сказал ей папа. — Плоды твоей неразумной любви. Мама не ответила. Тогда папа снова обернулся ко мне и спросил: — С Пушкиным, значит? — А чего? — сказал я. — Точно. С Александром Сергеевичем. В тот же момент я отлетел к письменному столу и схватился за ухо. Папа попал по тому же уху, за которое мама тащила меня по коридору. Наверное, специально прицелился. — Чего ты дерешься-то?! — взвыл я. — Ы-ы-ы! Тебя бы так по уху! У-у-у! Вскочив с кровати, мама бросилась ко мне и, защищая меня от папы, прижала к себе. — Ласточка моя. И это называется отец. Вместо того чтобы поговорить… Других мер он не знает. А потом удивляется, что ты его не любишь. Тебе очень больно, моя ласточка? Ты кушать хочешь? И правильно, и не отвечай ему, где ты был. Он все равно ничего не поймет. Он давно забыл, что когда-то сам был ребенком. Мама гладила меня по голове и приговаривала. А папа крякнул и опять уселся на чемоданы смотреть хоккей. Чай я пил с холодными котлетами. И одновременно смотрел телевизор. Мама поправила на раскладушке простыни и сказала, что мне пора «баиньки». Она частенько говорила вместо «спать» «баиньки» и называла меня «ласточкой». Впрочем, «ласточкой» она называла меня не всегда. Нередко я превращался в «бандита» и «негодяя». Но стоило папе чуточку меня обидеть, как я вновь становился «ласточкой». Между прочим, когда мне попадало от мамы, то папа тоже в свою очередь утешал меня. Правда, потихоньку от мамы. В такие минуты папа говорил, что ничего уж не поделаешь, такой у мамы вздорный характер, нужно терпеть. И давал мне рубль на кино. Или три рубля на мелкие расходы. — Держись за меня, — говорил в такие минуты папа, протягивая мне три рубля. — Мы с тобой мужчины и должны понимать друг друга. А мужчины женщину никогда не понимали и не поймут. Наши выиграли у чехов со счетом 5:3. Я заранее знал, что наши выиграют именно с таким счетом, но все равно удивился. Я никак не мог привыкнуть к своему новому состоянию. Во мне никак не укладывалось, что то был сон. И еще я боялся, что мое ясновиденье пропадет зря. Завтра проснусь, и ничего не будет, все останется, как раньше. — Ласточка, баиньки, — напомнила мама. — Ладно, сейчас, — буркнул я и, скинув ботинки, выскользнул в коридор. В коридоре я неслышно добежал до комнаты студентки Нины Бочкаревой и тихо постучал к ней в дверь. — Нин, а Нин, — шепнул я. — Чего тебе? — высунулась в приоткрытую дверь голова с бигудями. — Днем от вас никакого покоя и теперь еще ночью. Чего тебе? Я уже спать ложусь. — Мне одну вещь тебе нужно сказать, — проговорил я. — Очень важную. — Говори давай, — нахмурилась Нина. — Понимаешь, — заторопился я, — ты и вправду зря с этим Ильей дружишь. Все равно он тебя бросит. Ты лучше с Борей дружи. А то после спохватишься, а он уже женится. — Какие вы, однако, все гадкие, Карпухины, — поморщилась Нина. — И шуточки-то у вас… — Какие шуточки! — возмутился я. — Ничего не шуточки! Я же тебе помочь хочу. Сама потом спохватишься, да поздно будет. Нина не ударила меня. Наверное, потому, что она была принципиальной противницей битья. Болезненно сморщившись, она брезгливо ткнула меня ладошкой в грудь. — Уйди отсюда. — Эх ты, — вздохнул я, стукнувшись спиной о стенку узкого коридора. — Я же как по-хорошему хотел. Вот выйдешь замуж за лысого инквизитора Александра Семеновича, тогда узнаешь. Тогда сразу меня вспомнишь. — Уйди! — визгливо закричала Нина Бочкарева. — Уйди, противный, иначе я тебя ударю! Честное слово, ударю!
Глава пятая НЕ НУЖНО ЧИСТИТЬ ЧАЙНИКИ
Утром папа вскипятил себе чаю, позавтракал на уголке стола, переступая через чемоданы и сумки, молча разыскал рубашку и штаны, молча оделся и молча ушел на работу. — Ма-а, — сказал я, потягиваясь на раскладушке и зевая, — а ма. Мне такой сон сегодня приснился! Знаешь, будто я работаю мойщиком автомобилей на станции технического обслуживания. Хы-хы-хы-ы! — Глупости какие тебе снятся, Гремислав! — возмутилась мама. — Ты будешь не хуже других, моя ласточка. Ты только слушайся меня, и я сделаю из тебя человека. Ты будешь ездить на работу в белых сорочках, руководить людьми и получать большие деньги. Ты еще покажешь себя. — Так на станции обслуживания в смысле денег ничего, — хмыкнул я. — Мне приснилось, будто я за один день плюс к зарплате заработал пять рублей двадцать восемь копеек. А до этого были приварочки и погуще. — Немедленно прекрати! — закричала мама. — Одни дураки в наше время занимаются грязной работой. Если мы с твоим милым папочкой живем вот так, — мама обвела рукой комнату, — то ты у меня будешь жить иначе. Я как рыба об лед бьюсь и на работе и дома. А что я вижу? Твоего непутевого отца? Ты слушай только меня, Гремислав. Одна я желаю тебе добра. — Ага, — зевнул я, — одна ты. Тебя слушай. Ты мне один раз уже нажелала. Спасибо. Вон хотя бы с Машенькой. Она тебе, видишь ли, понравилась, а я из-за тебя на ней сдуру женился. И после не знал, куда от нее деваться. Насытился по горло. Так что хватит. Теперь я все буду делать наоборот. И стану летчиком. — Негодяй! — вскинулась мама. — Как ты разговариваешь с матерью? Какая Машенька? Что ты мелешь, оболтус? Только через мой труп ты станешь летчиком! Ты знаешь, как они бьются, эти летчики? Хватит болтать! Сейчас же вставай. Я из-за тебя опаздываю на работу. — Опаздываешь… Оболтус… — ворчал я, нехотя одеваясь. — Никакой я не оболтус. Я теперь все наперед знаю! В коридор я вылетел, подгоняемый крепкой маминой затрещиной. Даже штаны не успел как следует застегнуть. Плетясь по коридору к кухне, чтобы умыться, столкнулся с Ниной Бочкаревой. Через плечо у Нины висело махровое полотенце, а в руке она несла металлическую мыльницу. Нина гордо отвернулась и прошла мимо меня, держа впереди себя мыльницу, словно какую-нибудь шкатулку с драгоценностями. По коридору вслед за Ниной проплыл аромат духов и кремов. — Нинка-дринка, тра-ля-ля! — крикнул я ей в спину. — Все равно за инквизитора выйдешь. Я точно знаю. В кухне пахло крепким кофе. А у своего стола чистила картошку бабушка Самохина. Я даже попятился обратно к двери, увидев живой и здоровой бабушку Самохину. — Здрасте… пожалуйста, — испуганно пробормотал я, таращась на бабушку.
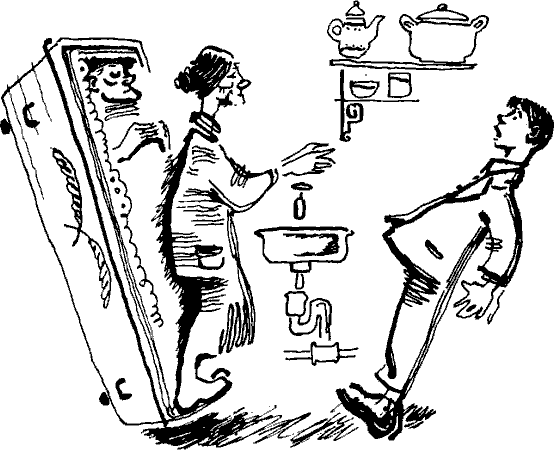
Я отлично, словно это было вчера, помнил, как посреди самохинской комнаты на обеденном столе стоял гроб и в нем, скрестив на груди руки, лежала мертвая самохинская бабушка. У бабушки что-то получилось с печенью. Ей нельзя было есть ничего жареного и пить кофе. Но она все равно ела и пила. В то утро она тоже напилась кофе и умерла. Это случилось как раз за несколько дней до того, как я познакомился с Таней Каприччиозой. И мама еще поругалась потом с Самохиными из-за уборки. — Мойся, мойся, — сказала живая бабушка Самохина. — Чего ты на меня уставился? Давно не видел? В школу опоздаешь. Мойся. А то сейчас прибежит твоя мама — и нагорит не тебе, а мне. У твоей же мамы все виноваты, кроме тебя. — Нет, бабушка, теперь все по-другому будет, — заверил я, намыливая руки. — С сегодняшнего дня все! Вот увидите. — Увидим, увидим, — согласно закивала она. — А вы вообще-то тоже, — сказал я. — Вы вообще-то тоже кофе больше не пейте, бабушка. Ладно? А то в гробу вы будете лежать со скрещенными руками через свое кофе. Честное слово. Однако бабушка не поверила, что она может лечь в гроб от кофе. — Как-нибудь не ляжем, — заворчала она, беря краем передника горячий кофейник и уплывая с ним из кухни. — Как-нибудь протянем… твоими молитвами. Поговорив с живой самохинской бабушкой, я подумал, что с предсказаниями нужно, наверное, поосторожней. Народ вокруг вон какой. Им говоришь сущую правду, стараешься помочь, а они… Мама с раннего утра затрещину влепила, Нина Бочкарева надулась, бабушка Самохина вроде — тоже. Оказалось, люди не очень любят, когда им предсказывают. Особенно — когда предсказывают правду. Поэтому когда, грохоча вниз по лестнице, я догнал Галю Вострикову, я ей ничего не предсказал. Только крикнул: — Красавицам — мое почтение! Крикнул и сам удивился — откуда у меня взялось это «красавицам»? — Дурак и уши холодные, — обиделась Галя. Но я ей все равно ничего не предсказал. Хотя мне было что ей предсказать. Чего она зазря, например, переводит время на кружок пения? Певицы из нее так и так не получится. Сама же потом будет стесняться петь и ни на одной вечеринке рта не раскроет. Один раз ей всего и пригодится ее пение. И то над океаном да в такой момент, когда людям не до песенок. Мечтает стать певицей, а сама попадет в стюардессы. На международные линии. Воздушные трассы на Париж, Нью-Йорк, Лондон. В Америку полетят, и над океаном откажет один из двигателей. Вот она и запоет пассажирам разные песенки, чтобы не получилось паники. Стоит ли из-за нескольких песенок столько лет в кружок бегать? — А у тебя горячие уши! — крикнул я. — Думаешь, из горячих ушей певицы получаются? Из горячих ушей… Однако я сдержался и не сказал, что получается из горячих ушей. Все-таки как-никак Галя Вострикова мне нравилась. И теперь даже еще больше, чем раньше. Стюардесса — это не певица. Я стану летчиком, а она стюардессой. На этот раз я ни на секунду не сомневался, что попаду в летчики. Я твердо знал, что для этого нужно. Улица Желябова чавкала коричневым месивом снега. На бульваре под заснеженными деревьями гуляли нахохлившиеся голуби с красными, точно отмороженными лапами. Над бульваром между домами натягивали повторяющуюся из года в год иллюминацию — контуры огромной елки из лампочек и бородатого деда-мороза с мешком. Тоже из лампочек. До школы я обычно бежал через улицу и проходной двор. Под аркой проходного двора валялся разбитый ящик из-под апельсинов. Я поддал ногой дощечку с торчащими из нее гвоздями и выскочил к баскетбольной площадке. Через двор, согнувшись под тяжестью пузатого портфеля, понуро волочил ноги Димка Соловьев. Он всегда приходил к первому уроку хмурый и тихий, потому что долго просыпался. Димка Соловьев более или менее просыпался лишь ко второму уроку. — Принес? — сипло спросил Димка, зябко поеживаясь. — Чего принес? — не понял я. — Ну, Карпуха, — пробурчал Димка. — Друг называется. Обещал же вчера. Я чего тебе обещаю, всегда приношу. — Хы-хы-хы-ы! — обрадовался я. — У меня твое «вчера» знаешь когда было? Десять лет назад. Могу я за десять лет забыть какую-то чепуховину или не могу? Димка Соловьев ничего не ответил. Он горестно вздохнул, сонно поморгал и потопал дальше к школе. И тут я вспомнил, как однажды встретил Димку Соловьева уже взрослым. Димка ехал в автобусе на завод и тоже спал. Стоял, зажатый в толчее, и клевал носом. На заводе Димка работал по отцовской специальности, формовщиком в литейном цехе. А по вечерам бегал на занятия в Политехнический институт. Они вместе с отцом ехали тогда на завод. И я сделал вид, что не узнал Димку. Не хотел, чтобы тот лез со своими расспросами. — Да чего я тебе обещал-то? — толкнул я Димку плечом. — Очнись ты, соня. Послушай, Дим, — неожиданно стукнуло мне, — а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А? Кем? — Отвяжись ты, — пробурчал Димка. — Нет, правда, кем? — Ну, формовщиком буду, — хмуро сказал Димка. — Как папа. — Во! — удивился я. — Ты как пророк все равно, на десять лет вперед видишь. А мне, случайно, не скажешь, кем я стану? — Откуда я знаю — кем, — надулся Димка. — Кем захочешь, тем и станешь. Так ты принес или не принес? — Да ты скажи чего. — Ленту, — сказал Димка. — Ведь обещал принести клейкую ленту обмотать клюшку. — Точно! — обрадовался я. — Обещал! Правильно! Она, наверное, в портфеле у меня. Суматошно расстегнув портфель, я запустил руку между учебниками. В портфеле действительно оказалось пластмассовое прозрачное колечко с высокими бортами. Между бортами была туго намотана ярко-зеленая клейкая лента. И, достав колесико, я с неожиданной отчетливостью вспомнил все, что произошло дальше. Все до мельчайших подробностей. Колесико будто высветило в моей памяти самые дальние закутки. — Какой у нас первый урок-то? — спросил я, протягивая Димке ленту. — Геометрия, — сказал он. — Точно, геометрия! — обрадовался я. — И вот посмотришь, Софья Владимировна, как пить дать, спросит у меня тетрадку с домашним заданием. А если я скажу, что забыл дома, она-то, конечно, поверит, но Зарубин… Ему же, этому великому математику, всегда больше всех нужно. Прямо… Я махнул рукой. Но тут же захохотал и боднул Димку в спину. — Не робей, Димыч! Сегодня все будет иначе! Говорят, кабы знал, где упал, то соломки подостлал. Теперь я знаю, где ее подстилать. Теперь я этому великому математику Андрюшке Зарубину так просто в руки не дамся. Теперь он у меня сам попрыгает. Прошлый раз, в то утро, когда я, как и сейчас, принес Димке зеленую клейкую ленту, в классе перед началом уроков появился плакат: «Позор Гремиславу Карпухину, который тянет назад весь класс!» Плакат висел налево от входа, над стенгазетой «Голос 8-го «6» и листом ватмана с наклеенными на нем видами родного города.


— Ты придумал?! — закричал я, указывая пальцем на Андрея Зарубина. — Я сразу догадался, что ты. Твоих рук дело! На что Андрей Зарубин нахально ответил, что это как раз не его рук дело, а моих. Потому что, дескать, это не он, а я тяну назад весь класс. Тогда я вскочил на парту и сорвал глупый плакат, написанный на обратной стороне куска обоев. А Зарубин со своим дружком Витькой Соломинцевым бросились на меня. Наверное, Соломинцев как раз и писал этот плакат. На мою защиту, естественно, кинулся еще не проснувшийся Димка. И завязалась потасовка. Прозвенел звонок, пришла Софья Владимировна и сказала: — Мне думается, ты не совсем прав, Андрей Зарубин. Ты и все, кто это затеяли. Нужно более терпимо относиться к своим товарищам. Повесить ярлык на своего товарища — это самое распоследнее дело. — Ясно, распоследнее! — закричал я, чуть не плача от обиды. — Да разве он понимает? Я бы тоже на него мог понавесить! Я же не вешаю! — Вдруг я сейчас вызову Карпухина, — мягко продолжала Софья Владимировна, обращаясь к одному Зарубину, — и окажется, что он отлично подготовился к уроку. Как тогда будет выглядеть ваша афиша? И как сейчас чувствует себя Слава, если он просидел вчера весь вечер за столом и прозанимался? Об этом ты подумал? — Он вообще никогда ни о чем не думает, — дрожащим от обиды голосом вставил я. У меня от слов Софьи Владимировны появилась к себе такая жалость, что даже задергался подбородок. — Не подумал, — подтвердила Софья Владимировна. — А мне теперь из-за тебя даже неудобно вызывать Славу. Я, правда, не собиралась его сегодня вызывать. Но, чтобы тебе, Андрей, стало стыдно… Она не закончила, медленно повернула лицо ко мне, подумала и спросила: — Слава, ты сделал заданные на дом задачи? Дай мне, пожалуйста, твою тетрадку, Слава. Подбородок у меня от таких добрых слов задергался еще сильнее. Я поднялся и, опустив голову, просопел, что задачки я, конечно, сделал, но из-за мамы забыл тетрадку дома. — Мама завалила, понимаете, весь мой письменный стол, вот я и не заметил, что оставил тетрадку. — Ну, ничего, — тихо сказала Софья Владимировна. — Ничего. С каждым может случиться. Главное, что ты сделал задачи. А тетрадку принеси, пожалуйста, завтра. Не забудь, не подведи меня. Пожалуйста. Она была очень мягкая и добрая, преподавательница математики Софья Владимировна Приютина. И я бы, разумеется, не подвел ее, принес бы назавтра тетрадку. Списал бы у Димки эти дурацкие задачки и принес. Но Андрей Зарубин был секретарем комсомольской организации класса. И он, видите ли, решил показать свою выдающуюся принципиальность. После уроков Зарубин встал перед дверью, раскинул руки и заявил, что никто домой не уйдет, потому что нужно разобраться. — Я даже готов извиниться перед ним, — сказал Зарубин, не называя меня по имени. — Сейчас все вместе идем к нему и смотрим тетрадку. Если он задачи действительно сделал, то я готов извиниться. Ну что это за манера вечно перекладывать с больной головы на здоровую? Разве не в этом его главная беда? Даже тетрадку забыл — и то ему мама виновата. Но ведь врет он нахально. Ничего он не забывал. Просто не выполнил задания. И хоть бы один раз признался, что сам виноват. Не по-комсомольски это. Не верю я ему. Однако многие ребята закричали, что очень даже глупо идти всем классом смотреть одну-разъединственную тетрадку. И вообще, закричали ребята, нужно доверять людям. Софья же Владимировна доверяет. Орали, наверное, целый час. И мы с Димкой, разумеется, громче всех. Культпоход за тетрадкой у Зарубина сорвался. Но я все равно так разозлился на Зарубина, что решил его в конце концов как следует проучить. Чтобы не лез не в свое дело. После школы я сбегал в гастроном к Казанскому собору и разыскал Сипатого. Сипатым звали длинноволосого парня Веню, который работал в гастрономе грузчиком. — Вень, — попросил я его, — тут нужно одному очень умному типчику чайник почистить. Веня Сипатый болезненно не терпел умных. Его прямо трясло, когда он встречал умных людей, которых величал «академиками». За десятку, сказал Веня, он с радостью до блеска начистит чайник любому умнику. Десять рублей за такое пустячное дело было, конечно, сумасшедшей ценой. Но я так разозлился на Зарубина, что все равно согласился. И еще я согласился потому, что Сипатый делал свое дело аккуратно, а деньги брал в рассрочку. Сразу десять рублей я, естественно, достать бы не смог. А за две недели можно было и не десятку достать. Деньги, между прочим, я добывал абсолютно честным образом. — Мамуль, — приласкивался я к маме, когда отца не было дома, — дай мне, если можешь, два рубля, мамуль. Мне страшно нужно. Я у папы просил, а он, жмот, не дает. — У твоего папочки допросишься, — говорила обычно мама, которая совершенно таяла, слыша «мамулю». — Зачем тебе два рубля, моя ласточка? На тебе рубль. И пожалуйста, если ты меня любишь, никогда не проси денег у отца, не унижайся перед ним. Больше рубля мама за один раз, как правило, не давала. Папа давал больше, до пятерки. — Пап, а пап, — говорил я ему, — дай, если у тебя есть, три рубля. Я у мамы просил, а она, жмотиха, не дает. На папу сильнее всего действовала «жмотиха». Он безропотно доставал три рубля и, протягивая их мне, обычно тоже произносил небольшую речь. — Три? — голосом миллионера Рокфеллера произносил папа. — Держи. Ты ведь отлично знаешь, что у твоей мамочки зимой снега не выпросишь. Сколько раз я тебе объяснял. Они вообще-то были нежадными, мои родители. Веня Сипатый подкараулил Зарубина поздно вечером в Шведском переулке. Но Зарубин неожиданно стал брыкаться и, как потом заявил Веня следователю, начал «качать права». В запале Сипатый не рассчитал удара. Он попал Андрею Зарубину по очкам. Кусочек стекла впился в роговицу, и Зарубин чуть не остался без глаза. К счастью, глаз Зарубину в конце концов спасли. Какие-то там знаменитые окулисты сделали операцию и спасли. А меня мама спасти не сумела, хотя сделала все возможное. Мама обегала и районо, и гороно, и всякие другие организации, но весной, после окончания восьмого класса, решением педагогического совета меня из школы отчислили. Так получилось в прошлый раз. — Не робей, Димыч — повторил я, подталкивая в спину своего сонного друга. — Не робей! Сегодня все будет иначе. Чайники мы на этот раз чистить не станем. Мы сделаем хитрее. Но Димка, разумеется, не знал, как было в прошлый раз, и не слышал ни о каких чайниках. Для Димки прошлого раза не существовало.
Глава шестая А ВСЕ ИЗ-ЗА ДИМКИ
По утрам, перед началом уроков, старинное здание школы казалось несколько угрюмым, чересчур просторным и неуютным. Школа, словно Димка Соловьев, еще дремала и, как и он, просыпалась лишь ко второму уроку. Мы с Димкой поднялись по широкой гулкой лестнице, пролеты которой были затянуты металлической сеткой, и остановились у класса. — Ну, начинаем новую жизнь! — торжественно возвестил я. — На первом этапе главное сдержаться и ничего не сорвать со стены. — Чего — ничего? — сонно спросил Димка, зевая в кулак и вытирая навернувшиеся от зевка слезы. — Сейчас увидишь, — сказал я и взялся за ручку двери. В проходах между партами, сбившись в привычные кучки, негромко гомонили ребята. Мальчишки больше отдельно, девчонки отдельно. Кто-то торопливо переписывал у соседа домашнее задание, кто-то листал учебник. Лампы с белыми обручами, похожими на кольца-спутники Сатурна, лили с потолка холодный свет. А налево от двери, над стенгазетой «Голос 8-го «6» и листом ватмана с видами родного города, висел плакат: «Позор Гремиславу Карпухину, который тянет назад весь класс!» — Хы-хы-хы-ы! —бодро засмеялся я, ткнув пальцем в плакат. — Это, разумеется, ты, Андрей Зарубин? Молодец, Андрюша! Позор мне! Правильно. Так меня и нужно, чтобы я не тянул назад. Теперь я сразу все пойму и перестану тянуть. — Чего это ты? — удивился такой неожиданной реакции Зарубин. — Как чего? — сказал я. — Признаю свои ошибки. Публично и самокритично сам себя осуждаю. Никто мне, дорогие товарищи, не виноват. Один я, дорогие товарищи, во всем виноват. И мне глубокий позор. Все, что я когда-либо переложил на ваши честные здоровые головы, я забираю обратно на свою больную и грешную. — Зубоскалишь? — угрюмо поинтересовался Зарубин, поблескивая стеклами очков. — Неужели на тебя и это не действует? — Чего — зубоскалишь?! — возмутился я. — Действует! Еще как действует. До самых печенок. Я по-серьезному. Осознал я. Честное слово, ребята, осознал. Должен же я когда-то осознать! В классе притихли. Вера Ильина надула щеки и, ткнувшись носом в парту, громко фыркнула. Петя Петухов со значением присвистнул. А Леня Васильев меланхолично проговорил, что в сухумском обезьяньем питомнике живет один очень остроумный орангутанг. Леня Васильев по любому поводу вспоминал про сухумский обезьяний питомник. И про орангутангов. — Шут гороховый! — подступив ко мне, гневно проговорил Андрей Зарубин. — Ты же комсомольский билет носишь! Где твоя совесть? — Да он что, тронулся, ребята? — растерянно улыбнулся я. — Заявляю совершенно официально и категорически: правильно, мне позор. Чего же еще-то? — Макнуть бы тебя сейчас как следует, — поморщился зарубинский подпевала Витя Соломинцев, — вот чего. Чтобы не балаганил зазря. — И этот тронулся! — захохотал я. — Я, значит, тяну, мне позор, а они трогаются. Чего вы привязались-то? Какую вам еще нужно особую совесть? Чтобы я на коленки перед вами встал, хотите? — Остаемся сегодня всем классом после уроков и поговорим, — решительно заявил Зарубин. — Хватит, нужно кончать с этим делом. — Опять после уроков! — пискнула Вера Ильина. — Сколько же можно после уроков? Я сегодня не могу. — А в сухумском обезьяньем питомнике, — мрачно прогудел Леня Васильев, — каждый день остаются после уроков. Прозвенел звонок, и в класс с журналом под мышкой вошла Софья Владимировна Она вошла и тихо сказала: — Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Положила журнал на стол, оглядела класс и попросила: — Витя Соломинцев, ты выше других, сними, пожалуйста, то, что висит над стенной газетой. Мне это будет мешать вести урок. И вообще я считаю, что подобные лозунги м-м… даже вредны. — А я, Софья Владимировна, считаю наоборот, — встал Андрей Зарубин. — Я считаю, что они полезны. Нужно же как-то воздействовать на человека. Иначе он вообще не знаю до чего докатится. Софья Владимировна внимательно посмотрела на Зарубина, отвернулась и подошла к окну, за которым густо синел поздний рассвет. Она стояла у подоконника боком к классу и ждала, когда утихнет шум. У нее была такая привычка — молча дожидаться тишины. Снаружи окна, на поперечинах рамы, тонким бордюрчиком лежал синий снег. — Я, наверное, Андрей, не совсем точно выразилась, — проговорила Софья Владимировна, дождавшись, когда ребята немного утихли. Она все так же стояла боком к классу и разглядывала синий бордюрчик. — Конечно, когда в Финляндии ворам отрубали правую руку, то какая-то м-м… если ее так можно назвать, польза была. Но мне бы хотелось, — Софья Владимировна медленно повернулась и прошла к столу, — мне бы хотелось, Андрей, чтобы мои воспитанники не были жестокими и проявляли больше терпимости к своим товарищам. Повесить ярлык на своего товарища — это самое распоследнее дело. — Да нет, я ничего, — вставил я. — Пусть себе вешает. Это же не руку отрубать. — Вот видишь, — сказала Софья Владимировна, обращаясь к Зарубину. — Вдруг я сейчас вызову Славу Карпухина и окажется, что он отлично подготовился к уроку. Ты подумал, Андрей, как Слава чувствует себя после такой встречи и как он сможет отвечать? — Да вы же меня не вызовете, Софья Владимировна, — сказал я. — Тетрадку еще посмотреть — это другое дело. Вызывать вам меня, Софья Владимировна, после всего этого не очень удобно. На парте у стены стоял длинный Витя Соломинцев и не знал, снимать ему кусок обоев с лозунгом или не снимать. Софья Владимировна удивленно посмотрела на меня. — А тетрадку… чего, — поднялся я. — Я врать вам не стану. Дома я ее не оставлял, задачки не сделал. Я… Тут я чуть было не брякнул, что вчера целый день мыл машины и мне было не до задач. Само собой, получилось бы явное вранье. Но, спасибо, я вовремя спохватился и замолчал. Мне почему-то ни с того ни с сего вспомнилась Таня Каприччиоза. И совершенно было не понятно, чего это она вдруг мне вспомнилась. — Нет, я правда, Софья Владимировна, осознал, — пробормотал я. — Вы мне поверьте. Это в последний раз. Я осознал, что если не буду как следует учиться, то… Вы мне только поверьте. Я, честное слово, исправлюсь, Софья Владимировна. Поверьте. С сегодняшнего дня. — Да, конечно, — проговорила Софья Владимировна. — Почему же? Я тебе верю. Мы все тебе верим. Ты садись, Слава. А ты что стоишь там, Соломинцев? Снимай и спускайся. — Так я думаю, может, не снимать? — развел руками Соломинцев. — Вон как на него подействовало. — Сейчас же сними! — сказала Софья Владимировна. — Мы теряем золотое время. После уроков никакого собрания у Андрея Зарубина не получилось. Во-первых, Вера Ильина подговорила всех девчонок, и они потихоньку удрали. Во-вторых, Леня Васильев собрал портфель и сказал, что он тоже не останется. — В сухумском обезьяньем питомнике, — басом сказал он, — не отрубают лапы орангутангам, которые таскают бананы. А когда недавно один орангутанг пообещал исправиться, то ему поверили все обезьяны. После занятий я быстрее побежал домой, чтобы засесть за учебники. Проторчав в школе пять уроков, я с ужасом обнаружил, что за минувшие десять лет начисто растерял даже те крохи знаний, которые у меня когда-то были. И на алгебре, и на литературе, и на физике я чувствовал себя так, точно попал в общество иностранцев, где говорят на непонятном мне языке. — Карпуха, а хоккей? — спросил у меня во дворе окончательно проснувшийся Димка Соловьев. — Я сейчас клюшку обмотаю и зайду за тобой. — Никаких хоккеев! — твердо сказал я. — Я завязал. Берусь за ум. — Ну, ты даешь! — поразился Димка. — Ты мне друг или не друг? — сказал я. — Видишь, что вокруг творится. Заниматься мне нужно. Понятно? И вообще… если я даже соглашусь на твой хоккей, у меня, я теперь все наперед знаю, так и так конек на правом ботинке отвалится. Начну надевать ботинок — и конек отвалится. А после из-за этого конька такой тарарам закрутится, вспомнить страшно. — Тарарам? — захлопал глазами Димка. — Конек у тебя что, уже отвалился, или ты думаешь, что он отвалится? — Ничего я не думаю, — буркнул я, восстанавливая в памяти то, что последовало в тот раз за отвалившимся коньком. — Я знаю. Тогда, после уроков, я прежде всего сбегал в гастроном к Вене Сипатому. А потом примчался домой. И только стал надевать коньки, правый — хруп! — и соскочил с заклепок. Димка сидел на чемоданах, с которых папа обычно смотрит телевизор. На ногах у Димки поблескивали коньки, на коленях лежала клюшка. Димка сидел и подкидывал шайбу. — Ну вот, — сказал я, рассматривая отвалившийся конек. — Поиграли. Левая нога у меня была с коньком, а правая без конька. — Ничего! — крикнул Димка. — Держи! И послал в меня шайбу. Двери превратились в ворота. Я стоял в воротах на одном коньке. Димка бил клюшкой. «Тынь!» — щелкала в дверь шайба, когда я ее пропускал. Я отбивал шайбу клюшкой. Прыгал на одном коньке у двери и отбивал. Один раз я отбил неудачно. Шайба взвилась через стол с грязными тарелками и щелкнула прямо в круглый аквариум, что приткнулся на треноге в углу комнаты. В аквариум входило полтора ведра воды. Полтора ведра растеклось под чемоданы, столы и кровать. Ползая на четвереньках, мы с Димкой собрали рыбок в чайник. Вода под рукой оказалась только в чайнике. Но рыбки все равно подохли. Они плавали в чайнике вверх белыми пузиками. И остряк Димка еще сказал, что если чайник вскипятить, то получится великолепная уха. А тут прибежала снизу соседка и заявила, что ее заливает… Так было в прошлый раз. И мне не хотелось, чтобы повторилось, как в прошлый. — Не, — твердо повторил я, — никаких хоккеев! И ты, Димыч, не заходи за мной, пожалуйста. Все равно я никуда не пойду. Но разве Димка мог не зайти за мной? Где это было видано, чтобы Димка гонял в хоккей, а я в это время сидел дома? Димка бы такого не пережил. Он, конечно, зашел за мной. И сказал: — Если ты, Слава, боишься, что у тебя конек отвалится, то надевай мои. А я надену твои. — Да ничего я не боюсь! — взорвался я. — Чего ты приперся? Отвалится он, я же точно знаю. Димка недоверчиво хмыкнул и попробовал, как держатся коньки на моих ботинках. Подергал изо всей силы. Коньки держались крепко. — Ерундистику какую-то придумываешь, — обиженно сказал Димка, надевая правый ботинок. Надел, поднялся — хруп! — и конек на сторону. — Видал! — закричал я. — И шпарь теперь давай домой. Шпарь! А то придумаешь прямо тут в комнате в хоккей играть. — Правильно! — обрадовался Димка. — Прямо тут! А чего? Держи! «Тынь!» — щелкнула в дверь шайба. И я не заметил, как вошел в азарт. Я отбивал шайбы не хуже заправского вратаря. Но об аквариуме я помнил каждую секунду.
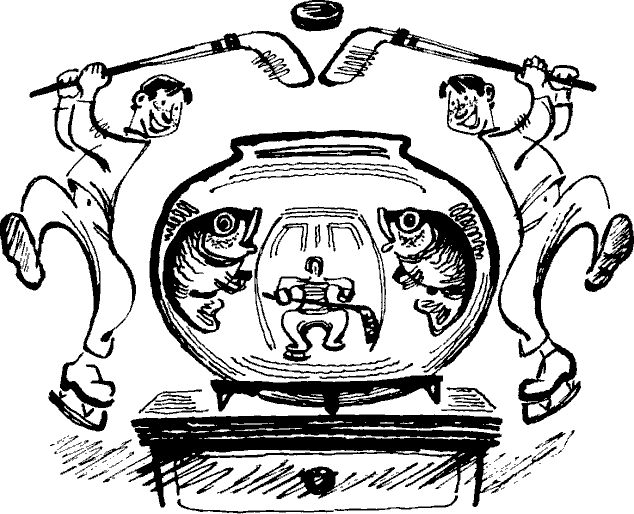
И на этот раз шайба в аквариум не попала. Не обязательно же, когда играешь в комнате в хоккей, шайба должна попадать именно в аквариум. Шайба отлетела от моей клюшки и дзынкнула в окно. Два стекла она проскочила насквозь с удивительной легкостью. На подоконник и пол сыпанули осколки. — Привет, — убито проговорил я, разглядывая острые фигурные узоры, оставшиеся по краям рам. — Я же тебя предупреждал, Димыч. В красивую, окруженную кривыми стеклянными саблями дыру с улицы белесым дымком вливался морозный воздух. — И все ты, — сказал я. — Я за ум собирался взяться, а из-за тебя вон чего получилось. Как я теперь буду уроки делать? — Подушкой давай заткнем, — предложил Димка. Однако подушкой заткнуть не удалось. Для такой дырищи требовалась не подушка, а целый матрац. В комнате быстро похолодало, и Димка утащил меня к себе. Жил Димка через дом от нас, в просторной комнате с тремя окнами и белой кафельной печкой до потолка. Димкина мама гладила пеленки. В комнате пахло паленым и еще чем-то кисловатым. — Митя, — сказала мама, — у нас кончилась картошка. И потом, ты знаешь, что Маринка получила задиктовку двойку? — Знаю, — буркнул Димка. — Тут у самого столько уроков, а она… — Придется тебе вечером объясняться на семейном совете, — предупредила мама. — И тебе, наверное, тоже придется, — вздохнул Димка. — Мы сейчас у Славы окно рассобачили. — Что сделали? — переспросила мама. — Ну… разбили, — сказал Димка. — Чего. В семье Соловьевых каждый имел свои обязанности: кто ходил за картошкой, кто за хлебом, кто подметал комнату, кто вытирал пыль. Кроме того, каждый старший Соловьев отвечал за более младшего. За четырехмесячную Аленку спрашивали с шестилетней Зины, за Зину — с Маринки, которая училась в третьем классе, за Маринку — с Димки, за Димку — с мамы, за маму — с папы. У Соловьевых за одного папу никто не отвечал, потому что папа был самым старшим. Я однажды попал на соловьевский семейный совет. На совете в тот раз обсуждался папа. Димкина мама поскользнулась на улице, упала и сильно ушибла локоть. А досталось на совете папе. И я так и не понял, за что ему досталось. Будто папа должен был прибегать с завода и водить маму по улице за ручку. И вообще соловьевский совет показался мне смешным и игрушечным. На нем еще тогда обсуждалось, что купить с получки: портфель Маринке, шапку Димке или ползунки Аленке. Будто нельзя было купить без обсуждения. А шутники Соловьевы спорили, спорили и решили ничего не покупать. Решили отложить деньги на стиральную машину. Зина, Маринка, Димка и папа проголосовали «за», мама — «против», а четырехмесячная Аленка соответственно воздержалась. — Очень радостное ты принес известие, — сказала Димкина мама, услышав про окно. — На что же мы теперь будем вставлять стекла? У нас нету денег на стекла. Димка, естественно, тем более не знал, где взять денег на стекла. Чтобы избежать дальнейших объяснений, он молча отправился за картошкой. Я, конечно, — вместе с ним. Соловьевы вшестером жили на одну отцовскую зарплату, и мне тоже был не по душе весь этот разговор. Но в конце-то концов дыра в окне получилась только по вине Димки. Я тут был абсолютно ни при чем.
Глава седьмая ПРОРОК
Едва прозвенел звонок и географичка Виктория Викторовна, свернув карту, покинула класс, Андрей Зарубин кинулся к двери и запер ее на ключ. Ключ Зарубин сунул в карман. — Тишина! — крикнул он взорвавшемуся классу. — Тишина, я говорю! Все равно домой сейчас никто не уйдет. Дольше будете шуметь, дольше просидим. Мы обязаны разобраться с Карпухиным. — Чего с ним разбираться? — пискнула Вера Ильина. — Сколько уже с ним разбирались! Только зря время переводим. — Вешать? — угрюмо спросил у Зарубина Витька Соломинцев, вытаскивая из-за шкафа свернутый в трубку кусок обоев. — Вешай, вешай! — закричал я. — Опять небось про позор мне? Вешай, чего там! Приклеивай на меня ярлыки! Отрубай мне руки! Делай из меня гречневую кашу! — Не нужно, — махнул Зарубин Витьке Соломинцеву. — Без лозунгов обойдемся. — Он сквозь очки посмотрел на меня. — А ты выходи сюда, Карпухин. Расскажи классу, долго ли так будет продолжаться. — Чего ты ко мне приклеился? — вскипел я. — Дорогу я тебе, что ли, перебежал? На хвост соли насыпал? Я и сам, как могу, стараюсь. Меня прямо бесил этот наглец Зарубин. Я изо всех сил старался обходить его стороной и не трогать. Но чем старательнее я его обходил, тем нахальнее он ко мне привязывался. Он меня так и подбивал сбегать к Вене Сипатому. И я бы, наверное, давно сбегал к Вене, если бы не знал, чем это кончится. — Стараешься? — сказал Зарубин. — А в четверти снова три двойки. Наш же класс на последнем месте из-за твоих стараний. — А в сухумском обезьяньем питомнике, — басом прогудел Леня Васильев, — орангутанги никогда не насыпают друг другу на хвосты соли. — Прекрати, Васильев! — треснул Зарубин ладонью по учительскому столу. — Карпухин, мы ждем тебя. — Ну и жди! — огрызнулся я. — Жаль, я знаю, чем это может кончиться, а то бы тебе чайник как следует почистили. Все в начальники мылишься. Перед учителями себя показываешь. Я твой лозунг срывал, да? Я, наоборот, сразу признал, что правильно на меня лозунг написали. Чего тебе еще-то нужно? — Да он правда старается, ребята, — вступился за меня Димка Соловьев. — С ним даже один инженер занимается, Борис такой, с электростанции. По алгебре занимается и по геометрии. Алгебру и геометрию я действительно с помощью Бориса с электростанции немного подтянул. В четверти по алгебре и геометрии у меня намечались тройки. А по немецкому, истории и географии явно высвечивали двойки. Боря с электростанции сам вызвался мне помочь. Получилось это так. Боря чуть ли не каждый день звонил Нине Бочкаревой по телефону или заявлялся с букетиком цветов в гости. А Нина совсем не радовалась его звонкам и букетикам. Я сам слышал, как она сказала ему в прихожей, открыв дверь: — Опять ты? Зачем ты ко мне ходишь? Я же просила тебя не звонить и не приходить. Ты умный человек, Боря, ты же знаешь, что у меня есть Илюша. Щелкнул французский замок, и умный человек Боря молча исчез вместе со своим букетиком. Я догнал Борю уже на улице. — Э! — дернул я его за локоть. — Послушай. Если хочешь, я могу точно подсказать тебе, что нужно делать. — Ясно, все ясно, — отрешенно бормотал Боря, не замечая меня и не зная, куда деть шуршащие целлофановой оберткой цветы. — У тебя какая-нибудь другая девушка есть? — спросил я. Боря швырнул букетик в урну и спрятал стынущие без перчаток руки в карманы пальто. — Иди домой, — сказал он. — Не твоего это ума дело, Гремислав Карпухин. Не дорос ты еще немножко. Он прибавил шагу. Но я не отставал. Я на ходу выложил ему все, что случится дальше. — Вот ты к ней ходишь, ходишь, — говорил я, — а потом возьмешь плюнешь и на другой женишься. А зря. Ты на другой не женись, ты потерпи. У Нины весной со своим Илюшей раздор получится. Она к тебе кинется, да уже поздно. Это если ты женишься. И ты тоже тогда локти покусаешь, если женишься. Особенно, если она с горя за лысого Александра Семеновича выйдет. Услышав про Александра Семеновича, Боря остановился. Хмуро спросил: — За какого Александра Семеновича? Ты что плетешь, мальчик? — А что, есть такой Александр Семенович? — обрадовался я. — Есть, — подтвердил он. — В институте у них преподает. Говорят, с женой живет, как кошка с собакой, и не чает куда от нее удрать. На Нину он давно поглядывает. Это я знаю. — Вот, вот, — загорелся я. — Она за него и выскочит, если ты не проявишь выдержку. И Боря решил проявить выдержку. Стал ходить не к Нине, а ко мне, заниматься со мной алгеброй и геометрией. Ведь запретить ходить ко мне Нина ему не могла. И дело у человека есть — бескорыстно помогает отстающему школьнику. Раньше ко мне ходил Димка Соловьев и тоже мне немного помогал. Но после разбитого окна моя мамочка категорически запретила «этому хулигану, который портит ее ребенка», появляться в нашей квартире. Кокнутый аквариум мама, помнится, пережила более-менее сносно. Наверное, потому, что давненько сама собиралась выкинуть его. С тех пор как папа купил аквариум, в нем ни разу не меняли воду. Даже не понятно было, как в таком аквариуме еще живут рыбки. Осколки с зеленой слизью я тогда выкинул в помойное ведро. Полы к вечеру подсохли. Я только забыл про чайник, в который собирал с Димкой рыбок, надеясь, что они очухаются. А папа пришел с работы и, ничего не зная, взял со стола чайник и напился прямо из носика. — Черт-те что, — поморщился папа. — Гадость какая-то. Он снял крышку, заглянул в чайник и увидел там плавающих кверху белыми пузиками рыбок. Оказалось, двух рыбок папа все-таки проглотил. Мама ужасно хохотала и весело сказала соседке снизу, которая пришла жаловаться на протекший потолок: — Да что вы, милая, беспокоитесь? Ну, покапало. Больше же не капает. Это ведь дети, милая, с ними и не такое случается. — Вы идите взгляните, какое у меня пятно на потолке! — расшумелась соседка. — Кто мне будет делать ремонт? — Ну, ну, — сказала мама, выставляя настырную соседку из комнаты. — Давайте без угроз. Высохнет — и заживете не хуже, чем прежде. Эка невидаль — водичка к ней немного протекла. Так отнеслась мама к аквариуму. Хотя, разумеется, мне она после ухода соседки за этот аквариум все-таки выдала. Но не так уж, чтоб очень. А к выбитому окну мама отнеслась несколько иначе. Мы сходили с Димкой за картошкой, и я сидел у Соловьевых и пытался делать уроки. Димка прямо из себя выходил, объясняя мне очередную аксиому. Но я начисто забыл все аксиомы и смотрел в учебник, как баран на новые ворота. Димка даже решил, что я нарочно над ним издеваюсь. Шестилетняя Зина нянчила хныкавшую Аленку. В гости к Маринке пришла подружка Ира, и они вслух учили какие-то глупые новогодние стишки. Димкина мама кормила пришедшего с работы Димкиного папу, и они тоже о чем-то разговаривали. В таком гаме не то что аксиому, сколько будет дважды два, позабудешь. В это время в комнату ворвалась моя мама и закричала: — Мой у вас? Я так и знала, что он околачивается у вас. Самохинская бабушка мне все рассказала. Видели бы вы, что эти уроды устроили из моей комнаты! Хоккейное поле! А кто теперь вставит мне стекла? — Кто выбил, тот, по-моему, и вставит, — проговорил Димкин папа, наклоняя тарелку, чтобы выловить из нее ложкой остатки борща. — Кто? — всплеснула руками моя мама. — Вы мне зубов не заговаривайте. Ваш сын выбил, вы и обязаны вставить. В комнату войти невозможно, в ней — как в холодильнике. Даже иней на полу. Димкин папа сказал Димкиной маме, что семейный совет придется, наверное, чуточку передвинуть. Он сходил в кладовку и принес два больших листа фанеры. — Держи, — сказал он Димке. — И не забудь ножовку взять, гвозди и молоток. Сейчас заделаешь фанерой, а завтра купишь стекла и вставишь. Мерку я тебе сам сниму. — Что мне ваш ребенок вставит? — всполошилась моя мама. — Вы вообще думаете или нет? Но Димкин папа не ответил, думает он или нет. Он молча оделся и отправился вместе с Димкой к нам. У нас в комнате было и вправду, точно на улице. Даже снегу намело. Димка под руководством своего отца пилил фанеру и заколачивал в раму гвозди. А мой отец сидел в пальто и шапке на чемоданах и смотрел телевизор. — Чтобы больше не смел водиться с этим хулиганом! — закричала мама, когда Димка с отцом заделали окно, подмели опилки и ушли. — Чтобы ноги твоего дружка тут больше не было! Это он сбивает тебя с пути, калечит тебя. Мама много еще чего обидного высказала в адрес Димки и его родителей. Она никак не могла согреться. А Димка после разбитого окна стал появляться меня значительно реже. Тут как раз и подвернулся влюбленный в Нину Бочкареву Боря с электростанции. Я в первые дни изо всех сил по-честному старался догнать класс. Но, во-первых, я абсолютно все начисто позабыл. Во-вторых, у меня обычно получалось только то, что получалось сразу. — На буксир его нужно взять! — кричали теперь ребята. — Чего — на буксир? Сколько его брали? И что толку? — Значит, нужно, чтобы его перевели от нас! — Куда перевели? А если к нам из другого класса такого же переведут? Или еще похуже! — А что, разве хуже бывают? — Пускай он сам скажет, что думает! — Пусть скажет! Я сидел за партой, опустив голову, и грыз ногти. Класс бушевал и выходил из себя. — Карпухин! — прорвался сквозь грохот голос Андрея Зарубина. — Ты нам все-таки скажешь, как думаешь дальше? — Я?.. Хорошо вообще-то думаю, — медленно проговорил я, поднимая голову. — Что — хорошо? — Ну… — Я замялся и оглядел класс. Ребята немного притихли. Вера Ильина стояла с портфелем у двери и, мученически закатывая глаза, демонстративно поглядывала на часики. — Да я что, сам не знаю, что ли?! — взорвался я. — Я в тысячу раз лучше вас всех знаю, что нужно заниматься. И я буду заниматься! Вы же никто и представления не имеете, каково тем, кто не кончил школу и путает Лермонтова с Пушкиным, а Эйнштейна с Эйзенштейном. — Во дае-ет Карпухин! — удивленно выдохнул класс. А Леня Васильев мрачно прогудел: — О таком даже в сухумском обезьяньем питомнике не слышали. — Знаешь, кем ты станешь? — неожиданно для самого себя крикнул я Лене Васильеву. — Ты, ты! Из сухумского обезьяньего питомника! Ты офицером на подводной лодке станешь. Вот кем. На Северном флоте будешь служить. — Что ж, вполне возможно, — басом подтвердил Леня Васильев. — Ой, как интересно! — пискнула от двери Вера Ильина. — А я кем стану? — Ты? — Я поморщил лоб, вспоминая. — Ты, кажется, журналисткой. Точно! На радио будешь работать. А Димка Соловьев формовщиком на заводе. Петя Петухов — железнодорожником. Витька Соломинцев — архитектором. Разойдясь, я вскочил на парту и, тараща глаза, орал: — А ты будешь портнихой в ателье! — Ты — учительницей! — Ты — пограничником! — Ты будешь белье в прачечной выдавать! Хы-хы-хы-ы! — А ты сам-то? — насупился Зарубин. — Я? — ткнул я себя в грудь. — Я летчиком стану! Истребителем. Ты уже в кандидаты наук выбьешься и приедешь ко мне на мой… — Я чуть не брякнул «мойку», но тут же поправился: — На эту… на мой, ну, на аэродром. Ты же математиком будешь. Приедешь, чтобы что-нибудь у нас подсчитать. А я — на реактивных. З-з-з! А-а-а! Ы-ы-ы! Красиво завертев ладонями, я показал им, какие виражи можно закладывать на истребителях. — Высший класс, — басом прогудел Леня Васильев. — А в сухумском обезьяньем питомнике один орангутанг всю жизнь мечтал стать продавцом в отделе дамских шляп.


Глава восьмая АРХИТЕКТОР ВИНОВАТ
С двести сорок третьей страницы «Сборника задач по алгебре» П. А. Ларичева улыбался веселый, нарисованный синими чернилами человечек. На голове у человечка торчало пять волосин, а уши почему-то отсутствовали. Человечек играл на гитаре и притоптывал правой ногой. Я пририсовал веселому человечку уши. Подумал и несколькими штрихами пририсовал усы. Как у кота. Еще пририсовал галстук. Получился симпатичный кот с гитарой и в галстуке. По комнате, переступая через чемоданы и обходя стулья, на которых висели пиджаки и платья, ходил и курил Боря, муж Нины, которая раньше была Бочкаревой. Теперь Нина стала Афанасьевой. Мне подумалось, что все же здорово повезло этому Боре Афанасьеву. Не встреть я сумасшедшего физика, не видать бы Боре Нины, как коту с гитарой — своих ушей. Для убедительности я взял и зачиркал у кота уши. И приделал ему хвост. — Ну, как там наша задачка? — спросил Боря, осторожно проводя пальцем по слою пыли на серванте, заставленном бутылочками с высохшими лекарствами, вазочками с прошлогодними цветами и картонными коробками из-под обуви. — Решаю вот, — буркнул я. — Послушай, — задумчиво проговорил Боря, — почему у вас всегда такая грязища? Взялись бы как-нибудь все вместе, провели бы генеральную уборку. А? — Откуда ж я знаю, почему? — отозвался я. — Мама все ждет, когда нам отдельную квартиру дадут. — Так в отдельной у вас будет то же самое. — Не, не будет, — возразил я. — Это почему же? — Потому что не дадут нам ничего. Это только мама мечтает. — Но вообще-то грязь, — сказал Боря, — разумеется, потому, что она сама собой появляется. Так ведь? И никуда от нее не деться. — Как? — не понял я. — Ты никогда не бил в детстве чашек? — спросил Боря. — Ну, чашек там, тарелок. — А чего? — Нет, ничего, — сказал он. — Просто мне, Слава, кажется, ты из той категории людей, которые ни за что не признаются: вот, дескать, уронил и разбил. Ты из тех, кого или толкнули, и она упала, или под руку что-нибудь сказали, или, в крайнем случае — «она сама». Однажды сыну Льва Николаевича Толстого, Илюше, когда ему было лет пять, привезли в подарок красивую фарфоровую чашку с блюдцем. Схватил ее Илюша двумя руками и побежал показывать маме. Но, вбегая в гостиную, он споткнулся о порог, упал, и чашка — вдребезги. Заплакал Илюша от обиды, затопал ногами, кричит: «Противный архитектор, понаделал тут порогов!» Услышал это Лев Николаевич и засмеялся: «Архитектор виноват!» С тех пор в доме Толстых частенько произносили эти два слова. С лошади ли кто упадет — архитектор виноват. Урока ли кто не выучит — снова архитектор. Играя на фортепьяно, сфальшивит — опять же архитектора вина. — А после? — спросил я. — Что — после? — сказал Боря. — Это только ты знаешь, что будет после. Я не кудесник. Послушай, я давно хочу у тебя спросить: каким это образом ты умеешь заглядывать в завтра? Ведь если бы тогда не ты… Я тогда, честное слово, совсем уже было собрался на другой девушке жениться. Назло Нине. Ты что, и вправду угадываешь все наперед? — Не, — качнул я головой, — теперь не все. Новенькие теперь все вокруг. Я их и не знал раньше. Про Димку Соловьева знаю, кем он станет, а про Глеба Бугрова уже не знаю. Но Глеб-то наверняка, когда вырастет, в какие-нибудь большие начальники выбьется. У него характер такой, в отца. — Не нравится мне что-то твой нынешний дружок с характером в отца, — заметил Боря. — Димка, по-моему, значительно лучше был. — Да ты что? — вскинулся я. — Сравнил тоже! Глеб — он же… Он даже маме и то нравится, хотя ей никто никогда не нравится. И мама права, у Глеба есть чему поучиться. Не то что у Димки. — М-м, есть, — с сомнением качнул головой Боря. Глеб Бугров и новые ребята появились в моей жизни с тех пор, как меня оставили в восьмом классе на второй год. Скандал тогда, естественно, разразился страшнейший. Отшумев как следует дома, мама, цепко держа меня за руку, побежала со мной в школу, в районо и в гороно. Мама кричала там, что это самоуправство, что она дойдет до Москвы, что они не имеют никакого права оставлять меня на второй год. «Уж если у вас запланировано кого-то оставлять, — кричала мама в кабинетах, — то нужно оставлять Соловьева, а не Карпухина!» Этот разгильдяй Соловьев, кричала мама, систематически тянул меня назад. Но, видно, кричала мама, таких, как Соловьев, им оставлять не велено. И теперь за Соловьева приходится отдуваться другим. Отдуваться за кого-то я, естественно, тоже не имел никакого желания. Поэтому в кабинетах у начальства я свою руку из маминой не выдергивал и три раза от жалости к самому себе даже пустил слезу. Однако ни мамины истерики, ни мои слезы должного воздействия на начальство не оказали. Меня все равно оставили на второй год. И еще сказали, что мне повезло: могли вообще исключить из школы, а меня, дескать, гуманно оставили. В восьмом классе, сказали, как правило, на второй год не оставляют. — Это потому тебя не перевели в девятый класс, — при первом же знакомстве объяснил мне Глеб Бугров, — что ты с самого начала не сумел себя как следует поставить. Мой папахен говорит, что уметь поставить себя — это самое важное в любом деле. Пусть-ка меня кто-нибудь попытается оставить на второй год. Миль-пардон. Вообразить, что Глеба Бугрова могут оставить на второй год, было действительно трудно. Глеб ходил по школе с гордо поднятой и чуть закинутой на сторону головой. Учителям он смотрел прямо в глаза и улыбался им даже тогда, когда они ставили ему двойки. Двойки, впрочем, Глебу ставили редко. Он носил сшитые в ателье костюмы, нейлоновые рубашки с модными галстуками и английские полуботинки с крупными медными пряжками. В шикарной отдельной квартире на Невском у Глеба была своя комната. Впервые попав в нее, я совершенно обалдел от невиданного японского «мага» на транзисторах, развешанных по стенам фотографий футболистов и боксеров, цветных вырезок из заграничных журналов с моделями новейших «бьюиков», «фордов» и «фиатов», от бронзовых подсвечников и старинных икон. — Глебушка, — сказала, входя в комнату, пышная улыбающаяся женщина с крупными янтарными серьгами, — познакомь меня со своим новым приятелем, Глебушка. Я за руку поздоровался с матерью Глеба Бугрова, назвал себя и отчаянно покраснел. На пальцах Глебовой матери отсвечивали перламутром длинные ногти. А запах ее духов показался мне удивительно сладким и даже каким-то волшебным. У них была и домработница, которую звали Марией. Еще не старая, но седая и хмурая женщина с грубым голосом. Домработница пригласила нас обедать. И меня снова поразила и просторная столовая с лепным, как во дворце, потолком, и огромный стол, и тяжелые серебряные ложки, и крахмальные салфетки, и похожая на старинную ладью фарфоровая супница, из которой мать Глеба разливала по тарелкам сияющей мельхиоровой поварешкой пахучий куриный бульон. Да, вот это была жизнь! Не то что у меня. Ложась в тот день спать на свою скрипучую раскладушку, я, пожалуй, впервые по-настоящему понял, что такое деньги. Разумеется, я немножечко и раньше знал, что это такое: и когда работал сантехником, и когда шоферил, и когда мыл машины. Денежки у меня тогда ни на день не переводились. Впрочем, мне теперь все больше начинало казаться, что на самом деле ничего этого и в помине не было. Просто произошло какое-то дикое наваждение. Но дело не в этом. Такую сказочную роскошь, такую совершенно потрясающую жизнь, побывав у Бугровых, я увидел впервые. Оказалось, деньги нужно не только уметь зарабатывать, но еще и с умом тратить их. А что умел мой отец? Он ведь работал не директором фирмы, как Бугров, а всего-навсего каким-то несчастным конструкторишкой, как называла его мама. И все, наверное, потому, что мой отец не умел поставить себя. А Глебов отец умел. Как никто. Осанистый, с начальственным подбородком и круглым животиком, он внушал мне не то что глубочайшее почтение, но даже какую-то немую, совершенно безотчетную покорность. На что уж моя мама, которая никогда ни перед кем не терялась, и та сразу сникала перед Глебовым отцом. Моей маме ужасно хотелось поближе сойтись с семьей Бугровых, завязать с ними дружбу. Но и сам старший Бугров, и его пышная жена принимали мою маму хотя и вполне вежливо, но холодно, разговаривали с ней чуточку свысока. И, как ни странно, это ничуть не обижало маму, вроде даже нравилось ей. — Какие люди! — восторгалась она. — Благородные, поистине интеллигентные. Ты держись за Глеба, Гремислав. Я страшно рада, что у тебя наконец-то появился настоящий друг. Бугровы тебе могут очень пригодиться в жизни. Учебой Бугров утруждал себя не слишком. Он запоем читал повести и романы о шпионах, собирал марки и бредил автомобилями. Он часами мог толкаться у «Европейской» гостиницы, разглядывая заляпанные грязью, цветастые заграничные машины. И при этом полупрезрительно цедил: — Во проклятые буржуи. Глеб вообще обо всем отзывался чуточку презрительно, с насмешкой. Отца он за глаза величал «папахеном», а учительницу Софью Владимировну — Софи. Однажды мы делали в классе уборку, а Глеб, как обычно, участия в ней не принимал. Он демонстративно сидел верхом на парте и покачивал ногой в ботинке, на котором поблескивала медная пряжка. Удивительно, но Глеба не трогали. Не хочет убирать, и не надо. Попробовал бы кто другой отлынить от уборки, хотя бы я. Меня бы живенько впрягли в работу. А Глеб сумел себя так поставить, что его не трогали.

И вдруг Неля Малышева, застенчивая девочка с тоненькой шеей, выжимая над ведром тряпку, ни с того ни с сего тихо сказала: — Ты бы хоть ушел отсюда, Бугров.

— Это зачем же? — с усмешкой поинтересовался он, продолжая раскачивать ногой. — Я тебе мешаю мыть пол? — Стыдно ведь, — опустив глаза, проговорила Неля. — Если ты меня так стыдишься, — посоветовал Глеб, — то миль-пардон. Сворачивайся и шагай домой. Неля беспомощно помяла над ведром с грязной водой тряпку и закусила губу. — Тебе должно быть стыдно, — прошептала она, делая ударение на «тебе». — Разве ты не понимаешь? Ребята трудятся, а ты расселся. Все, кто был в классе, замерли и повернулись к Неле с Глебом, ожидая, чем кончится их разговор. — Стыдно должно быть тому, — раздельно и с чуть заметным презрением выговорил Глеб, — кто принуждает учеников возиться в грязи. Я, к твоему сведению, хожу в школу не для того, чтобы стать уборщиком. И тогда, подняв на Глеба округлившиеся глаза, в которых блестели слезы, Неля выдавила: — Ты… ты, Бугров, просто… тунеядец и белоручка. — Да? — удивился Глеб, спрыгивая с парты. — Ты так думаешь или тебе так кажется? Он неторопливо подошел к ведру, подтянул рукав, чтобы не запачкать манжет нейлоновой рубашки, и окунул руку в грязную воду. Никто не понял, что Глеб собирается делать. — Так белоручка, говоришь? — сказал Глеб, поднимая мокрую ладонь. — Миль-пардон. Раздался щелчок. Грязная Глебова пятерня отпечаталась на красной Нелиной щеке. Глеб достал платок, вытер руку, швырнул платок на пол и, захватив портфель, гордо вышел из класса. Никто и опомниться не успел. На классное собрание Софья Владимировна вызвала не мать Глеба, а отца. Но отец прислал с Глебом записку, что он, к сожалению, чрезвычайно занят и не может посетить школу. Тогда Софья Владимировна сама пошла к Бугровым домой. В тот вечер мы с Глебом записывали на японский магнитофон джазовую музыку. Поймали какую-то станцию и записывали. Глебов отец в теплом капроновом халате сидел в кресле под торшером и листал свежие журналы. Сияющий апельсиновый халат переливался на нем аккуратно простеганными ромбами. — Учителка тут со школы пришла, — заглянув в столовую, сказала грубым мужским голосом седая домработница Мария. — Учительница? — откликнулся Глебов отец. — Что ж, пускай заходит. Он долистал журнал, отложил его и растер под халатом грудь. Не посмотрев в нашу с Глебом сторону, приказал тоном, не допускающим возражений: — Выключите там покамест свою шарманку. Поднявшись навстречу Софье Владимировне, Глебов отец величественно кивнул ей и попросил извинить, что принимает гостью в столь домашнем виде. Сесть он Софье Владимировне не предложил. Они так и простояли весь разговор: он — у торшера, она — у края огромного обеденного стола. Молча выслушав учительницу, Глебов отец сказал, что абсолютно согласен с ней, что поступок действительно безобразен и что он уже наказал сына: обещал купить ему к лету велосипед с моторчиком, а теперь не купит. — Но в то же время, простите меня, я запамятовал ваше имя и отчество, — сказал Глебов отец, — каждый человек должен уметь отстоять свое достоинство. Не мне вас, думаю, учить этому. Глеб, разумеется, поступил не лучшим образом. Он мог найти другой, более благородный способ выражения своего несогласия оскорбительными словами соученицы. Но молодо-зелено, дорогая. Что поделаешь? Подрастет — поумнеет. Я в его возрасте и не такое выкомаривал. Софья Владимировна ушла не попрощавшись. Она ушла, точно провинившаяся ученица из кабинета директора. И все потому, что Софья Владимировна тоже не умела поставить себя. Вернее, не то что не умела. Просто Глебов отец стоял выше всех. Так же, как и Глеб в нашем 8-м «б» классе. — Ну, решил задачку? — спросил у меня Боря, докурив папиросу и не зная, куда ее деть. — Не получается она, — пробурчал я. — Чего я сделаю? «От листа жести, имеющего форму…», — передразнил я автора учебника П. А. Ларичева. — Понапридумают черт-те чего, а ты за них голову ломай. Не могу же я целый день над одной задачкой сидеть. С отвращением оттолкнув тетрадку, я захлопнул задачник. — Вот-вот, — сказал Боря, снова открывая задачник. — Задачка не получается, кто виноват? Разумеется, автор задачника или тот же архитектор. Так? — Ладно тебе, — надулся я. — Вместо того чтобы помочь… Я так тебе по-настоящему помог, а ты сразу с ехидствами. — Да как же я тебе помогу, если ты чертиков в книге рисуешь, а не над задачкой думаешь? — сказал он. — Это не чертик, — буркнул я. — Кот. — Ну, котов. Давай-ка вместе попробуем разобраться. Значит, так: «От листа жести…» В это время в коридоре зазвонил телефон, и я дернулся от стола. — Сиди, — нажал мне на плечо Боря. — Так телефон же. — Сиди, без тебя подойдут. Нас с тобой дома нету. Или ты еще раз собираешься остаться в восьмом классе на второй год? Смею заверить, больше тебя не оставят. Но я все равно выскочил из комнаты и побежал к телефону. И не зря. Звонил Глеб. — Старик, — сообщил он, — я тут у твоего Вени Сипатого такую пленочку достал, подохнешь. Давай ко мне. Переписывать будем. Мой новый друг не любил долго ждать. А я уважал своего нового друга и никогда не заставлял его ждать долго.
Глава девятая АХ, ЗАЧЕМ ЛЮБИЛА Я!
На лесах гулял студеный ветер, сводил у меня пальцы в заскорузлых от извести брезентовых рукавицах. Я шлепал серой кашицей раствора в разводья отбитой штукатурки и размазывал густую массу лопаточкой-обрезовкой, похожей на червонное сердце с игральных карт. Под ногами шатко ходили сколоченные в щиты, заляпанные известью и краской доски настила. Рядом орудовала полутерком, кругами затирая сырую штукатурку, разбитная девчонка Люся Поперечная. — Ах, зачем любила я, — в такт с кружащейся в вальсе рукой мурлыкала себе под нос Люся, — зачем стала целовать? Хоть режь меня, хоть ешь меня, уйду к нему опять. Голова у Люси по-старушечьи, от бровей до подбородка, была обмотана теплым платком. Рябые и жесткие от пятен краски ватник и стеганые штаны делали ее похожей на водолаза. Штаны и ватник были велики Люсе.

Внизу по улице лился праздный поток людей и машин. Людям и машинам не было никакого дела до того, кто там мерзнет на лесах и что он там делает. Люди гуляли, заходили в кафе, торопились в кино, а я, как проклятый, с раннего утра шлепал и шлепал на старинный кирпич вязкую штукатурку. Какой это дурак сказал, что штукатурам лафа? И крепенько тем самым подкузьмил меня. Это тот дурак сказал, когда мама притащила меня за руку в профессионально-техническое училище. Прошлый раз она точно так же притащила меня в это училище. Но тогда Веня Сипатый чуть не вышиб Андрею Зарубину глаз. А на этот раз Зарубину ничего не вышибали. Все его глаза вместе с очками остались на месте. Но меня все равно исключили из школы. Вернее, не исключили, а решили, что дальше мне, дескать, учиться не имеет смысла. Закончил с грехом пополам восьмой класс — и до свидания. Мама в кабинете у заведующего районо закатила такой скандал — в сто раз похлеще, чем десять лет назад. Да оно и понятно. Десять лет назад хоть была более-менее веская причина для отчисления. А теперь? — Почему вы так кричите, Карпухина? — сказал маме заведующий. — Это не я кричу! — закричала мама. — Это крик души. — Что-то у вас душа больно крикливая, — нахально заметил заведующий и посоветовал маме определить меня в профессионально-техническое училище. Он так и сказал: «определить». И мне почудилось в этом словечке что-то зловещее. В прошлый раз мама тоже по совету заведующего определила меня в ПТУ, и я попал в сантехники. Трубы-рукомойники, краны-унитазы. Люди живут и радуются, а ты им унитазы в уборной устанавливай. Великолепная работенка! Да еще после училища меня сунули к такому прорабу — прокурор, а не прораб. То ему не так, это не этак. В другом каком деле подзамазал, подзаклеил — и полный порядок. Любого прораба-прокурора можно вокруг пальца обвести. А тут не обведешь. Тут (чтоб всем тем трубам перелопаться!) чуть недосмотрел — и уже капает. Ни одной такой проклятой специальности нет, как у сантехников. Все время капает. В часовой мастерской и то наверняка легче. Не дотянул там какой винтик — чепуха на постном масле. На минуту часы вперед, на минуту назад — какая разница? А тут капает. Ты ее, трубу проклятущую, и с паклей затягиваешь, и с краской, и с жидким стеклом — все одно капает. И хорошо еще, если только капает. А то фонтаном хлещет. Ну, у меня и нахлестало. В новом доме. Пять этажей насквозь. И свои же ребята, сантехники, на товарищеском суде такое потом несли, вспомнить противно. — Безответственность! Халатность! Безграмотность! Особенно меня умилило про безграмотность. Ну, конечно же, чтобы унитаз в уборную воткнуть, высшую математику нужно знать, академиком быть. Жуть, какие мне попались гениальные ребята — сантехники. У меня даже, как у Вени Сипатого, появилось тогда желание после суда почистить кому-нибудь из них, самому умному, чайник. Да не стал связываться. Все равно они ничего не поймут, эти унитазные академики. Вот почему, когда на этот раз мама притащила меня в профессионально-техническое училище, я наотрез отказался учиться на сантехника. — На кого угодно, — заявил я, — только не на сантехника. Тут какой-то дурак и подвернулся со своим «лафа штукатурам». Я подумал, может, им и вправду лафа. А теперь вот должен мерзнуть на лесах. Изумительная работенка! Обновлять какие-то идиотские фасады. Раньше я и не замечал, что у домов есть фасады. С лепкой, с разными голыми дядями-тетями, с заковыристыми фиглями-миглями. Ручкой обрезовки штукатурку простучи. Бухтит она или не бухтит? Если бухтит, отбей. Место почисть, водой смочи, штукатуркой залепи, глянец наведи. Тьфу! Чтоб она вообще вся поотвалилась, эта штукатурка, вместе с ее дядями-тетями и фиглями-миглями. И какой только идиот придумал штукатурить стены? Будто без штукатурки жить нельзя! Самого бы его заставить поторчать целый день на лесах да пошлепать раствором. Я шлепал. Размазывал лопаточкой-сердечком вязкое тесто, снова шлепал и слышал, как напевает рядом Люся Поперечная: — Ах, зачем любила я, зачем стала целовать… Я шлепал, и мне хотелось плакать. От обиды, от холода, от того, что тот случайный обормот блямкнул, будто штукатурам лафа.

Вон кому лафа, так действительно лафа — седому бородачу за окном. Я уже который день видел этого бородача. Сам молодой, а голова и борода седые. Сидит себе в тепле и стучит на пишущей машинке. На потолок посмотрит, бороду почешет и снова стучит. Писатель, наверное. Книжонки сидит в уюте выстукивает. Которые потом никто читать не станет. А ты ему дом штукатурь, чтобы ему лучше стучалось. Вылез бы взял со своей бородой на леса да поштукатурил. А смотреть в потолок и пальцем в машинку тыркать — это любой согласится. Не пыльная работенка. И денег небось платят, не то что штукатуру. — Карпухин, — сказала Люся, перестав петь про то, зачем она любила и зачем стала целовать, — а Карпухин. Ты в счастье веришь? — Еще как! — отозвался я. — Хы-хы-хы-ы! — А я верю, — сказала Люся. — Я невезучая только. Не везет мне очень. А тебе, Карпухин? — Мне везет, — сказал я. — Как все равно в сухумском обезьяньем питомнике. Только там хоть не заставляют орангутангов стены штукатурить. И кормят задарма. Хы-хы-хы-ы! Под тяжелыми шагами загрохотали доски настила. По шагам я сразу угадал бригадира. Так ходил у нас один он — бух-бух! Остальные в бригаде были девчата. — Проверочка идет, — буркнул я. — Сейчас извержение вулкана начнется. Бригадир Юрий Николаевич чем-то походил на того прораба, с которым я работал, когда был сантехником. Они все схожи в одном, эти начальнички, как все равно учителя в школе. В школе каждый учитель убежден, что его предмет самый главный. Хоть тебе физика, хоть география, хоть даже история. И эти начальнички в ту же дуду. Для того прокурора без сантехники, считай, сразу можно было ложиться и помирать. Ничего в мире не было для него выше рукомойников, ванн и унитазов. А у этого свет клином на штукатурке сошелся. Говорят, дома целую библиотеку по штукатурным работам накопил. Наверное, по ночам изучает как лучше на стенку раствор шлепать — слева направо или справа налево. — Карпухин, — ковырнув лопаточкой-мастерком стену, проговорил бригадир Юрий Николаевич, — что же ты, к богу в рай, опять делаешь? За спиной мне у тебя стоять, да? Что ты делаешь, я спрашиваю? — Штукатурю, — сказал я. — Чего. — Штукатуришь? — с места в карьер завелся бригадир. — Не штукатуришь ты, а халтуришь! Сколько раз тебе говорено: края старой штукатурки следует смачивать водой до полного насыщения. А ты! К богу в рай! Ведь не успеют леса снять, трещины по стенам пойдут. Хотя немного о марке бригады ты думаешь? — Юрочка, — кокетливо проговорила Люся, — вы лучше за моей спиной постойте. Чего вы с утра до вечера возле Варьки Фомичевой толчетесь? Неужто она симпатичней меня? Все у нас в бригаде величали Юрия Николаевича на «вы». Он обращался к нам на «ты», а мы ему говорили «вы». Как какому-нибудь министру. Хотя «министр» был старше меня всего лет на пять. — Не егози, Поперечная, — отрезал бригадир. — Занимайся своим делом. И запомни раз и навсегда: я тебе не Юрочка. — Фу, какой вы, однако, нечуткий, Юрий Николаевич, — надула губы Люся. — Такой видный из себя и такой не джентльмен. Прямо даже удивительно. Видный, но не джентльмен строго кашлянул, посмотрел на Люсю и ничего ей не ответил. Повернувшись ко мне, он завел свою обычную шарманку про то, что бригада у нас комсомольско-молодежная, что мы соревнуемся с бригадой Томилина, что социалистическое соревнование — это и качество, и экономия материалов, и сроки. Все это я уже слышал тысячу раз. Но он вертел свою шарманку и ловко сковыривал еще не затвердевшую штукатурку. Серые пласты шмякались на доски, раскалывались и сыпались по этажам вниз. — Переделать! — грубо сказал министр. — Чтобы полный ажур был, к богу в рай. Деревянные щиты снова загрохотали под его сапожищами: бух-бух! А Люся нахально замурлыкала Юрию Николаевичу в спину: — Ах, зачем любила я, зачем стала целовать? Если и так-то шлепать раствором на стену — каторга, то переделывать по сто раз одно и то же — вообще чистейшее смертоубийство. Я даже подумал: взять вот и назло нашим ха́мам-начальникам спрыгнуть с лесов, с четвертого этажа. А этот министр Юрий Николаевич пусть потом отвечает. Еще записочку на всякий пожарный оставить: покончил, дескать, с собой из-за нечуткого бригадира. Но я все же не стал кидаться с четвертого этажа. И реветь не стал, хотя мне, честно говоря, очень хотелось пореветь. Может, если бы рядом не торчала Люся, я бы и вправду чуточку поревел, отвел бы душу. А так я лишь подумал о маме, пожалел, что ее нету рядом. Мама бы живо сказала этому разминистру Юрию Николаевичу пару ласковых. Чтобы знал. Чтобы относился к своим подчиненным с уважением, подход имел. Понять он, конечно, все равно бы ничего не понял. Но хоть заткнулся бы. В обед Люся сгоняла в магазин за молоком и булками. Прибежала в обнимку с треугольными молочными пакетами, повертела головой, зашептала мне в ухо: — Ура, халтурка есть, Карпухин! Тетка тут ко мне подошла, комнату просит отремонтировать. В половине пятого будет нас вон в той подворотне ждать. — А делать-то чего? — поинтересовался я. — Тише ты, — зыркнула по сторонам Люся. — Не знаю я — чего. Там на месте разберемся. И о цене договоримся на месте. Как всегда. Чего я буду заранее-то торговаться? Почему-то на улице ни к кому не обращались насчет ремонта, с просьбой достать белил или шпаклевки. А к Люсе Поперечной обращались все время. Мы с Люсей уже не одну квартиру побелили и оклеили обоями. И белил со шпаклевкой на стройке позаимствовали. Должно же даже в самой поганой работе быть какое-то свое удовольствие. А белил — их вон сколько на лесах. Целые бидонищи, словно на молочной ферме. Ровно в половине пятого, когда уже начало темнеть, мы с Люсей завернули в подворотню. — Пришли? — простуженным голосом сказала женщина с большой хозяйственной сумкой. — Вот и хорошо, что пришли, не обманули. Идемте, тут рядом. В темноте я не разглядел женщину, но голос ее, грубоватый, будто прокуренный, показался мне знакомым. — Комната большая, — говорила женщина, по-мужски вышагивая впереди, — сорок два метра. Перегородили ее. Теперь подмазать да оклеить нужно. Ну, вы сами знаете что к чему. Обоев я купила. Обоев должно хватить. Правда, неважнецкие обои. Она оглянулась, и я испуганно остановился, будто споткнулся. Мне не хватало только этого — чтобы разнесли среди знакомых, будто я направо и налево халтурю. Хуже нет — связываться со знакомыми. — Погоди, — придержал я Люсю. — Ты, знаешь, давай одна иди. Я не пойду. Но бугровская домработница Мария уже тоже узнала меня. Я-то надеялся, что она, может, и не узнает. — Ты? — ахнула она с такой радостью, будто повстречала пропавшего без вести собственного сына. — Славик Карпухин? Штукатуром, мальчик, работаешь! Ай, молодчина! Не то, что наш. Ты слышал, что наш-то накуролесил? Неужели не слышал? И, словно опасаясь, что я не дослушаю и удеру, она загудела про Глеба. Оказалось, Глеб, не закончив девятого класса, попал в колонию. Весной ребята организовали за городом пикник, подвыпили, и Глеб ударил Нелю Малышеву по голове бутылкой из-под портвейна. Ударил так, что пробил череп. Старший Бугров попытался притушить дело, нажать на прокуратуру. Но кончилось тем, что его самого освободили от занимаемой должности. От квартиры Бугровым оставили лишь одну комнату, их бывшую столовую. Вот ее-то и перегородили. — Сам в больнице сейчас лежит, с сердцем, — закончила Мария. — Попросил меня комнату до ума довести. Жена к своей матери уехала, в Новороссийск. Ей тоже не сладко. Я одна и кручусь. Не бросишь же людей в такую минуту. Они для меня тоже много сделали. Зачем она мне все это рассказывала? Будто мне интересно. Я стоял и молча разглядывал свои заляпанные краской ватные штаны. Мне было стыдно, что бугровская домработница встретила меня в таком виде. — Так чего ты стал-то? — сказала она. — Ты не представляешь, как я рада, что встретила именно тебя. И не только потому, что по старой дружбе ты сделаешь все лучше, чем кто другой. Не только поэтому. Когда в семье вот такое, всегда приятно, что старые друзья не оставляют в беде. Кто я им? По сути дела, чужой человек. А ведь тоже жалко. Ну, чего ты набычился-то? Идем. Я вас сейчас и чаем угощу, с холодка-то. — Застеснялся он, — вставила ехидина Люся, которую никто не просил вмешиваться. — Ему, видите ли, стыдно, что он прирабатывает. Так-то он не прочь, но только чтобы никто не знал. А чего стыдиться? Мы в нерабочее время, по-честному, своими собственными ручками. Правильно я говорю? — Да ясно же, правильно! — подхватила домработница Мария. — Чего тут стесняться? И деньги мне на это дело отпущены. Все равно их кому платить. А рабочий человек никогда никакой работы не стесняется. Вот возьми меня… Она так разговорилась, что даже положила мне на плечо руку. Но ястряхнул ее руку и сказал: — Чего вы, в самом деле? Разве я из-за этого? Я не стесняюсь. Но у меня вообще-то никакой настоящей дружбы никогда с вашим Глебом не было. Это вы на меня не наговаривайте. — Как? — вытаращила глаза Люся. — Как не было? Ты же мне столько рассказывал про Глеба. Ух, какой же ты, оказывается… Подонок ты, оказывается, Карпухин! Вот ты кто. Ой, вот уж, ей-богу, никогда не думала, что ты такой подонок. — Ну и иди, и делай им! — огрызнулся я. — Чего я, обязан, что ли? И еще обзывается! — И пойду! — зло топнула ногой Люся. — Идемте, тетя Мария. Я вам сама все сделаю. Вы мне немножечко поможете, и я сделаю. Не хочется, чтобы вы подумали, будто у нас все, как этот Карпухин. Вот ведь Поперечная! Живенько сориентировалась в обстановочке. Ремонт решила сделать с помощью тети, а денежки положить себе в карман целиком. Даже и тут выгадала!
Глава десятая ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ
В тихом полумраке казармы похрапывали и сопели уставшие за день солдаты. Две синие лампочки тускло освещали ряды двухэтажных коек, тумбочки между ними и аккуратно сложенное в ногах на табуретках нехитрое солдатское обмундирование. Пахло сыромятной кожей, машинным маслом и подсыхающими портянками. При входе в казарму, на столе у дневального, неярко горел под зеленым колпаком ночник. Он освещал черный телефонный аппарат без диска и придавленные кусочком стекла инструкции и распорядок дня. В круг света попадала часть пирамиды с лакированными прикладами автоматов и сам дневальный, рядовой Саакян, с повязкой на рукаве гимнастерки и с плоским штыком в ножнах у ремня. Чтобы не задремать, Саакян вышагивал от пирамиды к бачку с питьевой водой, и расплывчатая тень от него ломалась о койки, скользила по крашеным половицам. Не спуская глаз с Саакяна, я протянул руку к тумбочке и приоткрыл дверцу. Пальцы нащупали в темноте пол-литровую банку и рядом с ней — пачку печенья. Банку с вишневым вареньем я поставил на грудь у самого горла. И накрылся с головой одеялом. Я доставал из пачки печенье, макал его в банку с вишневым вареньем и сосал. Это было вкусно, но не очень удобно — есть вот так, лежа под одеялом на спине. И еще было обидно. Свое же собственное, а ешь, словно какой-нибудь последний ворюга. Однако поступить иначе я не мог. В прошлый раз, десять лет назад, я тоже попал в этот же взвод, к старшине Фотееву. Это не в профессионально-техническом училище, тут не скажешь: туда не хочу, сюда хочу. В армии не очень спрашивают, куда ты хочешь. А что тогда получилось из-за маминых посылок? По сути дела, только из-за них у меня поломалась вся служба. Мама, как и в этот раз, присылала мне тогда в посылках копченую колбасу, сгущенное молоко, печенье, шоколад, варенье, папиросы. Всего понемногу. Если поделиться с товарищами, то мне бы самому досталась половинка печенины да одна папироса. Вон во взводе сколько гавриков! Нужно было вообще ничего никому не давать. А я не подумал и угостил своих соседей — Роальда Гурина, которого все звали Роликом, и Сурена Саакяна. Маленький шустрый Ролик, гитарист и задира, спал надо мной, а хмурый горбоносый Сурен — рядом. Ролик кивнул, проглотил свои две печенины с кусочком шоколадки и задринькал на гитаре. А Сурен взял гостинец, подержал его на ладони и строго сказал: — Спасибо, хороший человек. На Кавказе у нас тоже так: мое — это всегда твое. Самый лучший кусок — другу. Такой кавказский закон. Он разломал печенье и шоколадку на малюсенькие кусочки, обошел казарму. Протягивал каждому крошку, приговаривал: — Пробуй. Карпухину мама подарок прислала. И Ролик тоже оказался хорош. Вместо того чтобы сказать спасибо за угощение, запел, когда Сурен обходил казарму, издевательскую песенку:
Песенка, конечно, не относилась впрямую ко мне. Я это понимал. И поэтому ничего не сказал Ролику. Не хватало еще, чтобы я сделал вид, будто песенка меня как-то задела. Но обиделся я на Сурена с Роликом страшно. И со следующих маминых посылок я уже больше ничего не давал своим соседям. За что, интересно, я им должен был давать? За дурацкую песенку? Прячась по разным углам, я сам съедал колбасу и шоколад. Только разве от вездесущих солдат спрячешься? — Вкусно? — застав меня в укромном местечке жующим, нагло интересовались они. — Ты питайся, питайся, Карпухин. Ты не стесняйся. Однако смотри и не переешь, бедненький, а то огрузнеешь, и на марше твой «урал» снова забуксует. Что ты тогда будешь делать, если он снова забуксует? Остряки-самоучки! Они гоготали и распевали песенку:
Разве это служба? Какой-то ад, а не служба. Ну почему в Ленинграде можно купить на улице пирожок, съесть его, и никто не подойдет к тебе и не станет заглядывать в рот? Почему там никто тебя не насилует, ничего тебя не заставляет делать и не тычет носом в складки на одеяле? А тут койку заправь, обмундирование погладь, подворотничок пришей, пуговицы надрай. И еще машина тебя в гараже дожидается. И чтобы она тоже сверкала. А кто казарму убирает, двор, отхожее место? Кто автомат смазывает? Кто картошку на кухне чистит? Кто в карауле стоит? Кто дневалит? Кто вскакивает ночью по тревоге? Кто задыхается на марше в противогазе? Разве такое под силу одному человеку? Но мне не только попросту не хватало сил, мне еще и элементарно не везло. На марше сбилась в сапоге портянка, и я натер ногу. Во время учения мой «урал-375» забуксовал на кромке болота и отстал от подразделения. Разве я виноват, что «урал» засел задними колесами в трясину? За «Уралом» прислали тягач. А старшина Фотеев сказал мне после разбора учения: — Запомните, рядовой Карпухин: в жизни везет лишь сильным, а слабых приходится вывозить. Он был тупым и до жестокости безжалостным, этот ходячий устав старшина Фотеев. Выше всего на свете он ставил приказ. И никаких причин, которые бы помешали выполнить приказ, для него не существовало. Он даже слушать не желал ни о каких причинах. — Умри, но сделай, — говорил Фотеев, до которого не доходило, что если ты умрешь, то уже ничего не сделаешь. А мне порой действительно хотелось умереть. По самому настоящему. Например, когда я стер на марше ногу. Я уже больше не мог. Я сорвал с лица липкую от пота противогазную маску и в изнеможении упал на пожухлую, прихваченную морозцем траву. — Встать, — тихо сказал надо мной старшина. — Надеть противогаз. Вперед. — Не могу я, — чувствуя, что действительно вот-вот помру, всхлипнул я. — Ну, не могу. Честное слово. Конец. Нога. — Надеть противогаз. Вперед! — выбросил, как полководец, руку старшина. — Бегом. И он еще считал себя человеком, наш старшина! Чего в нем было человеческого? Не помню уж, как я сумел снова натянуть на лицо резиновую маску и подняться. Я поднялся и, прихрамывая, побежал. В каком-то бреду. А под маской у меня вместе с потом текли по лицу слезы. Нет, какая все же изумительная жизнь была у меня до армии! Я вспоминал ее каждый день, каждую минуточку. Денег я, правда, зарабатывал не так уж много, даже вместе с халтурой. Но мама никогда не брала у меня ни копейки. И я купил себе портативный магнитофон на транзисторах, сшил в ателье выходной костюм и даже приобрел в комиссионном два старинных бронзовых подсвечника. Сорок рубликов отдал за пару. — Очень красивые, моя ласточка, — похвалила мама подсвечники. — Очень. У тебя хороший вкус. Моя ласточка! В письмах мама тоже все время называла меня ласточкой. А я читал и каждый раз чуть не ревел. Мама присылала мне прямо в конверте вместе с письмом то три рубля, то пять. «На папиросы, — писала она. — И погулять в увольнении». Но трешку, естественно, можно тихонечко вынуть из письма, и никто не заметит. С посылкой же посложнее. Ее в карман не спрячешь. Куда с ней деваться? Другим солдатам, правда, тоже присылали из дому посылки. Но они, кретины, вываливали содержимое посылок на стол и кричали: — Навались, братва! И через пять минут от посылок оставались рожки да ножки. Родители из последнего выкраивают, себе отказывают, а их детки швыряются. Чужим добром, ясное дело, легко швыряться. Только родителей уважать нужно, слушаться их. Мама мне в каждом письме напоминала:
«Это я посылаю тебе, а не на весь полк. Я знаю, какой ты добрый. Ты готов раздать все, что у тебя есть. Угостить ты, конечно, товарищей можешь. Но помни, что мне тоже не легко справлять эти посылки. С неба они мне не валятся. А твой папочка ты сам знаешь какой».И тогда, десять лет назад, были такие письма, и теперь. Но тогда я совершил непростительную промашку: угостил Ролика с Суреном. И с этого все началось. Человек так устроен, что ему нельзя давать немножко. Дай ему немного, ему сразу захочется больше. Дай больше, захочется еще больше. Поэтому лучше вообще ничего не давать. Чтобы зря не дразнить. Но я тогда не знал этого и крепенько влип. Ролик каждый вечер издевательски бренчал на гитаре:
На этот раз я делал умнее. Я съедал мамины гостинцы по ночам. Спать, конечно, хотелось тоже. Но я приспособился. Я «добирал» на политинформациях, на занятиях и в часы ухода за материальной частью. Чего за ней так уж ухаживать, за материальной частью? «Урал» почти новенький. Протер его чуток ветошью — и загорай в кабине. Лежаночка в кабине что надо — мягкая, на пружинах. Захлопнул дверцу, свернулся калачиком — и миль-пардон. А ночью, когда все спят, можно полакомиться. И никто тебе не заглянет ночью в рот. Потому что ночь — это единственное время, когда солдат принадлежит самому себе. Я макал печенье в банку с вареньем и сосал. Банка стояла на груди под одеялом. Печенье набухало и расплывалось во рту сладкой кашицей. Было тепло, уютно и вкусно. Словно дома у мамы. У родной любимой мамочки, которая сразу угадывала, когда мне худо, и всегда вставала на мою защиту. Как это, оказывается, важно, чтобы в тяжелую минуту кто-то вставал на твою защиту! В армии никто не защитит тебя, не пожалеет. В армии служат одни такие сухари, как старшина Фотеев, у которого вместо сердца устав внутренней службы.

Что вдруг случилось, я сообразил не сразу. То ли я задремал с печениной во рту, то ли унесся мечтами слишком далеко от грубой казармы. Никак в первое мгновение не мог разобрать, что к чему. — Тревога! — рявкнул над самым моим ухом Сурен Саакян. — Боевая тревога! Все-таки старшина Фотеев сумел сделать из меня солдата. Когда солдату дают команду, он не размышляет, он мгновенно выполняет ее. Крик дневального рывком сдернул меня с койки. И банка с вишневым вареньем опрокинулась на матрац. По простыне расплылось липкое бордовое пятно. — Быстрее! Быстрее! — поторапливал солдат дневальный. Застегиваясь на ходу, бойцы хватали из пирамиды автоматы и выскакивали на улицу. Я суматошно прикрыл пятно одеялом и тоже побежал вслед за всеми из казармы. С черного неба падал редкий сухой снежок, скрипел под тяжелыми кирзовыми сапогами. Старшина Фотеев взмахнул рукой: — По машинам! Темными прямоугольниками распахивались ворота гаражей. Гудели стартеры. Взрывались на больших оборотах моторы и дизеля, чадили угарным дымом выхлопов. Из ворот уже одна за другой выкатывались машины. А мой «урал» не заводился. Я в отчаянье жал на стартер, дергал подсос, но мотор словно умер. В желтом кругу света под фонарем стоял с секундомером в руке старшина Фотеев. Когда в гараже осталась одна моя машина, он подошел к дверце, щелкнул секундомером, сунул его в карман шинели и тихо сказал: — Выходит, воевать с противником в гараже под крышей будем, рядовой Карпухин? — Так не заводится же, товарищ старшина, — выдохнул я. — Это все из-за младшего сержанта Свиридова, наверное. Бензин он мне, наверное, не тот подсунул. — Ясно, теперь из-за Свиридова, — поиграл желваками старшина. — А третьего дня вы говорили из-за кого? Умри, но вверенная тебе боевая машина должна завестись в любую минуту дня и ночи. Когда вы уже усвоите это? — Да я усвоил, — сказал я. — Но что поделаешь, если… Однако старшина любил говорить лишь сам. Других он слушать не любил. Культуры у него не было ни на грош. Не дослушав, что я хочу ему сказать, он отошел. Во дворе уже гремела команда «отбой». Машины поползли обратно в гаражи. Выскочив из кабины, я бросился через двор и первым оказался в казарме. Сунул в пирамиду автомат, кинулся к своей койке. Пустую банку из-под варенья спрятал в тумбочку. И горестно согнулся на табуретке. Как теперь спать дальше в луже варенья? И вообще что дальше? Солдаты с гомоном и шутками скидывали гимнастерки, ныряли под одеяла. А я сидел. И тупо смотрел в пол. — Ложитесь, Карпухин, — появился передо мной старшина Фотеев. — Утром разберемся. Приятно уже то, что первый раз вижу вас таким убитым. Значит, наконец-то что-то поняли. Ложитесь. Завтра перед обедом проверю вашу машину. Если окажется в полном порядке, обещаю ни о чем не докладывать капитану. Ложитесь. Но куда мне было ложиться? Я стоял перед старшиной и, опустив голову, царапал ногтем краску на стояке койки. И тут с верхотуры раздалась знакомая песенка. Правда, без гитары. Я даже весь сжался, услышав ее.
— Отставить! — поднял голову старшина. — Отбой! — Так Карпухину ж, товарищ старшина, все равно ложиться некуда, — противно хихикнул Ролик. — Поглядите, что у него под одеялом-то. Старшина откинул одеяло и поморщился. Он поморщился так, словно увидел там не варенье, а невесть что. Не глядя на меня, тихо сказал: — Отправляйтесь стирать, Карпухин. Простыни, одеяло. Матрац распороть, вытряхнуть, выстирать и набить свежим сеном. Идите. — Так не успеет же высохнуть, — чуть ли не простонал я. — Где же я спать-то буду? И когда? Но что нашему старшине до того, буду ли я вообще спать или нет. — Идите, — сухо повторил он. И я побрел в туалетную комнату. Весь взвод спал, а я стирал. До утра. В ледяной воде. Стирал и думал о маме. Мама бы никогда не разрешила мне стирать простыни. И тем более ночью. В этом чужом бездушном мире она была единственным человеком, который понимал меня и жалел.
Глава одиннадцатая ТАНЯ КАПРИЧЧИОЗА
Так было и в прошлый раз и в этот. Но в этот — лишь до того счастливого мгновения в электричке. Дальше я повернул все иначе. Я знал, как нужно поворачивать. И что говорить. А Таня… Ой, какая это была изумительная девушка, Таня! Таня Каприччиоза, как я назвал ее. Бесподобная, волшебная, божественная Таня! Моему сменщику на ЗИЛе Васе Рыжову стукнуло двадцать два. В армии я получил водительские права и, демобилизовавшись, устроился работать на автобазу. Нам с Васей достался неплохой грузовик — ЗИЛ-130. Не машина, а зверь. Пять тонн в кузов, и по прямой до девяноста километров в час. А без груза, на шоссейке, я запросто обжимал «москвичей» и «запорожцев». Вася жил в Павловске. Он пригласил меня к себе на день рождения к трем часам. В воскресенье. Теплым и радостным выдалось самое счастливое мое воскресенье. Из зеленых вагонов электричек лились толпы народу с букетами сирени. На площади перед Витебским вокзалом продавали красные тюльпаны. Деловитые трамваи, троллейбусы и автобусы замедляли на площади бег, добродушно распахивали на остановках створчатые двери. В тот раз я купил в подарок Васе зажигалку. Удобно, когда сидишь за рулем, прикуривать от зажигалки. И куда проще, чем со спичками. А бензин — так не на автобазе же плакаться о бензине. У меня была зажигалка, а у Васи нет. Вот я и купил своему напарнику огонек в дорогу. Но это в прошлый раз. В этот я отправился из дому без подарка. Я знал, что не попаду к Васе на день рождения. Меня ожидала более приятная встреча. Зачем же зря тратиться на подарок, который все равно не доведется вручить? Я волновался. Очень. И не только в само воскресенье. Я начал волноваться уже месяц назад. А вдруг что-нибудь случится не так и не произойдет той изумительной встречи? Вдруг на минуту задержится поезд? Или Таня прибежит на вокзал на несколько секунд раньше. Всего на несколько секунд! И сразу рухнет идущее в руки счастье. — Куда ты собираешься? — спросила мама. — Позвонил бы Машеньке, пригласил ее в кино или на танцы. Такая красавица, скромная, из приличной семьи. Не понимаю, куда ты смотришь и чего тебе еще нужно? Если бы я знала, что ты будешь так к ней относиться, я бы тебя и знакомить с ней не стала. Не стала! Будто мою мамочку просили с кем-то меня знакомить. Огромное мерси моей мамочке за скромницу Машеньку. Моей мамочке было нужно только одно: поселить меня в отдельную квартиру. А как там дальше, ее не печалило. Но я-то отлично знал, как быстро Машенька преобразится в Маруську. И какая из нее получится жена, из этой застенчивой скромницы с отдельной квартирой. Отец молча лежал на диване, курил и пускал колечками дым. Сизые колечки извивались, вырастали в большие прозрачные кольца и постепенно растворялись в воздухе. В углах под потолком покачивались, будто водоросли в море, нити паутины. Обеденный стол, как всегда, топорщился горой грязной посуды. По тарелкам шныряли мухи. — Что у тебя с Машенькой? — сказала мама. — Вы с ней поссорились, да? Из-за чего? Ты меня слышишь, Гремислав? — Ага, слышу, — отозвался я, разыскивая между кастрюлями и мамиными шляпками обувную щетку. — Не ссорился я с ней, ма. Успокойся. Зачем ссориться с красавицами из приличных семей? Да еще если квартиру в приданое обещают. Хы-хы-хы-ы! — Гремислав! — прикрикнула мама. — Опять? — Но и жениться на ней я тоже не собираюсь! — огрызнулся я. — Не надейся. И когда у нас уже, черт подери, будет дома порядок? Ботинки нечем почистить. Батя, ты щетку не брал? — Нет, — буркнул с дивана отец. — Он возьмет, так не скажет! — возмутилась мама и бросилась на поиски щетки. Но я не стал дожидаться, когда мама разыщет пропавшую щетку. Стукнув дверью, я отправился за щеткой к соседям, к Боре с Ниной. К тем самым Боре с Ниной, которые поженились только благодаря мне и были мне многим обязаны. А что? Если бы не я, жила бы сейчас Нина с лысым инквизитором Александром Семеновичем и кукарекала. Пригодилась же вот на что-то моя встреча с психом-физиком. Дочка Светланка растет у Бори с Ниной, шестой год уже ей. И все спасибо физику-шизику. И что у Андрея Зарубина глаз не пострадал, тоже ему спасибо. И что я в сантехники не попал — тоже. И что мама впустую со своей Машенькой старается, опять тем же концом по тому же месту. Но главное, конечно, Таня. Главное, что Таня увидит теперь во мне совсем другого человека, такого, с которым интересно, который ей нужен, который начищает у ботинок не только носы. Мама, она чего так из-за Машеньки разоряется? Ясно чего. Машенькин отец обещает в приданое дочке построить кооперативную квартиру. Вот мама и вылезает из себя. Но я-то отлично знал, какой рай получится в той кооперативной квартире. Не успели мы в нее въехать, как милая Машенька вмиг позабыла, что теперь она должна жить для меня, а не для себя. На уме у нее оказались одни деньги да наряды, больше ничего. Регулярно, два раза в месяц, истерики со слезами: почему я не даю ей денег? А в честь чего я ей обязан давать? Сама зарабатывает не меньше. Не хватает, так нужно реже по магазинам шастать. И потом папочка у нее имеется зажиточный. Денег у него куры не клюют. Желает, чтобы доченька была счастлива, пусть раскошеливается. А я тут ни при чем. Я никаких обещаний насчет денег не давал. Да и какие вообще у меня деньги? Я и маме-то никогда не давал денег. Самому еле хватало до получки. Так с Маруськой в конце концов вон до чего дошло: вернусь я с работы, а в холодильнике пусто. «Я тебя не обязана кормить». Ничего себе жена, которая ничего не обязана! Но вообще-то я тогда, наверное, женился на Маруське не только из-за мамы. Мама, правда, была первой заводилой. В основном я, конечно, женился из-за Тани Каприччиозы. Со злости. Ведь как тогда получилось с Таней. Я купил в подарок Васе Рыжову зажигалку и поехал в Павловск. В точно такое же вот солнечное воскресенье. Народу в поезде было не очень много. Электричка уходила в 14.07. До ее отправления оставалось минуты две. Я стоял в тамбуре вагона и курил. У раскрытых дверей. По асфальту перрона, выбиваясь из сил, марафонили потные дачники. С сумками, рюкзаками, с распухшими, как гигантские ананасы, сетками. Я недавно по знакомству приобрел заграничные темные очки, и сквозь очки дачники казались мне мрачными и совершенно очумелыми. Они бросались в вагоны с такими лицами, будто этот поезд был последним в их жизни. — Электропоезд следует до станции Павловск, — пробубнил в репродукторе мужской голос. — Осторожно, двери закрываются. Вагон тронулся мягко, почти без толчка. Он поплыл с подвыванием, быстро набирая скорость. Зашипел в пневматической системе воздух, двинув одну к другой окантованные черной резиной половинки дверей. И в тот же момент на асфальте мелькнула красная босоножка, белое платье, светлые, бьющиеся на ветру волосы. Я машинально схватил протянутую руку и помог девушке вскочить в тамбур. Девушка успела прыгнуть в вагон, юркнув между сходившимися половинками дверей. Но в тот же момент створки сошлись, зажав оставшуюся снаружи ее правую руку. В руке девушка держала футляр скрипки. Она могла вот-вот выронить его. Раздвинуть тугие половинки дверей оказалось не так уж трудно. Но и не очень легко. Я раздвинул их. Рука со скрипкой попала в вагон. Двери снова стукнули. — Спасибо, — произнесла девушка. — Какой вы сильный! И решительный. Вы знаете, что вы спасли? — Хы-хы-хы-ы! — радостно отозвался я, действительно вдруг почувствовав себя удивительно сильным и решительным. — Вы спасли скрипку, которую делал сам Батов, — сказала девушка, растирая руку. — Вот, смотрите. Щелкнули замочки футляра, откинулась крышка. В гнезде зеленого, вытертого на сгибах бархата уютно лежала янтарно отливающая темным лаком скрипка. — Вам больно? — спросил я. Она посмотрела на меня чистыми синими глазами и закусила нижнюю губу. — Немножечко. Но что моя рука по сравнению с этой скрипкой? Папа как чувствовал, не хотел мне сегодня давать ее. Иван Андреевич Батов — это же русский Страдивари! Никто в России не делал скрипок лучше его. Вы любите музыку? — Ну! — сказал я. — Маг у меня есть, на транзисторах. Музычку я записал дай-дай. — А скрипку любите? — Гитара лучше, — сказал я. — Гитара? Но как же можно не любить скрипку? Вы, наверное, шутите. Моцарт, Чайковский, Сен-Санс. Я без ума от Сен-Санса, особенно от его «Интродукции и рондо каприччиозо». Это вершина человеческого гения! Такое можно создать лишь на пределе какого-то удивительного, почти сумасшедшего взлета чувств. Она говорила о Сен-Сансе, о его «Рондо каприччиозо», и словно сама уносилась куда-то в неземные выси, в беспредельный океан восторга, в светлую, захватившую и меня радость. — Жаль, что я никогда не слышал вашего Сен-Санса, — буркнул я. — Да? — полыхнула она синью глаз. — Счастливец! Вы сами не представляете, какой вы счастливец! Да, да, да! И не спорьте. — Это почему же счастливец? — обиделся я. — Но у вас же все впереди! Знаете, я постоянно завидую мальчишкам и девчонкам, которые еще не читали Пушкина, Ромена Роллана и Экзюпери, которые еще не слушали Моцарта, Чайковского и Сен-Санса. Да, да, да! У них впереди так много открытий! Ведь каждый из нас всегда заново и по-своему открывает для себя Пушкина и Сен-Санса. Правда? Вот кто для вас из художников был величайшим открытием, самым величайшим? Кто больше других ошеломил вас, потряс, перевернул? Кто? — Из художников? — хмуро переспросил я, чувствуя, что тону, и ощущая отчаянное желание спастись. Спастись во что бы то ни стало. Чтобы лишь попросту дышать вместе с этой восторженной синеглазой девушкой одним воздухом. Чтобы лишь попросту стоять рядом с ней. Я назвал Репина. Я никого больше не знал из художников, никогда как-то не задумывался, зачем они вообще существовали и существуют. Картинки малевать? Так можно великолепно прожить и без картинок. Ей почему-то не понравилось, что я назвал Репина. Она вся сразу как-то взъерошилась. «Почему Репин? Репин всегда был непревзойденным рисовальщиком, но не поэтом. Он не умел сходить с ума, отрываться от земли. Художнику всегда нужно уметь отрываться». Она даже слова не договаривала от возбуждения. И набросилась на меня с вопросами. Как я отношусь к Рафаэлю, к Мурильо, к Валентину Серову? «И потом, — сказала она, — давайте понимать «художников» в широком смысле этого слова, относя к ним не только живописцев, но и актеров, музыкантов, писателей». — Из писателей мне, пожалуй, больше всех нравится Лермонтов, — неуверенно проговорил я. Но она, чудачка, снова заспорила. Будто я ей что-то доказывал. Лермонтов, безусловно, велик, распалилась она. Никто этого от него не отнимает. Но он слишком угрюм и мрачен. Он чем-то близок к Достоевскому, хотя намного светлее его. Она не любила книг Достоевского так же, как музыки Вагнера. Ее влекли лишь чистота и свет. И она сама была воплощением чистоты и света. Вагон раскачивало и толкало. Радостно стучали и напевали под ногами колеса. Электричка неслась сквозь поля и дачные поселки, останавливалась у высоких платформ. Весело распахивались и защелкивались двери. И весь окружающий меня мир сделался светлым, как солнечный луч и голубое небо. Потому что в центре мира стояла она, эта чудом впорхнувшая в мою жизнь студентка консерватории по имени Таня. Синеглазая, с беленькой челкой, переполненная неземным сиянием и волшебством. — Вы где учитесь? — спросила она. — В университете, — буркнул я. И добавил: — На третьем курсе. — А факультет? Я не сумел придумать факультета. Отмахнулся: — Да ну! Расскажите лучше о себе, Каприччиоза. У меня само собой сорвалось это мудреное словечко «каприччиоза». И Таня обрадованно засмеялась. — Я вам сыграю. Потом. И вы все поймете. Язык музыки часто выразительнее языка слов. Правда? Хотя слова, особенно в поэзии… Как вы относитесь к Бодлеру? А к Аполлинеру? К какому Бодлеру с Аполлинером? Но на меня уже обрушилось такое количество незнакомых имен, что я успел несколько приноровиться к ним. Да и разве в самом Танином вопросе не содержалось ответа? Я сказал, что отношусь к Бодлеру с Аполлинером хорошо. Я даже сказал: — Они очень глубоки, Бодлер с Аполлинером. В них много свежести и чистоты. — Да, да, да! — обрадовалась она. — Вы правы, именно: свежести и чистоты. Да, да, да! Вместо Васиного дня рождения, я, разумеется, очутился в Павловском парке на концерте студентов консерватории. А на другой день мы ходили с Таней в филармонию. И говорили, говорили. Вернее, говорила почти одна Таня, а я лишь поддакивал ей и многозначительно произносил: — Да, конечно. Изумительная глубина. Столько чувств, мыслей, такой полет фантазии. И главное, очень свежо и чисто. Особенно я нажимал на «свежо и чисто». И кажется, все время попадал в точку. Однако иногда Таня неожиданно поднимала на меня большущие синие глаза с застывшим в них изумлением и говорила: — Слава! — А что? — спешил я исправиться. — Разве не так? Ты, Танечка, не думай, что я не понимаю музыку. Я ее отлично понимаю. Тра-ля-ля, тру-лю-лю, бом-бом. Точно? Хы-хы-хы-ы! Дело лишь в том, Танечка, что у тебя крепкая память, и ты запоминаешь, какое «тра-ля-ля» Чайковского, а какое Сен-Санса. А я считаю, что мне даже и не нужно их запоминать. Самое главное — понимать. — Слава, — испуганно сжималась она. — Что ты такое говоришь, Слава? Опомнись! Я не понимаю таких шуток. «Опомнись!» Значит, я все-таки в чем-то ошибался? Что-то говорил невпопад? Или, может, зря сказал, что учусь в университете? После-то ведь все равно пришлось открыться, что я простой шоферюга, а не студент. И ей сразу сделалось со мной скучно. А чего ей было со мной скучать? Я и денег не жалел, и культурные анекдоты ей рассказывал про медведей и зайцев. Одни только культурные, без всяких яких. Но она не реагировала на анекдоты. Вот если бы я ей про скрипку Ивана Андреевича Батова рассказал, про «Интродукцию и рондо каприччиозо» Сен-Санса, небрежно, как давних знакомых, помянул бы Моцарта, Пушкина и Ромена Роллана, тогда бы конечно. А так она потихоньку гасла, замыкалась и уходила в себя. И у меня не хватало сил, чтобы растормошить ее. А через неделю она сказала то страшное, за которым сразу наступила пустота. — Ты, может быть, неплохой парень, Слава, — сказала она. — Я тебе очень благодарна за спасенную скрипку. Но, ты только прости меня, мы с тобой совершенно непохожие, чужие, будто с разных планет. Мне попросту невыразимо скучно с тобой, Слава. Мы больше не будем встречаться. Я даже по самому настоящему плакал, умоляя ее подождать, не торопиться. Я что-то в ужасе бормотал, просил прощения, ловил ее руку. — Зачем же ты так? — брезгливо вырывалась она. — Тебе нужно было гордо уйти, и тогда бы я, быть может, еще подумала, что погорячилась, ошиблась. Но ты сам подтверждаешь, что я не ошиблась. В человеке, Карпухин, должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А ты, прости, как все равно твои ботинки, у которых ты почему-то начищаешь одни носы. Она так и сказала: «Почему-то начищаешь одни носы». Будто это чрезвычайно важно, как ты чистишь ботинки. И какое вообще значение имели ботинки ко всему, что было между нами? Какое?! Сопливая девчонка! Что она знала, кроме своей скрипки? Но я любил ее, эту сопливую девчонку. И я готов был бежать за ней на край света. Пусть она отвернулась от меня, я все равно готов был бежать за ней. Хотя бы для того, чтобы отомстить ей за то, что полюбил ее. Меня обуревало желание избить ее, уничтожить, разорвать на части. Но она ушла от меня, а я никуда не побежал. Я стоял и как идиот смотрел на свои ботинки. Стоял и не мог оторвать от них глаз.
Глава двенадцатая ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
— Сапожную щетку? — сказал Боря. — Да ты заходи. Но по-моему, ты вчера брал у нас щетку и не вернул. Нина, ты не помнишь? — Ей-богу, Слава, ты прямо помешался на ботинках! — засмеялась Нина. — Мне ты, по крайней мере, щетку не возвращал. Что ты, Слава, из своих ботинок культ-то устраиваешь? Смотри, как они у тебя горят. Нина сидела у открытого окна и кормила Светланку черешней, выковыривала из черешен круглые косточки. В окно было слышно, как во дворе разгружают доски. Доски сочно щелкали по асфальту, и звук рвался из двора-колодца к чистому небу. А щеки у Светланки сияли розовыми пятнами сока. — Кто горит? Ботиночки горят? — обрадовалась Светланка. — Хочу посмотреть, как у дяди Славы горят ботиночки. Хочу-у! Светланка называла меня дядей и не догадывалась, что живет на свете только благодаря мне. Они вообще, эти шпингалеты, ни о чем не догадываются. Лопают себе, играют в куклы да спят. Только и дел. — Да не горят, не горят, — сказала Нина. — Сияют. Сиди спокойно. Видишь, как у дяди Славы сияют ботиночки. — Хочу посмотреть, как они горят, — захныкала Светланка. Щетку я так и не разыскал. Хотел у Самохиных попросить, да не решился. Мама несколько дней назад в дым разругалась с Самохиными. Из-за уборки на кухне. У Самохиных умерла бабушка, и они решили, что за нее больше не следует убирать. Но по правилу, за последнюю неделю, в которую бабушка еще жила и вместе со всеми мусорила, Самохины обязаны были за нее убрать. А они уперлись, вздумали прокатиться на других. Вот мама им и выдала. Ботинки я почистил на улице Дзержинского, недалеко от Витебского вокзала. В пахнущей скипидаром стеклянной будочке-киоске. В будочке бахромой висели разнокалиберные шнурки и стояли напоказ круглые плоские баночки с черным и коричневым сапожным кремом. Толстая черная тетка в грязном фартуке ловко орудовала щетками с необычно длинным волосом. Покончив с одним ботинком, она стучала щеткой по наклонной деревянной подставке, на которой я держал ногу. Стук означал: давай следующий ботинок. Потом она сурово ткнула щетки одна в одну, кинула их, сцепившиеся, в ящичек подставки, прошлась по ботинкам красной бархоткой и отрешенно сказала: — Двадцать копеек. На меня она даже не взглянула. Она смотрела через распахнутую дверь киоска куда-то в даль залитой солнцем улицы. А чего ей было смотреть на меня? Будь я хоть профессором. Чего смотреть? Она три минуты помахала щетками — и двадцать копеек. Я прикинул — этак у нее в час набегает до четырех рубликов. Шесть часов отсидела, четвертак в кармане. Ничего. Жить можно. И будочку ей отгрохали вон какую модерновую, со всеми удобствами. Даже радио провели. Сиди, махай щетками и слушай. Житуха! Поезд уходил в Павловск в 14.07. Их, конечно, много уходило на Павловск, поездов. Но тот, которого я столько ждал, уходил в 14.07. Длинные асфальтовые полосы перронов наводнялись с приходом электричек толпой народа и снова пустели. Электрички немного отдыхали в безлюдье. Но вот к ним по одному, по двое неторопливо стекались редкие пассажиры. Их становилось все больше, шаг их убыстрялся, переходил на бег. И наконец хриплые динамики уже несли по вагонам: — Осторожно, двери закрываются! Когда, стоя в тамбуре и нервно дымя сигаретой, я услышал эти знакомые стершиеся слова, в них неожиданно открылся для меня совсем иной смысл. В жизнь, как в этот вагон, входят только раз. И двери за тобой автоматически закрываются. Обратно не выскочишь. Я, правда, однажды выскочил. Но мне просто повезло. Хотя, откровенно говоря, я уже совсем перестал верить в существование сумасшедшего физика и в свою встречу с ним. Или нет, не так. Я и не верил, и верил. Во мне будто что-то раздвоилось. Конечно же, не было никакого физика и не могло быть. Чушь собачья. Бред сивой кобылы. А Таня была. Этого я не мог придумать. Была! Таня Каприччиоза! Волшебная девушка со скрипкой. Ясно, была! Я лишь не сумел удержать то счастливое мгновение, упустил его. — Осторожно, — сказал мужской голос в репродукторе, — двери закрываются. Да, да, да, осторожно! Сейчас в вагон впорхнет Таня. Моя Таня, вторично посланная мне судьбой. Осторожно, Слава, двери закрываются. Осторожно, не упусти своего счастья. Приготовься. Собери волю в кулак. Будь сильным, Слава. И умным. Вагон, как и тогда, тронулся мягко, без толчка. Двинулись одна к другой половинки дверей. А сердце у меня, обгоняя поезд, уже неслось на полном ходу, стремительно и тревожно отбивая такт на стыках рельс. Ну? Ну же! И вот на асфальте мелькнула знакомая красная босоножка. Я жадно схватил протянутую руку. Огромные синие глаза полыхнули светом, будто небо сквозь разорвавшиеся тучи. Глухо стукнули резиной двери. Таня вскрикнула и беспомощно потянула зажатую в щели левую руку со скрипкой. — Разве так можно? — взволнованно проговорил я, с натугой раздвигая металлические двери. — Так и под колеса угодить недолго. — Спасибо, — сказала она, растирая руку. — Большое вам спасибо. Какой вы сильный! И решительный. Вы знаете, что вы спасли? — Знаю, — улыбнулся я. — Вас. Главное, разумеется, вас. Ну и скрипку, естественно, тоже. Судя по футляру, это, наверное, старинная скрипка и не дешевая. Вам больно? — Вы разбираетесь в скрипках? — спросила она. — Зачем же так громко: «Разбираетесь»? Можно взглянуть? Я сам раскрыл футляр, осторожно провел пальцем по янтарно-коричневому лаку деки, тронул струну. — Неужели Батов? — спросил я. — Как? — растерялась Таня. — Вы… просто вот так? Вы музыкант? — Нет, — улыбнулся я, — что вы. Я шофер. Обыкновенный шофер, который колесит день-деньской по городу. Но кто же не знает Ивана Андреевича Батова, нашего русского Страдивари? Великий Батов делал скрипки, которые не только не уступали гениальному итальянцу, но подчас и превосходили их.

— Вы не шофер, — покачала головой Таня. — Конечно же, нет. Зачем вы меня разыгрываете? — Шофер, шофер, — заверил я. — Честное слово. Гоняю со своим напарником Васей Рыжовым на ЗИЛе. Превосходная, между прочим, машина. А музыку я просто люблю. Отдыхаю, так сказать, в часы досуга. Вы, наверное, студентка консерватории. Угадал? — Угадали, — медленно проговорила она, не спуская с меня удивленных глаз. — Но я вам все равно не верю. Вы не шофер. И еще у меня такое ощущение, будто я вас уже где-то встречала. — И у меня, — подхватил я. — Точно. Но это знаете почему? Всегда, когда встречаешь хорошего человека, кажется, что ты его уже где-то видел. Мне так даже кажется, что я вас не только видел, но и слышал. Для меня каждый человек — музыка. Один — красивая, яркая; другой — серая, блеклая. Вот вы — будто «Интродукция и рондо каприччиозо» Сен-Санса. Это, пожалуй, моя самая любимая вещь. Вы, разумеется, знакомы с ней? Таня, словно задыхаясь, прижала руку к горлу, умоляюще выговорила: — Вы… Вы… волшебник. Для меня Сен-Санс… И его «Рондо»… Боже, как же это? Кто вы? Как вас зовут? Я назвал себя и сказал, что я не только волшебник, но еще и пророк. — Я знаю все, что будет дальше, — сказал я. — Мы с вами станем друзьями. А с «Интродукцией и рондо каприччиозо» очень просто. Разве есть люди, которые равнодушны к подобной музыке? «Интродукция» Сен-Санса — это вершина человеческого гения! Такое можно было создать лишь на пределе какого-то удивительного, почти сумасшедшего взлета чувств. Я смотрел прямо в ее восхищенные синие глаза и задумчиво рассуждал о том, что завидую мальчишкам и девчонкам, которые еще не читали Пушкина, Ромена Роллана и Экзюпери, которые еще не слушали Моцарта, Чайковского и Сен-Санса. Я говорил о том, что Репин непревзойденный рисовальщик, но не поэт. А Лермонтов слишком угрюм и мрачен. — Не люблю книг Достоевского и музыки Вагнера, — говорил я. — Мне они кажутся слишком мрачными. А вы? А как вы относитесь к Бодлеру? — Боже, — прошептала она, — вы словно читаете мои мысли. Мне даже кажется, будто я думаю, а вы за меня произносите мои слова. Я не умею объяснить этого. Но такого у меня еще никогда не было. Мне даже страшно. Простите. Вы спросили о Бодлере? Да? Как я отношусь к Бодлеру? — Нет, нет, не нужно, — остановил я ее. — Я догадываюсь, как вы к нему относитесь. Вы мне лучше потом сыграете. И я все пойму. Ведь язык музыки порой выразительнее языка слов. Правда? — Да, да, да, конечно, — растерянно подтвердила она. — Да, да, да. — Я вообще-то еду на день рождения к своему напарнику, — сказал я, — к тому самому Васе Рыжову, о котором я вам говорил. Но если вы разрешите, я несколько изменю свой маршрут. Вы едете выступать? Можно, я пойду с вами? Я хочу послушать вас. Сегодня же. Иначе я сойду с ума. — А я, — краснея и опуская глаза, шепнула она, — я, кажется, уже схожу. Вы… Вы не обращайте внимания, Слава. Я… Я буду сегодня играть для вас. Только для вас. Студенты консерватории давали концерт в Павловском парке на открытой эстраде. Бившее сзади солнце высветило над Таниной головой золотой обруч. Таня стояла высоко над людьми, прижав подбородком к левому плечу янтарную скрипку. За роялем сидел кучерявый парень. Завитки волос спускались у него с затылка, закрывая сзади шею. Он красиво барабанил по клавишам и, устав, эффектно подбрасывал руки с растопыренными и чуть загнутыми пальцами. Он мгновение удерживал их в такой позе и безвольно швырял вниз. Когда руки у него свисали ниже колен, вскидывала смычок Таня. Скрипка под Таниной щекой визжала, пищала и плакала. Скрипка, попросту говоря, скрипела, целиком и полностью оправдывая свое название. Музыки я не услышал. Музыки не было. Был скрип. И щенячий вой. Ведь это и дураку ясно, что люди придумали симфоническую и камерную музыку лишь для того, чтобы показать, какие они умные. Чем глупее набор звуков, тем — «ах, ох!» — в нем больше мыслей. Но какие на самом деле могут быть мысли в щенячьем вое и поросячьем визге? Ах! Ох! «Язык музыки выразительнее языка слов». Вот ведь чушь-то. И уж куда-куда, а в музыканты бы я никогда не пошел. Хотя, с другой стороны, чем худо музыканту? Пиликай себе на скрипочке, а тебе за это не только денежки платят, но еще и в ладоши хлопают. — Восхитительно! — сказал я Тане после концерта. — Я понял, Танюша, все, что вы мне хотели сказать. Все! В вашей игре столько чувств, мыслей, такой полет фантазии! И главное, очень свежо и чисто. — Что, совсем плохо? — испугалась она. — Совсем-совсем? — Да почему же плохо? — удивился я. — Я же сказал: восхитительно! — Да, да, да, — приуныла она. — Я и сама чувствую. Да, да, да. Что с ней вдруг произошло? Я ничего не понимал. Чем я восторженней говорил о ее игре, вообще о музыке, о Сен-Сансе, тем она больше грустнела. И неожиданно сказала, что не нужно над ней смеяться, что она еще только учится и еще слабо разбирается в музыке. — Каприччиоза, вы божественны, — сказал я. — Вы сами не знаете, какая вы. Но и на другой день в филармонии, куда мы отправились на концерт органной музыки, Каприччиоза снова грустила и просила меня не подтрунивать над ее невежеством. Она почему-то вбила себе в голову, что я надо всем посмеиваюсь и ни о чем не говорю всерьез, боясь, вероятно, что она не поймет серьезного. — Я с вами словно маленькая глупенькая девочка, — трогательно жаловалась она. — Раньше все знала и понимала, а теперь враз поглупела и больше ничего не понимаю. Да, да, да, совершенно ничего. И ее большие синие глаза лучились при этом нежностью, восторгом и преклонением перед моей мудростью. А в следующее воскресенье произошло чудо. Мы смотрели в Кировском театре балет Хачатуряна «Спартак». Звенела сталь мечей, и сверкали в свете юпитеров пышные каски римских легионеров. Затаившись в уютном, пропахшем духами полумраке, шелестел и поскрипывал мягкими креслами многоярусный лепной зал. — Только ничего неговори сейчас, ничего, — шепнула Таня, сжимая мою руку. — Я хочу сама. Ты мне можешь все испортить. Дай мне слово, что ничего не скажешь о балете без моего разрешения. Дай. — Даю, — кивнул я. И промолчал весь вечер. А у парадной, когда я проводил Таню до дому на улице Герцена, она сказала: — Ну, теперь можно. Мне всегда нужно время, чтобы немножечко отойти от увиденного или услышанного. И как? — Восхитительно! — взмахнул я рукой. — С какой грациозностью они умирали! Как красиво вонзали друг в друга мечи! Как свежо и чисто протыкали друг друга копьями! И все это под такую музыку! — Да, да, да! — подхватила она. —Ты опять прав. Мне тоже не понравилось, как они поставили «Спартака». Такой гигантский социальный взрыв, одно из величайших событий мировой истории, а они превратили его в дешевенькую, почти бытовую драму. Правда? Да, да, да! Но музыка все равно изумительна! Ты ведь не скажешь, что тебе не понравилась музыка? — Ну! — сказал я. — Милый, — выдохнула она и, привстав на цыпочки, быстро коснулась губами моей щеки. Коснулась и убежала домой.

Глава тринадцатая НЕ ЗАБЫВАЙ ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТЫ
Профессия шофера, если разобраться, конечно, тоже далеко не компот. Есть в ней что-то сродни сантехнику. Там чуть прохлопал, и уже капает, уже караул на всех этажах вопят. Однако за баранкой в сто раз почище, одним караулом тут не отделаешься. Если жильцу чуток на макушку натечет, он от этого не помрет. Хоть целая ванна ему за шиворот выльется, ничего с ним в конце концов не станет. А тут на миг зазевался, пешеход уже к тебе под колеса спать укладывается. Норовит, чтобы ты ему непременно по ноге или животу проехал. Пешеходу, конечно, может, это и в удовольствие, может, он жизнь свою застраховал и теперь подработать хочет. А отвечать за него мне. За одну его какую-то паршивую ногу мне могут запросто пять лет припаять. А то и больше. А в какой другой специальности бывает, чтобы для присмотра за тобой на каждом углу контролеры-ревизоры торчали? Даже в такой неприятной специальности, как продавец, где каждую минуту можно ненароком обсчитать покупателя или обвесить, и то контролеры раз в год по обещанию. А тут стоят, с мотоциклами и без, в синих фуражках с красными околышами, с полосатыми палочками-жезлами, дуют в свистки с переливчатой трелью. Чистые соловьи-разбойники, гаишники — ни дна им ни покрышки. Глаза у этих гаишников и на обычном месте, как у всех нормальных людей, и еще на затылке. ГАИ — самая неприятная и тяжелая сторона в работе шофера. Сантехник или, скажем, штукатур, они, разумеется, тоже под богом ходят. Ошибаться им не след. Но шоферу — ему не то что ошибаться, ему вообще ничего нельзя. Ну, допустим, переехал ты какого-нибудь гражданина или гражданку. Это, разумеется, недозволенная ошибка. Нельзя по гражданам ездить, хотя они и сами к тебе под колеса кидаются. Тут все правильно. Тут гаишник на месте, и ты к ним никаких претензий не имеешь. Разбирайся на здоровье, составляй акт, отправляй пострадавшего в больницу или еще куда. За то тебе и деньги платят. Но ведь работник ГАИ тут как тут не только, когда ты на пешехода наткнулся или трамвай протаранил. Гаишник обязательно поинтересуется, что у тебя в кузове, куда ты держишь путь, что ты пил вчера вечером и сегодня утром, кто сидит рядом с тобой в кабине и не стучит ли у тебя рулевое управление. Его все интересует — соловья-разбойника в кожаной куртке и в форменной фуражке с красным околышем. Руку ехидно-вежливо к козырьку приложит, деликатно представится: — Младший сержант Пупкин. И тут же вопросики: — Откуда у вас в кузове кирпичи? Почему они не указаны в путевом листе? «Почему?» «Откуда?» От горбатого верблюда! Подумаешь, преступление, если ты какой-нибудь бедной бабушке на дачу кирпичей для печки подбросишь. Но гаишникам это не по нутру, твоя помощь бедным бабушкам. А кому, например, какое дело, если сантехник или штукатур «для сугреву» сто граммчиков пропустит? Никому никакого до того дела. Но у ГАИ в этом вопросе какое-то вообще совершенное умопомешательство. В ГАИ считают, коль ты стал водителем, то сразу беги записываться в общество трезвенников. Если ты за рулем и, продрогнув, грешным делом, опрокинул рюмашку, лучше уж на глаза соловью-разбойнику не попадайся. Каторга какая-то, а не специальность — эта шоферская доля. Вообще-то я особого пристрастия к вину-водке никогда не испытывал. Однако гаишник, на которого я наскочил десять лет назад, этого не знал. — Почему сигнал поворота не включили? — остановил он меня. Началось-то с сигнала поворота, а кончилось тем, что я остался без водительских прав. На улице Жуковского поставили на капитальный ремонт дом. А когда дом ставят на капитальный ремонт, то у него перво-наперво выламывают все нутро — потолки, стены, окна, двери. Из этого лома некоторые себе дачи грохают. Только дачу здесь же, на улице Жуковского, не приткнешь. Доски с потолков-стен за город нужно везти, на лоно, так сказать, природы. Но на трамвае их не увезешь и на «волге» тоже. Тут в самый раз мой ЗИЛ. Тип со стальными зубами сначала предлагал мне двадцать пять рублей. Однако я сказал, что за четвертак он пускай другого дурака поищет. Тип оказался ушлым, вытащил из бокового кармана «маленькую». Стакан у него тоже был припасен с собой. И еще кусок колбасы. — За удачу, — блеснул он стальными зубами, протягивая мне стакан и колбасу. Ехать было не очень далеко, в Лисий Нос. Поторговавшись, мы сошлись с ним на тридцати рублях. Нагрузили машину. Тип со стальными зубами сел в кабину рядом со мной. И только я свернул на улицу Маяковского, свисток. Старшина ГАИ. — Почему сигнал поворота не включили? От сигнала — к доскам в кузове, от досок — к трубке, в которую мне предложили «дыхнуть». Тут-то, думаю, я и дал промашку: сунул старшине в карман кителя десять рублей. А совать, наверное, нужно было не меньше двадцати пяти. В таких передрягах на десятке не прокатишься. — Ясно, — сказал старшина, извлекая из кармана десятку. — Попытка дать должностному лицу взятку. Так и зафиксируем. А десять рублей приложим к акту в качестве вещественного доказательства. Он разгладил на планшете розовую купюру и хотел приколоть ее к бумаге металлической скрепкой. Но я живо сообразил, чем это пахнет, и не дал ее приколоть. — Какую взятку?! — воскликнул я, выхватывая у старшины десять рублей и мгновенно пряча их. — Вы что? А еще в ГАИ работаете. Как вам не стыдно! Ну, выпил я немного. Так теперь на меня всех собак вешать? Да? Привыкли, понимаешь, нашего брата зажимать! Знаю я вас, гаишников! Но на этот раз не на того напал. Хы-хы-хы-ы! — Ясно, — тихо проговорил старшина. — Кто у вас сидит в кабине? Если можно, попросите его, пожалуйста, выйти. Я сяду за руль. Поедете со мной. Так я прошлый раз остался без прав и попал на станцию технического обслуживания. На своей автобазе я не захотел оставаться. Противно было смотреть на ухмыляющиеся рожи ребят, к которым меня приставили готовить машины. Если уж возиться в масле да солидоле, то только не здесь, где я сам сидел за баранкой. На станции обслуживания я сначала помогал механику — набивал из пистолета масленки, менял фильтры тонкой очистки да заливал в моторы масло. Один прохиндей попался жуть какой принципиальный и умный. А на самом деле дурак дураком, хотя и в тирольской шляпе с маленькими полями. Видит же, что давление масла на нуле. Нет, жмет, болван. Ну и запорол мотор. Я в его «волге» масло слил, а залить забыл. Сколько их за день, этих «волг», проходит! Вот и заморочили мне голову. Сливную горловину закрыл, фильтр сменил, а про масло забыл. Часа через два тот прохиндей в тирольской шляпе на такси примчался. На своей он уже не мог примчаться. Его «волга» где-то под Карташевкой скисла. Меня к директору. Но я сказал: — Не может того быть, чтобы я не залил масла. Врет он. Сам запорол мотор, а теперь хочет свалить на нас. Чтобы мы ему задарма моторчик перебрали. Масло где-нибудь в лесочке спустил, а теперь на нас. Прохиндей в раж. — В суд, — вопит, — подам! — Но если даже, допустим, я забыл залить вам масло, — сказал я. — Ну, допустим. На приборы-то нужно смотреть? — Не работает у меня показатель давления масла! — разошелся тиролец. Вот так: у прохиндея не работает, а меня из-за него на мойку. Мыть с шампунем и без чужие «запорожцы» и «москвичи». Но если вникнуть, то все, конечно, началось тогда со старшины-гаишника, которому я сунул вместо двадцати пяти рублей десятку. По мне, так в шоферском деле самое главное — уметь найти общий язык с ГАИ. На этот раз, мне казалось, я знал, сколько нужно в случае чего совать. И где ездить. Когда нагрузили старыми досками машину, я на улицу Маяковского заворачивать не стал, поехал другой дорогой. И сигнал поворота не забывал включать. Сердце, правда, у меня все равно было не на месте. Недобрым предчувствием щемило у меня сердце. Но что-то очень важное так и так все равно рухнуло в моей жизни. Пропала у меня вера в жизнь, в людей, в свет и чистоту. Вижу я, все в конце концов одинаковые, каждый прикидывается умником, мудрит, выгадывает, врет. На что уж Таня Каприччиоза, ради которой я даже начал разные ученые книжки читать! Ромена Роллана что-то там прочел, Экзюпери, Грина. А ботинки я как надраивал! И что в результате? Сначала сама же меня первая поцеловала. После балета «Спартак», у подъезда своего дома. Шепнула «милый» и поцеловала. Правда, в щеку. А на другой день я ее тоже поцеловал. И сказал: — Ты у меня будешь как королева. Я все с тобой вытерплю, Танюша. Даже твою скрипку. И по театрам с тобой буду все время ходить, раз тебе хочется. Я тебя не знаю как люблю, Каприччиоза. А она отстранилась от меня и холодно спросила: — Ты что, с большим трудом выносишь мою скрипку? — Да брось ты, — возразил я. — Я же не о твоей игре. Играй на здоровье. Хы-хы-хы-ы! Я вообще о скрипке. Мы же теперь свои люди, Танюша. Чего нам ваньку валять. Пусть академики выламываются друг перед другом, будто улавливают какие-то мысли в разных симфониях. Мы же с тобой прекрасно понимаем, что это чушь. — Помнится, когда мы познакомились, ты думал иначе, — проговорила она. — Ну, хватит тебе, Танька! — радостно закричал я. — Хы-хы-хы-ы! Зачем нам обманывать друг друга? Пускай другие прикидываются. Я не хочу. Я человек честный. Я люблю тебя, Танюша! И все снесу. Хоть ты на скрипке пиликай, хоть на дуде дуди, хоть на барабане бухай. Всё! Я говорил ей про свои чувства, про то, какая она чудесная, моя Таня, как я разодену ее. Между прочим, спросил: — А вы, когда на сцену выходите, вы в своем платье или вам выдают? — Не нужно, Слава, — отозвалась она. — Чего не нужно? — разошелся я. — Теперь для нас с тобой, Танюша, все важно. А зарплата у скрипачей хорошая? Скрипачам как платят, за каждый концерт, или у них определенная ставка? Но Таня, как дошло до конкретных вещей, сразу показала себя во всем блеске. Про то, выдают им платья или нет, и какая у скрипачей зарплата, предпочла с самого начала скрыть. — Чего ты? — обиделся я. — Я ведь от тебя ничего не скрываю. И ведь правильно обиделся. Нельзя же все время на небесах витать. Как про воздушные музыкальные замки, она вон какая восторженная, до полуночи готова болтать. Однако люди не в воздушных музыкальных замках живут, на земле. И не баховскими фугами кормятся, а котлетами. — Я тебя обязан честно предупредить, — признался я. — Жить у меня негде. И не потому, что одна комната в коммунальной квартире. Мать у меня… ну… В общем, не очень у меня мать. Ты с ней не уживешься. Горькая проза жизни — она всегда нелегка. Тут я Таню понял. Понял, почему она заплакала. Наверное, у нее дома тоже было не все в порядке. И с жилплощадью, наверное, тоже было не очень жирно. Надеялась, по всей вероятности, на мою. Однако смелости сказать об этом прямо у Тани не хватило. В тот вечер она вообще только тихо плакала и молчала. И уговаривала не провожать ее до дому. А после стала крутить. Недели две крутила. Холодно отвечала по телефону, что очень занята и никак не может со мной встретиться. Тогда я подловил ее вечером у парадной. Часа четыре стоял на карауле. И скараулил себе на голову. — Ты, может быть, неплохой парень, Слава, — точь-в-точь теми же словами, что и в прошлый раз, сказала Таня. — Я тебе очень благодарна за спасенную скрипку. Но, ты прости меня, мы с тобой совершенно непохожие, чужие, будто с разных планет. Мне попросту страшно с тобой и невыразимо скучно. Мы больше не будем встречаться. Помня, как получилось в тот раз, я взял себя в руки и не стал плакать и умолять ее не торопиться. Во мне все бушевало, но я спокойно ответил: — Хорошо, я уйду. И ты поймешь, что ошиблась. — Нет, — горько улыбнулась она, — я уже не пойму иначе. В человеке, Карпухин, должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А ты, прости, как все равно ботинки, у которых некоторые почему-то начищают одни носы. И сдались же ей эти ботинки! Как мне тут было не взорваться? Уж про что-что, а про ботинки она бы лучше помалкивала. Я их вон как наяривал перед каждым свиданием. Словно псих какой-нибудь. — Кто — некоторые?! — выйдя из себя, заорал я. — Дура стоеросовая! Скрипачка фиговая! Посмотри, какие у меня ботинки. Только и умеешь на своей скрипочке пиликать под щенячий вой. По театрам тебя водил, по филармониям. Самые дорогие билеты тебе покупал. Ничего не жалел, пирожные-морожные, лимонады всякие. Дура! Какие тебе еще нужны ботинки? Шоферюга тебя не устраивает, вот какие ботинки! И то, что у меня жить негде. Так чего ты перепугалась? Комнату снимем. А шофера стыдишься, так я сменю специальность. Чистеньким буду ходить. Она ничего не ответила про ботинки. Дура и есть дура. Выкатила свои синие шары и в сумочке стала шарить. — Я тебе верну деньги, верну, — бормочет. А у самой пальцы дергаются, как у паралитика. Мне ее до слез жалко стало. Тут бы самого себя пожалеть, а я ее жалею. В сумочке она, разумеется, не нашла ничего. Рублевку какую-то изжеванную вытащила. Откуда у нее деньги-то ? Их у нее отродясь не водилось. Я с глубокой жалостью смотрел на Таню, и почему-то мне вдруг вспомнился Веня Сипатый. Веня правильно презирал умников, «академиков», как он их называл. Видно же, что эти академики хотят поставить себя выше остальных, показать, что они знают такое, чего тебе никогда не понять. А сами-то они понимают? Только делают вид, чтобы над другими возвыситься. Во всем они, видите ли, смысл улавливают. В пиликанье на скрипке мысли читают. Вот мы, дескать, какие: читаем, а ты нет. Значит, ты дурак. А мы умные. На том все у них и держится. Таня была тоже из этих, из «академиков». И я от всей души ненавидел ее. Ненавидел и в то же время любил. Я будто сошел с ума от этой ненормальной любви. Во всех девушках я видел одну Таню. Я постоянно слышал ее голос, смотрел в ее синие глаза. Больше месяца я звонил Тане по телефону, поджидал ее вечерами у парадной. Несколько раз пытался заговорить с ней. Но она убегала. Молча. Испуганно. И я готов был и убить ее, и упасть перед ней на колени. Я не убил. И не упал. Раз так, нужно было жить дальше. Жить на полную катушку. Таня думала, если я простой шофер, то получаю от жизни меньше, чем пиликальщик на скрипке. Дудки! За рулем тоже можно сорвать солидный куш. Я срывал. Направо и налево. Но с головой. Не забывая включать указатель поворотов. На этот раз тип со стальными зубами опять предложил двадцать пять рублей. — Умен ты шибко, — сказал я ему. — Если меня гаишник остановит, сколько я ему, как ты думаешь, должен сунуть? Не меньше чем твои же двадцать пять. То-то. А мне что останется? Тип вытащил «маленькую» с закуской. Но «маленькая» ему не помогла. Я наотрез отказался пить и меньше, чем за сорок рублей, ехать не соглашался. Я превосходно помнил, что получилось в прошлый раз, когда я по глупости согласился на тридцатку. — Молодой ты, а рвач уже что надо, — с оттенком уважения сказал тип со стальными зубами. — Далеко, видать, пойдешь. — А ты? — засмеялся я. — Дачку сгрохаешь, почем станешь клетушки сдавать? Хы-хы-хы-ы! Не боись, все свое назад воротишь, с лихвой. — Дьявол с тобой, — согласился будущий дачевладелец. — Тридцать пять. А если ГАИ остановит и откупаться придется, половина с меня. Идет? Мы поехали по улице Восстания и благополучно выскочили через Литейный мост на Пироговскую набережную. А сердце у меня все щемило и щемило недобрым предчувствием. И оно не обмануло меня, мое сердце. У поста ГАИ перед Лахтой нас остановил младший лейтенант. Поднял полосатую палочку, молча указал на обочину. — Вот так, — буркнул я, притормаживая и заранее готовя документы. — Как знал, дядя, что влипну с тобой. Не забудь про уговор. В водительское удостоверение я сунул двадцатипятирублевую бумажку. Так и протянул гаишнику удостоверение вместе с бумажкой. — А это что? — спросил младший лейтенант. — Заберите-ка свои деньги. — Да чего там, — подмигнул я ему. — Какие деньги? Не было никаких денег, младшой. Не было, понимаете? — Купить меня, выходит, хотите? — поинтересовался младший лейтенант. Мы были вдвоем на безлюдном шоссе — я и младший лейтенант ГАИ, этакий белобрысенький хлюпик с маленькой серебряной звездочкой на малиновой полоске синих погон. Снять с него форму, так вообще больше чем на банщика он не тянул. Ну, в крайнем случае на дворника. — Бери, бери, не кочевряжься, — сказал я ему. — И я тебе ничего не давал, ты меня в глаза не видел. Смотри трезво на вещи, младшой. Свидетелей у тебя все равно нету. Даже если захочешь на меня капнуть, я в два счета отопрусь. И еще скажу, что ты с меня сам взятку вымогал. А я не дал, поэтому, дескать, ты и озлился. Бери лучше, младшой, без хлопот, и я с богом поехал. Ну? — Нет, — улыбнулся младший лейтенант, — не возьму. Вам ведь и невдомек, наверное, что у людей бывает совесть и что не все на свете продается? — А как ты докажешь, что я хотел тебя купить? — в свою очередь улыбнулся я. — Хы-хы-хы-ы! — Я помогу! — неожиданно раздался за моей спиной голос. Я вздрогнул и оглянулся. Оказывается, нас было не двое на шоссе. Нас было трое. Сзади стоял тот самый тип со стальными зубами. — Я! — рыкнул он. — Дьявол с ними, с этими досками и деньгами. Все к дьяволу! Но если тебя, подлеца, сейчас за жабры не взять, я же себе потом весь век этого не прощу. Весь век! Пиши меня, младший лейтенант, в свидетели.
Глава четырнадцатая СНОВА СУМАСШЕДШИЙ ФИЗИК
Лифт опять сдох. Я вошел в кабину, потыкал во все шесть кнопок, ругнулся и со злости плюнул на муаровую в голубых прожилках пластиковую стенку. Дармоеды эти механики по лифтам. Носом бы их в кнопки, чтобы знали, за что получают денежки. Небось в домах, где они сами живут, кабины и вверх и вниз бегают. А тут только вверх да еще через два дня на третий. По лестнице я поднимался с трудом, словно какой-нибудь шестидесятилетний старец. К вечеру у меня неимоверно уставали ноги. Прямо подламывались. И не только от идиотской работы, на которой и присесть-то было некогда. После работы меня неизменно несло в кафе «Снежинка». Разжиревший от безделья швейцар Никитыч в кафе меня не пускал. Его, видите ли, не устраивало, как я одет и побрит. Но мне было не до смокингов и бритья. Я жаждал лишь одного: встречи с подлецом физиком, который искалечил мне жизнь. Зуб, как говорится, за зуб. Око за око. Он искалечил мне. Почему же я не мог ему тоже что-нибудь искалечить, этому шизику?

В прошлый раз, когда никакие физики не вмешивались в мою личную жизнь, в конце концов все сложилось не так уж худо. Ну, мыл машины на станции технического обслуживания. А теперь? Что вышло из-за него теперь? Вот почему я как дурак часами топтался теперь после работы у входа в кафе. На морозе, голодный, в прохудившихся сапогах. Топтался и заглядывал через мутные стекла, стараясь рассмотреть за ними мушкетерскую бородку и усики. Но физика не было. Он, разумеется, живо унюхал, что запахло жареным. А может, его и вообще никогда не было? Может, он мне приснился? У меня заходил ум за разум. Мне хотелось выть и кусаться. Я уже больше не мог. У меня отваливались ноги. Но жажда мести упрямо удерживала меня у входа. Я обязан был отомстить подлецу физику. Обязан! Потом, вконец окоченевшего, злого, едва держащегося на ногах, меня неизменно тянуло на улицу Герцена. Я садился в трамвай и ехал. Словно в тумане, не совсем отдавая себе отчет, зачем еду и куда. Несколько раз я издали видел Таню. С другой стороны улицы. Подойти ближе к парадной я не решался. Таню провожал домой тот самый кучерявый пианист, с которым она когда-то выступала на концерте в Павловском парке. На пианиста и Таню злости во мне накипело не меньше, чем на физика. Особенно — на пианиста. Хотя нет, на Таню — больше. Ведь сама же меня первая поцеловала. И смотрела на меня влюбленными синими глазами. А я раскис, возомнил бог знает что. И упустил из-за нее время, прозевал Машеньку. Нине Бочкаревой помог, а сам влип точно таким же образом. Вернее, не таким же, в сто раз хуже. Когда я окончательно убедился, что с Таней каши не сваришь, то, разумеется, кинулся к Машеньке. Хотя она и не ахти что, но все же. Жили ведь как-то. Кинулся и получил от ворот поворот. «Ты разве не знал, Слава? Поздравь меня, я вышла замуж». Она вышла. И я ее должен был поздравить. Я ее поздравил. Как умел. И сказал, что не шибко завидую ее мужу. Даже, пожалуй, вообще не завидую. Я ей все выложил, что думаю о ней, как о жене. Терять мне все равно было нечего. Ну, а чего меня, спрашивается, после всего этого тащило на улицу Герцена? Не знаю. Дикая злость меня тащила, бешенство. И нестерпимая обида. Будь в моей власти, я сровнял бы Танин дом с землей. И всю бы ее улицу сровнял. Чтобы ничего и в помине не осталось. Но по улице ходили милиционеры. И косо поглядывали на меня. А я стоял и дрожал от холода, чувствуя, что у меня разрывается сердце и отваливаются ноги. А после, проклиная все и всех, я полз домой. Благо от Герцена до Желябова совсем близко. Полз и еще был вынужден, как сейчас, подниматься пешочком по лестнице. Потому что механики по лифтам любят лишь получать денежки, а работать за них обязан дядя. Этих бы дармоедов механиков я бы тоже… Где-то наверху, резонансом прокатившись по лестнице, стукнула дверь. По ступенькам звонко зацокали каблучки. Навстречу мне спускалась серебристо-серая, искусственного меха, заграничная шубка. Вишневого цвета лаковые сапожки легко припрыгивали и ехидно поцокивали. Меня враз заколотило от этих самодовольных сапожек. Прямо взорвало. Но я сдержался. — Стюардессам международных линий мое почтение! — устало поприветствовал я шубку. — Все цветешь, Галюнчик? И мужа себе оторвала что надо. Летчики первого класса, они ведь на Невском не валяются. Хы-хы-хы-ы! — Пропусти меня, — попросила Галя. — Я спешу. И откуда только в людях берется столько спеси и высокомерия? Я с ней по-хорошему, а она сразу поджимает губы. — В рейс? — ласково спросил я, сдерживая поднимающийся во мне клекот. — Пусти, — попыталась она отстранить меня рукой. — Да ну? — проговорил я. — А про то, что мне с детства все известно наперед, ты знаешь? Конечно, знаешь, мой пупсик. Так вот, я хочу тебя предостеречь: сегодня ночью ваш реактивный самолетик нырнет с десяти тысяч метров в океанчик. Буль-буль! Торопись, мой котеночек. Скорее. А то не успеешь искупаться. Хы-хы-хы-ы! Отступив, я вежливо пропустил ее. Даже сделал приглашающий жест рукой. — Прошу вас, принцесса. Очень сожалею, что мы видимся с вами в последний раз. Очень. Прошу. — Слава, — испуганно прошептала она, отступая от меня и прижимая к груди сумочку. — До чего же ты докатился, Слава! — Буль-буль, котеночек, — нежно повторил я. — Буль-буль! Она несколько секунд смотрела на меня застывшими круглыми глазами. Как на привидение. Молча. И, проскользнув мимо, сказала уже с нижней площадки: — Мне страшно за тебя, Слава. Соберись ты, начни жить снова, как все люди. Ведь у тебя еще не все потеряно. — Чего? — удивился я. — Снова? Она меня совершенно ошарашила своим «снова». У меня даже в голове загудело. Снова! А что? Вместо того чтобы разделывать подлеца физика под орех, взять и потребовать с него еще десять лет. Если можно один раз вернуться назад, то почему нельзя вернуться дважды? Спортсменам на соревнованиях по три вон попытки дают. Прыгай на здоровье, пока не перепрыгнешь. Но перепрыгну ли я со своими ногами? Не получится ли еще хуже, чем теперь? А разве может быть еще хуже? Да и с кого мне требовать? Где тот идиот физик? Где он? — Дура! — крикнул я, перегнувшись через перила. — Стюардесса фиговая! «Снова» бывает только в сказках. Передай привет рыбкам в океане, которые будут тебя кушать! Хы-хы-хы-ы! Я проводил Галю взглядом до самого низа. Взглядом и разными словами. Стоял, пока внизу не затихли каблуки и не стукнула в подъезде дверь. Снова! А что, если бы вдруг действительно снова? Почему у меня в конце концов все получилось так паршиво? Началось, как и в прошлый раз, опять, разумеется, с Зарубина. Чтоб ему, обормоту, в младенчестве соской подавиться! Нет, лучше бы ему Веня Сипатый выбил тогда оба глаза, начисто. И во второй раз мы бы с ним больше не встретились. Учился бы «великий математик» где-нибудь в школе слепых да помалкивал. А без Зарубина, считай, десятилетка была бы запросто у меня в кармане. Это уж точно. И дальше все как по маслу — без унитазов, штукатурки, армии и прочего. С десятилеткой в любой тебе институт открыта дорога. Мама уж как-нибудь пропихнула бы меня в институт. В крайнем случае, в какой-нибудь ветеринарный. Ведь после окончания ветеринарного вовсе не обязательно лечить коров. С дипломом можно в любой конторе сидеть да подшивать бумажки. Зарплата, правда, не ахти, зато всегда в рубашечке и при галстуке. И руки всегда чистые. Ну, а приварок, если захочу, я могу в любом месте сварганить. И Таня не стала бы тогда фордыбачить, придумывать про ботинки. Таня… Что я ей такого сделал, Тане? За что она испоганила мне жизнь? За то, что я полюбил ее? На самое светлое, что есть в человеке, она ответила предательским ударом в спину. Вот и верь после этого людям! Нет, не мог я им больше верить. Все, все они одинаковые, все гады, проходимцы, лжецы и лицемеры! И все будто специально задались целью измываться надо мной, портить мне жизнь, ставить подножки. Кем только я не поработал из-за Тани, после того как у меня отобрали водительские права и уволили с автобазы! Из-за того типа со стальными зубами хотели даже судить, да мама выплакала у директора, чтобы меня взяли на поруки. И они сначала взяли, для виду. А после сами же, прохиндеи, и уволили. Я и кочегаром после того в котельной работал, и носильщиком на Московском вокзале, и грузчиком в Трансагентстве. И всюду мне попадались одни шкурники и карьеристы, которые смотрели в рот начальству и изо всех сил старались выслужиться. А я так и не научился выслуживаться. И все время оказывался в стрелочниках. Как раз в то время, когда я уволился из Трансагентства, я встретил в автобусе своего школьного друга Димку Соловьева. Я прочитал, что на Невском машиностроительном нужны работники в транспортный цех. Позвонил в отдел кадров. Сказали, чтобы приехал утром. Я сдуру и поехал. И узнал в автобусе Димку, который, как всегда, спал. Держался в толкучке за хромированную перекладину над головой и дрыхнул. Рядом с ним его отец за перекладину держался. Оба в одинаковых фуражках, пижоны. Студент-вечерник Димка Соловьев и его папочка. Чего, интересно, Димка мог им там, на заводе, наработать, когда он и в школе-то просыпался лишь ко второму уроку? А тут, вишь, и формовщик, и студент. Ясно, папочка по блату протащил. А в студенты Димка из-за моды подался, чтобы нос по ветру держать. Я превосходно помнил, как Димка учился в школе. Все больше клюшкой учился, а не головой. Студент! И так всюду, куда ни сунься. Блат, небось, знакомства, родственнички. Папочка сыночка тянет, сыночек — дружка. Не подмажешь, не поедешь. Сухая ложка, сами знаете, рот дерет. Что мне тот раз на заводе сказали? Понятно что. Я ведь без знакомств. Полистали для блезиру трудовую книжку, позвонили зачем-то в Трансагентство, откуда я уволился сугубо по собственному желанию, и: — Простите, но вы, к сожалению, немножечко опоздали. Мы лишь вчера заполнили в транспортном все вакансии. Прямо в глаза врут. «Заполнили!» А у самих перед входом доска висит: «Требуются». Выходит, кто-то, который егозит перед ними, тот требуется. А такие, как я, им не подходят. Мне в тот день страшно захотелось выпить. С обиды. Но разве дома хоть копейку найдешь? Мамочка с собой все деньги таскала. Сложит в сумочку и не выпускает из рук. Она вообще, после того как уехал отец, словно сказилась. С отцом всю жизнь процапалась, а как он от нее дал деру, набросилась на меня. Получилось, что и для собственной мамаши я попал в стрелочники. Сколько я помню отца, он почти всегда молчал, И уехал он тоже молча. Собрал чемодан, на котором обычно сидел перед телевизором, сказал «бывайте» и укатил. Мама вначале и внимания не обратила, что он собирается. А как убедилась, что всерьез, вцепилась перед дверью в отцовский рукав. — Нет, — сказал отец, — довольно с меня. Ты с первого дня рождения нашего деточки заткнула мне рот и сделала все, чтобы вырастить из сыночка отъявленного мерзавца и паразита. — Батя! — вскинулся я. — Ты давай поосторожней на поворотах! За такие словечки, знаешь… — Вот, вот, — сказал отец. — Бывайте… И уехал куда-то на север. Мне всегда казалось, отец для матери — пустое место. А тут уехал, и она стала кидаться на меня по поводу и без повода. Втемяшила себе в голову, что я разбил семью. Какую семью? Была ли у нее когда-нибудь семья? — Я в тебя всю душу вложила, в дубину стоеросовую! Я жила только для тебя! Но правильно говорят, что лучше иметь плохого мужа, чем хорошего сыночка. Все вы, сыночки, одинаковые. Что вон Глеб сделал со своими? Какую Бугровы квартиру имели! Какой отец пост занимал! Все прахом! А я чего жду? Она не стала ждать. Через несколько месяцев в комнате исчез и второй чемодан. Мамочка бросила меня на произвол судьбы и укатила к папочке на север. Но в тот день, когда мне натянули нос на Невском машиностроительном, мы с мамочкой еще жили вместе. Только денежки у нас были врозь. А то, что я временно без работы и в кармане у меня пусто, ее не шибко трогало. «Соберись ты, начни жить снова!» Вот ведь идиотка-то, эта фиговая стюардесса. «Снова!» Взяла бы сама да попробовала. Я уже один раз попробовал. На третьем этаже на перилах сидела серая кошка. Над самым обрывом в лестничный пролет. Поджала, паразитка, как ни в чем не бывало под себя лапы и сидела. В скудном свете площадки зелеными фонарями горели два застывших глаза. Я представил, как она великолепно замурлычет в пролет, эта серятина, если ей съездить по фонарям. У меня даже дыхание перехватило, когда я подкрадывался к кошке. Я даже про ноги позабыл, которые у меня подкашивались от усталости. Однако кошка попалась ушлая. В пролет ей планировать не захотелось. Яростно фыркнув, она хищно шкрябнула меня по руке. И, взвив столбом хвост, мягкими скачками унеслась вверх по ступеням. — Во зараза психованная! — ругнулся я, высасывая из ранки на руке кровь. — Разведут собак-кошек, проходу от них нету. На людей уже кидаются, бешеные. Я злобно ткнул ключом в скважину замка и протопал по коридору к своей комнате. Вещей с маминым отъездом в комнате поубавилось. От трех чемоданов, что обычно плашмя лежали друг на друге у телевизора, остался один. На стульях — ни кофточек, ни платьев. Между пустыми картонными коробками на серванте сиротливо приткнулся бронзовый подсвечник. Второй я недавно спустил за пятерку. На столе привычная гора грязной посуды. На телевизоре чайник, из которого отец когда-то глотал рыбок, и закоптелая сковородка. Телевизор почему-то работал. Седой дядя на экране что-то говорил и вертел в руках очки. — А теперь мы попросим показать нам кусочек из этого фильма, — сказал дядя. Оказалось, передавали «Кинопанораму». В стеклянной колбе на экране покачивалась жидкость. Человек в белом халате стоял ко мне спиной. Он держал колбу и смотрел сквозь нее на свет. — Что ж, — сказал человек кому-то, стоящему рядом с ним, — еще немного, коллега, и вы сами убедитесь, что находящиеся в этом растворе микроорганизмы не подчиняются привычным для нас законам времени. Кадр сменился. Теперь двое разговаривающих оказались ко мне лицом. И я от удивления чуть не сверзился с чемодана. Колбу в руке держал сумасшедший физик! Это был он! Собственной персоной! Ошибиться я не мог. Те же мушкетерские бородка и усики, те же немного осоловелые глаза с припухшими веками.

О чем они там говорили, я не понял. Мне было не до этого. Я уставился на психа-физика и совершенно ничего не соображал.

Я просто не верил тому, что видел. Я даже протер глаза. И растерянно огляделся по сторонам. Нет, все на месте. За темным окном неслышно падает мокрый снег. В поле цвели колокольчики и ромашки. Вдали, тяжело отрываясь от земли, взлетал реактивный лайнер. Шизик-физик прощался у самолетного трапа с красивой женщиной. Он ее в чем-то пытался убедить, но она задумчиво покачивала головой. В иллюминаторе, сопровождаемые джазовой музыкой, поплыли кучевые облака. Мой физик стоял у прилавка в гастрономе, и девушка взвешивала ему нарезанную тонкими ломтиками колбасу. Насмотреться на физика как следует я не успел. Кино оборвалось. На экране вновь появился ведущий «Кинопанорамы». — Мы пригласили к нам в студию, — сказал он, — режиссера и исполнителя главной роли в этом фильме. И тут я совсем обалдел. Впору было бежать вызывать «скорую» и добровольно переселяться в дурдом. На меня в упор смотрел и чуточку улыбался тот самый артист, который однажды приезжал к нам на станцию мыть свою «волгу». — К этой роли, — заговорил он, доверительно улыбнувшись мне, — я готовился очень давно. И, как это нередко бывает, мне помогла случайная встреча. Я познакомился с одним любопытным молодым человеком. Потом мы встретились еще раз. Признаюсь, я поступил не совсем честно, обманул его: я пришел на встречу в гриме своего героя, одержимого сумасбродной идеей физика. И молодой человек ничего не заметил. Но то, что я так долго и безуспешно искал, после того свидания сразу нашлось. Что он там молол, этот артист? Неужели он говорил обо мне? Я вдруг отчетливо уразумел, что он говорит именно обо мне. Да, да! Обо мне, о Гремиславе Карпухине! Это я помог ему сделать фильм! Я! Но почему же, если это действительно так, он не называет моего имени? Хочет всю славу присвоить себе? А я опять сбоку припека. Ему, выходит, и почет и денежки, а мне? Нет, все, все они, гады, одинаковые! — Да, все мы, к сожалению, одинаковые, — неожиданно согласился артист, хотя я вслух не произнес ни слова. — Все мы что-то делаем хорошо, а что-то плохо. Но не было бы ошибок, нам не на чем было бы и учиться. Однако встречаются люди, которых собственные ошибки ничему не учат. Им кажется, что ошибки совершаются только по чужой вине. Как правило, из подобных людей вырастают озлобленные на весь мир неудачники. Чаще всего они пребывают в так называемом «чемоданном настроении». Не научившись жить сегодня, они как бы все время собираются в завтрашний день, который для них никогда не наступает. Вот об этом-то и будет наш фильм, выход которого на экраны с волнением ожидает вся наша съемочная группа. Артист слегка кивнул. В телевизоре запрыгало изображение, и от края до края побежали горизонтальные полосы. Они, значит, ожидают. Чтобы загрести денежки. А я? А что я? Плевать я хотел на все их ожидания. И на все их умные фильмы. На всё я хотел плевать! У меня гудели ноги. Но я не мог заставить себя нагнуться и снять сапоги. Я сидел и тупо смотрел на бегущие по телевизору полосы. Сидел и абсолютно ничего не соображал.
От автора (Еще несколько слов)
Вот, читатель, ты и познакомился с моим героем Гремиславом Карпухиным. Верю, что тебе не захотелось ни в чем подражать ему. Ты кое-где улыбнулся, кое-где возмутился, кое-где недоуменно пожал плечами. Ты даже обратил внимание, что кое-кто из твоих знакомых-неудачников немного похож на моего героя. Все правильно. Но позволь мне в заключение задать тебе один вопрос: в самом себе ты не заметил никаких карпухинских черточек? Да или нет? Нет? Ни в чем? Ни на самую-самую малость? А задумайся на минутку: как бы ответил на этот вопрос сам Гремислав Карпухин, если бы он вдруг прочел мою повесть? Ну конечно же, он бы тоже категорически сказал — нет! И в этом был бы весь Гремислав.

РАССКАЗЫ
ГЛАВНЫЙ ТЕОРЕТИК
Наш отец большой и строгий. По утрам он встает не с той ноги и вечно что-нибудь теряет. У него пропадают книги, галстуки и запонки. — Я положил их тут! — возмущается он. Наша мама всегда встает на ту ногу, на которую нужно. Она у нас маленькая и веселая. — Ой ли? — улыбается она. — Если ты положил их тут, то тут и возьми. Вот ведь они, твои запонки. Отец каждый день надевает свежую рубашку с накрахмаленным воротничком и ни с кем не разговаривает, только дает указания. По именам он нас не называет. — Убери со стола локти, — произносит он, не взглянув в мою сторону. — Вытри нос, — адресуется он к Кирюшке. — Сделай прическу, — говорит он маме. — Сегодня мы идем к Чалыкам. Чалык — товарищ отца. У него небольшая лысина и рыжая бородка. Отец толкует с ним о физике и медицине. Нет таких вещей, в которых бы отец не разбирался. Он разбирается абсолютно во всем. Мама говорит, что он универсал. Он даже знает, каким способом лучше варить суп и стирать белье. Стирает, конечно, и варит у нас мама. А отца она называет Главным Теоретиком. — Товарищ Главный Теоретик, — улыбается она, — чистый носовой платок я положила тебе в карман. Кофе на столе. Я побежала. Наша мама не ходит, а бегает. Ей нужно успеть отвести в детский сад Кирюшку, не опоздать на работу и на обратном пути заскочить в магазины и на рынок. У моего друга Яши Гунина в магазины и на рынок «заскакивает» папа. Яшин папа сам жарит котлеты, ходит в школу на родительские собрания и гоняет вместе с нами на велосипеде. Яшин папа барабанщик в джазе. Кто мой отец, я не знаю. Он работает в каком-то почтовом ящике. Раньше я говорил ребятам, что он у меня начальник почтамта. Я, конечно, все понимаю, не маленький. А из головы не выходит железный синий ящик с узкой щелью. Человек является на работу, протискивается в щель и целый день сортирует письма. Дело страшно таинственное. Ведь то, о чем написано в письмах, тайна. Но теперь я говорю, что мой отец астроном. — Как это? — удивляется Яша. — Все время был начальником почтамта и вдруг стал астрономом. Разве так бывает? — Еще как бывает, — говорю я. — Почему человек не может сменить специальность? Тем более, что он все знает. Когда у Яши никого нет дома, мы с ним играем на барабане. Один бок у барабана прорван. На конце деревянных палок приделаны мягкие тряпочные груши. Мы лупим грушами по тому боку, который цел. Яша еще нажимает на педаль, и сверху барабана подпрыгивает медная тарелка. Она грохочет по другой тарелке. Яша вопит: — Соло на барабане исполняет народный артист республики Яков Гунин! Он прихватывает пальцами тарелки, чтобы они утихли, и спрашивает: — Звучит? — Симфония, — говорю я. Не знаю, как звучит то, что Яков Гунин народный артист, но барабан звучит мировецки. По-моему, у всех барабанов нужно протыкать один бок, чтобы звук не задерживался внутри. С четвертого этажа нам начинает подвывать Джек. Он подвывает и гавкает. Своей небольшой кудрявой бородкой Джек здорово смахивает на Чалыка, с которым мой отец спорит о физике и медицине. Чтобы полностью довершить сходство, мы выстригли на затылке у пса аккуратную макушку. Теперь водить Чалыка на прогулку нам доверяют не очень охотно. Хозяйка боится, как бы мы ему и бороду не состригли. Но самой ей таскаться по двору с собакой тоже некогда. А мы тут как тут. Мы выходим во двор. Поводок я для верности крепко наматываю на руку. — Чалык! — приказываю я. — Сидеть! Чалык, убери со стола локти! И он понимает. Он наклоняет голову то в одну сторону, то в другую и внимательно смотрит на меня из-под лохматых бровей. После школы я целыми днями пропадаю у Яши. Даже иногда ужинаю у них. Но ко мне Яша ходит редко. Он не хочет встречаться с моим отцом. — Ты не обижайся, — оправдывается Яша, — но он у тебя какой-то такой… Молчит, словно я ему неприятность сделал. И вообще… Даже странно. — А ты бы поработал астрономом, тогда узнал, — говорю я. — Сидишь целый день и смотришь на звезды. И все молча. Твоему отцу хорошо. Знай себе бей в барабан да песенки пой. Яша не любит, когда так говорят про его папу. — Твой, — отвечает он, — и начальником почтамта работал, все равно молчал. Что ему скажешь? Он прав. Хуже нет, когда человек молчит. Другие ребята ко мне тоже не ходят. Тут пришла как-то Лена Ленская. Отец сидел за столом и писал. Она поздоровалась, а он даже ухом не шевельнул. Лена похлопала глазами и шепчет: — Я пойду. Ладно? Ясное дело. Я бы на ее месте тоже ушел. Но не станешь же ей объяснять, что он со всеми так — и с мамой, и со мной, и с Кирюшкой. Он иногда за всю неделю всего два слова скажет, да и то если у него пропадет что-нибудь. На днях мы с ним крупно поговорили. У нас прямо целый диспут получился. А после того диспута в доме странная чехарда началась. Мама мыла окна. Она прибежала с работы, приготовила обед и принялась за уборку. Она стояла на табуретке между рамами, и по локтям у нее стекала мыльная пена. За телевизионную антенну соседнего дома зацепилось солнце. Халат на маме горел золотом. Она была удивительно красивая в нем. Когда она поднималась на цыпочки, мне даже казалось, что она похожа на балерину. Кирюшка выбрался из-под дивана и отправился по своим делам в коридор. Он открыл дверь, и сквозняком рвануло с письменного стола бумаги. Отец захлопал по столу ладонями и поднял на маму злые глаза. — Тут лежала «Квантовая механика», —медленно произнес он. — Куда она делась? — Неужели здесь? — удивилась мама. — Если ты ее здесь положил, то здесь и возьми. Но на этот раз взять, где он положил, не удалось. Книга как сквозь землю провалилась. Мы с мамой обшарили всю квартиру. Я заглянул даже в холодильник, под ванну и на всякий случай в собственный портфель. Отец сам начал диспут. Он угрюмо посмотрел на меня и сказал: — Что-то ты слишком старательно ищешь. Отвечай честно: ты? У меня от обиды чуть слезы не брызнули. Для него же стараешься, а он… Я не выдержал и заорал: — Я! Конечно, я! Я из нее рогатку сделал, из твоей механики! Я ее в макулатуру сдал! У Яши Гунина отец дерется. За ту лысину, что мы выстригли на макушке Чалыка, он Яше даже барабанной палкой по одному месту всыпал. Наш отец до нас не дотрагивается. Не то чтобы там подзатыльник отвесить. Он нас вообще не трогает. Он ни разу в жизни Кирюшку даже к себе на колени не посадил. Отец дал мне отораться и презрительно выдавил: — Совсем пораспустились тут. Мама сказала: — Может, ты ее Чалыку отдал? Отец не ответил. Он трахнул дверью и ушел. Когда он в плохом настроении, то ходит гулять. И дернуло же меня за язык придумать про эту макулатуру! У отца на другой же день исчезли ботинки. Совсем новые. Вместе с коробкой. Мама искала ботинки и виновато улыбалась. Я принципиально читал «Трех мушкетеров». Не хватало еще, чтобы я снова искал, да еще слишком старательно. Конечно, «Трех мушкетеров» я тоже не читал, а только смотрел в книгу. Во мне все замерло. Я ждал, когда мама скажет: — Вот ведь они, твои ботинки. Но мама молчала. — Так, — медленно произнес отец. — Значит, на «Квантовую механику» много не разгуляешься. Однако не известно ли тебе, что для трудновоспитуемых существуют специальные интернаты? Мама хотела вступиться за меня, но отец ее оборвал: — Не он? Тогда, может, ты отдала их разнашивать Чалыку? Он грохнул дверью и ушел. А мне почему-то представилось, как Чалык прогуливается по двору в узконосых ботинках и гордо виляет обрубком хвоста. Вообще в тяжелые минуты в мою голову лезет всякая муть.

Кирюшка сопел в своей кровати. По радио передавали веселую музыку. Поджав под себя ноги, мама сидела в уголке дивана. Ее тонкая рука с синими жилками лежала вверх ладошкой. — Мам, — тихо сказал я, — ты не думай… Она закусила губу и отвернулась. Я подошел к дивану. Мама схватила меня и спрятала мою голову у себя на груди. «Три мушкетера» шлепнулись на пол. — Бориска, дружок, — зашептала она, — ему еще труднее, чем нам. Он сам мучается от своего характера. У него неприятности на работе. Он большая умница. Ты еще услышишь о нем. Она ерошила мои волосы. Я хотел спросить, куда же могли задеваться его ботинки, но не спросил. Мама так прижала меня, что мне стало душно. И еще у меня затекла шея и сильно першило в горле. Ботинки мы не нашли. Вслед за ними исчезла еще одна книга — «Общая физиология». — Что на очереди следующее? — угрюмо поинтересовался отец. Теперь замолчал не только он, но даже мама. В доме наступила тишина, как в театре мимов. Больше всего я не люблю, когда сверлят бормашиной зубы. И все же лучше сверлить зубы, чем сидеть с живыми людьми и молчать. Я попытался доказать себе, что отцу еще труднее, чем нам. Но легче мне от этого не стало. Я трахнул дверью и отправился к Яше. Яша поймал паука и через увеличительное стекло рассматривал, из какого места выходит у него ниточка паутины. Паук притворился дохлым и ниточку не выпускал. — Как миленький выпустит, — пообещал Яша. — С пауком тоже нужно человеческое обращение. А ботинки очень просто отыскать. Надо взять Чалыка и использовать его как ищейку. — Иди ты, — сказал я. — Тебе все шуточки, а у меня серьезно. У стены стоял барабан с прорванным боком. На барабане висели старые Яшины штаны. — И вообще мы с тобой скоро расстанемся, — вздохнул я. — Как мне известно, для трудновоспитуемых есть специальные интернаты. Честно говоря, мне уже самому хотелось в интернат. Пропади она пропадом, такая жизнь. Я представлял, как устроюсь без родителей, а дома будут по-прежнему исчезать вещи. И тогда отец поймет, что это не я. Он придет за мной и станет звать обратно. Хотя нет, он не из таких, которые приходят за своими сыновьями. Придет мама. Но я ей все равно скажу: — Поздно. Теперь я навсегда останусь с трудновоспитуемыми. Живите, пожалуйста, сами. В интернат я не попал. Отец уехал в командировку, и театр мимов на время закрылся. Мы разговаривали, сколько хотели и в полный голос. А тут запустили на орбиту космический корабль «Восход-2». Уроки в школе полетели кувырком. В пионерской комнате чуть не раздавили телевизор. На торжественном сборе Яша Гунин сыпал с барабана сумасшедшей дробью. Он еще никогда не играл так классически, как на этот раз. И мои домашние неприятности понемногу забылись. Потом отец вернулся из командировки, и в доме опять наступила тишина. Отец снова вставал не с той ноги и по вечерам вел умные разговоры со своим Чалыком. И вдруг я сделал открытие! Я словно прозрел! Я узнал, почему он молчит! Я узнал, кто он такой, мой отец! Это же рехнуться можно от обиды, что я не догадался обо всем раньше. У отца пропала логарифмическая линейка. Она пропадала у него уже тысячу раз. Мама сказала свое обычное «ой ли» и принялась за поиски. По радио передавали последние известия. — Сегодня в Советском Союзе, — торжественно чеканил диктор, — произведен очередной запуск искусственного спутника Земли «Космос-65». Отец прислушался. Диктор называл параметры орбиты. — Товарищ Главный Теоретик, — сказала мама, — вот ведь она, твоя линейка. Отец сердито шевельнул бровями, взял линейку и стал двигать на ней сердечник и прозрачный ползунок. Он считал и записывал на листке цифры. Весь листок запестрел цифрами. А я смотрел на отца, и во мне что-то дрожало. Главный Теоретик! Ну конечно, Главный Теоретик! Есть Главный Конструктор и есть Главный Теоретик. Никто не знает их имен. Никто не видел их портретов. Они не носят ордена и Золотые Звезды. Они не появляются на трибунах. Они ходят по улицам, как совершенно нормальные люди. — Пап, — ошалело выговорил я. Он удивленно оглянулся. — В чем дело? — Тебе не дует? — забормотал я. — Может, закрыть форточку? Хочешь, я закрою форточку? Отец взглянул на форточку и снова уставился на меня. Он, наверное, подумал, что я чуточку тронулся. Но он не побежал вызывать «скорую помощь». Он уткнулся в бумаги и стал считать. А я теперь знал, что всё в норме. Каким же еще может быть Главный Теоретик? Только таким и никаким больше. Ведь он все время думает, а мы ему только мешаем думать. Два дня я ходил как чумной. Меня даже покачивало. Я страшно боялся проговориться. На третий день я под великим секретом открылся Яше. Я взял с него клятву, что он будет молчать, как могила. Сначала Яша не поверил, а потом у него полезли на лоб глаза. Вечером он пришел ко мне. Он уселся и стал рассматривать моего отца. Он рассматривал его так, словно папа был музейным экспонатом. Но папа, конечно, помалкивал и никакого Яши не замечал. В коридоре Яша шепнул мне: — Врешь ты все. Какие у тебя доказательства? Вон у Сони Крючковой отец тоже молчаливый, но она же не говорит, что он Главный Конструктор. Так, знаешь, сколько таких Главных наберется! — А командировка, когда Беляев и Леонов на «Восходе» летали, — стал перечислять я. — А «Квантовая механика». Что, Сонин отец тоже «Квантовую механику» читает, да? Яша немного поколебался, но все равно счел мои доводы не очень вескими. И тут из кухни раздался мамин голос: — Товарищ Главный Теоретик, ужинать! Я почувствовал, как Яша вздрогнул. Он торопливо пожал мне руку и сказал, что, если я хочу, он может насовсем подарить мне барабан с медными тарелками. — А бок ты не смотри, мы заклеим, — заверил Яша. — Он еще лучше будет. — Спасибо, — ответил я. — Но ты сам понимаешь, что в нашем доме должна быть полная тишина. На следующий день Яша явился к нам не один. Сзади выглядывала Лена Ленская. Она хлопала ресницами, и вид у нее был такой, что я испугался, как бы она не бросилась ко мне на шею. — Мы на минутку, — шепнула она. — Ты не бойся. Она протянула мне завернутую в бумагу книгу и спросила: — Как ты думаешь? — Что? — не понял я. — Ты посмотри. Я развернул книгу. На черной обложке золотом было оттиснуто название: «Основы квантовой механики». На титульном листе красовалась четкая надпись: «Бориному папе от Лены Ленской». — Как ты думаешь? — повторила она. Я показал ей кулак. — Во! Кулак, конечно, предназначался не ей, а Яшке, который не сдержал клятвы. — Понятно, — сказала Лена, завертывая книгу. — Но в магазинах только основы, а без основ нету. — А у меня без основ, — буркнул Яша. Он притащил «Общую физиологию». — У вас вообще все шарики на месте? — зашипел я и приказал оставить книги в прихожей. Они послушно сложили свои дары на полочке у зеркала и, подталкивая друг друга, ввалились в комнату. Папа сидел за письменным столом.

— Здравствуйте, — хором прошелестели Лена и Яша. Ответа не последовало.

Кир приколачивал деревянному коню хвост. Он засаживал в коня гвозди, но хвост не держался. Лена и Яша уставились в папин затылок. Я чувствовал, что Лена сейчас что-нибудь брякнет. Я сказал: — Пошли гулять. Лена с Яшей меня не услышали. Они стали в точности, как мой папа, который никого не слышит и не видит. — Вы же сказали, на минутку, — буркнул я. Они оглохли. Они буравили папин затылок. Шея у Лены вытянулась на целых полметра и еще изогнулась. — Скажите, пожалуйста, — проговорила хриплым голосом Лена, — а наши ракеты летают на жидком топливе или на твердом? Я сделал страшное лицо и показал ей два кулака. Но она и глазом не моргнула. К счастью, папа тоже не шелохнулся. Получался очень миленький разговорчик. Лена ответила себе сама. — Мне кажется, что на твердом, — ответила она. — Твердое более эффектно. Правда? А в этом году на Луну полетят? Яша сообразил, что во всем происходящем виноват только он, и полез спасать положение. Чтобы увести разговор от космической темы, он сказал: — Извините, что мы вас отрываем, но вы случайно не знаете, из какого места выдавливается у паука паутина: спереди или сзади? Папа скрипнул креслом и повернулся к гостям. Мне даже показалось, что он улыбнулся. — Сзади, — сказал папа. — Она выделяется из специальных желез. А ты что, членистоногими увлекаешься? — Нет, — обрадовался Яша, — я просто его поймал, а он ничего не выделяет. — И не выделит, — сказал папа. — У паука восемь глаз, и он сразу разглядел твои намерения. — Восемь? — охнула Лена. — Представьте себе, — подтвердил папа. — А нить паутины у него в несколько раз прочнее капроновой. Чудеса — мой отец разговаривал! И очень даже просто разговаривал, как самый обыкновенный человек. — Неужели восемь? — разошлась Лена. — А ведь правда, что у разумных существ с других планет тоже может оказаться по восемь глаз? Правда? — Вполне возможно, — согласился папа. Она опять повела на космос. Вопросы сыпались из нее быстрее, чем из Клавдии Матвеевны, нашей учительницы по истории. — А физиология имеет отношение к космосу? — торопилась она. — А почему до сих пор не объявлен открытый прием в школу космонавтов? — А книга «Основы квантовой механики» намного хуже, чем просто «Квантовая механика»? Узнав, что главное не в названии книги, а в ее авторе, Лена бросилась в прихожую. Она так метнулась, что Кир, у которого не ладилось с конским хвостом, загляделся на нее и тяпнул себя молотком по пальцу. Заревел он не сразу. Он сначала посидел с открытым ртом. Потом в его реве утонули все звуки. Даже радио не стало слышно. Папа взял Кира к себе на колени. От удивления Кир мгновенно смолк. Радио включилось снова. — Вот! — влетела в комнату Лена, неся впереди себя, как поднос, тяжелую книгу. — Что ж, вполне, — сказал папа. — А эта? — протянул свою «Физиологию» Яша. Узнав, что книги принесены ему, папа запротестовал: — Да нет, что вы, товарищи, зачем же. Но «товарищи» живо откланялись и исчезли. Они испугались, что их подарки не будут приняты. — Как палец? — спросил папа у Кира. — Кто же, чудак, хвосты гвоздями приколачивает? Он посмотрел на меня. — А ты бы со своих друзей пример брал. Делом люди интересуются. А у тебя сплошной ветер в голове. Хвост папа решил посадить на клей. Но хвост и на клею не желал держаться. Кир попробовал и сразу выдернул его из дырки. — А! — рассердился отец. — Все невтерпеж вам. Он оттолкнул коня и пошел мыть руки. Кир спрятал остатки конского хвоста за спину и приготовился реветь. Мне тоже хотелось реветь. И почему только жизнь устроена так несправедливо? Если Яша спросил про пауков, то у него в голове не ветер. А я не спрашивал, значит, у меня в голове сплошной сквозняк. Пауков в нашей квартире не оказалось. На другой день я наловил их целых семь штук на чердаке. Два раздавились, пока я затискивал их в спичечный коробок. На пальцах осталась противная слизь. Пауки бегали по папиному столу, подходить к которому нам строжайше запрещалось. Но ведь мы с Киром занимались делом, а не просто так. Мы всесторонне изучали членистоногих. Кир стоял коленками на стуле и взвизгивал, когда паук направлялся в его сторону. Я обкладывал пауков книгами. Одного я случайно придавил «Биофизикой». Пауки оказались очень хлипкими. — Папа, — спросил я вечером, — а пауки вообще полезные или вредные? Отец пошевелил бровями. — В природе рациональна каждая букашка, — ответил он. — Рациональна — это значит полезна? — поинтересовался я. — Значит, в какой-то мере полезна, — раздраженно подтвердил он. — И комары? — Может быть, даже и комары. — А клопы? — Любая истина, — сдерживаясь, проговорил он, — возведенная в абсолют, становится абсурдом. Я решил не ударить лицом в грязь и доказать, что у меня в голове не только ветер. Я поднапрягся и выдал: — Абсурд — это значит чепуха. Выходит, что все истины чепуха, да? Я даже сам удивился, что у меня так здорово получилось. Ему, кажется, тоже понравилось, как я ему выдал. У нас сразу завязалась интересная беседа. Я старался изо всех сил. Отец мял в кулаке подбородок, чесал пальцем щеку и рассматривал меня так, будто увидел впервые. Кир с интересом пялил на нас глаза. Мама штопала на диване Кирюшкины чулки и тихо улыбалась. Отец рассказывал про бионику. Я даже не подозревал, что на свете есть такая наука. Она изучает летучих мышей, муравьев, дельфинов и других насекомых и зверей. Оказывается, медуза предсказывает шторм точнее любого барометра. В организме змеи есть какой-то сверхчувствительный градусник. А птица тратит на полет в десятки раз меньше энергии, чем самый совершенный самолет. Ученые хотят узнать, почему и как это происходит, а потом использовать свои открытия в технике. — Вот я и бьюсь над тем, чтобы узнать, почему и как, — сказал отец. — Понятно? — Ага, — кивнул Кирюшка, — понятно. Ты нам все время теперь будешь про зверюшек рассказывать? Кирюшкин вопрос отцу не понравился. Он нахмурился и замолчал. Но я уже и так наговорился с ним в сто раз больше, чем за все предыдущие тринадцать лет. Когда на другой день после школы я привел Кира из детского сада, дома еще никого не было. Кир потащил меня на кухню. Он поднял крышку мусоропровода, заглянул в черную дыру и сказал: — Давай достанем обратно. — Что? — удивился я. — Ботиночки, — сказал Кир, — и книжечки. Ты только папе не говори. Хорошо? А то он нам опять ничего не станет рассказывать. Я угостил Кира оплеухой и кинулся во двор искать, где кончается мусоропровод, и расспрашивать дворников. По асфальту прогуливался Яша. Он держал на поводке Джека. Макушка у пса заросла рыжей шерстью. От лысины не осталось и следа. Я присмотрелся к Джеку. Пес как пес. И совершенно нет в нем ничего общего с папиным товарищем, Чалыком. Вот на овечку Джек смахивает, это точно.
ПУСТАЯ ОБОЙМА
Рыбалить друзья решили идти на зорьке. И подальше от села. Уговорились так: чуть начнет светать, Витяй стукнет к Сашку́ в окошко. Но Витяй почему-то не стукнул. И Сашок проспал. И оттого, что Витяй по какой-то непонятной причине не разбудил его, от настороженной, как ему показалось, тишины в избе на Сашка, когда он проснулся, нахлынула тревога. Суматошно вскочив, он хотел прежде всего бежать к Витяю, узнать, что случилось. Но бабушка не пустила, заставила сначала умыться и поесть. На завтрак бабушка нажарила картошки с салом. Но не успел Сашок ополоснуть под рукомойником лицо и схватить вилку, как его тревожное предчувствие сбылось. Дверь из сеней без стука отворилась, и в избе появился полковник дед Яков со своей неизменной сучкастой палкой. Ручка у полковничьей палки была вырезана в форме собачьей головы с открытой пастью. А на выгоревшем зеленом кителе без погон не хватало двух пуговиц. При виде полковника Сашок обмер. В горле у Сашка застряла картофелина. И нестерпимым жаром вспыхнули уши. Стрельнув глазами на бабушку, Сашок замигал и прижался к столу. — Вот что, Анисья Киселева, — не замечая Сашка, обратился полковник к бабушке, — твой внук и его друг Виктор Пономарев у меня спиннинг стащили. Я доподлинно знаю, что они. Предупреждаю тебя, Анисья Киселева, и родителям их передай: сегодня же не вернут, хуже будет. Если они с таких лет по своим лупить начали, что из них дальше получится? Кого вы из них вырастить хотите? Воров? А я хочу, чтобы они людьми стали. Я для их же блага до города дойду, в милицию на них заявлю. Так и знай. Бабушка, заметив входящего в горницу гостя, стала было торопливо вытирать фартуком руки, но, когда услышала слова полковника, решительно опустила фартук и поджала губы. — Ты, свет Яков Трофимыч, говори, да не заговаривайся, — строго сказала она. — Мало, от тебя в колхозе никакого спокоя, так ты теперича за ребятишек принялся. Наш Сашок дома-то из буфета отродясь без спроса ничего не взял. Да как у тебя твой поганый язык… — Я тебе все сказал, Анисья Киселева, — стукнул полковник дед Яков в пол палкой и толкнул дверь в сени. — Ах ты, бес старый! — заметалась бабушка по избе, когда утренний гость так же неожиданно исчез, как и появился. — Ах ты, сатана неугомонная! Ишь моду удумал — на безответных мальцов теперь клепать! Она загремела у печи посудой, в сердцах шуганула дремавшую на кровати кошку, подскочив к Сашку, ткнула его ладошкой в затылок. — А ты ешь! Ешь! Чего сидишь, уши развесил? Полковник никогда попусту наговаривать не станет. Брал ты у его чего или не брал? Сейчас мне отвечай: брал или нет? — Ничего я у него не брал, — пробурчал Сашок, еще ниже нагибая голову и чувствуя, что вот-вот разревется. — Ясно, не брал! — еще пуще зашумела бабушка. — Не может мой внук чужого тронуть! Ах он, старая кочерыжка! И за что только на наше село напасть такая? Еще про обойму людям голову морочит. А сам как есть пустая обойма. Отстрелял свое, а все неймется, все сует свой поганый нос в кажную дырку. Сашок так и не поел картошки. Чуть бабушка, разойдясь в своей обиде на полковника, зазевалась, он юркнул в дверь и полетел к Витяю. «По своим лупить начали, — гудело у Сашка в голове. — В милицию заявлю». И ведь он действительно мог заявить. Он все мог, этот полковник дед Яков, для которого люди-то были вроде боевых обойм. Государство, убеждал полковник на каждом шагу, растит человека, учит, воспитывает, — значит, закладывает в обойму патроны. И одни люди, по Рогову, били точно в цель. Другие лишь на спусковой крючок нажимали. А некоторые и по своим лупили. И теперь выходило, что по своим — это как раз и есть Сашок с Витяем. Но ведь неправда это. Неправда! Ничего они не по своим. Они по-хорошему у него просили. А у него знай одно: как ты обойму набиваешь да какие книжки читаешь. Ему вон даже «Три мушкетера» уже не та книжка. А сам только и знает, что поплавками да удочками забавляется. Ему так все можно. Полковничьи удочки и крючки, поплавки и блесны были и впрямь на зависть всем окрестным мальчишкам. Человеком Яков Трофимович Рогов слыл одиноким и угрюмым. Жену, сказывали, похоронил лет десять назад, перед самым выходом в отставку. Единственного сына, Петра, потерял в начале войны. Выйдя на пенсию и не зная, куда податься, он приехал взглянуть на места, где погиб его сын, да так тут и остался. То ли здешние места приглянулись, то ли река, то ли домишко, который достался ему по дешевке. Ну, поплавки — они и есть поплавки. Никакого в них особенного интереса. И хотя у полковника они были и из гусиных перьев, и из пробок, и из особого тростника — куги, и из сосновой коры, и из пенопласта, и даже из иглы дикобраза, вполне можно сдержаться и сделать вид, что тебе ни к чему все эти яркие безделушки. А тут двумя спиннингами и на одну блесну! Это тебе не поплавки. Такого в здешних местах еще не видывали. На один-то спиннинг дед Яков и раньше ловил. Ходил себе по берегу и закидывал. И одноручным спиннингом закидывал, и двуручным, и с обычной катушкой, и с какой-то хитрой безынерционной. А тут Сашок с Витяем как выскочили к реке, так и застыли с раскрытыми от быстрого бега ртами. Положив рядом сучкастую палку с собачьей мордой, на раскладном парусиновом стульчике сидел с коротким черным спиннингом дед Яков и крутил катушку. А на другой стороне реки, как раз напротив, с точно таким же спиннингом сидел на траве хромой колхозный сторож Ларион и тоже крутил катушку. Деревяшка бутылкой, что была у Лариона вместо правой ноги, целила пяткой-горлышком прямо в полковника. Они крутили напеременки. Сначала один, потом другой. И под водой между ними туда-обратно сновала блесна. Если бы еще полковник дед Яков со сторожем Ларионом в тот раз ничего не словили, то куда ни шло. Но они как на грех вытащили на глазах у потрясенных Сашка с Витяем здоровенную щуку. В тот момент, когда щука дернула, крутил Ларион. И оба спиннинга, как по команде, дугой изогнулись к воде.

— Отпускай! — закричал полковник дед Яков, поднимаясь с парусинового стульчика. — Отпускай, Ларион Тунянин!
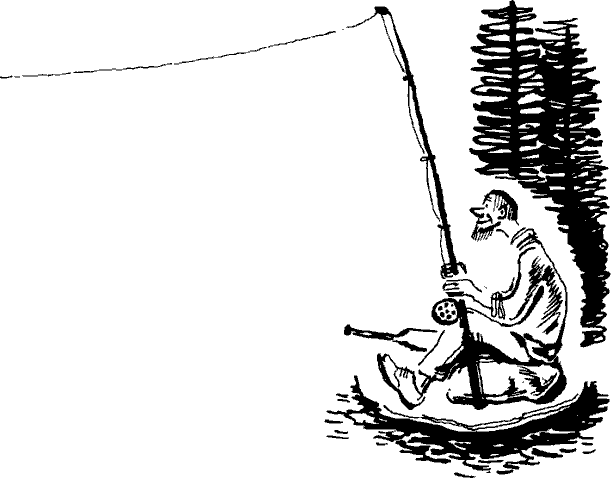
Полковник дед Яков всегда и всех, начиная от председателя колхоза и кончая самым сопливым мальчишкой, величал не иначе как полным именем и по фамилии. Он никогда не повышал голос и не менялся в лице. Его крупное красное лицо всегда носило на себе печать спокойного недовольства — читал ли он лекцию в школе, смотрел ли самый развеселый спектакль в клубе или выговаривал во время уборки урожая бабам в поле. А самым грозным ругательством у него было слово «тринитротолуол», что, как выяснил у отца Сашок, означало сильное взрывчатое вещество. — Отпускай! — почти совсем не изменившись в лице, закричал своим обычным начальственным голосом полковник дед Яков. — Да не крути ты, отпускай, тринитротолуол! — Отпускай! Отпускай! — влетев по колено в воду и не зная, чем еще можно помочь, завопили Сашок с Витяем. — Отпускай, тебе говорят, Ларион! Деда Яков сам вытянет! Отпускай! Однако отпускать то, что попалось на крючок, было не в характере хромого Лариона. Кроме того, по причине преклонного возраста, слухом он не хвастал. И вообще Ларион согласился на эту «срамотную» ловлю лишь после обещания полковника поставить «маленькую». За «маленькую» Ларион мог ловить рыбу чем угодно, хоть собственными штанами. Но уж коли ловить, то ловить по-честному, а не отпускать. — Отпускай! — начиная бледнеть, кричал полковник дед Яков. — Отпускай, тринитро-тебя-толуол! — Отпускай! — хором вопили Сашок и Витяй. Зеленая леска с шипением резала воду и звенела струной. Неожиданно она ослабла. Щука выпрыгнула из воды, сверкнула в воздухе белым животом и снова исчезла. Увидев живую щуку, Сашок с Витяем не сдержались и в чем есть, в трусах и майках, замахали саженками к противоположному берегу. И то ли Ларион услышал ребят, то ли наконец сам сообразил что к чему, но не успели они доплыть и до середины реки, как полковник дед Яков уже подцепил щуку большим сачком. Щука оказалась солидной, килограмма на два. Она тяжело раскрывала зубастую пасть и, на минуту затихнув, яростно прыгала по траве. Сашок с Витяем уселись сторожить ее, а дед Яков, перекурив, крикнул Лариону Тунянину, что можно начинать, и они вновь принялись гонять блесну. — Хорошо, Витяй, не сорвалась она, — сказал Сашок, посматривая на деда Якова. — С этим Ларионом она в два счета могла сорваться. Ему кричат отпускай, а он все равно тянет. Мы бы с тобой так сразу бы отпустили. Правда? Как бы она дернула, так бы сразу и отпустили. — Конечно бы, сразу, — подхватил Витяй и тоже уставился на деда Якова. — Чего нам ее тянуть, когда дедушка Яков специалист, как их вытягивать. И сачок у него. Мы бы враз ее с тобой отпустили. — И крутить мы знаем как, — с прерывистым, даже каким-то судорожным вздохом выговорил Сашок, не сводя глаз с деда. Они поговорили о том, что крутить катушку — это вовсе никакой хитрости, нужно только осторожно, чтобы не сломать. Всесторонне обсудили недостатки Лариона Тунянина. Заметили, что Ларион, наверное, давно устал и его не худо бы подменить. Но дед Яков не реагировал. Он молча вертел катушку и иногда вытаскивал блесну, чтобы очистить ее от водорослей. Щука больше не брала. На реке поднялся ветер, взрябил синюю волну. Зашуршали, кланяясь, камыши у берега. Где-то далеко в поле тарахтел и урчал трактор. Стрекотали в траве кузнечики. И монотонно повизгивала и повизгивала спиннинговая катушка. — Деда Яков, — сдался наконец Сашок, — а деда Яков, можно мы вместо Лариона чуточку покрутим? Мы не сломаем, честное слово. — Честное пионерское, — протяжно поддержал друга Витяй. — Нет, — сказал полковник. — Это вам не игрушка. И чего вы вообще тут около меня пристроились? Марш отсюда! Ты, Виктор Пономарев, математикой бы лучше занялся. Забыл, что у тебя в году по математике? Еле в пятый класс перевели. А ты, Александр Киселев, если ты ему друг, помог бы человеку, чем без толку на речке толочься. Марш отсюда, я сказал. Когда Сашок с Витяем кричали глухому Лариону и даже бросились плыть к нему, полковник молчал. И когда щука билась, и они ее стерегли, тоже молчал. А тут сразу — «марш». Обиженно поднявшись, Сашок с Витяем потоптались около уснувшей щуки и, почему-то стыдясь друг друга, отошли к старой иве. Под деревом сели спина к спине. — Математика, — проворчал Витяй. — Жадюга он, а не математика. Вот кто хочешь буду, ничего он больше не словит. И так ему и нужно, зануде. Полковник и впрямь ничего больше не поймал. Кликнул Лариона, чтобы тот переправлялся на лодке обратно, разобрал и уложил в зеленый парусиновый чехол спиннинги и ушел. Короткие черные удилища, оказалось, еще развертывались на две половинки. Для каждой половинки имелся свой карман в чехле. И еще по кармашку для катушек с блеснами. Кармашки в чехле Сашок с Витяем исследовали, еще сидя подле щуки. Только не смогли понять, для чего их столько. Но от ивы, хоть и издали, они рассмотрели для чего. Больше недели после того Сашок с Витяем ходили за полковником дедом Яковом на реку, носили за ним парусиновый стульчик, подавали в нужный момент подсак, кричали Лариону, когда тянуть и когда отпускать, и всячески доказывали, что они справились бы с делом в сто раз лучше хромого сторожа. Однако, кроме обычных поучений, что нужно больше заниматься и читать, что нужно постоянно пополнять свою обойму, кроме одних и тех же рассказов о сыне Петре, они так ничего от деда и не услышали. Потом дед Яков прихворнул и перестал ходить на речку. И вот тогда-то Витяю и стукнула идея. — Все равно он, жадина, не даст нам своими спиннингами половить, — сказал Витяй. — А я знаю, где у него лежит этот самый чехол со спиннингами. — Ты что, сдурел? — испугался Сашок. — Да мы же половить только, — пояснил Витяй. — Он и не заметит ничего. Половим и сразу обратно положим. Хворый же он так и так не пойдет рыбалить. А спиннинги у него в сараюхе за домом, где и весла. План разработали такой. Витяй лезет через огороды и сад в сараюху. А Сашок, чтобы полковник в это время не надумал вдруг выйти из дому, занимает его разговорами. В случае тревоги запевает песню. — Какая твоя любимая песня? — спросил Витяй. — Ну, — подумал Сашок. — Ну… эта… «Ох, рано встает охрана!» — Пойдет, — определил Витяй. — Как раз что нужно. Только громче пой. До полковничьей избы Сашок добирался так, будто его волокли на казнь. И сердце у него бухало где-то совсем не на месте: то в животе, то в горле. — Здравствуйте, деда Яков, — пролепетал Сашок, заглядывая с улицы в низкое окошко. Полковник в белой нижней рубахе и с накинутым на плечи байковым одеялом в крупную зеленую клетку сидел у стола и что-то обтачивал напильником. Какую-то деревяшку. — А говорят, вы приболели, — вздохнул Сашок. — Это вы чего делаете? Мы с Витяем каждый день на речку ходим, а вас все нету. — Вот и очень плохо, что вы не вылазите с речки, — отозвался дед Яков. — В обойме-то пусто, а вы на речке. Слабенький из тебя в жизни боец получится, Александр Киселев, нечем тебе будет стрелять. Ты хоть увлекаешься чем-нибудь, к чему-нибудь стремишься? Сашок и вправду ничем не увлекался и ни к чему не стремился. Жил себе и жил. И лишь удивлялся, отчего некоторые старики бывают такие занудные и не устают талдычить об одном и том же. И чего деду сдалась эта обойма? Вовсе люди не для того, чтобы стрелять. А про сына Петра, Сашку даже иногда казалось, что дед нарочно придумал. Зачем про то твердить, чего давно нету? — Мой Петр в твоем возрасте, — сказал дед, — и читал запоем, и марки собирал, и планеры строил. Летчиком все мечтал стать. И знаю, стал бы, кабы не война. Волосы у него, как у тебя были, такие же пшеничные. И ведь подумать: всего на шесть лет старше тебя был, когда успел до помощника командира взвода дослужиться, за нашу советскую родину повоевать и погибнуть. А ты? Сколько вот ты за лето книжек прочел? Небось ни в одну и не заглядывал? — Я сейчас «Три мушкетера» читаю, — просопел Сашок. — Уже до сто сорок восьмой страницы дочитал. — Эко! — возмутился дед Яков, откладывая напильник. — Не про тех ты, Александр Киселев, читаешь. Мушкетеры! Да эта петушиная королевская гвардия лишь на дуэлях за красивые дамские глазки умела царапаться. А настоящего боя твои мушкетеры никогда и не нюхали. Ты о римских легионерах что-нибудь читал? Или о спартанцах? Вот те действительно умели воевать. Знаешь, как римляне определяли, героем легионер пал или трусом? По ране. Если рана в грудь — герой, смерть лицом принял. И у русских воинов так издревле велось. Русские еще после побоища по колчанам смотрели. Коли колчан у погибшего пустой — значит, герой, бился до последней стрелы. У нас на фронте тоже бывало. Хороним после боя — у иного из подсумка одна обойма взята, та, что в винтовке. А у другого — пусто. До последнего патрона, выходит, человек дрался. Вновь соскользнув на свою любимую тему про обойму, дед Яков заходил по горнице и, словно забыв про торчащего в окне Сашка, начал ругать порядки в колхозе — и на работу-то, дескать, колхозники выходят поздно, и многие вообще неделями не появляются в поле, и тракторы-то простаивают, и на станции мокнут под открытым небом минеральные удобрения. Валенки на ногах у деда Якова мягко вытаптывали по половицам. Концы свисающего с плеч одеяла развевались, как полы боевого плаща. Но неожиданно дед повернул к двери, и у Сашка от страха враз перехватило дыхание. Нужно было подавать сигнал Витяю, петь. А Сашок напрочь забыл все слова песни. Помнил лишь одну строчку. — Ох, рано! — взвыл Сашок, тараща глаза на деда. — Встает охрана! — Ты чего? — сердито обернулся к нему дед Яков. — Песня, — пролепетал Сашок. — Песня такая есть, деда Яков. Моя любимая. У двери стояло ведро на лавке. Дед черпнул кружкой воды, напился, плеснул остатки из кружки на пол. — Ступай отсюда, — сказал он. — Уходи. Все равно впустую для тебя мои слова. Придерживая на плечах одеяло, дед протянул руку в окно, с треском захлопнул перед носом Сашка одну и вторую створки. Сашок еще немного покараулил под закрытым окном на завалинке и, решив, что времени у Витяя было вполне достаточно, кинулся к реке. Встречу они назначили у старого моста, чтобы в случае удачи сразу, не откладывая, и половить дедовыми спиннингами. Примчавшись к мосту, Сашок застал друга у стога сена. Витяй сидел, обняв поцарапанные коленки и вытянув на них подбородок. — Ты чего? — удивился Сашок, не увидев чехла со спиннингами. — Порядок, — важно ответил Витяй и скосил глаза на сено. — Здесь. Да вон, видишь? Витяй смотрел на мост. У низкого полуразрушенного моста, настил которого тут и там зиял дырами, полоскала белье тетка Полина. А на самом мосту сидел хромой сторож Ларион с удочкой. — Так в другое место давай, — нетерпеливо дернулся Сашок. — Нету другого места, — сказал Витяй. — Я всюду обегал. Все равно на кого-нибудь напоремся. Нужно завтра с раннего утра идти, на зорьке. И подальше от села. Они уговорились идти до рассвета. И Витяй должен был разбудить Сашка, стукнуть ему в окошко. Но Витяй почему-то не стукнул. — Дед Яков к тебе не приходил? — удрав теперь от бабушки с ее завтраком, ворвался к другу Сашок. — Ты почему мне не стукнул? — Почему, почему… Вон почему, — махнул рукой Витяй в сторону маленькой сестренки. — Понос у Нюшки объявился. В ясли ее не пускают, вот мамка и оставила меня с ней. У печи сидела на горшке Витяина сестренка Нюшка и, пуская пузыри, гукала и с аппетитом сосала сразу три пальца. — Ей есть ничего нельзя, — пояснил Витяй, — а она все в рот тянет, холера. Вот и смотри тут за ней. Узнав про посещение полковника, Витяй насупился. — Кто это ему сказал, что мы? — Да разве важно кто? — суматошно зашептал Сашок. — Отнести ему нужно скорее его спиннинги, и все. Видал, он чего? В милицию, говорит. По своим, говорит, лупить начали. — Вот и попадешь как раз в милицию, если отнесешь, — заметил Витяй. — Он же на пушку нас берет. У него никаких фактов нету. Что же мы теперь сами понесем ему в ручки факты, да? — Так мы объясним, что просто половить взяли. — Половить! Поверил он тебе, держи карман. Они громким шепотом советовались за цветастой ситцевой занавеской, отделявшей от горницы закуток с кроватью. На бревенчатой стене стучали ходики с веселой кошачьей мордой. Глаза у кошки метались из стороны в сторону в такт с качанием маятника. А у печи, нагнувшись с горшка, возила пухлой ладошкой по грязному полу Нюшка. — Запрячем, — сказал Витяй. — И ничего не знаем. Не брали, и точка. — А как найдут? — У нас не найдут. Так запрячем, с собаками не сыщут. Вон в лесок за студеным ручьем, где мы с тобой ствол пулеметный нашли и два осколка. Там самое надежное будет. Лесок за студеным ручьем, о котором вспомнил Витяй, находился километрах в двух от села. Когда-то густой и тенистый, он сильно пострадал во время войны. Подальше к болотам еще сохранились вековые ели и замшелые березы. А здесь по мягко оплывшим вмятинам бывших окопов, блиндажей и воронок теперь в основном тянулась к солнцу лишь молодая поросль. — Бежим, — сказал Витяй. — А Нюшка твоя как? — Одна немного побудет, ничего с ней не сделается. Подхватив сестренку, Витяй сунул ее в кроватку с высокими бортами. Однако Нюшка так отчаянно заголосила, что пришлось поспешно вытащить ее обратно. — Во холера, — растерянно проговорил Витяй, прижимая ее к себе. — Привыкла, понимаешь, на горшке рассиживаться. — Так пускай и сидит на горшке, — посоветовал Сашок. — Чего тебе, жалко? На горшке Нюшка вмиг успокоилась. И друзья, прихватив чехол со спиннингами, кинулись из дому. Обогнув колхозный свинарник, они промчались через ржаное поле, влетели в лесок. Остановились у неглубокой рытвины, над которой шелестела листвой береза. Огляделись. С края густо заросшей травой рытвины торчали концы нетолстых полусгнивших ольшин. В траве стояли ромашки да краснела земляника. — Здесь давай, — шепнул Витяй. Ухватившись за спил трухлявой ольхи, они отвалили ее. В открывшуюся щель ударил луч солнца. Ниже была пустота. И золотистый песок. На песке, обхватывая истлевшую солдатскую гимнастерку, лежал широкий застегнутый ремень с раскрытым подсумком. — Пустой… подсумок-то, — еле слышно прошептал Сашок. — Гляди, Вить, пустой. — Ага, пустой, — так же, почти беззвучно, отозвался Витяй, лежа рядом с другом на животе и боясь шелохнуться. Золотистый песок присыпал расползшуюся гимнастерку, набился в подсумок. Приглядевшись, ребята заметили чуть подальше, в тени, торчащий из песка смятый алюминиевый котелок. Сашок подцепил его за дужку концом зачехленного спиннинга, вытащил на поверхность. Высыпав из котелка песок, прочли выбитое на нем неровными точками: «П. Рогов». — Вить, — уставился на друга Сашок. — Вить, это же его сына котелок, сына нашего полковника. Следующие несколько ольшин, крепко схваченных дерном, Сашок с Витяем отворачивали с такой поспешностью, словно еще надеялись помочь тому, кого здесь засыпало взрывом тридцать лет назад. Но то, что открылось в ярком солнечном свете на дне песчаной ямы, заставило мальчишек в страхе попятиться. На песке во весь рост лежали останки красноармейца. Сапоги. Застегнутая на все пуговицы гимнастерка. Рядом рыжая от ржавчины винтовка с трехгранным штыком. Из-под каски выбивалась прядь пшеничных волос. И смотрели в небо огромные пустые глазницы. Перед Сашком, когда он в ужасе бежал из леса, так и стояли эти два пустых круглых отверстия и пшеничная прядь волос. — Деда Яков, деда Яков, — бормоча сухими губами, ворвался в избу к полковнику Сашок. — Там, за студеным ручьем… В яме… — Скорее, деда, — дергал старика за рукав кителя Витяй. — Скорее. Мы у вас спиннинги только половить взяли. Но мы и не ловили. Скорее. И подсумок у него пустой. У вашего сына. Скорее. А там, в молоденьком лесу, над потревоженной могилой бойца шумела листвой белоствольная красавица береза и, точно капельки крови, краснела в траве ягода земляника.

КВАДРАТ ГИПОТЕНУЗЫ
— А-алла, — протянула мама, чуть только я открыла дверь в комнату. — Когда же это кончится, А-алла? Мама выразительно посмотрела на стенные часы. Она хотела, чтобы я возвращалась не позже десяти. У нас каждый день велись с ней разговоры на эту тему. Я повисла у мамы на шее. Я целовала ее в щеки, в нос и за ухом. Она еле отбилась от меня. Никак не могла понять, чего это я вдруг. — Неужели до сих пор было собрание? — ворчала мама, увертываясь от моих поцелуев. — Табель принесла? Но, пожалуйста, не думай, что если ты перешла в девятый класс, то теперь можно возвращаться домой, когда тебе заблагорассудится. Папка, как обычно, курил на балконе. В темноте разгорался и медленно затухал огонек сигареты. Я выскочила на балкон и прижалась щекой к папкиному плечу. — Ну, как по физике? — спросил он. — Все же трояк вывели? — Ага, — выдохнула я, — все же трояк. Он обнял меня за плечи. Облака на черном небе были подсвечены снизу огнями города. Внизу по улице тарахтели трамваи. В трамваях горел свет. Милиционер, перепоясанный белыми ремнями, стоял в очереди у тележки с газированной водой. — А у гения небось одни пятерки? — сказал папа. Зажмурив глаза, я потерлась ухом о его грудь. — Ага, одни. Митя самый-самый лучший в школе. Самый-самый. Его даже путевкой на Черное море наградили. Моя мама в Мите души не чает. А папка над ним посмеивается. Папка называет его гением и ехидничает, что Митя старый старичок, который ни разу в жизни не разбил никому носа и не проехался на колбасе у троллейбуса. Хотя у троллейбуса, по-папкиному мнению, шикарнейшая колбаса. Маму ужас как возмущают такие разговоры. И меня вообще-то тоже. — Скажи-ка ты, нашему гению путевку на юг отвалили! — удивился папка. — Не поэтому ли у Шишкина-мышкина такие глаза шальные? — Папка! — взвыла я. — Вовсе не поэтому! А потому… Ой, если бы ты только знал! — Что знал? — заинтересовался папка. — Ну, ну, вали рассказывай. Он приготовился слушать. Но я вдруг почувствовала, что ничего не смогу рассказать ему. Ничегошеньки! Обо всем рассказывала, а тут споткнулась. Наверное, о таком вообще нельзя рассказать. Хотя очень хочется.
После собрания мы с Митей бродили по улицам и каким-то закоулкам. Мололи всякую всячину, особенно я. И за самыми обычными Митиными словами я неожиданно стала улавливать какой-то второй их смысл — не совсем понятный и радостный. Как все равно, когда слушаешь музыку: ничего, вроде, не понятно, а волнует. — Точно так же, как математика, все настоящее в жизни, — говорил Митя, — не нуждается в словах, Алла. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Здесь не нужно слов. Недаром, пытаясь наладить связь с инопланетными цивилизациями, мы шлем в космос именно теорему Пифагора. И поверь, Алла, в ней куда больше чувств и эмоций, чем в иных высокопарных заверениях и клятвах. Как он умно и образно выражался! Мне бы никогда в жизни не сказать так. И обязательно со ссылками на свою любимую математику. Но о чем он? Инопланетные цивилизации? Может, мы с Митей, тоже инопланетные? Он на одной планете, я — на другой. И не нужно никаких слов. Все ясно, как квадрат гипотенузы. — Алла, — отчетливо выговорил он, — я давно хотел тебе сказать, что ты для меня… — Не надо, Мить! — испуганно схватила я его за руку. Из темной подворотни выполз грузовик, который развозит по булочным хлеб. От грузовика пахло поджаренной корочкой. Митя осторожно освободил свою руку. И вправду он удивительно серьезный, Митя. Даже выглядит, точно студент. Мама покупает ему модные рубашки и костюмы. Он носит длинные волосы и яркие галстуки с широкими узлами. С ним даже неудобно ходить, такой он солидный и взрослый. — Мить, — шепнула я, — ты не обижайся только. И если ты очень хочешь, то скажи те слова потом, без меня. Я их все равноуслышу. Это ведь тоже квадрат гипотенузы. Стоя в темном парадном, мы никак не могли расстаться. Договорились, что завтра утром идем в кино. Митя зайдет за мной, и мы пойдем. Договорились и все стояли. Я хорошо понимала, что неприлично торчать в парадном, а сама торчала. И отступала от Мити, медленно и на ощупь поднимаясь со ступеньки на ступеньку. — Алла, — на всю лестницу сказал он, когда я нащупывала каблуком восьмую или девятую ступеньку, — считай, Алла, что те слова я тебе уже сказал. Это у меня на всю жизнь! — И у меня… на всю, — шепнула я и как угорелая понеслась по лестнице, испугавшись, что Митя меня догонит и поцелует…
Папка тиснул меня за плечо. — Так чего же ты замолчала? Мне ведь тоже интересно про твоего самого-самого. Он словно подслушал меня. Я ему ничего не сказала, а он подслушал. Втихомолку. Подслушал то, чего никому нельзя знать. — А он действительно самый-самый! — дернулась я. — И не́чего тебе. Ты его вовсе не знаешь и поэтому так к нему относишься. — Ну, не буду, не буду, — пошел на мировую папка. — Уж и пошутить с тобой нельзя. Милиционер по-прежнему стоял в очереди. У меня задергался подбородок. — Чего он там стоит? — удивилась я. — Он ведь на службе, милиционер. Ему бы и без очереди отпустили. Мне ужас как стало обидно за глупого милиционера. Первый раз видела, чтобы милиционер толкался в очереди. — Выше нос, Шишкин-мышкин, — потискал меня за плечо папка. — Это, наверное, очень хороший милиционер. Он сдал смену и решил немножечко постоять в очереди. Знаешь, как приятно постоять вместе со всеми в очереди и вообще не выделяться и быть такими, как все. Хотя милиционер был и очень хороший, я бы, конечно, все равно заревела. У папки на груди иногда так и тянет пустить слезу. Но я сдержалась, не стала реветь. Только пошмыгала носом. А утром произошло непонятное. Я целое утро прождала Митю, но так его и не дождалась. Мама с папой давным-давно ушли на работу, а его все не было и не было. Такой обычно точный, да еще после вчерашних слов… Я не знала, что и подумать. Больше всего меня страшили именно вчерашние слова. Неужели из-за них? Сказал, и теперь… Но нет, он не мог! Не зная, что делать, я сидела у зеркала и рассматривала свой нос кнопкой и висящие белые патлы. Счастливые девчонки, у которых вьются волосы. А у меня хоть бы одна завитушка. Висят, точно солома с крыши. Глаза бы не смотрели. Я навертела на палец волосы у виска, заглянула в ящик туалетного столика, где лежат мамины бигуди, вздохнула и побежала к Мите. Митя жил с мамой в узкой, как трамвай, комнатушке. Во дворе под их окнами складывали пустые ящики из гастронома. Ящики загораживали свет, и Митя занимался за обеденным столом при электрической лампочке. На самодельной полке стояли у Мити книги по математике и про жизнь великих людей. Митя говорил, что все великие жили в детстве бедно. Над просиженным диваном были у него приколоты кнопками портреты Эйлера, Ньютона и Лобачевского. «Ньютон даже гулять не ходил, — говорил Митя. — Высунет голову в форточку, подышит и снова работает». Митя тоже все время работает, решает всякие немыслимые задачи. Недаром на районной математической олимпиаде он занял второе место. Он мне сказал, что даже на юге минимум три часа в день будет отдавать математике. И он будет, я знаю. Открыв мне дверь, Митя смутился. На него это вовсе не походило, чтобы он смущался. Он открыл дверь и не опустил руку с замка. Стоял и смотрел в сторону. В груди у меня застучало в сто раз сильнее, чем вчера, когда он сказал про те слова. Я почувствовала, что он совсем не рад моему приходу. — Ты что, передумал… в кино? — убито пробормотала я. — Почему? — приподнял он плечо. — Пойдем. Просто я задержался немного. Прости, пожалуйста. Руку с замка он не опустил. — Ты не заболел? — выдохнула я. — Нет. Мы помолчали. Я теребила поясок на платье. Митя держался за замок. — Я тебя буду во дворе ждать, — проговорила я. — Ты знаешь, где. Ладно? Митя не ответил. Мы постояли еще. — Заходи вообще-то, если хочешь, — сказал он наконец нерешительно. Я боком протиснулась в прихожую. Дома почему-то оказалась Митина мама. Она очень прямо сидела за столом с облупленной клеенкой и неподвижно смотрела в окно. За окном по ящикам прыгали воробьи. — Мама, я рубль возьму, — сухо сказал Митя. — Да, да, возьми, сынок, — не меняя позы, проговорила Василиса Дмитриевна. — Идите, дети. У меня совершенно раскалывается голова. На комоде стояла шкатулка. Митя заглянул в нее и положил в кошелек рубль. В прихожей он молча достал щетку и почистил ботинки. — В «Арс» пойдем? — буркнул он. А у меня, как я увидела Василису Дмитриевну, сразу отлегло. Конечно же, Митя вовсе не из-за вчерашних слов. Вот ведь глупёха. Как я могла подумать такое? Будто втихомолку предала Митю. А это у него попросту какие-то свои недоразумения с мамой. Я только лишний раз убедилась, что конечно Митя самый-самый… Сколько вот я вздорила с мамой и никогда так не переживала. Ясно же, он прав: кто еще есть дороже мамы? Вот он и расстроился. И в кино с ним, с таким пристукнутым, ясно, теперь не побежишь. — Хочешь, чего-то скажу? — шепнула я, когда мы выскочили во двор. У меня во дворе было свое укромное местечко, в старом сарае. Дворники хранили здесь разные свои метелки и лопатки. Я потянула Митю к сараю. — Поссорились? — спросила я, закрывая за собой щелястую дверь и устраиваясь на ящике с песком. — Так чего ты раскис? Мы с мамой через день цапаемся. С папкой — нет, а с ней еще как! Все мамы одинаковые: то нельзя, это нельзя. Но ты не очень переживай. Садись. Я тебе расскажу, как у нас с мамой. Митя посмотрел, куда сесть. На нем были светлые брюки. Он остался стоять. — Ревизия у мамы была, — буркнул Митя. — Крупную недостачу у нее вскрыли. Кто-то руки грел, а она теперь отвечать должна. — Как — отвечать? — не поняла я. — Так. Бухгалтер она. Знаешь, что такое бухгалтер? — Знаю. Который считает. — Считает… Материально ответственное лицо — бухгалтер. На нее дело завели, судить будут. — Судить?! — вскочила я. — Ты что? Так беги туда, объясни. Скажи, что это не она. Хочешь, давай вместе? — Беги! — ухмыльнулся он. — Скажи! Ребенок ты еще, Алла. Так бы все сыновья туда и бегали наперегонки. Бухгалтерия — это та же математика, она оперирует одними цифрами. И суд тоже. — Но у цифр, ты же сам вчера говорил, может быть побольше чувств, чем в других словах. — Что? — спросил он, потерянно уставившись на меня. Он не услышал меня, он думал о чем-то своем. — А если ее… это? — проговорил он. — Как же тогда я? В интернат? Со всеми в одной комнате? А заниматься где? Он прямо совсем свихнулся. Забормотал такие вещи, что я его слушать не могла. Но когда у людей горе, с ними и не такое бывает. У меня небось тишь да гладь. Мне хорошо. А случись что, еще неизвестно, как бы я запела. За руку дотащив Митю до квартиры, я подождала, когда за ним захлопнется дверь, и помчалась на фабрику, где работает Василиса Дмитриевна. Я трусила, как заяц, которого вот-вот подстрелят. У меня еле язык ворочался от страха. Просилась к директору, а меня отправили в отдел кадров. В отделе кадров за деревянными перилами сидел пожилой мужчина в кителе без погон. На коричневом сейфе за его спиной стояла початая бутылка кефира. На окне, расчерченном в клеточку железной решеткой, рос кактус и лежали стопками пухлые папки. — Чего тебе? — спросил мужчина. Косясь на решетку, я кое-как объяснила чего. Папки лежали еще и на столе и даже на полу. Глаза у меня так и тянуло к решетке. — Очень хорошо, что ты пришла, — услышала я сквозь звон в голове. — Мой тебе такой совет: сегодня же иди к отцу. Иди, иди. Я все знаю. Пусть поможет. Мать у тебя слишком гордая. А он человек ученый, башковитый, придумает, что делать. Она, вишь, даже алименты с него брать отказалась. А ты иди. И не красней. Взрослая уже.
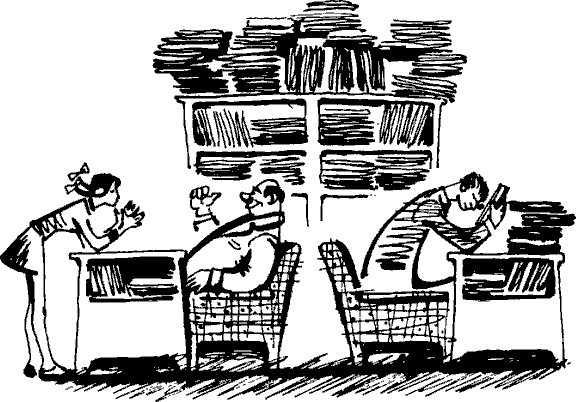
От неожиданности я совсем онемела. Оказалось, меня перепутали с Митей, решили, что у Василисы Дмитриевны дочка. Раньше мне почему-то и в голову не приходило, что у Мити есть отец. Мало ли ребят живет без отцов. — Он вовсе не мой отец, — пробормотала я. — И Василиса Дмитриевна мне не мать. Человек в кителе передвинул на столе мраморный стаканчик с карандашами, подбил с боков стопку папок, буркнул: — Нечего тогда и ходить, если она уже тебе не мать. — Так у них правда есть совсем другой сын, — попробовала объяснить я. — Я как раз об этом и хотела вам рассказать. Но тут тяжелая ладонь так громыхнула по столу, что подпрыгнул мраморный стаканчик и из него выскочило несколько карандашей. — Вон отсюда! — резануло мне по ушам. — Рассказать! Нашла, когда сводить счеты! На улице я никак не могла унять дрожь в коленках. Даже пришлось, как какой-нибудь старушенции, посидеть на скамеечке в сквере. Куда теперь? В прокуратуру, где ведут следствие по делу Василисы Дмитриевны? К Митиному отцу? К Мите? А что я ему скажу, Мите, чем обрадую? Прибежав домой, я стянула со стола скатерть, набросала в нее грязное белье и потащила в ванную. Я остервенело терла на стиральной доске рубашки и наволочки и никак не могла унять дрожь в коленках. Мыльные хлопья разляпались по всем стенкам. Вернулась с работы мама, заглянула в ванную и сказала: — Поглядите, пожалуйста, какие мы стали сознательные. — Уйди! — закричала я. Лицо у меня сделалось, наверное, не хуже, чем у того дяди в отделе кадров. Я еле дождалась папку. Он захватил с собой на балкон стул. Сидел, курил и слушал. Потом сказал: — Неприятная история, Шишкин-мышкин. Митиного родителя я чуточку знаю. Тут полный аут. К нему соваться нечего. Он палец о палец не ударит. — Знаешь? — удивилась я. — Чего же ты молчал? — А ты у меня спрашивала? Митин отец — человек только для себя, дочка. Есть вот на свете такие люди. И диссертацию он защитил только для себя, и студентов учит только для себя, и даже если кому что доброе делает, то только для себя. Здесь для него нету никакого резона встревать. — Значит, в прокуратуру? — спросила я. — Пойди узнай у мамы: скоро ужин там? — сказал он. — Какой ужин? — возмутилась я. — Вообще-то считают, что Митин отец талантливый математик, — помолчав, проговорил он. — Ну. — И еще говорят, что он своего учителя скушал. — Папка! — Ну, не в буквальном, разумеется, смысле скушал, а фигурально. Промолчал, где нужно было кричать, и тем самым скушал. Молчание, Шишкин-мышкин, это ведь тоже политика, линия поведения. Порой молчание сильнее самого сильного поступка. Не доходит? Я закивала, что доходит. Папка, я знаю, никогда не молчит. Мама даже считает, что он говорит чересчур много. Но идти мне в прокуратуру или нет, он так и не сказал. Крутил, вертел и не сказал. Я его как дважды два изучила. Он хотел, чтобы я сама решила, что мне делать. И я решила. Но какая же я оказалась мямля и трусиха! Жуть! И еще недотепа. Чтобы докопаться, с кем нужно говорить, я угрохала целую неделю. Я часами торчала у дверей со стеклянными табличками и не решалась постучать. Я лепетала очень занятым мужчинам и женщинам такую чушь, словно только что убежала из сумасшедшего дома. И каждый раз мне казалось, что сейчас у всех этих людей лопнет терпение, они взорвутся и немедленно вызовут милиционера. Милиционеры мне теперь попадались на каждом шагу. На меня не кричали, и милиционеров не вызывали. Меня попросту посылали из комнаты в комнату. Никто почему-то не знал, кому поручено вести дело Василисы Дмитриевны. Вернее, никто даже и не слышал о таком деле. У юристов творилась неразбериха почище, чем у нас в школе на уроках физкультуры. Потом, правда, выяснилось, что физкультура здесь ни при чем. Я, недотепа, и не подозревала, что у Василисы Дмитриевны вовсе не такая фамилия, как у Мити. Оказалось, у Мити фамилия отца, а у Василисы Дмитриевны своя. По Митиной фамилии я бы могла разыскивать, кто занимается ее делом, еще тысячу лет. Мите о своих похождениях я, разумеется, не заикалась. Зачем его зря дергать? Ему и так хватало. Я приходила к нему после обеда и тащила в кино или гулять. До обеда он занимался математикой, а потом мы гуляли. Я гордилась, что он не забросил математику. Я всегда верила, что он по-настоящему сильный. И потом задачки отвлекают от разных мыслей еще получше, чем гуляния. Дома у Мити было так, словно только что увезли на кладбище покойника. Василиса Дмитриевна осунулась, почернела, но упорно твердила, что все уже обошлось благополучно и никакого суда не будет. Но я-то хорошо видела, как у нее обошлось. Когда так вваливаются глаза, не бывает, чтобы обошлось. Это сразу заметно, когда человек не в себе. Я замечала это даже по тому, как она радовалась мне. — Аллочка, погляди, милая, какие я Митюше тапочки на юг купила, — суетилась она. — И чемодан новый. Не поедешь же на юг со старым. Она хлопотала вокруг Мити и не знала, чем его еще угостить и как приласкать. А он сопел, хмурился и молчал. Но его тоже можно понять. Василисе Дмитриевне хорошо, она взрослая. А Митя еще не научился делать вид, что все прекрасно, когда на душе вот такое. Следователь в прокуратуре, до которого я добиралась целую неделю, оказался не то что дядя в отделе кадров. Правда, я его сразу предупредила, что Василиса Дмитриевна не моя мама, что она просто живет в соседнем доме. Он крутил за дужку очки и курил. У него все время шевелились губы: вытягивались, поджимались, ползали из стороны в сторону. И нос у него шевелился, и брови, и морщины на лбу. Словно у него ботинки жали или еще что. Я страшно волновалась. А потом немного успокоилась. Особенно когда он стал расспрашивать о нашей школе, об учителях, о моих родителях. Я у него, наверное, часа два просидела. Он из меня все до последней капелюшечки выжал. Сразу видно — настоящий следователь. Даже про Митю выжал, хотя я твердо решила молчать про Митю. — Спасибо, Алла, что разыскала меня, — сказал следователь, двигая губами. — К сожалению, дело Василисы Дмитриевны уже в суде. И я как следователь не в силах… — У нее очень… опасно? — спросила я. — Откровенно говоря, очень. Все так чисто сработано, что улики против нее. Послезавтра суд. К Мите я неслась так, будто оттого, что сообщу ему о страшной опасности на две минуты раньше, зависит исход суда. Я на ходу вскочила в трамвай и никак не могла найти три копейки. У меня ходуном ходили пальцы. Точно помнила: были три копейки. А теперь куда-то запропастились. В кармашке лежали лишь ключи от квартиры да носовой платок. На меня, наверное, весь вагон глазел, пока я трясла платок и сто раз вынимала ключи. Исчезли мои три копеечки, улетучились. Я поехала без билета. Что в конце концов билет? Послезавтра суд. Очень опасно. А тут билет. Даже смешно. Все равно что выводить прыщик на лице перед тем, как тебе отрубят голову. У Мити на столе стоял раскрытый новенький чемодан с молнией. Я запыхалась, словно вскарабкалась на вершину Эльбруса. Сердце у меня совсем зашлось. Но я все же прибежала вовремя. В самый раз. Ничего не зная, Митя собирался уезжать. Он укладывал в чемодан вещи. Мыльницу, полотенце, книжки по математике, рубашки. Я опустилась на краешек просиженного дивана и никак не могла унять лихорадку. У меня не проходило ощущение, будто сижу на острой верхушке, откуда вот-вот могу громыхнуть вниз. Главное, боялась испугать его. Мне-то что. А он сын. Родной. Про следователя я повела издалека. Но Митя сразу насторожился. — Следователь сказал, — тихо проговорила я, — что может случиться всякое. Только ты раньше времени ничего не думай. На суде там не дураки, они разберутся. Ты не бойся. И вообще, ты так взросло выглядишь, что тебя без всякого пропустят в суд. — Суд послезавтра? — переспросил он, аккуратно затягивая на чемодане молнию. — Почему же тогда мама говорит, что все обошлось и никакого суда не будет? — Ты же сам понимаешь почему, — сказала я. — Допустим, — согласился он. — Но у меня через три часа поезд. И билет уже в кармане. — Какой поезд, Митя?! — не сдержалась я. — Ты вообще думаешь? — Не кричи, пожалуйста, — сказал он. — Я хочу, Алла, чтобы ты мыслила здраво. Если я останусь, решение суда от этого не изменится. Это ты понимаешь? И тебя никто не просил ходить туда. Зачем ты мне рассказала про суд? Мама хочет, чтобы я ничего не знал. И она права. Так ей будет спокойней. — Митя! — поразилась я. — Как у тебя поворачивается язык? Ведь то, о чем я говорю, чистый квадрат гипотенузы. — Да пойми же! — почти взмолился он. — На юг посылают не каждого. Я еду именно из-за мамы. Если я останусь, это ее убьет окончательно. Скажу тебе откровенно: я и без тебя знаю, на какое число назначен суд, но специально делаю вид, что ничего не знаю. И все только для мамы, для ее спокойствия. — Врешь! — закричала я. — Не для ее! Так не бывает! — Ну, ладно, — сухо отрезал он. — Надоело. Есть вещи, о которых не принято говорить, как о веревке в доме повешенного. Но твоя наивность меня просто поражает. Неужели ты всерьез думаешь, что у нас под суд отдают просто так? К сожалению, Аллочка, дыма без огня не бывает. Раз судят, значит, вероятно, есть за что. Но за какие же грехи я-то, спрашивается, должен торчать здесь? Меня обожгло холодом. Я все-таки сорвалась с верхушки Эльбруса. — Знаешь, ты кто? — задыхаясь, выговорила я. — Ты… Ты… Я тебе после скажу, кто ты, если ты сейчас же не возьмешь назад все, что тут наплел, и посмеешь уехать. Ты услышишь мои слова, где бы ты ни был. Так и знай. И это на всю жизнь. Ясно? Катись! Загорай! Изучай свою подлую математику! Полощись в море! Проваливай! Его новенький чемодан с молнией я профутболила так, что он отлетел к комоду. Я выскочила во двор и бросилась в сарай. В щель я видела их дверь и ящики у окна. Я ждала, что дверь вот-вот распахнется, выбежит Митя и признается, что нагородил всю эту глупость от боли, сгоряча. Но дверь безмолвствовала. Через двор, сгорбившись, прошаркала Василиса Дмитриевна с полной сеткой и сумкой. Вскоре они вышли вместе с Митей. Митя нес чемодан, Василиса Дмитриевна — сумку. Они прошли рядом с сараем. — Ну, какие же это деньги, мама? — обиженно говорил Митя. — Разве мне хватит этих денег? — Я тебе сказала, что вышлю, Митюша, — оправдывалась Василиса Дмитриевна. — Мне обещали дать в долг. Я вышлю. Пройдя в подворотню, они скрылись за углом. И тогда я прошептала те слова. На всю жизнь. О том, кто он такой, этот самый-самый Митя. Митя, с которым я проучилась в школе восемь лет и ничегошеньки не заметила.

ОТРЕЗ НА КОСТЮМ
Вдоль забора раскинулись пышные кусты сирени. Сирень давно отцвела и теперь выбросила свежие побеги с чистенькими гладкими листочками. По бокам калитки две березы. Они соединились кронами, и над входом в мухинский дом получился густой зеленый шатер с висящими точно плети ветвями. Тропинка под шатром усыпана коричневатой, будто луковая шелуха, лузгой. Это березы выстлали рыжий ковер из своих облетевших сережек. И сирень, и березы около дома посадил Варин отец. В тот год, когда они с мамой поженились. И дом тоже срубил он. И скамейку, на которой сейчас сидела Варя, уцепившись за нее руками, поставил тоже он, Варин отец. Говорят, раньше у него все горело в руках. Теперь же скамейка давно подгнила и вот-вот завалится. А поправить ее в мухинском доме некому. В мухинском доме давным-давно все разваливается и еле держится. В скамейку Варя вцепилась так, словно боялась, что ее стянут отсюда силком. А вообще-то у нее был довольно спокойный вид. Она даже беспечно покачивала ногами. Сцепила их туфелька на туфельку и покачивала. Эти красные туфельки подарил Варе брат. Совсем недавно подарил, весной, вскоре после демобилизации. Приехал, устроился в ремонтные мастерские и с первой же получки подарил Варе туфельки. «Моей сестренке-завихренке, — сказал он. — А то стыдно смотреть, в чем ходишь». Он еще до армии называл Варю сестренкой-завихренкой. Но она тогда была маленькой, только перешла в шестой класс. Вылинявшее за день блеклое небо постепенно наливалось зеленью. Близился вечер. И вместе с его приближением Варю медленно окутывало тупое и злое безразличие. Это — как после контрольной, когда она уже позади. Сначала дрожишь, трясешься, а получишь двойку — и становится все трын-трава. И хочется только одного — чтобы тебя оставили в покое. — Ой, у меня сестренка-завихренка! — смеялся в таких случаях Коля. — Чисто ядерное горючее. Во двор безмолвно и виновато, будто боясь кого-то разбудить, стекались соседи. Шли со всего поселка. Угрюмо шуршали по рыжему ковру под березами. Смущенно покашливали в кулаки. Перешептывались. Качали головами. Курили. Кто заходил в дом, кто оставался во дворе. За Вариной спиной, через распахнутые окна, слышался звон посуды и ножей с вилками. Там накрывали стол. А Варя сидела и спокойно покачивала красными, одна на другой, туфельками. — Вот сюда, Ксюша, — бодро говорил за Вариной спиной отец. — И вот сюда. И огурчиков еще достань. У него всегда перед выпивкой голос становился бодрым и чуточку суматошным. Точно отец боялся опоздать или опасался, что ему не хватит. И даже то, что случилось, не изменило его. Но может, это Варе лишь казалось? Может, отец просто так умело держался? Мама вон как раскисла. Нужно же кому-то держаться. К Варе молча подсела мамина сестра, тетя Наташа, обняла за плечи. — Варюша, — шепнула она, пытаясь прижать девочку к себе. — Да чего вы?! — отдернулась Варя и стала еще быстрее раскачивать туфельками. — Отстаньте вы все от меня! — Не нужно, дружок, — примирительно сказала тетя Наташа. — Чего уж теперь. Они все говорили: «Чего уж теперь». Теперь! А раньше? Сами ни теперь, ни раньше палец о палец не ударили. Даже наоборот, помогали, чтобы так случилось. Мама вообще за последнее время словно выдохлась. Вспыхнет, накричит и снова помалкивает, будто ее ничего не касается. Перед глазами у Вари снова встали две новенькие половинки пиджака. Они висели на спинке стула, скрепленные сзади у воротника английской булавкой. Половинки держались лишь на одной булавке. Отец целую ночь стрекотал на швейной машинке, и утром Варя увидела на спинке стула эти две странные половинки. — Почему у тебя пиджак… такой? — удивилась она. То, что отец за последнее время стал шить совсем из рук вон, Варя знала. Но чтобы пиджак не застрочить сзади от самого воротника до низу, такого она еще не видела. — Так зачем сшивать-та? — бодро сказал отец. — Так удобней одевать будет. Удобней? Варю точно оглушило этим спокойным и практичным «удобней». Она вдруг с неожиданной отчетливостью поняла, почему удобней. Ведь это Коле вовсе не на свадьбу! Колину спину больше никто и никогда не увидит. Никогда! И снимать этот пиджак Коля уже никогда не снимет. На него наденут пиджак раз и навсегда. На все время, сколько будет светить людям солнце и крутиться наша планета Земля. До этого несшитого сзади пиджака Варя все видела, будто со стороны, как в кино. В кино иной раз ужасно страшно, и сердце совсем заходится. А сама в это время сидишь и лузгаешь семечки. Ведь все невсамделишное там, на полотне, и не с тобой. И вроде жутко, и в то же время интересно, и знаешь, что прибежишь сейчас домой, а у мамы на столе, в глубокой тарелке, прикрытые полотенцем, горячие оладушки. — Чего уж теперь, — повторила тетя Наташа. — Ты бы лучше о маме подумала. Ей-то каково? — Он мне вот эти туфли подарил, — сказала Варя, раскачивая ногами. — А у самого костюма не было. Военную форму донашивал. Тетя Наташа знала и про туфли, и про костюм, и про военную форму. Она вздохнула. — Сапожник, известно, всегда без сапог. Намек был, разумеется, на Вариного отца, на то, что он портной. И вообще на то, что все случилось из-за него. Все знали, из-за кого это случилось, весь поселок. А отец как ни в чем не бывало командовал сейчас в доме, бодро показывал, куда что ставить, и суматошно просил достать еще огурчиков. — Скажите, тетя Наташа, — тихо проговорила Варя, — разве так бывает, чтобы люди думали, будто они делают хорошее, а на самом деле делали самое-самое гадкое? — Что, дружок, гадкое? — не поняла тетя Наташа. Варя не ответила. Раскачивая туфельками, она исподлобья поглядывала на молча входивших во двор людей. Ей казалось, что они, все эти знакомые люди, сделали свое черное дело и теперь идут удостовериться — до конца ли? Ведь все они поперебывали у отца в заказчиках. Почти все. Варин отец работал закройщиком в пошивочной мастерской, что ютилась в одном доме с поселковым Советом и парикмахерской. Их там работало всего три человека — Варин отец, косой Павел со стеклянным протезом вместо левого глаза да сварливая тетка Василиса, которая разводила индюшек. Но сшить приличное платье или пальто ни косой Павел, ни индюшатница Василиса по-настоящему не умели. Умел один Варин отец. Раньше, говорят, он вообще шил получше, чем в любом первоклассном городском ателье. И мама убеждена, что именно это его и доконало. Каждому ведь за добрую вещь хочется отблагодарить мастера. Да и если он хорошо сшил, как ему снова не заказать? Вот и несли к нему заказы. Несли и еще умасливали, кланялись. И в мастерскую несли, и домой. — Выручи, Алексей, не откажи. В накладе тебя не оставим. Судя по всему, на умасливания люди не скупились, несмотря на то, что год от года отец шил все хуже. Или они привыкли, что он шьет хорошо, и ничего не замечали? Или боялись, как бы он в следующий раз не отказал? Или попросту некуда было больше податься? Готовое платье ведь не на каждое плечо купишь. Заказать же в городе — полгода стой в очереди да катайся на примерки. Тут на одних примерках целый костюм прокатаешь. А отцу чего было зря стараться, если, как ни сшей, все хорошо? У него постепенно и угас интерес к портняжному делу. Нет, ремесло, которое он когда-то избрал, было тут ни при чем. У него угас интерес вообще ко всему. Кроме, разумеется, одного. Ни у телевизора вечером посидеть, ни газету почитать, ни в клуб сходить, ни в город съездить — ничего. А зачем? Была бы рюмка. Лет десять назад купил он себе отрез на костюм, да так и не дошли руки до отреза. Ни к чему ему стал новый костюм. Сколько Варя помнит отца, он всегда ходил в старом, в засаленном и помятом. Брат, как вернулся из армии, с ходу заявил родителям: — Я женюсь. Краснощекая доярка Катюша Прохорова из соседнего совхоза «Коммунар» его честно прождала два года. Ни с одним парнем не гуляла. Но мать, как все, наверное, матери, сразу в слезы. — Не спеши ты, сынок. Встань ты сначала хоть чуток на ноги. У отца свой резон. — И впрямь, чего тебе торопиться? Чать не горит. Успеешь. Садись-ко. Вот и свой человек к застолью у отца подрос. И усы на губе. Мать с Варей сдуру, по такому особому случаю сами им еще и закуски на стол выставляли. Лишь бы Колю удержать.

Удержали! Не успели оглянуться, оказалось, молодые уже и подвенечное платье в городе купили. В магазине молодоженов. — Ну что ж, а костюм я тебе сам сошью, — с гордостью сказал отец, доставая из комода черный отрез. — Не, не нужно, батя, — стал отнекиваться Коля. — Чего ты мне сошьешь? Не нужно. Мы купим. Однако такого отреза, что хранился у отца, оказалось, теперь не купишь. И Коля сдался. Тем более, подсчитали они с Катюшей — с деньгами к свадьбе получалось не очень густо. Хоть мотоцикл продавай. А на чем тогда гонять в «Коммунар»? Семь километров туда, семь обратно — не шибко пешочком разбегаешься. Мерку отец с Коли снял, а раскрой день за днем откладывал. Куда спешить? Он никуда никогда не спешил. Или, может, отец в самом деле решил по-настоящему сшить костюм, тряхнуть стариной? И знал: по-настоящему оно под хмельком не выйдет. Тут крепкая рука должна держать мел и ножницы. Только где она у него, та давнишняя крепкая рука? С работы бредет уже веселый. Дома ни-ни, в рот не брал, матери с Варей боялся. Вари даже еще, пожалуй, больше, чем матери. У Вари чересчур глаз острый и никакой жалости к материальным ценностям. Мать пошумит и отойдет. Чтобы там посудину с содержимым кокнуть или еще что, на это у нее рука не поднималась. Варя же отыщет бутылку — садит с маху обо что ни попади: о стол, об угол дома, о чурбан для колки дров, о березу. Кричит: — Сам пьешь, зачем Кольку-то спаиваешь? — Во у меня сестренка-завихренка! — радовался уже подвыпивший Колька. Поэтому отец с работы вернется и дома уже ни-ни. Ну, в смысле, при всех, в комнате. А из дому на несколько минут выскользнет — до сараюхи ли в глубине двора, до уборной ли — и уже еле языком воротит. Где приткнется, там и заснет. Какой уж тут свадебный костюм! Позавчера, как всегда, заявился добрее некуда. Потянулся приласкать Варю. Она увернулась от него, огрызнулась: — Да ну тебя еще! — Конфетку хоть возьми, доченька, — протянул он ей леденец в синей обертке. У него всегда водились в карманах леденцы. На Варину ершистость он не обижался. Говорил: — Очень я вас всех люблю, родные вы мои. — Ешь, ешь! — стукнула ему на стол мать тарелку со щами. — Любишь! Любил бы, не наливал каждый день глаза. Не могу я так больше, повешусь я когда-нибудь через тебя, изверга. На крыльце вон половицы прогнили, того и гляди ноги переломаем. Крыша течет. Забор совсем к Евсюковым завалился. — Так чего? — решительно отвечал отец. — Вот возьмусь и враз все починю. И забор, и крышу, и крылечко. Это ж пара пустых, Зинуш. А если ты думаешь, что я выпимши, то я и не пил сегодня ничего. Единую кружечку пива. Честное слово. Я ж всю получку тебе до копеечки приношу. А хочешь, я и вовсе заброшу пить. Это ж пара пустых. Я ж тебя знаешь как люблю, Зинуш. Я вас всех очень люблю, родные вы мои. Он каждый день говорил одно и то же. И все у него было «пара пустых». Мать лишь устало вздыхала и безнадежно махала на него рукой. Во дворе у сараюхи возился с мотоциклом Коля, собирался к своей Катюше в «Коммунар». Уцепившись за руль, рывком толкал ногой заводную педаль. На лоб из-под шлема выбилась у него мокрая прядь волос. Зеленая гимнастерка меж лопаток взмокла темной полосой. — Не заводится, Коль? — участливо спросил отец, пристраиваясь у открытого окна. И засмеялся: — Не подмажешь, не поедешь, сынок. Видал, бездушная мотоцикла, а и та понимает. На голове у Коли сиял красный шлем. Точно под цвет пузатой «явы». — Свечи посмотри, сынок, — посоветовал отец и потопал с крыльца на подмогу к сыну. Присев на корточки, они поколдовали над серебряными мотоциклетными потрохами. Заходили в сараюху, снова возвращались. Металлически постукивали ключами. Варя все это видела вполглаза. Она читала в комнате страшно интересную книгу: «Голова профессора Доуэля». А мать ощипывала у плиты курицу. От книги Варю оторвал слишком резкий, как взрыв, рык мотоцикла. Выбрасывая плотный сизый дым, «ява» с тарахтением и треском взвыла, будто от боли. И еще Варе не понравилось, как Коля рывком взял с места, удерживаясь на крутом повороте левой ногой, как лихо, не притормаживая, вылетел через калитку между стволами берез на улицу. Глаза у отца, когда он неуверенно входил в комнату, были красными и сонно закатывались под верхние веки. Ткнувшись плечом в дверной косяк, он вяло погрозил кому-то пальцем, пробормотал: — Я вас всех люблю. Мне любой мотоцикл — пара пустых. — Папа! — возмущенно крикнула Варя. — Опять? И Коле небось дал? Мать равнодушно ощипывала у плиты курицу и даже не оглянулась. Она, наверное, действительно, очень устала от отца. Варя кинулась в сараюху и быстро отыскала под ворохом стружки на верстаке пустую зеленую бутылку. На этикетке с желтеньким, под золото, кантом и маленьким, бегущим в половинке красного солнца оленем чернело слово из пяти ненавистных букв — «Водка». И тут же из-за покосившегося забора не своим голосом закричала соседка Евсюкова: — Мухины! Му-ухины! Там… за гумном… На повороте… Ваш Коля… Она объяснялась больше жестами и вылезшими из орбит перепуганными глазами.

К гумну Варя с матерью бежали напрямик, через огороды. И уже издали увидели небольшую толпу. На повороте шоссейки стояла у обочины пустая полуторка. Из-под ее колес метров на десять уходили по асфальту четыре черных, будто прочерченных углем, полосы — тормозной след. Лейтенант ГАИ в милицейской форме что-то измерял рулеткой, натягивая ее от лежащего на боку мотоцикла с выбитой фарой. Толпа расступилась, пропуская Варю с матерью. На безмолвный вопрос о Коле сердобольные женщины замахали руками в сторону поселка: — В больницу его увезли, Зинаида. Живой он, живой. Ничего с ним не станет, оклемается. Просто ударился, видно, шибко. Коля скончался утром на другой день. Не приходя в сознание. Автоинспекция записала: «В состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением мотоциклом…» В больницу Варю не пустили. Она так до самых похорон и не увидела больше брата. Вылетел позавчера вечером со двора на мотоцикле, и сразу будто завертели страшное кино. А потом сегодня утром эти две, скрепленные у воротника английской булавкой, половинки пиджака, про который отец бодро сказал: — Так зачем сшивать-та? Так удобнее одевать будет. Он словно радовался, что не нужно делать лишнюю работу, и гордился своей портновской смекалкой. А вернее всего, просто с раннего утра уже успел приложиться к бутылке. Но одевать Колю в эти половинки, наверное, действительно было… удобнее. В новеньком черном пиджаке брат показался Варе красавцем. Ни единой царапинки на лице. Лежал в гробу, словно спал. И даже вроде чуть улыбался синеватыми плотно сжатыми губами. — Помянуть нашего сыночка заходите, помянуть, — суматошно приглашал отец расходящихся с кладбища людей. — За упокой души рюмочку. Свежий холмик укрыли живыми цветами. Соседи увели мать под руки. Она еле шла, спотыкалась и держала у свалившегося на грудь подбородка скомканный в кулаке платок. А отец все суетился, приглашал, точно радовался возможности выпить не таясь, не прячась по разным сараюхам. — Идем в дом, дружок, — сказала тетя Наташа, поднимая Варю со скамейки. — Идем, собрались уже все. Гости молча рассаживались за длинным столом, с трудом втискиваясь один к другому. Варю зажали между тетей Наташей и Катюшей Прохоровой. Катюша была в черном платье, как вдова. И на волосах капроновый черный платочек. Она осторожно, кончиками пальцев, вытирала со щек слезинки. Слезинки дрожали на распухших веках и скатывались на белые щеки. В рюмках подрагивали вино и водка. И в бутылках. На бутылках с водкой в красных половинках солнца бежали малюсенькие олени. Варю поташнивало от одной мысли, что нужно есть и пить. Она тупо смотрела на маленького белого оленя. И красную половинку солнца. Красную, как Колин шлем. — Ну, — сказал отец, — пусть будет ему земля пухом. За светлую память. Варя подняла глаза. Отец стоял с рюмкой. Он торопился. Он. всегда, когда рядом была бутылка, торопился. В рюмке дрожала водка. Водка из точно такой же бутылки, что Варя нашла позавчера на верстаке под стружками. Коля выпил из этой бутылки с красной половинкой солнца. А теперь собирались пить из таких же бутылок за светлую о нем память. Как в насмешку. —- Ну, — сказал отец, — все налили? — Нет! — вскочила Варя. — Нет! Нельзя так! Он погиб через эту самую проклятущую водку! И теперь снова… ею же… С правого бока Варю испуганно тянула вниз тетя Наташа. У Катюши округлились и застыли в безмолвном ужасе глаза. Мама уронила лицо в ладони. Над столом поплыл ропот. — Надо же, как распустили девчонку. Чего она себе позволяет. — Вам не нравится?! — срывая голос, закричала Варя. — А зачем вы отца умасливали, спаивали его? Вы! Вы все! Получку он всегда маме до копеечки приносил. А пил на ваши. И Колю он убил на ваши! Отшвырнув стул, она вырвалась из-за стола, бросилась во двор. Через калитку между березами — на улицу. И бежала, бежала, пока, задохнувшись, не свалилась в густую траву далеко за поселком. Она ревела в голос, каталась по траве, бессильно колотила кулаками в землю. И постепенно затихла. Лишь изредка у нее снова начинали вздрагивать острые плечи и покатая спина с резко проступающими сквозь тоненькое платье позвонками.
ВЫСШАЯ МЕРА
В бадминтон играть — не брюкву полоть. Играть рвались все. А ракеток было только шесть. И хранились они в палатке физика Олега Григорьевича. Из-за этих ракеток после работы разгорались целые сражения. На этот раз тоже шло сражение. Олег Григорьевич наблюдал за ним через видоискатель киноаппарата «Кварц». Соломенная шляпа висела у физика на затылке. Круглый животик мешал ему приседать. Олег Григорьевич пытался взять кадрик снизу. Антоша пролез между ног сражающихся и нырнул в палатку. Какая-то дылда наступила Антоше грязным кедом на руку. Палатка трепыхалась и раскачивалась. В конце концов она все же рухнула, и Антошу накрыло брезентом. Сразу сделалось тихо. Потому что все, конечно, мгновенно удрали. Антоша нащупал в темноте две ракетки, немного отдохнул и полез к свету. — Явление Христа народу, — сказал Олег Григорьевич, жужжа в Антошу киноаппаратом. — Странно лишь, Антон, что ты держишь ракетки не в зубах. Когда в зубах, то удобней ползать. За спиной физика стояла председатель совета лагеря Римма Ясевич. Сурово сдвинув черные брови, она сказала: — Имей в виду, Тонечка, это тебе так просто не сойдет. Она называла Антошу «Тонечкой». И ему вообще никогда ничего не сходило. Он уже привык к этому. Но ракетки ему тоже были нужны позарез. Вчера после прополки брюквы Женька Струменский всех подряд обыгрывал в бадминтон. А Антоша стоял «на мусор». Люся Кибиткина упрашивала пустить ее без очереди, но Антоша ее не пустил. Он хотел высадить Женьку, чтобы самому сыграть с Люсей. Но разве Женьку высадишь? Женька в два мига общелкал Антошу. Потом Женька «общелкивал» Люсю и подсмеивался над ней. Он все время над всеми подсмеивается. У него, конечно, и глаза выразительные, и на артиста Баталова он смахивает, и зубы у него не гнилые, как у Антоши, а ровные и белые. Только будь у тебя хоть какие зубы, все равно нехорошо подсмеиваться над людьми. Антоша спрятал под рубашку ракетки и отправился разыскивать Люсю. Люся сидела за палатками на перевернутом ведре и читала журнал «Экран». Она мечтала стать кинозвездой. Даже синяя лента в ее волосах была повязана в точности, как у какой-то знаменитой актрисы. Люся подняла на Антошу синие глаза и спросила: — Что, уже горн на обед был? — Нет еще, — просопел Антоша, вытаскивая из-под рубахи ракетки. — Перекинемся? Он постукивал ракетками по ладони. В груди у него тоже что-то постукивало. Он уже целую неделю мечтал сыграть с Люсей. И тут случилось такое, чего кто угодно не стерпел бы. — Мне некогда, Антоша, — ответила Люся. — Мне еще нужно с Женей Струменским кое-что к вечернему «Огоньку» подготовить. Во как! Антоше из-за этих ракеток чуть руку не отдавили, и еще на Римму Ясевич наскочил, а ей некогда. И опять со своим Женей! Он над ней подсмеивается, а она с ним. — Да что ты приклеилась-то к нему? — возмутился Антоша. — До потери сознательности влюбилась, да? Люся вытаращила синие глаза, вскочила и закрылась журналом. Загрохотало ведро. Люся бросилась к палатке, споткнулась о веревку и упала. Плечи и спина у нее вздрагивали. И тотчас перед Антошей вырос Женька Струменский. На упругих Женькиных щеках сияли веселые ямки. — Сударь, — важно произнес он, — вы меня оскорбили, защищайтесь. — Клоун фиговый! — завопил Антоша и треснул по красивой Женькиной голове сложенными вместе ракетками. — Питекантроп крупнозернистый! Невозмутимый Женька насупился и сказал: — Я требую удовлетворения. — Что? — растерялся Антоша. — Какого удовлетворения? Драться, что ли, хочешь? — Совершенно точно, — подтвердил Женька. — Но, разумеется, не на кулаках. Я слабеньких не бью. Я тебя разделаю под орех культурным способом. Чтобы больше не обзывался и не размахивал ракетками. Женька вообще был ужасно культурным. Он говорил, что кричат и возмущаются лишь дикари и невоспитанные люди. А воспитанные го́лоса не повышают. — Пожалуйста, — тихо ответил Антоша. — Мне что? Только подсмеиваться над всеми — это еще хуже, чем обзываться. Встречу они назначили на дальней поляне у болота. Условия поединка Женька разработал сам. У Антоши от его условий по телу мурашки побежали. Но отступать было некуда. В секунданты Антоша взял тихого Валерку по прозвищу Рыба. Валерка никому ни в чем не отказывал и умел держать язык за зубами. Женька явился к болоту с Риммой Ясевич. Антоша прямо опешил, когда увидел его с Риммой Ясевич. Совсем обнаглел человек. Он бы еще Олега Григорьевича с киноаппаратом притащил. — Где это ты видел, — спросил Антоша, — чтобы в секунданты женщин брали? Но Женька знал, кого брать. Женькина секундантша кольнула Антошу коричневыми глазами и бросила: — Ишь какой разговорчивый сделался. Начинайте давайте. Женька важно скрестил на груди руки и выставил правую ногу. Антоша вздохнул и тоже скрестил руки. С болота тонкими слоями полз туман. В торжественной и печальной тишине густо звенели комары. Дуэлянты застыли в пяти метрах друг перед другом. Двигаться условия дуэли запрещали. Можно было лишь шевелить губами, ресницами и, если умеешь, ушами. Сраженным считался тот, кто первым не выдержит и отгонит комара рукой. Сраженный был обязан в присутствии секундантов извиниться перед соперником. Антоша из-под губы дул на комаров и вертел носом. Женька равнодушным взглядом скользил по верхушкам деревьев. На комаров он не дул. Он делал вид, что ему доставляет огромное удовольствие стоять у болота и подставлять свою физиономию на растерзание хищникам. Один особенно крупный хищник впился в Антошин лоб над бровью. Антоша никак не мог его сдуть. И других хищников он тоже не мог сдуть. Антоша моргал, двигал бровями, щеками и челюстью. Рыба смотрел на него и морщился. Антоша двигал челюстью словно корова, которая жует жвачку. Только в тысячу раз быстрее. Губы у него распухли. Он горел, словно с него содрали кожу. Комары вгрызались в Антошу сквозь штаны и кеды. Потом Антоша катался по сырой траве. Он визжал и рычал. Из глаз, которые сузились, как у японца, сами собой текли слезы. Губы стали, как у негра. Он плескал на пылающее лицо водой из болота и остервенело скреб кожу. — Неужели так сильно чешется?— поинтересовался Женька, когда Антоша немного очухался. — Я жду извинений. Опустив заплывшие глаза, Антоша извинился перед ним. Он сказал, что несправедливо обозвал Женьку фиговым клоуном и крупнозернистым питекантропом. На Женькином лице не было ни одного пятнышка. Римма с удивлением смотрела на Женькино лицо. Оно блестело, будто от пота. — Ты что… мазался никак? — недоуменно проговорила Римма. — Конечно, — с милой улыбкой подтвердил Женька. — «Тайгой». Лучшее средство против комаров. Ему ведь тоже никто не запрещал мазаться. Просто в каждом деле, канареечка-пташечка, мозгой шевелить надо. Рыба молча сопел и хлопал глазами. Черные Риммины брови слились в одну черту и сползли на переносицу. — А Дантес? — тихо спросила она. — Дантес что, тоже, по-твоему, мозгой шевелил, да? Говорят, он перед дуэлью с Пушкиным под рубашку кольчугу надел. Это ты знаешь? — Нет, — вздохнул Женька, — этого я не знаю. Это давно было. Мало чего теперь придумать могут. Римма зло дернула Антошу за руку и увела к лагерю. Она вела его как все равно маленького. Вместе с Рыбой она ставила ему на лицо примочки. Ребята сбежались поглазеть на его страшную физиономию. Всех очень интересовало, как это он умудрился так распухнуть. И молчаливый Рыба объяснял, что Антоша случайно заснул в самом комарином месте. Олег Григорьевич отснял Антошу крупным планом и посоветовал ему в следующий раз лечь спать на муравьиную кучу. — Тогда я буду иметь возможность, — сказал он, — получить уникальные кадры чисто обглоданного скелета. Когда горн пропел отбой, Антон забрался в палатку и устроился на своем жестком ложе. После примочек и мазей лицо горело уже не так сильно. В темноте было слышно, как рядом ворочается Женька. В палатке галдели ребята. Кто-то зажег фонарик. Светлое пятно металось по потолку. Покачивался посредине палатки столб. Брезент над головами двигался и дышал. — Тоже мне — Пушкин, — шепнул над Антошиным ухом Женька. — Надулся, будто тебе виноват кто. Антоша промолчал. Он твердо решил не разговаривать с Женькой. — Сильно болит? — спросил Женька. Антоша не ответил. Женька еще что-то шептал и доказывал, а потом прошипел: — Ладненько, посмотрим, как ты завтра запрыгаешь, когда все узнают, почему ты меня ракетками стукнул. Из-за любви к Кибиткиной стукнул. Вот почему. — Дурак! — подскочил Антоша. — Из-за какой любви? Но Женька высказал свой ультиматум и повернулся к Антоше спиной. Хорошо хоть, в палатке стоял галдеж — и никто ничего не услышал. Антошу даже в жар бросило оттого, что кто-нибудь мог такое услышать. На другой день ребята с утра пололи брюкву, и Антоша ни на шаг не отходил от Женьки. Он хлопал Женьку по спине, чтобы показать ему свое хорошее отношение, и громче других хохотал над его дурацкими шуточками. — У, Женька! — захлебывался он. — Во даешь, бродяга! Женька прыгал через грядки, кривлялся, всех задевал и фантазировал про кибернетическую прополочную машину. — Закладываешь, значит, в нее программу, — шумел он, — брюкву не трогать, все остальное выдергивать! И поехали. А так откуда я знаю, которая брюква, которая не брюква? На ней не написано. Может, я все наоборот повыдергиваю. Грядки уходили в бесконечность. Было жарко и душно. В блеклом небе плавал коршун. У ручья в низине теснились кусты. Женька присел рядом с Антошей и двумя пальцами брезгливо дергал травинки. На грядку упала тень. Антоша поднял голову. Римма Ясевич с ухмылочкой посмотрела ему в глаза и проговорила: — Тряпка ты все-таки, Тонечка. А Женьке она сказала: — Знаешь, Струменский, надоело. Честное слово. Или кончай ерундить, или мотай отсюда. Перепачканные в земле руки Римма держала у бедер. Ладони у нее были подняты, как у балерины на сцене. — Что ты, канареечка, — с напускным испугом забеспокоился Женька. — Я тружусь, пташечка. Запарился аж. Он прицелился в грядку, секунду подумал и двумя чистыми пальцами ловко выдернул рассаду. — Во! Римма ударила его по руке. — Дурочку строишь? — Люди! — заголосил Женька. — За что бьют трудящего человека? Люди! К ним подошел Олег Григорьевич. Постукивая ладонью о ладонь, чтобы очистить с рук землю, сказал: — Минуточку, Ясевич. Если мне, однако, не изменяет память, совет лагеря постановил работать только на добровольных началах. — Зачем же он тогда ехал с нами? — вспыхнула Римма. — Он о работе еще в городе знал. — Я ехал только на добровольных, — вставил Женька. — Олег Григорьевич совершенно прав. А здесь что? — Так Олег же Григорьевич! — беспомощно закричала Римма. — Он ведь издевается над нами. Разве вы не видите? — Неужто издевается? — удивился физик. — А какие у тебя претензии ко мне? Я ведь тут как бы вроде завхоза. Чтобы продуктами вас обеспечивать. Остальное вы уж сами. Так, кажется, в школе порешили? Женька опять выкрутился. С него все скатывалось, как с гуся вода. Когда физик отошел, Женька стал кривляться еще больше. Он кривлялся и тайком бросал взгляды в сторону Люси Кибиткиной. А Антоша уже больше не мог хохотать над его шутками. Антоше стало так стыдно, что он не мог поднять глаз. Он прополол в тот день грядок в два раза больше обычного. Он прямо спину не мог разогнуть к обеду. На вечернем «Огоньке», после песен и подведения итогов дня, Римма зачитала приказ совета лагеря. — За увиливание от работы, — прочитала Римма, — совет лагеря постановил: предоставить Струменскому три дня отдыха. Костер стрелял искрами. Вокруг замерла ночь. Ребята от удивления замерли тоже. — Во дают, — буркнул кто-то. — Ты тут вкалывай, а он пузом вверх валяться будет. Женька крикнул: — Что-то вы не додумали там, начальнички! Вроде как масло масляное получается. — Ничего, — сказала Римма. — Не беспокойся. Наказание безделием — самое сильное наказание. Человек даже сам не знает, что он не может сидеть без дела. Мы никого не заставляем ходить на прополку. Олег Григорьевич тоже сидел у костра. В физика летели искры. Они впивались в его лыжную куртку и гасли. Олег Григорьевич молчал. Вместе с дымом искры улетали в небо. И на небе зажигалось все больше и больше звезд. Римма ошиблась. Может, другие люди действительно не могут сидеть без дела, а Женька мог. Сколько угодно. На другой день Женька слонялся по пустому лагерю и веселился. — Давай, давай! — кричал он дежурной команде, которая тащила из леса сушняк для кухни. — Жми, работай, ребятки! Я бы помог, да мне нельзя. Я наказанный. А вечером он отозвал Антошу за палатки, пощупал на своей голове макушку и сказал: — Солидная шишечка. — Какая шишечка? — не понял Антоша. — От ракеток, — пояснил Женька. — До сих пор не проходит. — Так я же тебя сеткой! — возмутился Антоша. Антоша догадался, к чему клонит Женька. Он хотел, чтобы Антоша тоже не ходил на работу. Чтобы он сидел вместе с ним. За компанию. — Нет уж, — твердо сказал Антоша. — Хватит с меня. — Жаль, — вздохнул Женька и снова пощупал макушку. — Надо ведь так шибануть. Из-за любви к какой-то Кибиткиной и наварить хорошему человеку такую шишку. Ай-ай. — И не люблю я ее вовсе, — со слезами в голосе проговорил Антоша. — Откуда ты взял-то, дурак? — Ну вот, — обиделся Женька. — И еще дураком обзывается. Завтра же ставлю вопрос на «Огоньке». Пускай ребята сами разберутся, кто кого любит. Но разбираться на «Огоньке» не пришлось. На другой день Антоша на работу не пошел. Перед построением он удрал в лес. Ему хотелось удрать вообще. Насовсем удрать из лагеря. Сесть на попутную машину и рвануть к маме в город. Но он никуда не рванул. Лишь только строй пропылил в поле, он, как побитый пес, приплелся обратно в лагерь. Первым, кого Антоша увидел, был Рыба. — И ты? — удивился Антоша. Рыба покраснел, опустил голову и стал отвертывать на шортах пуговицу. Женька появился, как из-под земли. Запустив камнем в сосну, сказал: — Рыба понимает, что такое настоящая дружба. Айда в бадминтон играть. Антоше в бадминтон не хотелось. Валерка немного помахал ракеткой и отказался тоже. Они уселись у костров, на которых варился обед. — Что это вы не в поле? — спросила у Антоши и Рыбы дежурный главный повар Таня Белкина. — Рука у меня что-то, — буркнул Антоша. Рыба посмотрел на Антошины руки, молча взял топор и стал рубить ветки. Дым ел глаза. Антоша сел по другую сторону костра. Там тоже ело глаза. Антоша даже закашлялся от дыма. Тогда он собрал в клеенку миски и потащил их мыть на речку. Они с Рыбой мыли посуду и рубили дрова, шуровали костры и размешивали поварешкой густую кашу. Они старались и спешили, словно на соревнованиях. И дежурная команда тоже за ними спешила. Огонь полыхал, как в доменной печи. Ребята и сами не замечали, что торопятся. А может, замечали, да просто на всех какой-то азарт нашел. Не успели оглянуться — обед готов. — Ай да мы, — сказала главный повар Таня Белкина. Она попробовала степной суп, посмотрела на редкие облака и бросила в котел еще три столовые ложки соли. Пшенную кашу с мясом Таня тоже попробовала. Она пожевала ее, пошевелила губами и определила, что каша вполне съедобная и даже вкусная. — А вообще-то, — подумав, сказала она, — это не так уж хорошо, что обед сварился рано — перепарится. Больше делать было нечего. Антоше не сиделось на месте, и он предложил организовать поход за дровами. Вокруг лагеря лес от сухостоя уже очистили, и идти нужно было далеко. Идти захотели все. — Всем нельзя, — рассудила главный повар Таня Белкина. — Кто-то должен остаться у костров. Нужно держать костры на маленьком огне. — Я останусь, — раздался голос Женьки Струменского. — Все равно я наказанный. Таня Белкина посмотрела на него недоверчиво. — Катите, катите, — махнул рукой Женька. — Огонь поддержать как-нибудь сумею. — Только совсем-совсем маленький, — сказала Таня. — Совсем-совсем, — заверил ее Женька. Ребята отправились в лес. Женька остался у костра. Он сидел на сучкастой коряге, которую никто не мог разрубить, такая она попалась крепкая, смотрел в огонь и задумчиво шевелил прутиком раскаленные угли. Вполне съедобную и даже очень вкусную пшенную кашу с мясом после обеда пришлось отнести в деревню свиньям. Свиньи ее, кажется, ели. Главный повар Таня Белкина намертво засунула нос в согнутую руку и глухо всхлипывала. Олег Григорьевич сказал «однако» и стал заводить киноаппарат «Кварц». Римма Ясевич подскочила к Струменскому и захлебнулась от возмущения. — Ну, знаешь! — только и смогла выговорить она. Оказалось, что, когда ребята ушли в лес, Женька налил себе миску супа, наелся каши, накидал под котлы дров и захрапел в тени под кустом. Суп здорово выкипел, но есть его было можно. А каша стала черной, как копченая селедка. Вокруг котлов в молчании столпился лагерь. Женька боком поглядывал на ребят и обкусывал на пальце ноготь. — Ладно, чего там похороны разводить! — крикнул кто-то из мальчишек. — И без каши обойдемся. Не похудеем. — Обойдемся! — не очень дружно поддержали его. — Такое со всяким может случиться. — Что — со всяким?! — закричала Римма. — Что — со всяким? Разве дело в каше? Сам-то он поесть не забыл! Успел! Понимаете вы? Успел! По завязку наелся! Все работали, а он ел. Лежал под кустом и ел. Какое он имел право есть без нас? Какое? От злости и возмущения она топала ногой и чуть не ревела. — Ой, ой, — обнял ее за плечи Олег Григорьевич. — Нервишки, председатель. А собираешься в педагогический. Он обернулся к Тане Белкиной: — Что, шеф-повар, кашу будем оплакивать или обедать? Горна я что-то, однако, не слышу. Горнист кинулся к палатке за горном, и над лесом звонким эхом прокатился сигнал к обеду. На вечернем «Огоньке» Римма Ясевич зачитала новый приказ. Сначала в нем шло про то, за что Женька наказывается. А когда Римма произнесла: «Приговорить Евгения Струменского к высшей мере наказания», — у костра сделалось так тихо, что стало слышно, как звенят комары и булькает вдали по камням речка. Женька поднял брови и посмотрел на Олега Григорьевича. Но физик сам с интересом ждал, что будет в приказе дальше. Женька побледнел. Даже в красных отблесках пламени было видно, как у него отлила от лица краска. — Встань, Струменский, — приказала Ясевич. Он медленно поднялся и, разведя руки, пробормотал: — Я ведь не нарочно, ребята… — Приговорить Евгения Струменского, — сурово повторила Римма, — к высшей мере наказания: двум дням сидения на троне. У костра зашумели. Женька сглотнул слюну и сунул руки к огню. Женька просто грелся. Женька улыбался. Он любил шутить сам и хорошо понимал шутки. — С трона их величество, — читала Римма, — имеют право вставать только в случае крайней необходимости и после сигнала «отбой». Всем оказывать их величеству знаки королевского внимания и беспрекословно выполнять все их просьбы. В приказе было и про Антошу с Рыбой. Они назначались к Струменскому вроде пажей на побегушках. Трон для Женьки соорудили из толстых ольховых жердей. Мальчишки постарались на совесть. Трон вышел отличный. Высокая, метра в три, спинка, удобные подлокотники, две ступеньки под ноги. На сиденье кто-то из девочек пожертвовал пуховую подушку. Девчонки же придумали и герб на спинку. На листе ватмана они вывели гуашью: «Его величество Канареечкин-Пташечкин». Надпись изгибалась дугой. В дуге чернела ворона с двумя головами. В каждой лапе она держала по большой деревянной ложке. Женька восстал именно против герба. — Про него в приказе не было, — буркнул он и на трон садиться отказался. С гомоном и шутками его усадили силой. Женька брыкался. Трон скрипел и грозил развалиться. — Ладно! — с хохотом завопил Женька, увидев, что ему все равно со всеми не справиться. — Царствую! Прочь от трона! Не то живо сошлю на каторгу… брюкву полоть. Ну! Его отпустили и стояли полукругом с застывшими улыбками. Боялись, что вскочит и удерет. И еще всех немного ошарашила первая тронная речь их величества. Женька сам повел игру. Он это умел. Он поправил под собой подушку, закинул ногу за ногу и произнес: — Нам жарко. Девчонки, которые стояли поодаль, сдержанно фыркнули. Только одна Люся не фыркнула. Она посмотрела на Женьку большими холодными глазами, в которых мелькнуло что-то такое, от чего можно спокойно провалиться сквозь землю. — Нам жарко, — как ни в чем не бывало повторил Женька. Взоры всех обратились на Антошу с Рыбой. Им сунули в руки по лопуху и подтолкнули к трону. От стыда Антоша сжался в комок и не сразу понял, что от него хотят. Он догадался об этом только тогда, когда увидел по другую сторону Рыбу, покорно махающего у Женькиного лица лопухом.

— Лафа на престоле, — кривлялся Женька. — Чего бы нам еще захотеть? Хотим клубники с птичьим молоком. Со сгущенным. Вызвать к нам немедленно министра торговли и продовольствия.

Но тут Женька заметил нацеленный в него глаз киноаппарата «Кварц». Женька вырвал у Рыбы лопух и закрыл им лицо. — Мы желаем спать, — сказал Женька. — Ша! Тихо! Он откинулся на спинку трона и замолк. — Однако, — пробормотал Олег Григорьевич и опустил киноаппарат. — Чего он еще? — закричали ребята. — Подумаешь! У Женьки отобрали лопух. Женька грозил немедленно всех казнить и сослать на каторгу. Он отвертывался и прятал лицо. — Ладно, ребята, — сказал Олег Григорьевич. — Струменский человек скромный. Он не хочет увековечивать себя для потомства. — Во! Точно, — подтвердил Женька. — А вы тут… У, подлизы несчастные. Когда лагерь ушел в поле, Женька слез с трона и растянулся на траве. Антоша с Рыбой молча сидели спиной друг к другу. Лошадь Манька, на которой ездили в сельмаг за продуктами, пощипывала на поляне траву. В небе пел жаворонок. А Антоше было так тошно, хоть беги и кидайся вниз головой в реку. И еще в Антоше закипала злость. Даже не злость, а настоящая ярость, от которой что-то нетерпеливо подрагивало внутри. Закусив губу, Антоша искоса глянул в Женькину сторону. Ни с того ни с сего Женька, который никогда не повышал голоса, заорал: — Ну, чего вылупился?! Чего? — и, вскочив, бросился на Антошу. Антоша, кажется, даже обрадовался, что он на него бросился. Они дрались молча и ожесточенно. Рыба еле разнял их. — Перестаньте, да перестаньте же, — бормотал Рыба. — Вас ведь теперь обоих из лагеря выгонят. Предупреждали же, за драку сразу выгонят. У Женьки оказалась сильно содранной скула и под глазом расплылся здоровый синяк. — Теперь конец, — вздыхал над Женькиным синяком Рыба. — Теперь сразу увидят, что вы дрались. Где-то внутри Антоша даже обрадовался, что наконец-то все кончилось. Только было противно, что выгонят его из лагеря вместе с Женькой, который с первого дня дожидался этой счастливой минуты. Конечно, если у Женькиных родителей дача, то там ему, наверное, будет не хуже, чем в лагере. — Можно сделать, что и не заметят ничего, — пробормотал вдруг Женька, осторожно притрагиваясь к содранной скуле. — Вполне можно. Только мозгой нужно немножечко шевелить. Он исподлобья взглянул на Антошу с Рыбой и медленно направился к лесу. Вечером лагерь облетела весть, что Женька Струменский пропал. В лагере поднялся переполох. Антоша рассказал Римме и Олегу Григорьевичу про драку и чувствовал себя последним преступником. Отряды прочесывали лес, и Римма в десятый раз заставляла Антошу с Рыбой повторить, что было перед тем, как Женька ушел. — Ну, ну, — успокаивал ее Олег Григорьевич. — Нам с тобой, конечно, тоже не поздоровится. Мне так наверняка голову отвинтят. Но все же, если что, хуже всех будет прежде всего ему. — Не нужно было этот трон, — твердила свое Римма. — И чего меня дернуло? Ой, не нужно. Ребята орали хором: — Стру-мен-ский! Женька сам вышел навстречу ребятам из чащи. Лицо у него было страшное: пятнистое, распухшее и с фиолетовым отливом. — Однако, — растерянно протянул Олег Григорьевич. — Ты, конечно, как я догадываюсь, совершенно случайно заснул в самом комарином месте? — Нет, — буркнул Женька, — я силу воли проверял. Другие минут десять выдерживают, не больше. А я целый час не двигался. Он заплывшими глазами посмотрел на Антошу и стал скрести шею. Ни под глазом, ни на скуле у него не просматривалось никакие следов драки. Они исчезли под комариными укусами. — Дурак, — радостно выдохнула Римма. — Ух, какие же еще есть дураки на свете. Вас же совершенно нельзя оставлять без присмотра. Она схватила Женьку за руку и потащила его ставить примочки. — А руки я все время в карманах держал, — похвастал Женька. — Руками все же работать надо. — И головой тоже, между прочим, — заметил Олег Григорьевич. — Мозгой, как говорят некоторые. — Олег Григорьевич, — оглянувшись, спросил Женька, — а правда, что Дантес перед дуэлью с Пушкиным под рубашку кольчугу надел? — Фу ты! — закричала Римма. — Говорят, надел, значит, надел. Ты идешь или нет? Почему тебя нужно, как теленка, тащить? Господи!
БУДИЛЬНИК
Странно, что меня назвали Сергеем, а не Макаром. Лучше бы уж сразу Макаром. Я даже об этом как-то отцу сказал. Но вместо ответа получил подзатыльник. А за что? Ясное дело, за справедливость. Лешке бы он небось никогда подзатыльник не отвесил. А мне так с удовольствием. Ну что это за жизнь? Только и слышу: — Сережа, принеси ножницы. — Сережа, подмети полы. Это мама просит. Ей, прямо скажем, тоже не очень-то сладко. Она и убирает, и посуду моет, и обед готовит, и носки штопает, и еще шьет на нас всех. Я ее понимаю. Я сознательный. Я достаю из кладовки щетку и подметаю. Полов у нас столько, что подметать можно целый год. Четыре комнаты, и в каждой полы. В коридоре тоже полы. И еще в прихожей. Но я, конечно, год не подметаю, за две минуты справляюсь. Пыль от меня в один миг разлетается под шкафы и кровати. Мама говорит: — Таня, сходи за хлебом. Таня — моя сестренка. Она младше меня на два года и учится в пятом классе. Она тоже сознательная. Она берет сумку и отправляется в булочную. Мама говорит: — Сережа, вынеси мусор. Я хватаю ведро и мчусь на помойку. Потом я тащу в прачечную белье, помогаю Иринке выучить уроки — она у нас первоклашка, натираю полы и пылесосом высасываю из ковров пыль. И вот так всю жизнь. Ни минуты покоя. Иринка с Таней младшие, Вовка с Лешкой старшие. А я между ними, по самой середине. Отсюда и получается, что я никакой не Сережа, а самый что ни на есть настоящий Макар, на которого валятся все шишки. Правда, Таню с Вовкой мама тоже кое-что заставляет. А Иринку с Лешкой вообще ничего. Они у нас особенные, они по краям — одна самая маленькая, а другой самый большой. Если шишка падает в воду, то от нее кругами расходятся волны. Чем дальше от центра, тем волны меньше. Я в центре. А Иринку с Лешкой лишь чуть покачивает. Иногда я думаю: интересно, как бы почувствовал себя Лешка, если бы он вдруг оказался в центре? А я бы на его месте, с краешку. Вот я уже вместо Лешки закончил институт и работаю инженером на заводе. Я ношу красивые, как у Лешки, пальто. Мама переделывает их на Вовку. А потом их донашивает Лешка. Очень любопытно посмотреть, как это наш Лешка станет донашивать мои старые пальто. И еще Лешка вместо меня выносит мусор, ходит за хлебом, нянчит Иринку и натирает паркет. А я прихожу домой и шлепаю грязными ботинками прямо по натертому… Дальше я уже не могу фантазировать. Я сразу начинаю возмущаться. Я никогда в жизни не потащу на полы грязь, потому что отлично знаю, как их натирать. Это раз. Во-вторых, Лешка все равно не станет никуда ходить и ничего не будет выносить. Он и представления не имеет, где у нас что — где прачечная, где помойка, где булочная. И как натирать полы, Лешка тоже не представляет. Он является домой и топает по самому блеску. Меня прямо дергает от возмущения. — Лешка! — ору я. — Куда ты лезешь? Не видишь, что ли? Старший брат у нас очень ласковый. Он не слышит, что я ору. Он говорит: — Сергуня, здравствуй. Как, милый, делишки в школе? Двоечек не нахватал? Миллион раз я просил, чтобы он не называл меня Сергуней. И еще милым. Но ему хоть бы что. И насчет двоечек он спрашивает просто так. Ответа ему не требуется. Он может с таким же удовольствием спрашивать про двоечки у сфинксов на Неве или у Медного всадника. Ему лишь бы спросить. Он даже на меня не смотрит. Он говорит маме: — Мамуня, родная, устал до чертиков. И страшнейшим образом хочется есть. Ты сегодня замечательно выглядишь. Ты у нас молодцом. Обед скоро? Лешка обязательно обнимает ее и целует. После чего удаляется в свою комнату. Потом Лешка поест, обзовет нас Сергунями и Танюнями, и будь здоров — или снова в свою комнату запирается, или вообще куда-то уходит. Он взрослый, у него дела. А мама перешивает на меня Вовкино пальто, которое раньше носил Лешка. — Будет очень даже приличное, — утешает меня мама. — Я его перелицевала. Замечательный драп. Такой драп твоему Пете и не снился. Петя — это мой друг. Я не знаю, что ему снится. Мы с ним на эту тему не разговаривали. Я только знаю, что он у своих мамы с папой единственный. Поэтому пальто ему покупают в универмаге. Из обычного драпа. Однажды мне тоже чуть было не купили из обычного. Мое пальто к тому времени совсем истрепалось. А Лешка свое все носит и носит. Видно, драп крепкий попался. А раз он носит, значит и Вовка свое носит. Пока он от Лешки ничего не получит, мне тоже надеяться не на что. Мама месяца три собиралась со мной в универмаг. Но все как-то не получалось. Лешка тогда как раз институт заканчивал, писал дипломную работу. Мы все на цыпочках по квартире ходили. И я на Лешку ни разу не заорал, даже когда он тушь разлил. Он в столовой какие-то чертежи чертил, а бутылочка с тушью упала. Я только и сказал: — Ты! Смотреть нужно. — Сергуня, — пробормотал он, — милый, родненький, не путайся под ногами, испарись, пожалуйста. Я послушно испарился в другую комнату. У Лешки какой-то ненормальный вид был, словно его без парашюта с самолета выкинули. Мне его даже жалко стало. Лешка защитил свой диплом и прибежал из института страшно гордый и радостный. Он стал целовать маму и даже забыл похвалить ее за отличный вид и назвать молодцом. После обеда мама сказала, чтобы я собирался. И Лешке тоже сказала. За то, что он окончил институт, она решила купить ему подарок. — Только мы с отцом не знаем какой, — смущенно улыбнулась мама. — Думали, думали и ничего не придумали. Вместе походим и выберем. — Я знаю, мамуня, что мне нужно, знаю, — защебетал Лешка и полез целоваться. В универмаге он потащил маму в отдел, где продают часы. Мама пошла за ним не очень уверенно и все оглядывалась на меня, боялась, наверное, что я потеряюсь. Часы Лешка выбрал самые красивые и дорогие. — Лешенька, — шепнула мама, — может, лучше что-нибудь другое? Какую-нибудь нужную вещь. Часы ведь у тебя есть. — Эти? — спросил Лешка, протягивая маме руку. — Мамуня, родная, какие же это часы? Им давно пора на свалку. Мама пошла платить деньги. Лешка целовал ее у стеклянного прилавка и бормотал: — Родная, любимая, я ведь уже инженер. Я стану работать и подарю тебе золотые часы. Ты выбери, выбери сейчас. Он потянул ее к тому месту, где под выпуклой витриной лежали женские часы. Он заставил ее показать, какие ей нравятся. Мама не хотела показывать. Она чуть не заплакала оттого, что Лешка такой добрый и ласковый. Пальто мне, конечно, не купили. Не хватило денег. Старые Лешкины часы по наследству перешли к Вовке. Мне опять ничего не досталось. Кроме, разумеется, еще одной шишки. Оттого что Лешка стал инженером, ровно ничего не изменилось. Только мне на инженера стало не так удобно орать. Но я все равно орал. А он только улыбался. — Сергуня, милый, как твои делишки? — мурлыкал он. — Двоечек не нахватал? — Не смей называть меня Сергуней! — орал я. — И милым! — Мамуня, — спрашивал он, — обед скоро? Однажды Лешка вернулся домой не один, а с девушкой. У девушки падали на виски крупные белые локоны и странно косили голубые глаза. Глаза у нее косили так, что непонятно было, в какую сторону она смотрит. Один зрачок смотрел вправо, другой влево. — Мамуня, — сказал Лешка, — познакомься, родная, это моя жена. Мама хотела улыбнуться, но вместо этого тихо заплакала. Она даже не заплакала, а просто слезы сами побежали у нее по щекам. Лешка стал ее целовать и говорил девушке: — Видишь, какая у нас мама. Пятеро детей — и такой молодец. Правда, она изумительно выглядит? Милая моя мамуня, хорошая моя, любимая… Жить у нас Лешка не стал, переехал к своей жене. Он забрал с собой сервант из столовой, настольную лампу из нашей с Вовкой комнаты и шкаф из маминой спальни. — Молодым нужно помогать, — сказала нам мама. — Они начинают жить. Они начинают! А мы что, кончаем, что ли? Я мужественно сражался за лампу, но, разумеется, потерпел поражение. Меня утешало лишь то, что вроде и у меня намечаются кое-какие проблески в жизни. Я думал, Вовку поселят в Лешкиной комнате, а я как человек расположусь в собственной. Только зря я так думал. Я же Макар. В Лешкину комнату поселили Иринку и Таню. А я, как и прежде, остался с Вовкой. Я снова выносил, относил, приносил, натирал. Плюс к тому мама стала меня пилить, что я совсем не бываю у Лешки. Но я один раз побывал у него и насытился по горло. — Сергуня, — встретил он меня в прихожей, — милый! Какой ты молодец, что заглянул. Галюня, посмотри, кто к нам! Вытирай скорей ножки. У меня даже рот раскрылся от удивления. Но я сразу сообразил, что теперь он полы натирает сам. Пришлось пошаркать ботинками по резиновому коврику. Лешка провел меня к двери. Галюня лежала на диване под розовым торшером и читала книгу. Она повела на меня косым глазом. — Здравствуй, Сергуня. Во, уже у Лешки научилась! Я хотел ей ответить, да постеснялся. В гостях все же. Напротив дивана стоял мамин шкаф, в углу сервант, на письменном столе лампа. Наша с Вовкой законная лампа, за которую я получил от папы подзатыльник с разъяснением: «Не жадничай». А я разве жадничал? Просто обидно, потому что несправедливо. Он инженер и может сам купить себе любую лампу. Посредине комнаты лежал большущий толстый ковер с цветами и зелеными закорючками. Лешка сказал: — Галюнин папа подарил. Снимай ботиночки, а то испачкаешь. — Как? — растерялся я. — На свадьбу подарил, — похвастал Лешка. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Но пускай бы мне лучше ноги поотрубали, чем ботинки снимать. И не потому, что носки заштопанные, а просто от обиды. Мне очень хотелось заорать на Лешку и кое про что ему напомнить. Но я не заорал. Я сел при входе в угол, как швейцар. Сел и спрятал под стул ботинки. — Как, Сергуня, делишки в школе? — спросил Лешка. — Двоечек не нахватал? Галюня лежала и читала. Я сказал, что мне пора, и ушел. И с тех пор больше к ним не хожу. Не тянет. Лешка, между прочим, тоже к нам не часто заглядывает. И если приходит, то все по делу. Тут пришел как-то и сидит. А я точно знаю: что-нибудь ему нужно. Но он сидит, молчит и смотрит телевизор. Даже странно. Я тоже смотрю, и мама. Вовка в институте (он днем работает, а вечером учится), папа еще с завода не вернулся. Таня с Иринкой уроки делают. Вот сидим мы и молчим. По телевизору показывают кино про бригаду коммунистического труда с Кировского завода. В комнате темно, и поэтому в сон клонит. Я сижу и кручу на пальце цепочку с собачьей медалью. Я ее у Петьки на две старинные монеты выменял. А Петька ее на улице нашел. Наверное, какая-нибудь ученая собака потеряла. Медаль здоровая. Вот я ее и кручу от скуки. Вдруг Лешка говорит: — Мамуня, тебе будильник не нужен? — Какой будильник, Лешенька? — спрашивает мама. — А вот. Лешка вытащил картонную коробочку, достал из нее будильник и к телевизору протянул, чтобы видно было. — Смотри, какой красивый. Будильник действительно ничего, особенно в темноте. Так весь и блестит от синего света. — Возьмешь? Это все из-за Галюни. Предупреждал ее: ничего без меня не покупай. А она купила. И я в тот же день купил. Теперь у нас два будильника. А в магазин обратно не берут. — Спасибо, Лешенька, — сказала мама. — Оставь. Я давно собиралась купить будильник, чтобы Иринка привыкла сама вставать в школу. Я сижу себе и кручу медаль. Мне что? Мне будильник не нужен. Я и без него отлично вскакиваю. Лешка приложил будильник к руке, рядом с часами, которые ему мама подарила, и говорит: — Ходит точнехонько, минутка в минутку. — Хорошо, — сказала мама и поцеловала Лешку в висок. — Оставь. Лешка ее тоже поцеловал и говорит: — Он, мамуня, пять сорок стоит. Мама не ответила. А Лешка поставил будильник на телевизор и поднялся. — Ты с деньгами, мамуня, не спеши, — сказал Лешка, — ты потом, когда будут. У меня даже медаль остановилась. Я почувствовал, что сейчас размахнусь и садану Лешке собачьей медалью прямо по башке. Пробить, может, и не пробью, а шишку наварю порядочную. Я не успел ему садануть. Я, наверное, растерялся. А может, он слишком быстро ушел. Мы сидели и смотрели телевизор. Про коммунистическую бригаду. Медаль крутилась у меня на пальце как бешеная. Вдруг будильник как зазвенит! Мама вздрогнула и очнулась. Нажала кнопку, чтобы он замолчал, и вздохнула. — Отцу ничего не говори, — попросила она. — Не нужно. Пять рублей все равно не деньги. Выкроим… На другой день я потихоньку сунул будильник в карман и поехал на Васильевский остров. Я продумал все, что выложу своему родному братцу. Я целых пять уроков готовил речь. Я сидел в классе лучше любого отличника. Меня даже вызывать не стали. Подумали, наверное, что заболел. В кармане на груди торопливо стучал будильник. Он так спешил, словно отстукивал последние минуты. Но я совсем не собирался швырять будильником в Лешкину голову. Зачем портить хорошую вещь? Я уже поднимался по Лешкиной лестнице и вдруг остановился. У меня мелькнула идея. Совершенно сногсшибательная. Я повернул обратно. Во дворе длинными полосами лежали синие тени. Весеннее солнце начисто высушило асфальт. Земля тоже уже подсохла и была утрамбованной и чистой. От нее пахло, как на даче из бабушкиного погреба. Немножечко грязи я разыскал в углу двора под щепками. Но грязь плохо прилипала к ботинкам. Пока я дошел до парадной, она вся отвалилась. На асфальте не оставалось никаких следов. И тут я вспомнил, что рядом есть порт. А в порту замечательная грязь, которая не просыхает даже в самое жаркое лето. Я отправился в порт. В узком коридоре между огромными штабелями ящиков смолисто поблескивали лужи. В них всеми цветами радуги сияли керосиновые пятна. Я прошелся по радуге. Густая грязь чавкала и тянулась с подметок липкими сосульками. Но на обратном пути я стал замечать, что мои следы постепенно слабеют. Вскоре они пропали совсем. Тогда я опять повернул в порт. Я разыскал кусок толя и наскреб в него солидную порцию замечательной грязи. Толь не сворачивался. Пришлось нести его как совок. И мне было наплевать, что прохожие смотрят на меня, как на чокнутого. На Лешкиной площадке я положил толь в угол, потоптался в грязи и решительно позвонил. Сердце стучало наперегонки с будильником. — Сергуня, милый, заходи, — обрадовался Лешка. — Какой ты молодец, что заглянул. Я сейчас, только руки сполосну. Галюня, посмотри, кто к нам! Он пошел в ванную. А я прямиком в комнату. Галюня лежала и читала. Мне даже показалось, что она и не вставала с тех пор. Она мне кивнула. Я храбро затопал прямо через шикарный ковер с цветами и зелеными закорючками. Мои ботинки впивались в закорючки и еще немного повертывались на носках. Будильник я поставил на стол, рядом с моей и Вовкиной законной лампой. Я успел выскочить в прихожую. Из ванной появился Лешка. Он расчесывал волосы. — Ну что, Сергуня? — спросил он. — Милый Лешуня, — сказал я, — ты сегодня отлично выглядишь. Ты у нас молодцом. Мама просила передать, что будильник ей не нужен. Можешь, родной, кушать его сам, с маслом или вообще как пожелаешь. Лешка ошалело хлопал глазами. Рука с расческой так и застыла у него на голове. Я вылетел на лестницу. В спину ударил крик: — Какой ужас, Леша! Иди сюда, Леша! Прыгая через три ступени, я помчался вниз. Я совсем забыл о своей речи, которую готовил целых пять уроков.

Последние комментарии
3 часов 56 минут назад
7 часов 38 минут назад
7 часов 59 минут назад
8 часов 53 минут назад
11 часов 51 минут назад
11 часов 53 минут назад