Скорый до Баку [Олег Павлович Смирнов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Олег Смирнов Скорый до Баку Повесть
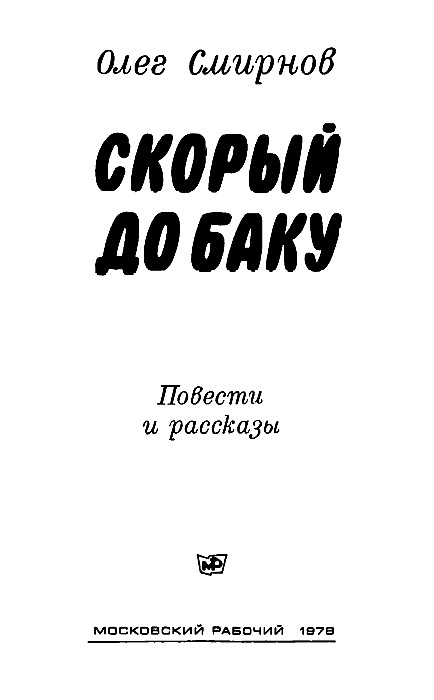
Веселая это станция — Минеральные Воды. Веселая — в смысле оживленная. Суета, толкотня, скученность. Минвод не минуют поезда дальнего следования на Москву и Баку, на Киев и Ереван, на Ленинград и Одессу, на Симферополь, Свердловск, Кисловодск, плюс местные — прикумские, прохладненские, невинномысские, георгиевские, суворовские, плюс кисловодские электрички, каждые двадцать-тридцать минут отчаливающие от платформы и причаливающие. Народ у касс, в залах ожидания, на бесчисленных скамейках у изогнутой полукругом колоннады вокзала, у клумб на обширном перроне, у чугунных оград в скверике, у автобусных остановок на привокзальной площади. Конечно, пассажиров рейсовых и городских автобусов меньшинство по сравнению с пассажирами железнодорожными — это главная здесь фигура, особенно курортники, едущие промыть свои внутренности лечебными водами Ессентуков, Железноводска, Пятигорска, Кисловодска. Местные жители (мужской род, естественно) предпочитают промываться пивом либо чем покрепче в станционном ресторане, буфете и окрестных ларьках, которых так же в избытке, как и скамеек на перроне. В июньские вечера на станции сильные запахи: мазута, пыли, нагретого асфальта, пота, масленых, с пылу, чебуреков, шашлычного и табачного дымка, сдутой пивной пены, цветущей акации. Иногда эти запахи смешиваются в нечто общее, неразделимое, а иногда будто рассыпаются по отдельности — это если повеет, закружит ветерок. И шум толпы — иногда слитный, однообразный, иногда в нем проступает какой-нибудь звук: женский хохот, плач ребенка, лязг буферов, заученное бормотание репродуктора: «Граждане пассажиры, до отправления поезда...»
Мельников так привык к репродукторным, вокзальным словам, что и домашним говорил: «Ну, подготовился к отправлению». Сейчас до отправления, то есть до выхода из дому, оставалось минут сорок, и Мельников не торопился. Он лежал на травке, на байковом одеяльце, под яблоней — в белой майке и черных тренировочных брюках; в брюках было жарко, все-таки июнь, но теща и в июле не разрешала Мельникову оставаться в трусах, хотя соседские мужики по своим дворикам запросто ходят в трусах. Теща есть теща, подчиняйся, в холостежи пощеголял в трусиках, теперь парься в тренировочных штанах. А жарко, это точно. Времени что-то около трех, день в разгаре, до прохлады далеко. Мельников вытер потный лоб, почесал волосатую грудь и шею в обильных мелких родинках, будто в веснушках. Он был рукастый и длинноногий, стопы торчали за одеялом, в пыльной траве. Жара, пылюка, сухота. Давненько дождя не было. Кваску бы испить. Да лень подыматься, кликать жену или тещу — неохота. Теща не в духе: зарплату — его и жены — проели, теща выкладывает свою пенсию, и в такие дни она бурчит то да се, зятя называет не Васылём — Василием Николаевичем, а он ей вместо «мама» — «мамаша»: у него тоже портится настроение. Ну, а жена в положении, беспокоить лишний раз ни к чему. «Перед отправлением выпью кваску, самолично нацежу». Женщины — в доме, а где Толька, пострел? Носится где-то. К жердевой изгороди между дворами подошел сосед, Дудукин Савелий Степанович, спросил: — Вскорости на смену? На все восемь? — Как положено: восемь часов отдай. — Нормальный рабочий день, — сказал Дудукин Савелий Степанович и дернул небритой щекой. Само собой, он был в трусах и без майки: плоская грудь, плоские, без икр, ноги, в седой шерсти старичок. Мельников знает: щека у соседа дергается на нервной почве, а вопросы его — так, для приличия. После вопросов начнет философию разводить, то да се, частенько повторяется. И нынче повторился. Дернув щекой, сказал: — Я так трактую сию проблему: все возвращается на круги своя. Как записано в одной духовной, а будем точны — в философской книге... — Савелий Степаныч, — вежливо вставил Мельников, — в философской литературе я не подкован. Больше научными приключениями увлекаюсь... — Да-да-да, — сказал сосед, не очень слушая Мельникова. — История, Василий, двигается по кругу! Возьмем сию проблему. Перед Отечественной войной да и после войны что за мода была на галстуки? Отвечу: завязывали широким узлом, язычок получался короткий. Далее мода сменилась: узкий узелок, с булавочную головку, — и язычок долгий, до пупа. А в настоящий момент? Сызнова на широкий узел переключились! Или вопрос о брюках, а будем точны — о штанинах. Раньше носили широкие, идет гражданин, у него брючины полощутся, ровно флаг. Далее: обузили, дудочкой. А в настоящий момент сызнова клеш! В свое время песенка была у блатняков: «Когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш, соломенную шляпу, а сбоку финский нож...» — Блатные песни не люблю, — сказал Мельников. — И я не люблю, — сказал Дудукин Савелий Степанович. — Просто вспомнил... А за модами не гонялся: как были широкие штанины, так и донашиваю десятый год. В моду, выходит, угодил! А я что, молодой, чтоб за модами гоняться? Ты — другой коленкор... — Я молодой? — сказал Мельников. — Мне двадцать шесть. — А мне шестьдесят шесть. Как картежная игра — шестьдесят шесть. — Он хотел еще что-то добавить, но не добавил, пошел в глубь своего участка, потому что визгливый старушечий голос позвал: «Савка, давай-ка сюды!» — До свиданья, Савелий Степаныч, — сказал вслед соседу Мельников и увидел Тольку. Сын перелезал через забор, как будто нельзя в калитку войти, не на щеколде же, пхни лишь. Так и есть: шлялся по улице, чертенок. Мельников сел, скрестив ноги, и сказал: — Толька, подойди. Мальчишка спрыгнул наземь, подтянул трусики с явно ослабшей резинкой и, независимо медля, прокручиваясь на босых пятках, приблизился к Мельникову. Тот сказал: — Сколько говорено: не болтайся по улице, угодишь под машину или еще что. Толька щурил серые плутоватые глаза, выжидательно помалкивал. — Говорено? — Ну, говорено. — Ты не нукай. Присядь ко мне. Толька оглядел сам себя — выгоревшие трусы, коленки в свежих ссадинах и в подживших, с болячками, грязные пальцы рук и ног, вздохнул и опустился на одеяло. И Мельников обнял его за костлявые, острые плечи, взъерошил отбеленные солнцем волосы. Тотчас приободрясь, Толька проговорил: — А чего я видал, папа! Собаки связались и никак не развяжутся, перетягивают друг дружку, смехота! Пацаны в них камнями, а я не кидал. «Вот тебе и улица, а в четыре стены не заточишь же», — подумал Мельников и сказал: — Умник, что не кидал. Собака — хорошая тварь. — Тварь — хорошая? Тварью же ругаются, папа! — Неправильно ругаются. Тварь — значит зверь. — Андрюшкина Жучка — зверь? Зверь — это тигры или там львы... — Ладно, не зверь, а животное. Понимаешь, животное, живое существо? — А-а, — сказал Толька и пошевелил отбеленными бровями. В доме скрипнула дверь — словно сипловато, срываясь, вскрикнул петушок; теща, не переступая порога, пропела: — Толик, а хто же обедать будет? Мой ручки, деточка. И, сменив тон, Мельникову: — Василий Николаевич, собирайтесь. Не то опоздаете. Вот как, аж на «вы», высшая степень недовольства. Не отпуская от себя сына, Мельников сказал: — Сейчас, мамаша, буду собираться. Минутой позже дверь опять сорванно кукарекнула неокрепшим петушком, и вышла Шура — льняные, как у Толика, волосы подобраны алой лентой, раздвигая полы ситцевого халатика, выпирал живот. «Недалеко до декретного отпуска», — подумал Мельников и встал. Жена двигалась вразвалку и почти не махая руками, держа их как по швам, и этим до странности напоминала тещу. Жена сказала: — Вася, брюки выглажены. Рубашку я подгладила. Одевайся. — Спасибо. Одеваюсь. — Вернешься вовремя? Мельников пожал плечами: — Если ничего не стрясется, прибытие по расписанию. Да, вокзальные словечки действительно засели в нем. Он помолчал и сказал: — Меня не жди. Спи. Тебе же утром на работу. Он умывался под рукомойником, причесывался, натягивал брюки и рубашку, зашнуровывал и тер бархоткой туфли, разглядывал себя в трюмо, и в голове вертелось: «Нужно бы девочку. Сын и дочка — вот как задумано». Тут же упрекнул себя: задумано — о подобных вещах нельзя так грубо, даже думать нельзя грубо об этом. Мельников надел фуражку, произнес четко: «Будьте здоровы, мамаша», теща что-то буркнула, Шуру мимолетно поцеловал в темневшую пятнами щеку — жена прижалась к нему мягко, боком, оберегая живот; пошарил глазами Анатолия Васильевича — нету, уже смотался, чертенок, не поел толком. На улице густо росли пирамидальные тополя и акации, отбрасывая косые тени, но при безветрии все равно жарко и душно. На булыжнике тротуара и мостовой — слой пыли, зеркально надраенные туфельки быстренько потускнеют. Таков городок: зелени много, однако и пыли много, особенно на окраинах, при дождях — грязюка, в центре же и вообще, где асфальт, понятно, почище. На перекрестке Мельников столкнулся с Ларисой, и хотя это происходило нередко — что ж удивительного, живут на смежных улицах, — каждая встреча оборачивалась неожиданностью. Неожиданными были и покатые плечи, и округлые бедра, раздувающиеся ноздри с вырезом, подкрашенные синей тушью мохнатые ресницы, ямка на подбородке, на оголенном плече — аэрофлотская сумочка. — Привет, — сказала Лариса, она дожевывала пончик. Торопится, озабочена. Ему всегда неприятно и даже подозрительно это. Когда-то давно она с ним не была ни торопливой, ни озабоченной... — Здравствуй, Лара... Он поймал запах духов, насыщенных, дурманящих, как у цветущей белой акации, вон ее гроздья по-над заборами, и желтая с сиреневой цветут, да не пахнут вовсе. Мельников не опасался оглянуться, потому что Лариса при встречах не оборачивалась: режет мостовую наискось, юбчонкой обтягивает зад, юбочка модерновая, значительно выше колен, модно, Савелий Степанович женских мод покуда не касался, еще коснется. А торопилась Лариса конечно же домой, к муженьку. Пройдя полквартала по улице Анджиевского, Мельников втиснулся в автобус. Войти в переднюю дверь было бы способнее, но Мельников садился через заднюю («Из принципа, — объяснял он Шуре. — Я не престарелый, не ребенок и, слава всевышнему, не инвалид»). В автобусной утробе было как в духовке. Пассажиры томились, распаренные, и Мельников снял фуражку. Пока доехали до привокзальной площади, взмок. Выбравшись, наконец, из этого пекла на четырех колесах, Мельников отдышался, протер носовым платком внутри фуражки, водрузил ее чуть набекрень и услыхал из распахнутых окон железнодорожного ресторана: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей Земля...» Так-так, все нормально. Воскресенье — отдых и развлечения. И Земля наверняка вертится, разве что не быстрее и не медленнее, а как ей положено.
— Ты мне кореш? — спросил Латков. — Аж как! — Батаренко провел ребром ладони по горлу. — И я тебе кореш. Кто в тех местечках побывал, должны держаться друг за дружку. — Аж как! — Батаренко сцепил пальцы замком. — Чтоб к этому замочку никакая сука ключика не подобрала! — Ну, по последней. А то Ларка причапает, воплю не оберешься. За вольную жизнь! И за наши поездные дела-делишки! — Судьба — индейка, жизнь — копейка, — сказал Батаренко и, поднеся граненый стакан ко рту, начал всасывать водку сквозь зубы. Латков же единым глотком выпил стакан, с хряском откусил половину огурца, другую протянул Батаренко. Тот отвел его руку: — Баловство, Колян! Понюхаю рукав, и вся закусь. А ты грызи, грызи огурчик. Кому как нравится. — Ты мне корешок, Сашка! — сказал Латков. — Кому как нравится, тот так и живет. И никто мне не указ! — Золотые слова! И Ларка тебе не указ, да, нет? — Да, — сказал Латков. — В жизни надейся на кореша, баба продаст. С бабами потеха, цирк! То она с одним, то она со вторым, а то и к третьему переметнется. Знаю их, клянусь здоровьем моих детей! Латков засмеялся: — А они у тебя есть, дети-то? Батаренко дососал водку и, тоже засмеявшись, сказал: — Не ручаюсь. Возможно, где-то и есть. — А вот у меня нет, Сашка. — Нашел об чем печалиться, Колян. — Не печалюсь. Наоборот, не хочу, Ларка настаивает. — Не вяжи себя! Она хочет привязать тебя до себя, чтоб не поменял лошадь. — Чего, чего? — Жену чтоб не поменял. Не раскусил? — Теперь раскусил. — Ты говоришь: за вольную жизнь! За свободу то есть. А с законной бабой что за свобода, разве разгуляешься? — Да не очень-то. — Хотя я признаю: Ларка красивая, если хочешь — породистая, ну как стюардесса. Яркая, приметная — таких милиция «засекает». — Она теперь кассирша в аэропорту. Косится, а хрусты подавай. Краля! — Все одно что стюардесса. В авиации непородистых баб не держат! Зато и на хрусты не скупятся. — Откуда у нее хрусты? Кассирша в аэропорту, — отрывисто повторил Латков и треснул суставами, сжимая пальцы. Занес кулак, чтобы ударить по столу, и не ударил. Батаренко сказал: — Уважаю злых. Мужчина должен быть злым. На таких мир держится. Наш! — Понимаешь, Сашка, вертится она промеж пижонов летчиков, пижонов курортников. Только и слышишь от нее: рейс, трасса, командир корабля, летчик-миллионер, аэровокзал, штурман, немецкие туристы, английские туристы, чехи, арабы... — Ревнуешь к изящному окружению? — Иди ты! Просто противно, как она захлебывается, когда рассказывает... Пузыри пускает от восторга! А меня злоба́ давит, это уж так. От нашего дела нос воротит. А хрусты гони ей! — Не разменивайся по мелочам, Колян. Размениваться надо крупно. — Батаренко встал, худенький и низкорослый, как подросток, в клетчатой распашонке, и скользящей, плавной походкой подошел к зеркалу в простенке, поглядел на себя. — Конечно, слесарь-водопроводчик — это не пилот реактивного лайнера. Так ведь? — Ну? Это для вида. Не на зарплату же пьем-живем. — Мы с тобой трудяги, ты слесарь, я чернорабочий... А когда-то я был классным шоферюгой. Раскусил? — Батаренко продолжал разглядывать свое худощавое, с маленьким ртом, чисто выбритое лицо в шрамах, потом усмехнулся и кивнул в сторону пустой поллитровки. — Горилка подвела, разогнала под уклон, не притормозить... Ну и злой я, спасу нет. Потому и в драки ввязывало бессчетно. Но я, заметь, редко кого бил, это меня били кулаками, некультурно, по морде, а я чаще резал ножичком. — Писал? — Правильно, Колян: писал перышком. — Я тоже завожусь дай боже. Чуть что, злоба́ давит. Пошли? Латков взял бутылку со стола, хотел сунуть в брючный карман. — Зачем? — Батаренко поморщился. Латков качнулся, подмигнул: — На обмен! Сдадим посуду. — Не мелочись. Саша Батаренко хоть и разнорабочий на карьере, деньгой располагает, не голяк. А ноне, после скорого, захрустят и у тебя. Латков поставил бутылку на пол, в угол, и снова подмигнул: — Значит, есть рубли-хрусты? — Есть, — сказал Батаренко. — Будут и у тебя. Они не успели выйти, как хлопнула калитка и по кирпичной дорожке под окном процокали каблуки. Латков нахмурился, взглянул — не на окно или дверь, а на пол, в угол: — Ларка причапала. — Не тушуйся, — сказал Батаренко и, поплевав на ладонь, пригладил вихор на затылке. — Мы ж люди культурные, извинимся. Лариса влетела, порывистая, стремительная, взвихрив оконную занавеску. Остановилась около стола, оглядела мужчин, принюхалась: — Пили? Латков отвернулся. Ответил Батаренко: — Не без того. Но мы извиняемся и исчезаем. Не сердитесь, Ларочка. — Коля, не уходи, — сказала она. — Ложись, отдохни. — Еще чего, — сказал Латков, перекатывая желваки. — Не уходи, прошу. Приметит тебя этот... Мельников. Или какой другой мильтон. — Иди ты! И они пусть не суются. Она стояла, расставив загорелые руки, не снимая с плеча аэрофлотской сумки и загораживая выход. Латков шагнул, оттеснил ее с дороги локтем. На улице им стало очень весело, и они захохотали, перебивая друг друга восклицаниями: — Ларка-то, Ларка, унюхивала ровно ищейка! — А как я ей: простите, не сердитесь, Ларочка! — А я ее локотком, локотком! — Осталась девочка при пиковом интересе! Потом Латков перестал смеяться, нахмурился. И Батаренко отхохотал, вытер слезы носовым платком и спросил: — Еще тяпнуть желаешь? — Что за вопрос! Если я заведусь, не остановишь. — Куда баллоны покатим? К «Гастроному», на Профсоюзной? — Можно. Они шли вдоль тополей с подбеленными стволами. Посмотреть на них со спины — всё в норме: широкий костью, в синей тенниске, с крутым рыжеватым затылком и мускулистой шеей, идет размашисто, не шатаясь, маленький, черноволосый, пестроклетчатый не идет — скользит, плавно и прямо, как по нитке; посмотреть спереди: красные, разопревшие, на лбу волосы слиплись, у Латкова глаза пьяные, у Батаренко почти трезвые, но и у того, и у другого временами во взгляде мелькало что-то тусклое, жестокое. Они шли по левому краю тротуара, и встречные уступали им путь. Было жарко, душно. Свежесть с заснеженного Эльбруса, с вершин поменьше не доходила до Пятигорья, застревала на промежуточных холмах, сохла, нагревалась и гибла. Булыжники мостовой и тротуаров источали жар. Пыль лезла в нос, в глотку. Подле брюхатых автоматов с газированной водой Батаренко расстегнул ворот: — Уф-ф! Газировки хлебнуть, да, нет? — Нет, — сказал Латков. — Не будем разбавлять. Жажду утолим шнапсом! — Правильно, Колян, — сказал Батаренко. — Подчиняюсь, потому уважаю мужской разговор. В магазине была толчея, в винно-фруктовом отделе — очередь: продавали дешевую черешню. Обходя теток с кошелками, сумками и сетками, Батаренко протянул продавщице деньги: — Бутылку московской. Зароптало сразу несколько, громче всех — гречанка в сарафане, с косою и серьгами: становись в очередь. Батаренко учтиво сказал ей: — Не подымай шороха. Ты за вишнями-черешнями, а я за особой московской, поняла, особа минводская? Он приоткрыл в улыбке мелкие зубы и тут же скрипнул ими. Гречанка поглядела на него и замолкла. В сквере они сели на скамейку, Батаренко сорвал фольгу с горлышка, передал бутылку Латкову. Скривись и запрокинувшись, тот ополовинил. Пока Батаренко прополаскивал рот теплой водкой и затем сосал ее, Латков разжевывал конфетку — щеки у него медленно бледнели, глаза из синих становились блекло-голубыми. Дососав, Батаренко швырнул бутылку в кусты — не глядя, через плечо. Понюхал носовой платок, вытер губы и сказал: — Вот она, радость бытия, да, нет? — Да, — сказал Латков. — Кореш, дай я тебя поцелую. — Целуй. Я не уважаю лизаться, но ты мой кореш, — целуй, вот она я! Из кустов боярышника с розовыми лепестками, куда Батаренко выбросил бутылку, вышли коты: черный, с белой манишкой, и белый, от грязи серый, они обнюхивались, били по земле напряженными хвостами. И вдруг, взвыв, метнулись опять в кустарник. Дуновение сухого, жаркого ветра погнало по аллее бумажки, будто наперегонки. И ветром же сломало водяные струи фонтана: посреди его, на груде камней, орел терзал змею — это во всех кавминводских городах, струйки вырывались из красных сосок, надетых на желтые бутылки, — это только в здешнем сквере. Водяную пыльцу донесло до скамейки. Латков глубоко вдохнул и сказал; — А помнишь, Сашка, как мы познакомились? — Аж как! Швах было дело: один хруст на опохмелку. — Я в очереди, соображаю на троих, ты подходишь: «Примешь в долю?» И хруст суешь — последний. — Принял. — Теперь мы с тобой кореши. Судьба — индейка! — Моими словами говоришь? — Были ваши — стали наши, ха-ха! — А что, проверено: судьба — она и есть индейка. Бить надо по ней, чтобы она тебя боялась, сука, — и будет поласковей. Как бить и куда — раскуси. Я так считаю: выбери направление главного удара — и бей... Главное — встретить скорый до Баку. — В одну точку! — Я ж говорю: направление главного удара... Над городом, со стороны кремнистой вершины Змейки, что возле аэропорта, разворачивался самолет, низко гудел двигателями, сверкал серебристым оперением. Латков проводил его взглядом, сжал кулак и занес, но не стукнул по скамейке. Батаренко закурил сигарету, спичку кинул в урну: — Скоро Змейке макушку срежут, и воздушные лайнеры не будут опасаться этой горы. — Источник информации? — спросил Латков. — «Кавказская здравница». Газетки надо почитывать. — Удивительно, что Ларка не натрещала про это, — сказал Латков. — Дай закурить. — Книжечки надо почитывать. В местах не столь отдаленных я к чтению пристрастился. Наравне с картами... А как читать, раскуси. Для сведения — не больше. Второй самолет пролетел над Змейкой, и Батаренко сказал: — Видишь, на склонах горы белеют каменоломни? Где, между прочим, вкалывает Александр Батаренко... А добывается там бештаумит — облицовочный материал, он используется в строительстве и химической промышленности, так, что ли? — «Кавказская здравница» пишет? — «Ставропольская правда». И еще пишет: с тех пор как начались разработки бештаумита, наша страна избавлена от необходимости ввозить из-за границы дорогостоящие кислотоупорные лавы. Так-то, Колян. Хотя лично мне до этого бештаумита как до лампочки. — А мне-то? — сказал Латков и сплюнул. Он плевал после каждой затяжки, облизывал сочные, словно накрашенные, губы и притопывал пятками, будто в нетерпении. Батаренко, закинув ногу на ногу, покуривал, сбивал пепел небрежным щелчком. Мимо прошаркала старуха с кошелкой на согнутой руке, прошипела: — Бессовестные! Налили зенки водкой... Бесстыжие! — Чекай, бабушка, чекай, — сказал Батаренко. — На турецком наречии это значит: топай, топай. — Или чапай, — сказал Латков. — Это на испанском. Прошла девушка — низенькая, полная, с книгой под мышкой, на шпильках, оставлявших глубокие следы — как уколы. Батаренко посмотрел ей вслед, покачал головой: — Из-за таких цац два раза получал срок... Одну прижал в темном садочке, кричала, кусалась, но я своего добился. Вторую по-другому прижал — на мостовой, машиной, не до смерти, а то б не расхлебаться. — Ты никогда не рассказывал, за что сидел. — Не было повода. Да и знакомы мы мало. Как-нибудь обо всем расскажу. Есть что вспомнить, под тридцатку подкатывает. — А я сидел за дружинника. Их четверо было, патруль, с красными повязками, чистенькие, аккуратненькие — ко мне: «Не скандаль, пройдем с нами». Ну, я показал им перо, трое отскочили, четвертый полез на меня, я его пописал, патрулика. — А хочешь хохму послушать? В отделе кадров спрашивают: «Пьешь?» Отвечает: «По малости, когда опохмеляюсь». Смешно? — Не очень, — сказал Латков. — Пивка бы, освежиться. — Не возражаю. — Куда покатим баллоны? — Были ваши — стали наши? — Точно, Сашка! Так куда покатим баллоны? Времени у нас навалом. До вечера. А вечером... — На вокзал. Однако их еще покружило по городу, прежде чем они попали на привокзальную площадь: перебрались в другой сквер, посидели на лавочке, полежали на травке. Батаренко вполголоса пел жалостные блатные песни, Латков сумрачно слушал, подперев подбородок; зачем-то сели в автобус, увезший их к мясокомбинату, там пересели на обратный, вернулись в центр, купили килограмм шоколадных конфет, Латков жевал их, как хлеб, а Батаренко в магазинной толкучке незаметно клал по конфетке молодым женщинам в кармашки платьев, в хозяйственные сумки и насвистывал все тот же песенный фольклор, улыбаясь и скрипя зубами.
Мельников то стоял, то прохаживался. И все время наблюдал за людьми. Они лепились к скамейкам. Спускались в подземный переход и подымались наружу. Сновали по перрону. Заходили в вокзал и выходили. Толклись у киосков, у билетных касс, в залах ожидания. Всюду люди, чемоданы, корзины, авоськи. Он наблюдал за ними, успевая замечать то, что ему сейчас, быть может, не нужно было: кустики самшита и туи, окаймлявшие клумбы, пожухли, видать, болеют; агавы и канадские ели будто посыпаны серебристой пудрой; клумба с отцветшими тюльпанами рядом с клумбой распустившихся роз, на бутоне сидела жирная навозная муха. На привокзальной площади потоптался у щита с афишами. Эстрадные певцы, запрокинув напомаженные головы с безукоризненным пробором, смотрели мимо Мельникова, вдаль, судя по многозначительности взоров, возможно космическую. Зато конферансье Лившиц и Левенбук глядели в упор, растягивая в неудержимом хохоте рты до предела. Если б зрители так же закатывались от ваших острот, товарищи артисты. «Кинофильм «Любовь под вязами». Дети до 16 лет не допускаются». Цифра «1» стерта, еле заметна, тоже кто-то сострил. «Локомотив» (Минводы) — «Спартак» (Ессентуки)». На первенство края. Играют взрослые и юношеские команды, наши должны нашвырять гостям. Жаль, сегодня ему не побывать на стадионе. Солнце скатывалось за дома, дневные краски блекли. Духота, однако, не сникала. Мельников сводил лопатки, чтоб отклеилась майка, тряс воротом лавсановой рубашки, чтоб грудь освежить, вытирал носовым платком лоб и ладонь. В вестибюле вокзала с гулкими церковными сводами и звонким кафельным полом Мельников встал у стенки, занимался своим: наблюдал, отвечал на вопросы, выходил к поездам, одному гражданину втолковывал, что окурки следует бросать в урну, а не куда попало, другому — что нельзя шуметь в билетном зале, третьего — обросшего, обрюзгшего, с котомкой и без документов, явного бродягу — препроводил на второй этаж, для выяснения личности. Бродяжек — на милицейском языке — Мельников не пропустит. Сперва (зеленый был, форменный цыплачок) жалел их: убогие, ни кола ни двора, в рваной одежонке, полуголодные; но послужил, намотал на ус: убийцы, грабители, насильники плодятся именно середь них, неприкаянных и сирых. Есть и бродяжки иного сорта: пацаны, драпают из дому — на стройку, к морю, просто поколесить по стране, не задержи сорванца — беда может приключиться. Этих, хотя они частенько подворовывают, Мельников жалеет и по сю пору. Было еще светло, но зажглись фонари. Кое-где загорелись огни в городе. На голубое темнеющее небо легли оранжевые полосы, то ширившиеся, то сужавшиеся. На пристанционных тополях каркали вороны, прорываясь в музыку. А музыка из ресторана и транзисторов там и тут: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрей Земля». Иные транзисторы так гремели, что Мельников морщился. Но замечание сделать не мог — нарушения общественного порядка нет, — лишь ронял ненароком: «Эдак и оглохнуть недолго». Из владельцев транзисторов его услыхал один, улыбнулся: «Самый смак, товарищ старшина!» И этот путает, цыпленок в клешах: все милиционеры, дескать, старшины. Конечно, из транзисторов не только про белых медведей пели, и другие песни пели, неплохие, да уж больно громко. Вправду можно оглохнуть, ежели близко. Из ресторана вывалилась компания на взводе: говор, смешочки, кто-то на ступеньках танцует лезгинку, кто-то восклицает: «Сашлык был — пальчики оближешь!» Мельников смотрит на них с добродушием и непреклонностью: нету нарушений — я вам не мешаю, будут — не взыщите, пресеку.
Сумерки, похожие на реденький туман, сизые и клочковатые, окутывали вокзал. На привокзальной площади было два киоска, и у обоих очереди: за газетами и за пивом. Батаренко сказал Латкову: — Становись за пивом. А я куплю газетку. Латков кивнул и пошел к дощатому сооружению — крашено в зелено-бурое, прилавок в мокрых пятнах, над прилавком кусок картона: «Место отстоя пива», на бочках и вокруг — мужики с кружками. Латков шел, задевая встречных плечами. Парень в нейлоновой рубашке, соломенной шляпе и черных очках обернулся: — Нельзя ли осторожней? Латков тоже обернулся, оглядел с головы до пят, сказал, как всхлипнул: — Ш-шляпа! Жаль, мне некогда дать тебе. Некогда, шляпа! — Не хулигань. — Я? Хулиганю? — Латков быстро подошел к парню вплотную и, помедлив секунду, натянул ему шляпу на глаза. Тот рывком сдернул ее, оттолкнул Латкова: — Ты что безобразничаешь? «Не связываться бы, а то прозеваешь скорый до Баку, дело сорвешь», — подумал Латков, но злоба будто утопила эти мысли. — Выпрашиваешь, жлоб? — И, откинувшись, он ударил кулаком по очкам. Парень опрокинулся, закричал. Потом вскочил, бросился к Латкову, новый удар сшиб его. — Еще выпросишь? — прохрипел Латков, облизывая губы, и краем глаза увидел: к нему от газетного киоска скользяще, плавно бежит Батаренко. — Повторить, жлоб? — Брось его! И айда! Обливаясь кровью, парень приподнялся на колено, но подбежавший Батаренко пнул его, не дал встать. И Латков, задыхаясь от ярости и некстати думая, до чего же счастливое лицо у Сашки, ударил парня ногой в живот.
Мельников сделал шаг и внезапно остановился: из-за угла здания, с привокзальной площади, донесло шум, неразборчивые крики. Мгновенно подобравшись, Мельников повернул назад и ходко пошел к двери. Тут же распоровший невнятные крики истерический женский визг: «Человека убивают!» — будто толкнул его в спину, и он побежал. Он бежал молча, обгоняя идущих впереди, отстраняя замешкавшихся в дверях, в вестибюле, встречные сторонились, и все глядели ему вслед — с недоумением, тревогой или раздражением. Вдогонку голоса: — Что-то случилось! — Что случилось? — А, ничего, пустяки. — Спешит как на пожар! — У них бывает похлеще пожара! — Давай глянем, куда побёг, чего там... — Чего, чего... Происшествие, видать. — Чемодан увели? Запыхавшись, Мельников выскочил из двери, увидел: двое бьют ногами третьего, лежащего на земле, народ на площади — у ларьков, на стоянке — как в оцепенении, лишь какая-то женщина мечется и кричит: «Человека убивают!» И точно, могут забить. — Стой! Кому говорю, стой! — заорал Мельников и прыжками рванулся вниз по некрутому каменному спуску. Те двое обернулись, один из них ударил лежавшего каблуком в лицо, и оба побежали прочь. Задержать, во что бы то ни стало задержать! Эта мысль остро, режуще ворохнулась в груди, просясь наружу. Мельников выкрикнул: — Стой! Кому говорю, стой! Задыхаясь, он прыгал через три ступеньки. Когда же кончится лестница? Они не останавливаются. Хотят удрать. Не выйдет! Выбрасывая длинные нескладные ноги, Мельников протопал мимо избитого, мельком отметил: из-под него растекается лужа крови, — повернул к скверику. Ясно, за кустами, за деревьями легче скрыться. Врешь! Он вдруг заметил: между сквериком и им, Мельниковым, никого, только те двое. И он перестал видеть все, кроме двух спин: узкой, не мужской — клетчатая распашонка, и широкой, могучей, в синей рубахе. И все звуки выключились, остались: топот убегавших, стук подковок на его ботинках и его запаленное дыхание. Он нагонял их. Ближе и ближе пестрая распашонка, серые брюки — черноволосый, и коричневые штаны, синяя тенниска — над ней грубый рыжий затылок. Первый бежит легко, скользя, второй топая. Не оборачиваются, на бегу что-то говорят друг другу. Мельников был к ним настолько близко, что видел: в руках что-то зажато, ну да, заточенные трехгранные напильники, похуже финки. Затем невпопад подумал: «Пинали, а если б саданули этим? Не успели?» И тотчас вернулись все звуки — милицейский свисток, женский визг, мужской бас: «Держи их, держи!» И тотчас увиделось, как наперерез преступникам чешет по площади парень в спортивном костюме. Мельников настиг тех, кого надо было обезвредить во что бы то ни стало, и теперь бежал между ними: справа — рыжий, слева — брюнет. — Стой! — прохрипел Мельников, и они остановились неожиданно для него. Сопели, сжимали заточенные напильники. Мельников встал меж ними, обдаваемый водочной вонью. Хрипло скомандовал: — Вы задержаны, сдайте холодное оружие. И пройдемте со мной. — Перо сдать? — Маленький, чернявый улыбнулся и скрипнул зубами. — А ху-ху не хо-хо? Рыжеволосый — его лицо было бледное, красивое и знакомое — сказал: — У тебя пушка, у нас перья. Не лезь! — Ах ты, легавый, ты что, хочешь испробовать, как они пишут? — Сдайте оружие, граждане, — повторил Мельников. — Вы задержаны. Он протянул руку к рыжему. Тот отскочил: — Я тебе дам — задержаны! И чернявый отскочил: — Убей его, Колян! И айда! Николай бросился к Мельникову с занесенным напильником. Мельников выставил локоть — прием самбо, — отбил его удар и инстинктивно повернулся к чернявому: и тот занес над ним напильник. И опять отбил руку чернявого, и опять отбил руку рыжего. Пьяные, озверевшие, они вопили что-то и нападали, и он, как будто позабыв про пистолет в кобуре, принимал их удары на свои предплечья. Напильник рыжего скользнул, и Мельников почувствовал, как лезвие вошло в мясо и хлынула теплая кровь. Охнув от боли, он отбил удар чернявого и выхватил пистолет, повернулся, почти в упор выстрелил в рыжего. Тот выронил занесенный напильник и упал навзничь. Пригнувшись, чернявый сразу побежал к скверу, Мельников — за ним. У чугунной оградки парень в кедах и спортивном костюме дал чернявому подножку, и он растянулся. Спортсмен навалился на него, выкручивая кисть с оружием, он вырывался, пена пузырилась на губах: «Пусти, падла... Всех перережу...» К ним подбегали люди, рядом дули, не переставая, в милицейский свисток — кто это, а, старшина Панькин, старший по смене, — выпученные глаза, надутые щеки. Мельников сказал: — Товарищ старшина, преступники задержаны, я ранен. Панькин перестал свистеть и, как бы изумляясь, бормотнул: — Вижу. Кровища-то хлещет. Гляди, перепачкаешь народ. — Второго я ранил? — Кажись, ухлопал... — Что? — Вот тебе и что... Заварил ты кашу, Мельников! Не расхлебаемся! Пистолетик-то спрячь в кобуру. Левая рука у Мельникова висела плетью, рукав напитался кровью, она стекала на брюки, на туфли. Народ не перепачкаешь, себя как есть перемажешь. На глаза наплывал туман — как пленкой прикрывал, поташнивало, и хотелось спать. Мельников судорожно зевнул и сказал: — Товарищ старшина, носилки надо. — Для этого? Которого ты... — И тому, которого избивали. — Вызову... А тебе случаем не требуется? — Нет, дойду до медпункта. А вы — скорый встречать? Из возбужденно гомонящей толпы стали давать советы: сержант, истечешь кровью, перетяни ремнем выше раны и вообще нужна неотложка. Мельников подумал: «Как же я сам себе перетяну выше локтя?» — и услышал вокзальное радио: — Граждане пассажиры, скорый поезд номер шесть, следующий по маршруту Москва — Баку, прибывает на первый путь... Что? На первый путь? «Шестерка»? А он, постовой наружной службы Мельников, не сможет выйти к поезду. Это непорядок, но так случилось. Уже «шестерка» прибывает, уже темно. А того — убил? Самого могли убить. Что с Толькой, заявился домой? Шура спит? Спит и не знает, что тут стряслось. Шура! Вот так, в мыслях, всегда зовет ее. А в обиходе не называет, хотя она просит. Почему он был таким... сухарем? Спи, Шура! «Не к месту об этом вспомнил», — подумал Мельников, чувствуя дурноту у горла, слабость в коленках, липкую испарину на лбу. Судорожной зевотой ему свело рот, он пошатнулся. — Повторяю: скорый поезд номер шесть, следующий по маршруту Москва — Баку, прибывает на первый путь... «Там теперь Панькин, тот управится...»
Мельников покоился на раскладушке в коридоре; в изголовье — кадка с пальмой, слева — трубы батареи под подоконником, квадратное окно, справа — дверь в палату, столик дежурной сестры второго поста. У них свои посты, медицинские, у нас свои, милицейские. Если лежать на спине — а это удобнее всего, — видишь лампочку на потолке, стены уходящего вдаль, сужающегося коридора, холодильник, диван и каталку; где стоит каталка — перевязочная, операционная в противоположном конце коридора, в углу, за двойными стеклянными дверями. Зашивавший рану дежурный хирург — грузин, но без усиков — пришел ночью навестить. Мельников не спал. — Как самочувствие, милиция? — Спасибо, нормально, — сказал Мельников. — Устроился, как на берегу моря, под пальмой. Как в моем родном Сухуми! Не был там? — Не привелось. — Город — тысяча и одна сказка!.. А в палату тебя переведем, место освободится... — Не беспокойтесь, я и здесь полежу. — Ну, лежи, лежи. Поправляйся! За окном чернело небо, фонарь на столбе освещал верхушку тополя, цинковую крышу левого крыла больницы. Мельников смотрел в окно, на потолок, на дремавшую на диване сестрицу, на холодильник, на стены или накоротке закрывал глаза — виделось одно и то же: вскинутый над ним кулак с зажатым напильником, он хватается за пистолет. Кажется: давно это было, и здесь он давно лежит. А то, что предшествовало дежурству, было совсем, совсем давнее, много лет назад. Предполагал ли он, что произойдет на дежурстве? Никогда заранее не предугадаешь, но такого — чтоб убить человека — не мог и отдаленно представить. И вот убил. Как надеялся, что скажут: тяжело ранен. Сказали: убит. Безвыходное было положение. Или тебя, или ты. Спас себя. Чуть раньше спас туриста, которого избивали и собирались пырнуть напильниками, уже вытащили из чехольчиков. Эти заточенные напильники похуже финки, поставь на ладонь — своей тяжестью проколет. Ну, а если ударить с силой? Была необходимая оборона в допустимых пределах. В допустимых? Разве в критической обстановке все взвесишь и сообразишь, чем действовать? Он сперва вообще забыл про пистолет. Так-то так, но человека, какой бы он ни был, застрелил. Каша заварена, Панькин прав. Будет расхлебывание, точнее — следствие. Ну, готовься держать ответ... Старшина Панькин обещал заехать с дежурства к Шуре — мол, не волнуйся, он в больнице, ранение несерьезное. Шура теперь-то наверняка не уснет. Ей же нельзя нервничать, на здоровье отразится. И маленькой, дочке, которую ждут, может повредить. Эх, черт, нескладно получилось, принесло этих отпетых на вокзал, один из них даже знаком. Не так чтобы очень, но знаком. Через Ларису. Которого застрелил. Ему лет двадцать пять или шесть, считай ровесник. Дьявол их напоил, зверюги, доигрались. Сестра подняла голову — без медицинской шапочки, с пушистыми волосами. Она дремлет, Мельников мается бессонницей. Никак не наступит разрядка, нервы напряжены. Они не то что натянутая струна, они как доска, грубая и жесткая. Странно? Перед операцией ему вкатили укол пантопона, что ли, — чтоб не боялся. Он и так не боялся, но от укола легче сделалось на душе, он даже шутил с доктором и сестрами, когда всаживали уколы новокаина, замораживали руку, — разболтался, как будто малость хлебнул. А вот сейчас опять сумрачно на сердце — видимо, пантопон перестал действовать. Да черт с ним, с пантопоном, уснуть бы. Мельников осторожно повернулся, взял стакан со стула, отпил, поставил на место. Как полагается: сперва подумал о том-то, затем сделал то-то. На вокзале было так: мысль и поступок — рядом, точнее — поступок опережал мысль. Он рванул за убегающими, а уж потом подумал: задержать, непременно задержать. Отбил опасный удар, а потом уж подумал о приеме самбо. Выхватил пистолет и выстрелил, а потом уж подумал, что его убьют, если он не обезвредит хоть одного. Наверно, так было. Может, и не так. Одно помнит твердо: эти запаздывающие мысли были сродни коротким слепящим вспышкам молнии в ночи. На этаже было тихо, но не безлюдно. С первого поста пришла тамошняя дежурная сестра. Таня достала ей из шкафа какие-то лекарства. Поддерживая локтями кальсоны, по линолеуму прошлепал стоптанными тапками старик с забинтованной шеей — покурить, разминает папиросу. Таня просеменила в палату напротив поста. Выйдя оттуда, подошла к Мельникову: — Не уснул, миленький? Люминальчику дать? — Спасибо, не надо, — сказал Мельников. — У Савчука была, колю пенициллин, как и тебе. — Что он? — Плохо. Разделали его... За что? Мельников пожал правым плечом — левым опасался шевельнуть: боль пронзит, он ученый. Таня сказала: — Витя — миленький, молоденький... Проклятое хулиганье, бандюги! Савчук — это турист, на которого напали Латков и этот... как его... Батаренко. Ни за что ни про что едва не угробили хлопца. Витя Савчук. Проездом в Теберду. Вот тебе и проехал. Угодил в больницу с Мельниковым. Однако Мельников отделался полегче, у Савчука, говорят, сломана челюсть, разбит затылок, подозревают и сотрясение мозга. Верно, верно: ну и бандитня, за что же так человека? Привезли их в больницу с Мельниковым на пару. В приемном покое возникли дебаты: свободно одно место, кого класть, по-видимому, милиционера? Мельников сказал: — В палату кладите туриста. Перебьется. Тем более на днях кого-то выписывают, койка освободится. Так-то вот. Савчук и он лежат в больнице, Латков лежит в морге. Батаренко Мельникову прежде не встречался, Латков — да, и отдельно, и с Ларисой под ручку. На вокзале Латкова раза два видел — у «шестерки» до Баку, — с какими-то чемоданами, то ли провожал кого, то ли встречал... Знаком, как же: коренастый, крепкий, сросшиеся брови, синие глаза, рыжеватые вьющиеся волосы, полные, сочные губы... полные губы должны быть у добряка, у злого — тонкие, так уверяет теща. Ошибаетесь, мамаша. А в принципе это, наверное, красиво: медь кудрей и синий взор, — как прочел в чьих-то стихах. Привезла его с собой Лариса откуда-то — без роду и племени — с севера, из Норильска, ездила по вербовке, гро́ши зарабатывала. Насчет гро́шей не ручаюсь, насчет супруга скажу: подобное сокровище нашлось бы и в Минводах. Ладно, ладно, о вкусах не спорят, не мое дело. А вот это мое — Лариса вдова, я застрелил ее мужа. Как будто кто нарочно подстроил все это. Вчера вечером я не признал его сразу. Признав, не дрогнул, нажал на спусковой крючок. А что оставалось? Ждать, когда всадят в спину по рукоятку? Ну, хватит об этом. И думать хватит, и видеть. Сколько можно? Мельников посмотрел на часы — уцелели в передряге, — близко к рассвету. Фонарь за стеклом раскачивался, мельтешили ветви тополей и каштанов, хлопал оторвавшийся лист железа на крыше. Сменилось в природе, он и не заметил когда. И холодит из форточки шибче. Дождь на подходе? Мельников подтянул скомканное в ногах одеяло, накрылся и стал засыпать и просыпаться, как бы тонуть в омуте, и всплывать — туда-сюда, туда-сюда, и успевать видеть во сне: наточенный трехгранный напильник, поставленный острием на ладонь, протыкает ее под собственной тяжестью, и кровь течет с ладони по натянутой гитарной струне, либо по толстой грубой доске; Толька, пострел, в новенькой и уже замазанной майке: «Не пойду в моряки, белую форму надо часто менять», он же ластится к матери: «Не отдавай меня в школу, я маленький, сама говорила», Шура обнимает его: «Маленький, но подрастешь, отдам»; на фасаде здания — в Кисловодске ли, в Пятигорске ли — зажигается неон: «Переходите», затем возникает пешеходная дорожка, затем слова «улицу только при зеленом», затем огромный зеленый круг, затем слова «сигнале светофора», зажигаются постепенно, гаснут враз; курортники в ессентукском парке толпятся возле источников: во рту горлышки поильников — какмундштуки чубуков, они с Шурой глазеют на них; сосед Дудукин, Савелий Степаныч, из-за жары остригся наголо и кручинится: «Теперь-то примут за мелкого хулигана, каковых стригут нулевкой и упекают на пятнадцать суток»; на каменистом склоне Машука лилово-розовые с темно-красными полосками цветы, он хочет нарвать Ларисе букет, срывает цветок, но Лариса говорит: «Не тронь, Василек, это ясенец, горюн-трава, от нее ожоги», и через три часа на пальцах пятна, волдыри, а может, это рана — от удара острым или от пули? Мельников застонал, в последний раз, барахтаясь, захлебываясь, выплыл из омута — и больше не вздремнул. Водоворот ему не снился, но сейчас, после окончательного пробуждения, была непонятная уверенность: тонул в льдистом, засасывающем омуте, потому и колотит озноб. Одеяло до подбородка, форточка прикрыта — Таня озаботилась? — а холодно-то как. Окно еще мрачнело по-ночному, а по коридору брели больные в уборную, в умывальник, санитарка-армянка тихомолком затирала их следы на влажном линолеуме тряпкой из пижамного старья; Танечка то с градусниками в стакане, то с подносом, на котором порошки, таблетки и микстуры, бегала из палаты в палату. Мельников пододвинул часы: ого, шесть, почему же так темно во дворе? Приглядевшись, сообразил: угрюмые, низкие тучи застили, они придавили рассвет, сулится ливень, вот ты и дождался, чего хотел. Подошла Таня — волосы уже подобраны под шапочку, губы подкрашены: — Доброе утро, миленький. — Утро доброе, — сказал Мельников и, смущенно крякнув, спустил кальсоны. — С чего стесняешься, Вася? — сказала сестра, смазывая ему ягодицу ваткой в спирту, вгоняя и выдергивая иглу шприца и снова смазывая ваткой. — Я на попки нагляделась... и вообще... — И еще наглядишься, — сказал Мельников. — До пенсии... — Таня не договорила, ахнула: за окном раскатистый грохот. — Гром? — спросил Мельников. — Гроза? Опять раскатисто бабахнуло. Мельников сказал: — Это ж пушки стреляют по тучам. Чтоб град рассеять. — А я перетрухнула: гром! Трусиха я, зачем только выучилась на медсестру, дуреха? — Ну уж, трусиха, — сказал Мельников. — Не прибедняйся. Вон как иглу всаживаешь. Он был словоохотлив с сестрой, чтобы заглушить мысль: всаживают иглу шприца, могли всадить заточенный трехгранный напильник — и не в задницу, будьте уверены. И еще глушил мысль: кто придет первым навестить его, кто-нибудь из сослуживцев или Шура с Толькой? Хотя к чему тащить Тольку в данный момент, очухаюсь — тогда пусть приходит. Он вдруг подумал: «А что было б с Толькой, если б меня убили? Назывался бы: сирота. И сиротой стала бы дочка, не родившись, стала бы сиротой». Все-таки оконный проем синел и серел, смутно проступали пышные ветки тополя-здоровяка и сморщенные, скрюченные ветки голинки — засохшей, безлистной акации, ей никакой дождь не поможет. Ветер надавливал на стекло, оно упружливо позванивало. Затем смягченно застучали капли — значит, дождь без града. Хорошо, потому что град — это беда, побьет сады, виноградники, огороды. Дождь был проливной, отвесный. Струи хлестали по карнизу, по крыше, по деревьям, окно словно дымилось. В водосточной трубе хлюпало, урчало, клокотало, по подоконнику потекла просочившаяся меж створками вода. Нянечка подтирала ее — не тихомолком, а ругаясь по-армянски. Но как же Шура доберется в ливень? Обождать бы после работы можно. Не будет же лить весь день. Да и с завода отпрашиваться надо. Дом и завод — близко, а от дома до больницы пилять и пилять. Пусть теща приедет, если это столь необходимо. Из отдела тоже пускай не торопятся, успеется. Ливень то тишал, то барабанил с удвоенной частотой. От окна сквозило сыростью, на стекла налипали сорванные дождем и ветром тополиные листья. А в простенке на резной дощечке прилеплен лист бумаги: «Обязательства хирургического отделения в борьбе за звание коллектива коммунистического труда» — крупными буквами, сами же обязательства — мелкими, Мельников с раскладушки не мог разобрать, только цифры пунктов различал, пятнадцать пунктов набрали медики обязательств. Девчоночка вроде Тани — дневная сестра Люся — принесла завтрак, но аппетита не было, Мельников попил чайку. По коридору тащились больные — сперва к холодильнику за домашними харчами, затем к столовой — за казенными; некоторые мешкали, показывали на Мельникова пальцем, переговаривались: милиционер, поранили бандиты, парень не слабак, одного хлопанул из пистолета, так и надобно, сколько ж можно терпеть хулиганье, распоясались, проходу нету. Еще, чего доброго, подойдут с расспросами — не сейчас, так после завтрака. И Мельников прикрыл глаза, словно вздремнул. И он лежал с закрытыми глазами — ступни, не помещаясь, торчали над раскладушкой, затылок упирался в кадку с пальмой, — и в темноте звуки как бы обострились: и шум дождя, и позвякивание стекла, и стук костылей, и голоса в коридоре и палатах. Темнота была зыбкая, непрочная, и от нее почему-то разбаливалась, уставала голова, уставала шея, даже руки-ноги уставали. Потерпим. Разговоры о вчерашнем ни к чему. Успеем поговорить, да и не с каждым же, желающих наберется. Уверенные шаги нескольких человек оборвались у раскладушки, властный бас произнес: «Это и есть наш храбрец? Разбудите!» Мельникова потрясли за плечо: «Больной! Обход!» Ну, коли обход — поговорим. К счастью, врачи не докучали расспросами о происшествии, они интересовались самочувствием, температурой Мельникова, слушали грузина, который штопал его ночью; Люся, высунув в усердии кончик языка, записывала в ученическую тетрадь назначения: анализы, лекарства, стол, режим и прочее, что краем уха схватывал Мельников. Он поглядывал на врачей и сестер и повторял: «Чувствую себя прилично». Заведующий отделением, с властным басом и окладистой бородой, как у представляемых в кино купцов, похлопал Мельникова по здоровой ладони и двинулся в палату, свита — за ним. И едва они гуськом вошли в палату, как в конце коридора Мельников услыхал одинокие шаги, заставившие его привстать на локте. Он не видел, кто идет оттуда, но сразу же понял: Шура. Он узнал ее, когда она миновала полкоридора. И она узнала его, побежала, почти не двигая руками. Он замахал рукой: не беги, что ты, но она добежала до раскладушки: белый халат с бурыми от застиранной крови пятнами, белое лицо с бурыми предродовыми пятнами, грудь и выпуклый живот вздымались. Мельников сказал: — Несешься как угорелая. Она перевела дух, жалко и виновато улыбнулась: — Здравствуй, Вася. — Здравствуй, — сказал Мельников. — Садись. Убери со стула на подоконник и садись. Она убирала и оглядывалась на него. Присела на краешек, не спуская глаз. Высморкалась. — Ну, как ты, Васенька? — Ничего. — Как же ты не уберегся... — ее губы задрожали. — Васенька, родной! — Уберегся. Живой перед тобой. — Он пожал плечами и сморщился от боли: забыл, что пожимать можно одним плечом. — Тебе больно? Больно? Но тебя вылечат, я беседовала с главврачом, он и разрешил свидание... — Вымокла небось как курица, — сказал Мельников. — Проведала б после работы. — Я не могла дождаться утра... Панькин известил... Как бы я дожидалась вечера, бог с тобой, Вася. — И опять эта кроткая, виноватая улыбка. И Мельников, проникаясь внезапной ответной жалостью и чувствуя себя в чем-то виноватым, сказал: — Упрекаешь, что не поберегся, а сама... А ежели простудишься? — Он оглядел ее живот и добавил: — Вас же двое, Шура... И тут она заплакала в голос, уткнувшись в подушку. Он сознавал, отчего она расплакалась, погладил ей щеку: — Ах ты, Шурик, Шурик. Она нашла губами его ладонь и поцеловала — в ладонь будто налили воды. Мельников сказал: — Да ладно тебе. И не реви, народ сбежится. Она утерлась платочком, стала доставать из сумки — бутылку кефира, кулек с черешнями, еще что-то. Мельников спросил: — Толька как? — Расхныкался, что не забрала к тебе. — Толька расхныкался? Это что-то новое... А что мамаша? Шура всплеснула руками — рукава великоватого халата трепыхнулись, как крылья. — Плохо с ней было. Как Панькин-то выложил... Уложила я ее, Панькин «Скорую помощь» вызывал. — Ну, а что в данный момент... с мамой? Полегчало? — Полегчало. Но с собой в больницу я ее не взяла. — Поклон ей передай, — сказал Мельников. — И Тольку целуй. Скажи им: со мной все в порядке... Распрощавшись с женой, Мельников сомкнул веки — спит не спит, не тревожьте понапрасну — и мысленно провожал ее до выхода на лестничную площадку, до подъезда, до автобусной остановки, до заводской проходной, оберегал от дождя и луж, видел воочию ее походку вразвалочку, льняные кудельки, льняные брови, которые она никогда не подкрашивала, поблекшую кожу в подглазьях и морщинки у рта и хотел, чтобы не пригасло то, что вновь затеплилось в нем, в Мельникове. Почаще бы называть ее по имени — вслух! Ну, что тебе это стоит? А ведь она просила с самого начала. И просит теперь совсем уж изредка. Ту, Ларису, небось называл Ларой, и Ларочкой, и Ларунчиком, голубком ворковал. Было, не отпираюсь. Когда было? Да лет семь назад, до армии. Втюрился по уши. Суток не мог прожить без нее... и так далее. Смяк до невероятия, потому влюблен. Да и к тому же мальчишка, сосунок, первая любовь. По будням они с Ларисой обгуливали минводские скверы, пропадали на танцульках, в кино. По воскресеньям уезжали на электричке: и публика в курортных городах интересней, и окрестности живописней. В этих самых окрестностях, на природе и произошло у них то, что не забудется до гроба. То воскресенье! Ночью на вершине Машука выпал снег, в июне снег, четвертого июня. Но покамест они с Ларисой добрались до наводненного цыганками-попрошайками пятигорского вокзала, снежные островки растаяли под горячевшим солнцем. Припекало, и носы их покраснели, как у пьяниц, и Лариса наклеила себе под дужку защитных очков листик сирени. Так, с листиком на Ларисином носу, они и кочевали — то одни, то подстраиваясь к экскурсиям. В Пятигорске потоптались в Домике-музее Лермонтова, где великий русский поэт на вечеринке повздорил с приятелем Мартыновым, на автобусе подъехали к обелиску на месте гибели великого русского поэта у подошвы Машука; в Железноводске сбега́ли по каскадной лестнице, катались на лодке по озеру, обошли по кольцу гору Железную, начав путь от водолечебницы, куда в день дуэли прискакал верхом поручик Лермонтов, принял минеральную ванну и откуда, поспешая к сроку, ускакал стреляться с майором Мартыновым; в Ессентукском парке дивились экзотическим деревьям и папоротнику «страусовое перо», а обедая в ресторане «Кавказ», дивились худосочным желудочникам и печеночникам, люто расправлявшимся с шашлыком и жареными цыплятами, Лариса подмаргивала: «Это у курортников зигзаг»; в Кисловодском парке взбалмошная, но прозрачная Ольховка срывалась с каменных уступов игрушечными водопадами, а они — против течения речонки — взбирались выше и выше, к Красным камням и Серым, к Храму воздуха, далеко в синей дымке Синие горы, еще дальше двуглавый Эльбрус с ледниками. На теренкурах пыхтели тучные субъекты, Лариса посмеивалась: «Жирок сбрасывают, а что бы не чревоугодничать?» Во всех городках, из всех источников пили целебные воды, перемешалось, Лариса посмеивалась: «Не произойдет ли у нас революция?» С утра она была взвинченная, насмешливая и словно не стесняющаяся его. Они стояли на верхотуре, закатное солнце плавило и не могло расплавить ледники Эльбруса. За скалой, в шиповнике, бренчали на мандолине, в кронах среди завязи диких каштанов и грецких орехов орали по гнездам грачата, которых кормили родители, молодые скворцы сновали в молодой траве — уголья в зелени. «Притомилась, Ларуся? — сказал он. — С ума сойти, целый день мотаемся». Она сказала: «Прилягу на травку» — и пошла к дубу со стволом как конус. Он за ней, она остановилась и, неожиданно притянув его за шею, стала падать, и они упали оба, и листок сирени слетел с ее носа, и очки слетели, и он увидел ее открытые, безбоязненные глаза. До этого Мельников еле держался на ногах от усталости, а тут нетерпеливая, неистребимая, небывалая сила возникла в нем, и он уже не помнил о близкой мандолине, о близких теренкурах и о том, что нашла в нем Ларка. При звездах они сели в Кисловодске на электричку, и до Минвод Лариса не снимала головы с его плеча — как положила, так и ехали — и с вызовом поглядывала на попутчиков. А он, счастливый, переполненный тем же неукротимым, неиссякшим, думал: «Вот и свершилось! Там, у дуба, я боялся наткнуться на ее обнаженный взгляд... Свершилось!» А потом понял: дурень, это у него впервые, а у нее... Так, так, так, Василий Мельников. Шура Шурой, а перескочил на Ларису, здорово тебя завернуло. Что — завернуло? Сложилось так: любил он эту девчонку крепко, чего уж там. Но его в армию, а она почему-то укатила в Норильск, привезла муженька. О вкусах не спорят, видать, по нраву был ей. А что он, Мельников? Нескладный, руки-ноги болтаются как на шарнирах, скуластый, косит (мальчишкой дразнили: «Один глаз на Кавказ, другой на Россию»), разве что рост гвардейский, в строю — на правом фланге. Но чем-то приглянулся он Ларисе? Может, хотела вертеть им как угодно? Про Ларисино замужество узнал случайно. В Минводах о норильском фортеле не ведали, знала лишь закадычная подружка, хранившая новость в величайшей тайне. Но, повстречав на улице приехавшего в краткосрочный отпуск Мельникова, стойкая подружка не устояла, выложила, истребовав клятву сохранить все в секрете. Клятву он дал, в награду за то ему позволили прочесть письмецо. Подружке от Ларисы. Прочел. Белый свет закружился, потом все встало на свои места. Подобьем итоги: его не любила, тешилась, соединилась законным браком с Латковым, он как мужчина абсолютно в ее вкусе. На побывку Мельникова отправили потому, что в погранотряд пришла заверенная поликлиникой телеграмма: мать опасно больна. В те годы отпуска разрешали неохотно, и начальник отряда вертел телеграмму и так и эдак. Но отпустил: во-первых, мать при смерти, во-вторых, ефрейтор Мельников — мастер пограничной службы, отличник боевой и политической подготовки, нельзя не уважить. У матери отказывало сердце, и он бегал в аптеку за кислородными подушками, и горбился у ее постели, щупал пульс. Он был сумрачен, подавлен, мать просветлена: «Можно помирать: повидалася с тобой...» И прошептала: «Не привел господь нянчить внуков, так хоть обженись, покудова не померла. На Сашке Зубе́нковой обженись!» «Жениться?» — спросил он недоуменно. Мать истово зашептала: «Спервоначала обзнакомься, славная девка, золото, не вертушка... Бери — не промахнесся...» Оказывается, мать давно это вынашивала — оженить его на Шуре Зубенко. Мельников уже прочитал письмишко Ларисы и ответил: «Коли вы желаете, мама, я познакомлюсь с ней...» Они двинулись навстречу друг другу, и у Шуры под его взглядом ноги стали заплетаться. И после этого знакомства, когда он взглядывал на нее, она спотыкалась. Освоилась накануне его отъезда в часть. И получилось: то дневалил у материной кровати, то прогуливался с Шурой по Минводам и — так повелось у минводских парочек — ездил по курортным городкам, по тем же достопримечательностям, что навещал и с Ларисой. Все было вторичное, отраженное, даже желание. За десяток дней сошелся с Шурой. Отпуск истек, мама была еще, к счастью, жива, и он на что-то надеялся, прощаясь, а после выяснилось: когда трясся в транссибирском поезде где-то перед Читой, мать скончалась. В штабе отряда вторично показали телеграмму, однако вторично в отпуск не отправили. Служить надо, да и не поспевал он к похоронам никак: от заставы до Читы — сутки машиной, от Читы до Москвы — пять суток поездом, от Москвы до Минвод — сутки с лишним. Лететь бы, да откуда у солдата наберутся деньги на самолет? А главное — кто ж предоставит два отпуска подряд? Маму предали земле без него. В общем, получилось: мама предсмертно мучилась — и был зачат Толька, его Толька, чертенок, пострел. Без него родился. И девочка могла бы родиться без него — в ином, непоправимом смысле. Да... А Ларисина товарка, что подсунула ему писульку, во всеуслышание возмущалась: «Оторвал Васька Мельников! Вот и верь мужикам!» Ну и ну, вроде бы он обманул, а не его, ведь Лариса писала ему в Забайкалье: «Любимый, дорогой Василек!», а была уже с Латковым, зачем писать-то было? Лгать зачем? Бессмысленная, нелепая ложь. Впрочем, вскоре переписка прекратилась — Лариса как обрезала. Все это в прошлом, в настоящем он обезмужил ее... Он ли, только ли он?
Дни были однообразные до одури. Просыпался Мельников от выстукивания клювом по стеклу. Койка — впритык к окну, и Мельников выгребал из тумбочки заготовленные загодя крошки, сыпал на карниз, и сизарь склевывал их с достоинством, без жадности. В зиму — по палатным преданиям — голубь, отощавший, ослабевший с голодухи, примостился на карнизе, и больные, приоткрыв раму, накрошили ему хлеба, он стал прилетать по утрам, как по расписанию, подкормили, вы́ходили, но голубь и поныне заявлялся за дополнительным, что ли, питанием, и обитатели палаты, сменяясь, как бы передавали заботу о птице. Склевав булочные крохи, голубь наклонил головку, словно поблагодарив за трапезу, почистил перышки, лоснящиеся, ухоженные, поджав красные лапки, упал с карниза, и Мельников каждый раз не то чтобы пугался, но стерег момент, когда это кратковременное падение перейдет в полет. Не вставая с постели, Мельников следил, как сизарек плавно летел над сквозной железной оградой, над беседкой, над мусорными ящиками, куда вываливали куски снятого гипса, окровавленные бинты и тампоны, и скрывался за кирпичной трубой приземистого здания, которое — по тем же больничным преданиям — зовется крематорием: там якобы сжигают оттяпанные руки-ноги, печенки-селезенки. Хорошо все-таки, что он лапы не лишился, повезло. Умылся — в столовку, туда же — в обед и ужин, до и после нормальной еды наедаешься всяких порошков, пилюль, таблеток. Кончился обход — дневная сестра колет шприцами: глюкоза, витамин; откололся — карауль вызов в перевязочную, тамошняя сестра снимает бинты: «Молодой, красивый, на поправочку?», лечащий врач ковыряется в ране, ненароком замычишь — приветливо вопрошает: «Больно?» — «Да». — «У нас ответствуют: не больно, а приятно... Итак, больно?» — «М-м... приятно...», сестра забинтовывает: «Молодой, красивый, да ты уже как огурчик!» Отобедал — тихий час. Отвалялся — дуй во двор, на лавочку, в беседку, к доминошникам либо читай книжку. Отужинал — к телевизору в холле, наслаждайся смотренными-пересмотренными фильмами, которыми потчует пятигорское телебачение, как выражается Игнат Игнатьич. На сон грядущий, разумеется, анекдоты, Игнат Игнатьич в этой отрасли мастак. Казалось бы, отдыхай, отсыпайся, развлекайся, так нет же — маешься, мечтаешь: до дому, до хаты! В палате заводилой был Игнат Игнатьич — шестьдесят с гаком, вышел на пенсию, молодая жена, «Москвич», предвкушал: «Теперь-то я заживу». Заядлый охотник, рыболов и физкультурник, он отрабатывал по три зарядки на дню, не считая занятий по лечебной физкультуре, бегал кроссы по больничному садику, в дожди бегал с первого этажа на пятый и обратно, спортивную форму поддерживал. А был у него запущенный рак прямой кишки, про это знали все, исключая самого обреченного. И Мельникову было иногда жутковато слушать разудалые и скоромные анекдотцы от человека, которому жить месяца три-четыре. Мельников захаживал на первый пост к Савчуку. Турист — на высокой хирургической кровати, забинтованный по глаза, и они слезились, когда Мельников справлялся о самочувствии, и сухо блестели, когда он ни о чем не спрашивал, немо кричали: за что со мной так, люди или же звери? С тягостным чувством покидал его Мельников. Как будто он, Василий Мельников, чего-то недоделал для Савчука. Как будто мог отвести от Савчука то, что было, а не отвел. Чепуха это, нервишки, смяк — тоже живой человек. Помимо Игната Игнатьича, заводным в палате был и Жорка, язвенник, хмырь и двойник генерала де Голля. Внешностью Жорка на французского президента походил феноменально — формами огромного носа, лба, подбородка, ушей, прической, ростом — верста, вся разница — младше на пятьдесят пять лет. И манеры у них разнились: президент Шарль де Голль невозмутим, важен (в кинохронике показывали), мамин-папин сын Жорка — суетлив, с ужимками, балаболка. Жорка пытался заводить магнитофон в палате, Мельников турнул: — Валяй на природу. У каждой кровати наушники, кто желает, послушает музыку по радио. — По радио! — Жорка подергался по-обезьяньи, заскороговорил: — Радио передает пещерные скрипки! Какие пещерные? Допотопные! А мне подавай джаз, эстраду! Босоцкого[1] подавай! — А кто это? — спросил Мельников. Не прожевав, Жорка сглотнул кусок бублика и завопил: — Он не слыхал про Босоцкого! Это артист в драмтеатре на Таганке, а сочиняет песенки, сам исполняет! Молодежь повально увлекается! Мода! Босоцкий! Из-за одной песни они крепко поспорили. Жорка запустил в беседке магнитофон и, жуя печенье и закатив белки, в упоении закачался как заведенный. Рубя слова, хриплый, придушенный баритон поспешал за гитарным бренчанием. Он пел, как на границе с Турцией или с Пакистаном справа наши пограничники, а на левой стороне «ихние посты», и как советский капитан собрался нарвать на нейтральной полосе цветов для своей невесты, и турецкий капитан возжелал нарвать букет своей невесте, и как группы пограничников столкнулись там ночью, перестрелялись, турок повалился, охнув по-турецки, рухнул и наш капитан, крикнув что-то по-русски; завершалась песня так: спит, дескать, капитан, и ему снится, что открыли границу, а ему, бедняге, не нужны были чужие заграницы, он всего-навсего хотел пройтись по ничейной земле, почему ж это возбраняется, ведь земля-то ничья; куплеты сопровождались припевом: «А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты», струны чуть не лопались. — Ну как? — спросил Жорка, гримасничая и дергаясь. — Хрипит здорово, — сказал Мельников. — Гениально! Это-то и ценно — не петь, а хрипеть! — Мотива я не уловил. — Мотив — пещера, пережиток! Ритм, ритм — вот что! Рвет струны-то как! — Рвет. Я все это разумею. Смысла не разумею. Посуди: во-первых, Советский Союз не граничит с Пакистаном. С Турцией — да, с Пакистаном — нет. — Как то есть нет? — Жорка вскочил. — У Босоцкого сочинено — должны граничить! — То-то что сочинено. Сядь. Во-вторых, о сухопутной границе нельзя сказать: наши на правой стороне, а те на левой или наоборот. Уразумей: они перед нами, мы перед ними. — Босоцкий же поет! — Не поет, а хрипит. И далее. На границе никакой ничьей, нейтральной полосы не имеется. Государственная граница пролегает от копца к копцу, это погранзнаки... Граница — это мысленная черта, уразумел? На границе как? Ступишь на пяток сантиметров — и ты уже на чужой территории... Возьмем реку: линия границы обычно проходит посредине фарватера, так что и ничейной, нейтральной речной воды не имеется. Прислушивавшийся к разговору Игнат Игнатьич расхохотался: — Чистый анекдот! Певун-то, бард двадцатого столетия, спутал государственную границу с передним краем обороны! На войне, в обороне, имелась нейтралка, ничейная земля между нашими и немецкими позициями. Бывало, полоса метров семьдесят шириной, а бывало, и четыреста. Подтверждаю как фронтовик! Жорка садился и вскакивал, но ничего не произносил, растерянно шлепал губами. Игнат Игнатьич продолжал похохатывать: — И потом — как это можно «охнуть по-турецки»? Охнуть по-русски? По-французски? Ох и есть ох! Жорка обрел речь, выпалил: — А почему же все увлекаются Босоцким? — Да кто — все? Я слыхом не слыхивал этого вундеркинда. — Насмехаетесь, папаша? А это шик! Гениально! Игнат Игнатьич задумался: — Братцы, не пародия ли это, неудачная шуточка, так сказать? Мельников со злости сплюнул: — Ни хрена себе шуточка! Надо раскидывать мозгой, выбирая предмет для пародирования. И хоть столечко, с мизинец, разбираться в данном предмете... Брехня и глупость! — Музыкальный ширпотреб, — примирительно сказал Игнат Игнатьич. Унося магнитофон, разобидевшийся Жорка спросил Мельникова: — А ты откуда про границу-то знаешь? — Служил на заставе. Три года отдал. Но Жорка обиделся бесповоротно, гнул свое: — Что с того, что служил? Это искусство, фантазия... Молодежь-то принимает! — А я что, не молодежь? — спросил Мельников и одернул себя: соседу Дудукину Савелию Степанычу говорил, что не молодой он, двадцать шесть законных. Да ну их, юного язвенника Жорку и актера, которому надо бы играть на сцене, в спектаклях, а он хрипит с магнитофонной ленты фиговые песенки собственного изготовления. Уж предпочтительнее слышать, как белые медведи трутся спинами о земную ось, чтоб Земля вертелась быстрей, — и мотив улавливаешь, и женский голосок приятен. Только бы в меру слышать про белых медведей, без перебора. А на границе он служил. Действительную. Три года. С гаком. Застава была на сопке, но сопки повыше обступали с запада, севера и юга, и весной ее обмывало талыми водами, осенью обсыпало желтым — березовой листвою, лиственничной хвоей, в распадках же бурлили паводки и наметались сугробы прелых листьев и хвоинок; на востоке тайга перед заставой раздавалась: Аргунь, летом мелеющая на перекатах, пенистая на стремнине, с омутными воронками, зимой — с торосистым льдом, с курящимися за́берегами, со скудным и сухим забайкальским снегом, перегоняемым от стамухи к стамухе — торосам, ставшим на отмели. И на нашей, и на той стороне прибрежья пологие, по сотне шагов тала, черемухи, и сразу череда сопок: базальтовые глыбы, мох, багульник, сосновые леса и березовые, лиственничники, ельники, кедрачи, бурелом — не продерешься, пограничные тропы выручали. Полазал он по сопкам да распадкам, потоптал казенную кирзу и валенки, поистер казенную шинелишку и полушубок. Три года — дозоры и секреты, днем ли, ночью: бураны, ливни, метели, сорокаградусная стужа и сорокаградусная жара, гнус, волчьи стаи, медведь-шатун и рысь — тоже не сахар, хотя промышляют в одиночку. Ну и двуногие, проще нарушители. Перебирались к нам на лодке, и вплавь, и по льду. В январе было: группа нарушителей в маскировочных костюмах по-пластунски переползла Аргунь, чтоб захватить и увести наш парный наряд. А вот Мельников не сталкивался с лазутчиками, не судьба. Стрелял по мишеням на стрельбище. Из автомата, ручного пулемета, карабина. Пули не посылал за молоком. Хоть и косит на левый глаз, это не мешало: целясь, его зажмуриваешь. Да, по человеку за три годика не выстрелил. И еще о пограничной жизни: в отряде о маминой смерти ему сообщили, когда был май на исходе: по голубой Аргуни — вниз, где, неподалеку сливаясь с Шилкой, они превращались в Амур, — несло грязно-серые льдины, коряги, на сопках зазеленела хвоя лиственниц, залиловел зацветший багул. Мельников стоял на взлобке над глухой расселиной, сдернув фуражку, будто над могилой. Больше он не увидит мамы. Не получит ее весточек в конвертах, надписанных печатными буквами. Не получит посылок. Она присылала аккуратные фанерные ящички со всякой всячиной. По заставской традиции, он отбирал что-нибудь себе — по мелочи, — а ящичек с остальным добром подкидывал к потолку: «Самолет!», и братва ловила, хватала кому что доставалось. Если Атянину ничего не доставалось, Мельников делился тем, что приберег для себя. И Атянин поступал так же. Они надежно дружили, по-мужски. Мельников вызволил провалившегося в полынью Атянина, тот подстрелил рысь, изготовившуюся для прыжка со скалы на спину Мельникову... А над мамой — свежий холм, в изголовье крест, который Мельникову доведется еще не единожды подправлять. А над Гришей Атяниным попозже вырастет холм с обелиском, который Мельникову не подправить: похоронили в Красноярске, когда они разъехались с заставы, — Мельникову написали об этом демобилизованные ребята со стройки ГЭС. Не было брата, был Гриша Атянин, оставил по себе зарубку на сердце. Эх, как Василий Мельников спал на заставе-то: прикоснулся щекой к подушке — готов, из пушки не разбудишь. Да что застава — совсем недавно дрых дай боже, без снов, и днем прихватывал не в ущерб. Шура и то сердилась: «Побудь со мной, засоня...» А в больнице поломалось: сновидения, пробуждаешься, а то и бессонница, извертишься, простыню скомкаешь, матрац сваляешь. И тогда подкатывают злость, тоска. Вот именно: злая тоска. Лезут в башку мысли, сна не будет и в помине. Хватай книгу и к сестре на пост, за столик, она не прогонит, читай при настольной лампе про путешествия на другие планеты через сотню лет. И что удивительно: звездопланы автор описывает сверхъестественные — ни черта не разберешься в технике, имена у космонавтов ненынешние, какие-то гибридные, а характеры, повадки, как сейчас. Неужто земляне не изменятся к лучшему за столько лет? Понятно, человек меняется медленнее техники, очень медленно, но все же целый век! Или автор загнул? Или милиции еще долго-долго существовать? Так или иначе, на твой, мельниковский срок работенки ей хватит. По ночам рука ныла, Мельников снимал ее с перевязи, сгибая и разгибая, как велел методист лечебной физкультуры. В растворенном окне круглилась луна, по задворьям на нее лаяли дворняги, по крышам неслышно шастали и в июне по-мартовски голосили коты-котовичи: затыкай уши ватой. В одну из бессонных ночей Мельников дочитал роман, потеребил себя за чуб и, враз позабыв о межпланетных путешествиях, подумал, что та его жизнь, до схватки с хулиганами, ушла и не вернется, чепе на вокзале отчеркнуло ее от новой, а какая она будет, неизвестно, но от прежней будет отличаться чем-то, и он сам станет в чем-то иным. И затем мысль: «Я надеялся, что выстрел в Латкова — кульминация, все пойдет на спад, однако это, видимо, не так, высшая точка растягивается в линию, вот на сколько растянется, тоже неизвестно. Внешние события — одно, то, что происходит в душе, — другое». В приемные, или, по-шутейному, родительские, дни к Мельникову приходили Шура, Толька и теща — троицей. Отмытый, причесанный, Толька не лез с нежностями, сидел смирненько, но глазенками шнырял вовсю. Шура ревниво ерзала, когда пропархивали стандартно-стройные Люси или Тани (сестры хирургического отделения, как на подбор, были Люси и Тани), рассказывала о домашних и заводских новостях, теща — о городских. Она неизменно говорила: «Усе одобряють тебя, Васыль, ты же ж по закону», он отвечал: «Не будем про это, мама»; она неизменно говорила взглядом: «Васыль, на кой же ж ляд сдалась тебе та милиция, брось заради Христа», он отвечал взглядом: «Мама, милицию я не брошу. Это вы бросьте подымать данный вопрос». В неродительские дни Мельникова навестили следователь, прокурор и начальник наружной службы. Он объяснял им, как было, — объяснял устно и письменно, аж взмок, еще был слаб. Накоротке заскакивали ребята из дорожного отдела, совали передачи в кульках, кивали: «Бывай! Поправляйся!» Дважды приезжал Панькин, в начале лечения и в конце, подолгу, обстоятельно беседовал. В первый визит сокрушался: — Угораздило ж стрелять, лупил бы их, паскуд. А ты бац... Кореш будто его показал: из-за Ларки! — Следствие установило: я отбивал их удары предплечьями. Лариса тут ни при чем. — Не умничай, не темни. Кто будет отвечать, а? — Я. А может, и никто, — сказал Мельников. Панькин пригладил седеющий ежик, покрутил шеей в крупных морщинах, словно ворот тесен, сморщил пористый нос: — То растяпа, то шустренок ты! А я кой-чего кумекаю... Ты в органах милиции сколь? Пару годков? А мне пару годков до пенсии! У тебя третья категория? А у меня первая! Чья квалификация выше, чей опыт? — Ваши, старшина, — сказал Мельников. — Кумекай: ты стре́лил, ты, натурально, и отвечаешь. Но спросят же: кто был старший по смене? Панькин. И потянут Панькина к суду-следствию. — Вас-то за что? — Найдут, ежели начальство будет не в духе... Состряпал ты заваруху, состряпал. Мельников подумал: «Старшина, ты опытен, честен и, прости, недалек, верней — остарел, выработался». Сказал: — Заварушку заварили уголовники, я расхлебывал. И позвольте спросить: до коих пор миндальничать? — Да уж ты не миндальничал, — пробормотал Панькин. — А я приучён уговором воздействовать, мирно... Нам оружие давненько ли позволили поширше применять? Вовсе недавне́нько. — Указ-то[2] для чего принят? Для усиления борьбы! — И указ недавне́нько приняли... Шустрик, наломал дров... Во второй визит Панькин ликовал: — Причитается с тебя! Шутка ли: Москва одобрила! Медаль «За отвагу» пророчат! — А парня, который пособлял задерживать Батаренко, отметили? Спортсмена? — Насчет Батаренко: предстоит суд, зарешётят. Насчет парня-спортсмена не в курсе. А меня отметили: благодарность от начальника дорожного отдела! — Поздравляю, — сказал Мельников. — Ты не серчай. — Старый Панькин поежился, покраснел и стал похож на проштрафившегося пацана: — Кумекаю: ты прав, — зафальцетил Панькин по-иному. Так точно, по-иному. — Обстановка, стало быть, переменилась... Не серчай, пойми: приучён я за многие ле́та к уговорам, без обострения, ласковонько поговоришь — глядь, и зашкандыбает домой, прощелыга, проспится. Обостришь, он тебя и пырнет. А мне до пенсии пару годиков, не резон переть на рожон-то. Мельников слушал старшину и думал: очерстветь в милиции можно запросто, фактики и субъектики попадаются — жить становится тошно, но если ожесточился, уматывай из органов подобру-поздорову, иначе стрясется, как с Лепешкиным: избил задержанного воришку, самоуправство, уволили — и под суд. И размазней быть нельзя, киселем и студнем, хотя по-житейски старшину Панькина понимаешь: дотянуть бы до пенсии. В милиции надо быть мягким к людям и беспощадным к негодяям, а милиция соприкасается и с теми, и с другими, надо помогать добру и пресекать зло — вот как пафосно стал изъясняться младший сержант Мельников. Но, право же, наша работенка не прямолинейна и не примитивна, как представляется некоторым.
В день выписки за Мельниковым приехала не Шура, а шофер милицейской «Волги». Накануне в больницу лично позвонил начальник отдела: товарищ Мельников, поприсутствуешь на оперативном совещании, получишь правительственную награду и отвезем домой, под бочок к жене. — Понял, товарищ подполковник! — сказал Мельников. — Ну и великолепно, что понял, — сказала трубка и загудела частыми гудками. Шофер привез Мельникову новехонькую форменную рубашку взамен попорченной, у Шуры прихватил выстиранные и наглаженные брюки и китель. Мельников спросил: — Китель-то зачем? — Для солидности. Медаль куда чеплять? На лацкан! «Волга» катила, обгоняя автобусы, самосвалы, дождевальные машины с водяным усом, струйками поливавшим газоны, левый ус, казалось, был сбрит. Никли листья акаций, тополей, катальп, кой-где пожухлые. Июль. Разгар пекла. Перед «Волгой» мостовую перебегали собаки, по совпадению сплошь прихрамывающие. Шофер, зажав папироску зубами, сказал: — Примета: псина перебегнет дорожку — к счастью. — А что хромая — ничего? — Сойдет! — Наберем счастья! Три мешка на двоих. Поделим? — Поделим, — сказал шофер и передвинул папиросу в угол рта. Все по календарю: за июнем июль, небо слиняло. Отцвели сирень и жасмин. Акации отцвели. А как пахли тогда гроздья белой акации! Это было в той, прошлой жизни. В нынешней пахнет цветущими розами, и это не волнует. А вообще, что ни говори, жить славно. Он снова здоров и силен и, что ни толкуй, молод — разве ж это не славно? Он как будто заново в родном городе. Присматривается к улицам, домам, вывескам, прохожим на перекрестках, где легковушка сторожит красный сигнал светофора, читает объявления на заборах, ухитрился даже такое прочесть до конца: «Минераловодское городское профессионально-техническое училище № 16 объявляет прием учащихся с образованием не ниже восьми классов на обучение по специальностям: маляры, каменщики-монтажники железобетонных конструкций, плотники-опалубщики, слесари-сантехники, паркетчики, штукатуры. Срок обучения 1-2 года. Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении, имеется бесплатное общежитие. Обращаться: г. Минеральные Воды, проспект XXII партсъезда, 94. Дирекция». И бог весть с чего возрадовался. «Волга» вывернула к привокзальной площади, обогнула ее, притормозила у ступенек. Здесь это все произошло. Ничего не переменилось. Мельников открыл дверцу и вылез на размягченный, податливый асфальт. Водитель сказал в досыл: — Дуй на оперативку немедля. В кабинет Мельников протискивался боком и пригнувшись, чтобы не привлечь внимания, но в дверях его громогласно окликнул начальник: — Эй, товарищ Мельников! Посмелее! Проходи поближе к столу. Присутствующие обернулись, и Мельников, словно ему предстоял некий ответственный смотр, смешался под их взорами, косолапя, прошагал к покрытому сукном столу, извечно приставляемому под прямым углом к покрытому стеклом столу начальника, и опустился на стул; мелькнуло воспоминание: так же смешался, выступая на окружном партактиве в Чите, под взорами зала и президиума, но все-таки взял себя в руки, выступил нормально, крепко. Эти посторонние мысли успокоили, и Мельников украдкой обвел взглядом кабинет, и некоторые ему кивнули, кто подмигнул, кто улыбнулся, старшина Панькин растянул рот до ушей. Совещание закруглялось. Начальник спрашивал: «Еще вопросы?» Вопросы иссякали — так уходят в почву весенние ручейки. Гигантской сонливой мухой жужжал на тумбочке вентилятор, дверь в коридор была приотворена, но ни малейшего дуновения. Пылинки не толклись, а словно приклеились к солнечным лучам, прорезавшим шелковые шторы. В набитой солнцем и людом комнате застыла духота. Все были разморенные, жаждущие курнуть в коридорном закутке. Лишь начальник, рыжеватый горбоносый ингуш с меткой на затылке — издали как плешина, но это пробрил кастет — да секретарь горкома партии, Мельников его узнал, при пиджаке и галстуке, среди милицейских форменок походивший на переодетого в штатское оперативника, были свеженькие. Подполковник встал из-за стола, уперся пальцами в стекло: — Вопросы исчерпаны? Выполняйте задачи. Но прежде чем закрыть оперативное совещание, разрешите передать слово первому секретарю горкома партии. Прошу, Сергей Иванович! Секретарь встал рядом с начальником: — Товарищи, у меня приятная миссия. Ваш коллега, постовой наружной службы младший сержант Мельников Василий Николаевич за самоотверженные действия и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, награжден медалью «За отвагу». Мне поручено вручить Василию Николаевичу эту высокую награду. В комнате захлопали. Опять стушевавшись под перекрестными взорами и опять припомнив, как трусил на окружном партийном активе в Чите, но теперь уже внутренне усмехнувшись над этим воспоминанием, Мельников подошел к секретарю горкома. Тот подал ему удостоверение, раскрыл коробочку, прикрепил к отвороту кителя медаль: по серебру алыми буквами — «За отвагу», колодка обтянута серой муаровой лентой, — пожал руку. Мельников пожал руку и начальнику, и замполиту, и еще кому-то и направился было к месту, но спохватился, принял стойку «смирно»: «Служу Советскому Союзу!» — и после этого сел. Переждав хлопки, секретарь сказал: — Позвольте мне произнести несколько напутственных слов Василию Николаевичу Мельникову да и всем вам, пожалуй. Услыхав свою фамилию, Мельников поднялся со стула. Начальник вполголоса обронил: «Садись, садись», однако Мельников не садился, и секретарь, бывший до этого серьезным и строгим, улыбнулся, обнаружив мальчишечью щербинку: «Не неволь его, Аслан Хажбекарович, пусть постоит, а моя речь будет короткой...» Конечно, с чего вскочил, глупо получилось, но и сесть теперь глупо. Стой уж до конца. Величают-то как: по имени-отчеству. — Василий Николаевич — молодой милиционер, около двух лет он в железнодорожной милиции. Ничем особым не выделялся — дисциплинирован, исполнителен, трудолюбив, — а настал черед, и не дрогнул Василий Николаевич. Молодец! Вчера я посетил авторемонтный завод, рабочие говорили мне примерно так: что-то слишком часто в наших газетах печатаются информации о гибели милиционеров в борьбе с хулиганами и бандитами, не пора ли согнуть в бараний рог подонков. И пояснили: пускай в историях, наподобие той, что произошла на минводском вокзале, гибнут преступники, а не работники милиции и дружинники. По-моему, рабочий класс рассуждает логично! Так вот, товарищи: будьте гуманными, но будьте и твердыми. После совещания Мельникова задержали в кабинете: секретарь горкома, начальник отдела, его заместители, начальник наружной службы, начальник уголовного розыска. Замполит сказал: «Не многовато ли начальства на одного младшего сержанта, хотя бы и с медалью «За отвагу»?» Начальник отдела сказал: «В младших сержантах он дохаживает. Досрочно присваиваем очередное звание». Секретарь горкома спросил: — Василий Николаевич, вы не жалеете, что оставили завод и перешли в милицию? — Не жалею, Сергей Иванович, — ответил Мельников. — И не пожалею. — Собственно, я на этот ответ и рассчитывал. Есть только одно «но»... Не исключается, что собутыльники Латкова и Батаренко захотят свести с вами счеты, отомстить. Поймите нас правильно: мы можем перевести вас в любой город, Ставропольский край просторный. — Сергей Иванович, я понял вас правильно. Однако из Минвод никуда не поеду. Чтоб милиционер боялся угроз? Секретарь переглянулся с начальником отдела, замполит заговорил быстро-быстро, словно опаздывая на поезд: — Политически зрелая мысль, товарищ Мельников. Не милиция должна бояться преступных элементов, а они ее. Советский милиционер беззаветно предан своему долгу, трудящиеся помогают его служебной деятельности, поддерживают оперативные и прочие мероприятия, так как советская милиция охраняет покой и безопасность советского народа. Должность замполита введена недавно, подполковник с ней не освоился, как говорится, не нашел себя, считает, что политический работник обязан время от времени разъяснять, углублять те или иные положения, и начинает выдавать прописные истины. Но до возведения в замполиты подполковник — лихой оперативник, фронтовик — грудь в орденских планках, человек он справедливый, не без юморка, и его терпеливо дослушивают. Секретарь горкома выпил стакан боржоми и сказал: — Аслан Хажбекарович, изложи Василию Николаевичу наши наметки. — Излагаю, Сергей Иванович! Товарищ Мельников, слушай в оба уха! Создаем тебе условия, ты готовишься и поступаешь заочником в Саратовское милицейское училище, в Ростове учебный пункт, будешь ездить. Это раз. А два: наружная служба расстанетсяс тобой без радости, зато угро заберет тебя с радостью оперуполномоченным. Так, товарищи начальники? Одутловатый лысый майор — начальник наружной службы — кивнул нехотя, кисло; поджарый, с роскошной шевелюрой, старший лейтенант — начальник угрозыска — кивнул энергично и бодро. Секретарь горкома спросил: — Вы же мечтали быть оперативником? — Мечтал, — ответил Мельников. — Месячишко — и превратишься в сыщика, — сказал начальник отдела. — Раскрою карты: будет вакансия, Любашенко увольняется по состоянию здоровья. А пока что несколько подкуешься в оперативном смысле. На операции «Скорый до Баку» надо засечь тех, кто привозил Латкову и Батаренко краденое. Понял? — Есть, товарищ подполковник! — сказал Мельников. Замполит проговорил: — Товарищ Мельников, вам оказывается большое доверие. Вы выдвигаетесь на оперативную работу. Она требует специальной подготовки, теоретических и практических знаний и навыков. Следовательно, вы должны всерьез, настойчиво, целеустремленно овладевать ими, учиться с максимальной прилежностью. Чтобы стать достойным офицером милиции, необходимо приобрести соответствующий багаж. — Он умолк и вдруг, пристукнув ногтями по стеклу, сказал шутливо: — Короче, ученье — свет, неученье — тьма! «Волга» увозила Мельникова домой. Когда она разворачивалась, он увидел: отбывает электричка, на втором пути — поезд дальнего следования, какой же это, не минский ли? Мельников высунулся поверх опущенного ветрового стекла. Шофер сказал, перекатывая папиросный мундштук по зубам: — Поберегись, кумпол еще пригодится. Медаленосец! А мне не светит, вожу, развожу, благодарность и денежная премия — потолок. Легковуха шуршала покрышками по асфальту, подпрыгивала на булыжнике, и сиденье покачивало, баюкало Мельникова. Откинувшись на спинку, он зевнул. Клонит в сон: переволновался, устал, разморило духотой. Дождичка бы! Над городом ни облака, над предгорьями и Эльбрусом — вереница буро-сизых и плотных туч, будто свитых в кольца. Орденоносец — так говорят, медаленосец — нет, не звучит. Но хотя денежная премия никогда не помешает, медаль — это действительно награда. Серебрится на лацкане, отражает солнечные лучики. Не скрою, горжусь. Виду, правда, не подаю. Как меня Сергей Иванович спросил: «Не жалеете, что перешли в милицию?» Честно ответил: не жалею. И не раздумывал тогда, идти или не идти. Пошел.
Выписавшись, Мельников трое суток пробюллетенил. Отоспался. Починил кое-что по хозяйству. Покопался в садочке и на огороде. Рука не болела. Надобно и честь знать, кончай лодырничать. Сегодня — на службу. Воскресенье. И та же смена — с шестнадцати ноль-ноль. До отправления оставался часик с гаком. Мельников восседал на приступке так, чтобы, оставаясь в тени, выставить под солнце левую руку. Врачи рекомендовали: прогревать вместо соллюкса. Прогреваем. Кожа загорела, шрам выделяется — рубчатый, багрово-синий, кривой. И массаж рекомендовали. Помассируем. Разминая мышцы — боль тоненько возникала, будто от уколов, — Мельников прикидывал, как продержаться до двадцатого, до получки. Вечно недостает гро́шей. В милиции выплатят раз в месяц — и в распыл, они с Шурой не умеют экономить. Будь, как на заводе, выплата первого и пятнадцатого, невольно тратили б разумнее. Да и, если напрямки, гро́ши у него небогаты: оклад — семьдесят рублей. Теща подковыривала: «Электриком-то поболе зарабатывал». Это верно. Признаюсь. Хотя народная мудрость гласит: не в деньгах счастье. Но потребны они, проклятые, до коммунизма мы еще не дожили. Шура и то больше зарабатывает. Глава семьи, кормилец, называется. Не балуют милицию. Но в железнодорожной терпимо, в городской оклады еще меньше. Слушок: обещают прибавить. Прибавили же медикам, учителям, и до милиции дойдут. Как-нибудь перебьемся до двадцатого, теща подкинет из своей пенсии. Подзанять у кого? А родится дочь, расходы возрастут. Не унывай: у опера оклад повыше. Под тренировочными брюками жарко, шерстистая грудь под майкой и шея в мельчайших родинках, обсыпавших кожу, чесались от въедливого пота, зато босой, раскрепощенные пальцы в удовольствии сами собой пошевеливались. В смежных двориках кукареканье и музыка: и про белых медведей, и про синие очи, и про черные ночи, про все, только вот Босоцкий ни про что не хрипел. Не хрипит — я не настаиваю, переживу. У загородки Дудукин Савелий Степанович, в трусах и без майки. — Выходной? — Заступаю, Савелий Степаныч. — Канули, Василий, вольготные денечки? — Сколько ж можно прохлаждаться? Дежурство с шестнадцати. — Да-да-да, — сказал Дудукин, не очень слушая Мельникова. — Проблема о модах любопытна до чрезвычайности. Философия! Какое я обосновываю мнение в отношении мод? Коснемся дамских, то есть бабских. На сегодняшний день бабы, а будем точны — девахи, носют юбки и платья выше колен. На манер моих трусов. — Покороче, — сказал Мельников, потому что дудукинские трусы были долгие. — А указанная мода существовала при нэпе, распрекрасно помню. Нэпманочки разгуливали расфуфыренные, а юбочки досюда! По прошествии нэпа платья и юбки стали носить ниже колен, позавчора ж из «Работницы» вычитал: во Фрации с будущего сезона переключаются на длиннючие, как у монашек, и картинки приложены. Из сказанного следует вывод: и до наших доморощенных модниц докатится! Моды повторяются, Василий! «Действительно, все возвращается на круги своя, — подумал Мельников. — И ты, Савелий Степаныч, все о модах да о модах». Из-за жерди по-старушечьи проверещали: — Савка, бисов сын, ходь сюды! — Окаянная, не даст побалакать про философские проблемы, — сказал Дудукин и заковылял к своей хате. — До свиданья, Савелий Степаныч, — вежливо сказал Мельников. Под жердину подлезли Толька и соседская девчушка — от Тольки отличается тем, что в платьице, а так: чумазая, коленки в ссадинах, с облупленным носом, на голых пятках прокручивается. Они пристроились на пеньке, и девчонка, окуная соломинку в блюдце с мыльной пеной, пускала радужные пузыри — они раздувались, раздувались и лопались. И Толька водил соломинкой по блюдцу, дул, у него пузыри не выдувались. Он попросил: — Научи меня. — Да ну тебя, — сказала девчонка и перелезла к себе. Толька уныло догрыз яблоко, с запозданием пустил ей вдогонку: — Манька-встанька! Ябеда! — Толька, не злись, — сказал Мельников. — Подойди-ка. Он обнял мальчишку за щуплые плечи, взъерошил челку. Толька сказал: — Пап, порисуй в альбоме. — Собираться скоро... — Немножко! Я притащу карандаши... Он принес коробку цветных карандашей, довольно потрепанный альбом, на три четверти заполненный художественными творениями Василия Мельникова: пограничники в зеленых фуражках, с овчаркой. Мельников полистал альбом и спросил: — Что ж тебе изобразить? Может, милиционеров, для разнообразия? Синие фуражки, синие шинели? — Не-не! Давай пограничников с собакой... Зеленые фуражки, автоматы... Пограничники ловят шпионов и диверсантов, а милиционеры — жуликов! — Ты прав: милиционеры ловят жуликов. — И стал черкать карандашами: некий вариант того, чем заполнен альбом, — пограничник залег за кустом, выставил автомат, напарник, привстав на колено, поднес к глазам бинокль, у овчарки настороженные уши. Художник он не так чтобы уж очень, но Тольке нравится. Неплохо б самого пристрастить к рисованию. Теща напомнила через дверь: — Васыль, собирайся. — Да вот Тольке дорисую... Толька, не исчезай, не попрощавшись со мной. — Угу, — сказал Толька. — Постараюсь. — Постарайся, — сказал Мельников и пошел в сенцы. Слазил в погреб, нацедил кружку холодного кваску. В жару — вещь! В комнате с прикрытыми ставнями Шура орудовала спицами, вязала — как их там, колготки? Живот выпирал между стулом и столом. И Мельников сказал: — Рацпредложение: буду в субботу либо в воскресенье свободен — махнем, например, в Пятигорск. Мы не были с тобой в верхнем парке. Где бывшая нарзанная галерея. Там широкая кремнистая тропа, и говорят, что Лермонтов о ней написал: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит...» И беседка с колоннами там, Эолова арфа, прислушаешься — точь-в-точь на арфе играют... — Сделав над собой усилие, прибавил: — Съездим, Шура? — Некогда. У меня ворох шитья и вязанья. Да и пузо-то, — сказала жена будничным тоном, и Мельникову стало скучно. Он подумал о Ларисе, странновато подумал: «Не она ли теперь будет вместо Латкова выходить на перрон к «шестерке» Москва — Баку?» С Ларисой встреча была, как всегда, неожиданностью. Осунувшаяся, поблекшая, но с оголенными коленками, Лариса раздувала ноздри с вырезом, покачивала обтянутыми бедрами. Молча поклониться ей, или сказать «здравствуй, Лара» и, остановившись, объяснить происшедшее, или попросту пройти как незнакомому? Обычно она опережала его «здравствуй» своим — «привет». И на этот раз опередила — гримаса ненависти исказила ее черты, Лариса свистяще прошептала: — Убийца! На него пахнуло духами, как цветущей белой акацией, и запах очутился за спиной. Мельников не вздрогнул, не обернулся, не замедлил и не убыстрил шаг. Он по-прежнему шел, чуть скосив плечи и щурясь, будто приглядываясь к чему-то. Он почувствовал, что лицо у него побледнело, и подумал: «Хорошо, что она этого не видит». Спустя несколько шагов бледность, вероятно, исчезнет, но не исчезнет осенившая догадка: ему еще повезло в том, что у Ларисы нет ребенка. И тут он подумал: «Она обозвала меня убийцей?» Он пересек мостовую, поздоровался с казачкой-молодайкой в косынке, завязанной узелком под подбородком, направился к автобусной остановке. Он шел и чувствовал: с каждым шагом, отдалявшим его от Ларисы — отдаление было обоюдное, Лариса также уходила прочь, — натягивается та последняя, слабая ниточка, что еще привязывала его к ней. Натягивается, чтобы порваться. Она будет натягиваться и сейчас, и в автобусе, и когда он выйдет из автобуса. Она лопнет скоро — едва он увидит привокзальную площадь с ларьками, с кремовыми скамейками, с цементной мусорницей в виде чаши и цветочной чашей в виде мусорницы, с каменными ступенями, ведущими к вокзалу. Кажется, в шестнадцать все тот же зной, ан нет, преодолена неуловимая грань, повернуло к спаду, минет часик-другой, задышится малость полегче. Мельников похаживал в тенечке по перрону возле полукруглой колоннады, и сводил, и разводил лопатки, чтоб майка отклеилась. Клеенка внутри фуражки, кобура на поясе на правой стороне живота, как бы излучают потливость. Зимой на посту лучше: шинель, ушанка, сапоги, бодрящая прохладь, хотя и сыро, порой рыхлый снег валит, а снегом на Кавминводах не избалованы, града в избытке, будь он неладен, бьет цвет, завязь, плоды в садах и огородах, стекла в окнах. К электропоезду провихляли парни: красные рубахи и парусиновые брюки клеш, как униформа, как команда, — из тех, что работают под битлов, — долгогривые в этакую жарынь, стричься б покороче, да форс обязывает. Табунятся, тренькают на гитарах, хохмят: «Детишкам на молочишко, жене на духи, а мне на коньяк!» Весьма остроумно, остроумней некуда. А актер Босоцкий, не в красной ли рубахе и парусиновых брюках клеш? Что за чушь! Кончай отвлекаться, Мельников! Ты на службе. Он достал из бумажника две фотографии — из размноженных, всмотрелся, спрятал. Чеченцы — молоко на губах не обсохло, — убившие зимой Голенкова: ночью сопровождал рабочий поезд до Беслана, проводник навел его на подозрительных, он потребовал документы, они обманно напали, выдернули голенковский пистолет из кобуры, застрелили, в проводника не попали, спрыгнули на подъеме. После Голенкова остались трое детей, мать, жена. Что один милиционер на поезд? Сколько было говорено на оперативках: парный наряд нужен. Теперь объявлен всесоюзный розыск. Найдутся. Как отыскался некто Петренко из Ставрополья. Там было: из охотничьего ружья блатарь застрелил блатаря — не поделили, кореш убийцы Федор Петренко цапает ту же «тулку» — мильтона укокаю, вдвоем присудят к вышке — солидарность: мол, блатарили вместе и вместе получим высшую меру, блатари — истерики. Ворвался в отделение милиции, жахнул в дежурного — к счастью, не убил, а ранил. Блатарей в КПЗ, и Федька Петренко, пошевелив мозгами, послал эту солидарность подальше и драпанул из-под стражи: собирался добраться до Батуми, граница рядышком, балбес, а пограничники для чего, сам служил, знаю. И что там Батуми, в Минводах опознали и защучили. Мельников оглядывал проходящих и прилипших к скамейкам людей. Народищу уйма. Разгар лета. В сутки сорок пар электричек, поезда дальнего следования и рабочие, и еще прибавилось туристских поездов. Работенки по горло. Следи!.. Он указал очкарику в джинсах, где буфет, подумал: «Продежурю полсмены, встречу «шестерку» на Баку и тоже заверну в буфетик, поснедать, как говорит старшина Панькин». Бормотание репродуктора, разговоры, смех, транзисторная музыка, потуги ресторанного джазика. В смеси этих звуков Мельников различил: шумят подле пивных бочек, громче нормального, скандалисто шумят, — и зашагал туда. Утихомирит — и на перрон, «шестерку» встречать. Не прозевать бы того, чего нельзя прозевать. Гляди, Мельников, в оба. Не подкачай!
1969 г.
Последние комментарии
19 часов 3 минут назад
1 день 6 минут назад
1 день 7 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
2 дней 21 часов назад