Владлен Бахнов [Владлен Ефимович Бахнов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]


ВЛАДЛЕН БАХНОВ

*
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Владлен Бахнов
Серия основана в 2000 году
C июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»
*
Редколлегия: Аркадий Арканов, [Никита Богословский], Владимир Войнович, Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков, Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко, академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович
Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак
Дизайн обложки Ахмет Мусин
В книге использованы материалы из семейного фотоальбома
© Н. Морозов, Л. Бахнов, наследники, 2005 © Н. Морозова, Л. Бахнов, Ю. Кушак, составление, 2005 © ООО «Издательство «Эксмо», 2005
В обстоятельствах жизни
Началось все дело с песенки.После себя отец оставил множество папок с рукописями, музыкальную коллекцию и вентиляторы. Вентиляторов оказалось очень много. Наверное, если запустить их все разом, они заглушат любую музыку и, разметав, заставят плясать содержимое папок. История же вот какова. Во времена расцвета «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» (помните: «Хорошо смеется тот, кто смеется по средам»?) папа часто ездил в разные города с выступлениями — «выездные заседания Клуба ДС» собирали в ту пору огромные залы и даже стадионы. Так вот. У всякой медали, как известно, имеются две стороны. Одна — это переполненные дворцы культуры, остроты, успех. Другая — ночь в гостинице. То есть все бы оно ничего, если бы не бессонница, которая преследовала отца всю жизнь. Снотворное он потреблял килограммами, но это даже дома не всегда помогало. А тут — новое место, то трамвай прогремит, то сосед всхрапнет, то в соседнем номере кому-то упасть захочется. Словом, в таких спартанских условиях он мог заснуть только при ровном шуме. А как его добиться? Правильно — с помощью вентилятора. И вот. приезжая в новый город, он первым же делом искал вентилятор. А возвращаясь — не пропадать же добру! — прихватывал его с собой. Поскольку предложения выступать следовали одно за другим, то в доме довольно скоро возник переизбыток этих электробытовых приборов. Поначалу папа нашел неплохой выход — дарить лишние вентиляторы кому-нибудь из знакомых. Например, на день рождения. А потом перестал это делать. И тут я его, кажется, понимаю — все-таки что-то такое не то, когда человек раздаривает всем вокруг одни вентиляторы. Какое-то в этом, наверное, можно увидеть излишнее упорство. Но почему он всякий раз покупал новый вентилятор вместо того, чтобы завести один и возить его с собой? Как-то я напрямик спросил его об этом. Отец лишь пожал плечами. Дескать, сам подумай, разве это не смешно — ездить выступать с вентилятором?..Александр Галич
Трудно писать об отце. А уж анализировать, ставить оценки тому, что вышло из-под его пера (а ведь именно это предполагает жанр предисловия)… Может, я, конечно, и критик, но, извините, не до такой же степени! Тогда о чем же писать? Не знаю… Как-то в Переделкине (тогда обычный писатель еще мог себе позволить прожить в Доме творчества два, а то и три срока) на прогулке он вдруг продекламировал:
В шутливой преамбуле к одной из брошюрок «Библиотеки Крокодила» отец написал так: «Я, Бахнов Владлен Ефимович, родился в 1924 году в Харькове. И в дальнейшем, сколько бы раз мне ни приходилось писать свою биографию, я обязательно начинал ее с вышеуказанной фразы, ставшей просто литературным штампом. А со штампами надо бороться». Со штампами — да. А вот с фактами бороться труднее. В паспорте у отца стояла дата его рождения: 20 июня 1924 года. Между тем родился он действительно в указанном году, но только 14 января. В чем тут дело — я не знаю. Но что считать фактом? Фактом, я думаю, можно считать имя. Появись он на свет не в январе, а в июне, его бы, возможно, назвали бы как-нибудь по-другому. В январе 1924-го умер Ленин. Отцу в ту пору было семь дней. «Владлен» означает «Владимир Ленин». Его мать (и, стало быть, моя бабушка) Анна Самойловна была вполне советским человеком, членом партии с 1918 года. Вырос он без отца, в огромной харьковской коммуналке. где сокращенный «Владимир Ленин» быстро трансформировался во вполне привычное, некраснознаменное «Владик» («Владька», как называли его друзья). В двенадцать лет он лишился ноги — попал под трамвай. Ногу ампутировали до колена. Помню, в юности у меня нередко вызывала протест привычка отца из всех вариантов развития событий предполагать наихудший — пока наконец не доперло, откуда это идет. «Что такое «пессимист»? — Хорошо информированный оптимист»… Для большинства из нас «наихудший вариант» — это все-таки достаточная абстракция. Он же был «информирован» о вполне реальной возможности этого «варианта» куда как рано… Бабушка рассказывала, как на костылях он гонял с друзьями в футбол. Многие думали, что ногу ему оторвало на фронте. Но это не так. В 41-м году он оказался в эвакуации, под Талды-Курганом, в глухом казахстанском районе, где работал пионервожатым в интернате. Основную массу составляли дети-казахи из аулов, но были и русские, лишившиеся или потерявшие своих родителей. Голодные, агрессивные и чуть что перестававшие понимать по-русски ребята не поддавались никакому педагогическому воздействию. И тогда у кого-то из воспитателей родилась идея организовать кукольный театр. Куклы, естественно, были самыми примитивными, папа (ему тогда было 17–18 лет) сочинял скетчи на военную злобу дня (комедийные персонажи: Гитлер, Геринг, Риббентроп и т. п.). Затея возымела бешеный успех как внутри интерната, так и вне его — ребята оказались «при деле», и вскоре «театр» стал разъезжать с выступлениями по районам. Кроме смеха и аплодисментов, труппа вознаграждалась и вполне телесной пищей: гостей кормили. Произошел такой забавный случай. На одном из выступлений (война! глухой казахский аул!) к папе подошел человек и сказал, что он из агентства по охране авторских прав. «Чьи это скетчи?» — спросил он. «Мои», — ответил папа. «Охранник» аж присел от удивления. «Тогда вы обязаны получать деньги!» — наконец вымолвил он. Как будто отец только и делал, что искал способов уклониться от этой своей «обязанности».
В сорок третьем году отец поехал в Москву поступать в Литинститут. Кажется, ему не хватало года до среднего образования. Тем не менее его взяли. На поэтический семинар. …Одно из моих детских воспоминаний. Год эдак 55-й — 56-й. Мы тогда жили на Полянке. Комната. В центре — круглый обеденный стол, когда приходят гости, его раздвигают. Зима, вечер. К нам пришел гость. Все как-то по-особенному рады, не совсем понятная эта радость передается и мне. Гость немножечко странный — невысокого роста, кругленький, в шинели — военный? — но почему-то шинель черного цвета, а на голове что-то тоже круглое и черное — то ли шляпа почти без полей, то ли видавшая виды шапка. И вот мы сидим за столом — шутки, смех, пуще всех смеются папа и этот вот круглый гость. Хрипловато так смеется и длинно, будто рубанком стружку ведет. Потом все заняты его локтем, куда-то он им влез — то ли в салат, то ли в чужую тарелку. Потом он вынимает футляр с очками, и оттуда же, из футляра достает узкие листочки бумаги. Все затихают. И каким-то необыкновенным, совестливым[1] голосом гость начинает читать стихи. «Совестливым» — это я не сейчас придумал, а уже очень давно нашел слово, которое, как мне кажется, точнее всего передает то мое детское впечатление. А гость — это Эма Мандель («Эмка» — говорил отец, «Эмочка» — мама), он же — Наум Коржавин, сокурсник отца и друг с литинститутских времен. Возможно, это была первая встреча, когда тот вернулся из ссылки… Кроме Коржавина одновременно с отцом в Литинституте учились Юрий Трифонов, Владимир Тендряков, Наум Гребнев, Александр Межиров, Расул Гамзатов, Венедикт Сарнов, Макс Бременер, Евгений Винокуров, Владимир Солоухин, Николай Старшинов, Юлия Друнина, Григорий Поженян, Вадим Сикорский, Константин Ваншенкин. В общем, среда была творчески разнообразной и, что там о ком ни говори, талантливой. Отец любил вспоминать студенческие годы. И не только, я думаю, потому, что с ними связана молодость, всеобщее нищее братство… Это сейчас Литинститут — просто один из вузов, выпекающих молодых специалистов. В те времена было по-другому. Вокруг Литинститута паслось масса народу. На знаменитые литинститутские капустники было не пробиться, слухи о каждом из них потом еще долго будоражили молодую Москву. Отец с его природным остроумием и талантом пародиста быстро сделался едва ли не главным заводилой этих «мероприятий». Шуточные стихи, песни, «пёрлы», передаваемые потом из уст в уста…
…В 1946 году отец познакомился с Яковом Костюковским, тогда ответственным секретарем «Московского комсомольца!. Впрочем, выяснилось, что они уже знакомы — десять лет назад были в одном пионерлагере под Харьковом. Встреча оказалась судьбоносной. И по сей день меня, случается, спрашивают* «Тот самый Бахнов. который Костюковский?» Старая хохма. Из тех времен, когда сочетание этих двух фамилий звучало по радио чуть ли не каждый день. Дуэт Бахнов — Костюковский просуществовал больше полутора десятков лет. Соавторы, быстро ставшие друзьями, нашли, наверное, единственно возможную для сочинителей их плана «экологическую нишу» — стали писать для эстрады. Почти все, что исполняли Тимошенко с Березиным (Тарапунька и Штепсель) с конца 40-х до середины 60-х, написано Бахновым и Костюковским. Писали они и для Райкина, и для Мирова и Новицкого, и для Шурова и Рыкунина… — практически для всех тогдашних «звезд». Их репризы повторяли конферансье, сочиненными ими сценками смешили цирковых зрителей легендарные Карандаш. Олег Попов, Юрий Никулин… Кстати, о цирке. Детскую любовь к нему отец сохранил, кажется, на всю жизнь. Но вот какая штука. Тот, самый первый, детский, харьковский цирк (а это был конец 20-х — начало 30-х годов) начался для него со зрелища… партийной чистки. В Харькове какое-то время эти чистки проходили в здании городского цирка (ну чем не Кафка!), и папина мама, обязанная посещать эти мероприятия, брала его с собой. Чистка — это получалась как бы первая часть большой цирковой программы, и ее надо было высидеть, чтобы, не платя за билет, наслаждаться второй, главной частью. Такой вот — чем, кстати, не цирковой? — номер… Впрочем, кто знает, какая часть на самом деле была главной?.. Быть может, сила его любви к цирку происходила как раз от ожидания — от того, что клоуны, жонглеры и прочие укрощенные звери давались как бы в награду за долготерпение? Жалко, я не спросил, о чем он думал, когда, забравшись куда-нибудь на верхотуру, глядел на цирковую арену, временно превращенную в место партийных ристалищ. Слушал? Фантазировал? Или научился просто так отключаться? Не этот ли детский опыт отозвался в «Снах Веры Павловны» из «Опасных связей»?.. …Бахнов — Костюковский писали также и пьесы (например, «Миллион единственных друзей», которую поставил Виктор Драгунский, в ту пору эстрадный режиссер), и песни (ну, хотя бы такие, как «Мой старый парк». «Песенка влюбленного шофера». «Бесконечная песенка», «Тыдая»…), музыку к которым сочиняли Никита Богословский, Кирилл Молчанов, а исполняли Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Ружена Сикора, Бунчиков и Нечаев… В общем, это была известность, если не сказать — слава. Кое-что перепадало и мне — например, походы в цирк, куда нас пропускали без билета и усаживали на лучшие места. Или та нескрываемая зависть, с которой меня спрашивали во дворе: «А кто это к вам вчера приходил — Тарапунька?» Из комнаты на Большой Полянке мы переехали в кооперативный писательский дом у метро «Аэропорт». В том же доме обосновались и Костюковские. Можно было работать, не выходя за пределы одного двора (прежде вершить творческий процесс отец ездил к «Костюкам» — там все-таки было две комнаты). Жить делалось лучше, жить делалось веселей. Заработки были верными, связи — наработанными, заказы не иссякали, друзей — пол-Москвы, если не считать Ленинграда, Киева и некоторых других городов… Бахновым — Костюковским был опробован и еще один перспективный жанр — кинокомедия («Штрафной удар». Студия им. Горького, 1961, режиссер В. Дорман). Чего еще надо — катись себе по накатанной дорожке. Вот тут-то веселый дуэт Бахнов — Костюковский и распался. В сорок лет отец решил начать все с начала. Почему? Мне так кажется, что дело тут в жанре. Сатирик побеждал юмориста. А эстрадная сатира становилась тесна. Учитывая специфику той действительности, которую ему предстояло сатирически отражать, ничем особо хорошим это не угрожало. Система, построенная на лжи, крови и вопиюще противоречащая здравому смыслу, страдала, как это ни странно, фантастическим комплексом неполноценности. Что делает сатирик? Говоря высоко — упорядочивает мир, противостоит хаосу и абсурду. Если употребить более привычную лексику — называет вещи своими именами. Но вот этого-то система пуще всего и боялась — что вещи будут названы своими именами и всяк, кому не лень, сможет увидеть то, что она изо всех сил скрывает. Тяжелый крест — родиться сатириком в этой стране. Будет тут вам бессонница! И вентиляторы…
Тем временем сняли Хрущева. На смену дуэту «Бахнов — Костюковский» пришел другой дуэт с теми же инициалами — «Брежнев — Косыгин». Сейчас это может показаться странным, но сразу после Никиты эти двое казались либералами. После скандала на выставке 30-летия МОСХа, бесконечных идеологических проработок то Евтушенко с Вознесенским и Аксеновым, то Виктора Некрасова, то Марлена Хуциева… Помню, как Арсений Тарковский, живший на одной с нами лестничной площадке, возник в дверях и радостно сообщил: «Как хотите, но если так, то я — косыгинист!» В руках у него была газета с новой экономической программой. Анекдот того времени (якобы английский). Встречаются двое. — Ты слышал новые анекдоты? — Нет. А ты? — Тоже нет. — Ну и правительство! Увы, как мы знаем, «правительство» не ударило лицом в грязь. Анекдоты про Брежнева не замедлили с появлением. И все же с этой короткой и уже всеми забытой «брежневской оттепелью» отцу здорово подфартило. Отказавшись от работы на эстраду, он на некоторое время как бы завис в пустоте, пробовал то одно, то другое. Но все упиралось в одну и ту же проблему — непроходимости. И вдруг возникла отдушина. На книжные прилавки и в журналы хлынула фантастика. Это был подлинный бум. Открывшая новые горизонты перед писателями из свободных стран, она кое в чем подсобила и их собратьям из стран социалистического лагеря. А именно: дала возможность (или, по крайней мере, надежду) как бы на голубом глазу перебросить кое-что неугодное земной цензуре на другие планеты, в иные миры. Разве же это у нас? Это. сами убедитесь, даже в другой галактике!.. Отец еще раньше пытался что-то искать в этой области. Первый его рассказ назывался «Дневник такианского разведчика». Тогда еще не слышали про такой жанр — «антиутопия». Зато Уголовный кодекс украшала статья, карающая за лживые измышления, порочащие советский государственный и общественный строй… В таких обстоятельствах отец писал свои «фантастические» (намеренно ставлю здесь кавычки) рассказы 60-х годов — «Внимание, Ахи!», «Пятая слева», «Согласно научным данным» и другие. Эти рассказы печатались в модной тогда «Неделе», в журнале «Знание — сила», кое-где еще. Не сказать, чтобы они проходили гладко, цензура продолжала бдить, но все-таки… Публика реагировала тогда не так, как теперь, — каждая публикация вызывала шквал поздравительных звонков и даже писем. Общий рефрен: и как только это напечатали?! А потом была легендарная «шестнадцатая полоса» обновленной «Литературки», где года два подряд отец печатался едва ли не через номер. Сейчас говорят: этот «Гайд-парк при социализме» был придуман партийными чиновниками для того, чтобы общество, озверевшее от марксизма, могло где-то выпускать пар. И, что бы там ни воображали авторы-глупыши, в конечном итоге их труды все равно сыграли на коммунистов. Возможно, возможно, но… Это ведь как со спортом. Проводятся, например, международные соревнования по скоростному чесанию ушей в бассейне, и чемпионом становится человек, представляющий страну победившего тоталитаризма. Ему что же, рыдать от горя? Отказываться от чемпионства? Или вообще от соревнований? Мастеру своего дела… В общем, я совершенно не думаю, чтобы писатели, стремившиеся разуть читателю глаза на то, что вокруг него происходит, были сколько-нибудь ответственны, что советская власть продержалась так долго. Как будто стоило бы им замолчать (в смысле — перестать печататься) — и она рухнула бы мгновенно! Но вернемся к «шестнадцатой полосе». Отец стоял, что называется, у ее истоков. Много лет спустя он не без само-иронии напишет: «Нас было человек 15, и я себя чувствовал поначалу в этой компании неуютно, потому что был самым пожилым и опытным по части перестраховки литератором. Я уже знал, какой рассказ может пройти, а какой — нет И первой, а может быть, и главной удачей нашего отдела было то, что руководить им стали не такие наученные горьким опытом перестраховщики, как я, а молодые отчаянные Витя Веселовский и Илья Суслов». Не знаю, как там насчет «перестраховщиков», но представить себе отца в роли руководителя, пусть даже самого прогрессивного, я, как ни тужусь, действительно не могу. Он не любил и, я думаю, не очень-то и умел общаться с начальством. Ему вообще было трудно с людьми, лишенными чувства юмора, а тем более — с оставляющими его за дверями своего кабинета. Фразу типа: «А я вам как коммунист коммунисту заявляю, что в этом рассказе нет ничего недозволенного!», которую, случалось, побагровев, бросал очередному дежурному редактору Веселовский (и которая, кстати, иной раз действовала лучше любых аргументов), — такую вопиюще шаблонную фразу он вряд ли способен был бы произнести, даже если бы и числился коммунистом. Достоинство это или недостаток — не знаю. Жить, во всяком случае, это не помогало. Как бы то ни было, в пору расцвета «шестнадцатой полосы» отец был едва ли не самым многопечатаемым на ней автором. Да даже и без «едва ли». Тогдашнюю популярность этой «полосы» можно сравнить разве что с нынешней славой Аллы Пугачевой — выступления «Клуба 12 стульев», я уже говорил, собирали целые стадионы. Соответственно гремело и папино имя. Несколько лет он работал, как говорится, для души. В 70-м вышла его книга «Внимание: АХИ!», которую составили «фантастические» рассказы и повесть «Как погасло солнце». Оформлял книгу уже сильно опальный к тому времени Вадим Сидур. Обложка была бумажная, и тираж по тем представлениям крошечный — каких-то 30 тысяч, и раскупили ее мгновенно. И тут я не могу не вспомнить случай, который произошел много позже, в раннеперестроечные уже времена. Познакомили меня с нашим бывшим соотечественником — года на три старше меня парень, программист, живет в Штатах, приехал сюда посмотреть, что и как, вспомнить молодость. Тогда подобные визитеры были еще редкость. «Как — поразился он, — так вы — сын Бахнова? Того самого?!» «Какого, — спрашиваю, — «самого»?» Отца к той поре уже почти не печатали, правда, какое-то время назад он писал с Гайдаем сценарии для его фильмов, — но кто же помнит фамилии сценаристов? «Ну как же, Дино Динами, Огогондия — «Как погасло солнце»… Это ведь его повесть?» — «А в чем дело?» — «Да я же ее чуть ли не наизусть помню! У меня ее на ночь брали, очередь выстроилась, чуть было не зачитали. Я с собой почти ничего не взял, а ее хотел провезти, только не удалось — на таможне отобрали, тогда, помните, увозить разрешалось книги только до семьдесят пятого года». Книга, а особенно повесть проскочила действительно чудом. Спохватившись, заведующего редакцией чуть ли к не уволили, а ведущий редактор получила выговор. В «Новом мире» книгу отрецензировали положительно. Открою маленький секрет. Первоначально «Как погасло солнце» было не повестью, а сценарием фильма. Отец вообще очень любил Чаплина, а особенно — «Великого диктатора». Думаю, воспоминания об этом фильме, виденном на каком-нибудь закрытом просмотре, были одним из тех моментов, что вдохновили его на создание собственной комедии о диктаторе. Времена как раз были обнадеживающие — 65-й — 66-й годы, отчего бы не попробовать? Заявку приняли. Ставить фильм должен был Вениамин Дорман. Но тут как раз прогремел процесс Синявского и Даниэля, обрушился XXIII съезд партии — ветры переменились. Сценарий долго мурыжили и в конце концов зарубили. Не знаю, как папе с Дорманом, а мне этот фильм как-то даже приснился. Успех наверняка был бы грандиозным. Впрочем, еще вернее фильм бы положили на полку. А студию лишили бы премии. Так что чиновники, ведавшие прохождением сценариев, вполне могли бы поставить себе галочку в графе «забота о людях». Почему того же самого не произошло с книгой? Выручил Мао, великий кормчий. С Китаем у нас тогда были отношения на грани «первой социалистической» войны. Папе предложили срочно окитаить повествование. Китайте, дескать, пока не поздно! Сравнивая текст в книге и в рукописи. я действительно нашел там «китайский след»: слова «порция мороженого» отец заменил на «чашку риса». Хуже досталось Сидуру: диктатора с именем европейца ему пришлось изобразить с монгольской бородкой и узкими глазками… Когда книга вышла, Зиновий Гердт (их с папой словесные дуэли или, точнее сказать, состязания в остроумии, ей-богу, стоили того, чтобы записать на видео, только вот о штуках таких в те годы еще и не мечтали) дал почитать ее Образцову. Прославленный кукольник пришел в восторг: «Сейчас, сейчас будем ставить «Как погасло солнце»! Немедленно делаем пьесу, где тут у нас договор?!» Увы, как говорится, и ах… Сергей Владимирович тоже, видать, не чужд был известных иллюзий. Куда там! Надвинулись глухие семидесятые, уже стало поздно пускать рис в глаза. Что до материальных дел. то гонорар за «АХИ» ушел на долги, и. кроме тоненьких «крокодильских» брошюрок, впереди ничего не маячило.
И тут отец встретил Гайдая. То есть буквально на улице, дорогой в магазин. Гайдай предложил ему распить бутылочку коньяка, а заодно спросил, не согласится ли он взяться за сценарий «Двенадцати стульев». Так началось их многолетнее сотрудничество. «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Инкогнито из Петербурга», «За спичками», «Спортлото-82» — по фильму каждые два года. Кроме последнего, все так или иначе — «по мотивам». Только несведущие люди могут полагать, будто в творческом плане над экранизацией работать легче, чем над оригинальным сюжетом. Но в смысле прохождения цензуры — действительно легче. Хотя и к экранизациям она будь здоров как цеплялась — сколько смешных ходов и реплик загублено хоть в тех же «Двенадцати стульях» и «Иване Васильевиче»! — но все же не так, как к «оригинальным» сценариям. Это понимали оба соавтора. Обращение к чужим произведениям было во многом вынужденным. Но вот что я хотел бы заметить. В упомянутом уже предисловии Б. Сарнов цитирует папину поэму, написанную в 1945 году и представлявшую собой откровенное подражание знаменитому в те поры «Рыжему Мотеле» Уткина. Там были главы: «Мотеле в «Молодой гвардии», «Мотеле студент». «Мотеле хочет печататься. или Консультация для молодых поэтов» и так далее. Ясно. что автор, в принципе, ведет речь о себе. И вот, обильно процитировав, критик спрашивает: «Зачем понадобилась ему эта маска? Что помешало ему вести рассказ о себе от своего лица — от себя, как это подобает лирическому поэту?» И далее следует очень тонкое наблюдение: «это сознательное, откровенное подражание чужой интонации, чужой форме, это стремление спрятаться за чужого героя оказалось для Бахнова на редкость органичным. В нем — быть может, впервые — проявился органически присущий ему дар имитации, передразнивания. С этого, в сущности, и начался будущий блистательный пародист Владлен Бахнов». Будучи целиком и полностью со всем этим согласен, я бы, тем не менее, поставил сюда еще одно слово — импровизация. Пародия — это, кроме передразнивания, еще и импровизация на заданную тему — недаром на протяжении всей жизни отец писал пародии, объединенные одной общей темой — стихотворением <Белеет парус одинокий». Сценарий «по мотивам» — тем более импровизация. Из всех направлений в музыке отец больше всего любил джаз — импровизацию в чистом виде. Правда, последние годы он, как и В. П. Аксенов, «больше торчал на классике», но это ничего не меняет. По-моему, в классике он тоже видел импровизацию — быть может, на тему джаза. Этот прирожденный дар импровизации, я думаю, все же несколько смягчал ситуацию. Отец, обладавший великолепной выдумкой, умением строить сюжет и видевший вещи зачастую с совсем неожиданной, парадоксальной стороны, был вынужден «танцевать» от чужой «печки». Наступал ли он при этом на горло собственной песне? Конечно. И терзался от этого, и ходил мрачный, и говорил: «Если б не в этой стране!..» Его записные книжки полны неосуществленных сюжетов. И все же «собственная песня» была и в экранизациях. Зритель чувствует такие вещи…
…Да, так шли семидесятые. В газетах поносили Сахарова и Солженицына (вопрос армянскому радио: что такое КПСС? — Кампания Против Сахарова и Солженицына), диссидентов, ЦРУ, израильскую военщину. В 73-м вышла вторая и последняя (если не считать трех «крокодильских» брошюрок) книга — «Тайна, покрытая мраком». Та же бумажная обложка, тот же тираж. Художник уже другой — Сидура к тому времени исключили изпартии (куда он вступил на фронте), обозначили диссидентом, и не только работы, но даже и имя его сделалось неупоминаемым. Печататься становилось все труднее — рукописи читали на просвет. Интересное было время! Специфическое. Литературное начальство боялось всего и вся. Сколько, например, мариновали в «Литературно рассказ, открывающий книгу, которая у вас в руках! А отчего? Да оттого, что кому-то чем-то он напомнил когда-то подвергшийся партийной критике рассказ Зощенко — а ведь историческое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», как тогда говорили, «никто не отменял». Или — вот уж совсем веселая история. Для одного рассказа папа долго сочинял фамилию, которой, как он говорил, «не бывает». Ладно, сочинил. Отдал рассказ Веселовскому. Тот говорит: «Не пропускают». Почему? Рассказ вроде бы достаточно безобидный. Оказалось, дело в этой самой невероятной фамилии. Такая фамилия существует, более того, ее носит международный обозреватель одной из центральных газет. И, стало быть, советская общественность может расценить эту публикацию как выпад против него, газеты или, не приведи бог. против международной политики нашей партии. Фамилию «Пумпянский» пришлось менять на «Пампунский». Или рассказ «Ни рыба, ни мясо». Некий автор приносит в редакцию рукопись своего романа под аналогичным названием. Переписка между ним. а позже его потомками и журналом затягивается на несколько столетий. И уже в очень отдаленном будущем на запрос пра-пра-пра… кого-то о судьбе романа «Ни рыба, ни мясо» приходит ответ: «Рукопись хранится в редакции. Просьба объяснить название. Что такое «рыба»? Что такое «мясо»?»… Казалось бы, автор высмеивает редакционную волокиту. Не тут-то было! Кому-то из начальства пришло в голову задаться простым вопросом: а что на это самое отдаленное будущее намечено нашей партией? Коммунизм? Так что же это, выходит, при коммунизме не будет ни рыбы, ни мяса?!! «То холодно, то жарко»… Время и впрямь зависло. Самый памятный звук — звук глушилки. Пилой о стекло. Эма Мандель… Вишняки… Илья Суслов… Галич… Войнович… По своей ли, по чужой воле — друзья уезжали. Вместо них оставались фотографии, глядевшие на отца из-за стекол книжных полок. Хороший вернисаж для компетентных товарищей. Изредка кружными путями приходили письма. Чаще приходилось довольствоваться слухами. Наступила «пятилетка качества». Я ее обозвал «пятилетка СТУкачества». В папином духе. Все чаще он ходил мрачный — он и прежде-то дома не бывал особым весельчаком — издержки профессии. Однако на людях остроумие по-прежнему не покидало его. Даже в самых экстремальных ситуациях. Как-то он лег в больницу на операцию. Операция была не из самых трудных, но повлекла серьезные осложнения, которые врачи больницы не распознали. Отец оказался почти по ту сторону. Спас его наш друг, доктор Глеб Захаренко. Когда отец вынырнул из шока, палатный врач стал его теребить: — Вы меня узнаете? Вы пришли в сознание? Вы можете сказать, о чем вы сейчас думаете? — Я не такой дурак, — ответил отец плохо слушающимся языком. В 78-м он написал «Опасные связи» (подзаголовок «Хроника времен застоя и натиска» придуман позже) — вещь столь же смешную, сколь и крамольную. Вот уж где он дал себе разгуляться! Между прочим, толчком для его бурной фантазии послужил реальный случай. Один вполне верноподданный, но решительный литератор, старый знакомый отца, недавно в очередной разженившийся, назвал своего сына в честь президента, а может, и короля я уже даже забыл какой именно «дружественной страны» — Сянгуром. При этом он втайне (о чем по секрету поспешил оповестить как можно больше народу) рассчитывал на ответный благодарственный жест — а именно на то. что растроганный монарх (или там президент) пришлет ему то. что нынче зовут «иномарка». Где-то он о чем-то таком то ли читал, то ли слышал. Партийное начальство высоко оценило международно-патриотический порыв литератора, выразив это в форме устной благодарности; невольный тезка его сына, поборов, видимо, естественные чувства, иномарки не прислал, а сын так и остался носить басурманское имя. Поскольку мы жили в одном доме, я был свидетелем, как счастливая мать катила коляску и приговаривала: «Сянгурчик! Ты мой Сянгуша!»… Потом его, с подачи лифтерши, вроде бы стали называть «Егор». А радетель братских уз между СССР и развивающимися странами вдруг взял да и эмигрировал в Америку… В повести, как вы сможете убедиться, эта история дана в совершенно преображенном виде. Да и литератора, кстати, в ту пору еще никак нельзя было заподозрить в склонности к перемене мест проживания… Никогда еще я не видел отца таким просветленным, как в то время, когда он работал над этим своим сочинением. И работал-то он над ним не так, как всегда — перед ним лежала не длиннющая общая тетрадь («амбарная книга»), а портативный магнитофон, на который он надиктовывал очередную порцию «клеветнических измышлений». Кассеты. а после и рукопись хранились в одному ему известном месте. Как-то недавно, поставив одну из папиных музыкальных катушек, вместо оркестра Каунта Бейси я вдруг услышал его голос, читающий главу из «Опасных связей». Тогда эта конспирация отнюдь не казалась излишней. Почему, закончив, он не пустил свою вещь в самиздат, не переправил, в конце концов, за границу? Так и слышу, как ее читают по какой-нибудь «Свободе». Сегодня легко рассуждать. Когда не боишься подставить ни своих родных, ни близких, ни соавтора, ни людей, дающих тебе работу. Он был очень ответственным человеком. Даже в самых что ни на есть мелочах…
…Веселовского «ушли» из «Литературки»… По Би-би-си сообщили, что погиб Галич. Кто-то передал со слов его жены Нюши: когда она уходила за покупками, а Галич оставался налаживать привезенную накануне телерадиоаппаратуру (по официальной версии он погиб оттого, что его ударило током, когда он ее пытался установить), он сказал: «Вот бы Владика сюда!»… Умер Трифонов… Такими сделались новости. Я видел, как все сужается круг папиного общения. «Уходят, уходят, уходят друзья, одни в никуда, а другие в князья»… С теми, кто «в никуда», все понятно. Их список открыл Илья Зверев (Изольд) — замечательный писатель, близкий друг, который помогал отцу освоить пути-дорожки в советские издания, рискующие печатать фантастику. Ушел он едва ли сорока лет от роду… А перед теми, кто несмотря ни на что сумел преуспеть в те годы, слишком трудно было не обнаружить собственную неустроенность. К тому же отец был человек деликатный — мне кажется, он боялся, что зрелище его неустроенности будет выглядеть как упрек чужому преуспеванию. Постепенно в доме у нас стали бывать только самые близкие люди. Нема Гребнев — судьба подарила им с отцом эту вернейшую дружбу, длившуюся с литинститутских времен. Сейчас они оба покоятся в Переделкине, рядышком, за одной оградой, а возле — два дерева, чуть ли не сросшиеся, прижавшиеся друг к другу… Из своего подмосковного Белозерска наведывался Сережа Кристи — человек потрясающего артистизма и обаяния, чьи песенки — «Жил-был великий писатель Лев Николаич Толстой», «Вот ходит Гамлет с пистолетом», «Я был батальонный разведчик» и другие наверняка слышал (а может, и сам в молодости певал) кто-то из читателей этой книги… Позванивал — последние годы он уже редко выбирался из дома — Вадим Сидур… Миша и Руфина Гинзбурги, Инна и Леня Ганелины, Эмиль Кардин, Михаил Львовский… — все старые, проверенные друзья. Обычно месяца два в году отец с мамой проводили в Доме творчества в Переделкине — дачи у нас никогда не было. Там он набирался кислорода и отыгрывался за московское затворничество. Лес, тишина, прогулки, треп за общим столом (соседи по столу выбирались очень придирчиво — каждому хотелось быть со «своими»). Рядом — Дом-музей Чуковского — утлая крепость высокой культуры, непрерванности времен. Наравне с пастернаковским он одухотворял всю писательскую округу. Мои родители были вхожи в этот Дом благодаря близкой дружбе с «Клариндой» — Кларой Израилевной Лозовской — бессменным секретарем Корнея Ивановича долгие годы, а потом хранительницей музея. Как и они, я тоже дышал его благодатным воздухом… Своими экспромтами, шутками отец старался подбодрить Клару, снять напряжение ежедневной борьбы хозяев Дома с Литфондом, нацелившимся прикарманить его для своих корыстных нужд. По вечерам подтягивались сюда друзья — обсудить животрепещущие литературные, политические и другие новости, почитать только что сочиненное. отдохнуть душой среди своих. Все, в общем, привыкли, что раз Владик Бахнов — значит, можно будет посмеяться. Думаю, для отца это было своего рода допингом — целый день он мог пребывать в обычном для себя мраке, а тут, привычно сознавая, чего от него ждут, заводился, и остроты начинали сыпаться как из рога изобилия. Публика веселилась. Веселился ли при этом он сам? Во всяком случае, это сильно походило на вдохновение. Или на разрядку. Многие его «перлы» потом гуляли по писательскому поселку и экспортировались в Москву. Вспоминаю один из «переделкинских» экспромтов:
В начале 80-х отец сдал в «Советский писатель» рукопись своей книги — «Опасные связи», конечно, туда не вошли. Был подписан договор, выплачен аванс, но, побив все рекорды по мариновке, книга так и не вышла. До перестройки сопротивлялись перестраховщики, когда она началась — «патриоты» (практически это оказались одни и те же люди), а потом вопрос решился сам собой: издательство развалилось. Отцу не раз советовали пойти в Союз писателей, поговорить с кем-нибудь из секретарей (не путать с секретаршами), проявить настойчивость… Он вроде бы соглашался: да, надо. Но все не шел. Хотя, в сущности, это был вполне заведенный порядок. Подумаешь, делов!.. В конце концов от него отстали. Кто-то, быть может, воспринимал это как гордыню, кто-то как проявление инертности и общего пессимизма. На самом деле это не было ни то. ни другое. Нет, поистине надо пожить в том времени, чтобы понять, что и как это было! Как я уже говорил, отец не любил общаться с начальством. Не только просить, но вообще общаться, входить в контакт. И объяснялось это не только его характером (хотя, конечно, и им!), но и некоторыми особенностями тех. кто тогда сидел в начальственных креслах. Во всяком случае, в Союзе писателей. Все это были люди системы. А система, как мы еще помним, была такова, что усидеть в начальственном кресле можно было только чем-нибудь себя запятнав. Участием в коллективном письме против Солженицына, в травле и исключении из Союза лучших писателей, в шельмовании «метропольцев», и так далее, и так далее. Ко всему этому отец относился очень серьезно. Один из его старинных друзей (подчеркиваю: друзей) выступил по телевидению против Солженицына, когда того выдворили из страны, — отец стал его избегать. Впрочем, среди друзей таких оказалось немного. В декабре 84-го он написал такие стихи:
К перестройке он уже выдохся. Пришли болезни. Ему не писалось. Тем не менее он ежедневно по нескольку часов сидел за письменным столом. Дело было, конечно, не только в здоровье. Зашаталась и пала система — главный предмет его сатирического внимания. как думал он о себе и о своем творчестве. Та самая стена, о которую он всю жизнь колотился лбом. К этому требовалось привыкнуть — перестроиться самому. Только что в себе перестраивать? Сознание? Опыт? Творческий дар? Умение видеть оборотную сторону любой медали?.. Хотя система системой, но писал отец все-таки не о ней. Как ни банально это звучит, но писал он о жизни. О ее иронии, парадоксах, бесконечном смешении добра и зла, глупости и разума, причин и следствий, кажущихся закономерностей и знаменитого, причем не только русского, «авось». И о разных людях, которые вынуждены жить — и выживать! — в этих странных, смешных, изнурительных, неописуемых, но всем знакомых обстоятельствах. В обстоятельствах жизни. За последние годы у отца составился цикл стихов, который он назвал «Послесловие к роману «Дон Кихот». Там есть «Монолог Санчо Пансы», «Монолог Дульцинеи», «Монолог стада» и другие. Есть там и «Монолог Дон Кихота» — напоследок хочу процитировать его целиком:
…Умирал он дома. За время болезни у него отросла борода. Когда все кончилось и он лежал на кровати со странно спокойным и заострившимся лицом. Мима Гребнева, жена его лучшего друга и ближайшая подруга мамы, не смогла удержаться от восклицания: «Господи! Как похож на Дон Кихота!..»
Леонид БАХНОВ
Отрывок из автобиографии
Как известно, человек произошел от обезьяны.
Однако не следует думать, будто именно так все и должно было случиться и человек не мог произойти пораньше от какого-нибудь другого представителя живого мира.
Мог, и неоднократно.
Давным-давно он мог бы произойти даже от простейших организмов. Но этого не случилось, потому что человек подумал: все равно простейшие не сообразят, что им нужно делать, чтобы стать человеком… Ведь они простейшие… и, воспользовавшись этим предлогом, он взял и не произошел…
Потом человек мог произойти от рыбы. Но вокруг было так красиво и приятно — вода, водоросли, ракушки разноцветные… А жизнь такая беззаботная, бездумная и разнообразная — то ты кого-нибудь съешь, то тебя кто-нибудь проглотит… В общем, ему очень уж не хотелось менять привычный образ жизни и заниматься эволюцией. Ему хотелось только ничего не делать.
«Да ну еще, происходить! — думал он лениво. — Что мне, больше всех надо, что ли? Другие вон не происходят, и ничего — живут в свое удовольствие… Успеется, произойдем!»
Это были хотя и ленивые, но откровенные мысли, которыми он ни с кем не делился. Вслух он говорил другое:
— Конечно, моя первейшая задача — произойти, и я ее выполню. Но, понимая, какое ответственное дело мне поручено, я должен действовать продуманно и неторопливо, дабы с честью оправдать возлагаемые на меня надежды.
А время шло… Появились ящеры. Они ходили по земле, плавали, летали. И человек вздохнул: ничего не попишешь, пора начинать происхождение…
Только от кого именно произойти? Можно от археоптерикса, который летает. А вдруг упадешь и разобьешься?
Тогда можно от ихтиозавра, который плавает. А вдруг захлебнешься и утонешь?
Нет уж, если происходить, так от тех, которые просто ходят по земле. Вон они какие здоровенные!
Но опять же: от кого из них произойти конкретно? От диплодока или бронтозавра? От индрикотерия или игуанодона? Аллах его знает, кто из них наиболее человекообразный!
А может, выбрать на свой страх и риск… А? Ну да, выберешь, произойдешь, а потом и сам рад не будешь. У одного вон шея длинная, у другого ноги короткие, у третьего голова маленькая, у четвертого брюхо здоровое…
И пока будущий человек лениво и придирчиво выбирал себе предка, звероящеры, потеряв надежду, стали вымирать.
А человек сказал:
— Вот как я разумно поступил, что не произошел от них! Я же предвидел, что они скоро вымирать начнут! А кому охота от вымирающих происходить? Тут ведь поспешишь — людей насмешишь.
И стал ждать он, кто еще на земле появится, от кого бы и произойти стоило…
Но какие животные ни появлялись, он все равно не решался выбрать. И льва он отверг — рыжий. И слона он отверг: нос длинный. И тигра отверг — полосатый. И медведя отверг: белого — за то, что не бурый, бурого — за то, что не белый…
Откровенно говоря, лень ему было происходить, да и страшно. Вот и все! Но он, конечно, этого не говорил, а говорил другое:
— Произойти — это и медуза может! А мне хочется не просто произойти, нет! Мне хочется в люди выбиться, человеком стать!
А тут уж обезьяны появились. И он понял, что если он сейчас не сделает того, что ему положено, могут быть большие неприятности.
И стал он жалеть обо всех упущенных из-за лени и перестраховки возможностях… Ах, какой выбор был! А теперь дождался — одни обезьяны остались. Так тебе, ленивому трусу, и надо! Происходи от обезьяны!
Иногда ко мне приходят Лень и Осторожность, которые часто ходят вместе. И случается, я бываю не в силах избавиться от них. Но я заставляю себя вспомнить, каким я мог стать человеком, если бы не ленился и не осторожничал тогда, когда был еще выбор… И вспомнив это, я становлюсь таким свирепым, что Лень и Осторожность пугливо раскланиваются и исчезают…
РАННИЕ СТИХИ И ПЕСНИ

* * *
Мото-цикл
Виллис ночью
Обыкновенная история
Стихи о грусти
Виллис-фронтовик
Стихи о первой любви
Стихи об исключении из правил
Стихи об одиночестве
Стихи о поезде метро
Мотеле-студент
(Глава из поэмы «Мотеле». Подражание)
С. Уткину
Все мы бежали в Америку — Такое уж это место. Все отплывают от берега. Милого берега детства. Все уплывают за счастьем. Зачем же охать и ахать? Нужно уметь прощаться Так, чтобы не заплакать. Чтобы не разреветься… А это не так легко. Мотеле смотрит на детство И машет ему рукой. Бывают же грустные мысли. Мотеле смотрит и машет. Оттуда приходят письма. Которые пишет мамаша. Все мамы народ упрямый — Ничем их не изменить. Все мамы — сплошная мама, И письма у них одни: «Здравствуй, родной сыночек!
Почему ты не отвечаешь? Я очень волнуюсь И очень За тобой скучаю. Не ходи без калош в сырость, А то заболеешь снова. Как у тебя с квартирой? Как у вас кормят в столовой?» Мама — наивная женщина. Но и Мотеле не без правил: И он калоши, конечно. Где-то в гостях оставил. Но этим никак не возьмешь его. Этим его не возьмешь: В мире столько хорошего. Что Мотеле не до калош.
Много хорошего, много На нашей веселой земле. Но жизнь не гоголь-моголь И не крем-брюле. Тревога нагрянет, забота ли, Хоть пропадай в беде. Но что вы смеетесь? Ведь Мотеле Не кто-нибудь, а студент. Бывает уж так горько. Что прямо плачет душа, А у Мотеле есть поговорка: Главное — это дышать. В комнате холодно очень, В комнате руки мерзнут, А над экватором ночью Большие тихие звезды. Выходит лев на охоту, Под рыжими лапами шорох. Мотеле, слышишь. Мотеле, Дышать — это хорошо. Ты видел Москву и Киев, Дыши — и не унывай. Где-то еще есть такие Канарские острова. Как там поют канарейки В зеленую тишину! Есть еще в мире реки, Где Мотеле не тонул. Все впереди, товарищ. Главное — не теряться. И ты отогреваешь Горячим дыханием пальцы. Тиканью ходиков в тон Где-то кукует кукушка, А уже какой-нибудь сон Незаметно залез под подушку. Снег метет за окном. Пролетает синяя птица. Мотеле все равно Что-нибудь да приснится. И бывают же сны иногда: Ему даже приснилось как-то. Что Негус ему передал Из Абиссинии кактус. Скажите вы мне на милость: Снится ему Абиссиния, И что в него влюбилась Адисабебская Негусыня. Но всякое может быть. Если вы заработали. Главное — это жить. Дай твою руку. Мотеле.
1945
Трезор
1959
* * *
1958
ПЕСНИ
Гимн студентов
1945
Песенных дел мастера
Пятнадцать консультантов
Замечательный народ
Припев:
Припев.
Припев.
Фаншета
(подражание Беранже)
Мадам Анжа
Коктебля[3]
В. Аксенову
Коктебель, 1963
Сложная личность
Печальный рассказ
о мореплавателе Колумбе
Колыма
С «Колымой» связана такая история. Дело было в Переделкине. В. Бахнов только что закончил писать эти стихи и пошел в комнату к друзьям — Науму и Миме Гребневым — и стал их читать с пылу-жару. Туда зашел Корней Иванович Чуковский — во время послеобеденной прогулки он любил заглянуть в Дом творчества к симпатичным ему людям, которые в это время там жили. Ему очень понравилось, и он выразил бурный восторг. Попросил еще раз прочитать и перепечатать для него экземпляр. Потом в течение нескольких дней К.И. декламировал «Колыму» каждому приходящему. Кончился срок путевки, Бахновы уехали из Переделкина. Вдогонку К. И. прислал свою книжку «О Чехове» с надписью: «Дорогому Владлену Ефимовичу Бахнову Корней Чуковский. 1968. На память о 2-м марте. Колыма».
Тут надо сказать, что, уезжая из Переделкина, В.Б. был под сильным впечатлением от казуса, который озадачил и самого К.И.: тот получил письмо от незнакомой женщины из провинции. Она писала, что в ее руках оказалась дореволюционная статья К.И. «Две души Максима Горького». К 1968 году статья звучала совершенно крамольно.
Эта тетка поставила условие: либо К.И. выплачивает ей крупную сумму денег, либо она отправляет статью куда следует.
По получении книги от К.И. В.Б., развивая тему шантажа, отправил Чуковскому такое письмо:
«Если в Вашей библиотеке нет случайно Оскара Уайльда под редакцией К. И. Чуковского (приложение к журналу «Нива» за 1912 г.), я буду рад уступить вам эту книгу за 100 (сто) рублей серебром, ассигнациями или, в крайнем случае, керенками (английский фунт после девальвации не вызывает доверия). Надеюсь, указанная мною сумма не покажется Вам чрезмерной, особенно если учесть, что себе позволяет режим Смитта в Южной Родезии и зарвавшиеся оккупанты в Северной Иордании.
Деньги прошу переслать в фонд помощи оксфордским студентам, объявившим сидячую забастовку в знак протеста против введения цензуры на островах Фиджи.
Поправляйтесь. Корней Иванович, поскорей и помните, что ни одна, даже самая редкая болезнь не стоит того, чтобы ради нее рисковать здоровьем.
С уважением.
15. 4. 68».
К.И. ответил открыткой: «Дорогой Мадлен Ефимович. Вашей предшественнице я написал: Так как меня живо интересует духовный облик советских шантажистов и мазуриков, покорнейше прошу прислать мне Вашу краткую биографию в двух экземплярах — одну для меня, другую для прокурора». С той же просьбой я обращаюсь и к Вам. А в общем спасибо за дивное письмо — оно оказалось для меня лучшим лекарством. Я впервые вскочил с больничной койки и чуть не поколотил Клару (Клара Израилевна Лозовская — многолетний секретарь К.И. — Прим. сост.). Нежный привет милой Нелли! Ваш К. Чуковский».
Вскоре последовал ответ:
«Дорогой Корней Иванович! На Ваш запрос от 12.04.68 г. посылаю Вам автобиографию с приложением трех моих фотографий: я в морском, я в штатском и я в будущем (см. фото на с. 7–8 фотоальбома). Привет Вам от Нелли и Гребневых. С уважением. 23. 4. 68 г».
Отрывок из автобиографии
Я родился в 1924 году. Проявляя редкие способности и сообразительность, в 1925 году уже научился говорить, а в 1937 году — молчать. Однако, несмотря на то что молчать я начал гораздо позже, чем разговаривать. — искусством молчания я овладел в совершенстве, а вот свободно говорить почему-то не могу до сих пор. В 1931 году я поступил в школу. Учился плохо, контрольные сдирал, диктанты списывал и, вероятно, поэтому и теперь пишу с ошибками, о чем говорилось как на собраниях, так и в печати. С 1938 года стал заниматься шантажом. Началось это с того, что в седьмом классе нам задали сочинение «Наша литература». К сожалению, я. конечно, не подготовился и поэтому написал коротко, но идейно: «Наша литература — самая лучшая литература в мире!!!» — и все. Я понимал, что это не сочинение, а шантаж. Но поскольку в сочинении не было ни орфографических. ни стилистических ошибок, учитель вынужден был поставить мне «5». Так шантажом я заработал первую пятерку. И с тех пор качусь по наклонной плоскости. (Продолжение следует)_____
1968
ПЯТАЯ СЛЕВА

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
С некоторых пор я полюбил это небольшое кафе. Может быть, потому, что музыкальный автомат грохотал здесь не так оглушительно, как везде. А может быть, мне просто не хотелось даже случайно встретиться с кем-нибудь из моих бывших приятелей. Да, здесь я мог не опасаться: в такие места мои прежние друзья никогда не заглядывали.
Я приходил сюда каждый вечер и садился за угловой столик, откуда, слава богу, не виден был экран телевизора. Неторопливо потягивая виски, я думал о том, что денег у меня все меньше и пора бы что-нибудь предпринять.
Я приходил сюда в мрачном настроении, не видя никакой возможности поправить свои дела. А уходил уверенный в себе, как бывало в самые лучшие времена, и окрыленный волнующим предчувствием того, что меня вот-вот осенит какая-то невероятная, спасительная идея.
Переход из одного состояния в другое происходил не сразу и, поддаваясь регулировке, мог быть замедлен и ускорен по моему желанию. Да, я научился здорово управлять этим процессом с помощью виски. Черт возьми, как я люблю это божественное состояние вдохновенного подъема! Жаль только, что его нельзя зафиксировать и приходится создавать каждый вечер заново.
Иногда, чтобы отвлечься от проклятых мыслей, я принимался разглядывать посетителей. Они приходили, быстро пропускали рюмку-другую и исчезали.
Веселые или грустные… Удрученные или беззаботные… Я им всем завидовал, потому что они куда-то спешили, а мне, к сожалению, незачем было торопиться…
Но были здесь и такие, как я, никуда не спешащие завсегдатаи. Я давно обратил внимание на одного опрятно одетого пожилого человека. Я приметил его, потому что он всегда был один. Он не читал газет, не интересовался телевизором и вообще никак не реагировал на то, что происходило вокруг него.
Полузакрыв глаза, он о чем-то думал. И, видимо, мысли его были не такие мрачные, как мои, потому что время от времени он улыбался так радостно, словно вспоминал что-то веселое и приятное. А иногда улыбка его становилась растерянной, и он так сокрушенно покачивал головой, будто жалел о каком-то своем поступке.
Однажды мы с ним столкнулись в дверях. Он рассеянно взглянул на меня, извинился. Потом посмотрел внимательней, с каким-то удивлением. И с тех пор я нередко ловил на себе его взгляд и, даже отвернувшись, спиной чувствовал, что за мной наблюдают.
Меня это раздражало. Я подумывал, не поискать ли другое кафе. А потом разозлился. Со мной это бывает.
— Послушайте, — сказал я, неожиданно для себя самого подойдя к его столику, — я все время чувствую, что вы рассматриваете меня, и мне это не нравится!
Вежливый господин покраснел и рассыпался в извинениях. Он извинялся минут пятнадцать. А затем стал уговаривать меня пересесть к нему или же, наоборот, разрешить ему перейти за мой столик, где он мне все объяснит.
Я ответил, что согласен на любой вариант, если разговор будет недолгим. Тогда он начал благодарить меня и благодарил бы еще полчаса, если бы я не прервал его, попросив перейти к делу.
— Я еще раз прошу прощения за то, что досаждал вам, — сказал он. — Ноу меня такое чувство, будто я вас знаю, причем знаю хорошо. А в то же время мне незнакомо ваше лицо, хотя иногда мне начинает казаться, что мы уже когда-то встречались. Может быть, вы киноактер? Может быть, я вас видел в гриме и поэтому не могу сразу узнать?
— Нет, я не киноактер. Ноу меня отличная зрительная память, — сказал я. — Поверьте, мы никогда не встречались.
— Странно. Вы говорите, что мы не встречались. Но даже то, как вы произнесли эти слова, мне тоже знакомо. Разве это не удивительно?
Я пожал плечами.
— Может быть, просто совпадение.
— Извините, но это не так. И пока я не пойму, почему мне кажется, будто я вас знаю, я не смогу успокоиться.
— Ну хорошо. Я живу в этом городе много лет. Вы в конце концов могли меня где-то видеть.
— Да нет же! Поймите, у меня такое чувство, будто я знал вас хорошо, — он подчеркнул последнее слово. — Может быть, у нас было деловое знакомство?
— Вряд ли, — усмехнулся я. — А чем вы занимаетесь?
— О. чем я только ни занимался! — с гордостью ответил он. — Но если вы не против, мы могли бы познакомиться. Меня зовут Рейдж Овер.
— Очень приятно. Джеймс Нободи, — назвал я первое попавшееся имя.
— Рад познакомиться, мистер Нободи. Нободи? Ваше имя мне незнакомо. Откуда же я вас знаю? — Он помолчал. — Если вы не возражаете, я хотел бы спросить: а чем вы занимаетесь?
— Я астронавт, — быстро придумал я.
— О! Но, поверите ли, я ни разу никуда не улетал с Земли. Так что на вашем корабле мы никак не могли встретиться. И давно вы летаете?
— Всю жизнь.
— Теперь все рвутся в космос. А зачем? Я уверен, что если как следует пораскинуть мозгами, то и на Земле можно кое-что сделать. Нужно только небольшое везение и деньги.
— Довольно жесткие условия! — заметил я.
— Не спорю. Но деньги у меня для начала были, много денег. Я получил их от своего отца. А он их заработал, изобретя одну забавную штучку. Аккумулятор настроения.
— Аккумулятор настроения? — удивленно переспросил я.
— Да, да. — Рейдж Овер, конечно, не понял причины моего удивления и подумал, что я просто никогда не слыхал о таких аккумуляторах. — Теперь, видите ли, ими не пользуются, — стал объяснять он, — а когда-то на них был большой спрос. Этот по современным понятиям громоздкий аппарат был величиною с авторучку и легко помещался в боковом кармане пиджака или в дамской сумочке. Если вы почему-либо бывали взвинчены, чересчур возбуждены или взбешены — одним словом, выходили из себя, — излишки психической энергии шли на подзарядку аккумулятора, и вы успокаивались. То же самое происходило, если вас переполняла радость, — аккумулятор забирал все излишки. Но зато когда вы падали духом и у вас понижался тонус, аккумулятор возвращал вам накопленную им энергию, и вы снова чувствовали себя бодрым и полным сил.
— Страшно интересно, — сказал я, зная, что теперь во что бы то ни стало дослушаю до конца рассказ моего нового знакомого. — А что же произошло с этими аккумуляторами потом?
— Да ничего. Отец заработал кучу денег. А затем появились стабилизаторы эмоций, и аккумуляторы настроения вышли из моды. Вскоре отец умер, и я стал думать, что мне делать.
Я мог вложить деньги в какое-нибудь верное дело. Но это меня не интересовало. Видите ли, я по натуре предприниматель-первооткрыватель. Всю жизнь я занимался тем. что открывал новые сферы для предпринимательства. А потом появлялись более удачливые конкуренты, вытесняли меня, и я вынужден был опять искать и открывать…
Я не жалуюсь. Но должен честно признаться, что умение открывать новые сферы во мне гораздо сильней умения извлекать из этого прибыль.
Итак, я знал, что в наш век, когда предпринимательство проникло повсюду, осталась еще одна область, где есть шанс развернуться. Эта область — человеческий мозг. Вы, вероятно, слыхали, что, воздействуя на известные участки мозга, можно вызывать у человека определенные положительные эмоции: удовлетворение, радость, спокойствие, приятные вкусовые и обонятельные ощущения и так далее.
И вот я создал фирму «Дженерал эмошн». По желанию заказчика мы могли вызвать у него любое приятное чувство. Мало этого. Наша фирма сама выдумывала для клиентов редчайшие, утонченнейшие, изысканнейшие ощущения. Наши клиенты могли испытать то, чего не испытывал ни один человек. И хотя это стоило дорого, очень дорого, от посетителей не было отбоя. Я уже собирался открыть филиалы фирмы в других городах и странах… И вдруг появились конкуренты… Видимо, они лучше меня разбирались в психологии. И они додумались до того, что мне, к сожалению. не могло прийти в голову.
Как я уже сказал, в моей фирме клиенты могли испытывать только положительные эмоции. Конкуренты же. воздействуя на другие участки мозга, заставляли своих клиентов испытывать эмоции отрицательные: тоску, страх, ужас… Затем эти эмоции снимались, и подвергавшиеся испытаниям люди сразу чувствовали огромное облегчение и радость жизни. Вот это облегчение и было той положительной эмоцией, за которую посетители охотно платили деньги. Это может показаться странным. Но не забывайте, что мы имели дело с такими людьми, которые ищут острых ощущений. Наши клиенты все перепробовали — от вина до наркотиков, — и все им наскучило.
Вот у вас не болят зубы… Вы счастливы от этого? Нет. Но вы испытаете блаженство, когда больной зуб перестанет болеть. Вы ходите в туфлях, которые не жмут… Чувствуете вы от этого радость? Нет. Но если вы хоть час походите в тесных туфлях, а потом снимете их, какое острое наслаждение вы почувствуете! Ничто не сравнимо с этим мгновением!
Так вот, положительные эмоции через отрицательные оказались действенней, чем просто положительные… И вход к конкурентам стоил гораздо дешевле, потому что им не требовалось такой сложной аппаратуры, какая была в моей фирме. Моя клиентура перешла к конкурентам. А я, потеряв значительную сумму, ликвидировал «Дженерал Эмошн».
Но к этому времени у меня в голове созрела новая великолепная идея. Идея настолько многообещающая и простая, что я удивлялся, как до нее не додумались прежде.
Каждый хотя бы понаслышке знает, что существует вдохновение. Нам не известен его механизм. Мы знаем только, что озаренные вдохновением люди создавали бессмертные произведения, совершали гениальные открытия и в невероятно короткие сроки решали такие задачи, над которыми человечество билось столетиями.
Мы еще не научились вызывать вдохновение по заказу. Но знаем, что довольно часто вдохновение испытывают в определенном состоянии, а именно — в состоянии влюбленности. Искусственно же создавать такое состояние вполне в наших силах.
И я организовал новую фирму — «Вдохновение». Мне пришлось содержать огромный штат тайных агентов, работавших в разных лабораториях и научных учреждениях. Благодаря этим агентам я получал данные, что в такой-то лаборатории такому-то ученому поручена какая-нибудь сложная работа. Узнав об этом, я совершенно конфиденциально встречался с шефом этого ученого и объяснял ему, что с помощью фирмы «Вдохновение» его ученый может закончить свою работу в десять раз быстрей, но, разумеется, время — деньги…
Как правило, шеф соглашался, и этого ученого якобы для медицинского обследования присылали ко мне. Вся процедура занимала полчаса. Но от нас, сам того не зная, ученый уходил страстно влюбленным в одну из своих сотрудниц. (Вы сами понимаете, что дело тут не обходилось без гипноза, и аппарат для такого мгновенного внушения был изобретен специально по моему заказу.)
А дальше вдохновленный любовью ученый на какое-то время становился еще талантливей и, работая на полную мощность, творил чудеса. А моя фирма согласно контракту получала вознаграждение.
От клиентов не было отбоя. Каждому хочется, чтобы за его деньги на него работали с полной отдачей. Заказы сыпались со всех сторон. И я уже собирался открыть филиалы в других городах и странах… Но тут появились конкуренты. Ну как вы полагаете, до чего эти подлые люди додумались? Они завели своих собственных агентов и установили слежку за каждым, кто входил в мою фирму. Они подслушивали мои телефонные разговоры и перехватывали почту. Зачем? А вот зачем. Стоило моим конкурентам только пронюхать, что ученый N побывал у нас и влюбился в NN, как они любыми способами заманивали к себе несчастную NN и под гипнозом заставляли ее взаимно влюбиться в этого ученого. Понимаете?
Петрарка, безнадежно влюбленный в замужнюю Лауру, всю жизнь писал о ней сонеты. А тут, говоря фигурально, едва мой Петрарка успевал написать половину первого сонета, как сама Лаура приходила к нему с чемоданчиком в руках и объявляла, что в дальнейшем будет жить у него. Стал бы Петрарка писать после этого свои сонеты? Не думаю.
Так вот, теперь вы видите, какими коварными методами действовали мои конкуренты, чтобы меня разорить. Я платил огромные неустойки. И в конце концов вынужден был ликвидировать «Вдохновение», потеряв при этом значительную часть денег.
Но я не сдавался. Я думал, думал, думал… И. наконец, придумал как раз то, что мне было нужно.
Я решил стать продавцом чужих воспоминаний. Не знаю, известно ли это вам, но в память одного человека можно искусственно ввести воспоминания другого человека. И носитель чужих воспоминаний всю жизнь будет уверен, что все, что он помнит, действительно было с ним лично.
А теперь представьте себе, что у вас был миллион. Вы пьянствовали или неудачно играли на бирже, тратили деньги на женщин или, как я, занимались предпринимательством. Короче говоря, от вашего миллиона не осталось ничего, кроме приятных воспоминаний. Воспоминания очень интересные, но заплатить за них миллион дороговато, не правда ли? Ну а если вы можете получить эти воспоминания всего за сто долларов? Всего за сто долларов всю жизнь вспоминать, как вы растранжирили миллион! Представляете? И вот я создал фирму под названием «У вас был миллион!».
Вы могли выбрать любое воспоминание о том, как потерпели крах. Вы могли без конца вспоминать разорившие вас вакханалии или азартные игры, государственные перевороты или национализацию ваших заводов. Причем моя фирма вводила воспоминания не придуманные, а подлинные. Мои агенты по всему миру искали свежеразорившихся миллионеров, и те за весьма и весьма солидное вознаграждение продавали фирме свои самые подробные, детальные воспоминания. Согласно договору первоисточники восстанавливали в памяти картины своей прошлой жизни, специальные аппараты фиксировали эти картины и затем по мере спроса вводили их в память наших клиентов. Только за одни воспоминания я заплатил первоисточникам более ста тысяч. Но зато фирма «У вас был миллион» располагала большим количеством разнообразных воспоминаний, не вызывающих сомнения в их подлинности.
Фирма гарантировала, что очищенные от тоски по прошлому воспоминания не будут портить настроения и не утратят своей прелести и свежести. Гарантия давалась на сто лет. Лица, желавшие избавиться от полученных в фирме воспоминаний или поменять надоевшие воспоминания на новые, обслуживались вне очереди.
Дела у фирмы шли отлично. От клиентов не было отбоя. Я уже собирался открывать филиалы в других городах и странах… Но тут… да, да… туг появились конкуренты. На этот раз они действовали совсем нагло. Они не стали разыскивать разорившихся миллионеров и платить им за воспоминания бешеные деньги. Нет. конкурирующая фирма «Приятно вспомнить» находила моих клиентов и за гроши перезаписывала с их памяти те великолепные воспоминания, которые они получали в моей фирме. Фирме «Приятно вспомнить» не нужны были дорогие оригиналы, она довольствовалась дешевыми копиями. Но благодаря этому она могла затем торговать теми же воспоминаниями в пять раз дешевле, чем я. И все. И я разорился. На этот раз окончательно… А кстати, вы никогда не бывали в моей фирме?
— В вашей? Нет, — сказал я и, не выдержав, расхохотался.
Это было так неожиданно, что Рейдж Овер обиделся. Он даже оскорбился.
— Я не нахожу в моей истории ничего смешного, — сухо сказал он и, натыкаясь на столики, пошел к выходу.
— Вы знаете этого человека? — спросил я у старого официанта.
— Конечно. Это Рейдж Овер, у него здесь неподалеку табачная лавочка.
— Давно?
— Да, пожалуй, лет тридцать. Эту лавочку ему оставил его отец.
Кафе закрывали. На улице моросил дождь. Из-за Рей-джа Овера я не успел сегодня напиться до вдохновенной веры в себя.
И откуда мог знать этот бедняга из табачной лавочки, что он весь вечер рассказывал мне мои собственные воспоминания, которые я продал разорившим меня конкурентам! В виде исключения они заплатили мне за них столько же, сколько я сам когда-то платил бывшим миллионерам. Конкурентам было очень приятно купить у меня мой последний товар.
А впрочем… Впрочем, может быть, я и сам живу чьими-то чужими воспоминаниями. Кто знает!..
ВНИМАНИЕ: АХИ!
Прошло время споров, малоубедительных гипотез и догадок. Теперь уже точно установлено, что на Сигме-3 в стародавние времена существовала высокоразвитая цивилизация и далекие предки современных полудиких жителей Сигмы-3 умели и знали то, что снова узнают здесь только через много тысячелетий.
Неизвестно, почему прежние сигмиане с такой тщательностью хранили всякие исторические документы и даже подшивки газет в стальных герметических капсулах зарывали глубоко в землю.
Но как только мы нашли эти капсулы, прекратились споры, и нам открылась поразительная история расцвета и падения цивилизации на Сигме-3.
Всегда предполагалось, что резкой деградации общества обязательно должны предшествовать какие-нибудь трагические события. Космическая катастрофа, географический катаклизм вроде всемирного потопа, или обледенения планеты, или, наконец, войны.
На Сигме-3 ничего подобного не было.
Все началось со смехотворно пустякового судебного процесса. И если бы предъявленный потерпевшей стороной иск не был столь анекдотичным и мизерным, ни одна, даже самая жалкая газетенка не уделила бы этому разбирательству и трех строк.
Дело вкратце сводилось к следующему.
В столице Игрекении Марктауне на улице Синих Роз много лет находился единственный в своем роде Музей фальшивок. Демонстрировались в музее только подделки. Уникальные подделки редчайших произведений древности: фальшивые деньги разных времен и народов, фальшивые, но неотличимые от настоящих драгоценные камни. А главное — талантливые подделки полотен великих художников.
Многие подделки до того, как попасть в этот оригинальный музей, получали скандальную известность.
Посетители охотно приходили сюда. Обычным зевакам было интересно поглазеть на фальшивые деньги и полотна. Они с удовольствием слушали рассказы гидов о ловко обманутых коллекционерах и, поражаясь уплаченным за подделки суммам, не столько сочувствовали жертвам махинации, сколько завидовали удаче фальсификаторов.
А специалисты посещали музей, чтобы полюбоваться той ловкостью, с которой были подделаны шедевры, и лишний раз убедиться, что уж они-то, специалисты, знают, где настоящее произведение искусства, а где фальшивка. И уж их-то не проведешь.
И вот некий Дейв Девис, никому не известный молодой человек, вдруг обвинил Музей фальшивок в том, что вместо копии картины «Пища богов» всемирно известного художника Штруцеля-младшего в музее выставлен гениальный подлинник. Таким образом. Музей фальшивок ввел своих посетителей в заблуждение. Дейв Девис потребовал, чтобы суд, во-первых, разоблачил этот безобразный факт, а во-вторых, обязал владельца музея возместить ему, Девису, материальные убытки. А именно: плата за вход в музей —3 пуфика, поездка на такси в музей и обратно—6 пуфиков и подрыв веры в честность — 10 пуфиков. (Дейв утверждал, что всю жизнь дорожил этой верой и посему оценить ее ниже 10 пуфиков никак не может.)
Владельцу музея Луису Эллингтону не жалко было вернуть сквалыге Девису несчастные пуфики. Но дело шло о репутации музея. И Эллингтон, абсолютно уверенный в своей правоте, явился в суд.
Судья предложил истцу и ответчику тут же прийти к мирному соглашению. Но обе стороны гордо отвергли этот вариант. Тогда суд попросил высказаться экспертов. Три эксперта внимательно осмотрели доставленную в зал суда картину и заявили, что это настоящая подделка. Но упрямый Дейв Девис не согласился с мнением экспертов. Он попросил высокий суд назначить еще одну, более авторитетную и обстоятельную экспертизу. Расходы по экспертизе в случае проигрыша дела Девис брал на себя.
На сей раз эксперты работали полгода. Они сделали химический анализ красок и грунтовки, прощупали картину рентгеновыми лучами, сфотографировали и увеличили каждый квадратный сантиметр картины, исследуя почерк художника…
И вот, собрав все необходимые данные, лучшие специалисты-штруцелисты вынуждены были признать: да, это оригинал, написанный рукою бессмертного Штруцеля-младшего.
Правда восторжествовала! Девис получил свои 19 пуфиков, а проигравший процесс Луис Эллингтон стал обладателем редчайшего шедевра, который тут же продал за 450 тысяч, что хоть отчасти смягчило горечь поражения.
Судебный процесс стал сенсацией. Специалисты по Штруцелю-младшему умоляли Девиса объяснить им, почему он был так уверен, что полотно — подлинное. Журналисты осаждали Девиса днем и ночью. И он пообещал открыть свой секрет на пресс-конференции.
Несмотря на то что пресс-конференция происходила в самом просторном помещении Марктауна, зал был переполнен. Журналы и газеты со всей Сигмы-3 прислали сюда своих корреспондентов. Пресс-конференция транслировалась по радио и телевидению.
— Как вы, вероятно, догадались, — начал Дейв Девис, — я подал в суд на Музей фальшивок не для того, чтобы получить с уважаемого Эллингтона девятнадцать пуфиков. И если Эллингтон все еще не смирился с такой потерей, пусть приедет ко мне, и я верну ему эту сумму. — Туг впервые выяснилось, что Девис умеет очаровательно улыбаться и шутить. — Мне нужен был этот маленький судебный процесс только затем, чтобы привлечь внимание к своей скромной персоне. Я изобретатель. И я прекрасно понимал, что безымянному изобретателю очень трудно создать рекламу своему изобретению. И действительно, не будь процесса, вы вряд ли бы съехались на эту пресс-конференцию, которая, надеюсь, и послужит необходимой мне рекламой. (Смех в зале.) Итак, вас в первую очередь интересует, каким образом я определил подлинность картины. Отвечаю: с помощью изобретенного мною прибора, который я назвал ахометром. — С этими словами Девис вынул из кармана круглый, похожий на компас предмет и издали продемонстрировал его присутствующим.
Телеоператоры показали ахометр крупным планом, и зрители увидели на своих экранах, что циферблат ахомет-ра разделен на градусы, рядом с которыми стоят какие-то цифры. К центру циферблата была прикреплена свободно вращающаяся стрелка.
— Что же такое мой ахометр и зачем он нужен? Я постараюсь объяснить. Каждому приходилось замечать, что, когда мы видим настоящее произведение искусства, у нас невольно вырывается восхищенное восклицание «Ах!». Это «ах» является сокращенным вариантом «Ах, как красиво!», «Ах, как здорово!» или «Ах, черт возьми!».
Почему мы так восклицаем? Потому, что произведение эмоционально воздействовало на нас. Да, каждое произведение несет в себе определенный эмоциональный заряд. А как известно, теоретически любой заряд можно измерить. Так вот, мой ахометр предназначен для точного измерения величины эмоционального заряда.
Единицей измерения является <ах». В некоторых произведениях сто ахов, в других тысячи, в третьих не более десяти.
Конечно, не все картины определенного художника имеют одно и то же количество ахов. Но, посетив почти все музеи Сигмы-3 и произведя ахометрические замеры произведений выдающихся художников, я убедился, что каждый творец имеет свою индивидуальную аховую полосу. Например, все полотна Трентеля лежат в полосе от 3500 до 3650 ахов, картины гениального Вейдима Сейдура занимают полосу от 4900 до 5000 ахов, а Зайгель-Зуйгель набирает от 3970 до 4135 ахов включительно. И так далее…
Изготовляя фальшивку, талантливый фальсификатор может полностью овладеть почерком, приемами и всеми стилевыми особенностями того художника, полотна которого он подделывает.
Но силу эмоционального заряда подделать невозможно. Она обязательно будет меньше положенного. Или в крайнем случае больше, если фальсификатор талантливей того, чьи полотна он под делывает. Но подделка, даже если она и лучше оригинала, все равно остается подделкой. Самолет лучше и совершенней автомобиля, но все равно он не автомобиль. (Смех в зале.) Однако вернемся к Штруцелю-младшему. Я знал, его эмоциональная полоса 3770–3850 ахов. Поэтому, обнаружив в Музее фальшивок, что картина «Пища богов» излучает 3810 ахов, я ни на минуту не усомнился, что передо мной подлинный Штруцель. И. как видите, ахометр меня не подвел.
Каковы мои дальнейшие планы? Я уверен, что, имея ахометр. каждый музей и любой владелец частной коллекции будет застрахован от приобретения подделок. Следовательно, ахометры могут иметь сбыт. Но я не собираюсь заниматься их производством. Я хочу лишь продать свое изобретение, о чем и ставлю в известность всех желающих его приобрести.
На этом Девис закончил свое выступление и затем два часа отвечал на всевозможные вопросы журналистов: как устроен ахометр, сколько Дейву лет, на ком бы он хотел жениться, если бы развелся со своей теперешней супругой: на блондинке или на брюнетке.
Но оставим пресс-конференцию. Опустим торги Девиса с заинтересованными лицами. Не станем уточнять, сколько получил он за свое изобретение.
Ахометры поступили в продажу и с каждым днем становились дешевле.
Отметим также, что в самых известных картинных галереях и частных коллекциях обнаружилось столько подделок, что Музей фальшивок сразу утратил свою оригинальность.
Сигмиане стали посещать картинные галереи не для того, чтобы знакомиться со знаменитыми полотнами, а в надежде обнаружить еще подделку.
Посетителями музеев овладел охотничий азарт, и они, не очень-то разглядывая картины, проверяли только, излучают ли бессмертные полотна то количество ахов, которое им надлежит излучать согласно каталогу.
Это были, выражаясь современным языком, антикладоискатели. И находка какого-нибудь не известного досель гениального подлинника не могла доставить теперь такой радости, как обнаружение фальшивки.
Все значительные произведения искусства были замерены, и культурному человеку на Сигме-3 достаточно было знать только, что «Мадонна» Маринелли — это та, которая 6500 ахов, а знаменитые пейзажи Флауэрса — 3400 (в среднем). И от студентов-искусствоведов на экзаменах требовались только эти точные знания. И когда говорили об искусстве, то в памяти в первую очередь возникали не зрительные образы, не ассоциации, не мысли, а цифры, цифры, цифры…
Вскоре нашли способ измерения эмоционального заряда и в музыкальных произведениях, и в литературе. Но тут, правда, выяснилось, что с литературой дело обстоит не так просто. Многие знаменитые поэмы и романы эмоциональному измерению не поддавались или могли быть замерены только специальными сверхчуткими ахометрами.
Однако чрезвычайно высокоразвитая техника успешно преодолела и эти трудности. Были созданы такие уникальные приборы, которые улавливали десятые, сотые и даже тысячные доли ахов. В результате литературные произведения так же были замерены, как и все остальные.
На Сигме-3 вообще обожали цифры и верили, что математическому анализу поддается все существующее. С некоторых пор там даже говорили: «Я анализируюсь, следовательно, я существую». А все, что нельзя было выразить цифрами, вызывало скептическое отношение, настороженность и даже подозрительное недоверие.
Может быть, поэтому на Сигме-3 так увлеклись ахометрами. Возможность ахометрических замеров дала, наконец искусствоведам и литературоведам точные критерии для оценок. Настолько точные, что надобность в вышеупомянутых специалистах в конце концов отпала вообще. Ведь каждый мог сам собственным ахометром измерить, сколько ахов в том или ином произведении.
Все шло своим чередом. Но спустя несколько лет возникло новое течение: началось оно среди романистов, а вскоре охватило все виды литературы и искусства.
Некий плодовитый автор Иоганн Дамм, чьи романы излучали от 8 до 10 ахов, заявил, — что он сознательно пишет низкоаховые произведения. А делает он это потому, что читателю легче усвоить 10 десятиаховых романов, чем один стоаховый. Следовательно, низкоаховые романы более полезны. А настоящий писатель обязан в первую очередь думать о том, приносят его творения пользу или нет.
Разгорелся спор. Но постепенно все больше деятелей литературы и искусства стали соглашаться, что действительно быстрей раскупаются и лучше усваиваются те произведения. в которых меньше ахов. И врачи-психиатры, заменившие теперь на Сигме-3 критиков, подтвердили, что, как показали многочисленные опыты, с медицинской точки зрения полезней, когда читатель или зритель потребляет эмоциональную энергию произведений не сразу целиком, а небольшими порциями — квантами. И низкоаховые произведения вполне удовлетворяют этим требованиям.
Так на Сигме-3 появилась квантовая литература. Литераторы старались писать похуже, но побольше.
Создание сильных произведений стало считаться признаком творческой слабости и безразличия к здоровью читателей.
А тех, кто упрямо не хотел учиться писать слабей, просто переставали читать. Кому охота подрывать свое здоровье?
Почти одновременно с квантовой литературой возникли квантовая музыка и квантовая живопись.
Но никто не испытывал беспокойства за судьбу цивилизации на Сигме-3. Откуда могла появиться тревога, если наука и техника делали на этой планете невиданные успехи? Казалось, для них нет ничего невозможного.
И когда у провинциального фармацевта Бидла Баридла появилась одна столь же заманчивая, сколь трудно осуществимая идея, всесильная наука помогла ему претворить эту идею в жизнь.
Бидл Баридл рассуждал так. Литература и искусство оказывают на человека определенное облагораживающее воздействие. Но чтобы прочитать книгу, нужно потратить много часов. Фильм отнимает три часа. На прослушивание какой-нибудь симфонии и то целый час ухлопать надо.
Но, по-видимому, человеку необходимы эти самые ахи, раз он согласен терять на них столько времени.
Так вот, нельзя ли сделать так, чтобы потребитель получал необходимые ему ахи не в виде книг, фильмов и муз-произведений, а как-нибудь иначе? Например, в виде ахпириновых таблеток. Скажем, вместо того чтобы три часа смотреть фильм силой в 30 ахов, принимаешь пилюлю ахпирина той же силы и, получив такой же эмоциональный заряд, как от фильма, сохраняешь время, которое — деньги.
Более того, в ахпириновые таблетки можно, кроме ахов, ввести такие ингредиенты, которые, воздействуя на психику, заставляли бы проглотившего пилюлю испытывать именно те чувства, какие он испытал бы, посмотрев тот или иной фильм, прослушав то или иное музыкальное произведение и т. д.
В таком случае, каждый вид ахпириновых таблеток мог бы называться так же, как то произведение, которое они заменяют. Например, приключенческая таблетка «Торзон» или комедийная — «Спокойной ночи».
Ахпириновые таблетки могут содержать больше и меньше ахов, могут быть мажорными и минорными, с примесью легкой грусти или, наоборот, с привкусом бодрости.
Вот какую идею вынашивал фармацевт Бидл Баридл. Он понятия не имел, каким образом можно получить ахи в лаборатории. Он только знал, что на ахпирине можно неплохо заработать. И, повторяю, несмотря на все трудности, ахпирин, к сожалению, был сделан и получил самое широкое распространение.
Особых успехов сигмиане добились в изготовлении музыкальных таблеток. Вслед за примитивными таблетками, вызывавшими только одно — веселое или грустное — настроение, появились сложные комплексные пилюли. Небольшие драже ахпирина состояли из нескольких различных эмоциональных слоев. Одни слои таяли, впитывались и, следовательно, оказывали определенное воздействие быстрей, другие — медленней. А это дало возможность составлять даже четырехчастные таблетки-симфонии. Первый слой (аллегро) по мере таяния вызывал ощущение легкости, приподнятости. Второй слой (анданте) навевал неторопливые лирические раздумья. Третий (виваче) снова возвращал оживленное настроение, и, наконец, четвертый заставлял проглотившего испытывать бурную радость и веру в победу добра, что соответствовало оптимистическому финалу таблетки-симфонии.
Стало обычным творческое содружество композиторов с составителями таблеток. И все чаще одновременно с новыми музыкальными произведениями в продажу поступали одноименные пилюли-заменители. А в дальнейшем сами композиторы научились составлять рецепты музыкальных таблеток и стали свои произведения создавать сразу в виде пилюль, минуя ненужный теперь процесс написания самой музыки. И нередко можно было увидеть в парке, как молодые влюбленные, выбрав аллею потемней и проглотив по какому-нибудь концерту для фортепиано с оркестром, усаживались рядышком и, взявшись за руки, с восторгом переваривали вдохновенную музыку.
Ахпирином пользовались все.
Нашлись любители принимать музыкальные таблетки одновременно с живописными и литературными.
Нашлись и шарлатаны медики, рекомендовавшие принимать ахпирин перед едой, поскольку это способствует пищеварению, а также избавляет от радикулита.
Нашелся и выдающийся ученый, который открыл, что, если коровам регулярно подмешивать в корм музыкальные таблетки, коровы начинают давать вдвое больше молока. Когда же новый метод себя не оправдал, ученый заявил, что идея у него правильная, а в неудаче виноват не он, а композиторы, которые пишут не ту музыку, которая полезна для коров.
Но следует подчеркнуть, что изложенные здесь события произошли не в течение десяти-пятнадцати лет. Нет, от изобретения ахометра до появления ахпирина на Сигме-3 сменилось два поколения. А потом сменилось еще три поколения. И жители этой планеты уже с трудом представляли себе, что когда-то существовали не музыкальные драже, а музыка, и не литературный ахпирин, а литература.
Сигмиане почти перестали разговаривать и обмениваться мыслями, потому что рты их постоянно были заняты таблетками, да и обмениваться, в сущности, было нечем.
Доминирующую роль играл теперь желудок, где переваривались ахпириновые пилюли.
Далее, судя по всему, должно было произойти полное вырождение некогда разумных существ.
Но этого не случилось по одной простой причине, которую следовало бы предвидеть заранее. Деградировавших сигмиан спасла от необратимого вырождения сама деградация. И это не парадокс! Ведь только благодаря деградации они утратили секрет производства ахпирина. Но. правда, вместе с этим вообще забыли все, что знали и умели.
Избавившись от ахпирина, одичавшие сигмиане стали через несколько столетий постепенно приходить в себя.
Прошли века… И вот уже какой-то пещерный житель нацарапал камнем на закопченной стенке нечто похожее на охотника.
И соседи по пещере восхищенно воскликнули: «Ах!»
А в другой пещере другой дикарь совершенно непонятным образом сам выдумал легенду о богатыре по имени Ий.
И, прослушав ее, первые слушатели потрясенно воскликнули «Ах!» и попросили исполнить легенду на «бис».
А затем сигмиане научились делать оружие из бронзы. И почему-то им нравилось, если оно бывало украшено какими-нибудь завитушками. Бесполезными завитушками, от которых щит не становился прочней, а меч — острее.
Да, жители Сигмы-3 медленно, но верно двигались по узкой тропинке прогресса…
А тропинка становилась все шире, шире, превращаясь в широкую, уходящую вдаль дорогу…
И когда-нибудь они снова научатся всему, что умели прежде. И откроют, что давным-давно на Сигме-3 существовала высокая цивилизация. И станут их ученые гадать, почему эта цивилизация исчезла, и выдвигать самые смелые и невероятные гипотезы.
Одни будут говорить, что цивилизация погибла из-за космической катастрофы. Другие — что ее смыл всемирный потоп или стерли с лица планеты ледники.
И никто не подумает, что эту цивилизацию, могучую и всесильную, погубили какие-то ахи.
Я копаюсь в исторических документах и думаю: открыть мне этак лет через тысячу сигмианам всю правду или не стоит?
Нет, пожалуй, стоит. Ведь все может повториться снова. И нельзя быть уверенным, что деградация опять спасет их.
РОБНИКИ
«Заседание ученого совета окончилось поздно вечером, и теперь старый профессор медленно шел по тихим институтским коридорам. Кое-где в лабораториях еще горел свет, и за матовыми стеклами мелькали тени студентов и роботов.
В сущности, вся жизнь старого профессора прошла в этом здании. Учился, преподавал, затем стал директором… Наверное, когда-нибудь институт станет носить его имя. но профессор надеялся, что это случится не так скоро…
Он шел и думал о том споре, который опять разгорелся на ученом совете. Спор этот возникал не в первый раз, и, по-видимому, кто прав и является ли то, что происходит сейчас со студентами, всего лишь модным увлечением или это нечто более серьезное, могло решить только время.
Профессору очень хотелось, чтобы это было просто очередной причудой.
Трудно сказать, когда и как это началось. Примерно лет пять назад. Вначале это нелепое стремление студентов во всем походить на роботов только смешило и раздражало. Молодые люди, называющие себя робниками, стали говорить о себе, как о кибернетических устройствах: «Сегодня я запрограммирован делать то-то и то-то». «Эта книга ввела в меня примерно столько-то единиц новой информации…»
Потом они научились подражать походке и угловатым движениям роботов, приучились смотреть не мигая, каким-то отсутствующим взглядом, и лица их стали так же невыразительны и бесстрастны, как плоские лица роботов.
Конечно, любая новая мода всегда кого-то раздражает. Профессор хорошо помнил, как лет пятьдесят назад молодые ребята, и он в том числе, подражая битникам, начали отпускать бородки и бороды.
А до этого в моде были прически а-ля Тарзан.
А теперь принято сбривать растительность и на лице и на голове, потому что у роботов, видите ли, нет волос.
Но не это тревожило профессора.
Теперь считалось по меньшей мере старомодным веселиться и грустить, смеяться и плакать; проявление каких бы то ни было чувств настоящие робники объявляли дурным тоном.
— В наш век, — говорили они, — когда мы в состоянии смоделировать любую эмоцию и разложить лабораторным путем на составные части любое чувство, до смешного несовременны и нерациональны сантименты.
А прослыть несовременным или нерационально мыслящим — на это не осмелился бы ни один робник.
Всеми поступками робников руководил разум. Нет, впрочем, не разум, а что-то гораздо менее значительное — рассудок, рассудочность, рассудительность.
Робники хорошо учились, потому что это было разумно.
Робники не пропускали лекций, потому что это было бы неразумным.
Раз в две недели, по субботам, робники устраивали вечеринки, пили, танцевали и, разбившись на пары, уединялись. Мозгам, этой несовершенной аппаратуре, нужен был отдых.
Робники интересовались только наукой, потому что это было современно.
Логика и математика. Будем как роботы!
Так что это — мода или нечто пострашней? И если это только мода, то почему она так долго держится?..
— Я не могу без тебя, понимаешь, не могу! — услыхал вдруг профессор чей-то взволнованный голос. — Когда тебя нет, я думаю о тебе, и мне становится радостно, как только я вспомню, что мы встретимся. Я не знаю, как назвать свое состояние. Мне и грустно и хорошо оттого, что грустно. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Конечно, милый…
«Э, нет, — обрадованно подумал профессор, — есть еще настоящие чувства и настоящие люди!» И это наполнило его такой благодарностью к тем, чей разговор он нечаянно подслушал, что он не удержался и заглянул в лабораторию, из которой доносились голоса. В лаборатории никого не было, кроме двух роботов. Старый профессор покачал головой и закрыл дверь. Он совсем забыл об этой распространившейся среди роботов дурацкой моде: роботы старались подражать теперь всем человеческим слабостям.
СОМНАМБУЛА
Издатель ежедневного научно-фантастического журнала «Сомнамбула» пожилой, но еще вполне фиолетовый дер Эссе торопливо досыпал последний эпизод нового сюжета… Едва открыв глаза, он сразу подумал о том, чтобы его соединили с автором, прославленным фантастом дер Эллл. — Боюсь, дер Эссе, это будет не так просто, — подумала в ответ еще совсем голубая секретарша дас Эррр. — Дер писатель предупредил, что отправляется отдыхать на луну, но не уточнил, на какую именно. — Боже мой, Эр, неужели вы не знаете теории вероятности? — Конечно, знаю. — Ну вот и примените ее на практике! — сердито подумал издатель и отключился.— Дер Эллл внимает! — уловил он через несколько минут мысль секретарши. — Отлично. Соединяйте. — Здравствуйте, дер Эссе! — подключился писатель. — О, дер Эллл, рад принимать ваши мысли. Как отдыхаете? — Благодарю вас, на одиннадцатой луне чудесная погода. Я чувствую, вы уже проспали мой сюжет? — Проспал, дорогой мой, проспал. Вы же знаете, что ваши произведения я сплю вне очереди. Но должен признаться, ваш новый сюжет меня несколько озадачил. — Почему? — удивленно подумал фантаст. — Разрешите, дер Эллл, я буду с вами откровенен. — Издатель знал, что у фантаста была одна маленькая причуда: он терпеть не мог фамильярности и никому, кроме своих матерей и отцов, не позволял называть себя запросто Элл, а тем более Эл. Поэтому старый издатель называл его полным именем — Эллл. — Я хотел бы, дер Эллл, поделиться некоторыми сомнениями. — Внимаю. — Мы сотрудничаем с вами не первый год, и, надеюсь, вы не можете упрекнуть меня в нетерпимости, косности или консерватизме. — Ни в коей мере! — Так вот, я считаю, что в любом самом фантастическом произведении должна быть логика. — А разве в моем сюжете… — начал было думать писатель, но Эссе тут же мысленно перебил его: — В том-то и дело. Я понимаю, что события, описанные вами, происходят не в нашей Солнечной системе, а, возможно, и в другой галактике. Я понимаю, что придуманные вами разумные существа могут совершенно не походить на нас. Но ваши эти… Как вы их называете, ничевоки?.. — Человеки… — Да. да, человеки… Неожиданное название, мне нравится!.. Так вот, если бы человеки выглядели так, как вы их описываете, они должны были бы в процессе эволюции погибнуть, едва появившись на свет. — Почему? — Да потому, что выживают сильнейшие. А вы, как нарочно, сделали человеков совершенно беспомощными и беззащитными. Посудите сами. У каждого человека всего по два органа зрения, и оба почему-то расположены в одной плоскости, на передней стороне так называемой головы. Этого не может быть! Откуда ваши человеки знают, что у них происходит сзади? У них же совершенно не защищен тыл, и этого одного достаточно, чтобы погибнуть. Дальше. Человеки создают орудия труда. Создают при помощи верхних конечностей. Так? — Да. — Но вспомните, когда нам приходится строгать, сверлить или заколачивать гвозди, мы это делаем как минимум двумя верхними конечностями, держа остальными обрабатываемый предмет. А ваши человеки располагают всего двумя верхними конечностями, и этого слишком мало, чтобы заниматься полезным трудом. Далее. Как известно, для устойчивого положения любое тело должно опираться хотя бы на три точки. А ваши существа опираются только на две точки, и, значит, самый слабый удар может их сбить с нижних конечностей. Итак, всего два органа зрения, всего одна пара верхних конечностей и одна пара нижних. Это неожиданно, изобретательно, но совершенно неправдоподобно… Однако, дорогой дер Эллл, не это меня смущает. — А что же, в конце концов? — раздраженно подумал фантаст. — А вот что. На придуманной вами планете есть довольно развитая цивилизация… Но согласитесь, для того чтобы существовала какая-нибудь цивилизация, какое-нибудь общество, члены этого общества должны общаться друг с другом, обмениваться информацией и так далее… — Бесспорно. — Но для этого между ними должна быть постоянная связь. А ваши человеки отключены друг от друга, и, следовательно, общение исключается. — Да нет же, они общаются друг с другом. — Простите, как же они могут общаться, если между ними нет телепатической связи? — Но вы можете допустить, что в иных мирах существует другой вид связи, не телепатический? — А какой? — Дер Эссе, вы ведь читали мой сюжет. Там ясно показано, что человеки разговаривают. Разговор — это и есть общение посредством акустической связи. — Нет, дер Эллл, согласитесь, это несерьезно. Ну что это за общение — разговор?! И, честно говоря, я не очень-то разглядел, как акустическая связь действует. — Я постараюсь объяснить. Представьте себе, что у каждого из нас есть орган речи и орган слуха. Для того чтобы передать вам информацию, я превращаю свою мысль в слова и затем при помощи органа речи сотрясаю этими словами воздух. В результате возникают звуковые волны, которые, распространяясь, попадают в ваш орган слуха. Оттуда, снова превратившись в слова, переданная мною информация поступает в ваш мозг. Ваш мозг перерабатывает информацию, и вы отвечаете мне, в свою очередь сотрясая воздух и создавая звуковые волны, которые, превращаясь… — Боже мой, сколько превращений! Видите, до чего сложна эта гипотетическая акустическая связь! — Устав от напряжения, дер Эссе взял сигару и похлопал себя по карманам в поисках спичек… — Прошу вас. — предложил дер Эллл, и в руке издателя появилась плоская серебристая зажигалка, телепортированная писателем с далекой луны. — Благодарю. — Дер Эссе прикурил и, телепортировав зажигалку обратно писателю, повторил: —Да, невероятно сложная штука то, что вы называете разговором. И абсолютно ненадежная. Мы с вами обмениваемся непосредственно мыслями, и то иногда вы не улавливаете мою мысль, а я вашу. Или из-за каких-нибудь атмосферных помех мысли собеседников доходят до нас в искаженном виде. А вы представляете себе, до какой степени должна искажаться мысль при акустической связи? Да только из-за одних превращений мысль исказится до неузнаваемости. А этого достаточно, чтобы какой-либо обмен мыслями с помощью разговора был практически невозможен. — Я не спорю, телепатическая связь проще и надежней, — подумал дер Эллл. — Но вы можете допустить, что человеки не умеют пользоваться телепатической связью? — Я не совсем представляю себе, что тут нужно уметь. Но если человеки этого не умеют, значит, их попросту нет. — В каком смысле — нет? — В самом прямом. Я вам уже доказал, что при акустической связи нормальное общение разумных существ невозможно. А там, где нет общения, — нет общества. А где нет общества — не может быть цивилизации. А без цивилизации — цивилизованных существ, которых вы называете человеками, тоже, конечно, не может быть. Согласны? — Но я же пишу не научный труд, а фантастическое произведение! — Конечно. Однако почему вас так любят ваши почитатели? Потому что наряду со смелым полетом неуемной фантазии ваши сюжеты всегда отличались еще и убедительной достоверностью и странным правдоподобием. В последнем сюжете этого нет. — Что же вы мне советуете? — О, не мне вам давать советы, дорогой дер Эллл! Но я уверен, что, если вы согласитесь поработать еще, сюжет станет намного лучше.
* * *
Через несколько дней сюжет был доработан и выпущен в свет. У странных разумных существ, названных фантастом человеками, были четыре пары органов зрения (одна пара спереди, одна сзади, одна вверху и одна внизу), также они имели три пары верхних конечностей и две пары нижних. Общались эти человеки с помощью телефонопатической связи, отличающейся от естественной телепатической только наличием проводов. А любители фантастики с упоением читали новый сюжет и восхищенно думали друг другу: — И как, черт возьми, этот Эллл добивается такой достоверности? Честное слово, иной раз кажется, будто дер Эллл сам побывал на той планете, где живут эти… как их… человеки.
ОДИНОЧЕСТВО
— Понимаете, — сказал он, закуривая сигарету. — мне просто хочется с вами поговорить…
— Я очень рада, — ответила она. — Мне всегда приятно разговаривать с вами.
— Понимаете, когда в старости остаешься один, вдруг оказывается, что не с кем поговорить. Все, кроме меня, куда-то торопятся, все заняты, дорожат каждой минутой и уж, во всяком случае, не станут ни с того ни с сего заниматься разговорами, поболтать не о чем. — Он помолчал. — Ну вот с погодой, например, творится что-то неладное…
— Да, да, — подхватила она. — Все дожди, дожди.
— Или хоккей. Если дальше так пойдет, я просто перестану включать видеовизор. Не понимаю, что стало с хоккеем?
— Просто ужас! — согласилась она. — Вы болеете за «Викторию»?
— За этот детский сад? — он даже обиделся. — Я, дорогая моя, вот уже сорок лет признаю только «Голубых Дьяволов»!
— О господи, я тоже! — обрадовалась она.
— А Красавчик? Вы помните, как играл Красавчик? — Он покачал головой. — Нет, таких Дьяволов больше не будет никогда!
— Никогда! — согласилась она. — Я слышала. Красавчик открыл бар?
— Да, все мы стареем! — вздохнул он. — Дети разъехались… Зачем я им? И что ждет меня впереди? Больницы, болезни…
— Ах, зачем так мрачно смотреть на жизнь? — сказала она. — Я уверена, у вас впереди еще много хорошего…
— Ерунда! Все это слова! Что у меня может быть хорошего?
— Да что угодно! Ну, например… — начала она и вдруг умолкла.
Под потолком замигала красная лампочка. И затем вежливый мужской голос механически четко произнес: «К сожалению, ваше время истекло. К сожалению, ваше время истекло. Электрона благодарит вас за приятную беседу».
Старик вышел из разговорного салона и чертыхнулся. Сколько раз он клялся, что никогда больше не придет сюда изливать душу перед дурацкими машинами. Ведь с таким же успехом, и к тому же бесплатно, он мог бы разговаривать у себя дома с пылесосом или холодильником. Но, правда, холодильник ничего, кроме «Да. хозяин» или «Нет. хозяин», не говорил, а Электрона все-таки поддерживала разговор. И голос у нее был почти человеческий и с человеческими интонациями. Старик заметил даже, что в последнее время голос Электроны стал еще теплей. Она умела имитировать сочувствие и помнила постоянных клиентов. Особенно та, с которой разговор стоил пятнадцать монет… И все равно даже самая дорогая Электрона в салоне была всего лишь машиной. Хотя, конечно, во время разговора это как-то забывалось. Да и с кем еще поговорить? Кто еще стал бы тратить на пустую болтовню время?
И почему еще с утра он почувствовал, что это проклятое одиночество становится невыносимым? Смешно вспомнить, он даже подумал, а не заговорить ли с соседом, когда тот старательно подстригал свой газон. Двадцать лет они жили рядом, их небольшие стандартные домики отделяла только невысокая живая изгородь. Двадцать лет они вежливо раскланивались, но, разумеется, никогда не разговаривали друг с другом. И старик понял, что заговорить первым не решится. Кстати, сосед тоже немолод и, кажется, живет один… Почему же он не чувствует одиночества? Может, ему помогает Соломка? Да, вероятно Соломка. Конечно, Соломка! «И черт с ним, — подумал старик. — что я дал слово никогда больше не употреблять это пойло. Кому оно нужно — мое слово? Я должен сейчас же поговорить с кем-нибудь! И раз мне может помочь только Соломка, пусть будет так!»
…Зал был разделен на крохотные кабинки. Если смотреть сверху, он напоминал пчелиные соты. В каждой кабинке находился столик и один стул. Именно один! В этом заключалась вся прелесть Соломки!
— «Черную корову», — сказал старик официанту и уже вдогонку крикнул: — Двойную!
Он торопливо проглотил горьковатую жидкость и блаженно зажмурился.
— Вы разрешите? — раздался тихий приятный голос. Он открыл глаза. Перед ним стоял вежливый пожилой человек.
— Я вам не помешаю?
— Что вы, что вы! Ради бога. Официант, стул.
— Благодарю. А то, знаете ли, все занято… — сказал незнакомец, присаживаясь.
— Вы меня нисколько не стесняете. Напротив. Мне весь день хотелось с кем-нибудь поговорить.
— К вашим услугам, — старомодно ответил незнакомец. — Если я вам могу помочь…
— Нет, нет, я не о делах хочу поговорить, а просто так, поболтать обо всем понемногу…
— Я обожаю болтать обо всем понемногу. Это моя слабость… Кстати, вам не кажется, что последнее время с погодой творится что-то неладное?
— Да, да, все дожди, дожди! — подхватил старик.
И они стали говорить о погоде, о хоккее — причем выяснилось, что они оба болеют за «Голубых Дьяволов», — о Красавчике, о старости, о взрослых детях и одиночестве…
— Я не знаю, зачем я живу, — признался старик. — Что ждет меня? Болезни, больницы?..
— Вы, друг мой. слишком мрачно настроены. — мягко возразил собеседник. — Поверьте мне. у вас впереди очень много хорошего!
— Ах, это все только громкие слова! — махнул рукой старик. Ему очень хотелось, чтобы его утешили и сказали, мол, все не так страшно. — Что лично у меня может случиться хорошего? Ну, например?
— Ах, друг мой, я ведь старше вас, и могу заверить, что… — с уверенностью произнес незнакомец и тут же начал быстро таять и расплываться, становясь бесформенным и прозрачным…
Да, Соломка была волшебным напитком! Стоило осушить хотя бы рюмку этого зелья, и воображение тотчас усаживало рядом собеседника, так необходимого каждому выпившему человеку. Собеседник мог быть веселым или грустным, добродушным или сварливым, сочувствующим или, наоборот, требующим сочувствия к себе. Все зависело от той марки напитка, которую вы для себя выбрали.
И, конечно, заказывая «Черную корову», старик знал, что появится приятный пожилой собеседник. Знал, что разговор, к сожалению, будет недолгим. Разумеется, можно было выпить еще, и все началось бы сначала. Но старику внезапно захотелось поразвлечься, и он заказал «Трепача Джона».
Новый собеседник отличался прокуренным раскатистым басом и таким красным носом, что алый отблеск от него падал на стены и все предметы вокруг тоже начинали казаться розовато-красными… Едва появившись, Джон, заливаясь хриплым смехом, с ходу стал рассказывать анекдоты. Он до того рассмешил старика, что тот сразу же, не дожидаясь исчезновения весельчака, поспешил заказать вторую порцию «Трепача» и проглотил ее, не смакуя. Но странное дело: рядом с хохочущим толстяком вдруг появился тощий благообразный человек в пасторском облачении.
— Слушаю вас, сын мой, — сказал пастор. — Что смущает вас? Что мучает совесть вашу?
— Черт подери! Официант! — закричал старик. — Что за отраву ты мне подсунул? Разве я заказывал этого попа?!
— О, тысяча извинений, — растерянно забормотал официант. — Вероятно, я спутал и вместо «Трепача» принес «Белую ромашку». Тысяча извинений. Вот ваш «Трепач».
Старик отхлебнул из бокала. Однако действие «Трепача» смешивалось с «Ромашкой». В результате за столом сидели и пастор, и Джон. Разговор не клеился, и красноносый весельчак, явно скучая, ждал, когда он сможет исчезнуть из этой нудной компании.
А затем было все: и «Розовый гвоздь», и «Лунная соната», и даже «Голубой верблюд»… Из-за несходства темпераментов воображаемые собеседники затеяли громкую свару, совершенно не обращая внимания на старика. И он знал, что теперь от их крика у него будет завтра весь день трещать голова.
Потом он оказался на улице. Вечерняя толпа подхватила его. понесла, и он очутился в каком-то парке. В небе медленно плыли фиолетовые луны и пышно распускались разноцветные звезды. Старик долго сидел на скамейке, то засыпая, то пробуждаясь. Желто-розовое созвездие Большой Медведицы поднималось все выше, и каждый раз, открывая глаза, старик пытался вспомнить, есть ли такая Соломинка «Большая Медведица» и какого она вкуса.
— Не помешаю? — послышался чей-то голос. Старик от неожиданности вздрогнул. Возле скамьи стоял, опираясь на палку, какой-то пожилой человек.
— Кто вы? — удивился старик. — Я вас не заказывал.
— Вы разрешите присесть?
— Садитесь, но я вас не заказывал! — сердито повторил старик. — Как вы называетесь? «Черная корова», «Розовый гвоздь»? Или, может, вы и есть «Большая Медведица»?
— Вы меня не так поняли, — сказал незнакомец, присаживаясь. — Я не Соломинка. Я живой обыкновенный человек.
— О черт! Я не заказывал никакого живого человека! Да, я позволил себе сегодня Соломинку. Мне хотелось хоть с кем-нибудь поговорить… Ну и что? Имею я право поболтать. в конце концов?
— Господи, неужели вам действительно хотелось поговорить? — обрадовался незнакомец. — Вы не поверите, но мне тоже просто необходимо с кем-нибудь живым отвести душу! Если вы не торопитесь, я прошу вас — побудьте со мной. Поговорим, поболтаем…
— Но я не заказывал вас! — крикнул старик. — Мне надоело! Вы каждый раз исчезаете, и я опять остаюсь один! Мне надоело! Я ухожу!
Старик вскочил и сразу же смешался с толпой. А шумная толпа все текла мимо оставшегося на скамье незнакомца. чужая, как фиолетовые луны и разноцветные созвездия.
«Боже, боже мой! — подумал незнакомец. — Неужели я на всей планете совсем один? И никто не хочет просто поговорить со мной? Как человек с человеком?»
ПЯТАЯ СЛЕВА
I
Координатор третьего ранга Эйби Си прибыл в ставку последним. Корабли других координаторов уже стояли на космодроме. И в этом не было ничего удивительного: планета Уна, где работал Эйби, была самой отдаленной, а приказ явиться к Главному пришел совершенно неожиданно. Откровенно говоря, координатор не любил и опасался всяких внеочередных вызовов. Каждый раз он ждал серьезных неприятностей. И хотя все пока обходилось, для опасений основания были. Да и пять месяцев в пути тоже небольшая радость. Правда, почти весь полет координатор проводил в состоянии искусственного анабиоза. Но этот анабиоз, который любой другой астронавт переносил без всяких последствий, для Эйби неизменно кончался простудой. Вот и сейчас он не переставал чихать весь путь от космодрома до штаба. Нет, координатор не жалел, что его планета находилась так далеко от Центра. По крайней мере это избавляло его от проклятых инспекций. Да и сам Главный последний раз посетил Уну лет полтораста назад. Но, постоянно живя на отшибе, Эйби Си почти не продвигался по службе и, несмотря на двухсотлетний стаж, все еще ходил в третьем ранге. А какие-то столетние щенки успевали за это время отхватить второй ранг и подбирались к первому. Впрочем, нельзя сказать, что Эйби Си был на плохом счету у начальства. Многие даже удивлялись, почему он не хлопочет о повышении. Но он-то знал почему и мечтал только об одном: чтобы ничего не случилось. А случиться могло все… Прилетая в ставку, Эйби чувствовал себя неловким провинциалом. Встречаясь с младшими по чину щеголеватыми штабистами, он первым отдавал честь. Расшитый золотом мундир, придававший другим координаторам такой подтянутый и гордый вид, на нем почему-то выглядел помятой домашней курткой. Впрочем, может быть, ему это только казалось… Обычно до начала совещания он успевал со всеми переговорить и узнать последние новости: выяснить, зачем их собрал Главный; уточнить, какое у Главного настроение; разобраться, откуда дует ветер; убедиться, нет ли каких-нибудь новых веяний, — короче говоря, войти в курс. Но на этот раз времени для выяснения обстановки не оставалось. Когда Эйби Си приехал в штаб и вошел в квадратный зал, где обычно проходили совещания, координаторы уже сидели вдоль стен (каждый на соответствующем его рангу месте) и в полном молчании ожидали Главного. Едва Эйби успел занять свое постоянное место и громко чихнуть, появился Главный координатор Дабл Ю. Присутствующие вскочили и согласно уставу три раза дружно хлопнули в ладоши. Дабл Ю небрежно хлопнул в ответ и устало опустился в кресло, после чего расселись и все остальные. — Господа координаторы. — тихо сказал Главный, — мне очень жаль, что пришлось оторвать вас от работы. Как вы, вероятно, успели убедиться, я не любитель ненужных совещаний. Только крайне неприятное происшествие заставило меня срочно вызвать вас всех в ставку. Я бы даже назвал это не происшествием, а событием или, если хотите, скандалом в космическом масштабе! Координаторы согласно закачали головами. По-видимому, все, кроме Эйби Си, были уже в курсе. И Эйби, недоумевая, тоже на всякий случай сокрушенно покачал головой и чихнул. Все посмотрели в его сторону. И туг ему стало страшно. «Неужели узнали?» — тоскливо подумал он. — Операция, которую мы проводим в этом районе галактики, — продолжал Главный, — самая грандиозная изо всех космических операций, когда-либо проводившихся нашей родной планетой Озой. Согласно уставу при упоминании Озы координаторы дружно вздохнули, что должно было свидетельствовать о любви к далекой родине. — Но хочу напомнить, что эта самая смелая операция также и самая дорогостоящая. Не один сикстильон мерок вложили озияне в это дело и не первую сотню лет ждут, когда, наконец, за расходами последуют доходы. А это, как известно, произойдет только тогда, когда обитатели вверенных нам планет смогут покупать наши товары. Двести лет мы делали все. чтобы ускорить развитие наших подопечных. И теперь, когда аборигены одной из планет — я имею в виду Микс — оказались у нашей заветной цели и вот-вот должны были начать приносить доходы, — именно теперь по недосмотру координатора на планете вспыхнула бактериологическая война, в результате которой пропали и их цивилизация, и наши капиталовложения. Причем вирус, уничтоживший на Миксе все живое, настолько устойчив и опасен, что даже мы не можем без риска для жизни опуститься на эту планету. Микс потерян для нас навсегда. Вот, господа, что доложил мне ответственный за эту катастрофу координатор первого ранга Эксвай Зет. Эйби Си с облегчением откинулся на спинку кресла. Это было не то известие, которого он больше всего боялся. В первый раз за все время он решился поднять глаза. Но, увидев мрачные лица обычно самоуверенных и бесстрастных координаторов, он понял, что эта неприятность обязательно повлечет за собой другие, и тоскливое предчувствие снова овладело координатором третьего ранга.II
Триста лет назад, когда Эйби Си был еще студентом, космическая разведка Озы обнаружила на самом краю галактики пятнадцать планет, населенных разумными существами. Планеты располагались в трех смежных звездных системах, а их обитатели, как и жители Озы, были гуманоидами, но находились в начальной стадии развития. Ученые Озы, внимательно изучив доклад космической разведки, заявили, что вновь открытые гуманоиды развиваются чрезвычайно быстро и уже через восемьсот-девятьсот лет с наиболее развитыми цивилизациями можно будет установить контакты. А спустя двадцать-тридцать тысячелетий, глядишь, и остальные цивилизации станут вполне коммуникабельны. Вот тут-то Президент Озы — Джи Эйч — и выдвинул свою фантастическую идею. — Обитатели далеких планет являются не только нашими младшими братьями по разуму, которым мы обязаны помочь. Они являются также потенциальными покупателями наших товаров. И чем скорее они превратятся из потенциальных покупателей в реальных, тем лучше будет и для нас, и для них. А достичь этого можно только одним способом: мы должны искусственно ускорить развитие наших младших братьев и тем самым помочь прогрессу. Незаметно для опекаемых мы станем оберегать их от ошибок. Мы не дадим им тратить время на долгие поиски и будем исподволь подсказывать готовые ответы. Никаких поисков — только находки! Никаких ошибочных теорий и гипотез — только проверенные временем истины! Эту идею Президент изложил в своем послании высшим органам Озы — Сенату и Парламенту. Незадолго до этого по предложению того же Президента консервативный Парламент был пополнен прогрессивно настроенной молодежью. Поэтому Законопроект о помощи младшим братьям Парламент принял почти единогласно. В Сенате же произошел раскол, разделивший сенаторов на лиловых, выступавших за проект, и сиреневых, голосовавших против. Однако лиловые победили. И в дальнейшем сиреневые всегда находились в оппозиции ко всему исходившему от лиловых. В течение двадцати лет после принятия закона были написаны подробнейшие инструкции, предписания, установки и рекомендации, касающиеся работы космической экспедиции в целом. Затем были разработаны детальные расписания и календарные графики ускорения процесса исторического развития для каждой планеты в отдельности. Все вместе составляло многотомный Сборник Основных Правил (СОП) и еще более обширный Сборник Исключений Из Правил (СИИП)[4]. Потом сформировали по числу опекаемых планет пятнадцать отрядов (по две тысячи обучителей в отряде), прикрепили к отрядам начальников-координаторов, подчинявшихся одному Главному Координатору. И вот уже космическая экспедиция, прибыв к месту назначения, начала действовать. У каждого отряда была своя висевшая высоко над планетой космическая станция, корабль для межзвездных полетов и дюжина небольших ракетопланов, поддерживавших сообщение между станцией и планетой. Обучители, рассеявшись по планете, подсказывали туземцам всевозможные прогрессивные идеи. А так как младшие братья не должны были подозревать, что их насильно цивилизуют, обучителям приходилось притворяться местными жителями, жить в пещерах, терпеть ужасные бытовые условия и работать в обстановке строжайшей конспирации. На более развитых планетах жить было легче, а маскироваться трудней. И не один обучитель стал жертвой собственной неосторожности. Идеи следовало подсказывать только в той последовательности, которую предписывали СОП и СИИП. А всякая самодеятельность, прикрывавшаяся именем инициативы, не одобрялась, ибо составители Основных Правил (а составляли их главным образом электронные аппараты) лучше знали, как нужно действовать в том или ином случае. Ежегодно координаторы отправляли подробные отчеты Главному Координатору, пересылавшему эти отчеты на Озу. А раз в десять лет начальники отрядов собирались в ставке, где лично докладывали о достижениях и неудачах. Как выяснилось в первое же столетие, одни цивилизации поддавались ускоренному развитию легче, другие — трудней. Например, планета Микс по науке и технике сначала занимала только пятое место. Но затем благодаря усилиям обучителей и координатора Эксвай Зета миксиане резко набрали темп и за сто лет обогнали все другие планеты, опередив сроки календарного графика ускоренного развития почти на полтора столетия. Опекавший эту планету координатор Эксвай Зет. естественно, считался лучшим координатором. Благодаря его успехам сиреневая оппозиция на Озе присмирела, и даже отдельные неудачи на некоторых других планетах не могли поколебать лиловых. Авторитет координатора был так велик, что однажды Эксвай просто-напросто выгнал прилетевшую с Озы инспекцию. И после того как такая неслыханная выходка сошла ему с рук, никто не рисковал прилетать на Микс без приглашения. Но зато Эксвай Зет поклялся, что Микс будет первой планетой, с которой удастся установить торговые отношения. И все понимали: такая победа окончательно доконает сиреневых. Эксвай докладывал, что, по сведениям обучителей, миксиане уже знают о существовании других населенных миров и совсем не прочь установить с ними связь. В последний раз Эксвай сообщил, что первая официальная встреча с миксианами произойдет через каких-нибудь десять лет, а торговый договор будет подписан через пятнадцать. На подписание договора он приглашал всех своих коллег и большую делегацию с Озы. Но Главный настойчиво попросил координатора ускорить события хотя бы в два раза, и Эксвай Зет вынужден был согласиться. До вновь намеченного срока оставалось всего четыре года. И вдруг такая неприятность — война!..III
— Координатор Эксвай Зет, я жду ваших объяснений! — мрачно проговорил Главный. Координатор первого ранга встал и, глядя куда-то в угол, неторопливо выбирая слова, ответил: — На вверенной мне планете Микс действительно произошла непоправимая катастрофа. Поскольку эта планета находилась под моей опекой, я отвечаю за погибшую цивилизацию и готов понести любое наказание. Но в то же время считаю необходимым заявить, что не считаю себя виновным, ибо не нарушал ни Основных Правил, ни Исключений. — То есть как это вы не чувствуете себя виновным? — встрепенулся Главный. — Хорошенькое дело! А кто научил миксиан делать ядерные бомбы? Я, что ли? — Никто их не учил. Они сами научились. — Вот как? — Да, именно так. Согласно 10253-му и 12547-му параграфам СОП мои обучители подсказали миксианам основы ядерной физики и квантовой механики. А потом мы и оглянуться не успели, как у миксиан появились бомбы. — Во-первых, надо успевать оглядываться — это ваша прямая обязанность! А во-вторых, почему вы эти бомбы не изъяли? — Потому что параграф 1121-й запрещает нам выдавать свое присутствие. И разрешите напомнить, что в докладной записке за номером 217342/343 я информировал вас о появлении на планете бактериологического оружия. Я также сообщал вам, что из-за невероятно ускоренного развития техники миксиане не успевают осмыслить происходящего и воинственные инстинкты у них сильнее инстинкта самосохранения. Учитывая вышеизложенное, я спрашивал, не стоит ли на время искусственно притормозить прогресс, как разрешается 668-м исключением из 123-го правила. На это вы совершенно справедливо заметили. что согласно 6699-му параграфу данное исключение становится правилом только после соответствующего решения Сената. А обратиться в Сенат мы не можем, потому что подобная просьба была бы на руку сиреневым, по-прежнему выступающим против нашей экспедиции! Координатор, как всегда, говорил обстоятельно и гладко. Эйби Си даже позавидовал его выдержке. Случись с ним такая история, он стал бы заикаться, мямлить и плести бог знает что. А впрочем, может, он, Эйби, находится в еще худшем положении. Во всяком случае, в более унизительном и жалком, хоть этого никто до поры до времени не знает. — Да. именно так я ответил на ваш запрос. — подтвердил Главный. — Мы и без этого достаточно помогали сиреневым. Вспомните хотя бы позорный случай на Люксе. Все шло по графику. Научили туземцев полезным ремеслам и наукам. Подняли на небывалую высоту искусство. Расцветай — не хочу! А дальше? Дальше почили на лаврах и прозевали, как на Люксе наступило мрачное средневековье. Пока спохватились, люксиане опустились так, что потом пришлось черт знает сколько времени тратить на возрождение! Что это, если не плоды безответственности и халатности?! Подобный случай действительно имел место лет сто назад. Но Главный не упускал возможности напомнить об этом курьезном событии. И каждый раз говорил так, будто оно произошло только вчера.Далее шеф припомнил еще несколько подобных хрестоматийных примеров. А Эйби, всем своим видом демонстрируя необычайный интерес к этим набившим оскомину рассказам, стал от скуки рассматривать висевшие напротив него картины. Картин в этом зале было штук двадцать. Но с того места, где сидел Эйби, можно было, не поворачивая головы, увидеть только пять из них. Двести лет во время очередных и внеочередных совещаний в ставке Эйби сидел на одном и том же соответствующем его рангу месте. Двести лет он видел на противоположной стене одни и те же полотна, посвященные определенным историческим вехам в идеально правильно развивающемся обществе. Работая над этими произведениями, художники, по-видимому, черпали конкретные знания и вдохновлялись соответствующими параграфами СОП и СИИП. Поэтому полотна отличались глубиной и точностью вышеупомянутых документов. На первой картине слева — пещерные жители, сидя у костра, с аппетитом уписывали какого-то доисторического зверя. На второй — избранный общиною пастух стерег, опершись на посох, тучное стадо свежезавитых овечек. Третья картина посвящалась трудовым будням древних творцов бронзового оружия. На четвертой маленькие смуглые люди возводили огромные пирамиды. А пятая картина красочноизображала рабовладельческий строй в полном расцвете. Вот эту картину Эйби с удовольствием бы вынул из рамы. разрезал на мелкие куски и сжег, а пепел развеял по ветру! Каждую ночь он видел ее во сне и каждый день вспоминал наяву. Ведь согласно календарному графику ускорения на его планете Уне рабовладельческий строй должен был как раз достигнуть наивысшей точки. Ученым и философам полагалось уже сделать ряд великих открытий, а на месте древних патриархальных поселений надлежало вырасти богатым, шумным городам. И согласно отчетам Эйби Си дела на Уне обстояли именно так, как предписывалось календарным графиком ускорения. Были и города, и ученые, и открытия, и расцвет! Все было! Но, увы, только в отчетах. Невежественные обитатели Уны не признавали никаких ускоренных темпов развития и даже не думали расставаться с милым их сердцу матриархатом. А тех, которые предлагали какие-нибудь новшества, младшие братья по разуму сбрасывали с высокой скалы в море. Этот обряд служил для не избалованных массовыми зрелищами туземцев развлечением, а для любителей новшеств являлся поучительным предостережением. И две тысячи обучителей из отряда Эйби едва-едва уговорили унян перейти от матриархата к патриархату. Да и то не было никакой уверенности в том, что при первых же неудачах в реорганизованном обществе туземцы не вернутся к привычному образу жизни. Координатор совершенно не представлял, что ему делать с неподатливыми, трудновоспитуемыми туземцами. Конечно, лет сто пятьдесят назад он еще мог бы честно доложить Главному, что Уна — безнадежная планета. Но Основные Правила гласили, что нет плохих планет, а есть плохие координаторы. И в результате честного признания Эйби Си, несомненно, лишился бы своей высокой должности. Нет, на это у него просто не хватало мужества. И он составлял благополучные отчеты, в которых развитие общества на Уне шло в полном соответствии с СОП и, чтобы не вызывать подозрений, то чуть-чуть опережало календарный график ускорения, то немного отставало от него. А для пущей достоверности координатор щедро разбрасывал по страницам отчетов выдуманные им характерные детали и трогательные подробности из жизни своих подопечных. Более ста лет Эйби Си составлял обширные отчеты, свидетельствовавшие о том, что он обладал незаурядным воображением и мог бы стать неплохим писателем-фантастом. Литературную отточенность и завершенность его отчетов неоднократно ставили даже в пример другим координаторам. И хоть Эйби не знал об этом, на Озе его докладные записки пользовались большой популярностью в кругах ученых-историков. Но чем больше Эйби Си хвалили, тем хуже он себя чувствовал и, ежедневно ожидая разоблачения и скандала, продолжал свою аферу. В глубине души он даже хотел, чтобы скандал разразился поскорей, и в то же время делал все для отдаления неизбежной развязки. Занятый своими печальными мыслями, Эйби почти не слушал Главного. Время от времени он улавливал отдельные фразы и машинально отмечал, что шеф все еще продолжает приводить исторические примеры нерадивости координаторов и их подчиненных. Но вдруг он услыхал то, что сразу заставило его насторожиться. — Как и следовало ожидать, после происшествия на Миксе, — сказал Главный, — к нам вылетела чрезвычайная комиссия Сената. Сиреневая оппозиция снова подняла голову, и я уверен, что комиссия не ограничится расследованием миксианского скандала. Думаю, члены комиссии посетят на сей раз все, даже самые отдаленные, объекты нашей экспедиции. Считаю своим долгом, господа координаторы, предупредить вас об этом и надеюсь, что на вверенных вам планетах все будет в порядке! «Вот оно! — похолодел Эйби и громко чихнул. — Что же делать, боже мой? Что делать?» — Ему показалось, что Главный смотрит прямо на него. И Эйби Си, боясь встретиться с ним взглядом, снова уставился на исторические полотна.
IV
Все последующие годы координатор третьего ранга внимательно следил за передвижениями сенатской комиссии. А она, перелетая с объекта на объект, все приближалась, приближалась, и настал день, когда сенаторы, сопровождаемые Главным Координатором Дабл Ю, прибыли на космическую станцию Уны. Эйби сделал подробный отчет, посвященный обстановке на планете, а сенаторы с интересом посматривали на автора нашумевших докладных записок. Он все еще надеялся, что комиссия удовольствуется его докладом. Но не тут-то было. Несмотря на усталость, сенаторы захотели собственными глазами увидеть то, что координатор так занимательно описывал в своих ежегодных отчетах. И Эйби Си вынужден был сдаться. Под покровом ночи комиссия в ракетоплане бесшумно опустилась на планету. А когда взошло солнце, сенаторы увидели невдалеке высокие стены сказочного беломраморного города. — Что это?! — воскликнули зачарованные члены комиссии. — Онна, — просто ответил координатор, — главный город того рабовладельческого государства, о котором я имел честь вам докладывать. Пойдемте! И, смешавшись с толпой странников (благо координатор одел сенаторов так, чтобы они не отличались от местных жителей), члены комиссии подошли к крепостным воротам. В воротах, поигрывая мощными бицепсами, стояли рослые полуобнаженные воины. Они опирались на мечи и внимательно оглядывали прохожих. Благополучно миновав охрану, сенаторы очутились на вымощенных каменными плитами оживленных улицах шумного города. Богатые дворцы и общественные здания, мимо которых проходили члены комиссии, были украшены многочисленными колоннами, статуями и скульптурными группами. По улицам не спеша двигались одетые в белоснежные хитоны горожане, обсуждая последние гладиаторские бои и непрерывно растущие цены на рабов. В тени портиков пожилые ученые мужи вели неторопливые беседы со своими верными учениками. Под деревом сидел слепец и. аккомпанируя себе на кифаре (или другом щипковом инструменте), звучным голосом пел длинную-предлинную песню. — О чем он поет? — поинтересовались сенаторы. — О странствиях какого-то местного героя, — ответил, прислушавшись, координатор и уважительно добавил: — Эпос! Чернокожие рабы пронесли в открытом паланкине свою госпожу… Прогрохотала колесница… Странного вида растрепанный горожанин выскочил из-за угла. С воплем «Эврика!» он подбежал к членам комиссии и стал, размахивая руками, что-то возбужденно выкрикивать. — Он говорит, — перевел координатор, — что десять минут назад открыл новый закон. Тело, говорит он, погруженное в воду, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Молодец! Хороший закон открыл! — похвалил горожанина Эйби Си и погладил его по голове. Великий ученый молодцевато щелкнул сандалиями и. снова закричав «Эврика!», побежал дальше. — Грандиозно! — сказали сенаторы. То, что они увидели на Уне, превзошло их ожидания. И только Главного Координатора неотступно преследовало странное чувство, что он уже все это видел. И не раз. Но где и когда? Они поднимались в гору, и Главный почему-то подумал, что сейчас они увидят море и белые паруса кораблей. И когда действительно вдали показался порт и корабли. Дабл Ю как-то странно посмотрел на Эйби.V
А поздно ночью, когда усталые члены комиссии вернулись на космическую станцию и легли спать. Главный Координатор вызвал к себе Эйби. — Я хочу задать вам. координатор, три вопроса и затем сообщить приятную новость. Первый вопрос: сколько времени строили вы этот город? — Я вас не понимаю… — растерялся Эйби. — Не валяйте дурака, — перебил Дабл Ю. — Так сколько? — Три года… — вздохнул координатор. — Ну что ж, даже при той технике, которая была у вас, это довольно быстро. Вы, я вижу, отличный организатор. Эйби смущенно хихикнул. Откровенно говоря, он надеялся, что все уже утряслось, и вот на тебе! — Хороший город вы построили, но уж слишком новенький, прямо с иголочки… — Времени не хватило под старину подделывать, а то бы, конечно… — Второй вопрос: где я мог видеть такой же точно город? — В вашем конференц-зале. На картине. Пятая слева. — Ну конечно! — сразу же вспомнил Дабл Ю. — Действительно, пятая слева… И как вы ее так хорошо запомнили? — Двести лет разглядывал. Не захочешь — запомнишь! — И последний вопрос: с какого времени ваши отчеты не соответствовали действительному положению вещей? — Да почти с самого начала, — развел руками Эйби. — Не ускоряются местные жители… Чихать им и на СОП и на СНИП. Дикари! — Ну теперь это все равно. Я получил сообщение, что сиреневая оппозиция в Сенате победила и дальнейшая работа нашей экспедиции признана нецелесообразной. Вот так. Повезло вам! — Почему? — не понял Эйби. — А потому, что вернемся мы на Озу и ваша тайна останется тайной навсегда… — Но вы-то знаете! И вы можете… — Что могу? Рассказать, что какой-то координатор третьего ранга двести лет водил меня за нос?.. Кстати, за составление интересных отчетов Парламент присвоил вам звание координатора первого ранга. Поздравляю! И не благодарите меня. Вас выручила война на Миксе. — Дабл Ю помолчал. — А впрочем, насколько я теперь понимаю, на прославленном Миксе был такой же расцвет науки и техники, как расцвет рабовладельческого строя на Уне! — А как же бактериологическая война? — Да, страшные бактерии, из-за которых ни одна комиссия не рискнула побывать на Миксе, — это тоже неплохо придумано. Ох и изобретательные у меня координаторы! Один лучше другого!VI
Так закончилась эта грандиознейшая из грандиознейших космических экспедиций. Предоставленные самим себе обитатели планет потихоньку развивались. А тридцать тысяч лет спустя унианские археологи обнаружили в непроходимых джунглях заброшенный неописуемой красоты город, совершенно не похожий на другие города Уны и построенный из неизвестных на Уне материалов. И тогда вспомнили древние легенды о неизвестно откуда пришедших и неизвестно куда ушедших людях, которые умели то, чего никто не умел, да и сейчас еще не умеет. И стали говорить, что задолго до современной цивилизации на Уне была другая, еще более развитая цивилизация. Никто, правда, не мог объяснить, почему от нее остался всего-навсего один город и больше никаких следов. Но, как говорится, тем более! Выдвигались и отвергались гипотезы, создавались и рушились концепции. Благодаря загадочному городу были написаны 22 442 диссертации, создано 10 237 романов и снято 1143 фильма. Но ни в одной из перечисленных работ авторам так и не удалось добраться до сути. Если, конечно, не считать этого небольшого, но абсолютно достоверного рассказа.
Из невыдуманных рассказов заслуженного водителя времяходов дальнего следования Николая Ложкина
Кто что ни говори, а подобные истории бывают на свете: редко, но бывают.Н. Гоголь
ТОТ САМЫЙ БАЛАБАШКИН
Недавно на работе отмечали мой скромный юбилей — двадцать пять лет за рулем времяхода. И главный бухгалтер подсчитал, что за четверть века я на своей машине времени наездил ни много ни мало пятьсот тысяч лет. Ничего?
Вы, конечно, понимаете, что за пятьсот тысяч лет можно увидеть немало интересного. Но если вам кажется, что работать на времяходе легко и просто, значит, вы не представляете себе, какие ответственные и трудные поручения приходилось мне выполнять.
Вот, например, был я как-то с моей машиной прикреплен к одному любопытному учреждению — Помбугену. Называлось учреждение непонятно, и никто не знал, чем оно ведает. А Помбуген как раз занимался очень полезным и благородным делом: Помбуген помогал будущим гениям.
Делалось это так. Примерно раз в год я на своем времяходе отправлялся в будущее, забирался лет на сто пятьдесят вперед и, пожив там какое-то время, точно выяснял, кого из наших выдающихся современников потомки помнят и уважают, а кого совсем забыли. Другими словами, я узнавал, кто из наших великих людей и вправду велик.
И хоть оценки праправнуков не всегда совпадали с нашими, решения потомков считались окончательными и обжалованию не подлежали.
То, что я узнавал в будущем, Помбуген хранил в абсолютной тайне. Засекреченность была такая, что, скажем, сотрудники химического отдела Помбугена не знали имен великих физиков, а в отделе музыки не имели понятия о действительно гениальных художниках.
Это делалось для того, чтобы, во-первых, не портить настроения тем людям, которые привыкли думать, будто они что-то значат. А во-вторых — и это главное, — Помбугену категорически запрещалось нарушать естественный ход истории, опережать события и вмешиваться в жизнь великих людей.
Единственное, что Помбугену разрешалось, — это незаметно, исподволь создавать для проверенных временем гениев хорошие бытовые условия. Такие условия, чтобы эти гении могли плодотворно работать и приносить человечеству как можно больше пользы, не занимая свое драгоценное время мыслями о хлебе насущном.
Именно такими бытовыми вопросами Помбуген и занимался.
И вот однажды вызывают меж в литературный отдел и просят уточнить, кто у нас самый лучший поэт.
Дело, конечно, несложное, но деликатное.
Отъехал я ровно на сто лет вперед, запер машину и пошел выяснять этот вопрос.
Поговорил я с потомками об одном нашем знаменитом поэте, о втором, о третьем — и что же выяснилось? Никого из них потомки не читали. Мне даже обидно стало.
— Неужели, — спрашиваю, — товарищи потомки, вам не известен ни один наш поэт?
— Конечно, известен!
— Кто?
— Балабашкин.
— Какой Балабашкин?
Туг уже потомки удивились.
— Что значит — какой Балабашкин? — И они уставились на меня так, будто я спросил: «Какой Пушкин?» — Не может быть, чтобы вы не читали Михаила Балабашкина! Это же гениальный поэт, который жил как раз в ваше время!
— Ах, Михаил Балабашкин! Как же! Как же! — говорю я и краснею, потому что я даже не слыхал о таком поэте. — Конечно, — говорю, — читал и даже лично знаком с ним!
Последнее я ввернул для большей, так сказать, убедительности. И зря! Узнав, что я лично знаком с Балабашки-ным, потомки стали требовать, чтобы я выступил с воспоминаниями о моем великом современнике. Причем выступил бы не как-нибудь, а по телевидению, в передаче, которая будет транслироваться по всей планете, потому что все человечество хочет послушать рассказ о своем любимом Балабашкине.
Редко представляется человеку возможность опозориться перед всем человечеством сразу. Но я этим случаем не воспользовался, а. сославшись на срочный вызов, сел во времяход и позорно сбежал в настоящее, ругая себя за свою необразованность и серость. Вернулся я в Помбуген, рассказал все, как было. И, честно говоря, мне стало как-то легче, когда я увидел, что литературному отделу известно о нашем выдающемся современнике не больше, чем мне.
А поскольку из-за поспешного бегства я не узнал о Балабашкине ничего, кроме того, что он гений, найти его было довольно трудно. Членом Союза писателей этот великий поэт не был, в журналах не появлялся и в литературных объединениях не состоял. И все-таки после долгих поисков удалось выяснить, что в Фаустове есть начинающий поэт Михаил Балабашкин, печатающий свои стихи в газете «Боевой пожарник».
И стал Помбуген создавать Балабашкину условия.
Начали его печатать в самых толстых журналах, перевели из Фаустова в Москву, дали квартиру. Пиши — не хочу!
Вышла у него первая книжка, вторая. И хоть никто из Помбугена, конечно, не мог проболтаться, что Балабашкин проверенный гений, критики наши каким-то образом все разузнали и стали прославлять Балабашкина в каждой статье.
Писал он много, а печатался еще больше, потому что каждое его стихотворение перепечатывалось по десять раз.
Короче говоря, Михаил Балабашкин был тем редким гением, которого полностью признали и оценили еще при жизни. И мне было приятно сознавать, что я тоже принял в его судьбе посильное участие: гениев все-таки надо ценить!
А недавно по служебным делам я снова побывал в будущем столетии, и мне из чистого любопытства захотелось узнать, как в дальнейшем сложилась судьба моего великого современника.
Взял я в библиотеке посвященные Балабашкину научные труды, стал их читать — и что же выяснилось? А выяснилось вот что: тот Михаил Балабашкин, которого знают и любят потомки, не имеет ничего общего с тем, которого чествуем мы. И пока мой Балабашкин упивается успехом в столице, настоящий гениальный Михаил Балабашкин, тезка и однофамилец псевдо-Балабашкина, проживает в Конотопе, изредка печатая свои гениальные стихи под псевдонимом У. Пимезонов. А псевдоним он взял потому, что подписываться своей настоящей фамилией при живом знаменитом Балабашкине считал нескромным. Вот так!
И я вспомнил, что действительно встречал стихи У. Пи-мезонова, но не обращал на них внимания.
Потом я перелистал всю Всеоб1цую Энциклопедию будущего, но о моем Балабашкине не нашел ни единого слова. Впрочем, нет — одно косвенное упоминание было: в статье о московских улицах назывался Балабашкинский тупик.
Конечно, в Помбугене я о моем открытии ничего не рассказал: за такую накладку по головке не погладят…
Меня мучает совесть, но я утешаю себя тем, что, как показало будущее, настоящий Балабашкин свое возьмет. А этот Лжебалабашкин, временно исполняющий обязанности великого поэта, пусть погуляет в гениях — в конце концов от этого ничего не изменится.
ДВЕНАДЦАТЬ ПРАЗДНИКОВ
1
Только чувство долга и железная выдержка, свойственная всем настоящим времяпроходцам, заставили меня согласиться на ту странную работу, которой мне пришлось заниматься и о которой я вам расскажу, если вы пообещаете, что это останется между нами. Однажды Всемирный Ученый Совет откомандировал меня на времяходе МВ20-64 в прошлое одного небольшого государства. Я не имею права говорить, где это государство находится и как называется. Поэтому назовем его условно Игреконией. Направили меня туда по личной просьбе первого министра Игреконии для оказания секретной помощи. Но, едва приехав в эту бедную страну, я увидел, что никто не может по-настоящему помочь ей, потому что правил там король, имени которого я тоже не имею права оглашать. Будем называть его Альфонсом. А для того чтобы вы поняли, что такое Альфонс, я без всякого преувеличения скажу так: если бы этого монарха поставили во главе любой великой державы, он бы за три года превратил ее в слаборазвитую страну. И главная беда Игреконии заключалась не в том, что он тратил больше денег, чем имел, позволял себе то, чего нельзя позволять, и запрещал другим то, чего не следует запрещать… Если бы у Альфонса были только эти недостатки. он бы почти ничем не отличался от своих предшественников. Нет, наиболее губительным для страны было то обстоятельство, что у короля время от времени появлялись гениальные мысли, как в самый короткий срок возвеличить королевство. Альфонс упорно хотел облагодетельствовать Игреконию и для блага страны не жалел ни себя, ни тем более своих подданных. Причем, если, например, в понедельник молодого монарха осеняла какая-нибудь новая идея, то во вторник эта идея принимала форму государственного закона, в среду новый закон вступал в силу, а в четверг уже летели головы первых закононарушителей. Правда, через месяц-другой о новом законе как-то забывали. Но головы все равно продолжали лететь, потому что к этому времени появлялся закон еще более новый. А как говорили в Игреконии: был бы закон, а нарушители найдутся. Естественно, придумывая свои нововведения, король ни с кем не советовался. У него, конечно, были советники, но их роль заключалась в том, чтобы выслушивать советы Альфонса. У него были ученые, которые назывались так, очевидно, лишь потому, что король их учил. И неудивительно, что созидательные идеи молодого монарха обладали такой разрушительной силой. Вы, конечно, хотите спросить: а что же я, водитель первого класса, один из самых опытных времяпроходцев, что же я мог делать в отсталой Игреконии? И зачем я понадобился первому министру? Мы, водители времяходов, не любим хвастать. Но должен честно сказать: я зря не хотел сюда ехать. Без меня игреконцам было бы еще хуже. И первый министр вызвал меня не напрасно: он знал, что делал! Обязанности мои заключались вот в чем. Едва король издавал очередной закон, который должен был облагодетельствовать подданных, я садился во времяход и отправлялся в самое ближайшее будущее. Там я точно выяснял, какие несчастья обрушатся на королевство благодаря новому закону, и возвращался обратно. Что несчастья будут — в этом никто, кроме Альфонса, не сомневался. Но мне важно было уточнить, каких именно неприятностей следует ждать, чтобы первый министр мог хоть отчасти к ним подготовиться. Вот какой неожиданной работенкой занимался я в несчастном королевстве. К тому же все это делалось по секрету. Король не подозревал ни о моей деятельности, ни обо мне самом. Но я понимал, что рано или поздно Альфонс обо всем узнает и радости от этого будет мало. Так оно в конце концов и случилось.2
Однажды первый министр вызвал меня и сказал: — Готовьтесь к поездке. Его Величество новый закон придумал. На сей раз дело идет об окончательном и поголовном расцвете… — И министр показал мне документ, который назывался «Закон о Двенадцати Праздниках». «Отныне, — говорилось в этом документе, — в целях скорейшего установления тотального благополучия в Игреконии вводится новая система, именуемая «Ты мне — я тебе», или система Двенадцати Праздников. Праздники отмечаются ежемесячно. Каждый гражданин ОБЯЗАН ежемесячно одаривать не менее двадцати сограждан и ИМЕЕТ ПРАВО получать от всех одариваемых столь же полезные в хозяйстве сувениры. Для бесперебойного производства разнообразных подарков в королевстве возникнут фабрики и заводы, в результате чего исчезнет безработица и, следовательно, еще выше поднимется благосостояние. По мере подъема благосостояния граждане Игреконии смогут делать друг другу все более дорогостоящие подношения, а это опять-таки будет способствовать еще большему повышению жизненного уровня. Поскольку спрос на подарки будет из месяца в месяц расти, в стране придется строить все новые заводы, и вскоре королевство превратится в могучую индустриальную державу американского типа. Трудно переоценить значение нового закона. Благодаря системе Двенадцати Праздников в Игреконии уже через два-три года наступит эпоха тотального благополучия и поголовного благосостояния. О наступлении доложить. Король Альфонс Первый». Я вернул министру этот закон, и министр бережно спрятал его в несгораемый шкаф, попросив меня как можно скорее съездить в будущее. — Ума не приложу, чем это кончится? — сказал он. И я пообещал ему завтра же утром отправиться в командировку и детально разузнать о предстоящих неприятностях. Однако неприятности начались в ту же ночь. И случились такие невероятные события, которых даже я не мог предвидеть.3
Я был уверен, что никто, кроме первого министра, не знает, кто я и чем занимаюсь. Но все оказалось гораздо запутанней. И для того чтобы вы могли понять дальнейшие события, мне придется сделать короткое отступление. Дело в том, что Игрекония уже больше ста лет враждовала с соседней страной Иксонией. (Название, разумеется, условное.) Несколько раз они даже воевали, но безрезультатно, потому что силы их были равны, или, точнее говоря, оба государства были одинаково бессильны. Но с появлением Альфонса все изменилось. После первых же нововведений молодого монарха в Иксонии поняли: если Альфонсу не мешать, он сам своими законами доведет Игреконию до того, что ее можно будет взять голыми руками. И премьер-министр Иксонии молил бога, чтобы Альфонс продержался на троне как можно дольше. Но он понимал, что одними молитвами тут не поможешь: Альфонса в любой момент могут убрать и спешащие к власти наследники, и впавшие в отчаяние министры, и потерявшие терпение подданные. Во избежание этого премьер Иксонии создал сверхсекретный Комитет по охране врага № 1. Комитет заслал в Игреконию тысячу самых опытных агентов, которые втайне от Альфонса должны были охранять его от его внутренних врагов: бунтовщиков, заговорщиков, родственников, приближенных, лейб-медиков и личной охраны. Ни один человек в Игреконии не знал о существовании этих агентов. И они, рискуя собственной жизнью, днем и ночью берегли своего заклятого врага № 1 от покушений, сердечных приступов и инфекционных заболеваний. И даже такие тайны, о которых не знала ни тайная полиция Игреконии, ни служба безопасности, становились известны агентам Комитета по охране врага. А когда премьер Иксонии заинтересовался, почему новые законы Альфонса не наносят Игреконии такого вреда, как положено, агенты Комитета произвели расследование и пронюхали о моих поездках в будущее. Затем по приказу премьера Иксонии они написали королю Альфонсу анонимное письмо о действиях его первого министра, рассчитывая одним ударом избавиться и от меня. и от приближенных Альфонса. Но хоть эти коварные планы отчасти осуществились, та же самая анонимка спасла многострадальную Игреконию.4
А случилось вот что. Ночью, после того как я узнал о системе Двенадцати Праздников, ко мне пришли два человека и объявили, что меня срочно желает видеть король. Конечно, другой бы на моем месте растерялся. Но нам, водителям времяходов, доводилось бывать и не в таких переделках. Так что для людей со слабыми нервами наша профессия не подходит. — Прошу прощения за то, что мои офицеры разбудили вас. — вежливо сказал Альфонс, как только меня ввели. — Ничего, ничего. Ваше Величество, — ответил я не менее вежливо. — Я еще успею поспать. — Не уверен! — игриво произнес король и внимательно посмотрел на меня. Но я был совершенно спокоен. — Не кажется ли вам, мистер Ложкин, что министры, которые посылали вас в будущее, не совсем верили в правильность и разумность моих идей? — Об этом. Ваше Величество, вам лучше спросить у самих министров. — Увы, это уже невозможно! — печально вздохнул Альфонс. — Видите ли, если бы я лично не верил, что мои идеи принесут счастье Игреконии, я бы просто не смог больше жить. А мои министры в будущее не верили и поэтому тоже не смогли жить больше. — Как? — переспросил я. — Так! — ответил король. — Ведь вы чужестранец, и вам не понять нашего патриотизма! Надеюсь, я вас не обидел? Король был очень хорошо воспитан. Не зря он учился в самом аристократическом колледже. — А у меня к вам небольшая просьба, — продолжал Альфонс. — Полагаю, она не покажется вам чересчур обременительной. — Слушаю вас. — Я столько думаю о будущем моей Игреконии и так хочу увидеть ее процветающей и богатой, то есть именно такой, какой она стешет в ближайшем будущем. Но ведь все мы смертны. И мне было бы очень обидно, если бы я умер, не увидев плодов своих трудов. Видите, даже в рифму получилось: плодов — трудов. Так вот, я думаю, мы сможем в вашем времяходе проехать, скажем, лет пятьдесят, не правда ли? — Нет, Ваше Величество. Инструкция Всемирного Ученого Совета категорически запрещает водителям время-ходов перевозку посторонних лиц. — Инструкция, инструкция! Мистер Ложкин, не будем формалистами. — Но, Ваше Величество, у меня заберут водительские права. — Не заберут. Ведь об этой поездке будем знать только мы с вами. Это будет нашей маленькой тайной. — Нет, не могу! — Простите, мистер Ложкин, но я вынужден повторить, что все мы, к сожалению, смертны. И, по-моему, дороже голова, чем водительские права. Ха-ха! Что это я сегодня все в рифму да в рифму! «Ах так! — подумал я. — Он решил меня запугать! Ну ладно, черт с ним! Пусть этот самодур заглянет в будущее, пусть послушает, какими словами вспоминают его благодарные потомки! Может быть, хоть это пойдет ему на пользу». — Хорошо, — говорю, — Ваше Величество. Вы меня убедили. Только прошу вас, чтобы о нашем путешествии никто не знал. — Слово короля! — торжественно сказал Альфонс, и мы по секрету от всех покинули дворец и отправились в будущее. Я не знал тогда о Комитете по охране врага и до сих пор не могу понять, как мы ускользнули от его вездесущих агентов. Счастливая случайность — если эту случайность король и теперь считает счастливой. Должен сказать, что сам я, живя в Игреконии, дальше чем на пять лет вперед не заглядывал. Просто не было надобности. А тут мы сразу проехали полвека. У Альфонса с непривычки закружилась голова. А я вышел из времяхода, оглянулся и — ахнул. Я никогда не думал, что Игрекония — нищая, разоренная Игрекония — сможет так измениться! Мимо проходили веселые, улыбающиеся люди. И даже по тому, как они разговаривали друг с другом, не озираясь и не пряча глаз, было видно, что им некого бояться. Далеко вдаль уходила широкая зеленая улица, по обе стороны ее возвышались такие светлые и легкие здания, в которых могли жить только счастливые люди. — Вот видите! — гордо сказал Альфонс. — Видите, каким богатым и цветущим стало мое королевство. Значит, я заставил все-таки моих подданных стать счастливыми. А все благодаря закону о Двенадцати Праздниках. Уверяю вас. Я чувствовал, что эта новая система самая гениальная из всех придуманных мною систем, и не ошибся! Представляю себе, как меня уважают потомки и как чтят мою память, если я уже, не дай бог, умер. А кстати, мистер Ложкин, как уточнить, жив я у них тут еще или нет? — Об этом можно узнать у любого прохожего. — Что вы! Если я жив, то за такие разговоры можно угодить в тюрьму. Шутка ли, спрашивать про живого короля, жив ли он еще! Тогда я предложил сформулировать вопрос по-другому и остановил проходившего мимо старика. — Не скажете ли вы, где найти короля Альфонса? — Конечно, не скажу! — ответил старик и, как-то удивленно посмотрев на меня, торопливо удалился. — Что это значит? — не понял король. — Может быть, я засекретил место моего пребывания? — Вам видней, — сказал я и задержал пробегавшего школьника: — Где живет король Альфонс? — Я не знаю такого короля. — Как это ты не знаешь короля Альфонса? — строго спросил король. — Очень просто. Мы его еще не проходили, — объяснил школьник и побежал дальше, размахивая портфелем. — Какой невоспитанный мальчик! — сказал недовольно Альфонс. — Жаль, что я не догадался казнить его папу или, еще лучше, дедушку! А следующим прохожим оказался студент. — Конечно, я знаю, кто такой король Альфонс, — сказал он, и мой спутник гордо приосанился. — Альфонс был последним нашим правителем. — Что значит последним? — нахмурился король. — Он довел страну до того, что граждане Игреконии решили в дальнейшем обходиться вообще без королей! — И что же? — И обошлись. — А с Альфонсом что сделали? — спросил не без интереса Альфонс. — А с ним ничего не пришлось делать, потому что этот король в один прекрасный день сам исчез. — Как исчез? Куда исчез? — А вот этого никто не знает. Известно только, что накануне он казнил своих министров, а потом и сам пропал. Поиски его ни к чему не привели. А впрочем, его не очень-то искали и не очень плакали о его исчезновении. Уж очень здорово он всем осточертел. — Ах так! — сказал Альфонс, едва только мы расстались со студентом. — Ах так! Я, значит, им осточертел? Ну теперь мне все известно, и я сумею принять соответствующие превентивные меры. Однако хороша моя личная охрана! Я у них исчезаю, а они даже не знают куда. Ничего, они у меня все исчезнут! Но все-таки интересно, куда я мог пропасть? А? Но только один человек во всем мире знал ответ на этот вопрос. И этим человеком был я. Я догадался, что мне нужно сделать, еще тогда, когда студент рассказывал о непонятном исчезновении последнего монарха. А когда Альфонс заговорил о превентивных мерах, я перестал колебаться. Мгновение — и я вскочил во времяход, захлопнул перед носом Альфонса дверцу и резко включил заднюю скорость. А через два дня вся Игрекония заговорила о таинственной пропаже. Но так как никто не знал о нашем путешествии, Альфонса искали везде, только не в будущем. А король в это время бегал по улицам столицы и кричал, что он Альфонс! Мне известно из самых достоверных источников, что в конце концов он попал в такую больницу, где, кроме него, было еще несколько Альфонсов. Наполеонов и Навуходоносоров. Сначала меня мучила совесть. Но потом я вспомнил, что ведь меня направили в Игреконию для того, чтобы я помог этой стране. И я оказал королевству самую большую помощь, какую только мог, вовремя избавив ее от последнего короля!
КОРОНА ПАПРИКОТОВ, ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ДЖЕЙМСА БОНДА-МЛАДШЕГО
1
Вы, конечно, слыхали о нашумевшем происшествии: о том ограблении, которое газеты называли ограблением века. Правда, я лично так категорически не говорил бы: «Ограбление века!» Век-то — он только начинается, и какие грабежи произойдут в будущем, репортерам пока неизвестно. А я, как водитель времяхода, хотя кое-что об этом и знаю, моту сказать одно. Надеяться, что методы ограбления не будут совершенствоваться и прогресс именно в этой области вдруг почему-то остановится. — наивно. Занятие грабежом — дело такое, которое застоя не терпит, и каждый день приходится им придумывать что-нибудь новое, двигая вперед свою теорию и практику. А те гангстеры-консерваторы, которые успокоились на достигнутом и попробовали почить на лаврах, давно уже отбывают свои сроки и тяжело расплачиваются за нежелание шагать в ногу со временем и участвовать в общем прогрессе. Но это так. к слову пришлось. А ограбление, которое произошло в столице Бусолонии — Бусолоне, действительно было грандиозным и, я бы даже сказал, наглым. Нет, в самом деле! Среди бела дня в центре города останавливают автомобиль и вытряхивают из него три миллиарда. Вся операция продолжается полторы минуты, и преступники исчезают в неизвестном направлении. Вот и все. Не стоит объяснять, как им, этим гангстерам, удалось провести такое мероприятие, — об этом достаточно много писали все газеты. Но происшествие было тем более скандальным, что похищенные драгоценности принадлежали не кому-нибудь, а королевской фамилии данного королевства. И в тот день их перевозили из одного дворца, который собирались ремонтировать, в другой, только что отремонтированный. Расстояние между дворцами — три автобусные остановки, перевозка происходит в строжайшей тайне, и все-таки гангстерам удается все разузнать и осуществить свои преступные планы. Ну просто Фантомас какой-то, честное слово! Конечно, вся полиция в городе, в стране и на всей планете была тут же поднята на ноги. Дюжина самых лучших детективов прибыла на место происшествия со всего мира. Все эти двенадцать детективов были настолько знамениты и действовали раньше настолько безошибочно, что присутствие любого из них в Бусолоне гарантировало неминуемую поимку преступников. Оставалось только непонятным, зачем нужно ловить одних и тех же преступников двенадцать раз. Но это, как говорится, дело хозяйское. Каши маслом не испортишь. Каждый знаменитый сыщик вел расследование самостоятельно, пользуясь собственным методом. Например, неаполитанский инспектор Арлоли целый день расхаживал по тому переулку, где произошло ограбление, и напевал одну и ту же мелодию. Пел он довольно громко и, вероятно, фальшиво, потому что к вечеру жители переулка готовы были дать любые показания, только бы он перестал петь или хотя бы исполнил что-нибудь новенькое. Японский инспектор Сирихоту обошел всех городских дантистов и, вежливо улыбаясь, составил список лиц женского пола, посещавших зубных врачей за последнюю неделю. А частный детектив Трильби прямо из аэропорта отправился на знаменитый рыцарский мост и до вечера стоял там, рассеянно глядя в мутные воды Суарры. Потом он купил сандвич, зачем-то слетал на денек в Гонконг и снова вернулся смотреть на речку. И чем загадочней действовали прославленные детективы, тем яснее становилось: преступникам не уйти. Преступники, видимо, тоже чувствовали это. Ну подумайте, какого черта этому Трильби торчать на мосту? Что-то в этом есть! И действительно, непонятные на первый взгляд методы знаменитостей вскоре дали первые результаты. Стало точно известно, что в ограблении участвовали трое, а именно: Большой Бен, Коротышка Стос и Лазарь Голландец. Все облегченно вздохнули. Ведь каждый понимал, что если эти парни хотят поскорей отсидеть свои тридцать лет и вернуться к своим занятиям, то нечего тянуть резину: пора сдаваться. Но, видать, чувство меры покинуло их, и они зачем-то продолжали играть в прятки. Газеты призывали их к благоразумию. Президент их корпорации выступил по телевидению и сказал, чтоб они кончали валять дурака, потому что над ними уже смеются, а это подрывает авторитет всей корпорации. Но, конечно, президент не знал, какое отчаянное дело задумал Большой Бен. Да и никто, кроме тех трех, не знал об этом. Казалось, похитителям королевских сокровищ некуда деться. Таможенники на границах, в аэропортах и космодромах с небывалой дотошностью обшаривали каждый чемодан, заглядывали в портфели и не оставляли без внимания дамские сумочки. — Если я хоть что-нибудь понимаю в психологии преступников, — сказал репортерам всемирно известный инспектор Мегрэ, — не сегодня-завтра они себя обнаружат. Должны обнаружить! — Коллега Мегрэ говорит верно, — согласился не менее известный сыщик Пуаро. — Ведь преступники все-таки люди, и они тоже нервничают. И оба великих детектива оказались, как всегда, правы. Через два дня преступники и вправду дали о себе знать. Но совершенно неожиданным образом.2
Честно говоря, я очень удивился, когда начальство приказало мне отправляться в этот самый Бусолон. Чего я там не видел — в Бусолоне? Я в это время как раз должен был везти в Древний Египет ученых, которые осваивали опыт строительства пирамид. А Древний Египет это вам не какой-нибудь Бусолон. Но мы, времяпроходцы, народ дисциплинированный, и раз приказано — едем. Тем более кого-кого, а меня зазря гонять не станут: заслуженные водители времяходов всем нужны. Ну ладно. Прилетаю я в Бусолон. Встречают меня один генерал, один адмирал и сразу в машину. «Хау ду ю ду?» — «Отлично». — «Как летели?» — «Отлично». — «Как погода?» — «Отлично». А насчет дела они молчат, и я молчу. Да и как разговаривать, когда четыре мотоциклиста машину сопровождают и такой треск от их мотоциклов, что просто оглохнуть можно? Но ничего не поделаешь: почет! Наконец приехали. Вводят меня в какой-то кабинет. Наверное, в кабинет министров. — Ну наконец-то, наконец-то! — говорит главный министр и идет мне навстречу. — Очень рад видеть вас. Господа, разрешите представить: господин Николай Ложкин. Тот самый. Полагаю, вам все известно об этом замечательном человеке. — Как же, как же! Что за вопрос! — говорят присутствующие. — Кто же не знает Ложкина! Ну я, конечно, как смог покраснел. — Разрешите, — говорю, — переадресовать ваши приветствия всем времяпроходцам и водителям времяходов. Они опять пошумели, и мы расселись. — Вы, по-видимому, слыхали, господин Ложкин, — говорит главный министр, — о том печальном происшествии, которое имело место в Бусолоне. Но на днях наглые грабители снова дали о себе знать, совершив второй отчаянный поступок. Они похитили времяход и бесследно исчезли во времени. Я внутренне ахнул, но тут же спохватился. — Простите, насколько мне известно, Бусолония не имеет времяходов? — Совершенно верно. Эти гангстеры похитили ваш времяход, который демонстрировался у нас на международной выставке. И тут уж я ахнул не внутренне, а, как говорится, в полную силу. Хоть и с соблюдением дипломатического этикета. Теперь-то я понял, почему именно меня сюда послали. Мне всегда поручали выполнять самые невыполнимые задания! А главный министр продолжал: — Мы, разумеется, понимаем, что Бусолония обязана возместить вашей стране все материальные убытки. Но не это тревожит нас. И не потеря трех миллиардов беспокоит нас. хоть, конечно, такие деньги тоже на дороге не валяются. Основная беда в том, что из-за этого проклятого ограбления возникло особое дело — дело государственной важности и чрезвычайной секретности. Туг главный остановился, и я заверил его, что кто-кто, а времяпроходцы умеют держать язык за зубами. — Так вот, — сказал он, — вместе с фамильными драгоценностями была похищена знаменитая королевская корона, принадлежавшая некогда создателю Великого Королевства Бусолонии, основателю династии Паприкотов — Филиппу Везунчику. Более пятисот лет корона переходила от одного Паприкота к другому, являлась как бы символом неиссякаемости династии и талисманом, приносящим удачу. И теперь эта историческая корона исчезла. Король Альфред опечален. Король считает это дурным предзнаменованием и тает буквально на глазах. Только возвращение короны может вернуть королю спокойствие. И лишь вы, господин Ложкин, способны помочь нам в данной ситуации. Не отвечайте «нет», господин Ложкин, подумайте… — Я не могу ответить «нет», потому что обязан найти принадлежащий моей стране времяход! — сказал я. — Но, господа, вы. очевидно, не представляете всей сложности этого дела. Если вы не смогли найти преступников в своем собственном городе, то есть на ограниченном пространстве, то как разыскать их в беспредельномвремени? Ведь совершенно неизвестно, куда они сбежали: в прошлое или будущее, далеко или близко… — Это не совсем так, — заметил министр полиции. — Какова цель преступников? Скрыться от преследования и сбыть похищенные ценности. Ни для первого, ни для второго ближайшее будущее не подходит, ибо там не могут не знать, а точнее — не помнить о таком сенсационном ограблении. Подобные события так быстро не забываются, и даже через пятнадцать-двадцать лет сбежавшие не смогут считать себя в безопасности и, конечно же, не рискнут продавать драгоценности. Следовательно, бежать туда им незачем. — Согласен: ближайшее будущее отпадает. — Скорей всего эти наглецы прячутся в прошлом десятилетии. Ведь там еще ничего не знают об ограблении, а связи с преступным миром того времени у сбежавших обширные, что значительно облегчит им сбыт похищенных сокровищ. Но это же и наведет нас на их следы. Так что искать этих грабителей и следовало бы в первую очередь там, в прошлом десятилетии. — Ну что ж, это не лишено… — согласился я. — Однако, господа, я полагаю, необходимо с самого начала наших откровенных и дружеских переговоров внести ясность. Моя задача — найти украденный времяход. И я хотел бы провернуть эту операцию поскорей, потому что трудно представить себе, что могут натворить гангстеры со всей историей цивилизации, имея в своем распоряжении такую машину. Но я не умею и не собираюсь вылавливать самих гангстеров и разыскивать какие-то короны! — О, насчет этого можете не беспокоиться! — улыбнулся главный министр. — С вами отправится наш лучший агент, выполнивший немало особо деликатных и важных заданий. Имя его Джеймс Бонд-младший. И в кабинет вошел стройный светловолосый парень в самом модном костюме из самого модного журнала мод. Он был на голову выше меня и приветливо улыбался на все тридцать два зуба. А глаза у него были такие голубые, бездумные и честные, что сразу было видно: этот парень способен на все. — Агент 003, — представился он, протягивая руку. — Времяпроходец 001, — так же серьезно ответил я. — Но раз уж нам вместе работать, вы можете называть меня просто Николаем. (Ничего я поддел его, как вы считаете?) — Очень приятно. Ник, я люблю, когда без церемоний, — улыбнулся агент 003. — Зовите и вы меня просто Тройкой. Министры весело засмеялись. — Ну вот и хорошо, — сказал главный. — Я вижу, вы отлично сработаетесь.3
И как только самолетом доставили мой времяход дальнего радиуса действия, мы начали работать. В первый раз мы отъехали чуть-чуть и, остановившись в прошлом году, сняли номер в лучшем бусолонском отеле «Астория». Джеймс надел вечерний костюм, сунул в карман бесшумный пистолет, ловко замаскированный под портсигар, и зажигалку, имевшую вид пистолета, после чего пожелал мне спокойной ночи и удалился. Когда он пришел утром, от него пахло настоящим арманьяком, французским шампанским, коллекционными винами и черной икрой. — Ну что? — спросил я. — Надо подумать, — серьезно сказал 003. Думал он часов пять, а когда проснулся, сказал: — Здесь их нет. Поехали дальше! Через час мы остановились в позапрошлом году и отправились в захудалую, подозрительного вида гостиницу «Галеры». Джеймс напялил на себя потрепанную матросскую форму, приклеил рыжую шкиперскую бородку и, рассовав по карманам доллары и кастеты, пожелал мне спокойной ночи. Утром от него несло дешевым виски, пивом, портером, портвейном, кальвадосом и сидром. Преступников не было и здесь. На следующий день мы отъехали еще на год и остановились в шикарном отеле «Амбасадор», который находился рядом с «Казино де Бусолон». Джеймс надел элегантный костюм для игры в покер, сунул в карман чековую книжку, восьмизарядный кольт, имевший вид самопишущей ручки, ручку, похожую на стилет, и пожелал мне спокойной ночи. Утром от него пахло только духами «Мицуко» и пудрой «Шанель». Но на этот раз он еле стоял на ногах. «Однако, нелегкая работенка у этих агентов по особо деликатным поручениям, — подумал я, — но дело есть дело». И так мы кочевали из года в год, и Джеймс, словно ночной сторож, ежевечерне отправлялся на работу. Каждый вечер он переодевался, гримировался и. ловко применяя только ему известные хитрости, шел искать следы преступников. А утром он глотал пирамидон и соду, проклиная тех, кто придумал алкогольные напитки, а также бифштексы, антрекоты, омары, кальмары, шпикачки, спагетти, миноги, шашлыки и многие другие блюда. Профессиональные заболевания агентов по особым поручениям — гастрит и переутомление — давали себя знать. Хоть, правда, к вечеру Джеймс отходил и снова становился как огурчик. Но к тому времени, когда мы прошли все минувшее десятилетие и уже приканчивали второе, я убедился, что так дело не пойдет. — Послушай, Джеймс. — сказал я однажды, когда он уже успел прийти в себя и опять собирался в ночное. — Послушай, Джеймс, так у нас ничего не получится. Мы обшарим еще полвека, ты выдуешь еще полцистерны виски — и все! Так поиски во времени не ведутся! — А как же они ведутся. Ник? — По системе. Например, уже ясно: гипотеза о том, что гангстеры спрятались в ближайшем прошлом, оказалась несостоятельной. Значит, нужна новая гипотеза. — Насчет гипотез. Ник, я могу тебе посоветовать только одно: на меня не рассчитывай. (Ну этого 003 мог бы и не говорить.) — Но, Джеймс, до того, как продолжать поиски, нужно еще раз прикинуть: куда скорей всего могли наши гангстеры податься? Ведь была у них какая-нибудь идея, когда они уводили времяход? — Конечно, была. Смыться и продать драгоценности. — Вот именно — продать. А теперь представь себе, что в один из прошлых веков в Бусолоне появляются странные, никому не известные люди и открывают торговлю алмазами, бриллиантами и прочими камешками. Причем продают они их по дешевке, чтобы поскорей разделаться и уехать. Должно было такое событие оставить хоть какой-нибудь след в истории. Отметил бы это хоть один житель Бусолонии в своих мемуарах! — Ник, ты гений! — торжественно сказал 003 и крепко пожал мне руку Пальцы у этого парня, черт его побери, были железные. — Так вот, Джеймс, ты можешь пригласить на совещание десять самых лучших историков Бусолонии? — Десять? — ответил Джеймс. — Хоть полсотни! И мы тут же вернулись в настоящее.4
Совещание с выдающимися историками происходило оживленно и бестолково. Узнав, что именно меня интересует, историки начали припоминать все, что им было известно по данному вопросу. Но, во-первых, им ничего не было известно. А во-вторых, каждое событие из истории Бусолонии вызывало ровно столько трактовок, сколько историков участвовало в совещании. В одном только сходились все ученые. В том, что лишь при основателе династии Паприкотов — Филиппе Везунчике — Бусолония стала такой могущественной, и лично Филипп Везунчик присоединил к ней обширные земли своих менее удачливых соседей. Я слушал эти бесполезные для наших поисков рассказы и печально думал, что просто зря теряю время. Надежды мои не оправдались: никаких следов похитители сокровищ в истории не оставили. И вдруг у меня мелькнула странная мысль. Она была настолько странной, что я сразу же отогнал ее. Но потом все-таки решился задать один наивный и глупый вопрос. — Я прошу прощения за свое невежество, — сказал я, — но объясните мне, пожалуйста, почему именно королю Филиппу удалось победить своих соседей? — Он был великим полководцем! — сразу же ответил главный филипповед. — И гением! — подхватил другой историк. — И потом на его стороне была правда, и ему помогало провидение… — объяснил третий историк, бывший, как видно, историком-идеалистом. — При чем здесь провидение?! — вскочил с места историк-материалист. — Просто у Филиппа была армия, состоявшая из ландскнехтов, наемных солдат… — А почему же другие короли не завели себе ландскнехтов, если все дело в этом? — не сдавался идеалист. — А потому, что у других королей не было денег — вот почему! — пояснил материалист. — Нев деньгах счастье! — выкрикнул идеалист, но тут же понял, что переборщил, покраснев, замолчал. — Значит, Филипп побеждал не столько умением, сколько, так сказать, бил своих врагов рублем? Так, что ли? — уточнил я. — Вы, молодой человек, пользуетесь ненаучной терминологией, — строго заметил мне самый старый ученый. — Но суть вопроса ухвачена вами верно. — Спасибо, — сказал я. — И еще раз извините, но я не ученый, а простой водитель времяхода. Так что, если можно, я задам еще один наивный вопрос. Вот эта самая корона, которая переходила от Паприкота к Паприкоту, откуда она взялась у самого первого Паприкота, то есть у того же Филиппа Везунчика? Главный филипповед задумался. — А мне, — говорит, — этот вопрос никогда прежде в голову не приходил. Ну взялась и взялась. Откуда у всех королей короны берутся? Заказывают, наверное. Или покупают… Право, не знаю… — Но, во всяком случае, Филипп не получил ее от своего предшественника? — Конечно, нет. У последнего представителя династии Сандунов, предшествовавшей династии Паприкотов, у короля Забора Одиннадцатого, была совсем другая, треугольная корона, которая и сейчас хранится в кабинете его величества короля Альфреда. Корона Сандунов гораздо беднее и, да простят меня Сандуны. безвкусней короны Паприкотов. А корона у Паприкотов, молодой человек, это же целое состояние! — Ай-я-яй! — сказал я. — Вот так Филипп! И ландскнехтам он платил, и земли скупал, и корону отгрохал. Ну откуда у людей такие деньги берутся? Хотя бы у того же Филиппа… — Во-первых, кораль Филипп был чрезвычайно бережливым человеком, — пояснил идеалист, — а во-вторых, существует предание о том, что он нашел клад, за что, кстати. и получил прозвище Везунчика. Я лично этому преданию верю. — Ха-ха! — закричал материалист. — Я лично больше верю преданию о том, что Филипп имел дело с нечистой силой! — Этот материалист был. видать, непоследовательным материалистом. Но тут между историками началась такая ученая свалка, что совещание пришлось окончить. А нас с Джеймсом сразу же вызвали к главному министру. — Ах. господа, господа, неужели у вас нет никаких утешительных известий? — спросил главный, нервно расхаживая по кабинету. — Его Величество вне себя от горя. Король говорит, что, если не найдут корону, он отречется от престола и подастся в йоги. Неужели вы не спасете его? — Мы делаем все, что в наших силах, — сказал 003, — но нам трудно: бежавшие не оставили никаких следов во времени, и даже лучшие историки не могли помочь нам. — Агент 003, как всегда, скромничает, господин главный министр, — возразил я, — Джеймсу Бонду-младшему удалось уже кое-что узнать. Вы можете обнадежить Его Величество! — И мы покинули кабинет. — Послушай, Ник, я понимаю, как много ты сделал сейчас для меня: мои акции поднялись на тысячу пунктов. — И он крепко пожал мне руку. — Чем я могу отблагодарить тебя? — А вот чем: когда тебе еще раз захочется пожать мне руку, делай это поосторожней! (По-моему, я неплохо намекнул ему, а? Иногда у меня это здорово получается!) — А теперь, Ник, объясни мне, ради бога, что нам с тобой удалось узнать? — Разве ты не понял, что нам теперь точно известно, где искать гангстеров? Разве ты не понял, откуда у Везунчика вдруг появились деньги, чтоб платить ландскнехтам, и бесценная корона? — Откуда же? — От тех, кто ограбил короля Альфреда, — от них-то, как ни странно, он и получил свою собственную корону и драгоценности! Об этом невольно рассказали мне филипповеды, когда я так дотошно расспрашивал их о загадочных нетрудовых доходах Везунчика. Джеймс оторопело уставился на меня. Потом в его голубых честных глазах появились проблески мысли. Он захохотал и хлопнул меня по плечу с такой силой, что дактилоскопический отпечаток его пятерни сохранился на моем плече до сих пор. — Я всегда говорил. Ник, что ты гений! — заорал он. — А теперь подбрось-ка меня во времена этого самого Филиппа, а остальное я беру на себя!5
Ко двору короля Филиппа Паприкота мы прибыли в качестве послов Великого султана Амбулатория. Конечно, ни король, ни его приближенные понятия не имели ни о каком Амбулатории. Но дары, привезенные от его имени, были такими щедрыми, что существование Великого султана Амбулатория стало само собой разумеющимся. Ну подумайте сами: разве может присылать подарки султан, которого нет? Это же абсурд! Прием послов был обставлен со всей подобающей торжественностью. Король Филипп тогда еще не называвшийся Везунчиком) восседал на троне. Мы низко поклонились, и Джеймс передал Великому королю Филиппу пламенный привет и пожелания успехов, здоровья и счастья в личной жизни от Великого султана Амбулатория. Затем я преподнес королю такие сувениры, как зажигалка, карманный фонарь, двенадцатицветная шариковая ручка и безразмерные носки. После этого король милостиво пригласил нас погостить в Бусолоне, сколько мы пожелаем. А именно этого мы и добивались своим визитом. Теперь мы могли бродить сколько угодно по Бусолону и окрестностям, не вызывая подозрений. — Ты знаешь. Ник, — удивился 003, когда окончилась аудиенция, — я бы не сказал, что Филипп выглядит таким уж богатым. И корона на нем старая, сандуновская. — Так это же хорошо. Значит, мы прибыли сюда на несколько дней раньше Большого Бена с компанией. И мы успеем захватить драгоценности, прежде чем они попадут к Филиппу. Мы их заберем у Большого Бена, как только он здесь появится. Но агент 003 не был времяпроходцем, и ему не так-то просто было втолковать простейшие вещи, понятные любому начинающему водителю времяхода. Однако я как мог все-таки объяснил ему, что времяход способен передвигаться только во времени, но не в пространстве. На этой машине можно оказаться в другой исторической эпохе, но не в другой географической точке. И значит, времяход теперь появится на том же самом месте, где он стоял на выставке. Но при короле Филиппе Бусолон был небольшим городком. И то место, где через пятьсот лет построили международную выставку, находилось вне Бусолона и было покрыто лесами и болотами. Именно здесь мы с Джеймсом подкарауливали долгожданную тройку. Мы ждали целую неделю. И в тот день, когда 003 намекнул, что он, кажется, преувеличивал мою гениальность, и полюбопытствовал, нет ли у меня в запасе еще каких-нибудь идей или гипотез, — в тот самый день ровно в 17.00 раздался треск падающих деревьев (одно из них, между прочим, чуть не придавило Джеймса), и неподалеку от нас возник времяход. Он возник прямо из ничего, из воздуха, с треском и грохотом расчищая себе место в пространстве. Он возник и застыл. — Ты гений! — шепнул Джеймс, и мы притаились за кустами. Было тихо-тихо… Потом дверцы открылись, и из машины осторожно вышли двое: Большой Бен и Коротышка Стос. Значит, третий, Лазарь Голландец, на всякий случай остался в машине, и мне это очень не понравилось. Чуть что — и он навсегда мог исчезнуть вместе с времяходом. Но вот показался и третий. Я с облегчением вздохнул. — Все в порядке. — сказал Коротышка Стос. — Мы в каком-то лесу. — И они, оглядываясь, медленно пошли по направлению к нам. Джеймс отполз в сторону и по-пластунски неслышно стал удаляться. Я заметил его опять только тогда, когда он оказался между гангстерами и времяходом, отрезав им таким образом путь к машине. И тогда я понял, за что ценили Джеймса Бонда-младшего и в чем он действительно был специалистом. Я сам знаю приемы самбо, джиу-джитсу и дзюдо. Но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь действовал так ловко, как 003. Неожиданно налетев сзади, он с силой выбросил правую руку и левую ногу, уложив Коротышку Стоса и Лазаря Голландца. Одновременно с этим он врезался головой в живот Большого Бена, и тот согнулся пополам. Затем Джеймс, сделав пируэт, левой рукой сшиб Коротышку, правой ногой — Голландца и, резко выпятив зад, так толкнул им Большого Бена, что тот всем телом влепился во времяход, и нам потом пришлось отвечать перед начальством за вмятины на машине. Но дело не в этом. Применив в течение полутора минут шестьдесят различных приемов, Джеймс сгреб все, что осталось от гангстеров, в кучу и, расслабив мускулы, закурил. — Ловко! — сказал я. — Да нет, я-что-то сегодня не в ударе… — скромно проговорил 003 и заглянул во времяход. Драгоценности были на месте. Корона тоже. — Ну вот, ты отыскал свою машину, я — королевские сокровища. Мы неплохо поработали! Можно и возвращаться. И тогда мне пришлось повести тот трудный и неприятный разговор, к которому я уже давно готовился. Тот разговор, который из-за определенных интеллектуальных особенностей агента 003 мог иметь для нашей цивилизации самые неприятные и далеко идущие последствия. — Можно и возвращаться, — согласился я и как бы между прочим добавил: —Джеймс, а ты помнишь, что сказал один из филипповедов, когда я спросил, где Везунчик добыл столько денег, чтобы платить ландскнехтам? — Да нет, я ведь не очень прислушивался к вашему трепу. — Он сказал, что Везунчик якобы нашел клад… — Это я помню. Ну и что? — А ведь это, оказывается, правда! Я даже знаю, кто этот клад спрятал! — Кто? — Мы с тобой! — Кто, кто? — Ты, да я, да мы с тобой! — Я что-то не понимаю, к чему ты клонишь? Ты можешь объясняться как-нибудь попроще? — Ладно. Ты сам видел, как гангстеры привезли сюда драгоценности, собираясь продать их Филиппу. Так? — Дальше. — Ну, Везунчик не дурак. Он бы с Большим Беном и его приятелем как-нибудь разделался, а драгоценности попросту присвоил. Отсюда бы и пошло богатство Везунчика. Он бы одни земли отнял, другие — завоевал. И Бусолония стала бы могучим государством, что и случилось на самом деле. Так? — Продолжай. — А что произойдет теперь? Мы увезем эти сокровища, и, значит, они не достанутся Филиппу. Он не сможет нанять ландскнехтов, не сможет скупать земли… Короче, Бусолония не станет Великим Королевством, и вся история цивилизации пойдет по-другому, и наш мир будет другим. Ты это понимаешь? — Допустим. — И мы с тобой окажемся виновниками того, что человечество станет не таким, как сейчас. Мы не имеем права делать этого, Джеймс! — Так что же ты предлагаешь? — Оставить сокровища Филиппу, и пусть все будет как было. — Ты все сказал? Теперь послушай меня. Я, агент 003, получил приказ вернуть похищенные королевские драгоценности. И я этот приказ выполню, что бы там с вашей цивилизацией ни происходило! — А я времяпроходец. И я не позволю тебе нарушить естественный ход истории. С человечеством экспериментов не делают! — Ник, ты видел, как я справился с этими тремя? — Ну и чего ты добьешься? Ты же не умеешь водить времяход и не сумеешь вернуться без меня в настоящее… Как же. в таком случае, ты выполнишь задание, агент 003? Нет, Джеймс, я все продумал: королевские сокровища все равно останутся здесь и попадут к Везунчику. Джеймс вскочил. — Ты сам слышал, что король в отчаянии. Он может даже уйти в йоги, если я не привезу его короны! — Это его личное дело. Джеймс видел, что со мной ничего не поделаешь. Ему было наплевать на историю цивилизации. Но на страже ее интересов стоял я, и агент 003 понимал, что он бессилен. И вдруг у него появилась идея. — Ну хорошо. Твоей истории необходимо, чтобы у Филиппа появились деньги. А мой Альфред больше всего убивается из-за короны Паприкотов. Корона на ход истории влияет? Не влияет. Значит, мы оставляем Везунчику драгоценности, а королю Альфреду возвращаем корону. Идет? Я прикинул: а что? Действительно. Везунчик вполне сможет свершить все свои исторические действия без этой короны. Значит, ход истории не будет нарушен. А это самое главное. Правда, Джеймс не учитывал еще одного очень важного обстоятельства. Но оно касалось сугубо внутренних дел Бусолонии, а мы, времяпроходцы, во внутренние дела, как известно, не вмешиваемся. На этом компромиссном решении мы и остановились. Драгоценности мы зарыли в землю, и от имени султана Амбулатория под строжайшим секретом сообщили Везунчику, где он может обнаружить несметные сокровища. Да, не таким уж идеалистом был тот историк, который верил, что Филипп Паприкот нашел клад. Оказывается, бывает и такое.6
Когда мы вернулись, король Альфред пожелал нас видеть. Джеймс Бонд-младший выбрал из своего гардероба специальный костюм для посещений Его Величества, уложил корону в специальный футляр для корон, и мы отправились во дворец. Агент 003 подробно доложил, как нам удалось задержать преступников. А мне лично пришлось дать объяснение, почему мы вынуждены были оставить драгоценности Филиппу. К счастью, король Альфред оказался толковым парнем и довольно быстро сообразил, что я поступил правильно. — Ничего не поделаешь, с историей приходится считаться! — проговорил он, разводя руками. И я подумал: живут же другие без фамильных драгоценностей. Проживет и Альфред. Перебьется как-нибудь. А Джеймс сказал: — Ваше Величество, может быть, вас хоть в какой-то степени утешит тот факт, что без ущерба для истории мне все же удалось вернуть вам самое драгоценное ваше сокровище. — И, сделав эффектную паузу, 003 добавил: — Я говорю о короне Паприкотов. Он вынул корону из футляра, и присутствующие зажмурились от сверкания и блеска великолепной короны. Король с удивлением посмотрел на корону, а затем на Джеймса. Министры тоже. — Что это такое? — спросил король. — Корона Паприкотов, — ответил Джеймс, почуяв что-то неладное. — Вы что-то путаете… Все Паприкоты, насколько мне известно, пользовались только одной короной — вот этой, — и король указал на стоявшую под стеклянным колпаком треугольную сандуновскую корону. — Она перешла к Паприкотам от их предшественников Сандунов. Никаких других корон у Паприкотов не было. Агент 003 растерялся. А между прочим, еще пятьсот лет назад там, в лесу под Бусолоном, Джеймсу полагалось бы сообразить простую вещь: если он из-за служебного рвения увозит корону, которая исторически должна была достаться основателю династии Паприкотов, то он по личной инициативе лишает этой короны всю последующую династию. Вот ведь как! И можно понять недоумение короля Альфреда, которому притащили никогда не виденную им чью-то чужую корону. — Здесь какое-то недоразумение, — повторил король. — Очевидно, эти гангстеры ограбили, кроме нас, еще какого-нибудь монарха. Вот откуда у них эта корона. И благодаря вам, агент 003, эта краденая вещь оказалась в нашем дворце! Какой международный скандал! Так кончилась карьера Джеймса Бонда-младшего. И ничего не поделаешь! Как правильно заметил король Альфред Паприкот: с историей приходится считаться!
ПАРОДИИ 40-Х — НАЧАЛА 60-Х ГОДОВ

Ранние пародии
От автора
В 1944 году при издательстве «Молодая гвардия» открылось литературное объединение. Теперь кажется странным, что в то время, как шла война, молодые поэты собирались в небольшой комнатушке и, нещадно дымя махоркой, — папиросы тогда для нас были слишком дороги, — читали стихи и страстно спорили об эпитетах, ассонансах и поэтических образах. Когда кончались занятия, мы еще долго не расходились, а потом до самого комендантского часа бродили по затемненным улицам, продолжая читать друг другу свои самые сокровенные строки. Мы знали стихи своих товарищей наизусть, и нам казалось, что поэзией, как хлебом насущным, интересуются все без исключения, потому что сами мы жили тогда стихами и могли говорить о них круглые сутки. Вначале объединение занимало одну комнату. Затем нас перевели в вестибюль. Но вскоре оказалось, что и там не могут разместиться все желающие. И тогда нам выделили одно из подвальных помещений в Политехническом музее. Теперь уже объединение насчитывало человек 150, и руководили им такие поэты, как Илья Сельвинский, Дмитрий Кедрин, да и другие. Если бы я задумал перечислить тогдашних членов объединения «Молодая гвардия», мне пришлось бы назвать почти всех тех московских поэтов, которым сейчас за пятьдесят. Там я впервые услышал неистовую поэму А. Межирова Вес верст», тихие и раздумчивые стихи Мих. Львова и запомнившиеся мне с первого раза несколько странные стихи Мих. Луконина. Там я познакомился: совсем молодым и уже разобранным на цитаты Семеном Гудзенко и еще многими, многими интересными поэтами и людьми. А пародии на своих товарищей я писал просто т шутки ради, никогда не думая их печатать. Я читал на объединении, и пародируемые мною поэты, как мне казалось, не обижались. Надеюсь, они не обидятся и се дня…1974
Семен Гудзенко
Бесконечная баллада
1945
После атаки
Когда на смерть идут — поют. А перед этим можно плакать!..
Разрыв. — и умирает друг…
Разрыв, и лейтенант хрипит! Бога ради. Бога ради. Не рассказывайте мне. Как вы в городе Араде Позабыли о войне.С. Гудзенко
1945
Наум Мандель
(будущий Н. Коржавин)
Вдосталь поблуждав на белом свете. Испытав мороз, жару и зной. Я люблю в стихах увидеть ветер — Настоящий, грубый и земной.
Я рожден от киевского ветра…Н. Мандель
Ветер, ветер,
ты могуч!
1945
Александр Межиров
Как делили сухарь
1945
Виктор Урин
Уриниоза викторическая
И ты над лужей сделался валетом. И дождь козырной бьет тебя десяткой, Злое терпенье зрячих минут…
На морозе немыслимоградусном… В девятьсот сорок славном году… Счастьеград… Солнцеворотка…
Было, Лидка, было, А теперь — нема!В. Урин
1945
Юлия Друнина
Эх, раз, еще раз!
Идут по войне девчата. Похожие на парней…Ю. Друнина
1946
Михаил Исаковский
Кокетливая
(песенка)
Лев Озеров
Дождики и ливни
Она вызревала, эта решимость, В противоборстве страстей подспудных.
И цвета: голубой, закипающий в синем. Темно-синий, слабеющий в голубом.
И многоигольчатым витамином. Пузырясь, в меня озорство вошло.Л. Озеров
Анатолий Софронов
Ковыли-ковылики
1947
Степан Щипачев
Коротко и ясно
Александр Прокофьев
Ай, люлюшеньки-люли
Константин Симонов
Алексей Фатьянов и др
1. Одинокие гармонисты
2. Конно-лирическая
Из лирической тетради
А. Кошмаркова
От автора
Я хочу познакомить читателя со стихами не совсем молодого и уже давно начинающего поэта А. А. Кошмаркова.
Прочитав эти произведения, любители поэзии, вероятно, скажут, что они, стихи, не очень оригинальны и им, любителям поэзии, уже не раз приходилось читать нечто подобное. Не станем спорить. Это. к сожалению, правда, и стихи, напоминающие лирику А. А. Кошмаркова, действительно не раз появлялись на страницах газет и журналов. Но, спрашивается, почему другим можно так писать, а Кошмаркову нельзя?
Далее. Внимательный читатель, несомненно, заметит: стихи А. А. Кошмаркова настолько разностильны, что кажется. будто они принадлежат разным поэтам. Объясняется это просто. Немолодой поэт весь в поисках и пока еще не нашел себя, а поскольку ищет он себя в чужих сборниках, то невольно подражает то одному, то другому любимому поэту.
Следует также подчеркнуть разницу между А. А. Кош-марковым и его лирическим героем. Например, такие факты, как конфликты с женой, всеобщая известность и др., касаются только лирического героя. А сам поэт легко может доказать, что с женой никогда не конфликтовал и популярностью не пользовался.
И, наконец, последнее. Читатели, вероятно, спросят: почему серьезные стихи А. А. Кошмаркова печатаются вдруг как пародии?
На этот вопрос убедительнее всего ответят сами произведения вышеупомянутого поэта.
Моей супруге
Эх!
Чем я заметней поднимался в гору. Тем меньше счастья было у меня.И. Кобзев
Бессмертие
Письмо оттуда
Аграрная лирика
* * *
Письмо вождю
А. Марков
В мягком вагоне не густо: Я да еще пассажир. В мягком вагоне так грустно…
Следом за нашим вагоном Жесткий веселый вагон…
Режутся в карты мужчины. Всласть забивают «козла».А. Марков «Грустно»
И. Кобзев
На брючном фронте
Смешны нам брючки узкие. В которых твистуны… Всех нас поголовно обрядили В среднеевропейский пиджачок.И. Кобзев
В. Котов
Лирическое бодание
Будь зубаста, любовь, бодлива, И полет тебя вновь позовет.В. Котов
В. Журавлев
Родственные связи
Встрепенется и затихнет ветер На равнинах зреющих пшениц…
И не в одно запали сердце Его слова за урожай.
По действиям своим селитра Как бы сестра навозу…
Поэзия — сестра моих страданий…В. Журавлев
Ф. Чуев
Дружелюбный мордобой
Иван лупил Матвея. Матвей лупил Петра. Про ихние затеи пронюхал немчура. Иван прикрыт Матвеем. Матвей спасен Петром. На том стоит Рассея, вот так вот и живем!Ф. Чуев
В. Фирсов
Дантеса мне, Дантеса!
С далеких дней Прижилось на Руси: На каждого поэта — по Дантесу.В. Фирсов
Вокруг света
Первый поэт
Второй поэт
Третий поэт
Теорема Пифагора,
или
Поэтические вариации на тему:
«Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов»
Сонет
Гипотенуза и катет
Басня
Геометрическое вступление в еще не написанную поэму
Надписи
Надпись на гипотенузе
Надпись на одном катете:
Надпись на втором катете:
Надпись на треугольнике:
ЧУДЕСА В РЕШЕТИЛОВКЕ

А БЫЛО ЭТО ТАК…
В некоторых научных и околонаучных кругах существует такое робкое предположение, или, проще говоря, смелая гипотеза, что в какие-то очень отдаленные времена нашу матушку-Землю посещали представители инопланетных цивилизаций. И даже, мол, во время этих посещений звездные пришельцы научили наших далеких пещерных предков каким-то самым необходимым пещам.
Разумеется, никаких живых свидетелей того, как это происходило, нет. А с другой стороны, и очевидцев того, что этого не было, тоже не имеется. Так что научные споры ведутся пока с ничейным результатом.
Вот, скажем, я лично глубоко убежден, что таковые события место имели. А может быть, нет… И разворачивались вся эта история следующим образом. Хотя, конечно, вряд ли…
Светало… Старый неандерталец Э-эх открыл глаза, громко зевнул и, почесывая волосатую грудь, вылез из пещеры поглядеть, не окончился ли этот проклятый ледниковый период. Однако льды еще не таяли, и Э-эх, озябнув, поспешил обратно в пещеру. Костер едва тлел. «Светит, да не греет…»— озабоченно подумал старик и подбросил в костер хворост. По стенам заметались тени, пещера наполнилась дымом, и стало теплей. Пещерные жители, не просыпаясь, довольно заворчали. «Какое счастье, — подумал старик, — какое счастье, что Сыны Неба научили нас добывать и хранить огонь. Без них мы бы совсем вымерзли». Э-эх был стар, и он забыл, как еще за четыре луны до первого появления небожителей молодой шалопай У-ух объявил, что он знает, как делать огонь. — Смотрите, смотрите, как это просто! — и на глазах у изумленных зрителей У-ух развел огонь. — Ты с ума сошел! — закричал разгневанный Э-эх. — Ты сожжешь всю пещеру. Сейчас же погаси костер! Огонь делают молнии, а не какие-то молокососы! Костер забросали камнями. А спустя четыре луны с небес в громе и пламени опустилась странная скала. Затем, когда погасли молнии и стих гром, в скале открылась пещера. и из нее вышли невиданные существа с прозрачными головами. Они побродили вокруг своей скалы, сняли прозрачные головы, и под ними оказались другие головы — обыкновенные, непрозрачные. Неандертальцы с облегчением вздохнули: они не любили ничего необычного и непонятного. Посланцы звезд были очень приветливы и миролюбивы. Они научили пещерных жителей добывать и хранить огонь. С тех пор в пещере стало уютней, там никогда не гас костер, и старый Э-эх не забывал помянуть за это мудрых небожителей добрым словом. …Первым догадался сунуть в огонь кусок сырого мяса все тот же У-ух. Он нанизал мясо на палку, подержал его в огне и, обжигаясь, поднес ко рту. Жареное мясо ему пришлось по вкусу. Но Э-эх страшно рассердился. — Где ты видел, чтобы мясо обжигали огнем? — закричал он. — Ты хочешь, чтобы огонь рассердился и погас?! — Отчего же он обидится? — возразил У-ух. — Я ведь его угощаю мясом. Но Э-эх не любил долгих споров. Он поднял с земли толстую палку, трахнул ею по голове собеседника и бросил обломки палки в костер. — Есть еще вопросы? А если нет, отправляйтесь на охоту. Пойдешь ты, ты и ты. — Опять на охоту! — робко заныл молодой неандерталец О-ох. — Как на охоту, так я! Три дня туда да три дня обратно — и все пехом! — А ты бы хотел, чтобы жирные кабанчики водились прямо у нас в пещере? — И Э-эх, довольный своей остротой, захихикал. — А что тут смешного? — сказал неугомонный У-ух. — Я давно предлагал своих кабанчиков завести, домашних. Они бы у нас жили, мы б их кормили и с мясом были бы! — Да ты понимаешь, что ты говоришь? — завопил Э-эх. — Да ты знаешь, как называется то, что ты предлагаешь? — Как? — Животноводство — вот как! Ты своими фантазиями всему племени голову морочишь! Неужели ты думаешь, что Сыны Неба глупей тебя? — Нет, нет! Что ты! — испугался У-ух. — Тогда почему же всезнающие и всесильные небожители не предлагают нам разводить животных, а ты предлагаешь? У-ух виновато молчал… А три луны спустя снова пришли Сыны Неба. — У нас тут появилась идейка, — сказали они. — Почему бы твоему племени не обзавестись домашним скотом? А? Дело надежное, проверенное… И старый Э-эх чистосердечно поблагодарил небожителей за их безграничную доброту и мудрость. — Что бы мы делали без вас. Сыны Неба?! — воскликнул он. — Не забывайте нас и не оставляйте без своих мудрых советов. И стали разводить первобытные люди скот. И были сыты и счастливы. И только один У-ух не знал покоя. Потому что втемяшилась ему в его беспутную головушку еще одна новая мысль. — Если в землю посадить зерно, из земли вырастет колос. на котором будет много зерен. Так? — Допустим… — уклончиво проговорил Э-эх. — А если потом посадить очень много зерен, что тогда будет? — А кто его знает, что будет… — осторожно ответил Э-эх. — А я знаю… Тогда вырастет очень, очень много колосков, на которых будет очень, очень много зерен. И у нашего племени всегда будет хлеб! — Вяжите его, люди! Подвешивайте его вниз головой! — визгливо закричал Э-эх. — Он оскорбляет Сынов Неба! Он считает, что небожители глупей его! — Нет, нет, нет! — испугался У-ух. — Так почему же Сыны Неба не предлагают сеять хлеб, а ты осмеливаешься предлагать?! У-ух испуганно молчал… А со временем небожители объяснили Э-эху, как сеять и убирать хлеб. И вождь первобытного племени был поражен мудростью и всеведением Звездных Пришельцев. А У-ух не обижался. Он думал, как превратить каменный век в бронзовый. Более того — он уже знал, как это сделать. Но даже боялся об этом заикнуться… Так что и без небожителей были у нас кой-какие находки и открытия. Но Сыны Неба, как видите, помогали, и помогали здорово. Потому что без их помощи справиться с таким неандертальцем. как Э-эх, не смог бы ни один человек. А тем более — доисторический.
НА ЧЕМ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ
— Дайте мне точку опоры, и я сдвину земной шар! — пообещал молодой ученый.
И в целях всемерного выдвижения молодых кадров ему поручили провести этот небезопасный для планеты эксперимент.
Выхлопотали для НИИ точку опоры. Установили. Можете сдвигать!
— А рычаг? — спрашивает молодой ученый.
— Какой рычаг?
— Которым сдвигать.
— Здравствуйте! Почему же вы сразу про рычаг не сказали? Кто нам теперь, в середине года, рычаг выделит?!
Ну, в целях всемерного укрепления дисциплины отчитали молодого ученого, покритиковали… А рычаг все равно доставать надо. Стали хлопотать. Написали обоснованную заявку, провели через Всехвсемснаб. И добились своего. В целях оказания всемерной помощи научным учреждениям Всехвсемснаб твердо пообещал выдать в следующем году рычаг. Новый. Хороший. И не подвел: выдал точно в срок.
Но ведь точка опоры весь прошлый год оставалась неиспользованной. И в этом году в целях всемерного пресечения бесхозяйственности точку опоры у НИИ забрали. А без нее с одним рычагом планету ни за что не сдвинешь. Даже пробовать нечего.
Опять отругали ученого. И в следующий раз, учтя ошибки прошлых лет, НИИ послал заявку и на точку опоры, и на рычаг.
Послал заблаговременно, в целях своевременного оформления.
Во Всехвсемснабе заявку внимательно изучили и в целях всемерной экономии урезали: точку оставили, а рычаг сократили. Тем более что весь прошлый год рычаг в НИИ шлялся без дела и даже стал ржаветь…
И опять молодому ученому пришлось начинать все сначала. Снова пришлось доказывать, что если ему дадут и точку, и рычаг, то он сдвинет земной шар.
И до того он издергался, до того нервы себе истрепал, что стал на людей бросаться и бюрократов чуть ли не бюрократами называть.
Ну, тут, конечно, и бюрократы обиделись: они ведь тоже люди, особенно в неслужебное время.
— Раз так, — говорят, — не дадим тебе ни точки опоры, ни рычага. Попробуй-ка без нас земной шар сдвинуть! Нет уж, пока мы здесь, не видеть тебе сдвигов как собственных ушей!
И вот уже сколько лет прошло, Земля на месте держит-си. И бюрократы тоже.
А с другой стороны, если хорошенько подумать, то зачем нужно планету сдвигать? В каких целях? В целях всемерного — чего?
Так бюрократы и спасли земной шар!
СОГЛАСНО НАУЧНЫМ ДАННЫМ
Я проснулся поздно ночью от какого-то громкого дребезжащего звука. Не открывая глаз, я старался определить, что это за непонятный звук. И наконец догадался: кто-то настойчиво стучал ко мне в окно.
Это было странно. Это было очень странно, если учесть, что живу я на тридцать шестом этаже. Чертыхаясь, я вскочил с постели и раздвинул шторы. За окном, недалеко от подоконника, стоял человек. Вернее, он не стоял, а почти неподвижно висел в воздухе. А над головой этого странного человека серебристым нимбом вставала луна, заливая холодным светом его гладкую покатую лысину.
Признаться, я несколько опешил. А тот, за окном, увидев меня, радостно замахал руками и, словно потеряв равновесие, резко взмыл вверх, затем промелькнул, падая вниз, и, наконец, опять повис передо мной, заняв исходную позицию.
— Что вы здесь делаете? — строго спросил я, приоткрыв форточку.
— Сейчас я вам все объясню. — Он приблизился к форточке. — Если я не ошибаюсь, вы астроном?
— Ну и что?
— Вы специалист по инопланетным цивилизациям?
— Да. — сказал я, все более удивляясь его осведомленности.
— Чудесно. Вы именно тот человек, который мне нужен. Ведь вы человек, да?
— Разумеется.
— А я турианин, житель планеты Тур. Вам это что-нибудь говорит?
— Н-нет…
— Ну это неважно. Вероятно, у вас наша планета известна под другим именем. А кстати, как называется ваше небесное тело? — спросил он, пытаясь просунуть голову в форточку.
— Земля.
— Зем-ля? Земля! Впервые слышу. Но дело не в этом. Если бы вы соблаговолили впустить меня в помещение…
— О конечно, конечно! — Я поспешил гостеприимно распахнуть окно: дальше разговаривать с инопланетным гостем через форточку было бы просто неприлично.
— Весьма признателен, — церемонно раскланялся турианин и, старательно вытерев ноги о подоконник, впорхнул в комнату.
Одет он был несколько облегченно. Яркие полосатые плавки с кармашками на кнопках да резиновые лягушачьего цвета ласты — вот, пожалуй, все, что было на нем. Если нс считать вытатуированного на правой руке слова «Катя», и на левой — «Зина».
— Разрешите, я присяду, — устало сказал он и, опустившись в кресло, закрыл глаза. — Просто не верится, что в уцелел. Звездолет потерял управление. Мы падали целую вечность и, наконец, прошлой ночью врезались в вашу планету. Ведь ваше небесное тело — планета, да? — вдруг встревожился турианин.
— Конечно, планета.
— Ах как хорошо!.. К счастью, мы упали в море или в пот… Как у вас называются самые большие водоемы?
— Океан.
— Да, да. Мы упали в океан и пошли ко дну. Из всего типажа спасся только я один. Это ужасно, ужасно…
Если бы я не видел собственными глазами, как этот человек запросто прогуливался по воздуху на уровне тридцать шестого этажа, я бы, конечно, не поверил его рассказу. Но. черт возьми, я же видел…
И тут мой гость, будто уловив мои мысли, открыл глаза и внимательно посмотрел на меня.
— Простите, — сказал он, — как называется то чувство, которое в данную минуту выражает ваше лицо?
— Скорей всего, удивление, — признался я.
— А что вас удивляет?
— Очень многое. Например, когда вы успели выучить наш язык? Разве это не удивительно?
— А разве не удивительно, что я вообще похож на человека? Вам приходилось встречать на других планетах существа, внешне похожие на людей?
— Нет.
— Так вот, должен вам сказать, что мы, жители планеты Тур, совершенно не похожи на обитателей вашей планеты. Мы вообще не похожи ни на что известное вам. Но благодаря достижениям нашей великой науки мы научились трансформироваться и приобретать любую форму, что, конечно, намного облегчает нам контакты с другими цивилизациями. Преображаемся мы мгновенно. Вот когда я, например, всплывал с затонувшего звездолета, я встретил по дороге множество разнообразных плавающих существ. В силу этого я ошибочно подумал, что они, вероятно, и есть основное население этой планеты.
— Вы говорите о рыбах?
— Вот именно. Я сразу принял форму одной большой рыбы, но тут же чуть не был проглочен другой, еще большей особью того же класса низших позвоночных. Тогда я поспешил выбраться на берег и, чтобы не оказаться случайно съеденным, принял форму камня. Правда, мне известны миры, где питаются исключительно камнями. Поэтому я на всякий случай превратился в камень несъедобный. А утром на берегу появились другие существа. Чтобы вторично не допустить ошибки, я целый день внимательно наблюдал за ними и наконец пришел к выводу, что они все же являются представителями разумной цивилизации. Тогда я и превратился в точную копию одного из этих людей.
— Ах, вот оно что! — Я засмеялся. — Теперь мне понятно, почему вы так странно одеты: ласты, плавки…
— А в чем дело? — серьезно встревожился турианин. — В моем костюме что-нибудь не так?
— Нет, нет. Ваш туалет вполне хорош для пляжа. Но не для вечерних прогулок. Вы не боитесь простудиться?
— Простите, я не понял вашего вопроса.
— Вам не холодно?
Турианин задумался.
— Если я правильно понял, вы спрашиваете, не ощущаю ли я, что температура окружающего воздуха ниже температуры моего тела? Да, я чувствую эту разницу, и она вызывает во мне скорее отрицательные, чем положительные эмоции.
— В таком случае, я могу предложить вам халат.
— Это что — халат? Ах, то, что на вас. Да, это, пожалуй, подойдет. — И турианин сразу же оброс таким же халатом. — Но вернемся к делу. Мы, к сожалению, очень ограничены временем. На счету каждая минута. Ведь я не сообщил вам, в чем самое главное и трагическое отличие нашего мира от вашего. Только прошу вас, не пугайтесь. Вам известно, что, кроме материи, существует антиматерия?
— Конечно.
— Так вот, согласно данным нашей науки Тур состоит из антиматерии. Ну и я, разумеется, тоже.
— Вы из антиматерии? — переспросил я, невольно отодвигаясь от него.
— Вот именно.
— Но как же мы с вами общаемся? Ведь соприкосновение материи с антиматерией должно непременно привести к взрыву.
— Абсолютно верно. И это роковое обстоятельство долгое время препятствовало нашим связям с другими мирами. Однако турианские гениальные ученые изобрели автоматические преобразователи, которые превращают антиматерию в материю и наоборот. Преобразователи делают это без нашего участия и без нашего ведома, самостоятельно определяя, какими должны мы быть в данный момент: материальными или антиматериальными. И нам остается лишь время от времени периодически подвергаться облучению преобразователя — и все. Но теперь мой преобразователь находится на дне океана, а срок действия последнего облучения подходит к концу. И я рискую вскоре снова превратиться в антиматерию. Вы представляете, какой фейерверк будет? Впрочем, если хотите, я могу довольно точно рассчитать силу взрыва. Дайте-ка мне карандаш… Значит, так, берем массу моего тела, умножаем на…
— Да погодите вы считать! — Я начинал нервничать. — Неужели ничего нельзя придумать, чтобы помочь вам? Сколько осталось времени до этого… ну, до вашей антиматериализации?
— Два часа тринадцать минут, — спокойно ответил турианин. — А придумывать ничего не нужно. У меня, слава богу, сохранилась рация, — он почему-то похлопал себя по животу, — я вызову нашу «Скорую помощь», и за мной прибудут.
— Прибудут? За два часа? — удивился я.
— Почему за два часа? — в свою очередь удивился турианин. — Гораздо раньше. Это же помощь — скорая! Но чтобы меня нашли, мне нужно сообщить на Тур мои точные координаты: район галактики, созвездие, звезду, планету, широту, долготу и номер дома. А ведь я понятия не имею, куда меня занесло. Я даже не представляю, наша это галактика или чужая. И выручить меня может только астроном. О, если бы не это обстоятельство и не угроза скорой антиматериализации, я ни за что не решился бы тревожить вас в столь позднее время. Еще раз прошу прощения!
— Пустяки, пустяки! — поспешил я успокоить гостя. —Давайте-ка лучше уточним наши координаты и вызовем за вами «Скорую помощь».
— Да, да! Честно говоря, мне очень не хотелось бы взорваться до их прибытия, да еще в вашем гостеприимном доме. Давайте-ка карту галактики.
Я торопливо раскрыл звездный атлас. Турианин внимательно всмотрелся в карту и наконец, юркнув пальцем в центр галактики, сказал:
— Моя планета находится здесь. Ах Тур, Тур! — Он вздохнул. — Это далеко от вашей планеты?
Я не сразу решился открыть ему страшную правду.
— Ну что же вы молчите?
— Ваша планета… — хрипло начал я и откашлялся. Голос у меня постыдно дрожал. — Ваша планета находится на расстоянии в тридцать тысяч световых лет.
— Тридцать тысяч? Ну, для «Скорой помощи» это преодолимо. Постараемся только быстрей передать мои координаты. Покажите местоположение вашей планеты.
— Земля находится примерно в этом месте, — и я показал на едва заметную точку, обозначавшую наше Солнце.
— Где, где? — озадаченно переспросил турианин.
— Здесь, — повторил я.
— Этого не может быть, — улыбнулся турианин. — Вы что-то путаете.
Слова эти показались мне очень обидными.
— Я двадцать пять лет занимаюсь астрономией и достаточно хорошо знаю, где находится Земля.
— Чепуха! Согласно данным нашей науки, в той части галактики, где, по вашим словам, якобы находится ваша планета, нет и не может быть никакой жизни вообще. И вообще планета ваша не планета, как вы ошибочно полагаете, а всего лишь газовая туманность. Так утверждает наша наука. Я вам сочувствую, но ничего не поделаешь.
— А разве турианские ученые не могут ошибаться?
— Я попросил бы вас выбирать выражения! — резко заметил мой гость. — Не забывайте, что вы говорите о турианской науке!
— Ну хорошо, не будем спорить. Вызывайте вашу «Скорую помощь», и все!
— Да вы что? Как я могу вызвать «Скорую помощь» на планету, которой согласно данным нашей науки не может быть? Это же абсурд!
— А то. что вы сами находитесь на такой планете, которой согласно данным вашей науки не существует, это не абсурд? — закричал я. — Находитесь вы здесь или нет?
Турианин задумался. Думал он долго. А я физически ощущал, как приближается то страшное мгновение, когда мой гость антиматериализуется…
— Да, я нахожусь на этой планете, — сказал он наконец. — но это не может опровергнуть данных нашей науки о том, что ваша планета не существует.
Положение становилось безвыходным. И я лихорадочно соображал, что же делать.
— Есть простой способ проверить, кто из нас прав. Вы сейчас же вызываете «Скорую помощь», указывая координаты Земли. Если Земли нет, «Скорая помощь» вас не найдет. Если же Земля существует, вас найдут и вы благополучно возвратитесь на свой родной Тур.
— А что потом? А потом меня обвинят в ереси и неверии в нашу науку. Наука, скажут, утверждает, что Земля не может быть, а он, видите ли, упал на Землю. Он, видите ли, верит своим глазам и личным субъективным чувствам больше, чем объективным данным нашей науки! Да вы понимаете. чем это пахнет? Нет уж, я предпочитаю взорваться!
— В таком случае прошу вас немедленно убираться вон! Вы же умеете передвигаться по воздуху. Вот и летите подальше от города и взрывайтесь, если вам так хочется! — Я распахнул окно.
Но турианин подошел и опять закрыл его.
— Дует! — объяснил он, снова усаживаясь в кресло и кутаясь в халат. — Кто вам сказал, что я хочу взорваться? Я сказал только, что предпочитаю. А это, друг мой. не одно и то же. Просто я не вижу выхода из моего безвыходного положения. И потом, вы-то почему взрыва боитесь? Вас-то все равно нет!
— Согласно данным вашей науки?
— Вот именно.
— Ну а кто же минуту назад открывал окно?
— Вы.
— А как я мог это сделать, если меня нет?
Турианин снова задумался. А взрыв неминуемо приближался…
— Действительно, — проговорил турианин, — для того чтобы объект совершил какое-либо действие, он, объект, должен существовать. Это бесспорно. А с другой стороны, согласно данным нашей науки этот объект не существует. И следовательно, это тоже бесспорно. Как объяснить такое противоречие? Может ли быть то, чего быть не может? Может ли существовать несуществующее?
— Может! — сказал я уверенно, потому что, как мне показалось. я понял, в чем мой единственный шанс на спасение. — Конечно, может. Ведь существует, например, небытие. И мы способны находиться в состоянии небытия. То есть существовать в том состоянии, когда мы не существуем.
— Да, да, — оторопело согласился турианин.
А я, не давая ему опомниться, продолжал:
— И теперь я понял, что, утверждая тот объективный факт, что мы не существуем, ваша наука была абсолютно права.
— А я что говорил! — встрепенулся турианин.
— И верно говорили. Но есть материя и антиматерия. Есть бытие и небытие. И Земля бытует в состоянии небытия, что и подчеркивала ваша великая наука. — Да, в этом был мой единственный шанс: не спорить, а соглашаться. — И теперь это гениальное теоретическое предвидение вашей науки вы сможете подтвердить конкретными фактами, ибо вы единственный побывали на несуществующей планете, общаясь с ее несуществующими жителями, и лично видели все то несуществующее, невозможность существования которого всегда утверждала ваша наука! И было бы крайне непростительно и непатриотично позволить себе взорваться и погубить тем самым такие ценные научные данные.
Очевидно, страх взорваться во сто крат увеличил мои ораторские способности. Турианин слушал меня, не перебивая, а когда я кончил, довольно отметил:
— Приятно иметь дело с разумным существом! Давайте поскорее ваши координаты и не забудьте указать номер квартиры, чтобы «Скорой помощи» не пришлось меня разыскивать по всему дому. Времени у нас в обрез. И попрошу вас удалиться, пока я буду разговаривать с Туром.
…Я стоял под холодным душем и думал о представителе гордой и могучей цивилизации, познавшей тайны материи и времени, о турианине, который не верил своим глазам, потому что верил в непогрешимость научных данных…
Но постепенно мне начало казаться, что ничего этого не было. Просто не могло быть.
А когда я вернулся, окно было распахнуто и в комнате топтались два дюжих санитара в белых халатах.
— Молодцы, ребята, как раз вовремя подоспели! — говорил им турианин, пока они привычно укладывали его на носилки. — Еще бы чуть-чуть, и готово! Преобразователь у вас с собой?
— А то где же? — ответил первый санитар. — Ну пошли, что ли?
— Пошли! — согласился второй, и, подняв носилки с турианином. они медленно прошли мимо меня.
— Значит, не существуем? — весело подмигнул мне мой гость. — Ну-ну, не существуй!
А санитары пронесли его мимо и спокойно, не торопясь, вышли в окно.
КОЕ-ЧТО О ЧЕРТОВЩИНЕ
Зал был переполнен. И, несмотря на то что доклад продолжался уже полтора часа, аудитория с неослабевающим вниманием слушала молодого ученого.
— Итак, к сожалению, современная наука не располагает прямыми доказательствами того, что представители инопланетных цивилизаций когда-либо посещали нашу Землю. Но десятки мифов, апокрифов, сказаний и легенд хранят в зашифрованном, а подчас и искаженном виде воспоминания человечества о встречах со звездными пришельцами.
И если эти воспоминания бережно очистить от последующих наслоений и правильно расшифровать, то мы убедимся, что за время своего невероятно короткого в космических масштабах существования человечество не раз уже становилось объектом пристального внимания со стороны разумных существ иных миров.
С этой точки зрения мне и хотелось бы в качестве примера рассмотреть одну из наиболее интересных и распространенных легенд — легенду о докторе Фаусте.
Нет сомнений, что эта легенда имеет историческую основу. Но даже при беглом ознакомлении как с самой легендой, впервые изданной в 1587 году, так и с ее многочисленными вариантами сразу же бросается в глаза одна любопытная деталь.
Зачем Мефистофелю так уж понадобился престарелый Фауст?
Как известно, с первого дня своего существования церковь утверждала, что человечество погрязло в грехах. Мы не можем сегодня точно сказать, при каком количественном соотношении праведников и грешников человечество с точки зрения церкви считалось погрязшим, а при каком — нет. Но если даже допустить, что во времена Фауста число грешников относилось к числу праведников, как 1: 100, и при этом учесть характерный для средневековья высокий процент смертности, то каждому станет ясно, что ад никак не мог испытывать недостатка в грешниках. И следовательно, для Люцифера вопрос о том, будет ли в аду одной душой больше или одной душой меньше, не мог иметь принципиального значения.
А в таком случае спрашивается, зачем нужно было Мефистофелю прилагать такие в буквальном смысле этого слова адские усилия, чтобы заполучить душу какого-то доктора?
Вспомните, чего только не предлагает Мефистофель Фаусту в обмен на его подпись: и знания, и деньги, и славу, и молодость, и, наконец, власть. Ведь он, Мефистофель, становится слугой и даже рабом Фауста, заключив с ним этот кабальный для себя договор. Ради чего он шел на это? В чем дело?
Легенда не дает ответа на подобные вопросы. А дело, как мне кажется, заключалось в следующем.
Как по-вашему, кем был Мефистофель? Высокопоставленным чертом? Личным посланником Люцифера? Или самим Люцифером? Нет, конечно же, нет!
Тогда, может, он был обыкновенным человеком, превращенным фантазией безымянных авторов легенды черт знает в кого? Тоже нет! Мефистофель не был человеком в обычном значении этого слова.
Так кем же он все-таки был?
Пришельцем с другой планеты, представителем необычайно высокоразвитой цивилизации — вот кем был гот, кого мы и в дальнейшем будем условно именовать Мефистофелем.
Я понимаю, что такое утверждение звучит несколько неожиданно и странно. Но попробуйте с точки зрения этой гипотезы рассмотреть описываемые в легенде события, и вам все станет ясным и понятным.
Откуда именно прилетел Мефистофель? Пока не знаю. Может быть, с Марса, может быть, с одной из ближайших нам звезд (например, с 61 — й Лебедя), а возможно, из другой галактики. (Опять-таки условно договоримся называть планету Мефистофеля по первой букве его имени — планетой ЭМ.)
Зачем прилетел Мефистофель? Да затем же, зачем мы собираемся лететь на соседние планеты: в научных целях.
Не исключено, что в задачи Мефистофеля входило выяснение следующего: а) есть ли вообще жизнь на Земле; б) есть ли надежда на то, что на этой загадочной планете когда-либо появятся так называемые разумные существа; в) если таковые уже паче чаяния появились, то на каком уровне находится в данное время земная цивилизация, и так далее…
Как известно, к моменту встречи с Фаустом Мефистофель успел изучить эти вопросы. Но то ли из-за инопланетного происхождения, то ли в силу своих личных качеств Мефистофель давал всему происходившему на Земле чересчур субъективные объяснения, на что, кстати, ему неоднократно указывал доктор Фауст. (Вспомните их многочисленные споры, в ходе которых и та и другая стороны наговаривали в полемическом задоре немало лишнего.)
Вероятно, лица, пославшие Мефистофеля на нашу планету, предвидели, насколько необъективны, односторонни, а следовательно, недостоверны будут сведения, полученные Мефистофелем в этой сложной экспедиции. И поэтому (здесь-то я и подхожу к узловому вопросу моей гипотезы) Мефистофелю было поручено при возвращении на ЭМ захватить с собой кого-нибудь из земных аборигенов, гораздо лучше разбирающихся в делах родной планеты чем пришелец из другого мира.
Правда, мы сами далеко не всегда понимаем, что у нас происходит. Но об этой нашей особенности эмийские ученые могли не знать.
Итак, Мефистофелю надлежало доставить на ЭМ одного землянина. Естественно, он старался подобрать наиболее достойного, наиболее образованного представителя эпохи. И после долгих раздумий и поисков совершенно правильно остановил свой выбор не на каком-нибудь знатном дворянине или даже короле — нет, он выбрал серьезного ученого, энциклопедическая образованность, научная добросовестность которого не подлежали сомнению. Это и служит объяснением того, зачем Мефистофелю нужен был Фауст, а не кто-либо другой.
Но, рассуждая таким образом, мы спросим: а знал ли уважаемый ученый, кем является Мефистофель? Нет, не знал! А пытался ли Мефистофель объяснить ему, откуда и с какой целью он прибыл? Нет, не пытался. И даже более того — и это очень интересная деталь, — я подозреваю, Мефистофель сам уверил Фауста, что явился непосредственно из преисподней. Почему? А вот почему.
Давайте проведем следующий мысленный эксперимент.
Представим себе, что сегодня на Земле объявился дьявол, и вот приходит он в гости к современному ученому. Кем он отрекомендуется? Чертом? Ни в коем случае! Иначе ему долго придется убеждать неверующего ученого в том, что это не дурацкий розыгрыш.
Но если черт учтет характерное для нашего времени увлечение космическими проблемами и представится гостем из космоса, ученый с огромным интересом отнесется к его появлению и согласится следовать за ним куда угодно..
Так обстоит дело сегодня. Но в Средние века все было наоборот. И если бы тогда Мефистофель рискнул открыться Фаусту и рассказал ему все, как есть в действительности, Фауст просто счел бы его сумасшедшим.
И дабы доказать, что он прилетел с другой планеты, Мефистофелю пришлось бы объяснить средневековому ученому все, начиная с того, что Земля вертится вокруг Солнца, кончая теорией относительности, квантовой физикой и принципиальной схемой фотонного двигателя.
Бесспорно, престарелый Фауст, несмотря на свои незаурядные способности, не в силах был бы усвоить такое количество новой информации, и все могло кончиться самым трагическим образом, что абсолютно не устраивало Мефистофеля.
Куда проще было выдать себя за нечистую силу, общение с которой считалось тогда ужасным, но обыденным делом. И, как мы знаем. Фауст с легкостью поверил этой мистификации. Тем более что, пользуясь неизвестными на Земле достижениями эмийской науки и техники. Мефистофель умел проходить сквозь стены, летать, становиться невидимым — словом, проделывать то, что с точки зрения Фауста служило несомненным доказательством принадлежности Мефистофеля к определенной категории служителей ада.
Но для чего Мефистофелю нужно было столько времени возиться с Фаустом? Разве он не мог просто обманным образом увезти Фауста на ЭМ? Зачем ему нужна была личная подпись доктора?
Я думаю, все объясняется тем, что на планете ЭМ вели — чайшего расцвета достигли не только наука и техника. И в то время как у нас на Земле царили произвол и беззакония средневековья, на ЭМ демократия была на таком уровне и свобода личности ценилась так высоко, что какое бы то ни было насилие над личностью, пусть даже инопланетной, считалось абсолютно недопустимым.
Мефистофель знал, какие неприятности ждут его, если он нарушит этот закон, и ему необходима была подлинная подпись Фауста, свидетельствующая, что он, Фауст, покинул Землю по доброй воле.
И эту подпись, как мы знаем, он получил, уверив ученого, что тот подписывает всего лишь документ о продаже своей души.
Но здесь возникает деликатный вопрос: как же представитель высокоразвитой цивилизации, воспитанный в духе безграничного уважения к личности, позволял себе обманывать бедного старого Фауста? Как он мог использовать невежество ученого в своих корыстных целях?
Да, это было бы совершенно необъяснимо, если бы мы не учли того факта, что Мефистофель длительное время общался с людьми. А среда, как известно, оказывает влияние на любое разумное существо.
И еще одно: наружность Мефистофеля. Можно, конечно, предположить, что рогами, хвостом, шерстяным покровом и тому подобными атрибутами космический гость украшал себя только затем, чтобы соответствовать представлению Фауста о внешнем виде нечистой силы. Но я думаю, что это неверно.
Ведь жители ЭМ вовсе не обязательно должны выглядеть так же, как мы. И вполне возможно, у них действительно есть рога, хвост и так далее.
Может быть, это всего лишь рудименты, нечто вроде слепой кишки у человека. А может быть, это органы, выполняющие определенные функции. Скажем, то, что мы называем рогами, может в действительности быть V-образной антенной, служащей для приема телепатических передач. (Не зря Мефистофель умел читать мысли на расстоянии.) А коль рога — антенна, то хвост, естественно, заземление.
И если вспомнить, как из шерсти кошек вылетают электрические искры, то можно предположить, что густой шерстяной покров, характерный для эмийцев, является аккумулятором и источником электричества, питающего биоусилители телепатических устройств.
Но почему, можем спросить мы, внешний вид эмийцев так совпадает с обликом нечистой силы? А вот это и есть интереснейший классический случай подмены причины следствием. Кто сказал, что Мефистофель — первый эмиец, побывавший на Земле? Разве нельзя предположить, что эмийцы с давних времен засылали на нашу планету одну экспедицию за другой?
И легенды о многочисленных встречах с нечистой силой являются отражением встреч людей с загадочными эмийцами. И представление о внешности чертей появилось как раз вследствие вышеуказанных встреч.
Почему подобные встречи прекратились в последние столетия? Может быть, эмийцы, достаточно хорошо изучившие нас, занялись другими планетами. А может, наоборот, увидев, что люди не в состоянии понять их, они решили подождать до тех пор, пока наша цивилизация достигнет уровня, необходимого для взаимопонимания и общения с разумными существами других планет.
Возможно, теперь это время уже наступило. И мы должны быть готовы, что к любому из нас может неожиданно заявиться гость, который скажет: «Здравствуйте, я Мефистофель!»
С этими словами молодой ученый в последний раз взглянул на аудиторию, поправил модно завязанный галстук и, взмахнув рукой, бесследно растаял в воздухе.
РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ БЫЛ ГЕНИЕМ
Этот препарат называется просто: «Озарин».
Если вы захотите стать на 5 минут гениальным, зайдите в аптеку и в отделе готовых лекарств купите его. Правда, озарин отпускается по рецептам, но вы попросите — и вам дадут его так.
Человек, открывший озарин, был моим лучшим другом. Еще тогда, когда нигде и ни за какие деньги нельзя было достать этот препарат, потому что каждый миллиграмм его выдавался на руки только после соответствующего постановления Организации Объединенных Наций, — еще тогда мой друг подарил мне целую таблетку этого чудодейственного средства.
— Я знаю, — оказал мой друг, — что ты уже десять лет работаешь над своим изобретением. Эта таблетка поможет тебе с блеском завершить твой труд.
— Но действие таблетки продолжается всего пять минут.
— Ну и что? Пять минут гениальности — это более чем достаточно для любого открытия. Конечно, если бы, например, Ньютон не подумывал и раньше над тем, что такое тяготение, гениальная догадка вряд ли озарила бы его при виде падающего яблока. Но ведь сам момент озарения длился не более минуты.
За одну минуту он увидел то, чего не замечал прежде, — увидел связь между вроде бы не связанными явлениями, и ему открылась Великая Истина. А у тебя будет пять таких минут. И ты столько лет вынашивал свою идею и накопил такое количество знаний, что достаточно будет мгновенного озарения, и все станет на свои места. Бери! — И он протянул мне плексигласовую коробочку, в которой находилась драгоценная таблетка. И я сам, и все мои друзья не сомневались в том, что я талантлив и удачлив. В институте гордились мной, а изобретение, которому я отдал десять лет и которое считал главным делом всей своей жизни, могло принести мне в один прекрасный день настоящую славу. И таблетка озарина должна была приблизить этот день.
Едва мой друг ушел, я заперся, набрал полную авторучку чернил и, положив перед собой стопку бумаги, чтобы записывать все гениальные мысли, какие только придут мне в голову, проглотил таблетку.
Я проглотил таблетку и стал с нетерпением ждать, как проявится моя гениальность и какие великие истины откроются мне.
И озарин не подвел. Я действительно в тот же день довел до конца многолетнюю работу, увидел то, чего никто не замечал раньше, и великие истины открылись мне…
Уже в первую минуту действия озарина я увидел, что мое изобретение ни к черту не годится и не представляет собой никакого интереса…
Во вторую минуту я с гениальной ясностью понял, до чего я бездарен…
А оставшиеся три минуты гениальности я вдохновенно писал заявление директору нашего НИИ. Я просил разрешить мне прекратить работу над изобретением ввиду полной бесперспективности последнего.
Все говорили потом, что заявление было написано гениально.
Так вот, как я уже сказал, в продажу поступил новый препарат озарин. Требуйте во всех аптеках и аптечных киосках!
Но я бы на вашем месте хорошенько подумал, прежде чем требовать…
«ЭФФЕКТ ТАРАБУБИНА»
Кафе было переполнено. И только за угловым столиком, где лысоватый гражданин в одиночестве ожесточенно расправлялся с куском мяса, имелось свободное место.
— Вы не возражаете? — спросил я, присаживаясь.
— Пожалуйста, — пробормотал он, не прерывая своего единоборства со шницелем натуральным.
Через минуту сосед попросил передать ему соль.
Потом я, в свою очередь, попросил у него горчицу.
Затем он, поднимая рюмку, вежливо произнес: «Ваше здоровье!» И знакомство, можно считать, состоялось.
А спустя еще три минуты победитель шницеля удовлетворенно откинулся на спинку стула и закурил.
— Вот вы говорите: «Медицина, медицина!» — начал он вдруг. — Но это не наука, а темный лес. Они не только вылечить больного не могут — это бы еще полбеды. Они даже здорового не в состоянии сделать больным, когда их просят…
— То есть как? — Последнее утверждение показалось мне странным.
— А так!.. Официант, пожалуйста, еще сто граммов… Я вам на собственном печальном примере могу это доказать, если желаете. Помните, была у нас страшнейшая эпидемия азиатского гриппа? Говорили, будто его к нам из Европы завезли. Но это так, обывательские разговорчики. А в самом деле этот вирус пришел из Гренландии. И в самых узких осведомленных кругах его так и называли гренландским гриппом.
Ну вот, значит, гуляет эта эпидемия. Все болеют — и я болею. Температура под сорок, кашель, бюллетень. Все как у людей. Участковый врач три раза приходил. Очень милая женщина, чуткая, внимательная, беленькая. Вера Ефимовна.
Ну, ладно. Стал я поправляться, поправился, пошел в поликлинику закрывать бюллетень. Вижу, очередь к моему врачу — человек десять больных. «Вот, думаю, попался!» Я-то ведь к тому времени был выздоровевший и для окружающих безопасный. А эти. возможно, только болеть начинают. У них, возможно, микробы в самом расцвете сил. Пойди угадай, кто здесь чем болен и у кого какую инфекцию подхватить рискуешь! А эти, бациллоносители, сидят и спокойно книжки читают. А одна разносчица инфекции. так та даже варежки вяжет!
Господи, думаю, хоть бы поскорее меня доктор принял!
И только я об этом подумал, выходит из кабинета Вера Ефимовна — и ко мне:
— Тарабубин, прошу вас!
И что удивительно, бациллоносители — ни слова! Как будто так и полагается пропускать меня вне очереди.
Вера Ефимовна выслушала меня, попросила дышать — не дышать, измерила давление.
— Что ж, — говорит, — вы практически здоровы! Завтра можете выходить на работу.
— Спасибо, — отвечаю, — за то, что вы так быстро поставили меня на ноги! — Но сам думаю: «Эх, хорошо бы еще хоть недельку погулять!»
А Вера Ефимовна вручает мне бюллетень и заявляет:
— Да, поправиться вы, конечно, поправились. А вот отдохнуть после такого тяжелого гриппа вам не мешало бы. Так что я продлеваю ваш бюллетень еще на семь дней. Всего хорошего!
Признаться, я и в этот раз никакой прямой связи между моими желаниями и их исполнением не зафиксировал. Я только горячо поблагодарил врача за чуткую заботу о моем здоровье и поскорее удалился.
А по дороге домой я, как обычно, остановился у магазина электротоваров. В витрине магазина стояла моя заветная мечта — холодильник «Сочи». Я давно уже записался в очередь на этот холодильник и, по моим расчетам, должен был получить его через полгода. Но почти каждый день, возвращаясь со службы, я хоть на несколько минут задерживался у витрины, чтобы полюбоваться будущим украшением нашей кухни. И от одного вида этого белого чуда у меня, честное слово, улучшалось настроение. Человек не может жить без мечты!
И в тот раз я так же разглядывал холодильник «Сочи» и поразительно ясно представлял, как с легким щелканьем открываю его дверцы и извлекаю — не достаю, а именно извлекаю! — из его прохладных глубин запотевшую бутылку жигулевского пива.
И тут на витрине, между холодильником и стиральной машиной, появился продавец и знаками стал приглашать меня в магазин.
Я очень удивился, но вошел в помещение.
— Так выписывать? — спросил продавец. — Не могу же я за каждым покупателем гоняться по улице!
— Что выписывать? — не понял я.
— Что, что? Холодильник будете брать или нет?
Я помчался домой за деньгами, вернулся в магазин, выбил чек. И все еще не мог поверить, что холодильник мой, все боялся, что продавец допустил какую-то ошибку и покупку могут аннулировать… И, чувствуя, что не успокоюсь, пока холодильник не будет стоять у меня в кухне, я как бы между прочим спросил, когда же мне его доставят на дом.
— Завтра-послезавтра, — сказала девушка в отделе доставки. И зевнула.
— А сегодня никак нельзя?
— Никак.
— Но мне очень, очень хотелось бы именно сегодня!
Я понимал, что слова мои звучат глупо и даже издевательски. Но, как ни странно, девушка вдруг встрепенулась:
— Нет, вам вправду хочется? Так чего же вы сразу не сказали? Ну нельзя же так. в самом деле, не могу же я каждое слово клещами из вас вытягивать! Тищенко. Мищенко! Сейчас доставите покупателю холодильник. Да нет. не после перерыва, а сейчас. Сию минуту! Ему очень хочется!
Вскоре холодильник урчал у меня на кухне. И тут только я понял, что со мной творится что-то неладное. Не может здоровому нормальному человеку везти с такой, понимаете ли, исключительной интенсивностью.
На всякий случай я принял пирамидон, прилег на диван и, посасывая таблетку валидола, стал вспоминать все, что со мной в этот день было. И факты неопровержимо свидетельствовали! Но прежде чем начать паниковать, я решил для проверки поставить еще два-три опыта.
Я зашел в магазин, где стояла очередь за живой рыбой, и, ни к кому конкретно не обращаясь, проговорил:
— Что-то рыбки захотелось… Хорошо бы получить!
И очередь послушно расступилась, очищая мне место у прилавка…
Я пошел в местком и сказал, что хоть отпуск полагается мне в декабре, я хотел бы получить его в августе. Очень хотел бы!
— Так за чем же дело стало?! — ответили мне в месткоме. — Хочешь в августе отдыхать — отдыхай. А директор конторы возьмет отпуск вместо тебя в декабре, если ты. конечно, не возражаешь.
Я не возражал. Я думал, какой бы такой эксперимент проделать, чтоб у меня уж никаких сомнений не оставалось. А придумав, направился в горсовет.
В приемной у председателя горсовета толпились посетители. Но я подошел к секретарше и просто сказал, что хотел бы попасть к товарищу Павлову.
— Можете пройти! — строго разрешила мне секретарша. — Правда, у Николая Николаевича заседает комиссия из Москвы, так что вы постарайтесь не задерживаться.
Я обещал исполнить ее просьбу и вошел в кабинет.
— Слушаю вас, — сказал председатель горсовета. — Впрочем, сначала познакомьтесь: это вот товарищи из Верховного Совета. А это — житель нашего города, избиратель. Чаю не хотите?
— Нет, спасибо, я тороплюсь. Я к вам, Николай Николаевич, вот по какому делу. Мы с женой недавно получили двухкомнатную квартиру, а теперь купил я холодильник и чувствую, что мне очень — понимаете: очень! — хотелось бы переехать в трехкомнатную.
Николай Николаевич полистал какие-то списки, подумал…
— А вам, — спрашивает, — действительно очень, очень хочется переехать в трехкомнатную? Только честно!
— Да, — говорю, — очень, очень! И чтоб ближе к центру — тоже очень хочется. Честное слово!
— Ну, что поделаешь! — говорит Николай Николаевич и смотрит на товарищей из Верховного Совета. — Придется уважить…
И через неделю я справлял новоселье. А на душе у меня было неспокойно, потому что не мог я понять, что со мной происходит и не вижу ли я всю эту фантасмагорию в таком сне, после которого и просыпаться не захочешь… Официант, еще сто граммов, пожалуйста. Даже сто пятьдесят!
Так вот, лежу я в новой квартире на новой американской тахте, которую удалось мне выхлопотать через Министерство внешней торговли, и думаю: что же это творится? Хотя бы доктор мой, Вера Ефимовна, пришла. Ну, ясно — приходит! Приезжает прямо на «неотложке»!
— Что с вами, голубчик?
— Да вот, доктор, творятся со мной ненормальные вещи. Стоит мне захотеть, чтобы кто-нибудь что-нибудь для меня сделал, — и готово. Любое мое желание тут же претворяется в жизнь. И вы, например, ко мне сейчас пришли только потому, что так мне захотелось.
— Успокойтесь, голубчик, — говорит Вера Ефимовна. — Як вам пришла потому, что у нас каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь. А судя по вашим симптомам, у вас чрезвычайно редкое, хоть и известное медицине, осложнение после гренландского гриппа. Это своеобразное воспаление определенного участка мозга. Благодаря воспалению отдельные клетки начинают работать так интенсивно, что больной бывает способен внушать свои желания другим людям даже на расстоянии.
— А это осложнение излечимо? — спрашиваю я, а сам. честно говоря, надеюсь, что Вера Ефимовна скажет: «Ну, знаете, врачи — не боги» или: «В данном случае медицина бессильна».
Но Вера Ефимовна ничего такого утешительного не сказала. Наоборот, она прямо заявила:
— Осложнение это не опасное, если больной не позволяет себе ничего лишнего. В противном случае все может кончиться катастрофой. Но ученые всего мира ищут эффективное средство для борьбы с этой болезнью и не сего дня-завтра найдут!
Короче говоря, я понял, что счастье мое не вечно, выздороветь я могу в любую минуту и, значит, нужно ценить время.
Я не жалел себя и использовал свое осложнение на полную мощность!
Но уже через десять дней выяснилось одно неожиданное обстоятельство. Оказалось, что я не был как следует подготовлен к своей болезни и никаких особых желаний у меня нет. А такие заветные мечты, как японский гарнитур для кухни, французские обои для коридора, итальянский кафель для ванной и спальня из родной карельской березы — эти мечты уже осуществились.
А дни уходили. И мое осложнение, благодаря которому я пользовался такой невероятной властью, моя редчайшая болезнь грозила вот-вот исчезнуть, как сон, как утренний туман.
И я нервничал, читая в газетах, что ученые ищут лекарства. Я нервничал и хватал все. что попадало под руку. Контора моя построила для меня двухэтажную дачу в Подмосковье. То есть построили дачу не для меня, а для всего коллектива, но жил на этой даче я один. Я приобрел новую «Волгу» и купил в рассрочку вертолет. (Попробуйте достать вертолет, и вы поймете, какой силой обладал я в то время.) Я мог все! Я пять раз переезжал с квартиры на квартиру, я три раза развелся и четыре раза женился. Я защитил моему великовозрастному балбесу диссертацию, пристроил младшего сына в МГУ, а дочку — в хор мальчиков!
Фантазия моя иссякала. Потребности все были удовлетворены. а возможности их удовлетворять оставались в силе и угнетали меня. Я просто не знал, что мне делать с моей неизбывной силушкой. И даже по ночам, когда все учреждения бывали закрыты и мне некуда было ходить и не о чем хлопотать. — я все равно не спал, чувствуя, как зазря уходит время. Мое время!
И вдруг я узнал, что в курортном управлении имеются путевки в новозеландский санаторий Парадизо-Мурано. Получить их невозможно. Но они есть. А санаторий этот единственный в мире, где находятся парадизовые целебные ванны, излечивающие от хронического насморка. Я ни разу в жизни не страдал от насморка. Но когда я услыхал про эти путевки, а особенно когда узнал, что их невозможно достать, я понял: нет, я не успокоюсь, пока не побываю в этом новозеландском санатории. И через месяц я уже плескался в теплых парадизовых ваннах.
Правда, главврач санатория сеньор Трини Лопец Мигуэль де Альпухара Лос Параболос был очень удивлен, узнав, что у меня нет насморка. Ондаже заявил, что не разрешит мне принимать ванны. Но я посмотрел ему в глаза и сказал, что я очень — понимаете: очень! — хочу принимать ванны. И сеньор Трини Лопец и так далее сразу же воскликнул: «О. конечно, конечно! О чем речь. Езус-Мария! Предоставьте сеньору Тарабубину самую большую персональную ванну! И пусть она будет в его распоряжении круглые сутки!»
Итак, я бродил по санаторию и, честно говоря, скучал. Общаться я ни с кем не мог, потому что все говорили по-испански. А я на этом языке знаю только две фразы: «Бессаме муччо» и «Тореадор, смелее в бой». Новые желания у меня тоже не возникали. Апосле того как сеньор Трини Лопец по моей просьбе поместил меня в самые лучшие апартаменты, выселив оттуда какого-то миллионера, мне уж совсем стало скучно. Официант, еще сто граммов, пожалуйста…
От скуки я опять забирался в мою персональную ванну и мок в ней от завтрака до обеда и от обеда до ужина.
И вот эти парадизовые ванны погубили и прославили меня. Случилось именно то, о чем предупреждала Вера Ефимовна. Я переборщил в своих желаниях и перепозволял себе лишнего!
Ну, скажите, зачем мне нужно было доставать эти дефицитные путевки и тащиться в какую-то Новую Зеландию? Чтобы на свое горе сделать потрясающее медицинское открытие? Оказалось, парадизовые ванны прекрасно излечивают то редчайшее осложнение после гренландского гриппа, которым я так и не сумел как следует попользоваться и насладиться. Я, конечно, понимаю, что внес вклад в науку, что открытый мною способ лечения во всех медицинских справочниках называется теперь «эффектом Тарабубина». Но мне-то от этого не легче!
Когда я вернулся домой, я был уже никем и ничем. Дачу у меня отобрали, «Волгу» и вертолет тоже. Сына из МГУ выперли за неуспеваемость, последняя жена меня бросила, а первая так и не вернулась. И сколько я ни старался снова подцепить гренландский грипп — ничего не получалось. Медицина оказалась бессильной!.. Официант, я ведь просил у вас сто граммов. Где они?
— Нельзя вам больше! — строго ответил официант.
— Но я хочу, очень — понимаете: очень! — хочу, — с интонацией гипнотизера сказал Тарабубин.
— Хотите! — повторил официант. — Эх, когда б вы вправду знали, чего хотите! Хватит с вас! — И, прекращая диспут, официант удалился.
— Вот видите: не действуют больше мои желания. Кончилась моя болезнь! Сам себя, как дурак, вылечил! Вот вам и «эффект Тарабубина»!
А ЗА СЦЕНОЙ НЕСЛЫШНО ПЕЛ
НЕВИДИМЫЙ ХОР…
1
Я — литератор, если хотите — писатель. Счелкунов Евгений Антонович. Я автор таких довольно известных книг. как… Но если вы их случайно и не читали, то вам несомненно знакомы мои многочисленные статьи и выступления в защиту аквариумных рыб и растений, этих замечательных представителей комнатной фауны и флоры. Видите ли, я глубоко убежден, что только нежелание серьезно задуматься, только отсутствие гибкости и наличие косности мешают нам по-настоящему осознать, как важен и современен вопрос разведения аквариумных рыбок именно сегодня. Сегодня, когда такими небывалыми темпами ведется жилищное строительство, когда ежедневно вступают в строй новые дома, и там, где еще вчера были глухие окраины с покосившимися избушками, теперь встают могучие корпуса жилмассивов. Теперь, когда ежедневно десятки и сотни тысяч счастливых новоселов въезжают в светлые квартиры, — теперь вопрос разведения комнатных рыб приобретает, если хотите, общегосударственное значение. Я писал об этом и в таких серьезных газетах, как, например. Ив таких серьезных журналах, как… Я неоднократно говорил об этом по радио и имел честь выступать содокладчиком на международном симпозиуме домашних рыбоводов в Улан-Баторе. Я трижды избирался вице-президентом европейской ассоциации аквариумистов и дважды присутствовал в качестве наблюдателя на совещаниях панамериканского общества по охране комнатных рыб. Во всем мире ширится движение за разведение. И от этого нельзя отмахнуться! Интерес к новым видам аквариумных рыб несомненно растет. Достаточно сказать, что только в результате моего последнего выступления по интервидению я получил со всех концов нашей необъятной родины более ста трех писем. Пишут врачи и кинолюбители, мастера кожаной перчатки и жители Дальнего Севера, представители интеллигенции и читатели журнала «Огонек». Все это является ярким свидетельством! Я получаю множество приглашений. Мои беседы о комнатных рыбах хотят послушать школьники и старожилы, труженики сельского хозяйства и любители шахмат, пограничники и поклонники джазовой музыки. И я, как член «Общества сеятелей разумного, доброго, вечного», охотно выступаю перед благодарными слушателями. Только по самым приблизительным подсчетам мною прочитано уже более трех тысяч трехсот двух лекций. Это замечательно, товарищи! Но если вначале я читал свои лекции по бумажке, то после первых ста выступлений я уже знал весь текст наизусть и говорил, даже не заглядывая в шпаргалку. Более того. После пятисотой лекции я с интересом обнаружил, что во время своих выступлений я могу думать о совершенно посторонних вещах, не сбиваясь и не пропуская ни одного слова из семи тысяч четырехсот двадцати пяти слов моей беседы о домашнем рыбоводстве. Никто, кроме меня, разумеется, не догадывался об этой феноменальной особенности. А я продолжал шлифовать и оттачивать свое мастерство. И в результате достиг такого совершенства, что, едва произнеся вступительные слова («Дорогие товарищи, вопрос об охране комнатных рыб возник не сегодня. Еще в Древнем Египте…»), я отключался и думал о чем-нибудь нерыбном до того момента, как мой голос восклицал: «И я уверен, товарищи, что каждый из нас внесет посильный вклад в это благородное дело. Благодарю за внимание!» Тут я включался, кланялся на аплодисменты и начинал отвечать на различные вопросы. А как-то раз. читая доклад, я вдруг почувствовал, что внутренне спорю с самим собой и в глубине души мысленно не оставляю камня на камне от своих рыбных убеждений. И хоть голос мой, слава богу, продолжал звучать так же взволнованно и убежденно, что-то внутри меня повторяло: «Рыбочки, рыбешки, маленькие крошки, до чего же вы мне надоели!» И это в то время, как!.. О. этот безмолвный ехидный голосок! С каждым моим выступлением он становился все наглей и насмешливей! Я не знаю, что это было. Нервы или переутомление после поездки на афро-азиатский конгресс аквариумистов… Но дошло до того, что однажды во время моего выступления внутренний голос победил меня, я вдруг прервал свою лекцию и, никому ничего не объясняя, спрыгнул со сцены и пошел к выходу!2
…Счелкунов спрыгнул со сцены и пошел к выходу. Слушатели недовольно зашикали на него, потому что как раз в эту минуту лектор на трибуне зачитывал крайне интересные цифры, свидетельствующие о неуклонном росте производства малогабаритных аквариумов. А Счелкунов, покидая зал, оглянулся, и его даже не очень удивило, что стоявшим сейчас на трибуне лектором был тоже он — Счелкунов. Просто Евгений Антонович Счелкунов как бы раздвоился. Рассчитался на первый-второй. И пока Первый привычно читал лекцию. Второй вышел из клуба и, облегченно вздохнув, пошел по весенней улице. Свобода, наконец-то свобода! Наконец-то он поступил так, как велел ему внутренний голос! Первый уже закончил лекцию и отвечал на вопросы… А Второй, беззаботно напевая какой-то мотивчик, остановился у просторной витрины и не без интереса стал рассматривать отражавшихся в зеркальных стеклах витрины торопливых москвичек. Первый взглянул на часы и, ахнув, заспешил на заседание секции рыболюбов, где вот-вот должен был начаться доклад профессора Астраханского… А Второй вошел в кафе «Романтика» и, усевшись за угловым столиком, попросил коньяку… Первый с неослабевающим интересом слушал сообщение известного любителя-рыбознатца профессора Астраханского о перспективах культурного обмена комнатными рыбками передовыми аквариумистами Чили… А Второй отхлебнул коньяк и увидел, что к его столику приближается известный рыбознатец профессор Астраханский. Счелкунов инстинктивно попытался спрятаться за газету: ведь сейчас ему полагалось находиться не в кафе. а на докладе профессора. Но Астраханский, как-то странно улыбаясь, сел рядом и сказал: — Ну вот и вы. Здравствуйте. Очень, очень приятно! — Понимаете, — хотел было извиниться Счелкунов, — я совершенно забыл… — Ах, оставьте, оставьте! — похлопал его по плечу Астраханский. — Ничего вы не забыли, просто вы — Второй. Так ведь? И я Второй. А Первый мой делает сейчас доклад, и ваш Первый моего Первого слушает. И. представив себе эту хорошо знакомую картину, они весело расхохотались. — Вы, я вижу, совсем новичок! — смеялся, поглаживая могучую лысину, профессор. — Вы только сегодня на первый-второй рассчитались. А я уж не помню, когда был не таким, как теперь… Однако попрошу вас за наш стол. Не смущайтесь, там все свои — вторые. И Астраханский подвел его к большому столу, за которым сидели давно известные Счелкунову по рыбной комиссии лица… За столом, хранившим многочисленные следы бесшабашного мужского междусобойчика, были и знаменитый автор народных поговорок Лошаков, и тихий, робкий укротитель тигров Будимир Кошкин, ихорошо воспитанный диктор телевидения, так неподражаемо читающий сводки погоды, — Баритонов, и другие рыбные активисты. — Прошу любить и жаловать — Счелкунов-Второй! — представил его Астраханский, и рыболюбы приветственно зашумели, загомонили, задвигали стульями и потребовали. чтобы вновь прибывший немедленно выпил штрафной, что С чел ку нов и проделал. Счелкунов никогда не подозревал, что его коллеги по борьбе за внедрение комнатного рыбоводства такие веселые люди. Ах, как они веселились! Как тонко и метко, с какой иронией рассуждали они о своем рыбном комитете и международных рыбоконгрессах, о европейских посиделках и панамериканских сабантуях. А потом ехидный старичок Лошаков (Второй знатного фольклориста и неутомимого пропагандиста шарообразных аквариумов) показал, как его Первый вынашивает в тиши кабинета новейшие народные поговорки типа: «комбайн что трактор — положительный фактор» или «нет механизации без электрификации». И все так смеялись, что заказали еще по порции цыпленка табака. А потом и сам Счелкунов, расхрабрившись, пересказал новый роман своего Первого «Великий нерест». И это было гак смешно, что пришлось взять еще пару бутылок болгарского коньяка «Плиска». — Я предлагаю. — четко, с профессиональной торжественностью произнес диктор телевидения Баритонов, — к предлагаю выпить за наших кормильцев и поильцев — первых! И все выпили. А Счелкунов. счастливо улыбаясь, думал: «О господи, до чего же мне хорошо с ними! Какие мы умные! Какие мы остроумные! Как мы все понимаем!» Из кафе вышли поздно. И. не желая расставаться, вместе пошли вниз по улице, все еще хохоча и щедро сыпя остротами на уровне мирового стандарта.3
…День у меня сегодня был трудный: с утра — работа над романом, затем лекция, затем заседание рыбного комитета… Доклад профессора Астраханского был, разумеется, интересным, но несколько затянутым. Однако после заседания мы, возвращаясь домой, еще долго говорили с профессором о преимуществе прямоугольных аквариумов по сравнению с шаровидными. А на противоположной стороне улицы параллельно нам двигалась какая-то подозрительная шумная компания и все время совершенно по-идиотски гоготала. Я часто думаю: когда, когда же. наконец, мы научимся прилично вести себя на улице?!
МАВР
Виктор Микрофанов чувствовал себя самым счастливым человеком, когда ему удавалось узнать какую-нибудь новость хотя бы на полчаса раньше, чем эту новость узнавали другие.
И если бы его спросили, каким он хочет быть: талантливым, красивым, удачливым, — он бы не задумываясь ответил: «Информированным».
И в тот день, когда инженер-экономист Микрофанов стал обладателем уникальных часов, принесших ему большую популярность и еще большие неприятности, — в тот день никто не предполагал, что все кончится приказом за номером 2508/70…
Виктор сидел за своим рабочим столом и никак не мог наглядеться на свои новые часы. А часы и вправду были очень красивыми и кроме времени точно показывали день, число, месяц, погоду и сколько дней осталось до зарплаты. И уже в сотый раз за утро Микрофанов отворачивал рукав пиджака и, взглянув на циферблат, убеждался, что сегодня среда, 15 июля, сейчас 10 часов 12 минут, погода ясная, а до зарплаты далеко.
Что говорить, часы были замечательные, и купил он их вчера в комиссионном магазине буквально задаром. Продавец, объяснил, что часы оценены так дешево только потому, что они выпущены никому не известной фирмой «Мавр». А если бы на их циферблате было написано не «Мавр», а «Омега» или «Третий часовой завод имени Павла Буре», то стоили бы они значительно дороже. И так как Микрофанов принадлежал к той категории людей, которые покупают не то, что им действительно нужно, а то, что дешево стоит, — он, не раздумывая, заплатил 10 рублей и иступил во владение часами неизвестной фирмы «Мавр».
И теперь он то и дело подносил часы к уху и с удовольствием слушал чистое, частое тиканье.
«Хороши маврики, — думал он, — хороши! А любопытно. в какое время меняется на циферблате название дня? Наверное, ровно в 12 ночи. Не скоро. А что. если это проверить сейчас?»
И, сняв часы, Виктор стал медленно переводить стрелки вперед.
И действительно, ровно в 12 часы стали показывать, что сегодня уже 16 июня, четверг, до зарплаты по-прежнему далеко, а погода… в том окошечке на циферблате, где прежде было слово «ясно», теперь появилось слово «дождь». Инженер-экономист удивился: почему именно дождь? Откуда часы могли знать, какая погода будет в ночь со среды на четверг?
Но тут Микрофанов случайно взглянул в окно и от неожиданности так вздрогнул, что чуть не выронил свои удивительные часы. За окном, где еще три минуты назад светило солнце, теперь стояла ночь, и проливной дождь шумно барабанил по стеклу. В комнате, в которой только что скрежетали арифмометры, трещала пишущая машинки и громко переговаривались сослуживцы, теперь было пусто и большие часы на стене показывали ноль часов пить минут, то есть точно то время, какое сейчас было на часах Микрофанова.
Виктор неизвестно зачем передвинул стрелки «Мавров» еще на полчаса вперед, и стенные часы тоже стали показывать тридцать пять минут первого.
Тогда Микрофанов начал торопливо крутить стрелки своих часов в обратном направлении, и сразу исчез, не оставив никаких следов, дождь, ночь сменил вечер, на смену которому тут же пришел день, и засияло стремительно взошедшее с запада солнце.
Сослуживцы, наяривая на арифмометрах, сидели за своими столами, часы фирмы «Мавр» утверждали, что сегодня опять среда, 15 июня, а приятель Виктора — Борис Фрявольский сообщил: «Тут, когда ты выходил, тебе звонила особа противоположного пола».
Все снова было будничным и обычным.
Но не зря Микрофанов во всех анкетах в графе «образование» со сдержанной гордостью писал: «Высшее». Он действительно был образованным человеком и поэтому сразу понял, что судьба через посредство комиссионного магазина вручила ему необычнейший аппарат, в существование которого он раньше ни за что не поверил бы.
Слово «Мавр» означало не фирму, а название аппарата: «Машина времени». Машина времени — вот чем обладал теперь инженер-экономист Виктор Микрофанов. Конечно, машина времени имела весьма ограниченный радиус действия, а именно плюс-минус сутки. Но ведь он заплатил за нее всего 10 рублей. И смешно было бы требовать, чтобы тебя за десятку перенесли прямо в светлое будущее или, наоборот, в мрачное средневековье. А возможность заглянуть в завтрашний день — это тоже кой-чего стоит.
И Виктор, бережно храня свою тайну, стал творить маленькие чудеса.
Представьте себе: футбольный матч. Болельщики напряженно следят за упорной схваткой любимых команд, какого-нибудь прославленного «Нефтяника» с достославным «Пахтакором». Идет десятая минута игры, а счет по-прежнему ноль-ноль. И вот тут появляется Микрофанов и, бросив на поле рассеянный взгляд, громко говорит:
— Все ясно, три-два.
— В каком смысле три-два? — интересуются болельщики.
— Три-два, таков будет итог этого матча.
— В чью пользу?
— Выиграет «Пахтакор». Первый мяч забьет Мамякин с подачи Бабакина. Первый тайм закончится со счетом один-один. А Бузуева удалят с поля за грубость. Кто сомневается — могу держать пари на бутылку коньяка.
Желающие держать пари всегда находились (ведь никто не мог предположить, что Микрофанов еще вчера прослушал по радио репортаж о сегодняшнем матче), и с футбола владелец машины времени стал возвращаться в таком виде, что о случаях злоупотребления алкогольными напитками начали поговаривать даже у Микрофанова на работе.
А еще любил Виктор в кругу своих коллег этак небрежно заметить:
— А в Центральной Америке опять неспокойно. Боюсь, что еще сегодня Гондурас и Никарагуа обменяются нотами по поводу нарушения первым границ последнего…
И каково бывало удивление его собеседников, когда назавтра они узнавали, что Гондурас и Никарагуа действительно обменялись и действительно по поводу, указанному Микрофановым.
— А как ты это угадываешь? — спрашивали потрясенные коллеги.
— Я не угадываю, а предвижу, — уточнял инженер-экономист.
— Ну, хорошо — предвидишь. Но как, каким образом?
— Очень просто. Я сопоставляю отдельные факты и прихожу к определенным выводам. Диалектика! — скромно и невразумительно отвечал Микрофанов.
Когда же он сумел предсказать падение акций на нью-йоркской бирже, небывалые морозы в Африке и провал очередного заморского вояжа мистера Роджерса, — слава о Микрофанове перешагнула границы Ведомства. И дело дошло до того, что общественный совет жильцов дома, в котором проживал Микрофанов, поручил ему руководить кружком юных международников. Виктор попытался было не оправдать оказанного ему доверия и отказаться от руководства кружком, но общественники настояли на своим: умеешь предвидеть — умей руководить.
А случались и курьезы.
Однажды Микрофанов не заметил, как то колесико, которым переводят стрелки часов, нечаянно зацепившись за рукав, само начало вращаться, и Виктор, ничего не подозревая, очутился во вчерашнем дне. Он вторично проделал работу, выполненную им вчера, второй раз имел неприятный разговор с шефом за повторно допущенные в этой работе ошибки и подумал, что происходит что-то странное, только тогда, когда вторично отдал долг Борису Фря-вольскому.
Роль информированного человека, человека, который всегда в курсе, была по душе самолюбивому инженеру-экономисту. И он позволял себе даже в рабочее время на минутку забегать в завтра. Там он прочитывал вывешенные на доске объявлений новые приказы и быстренько возвращался в сегодня, чтобы сделать два-три предсказания. А поскольку в бурную эпоху реорганизаций и перестановок всегда имелись поводы для самых сенсационных предсказаний, то вокруг Микрофанова не смолкали ахи и охи потрясенных слушателей.
Но ведь в своем учреждении пророки не очень-то нужны. И поэтому директор учреждения Иван Петрович Сидоров стал не то чтобы косо, но как-то и не слишком влюбленно поглядывать на инженера-экономиста. Правда, будучи справедливым и добрым человеком. Иван Петрович не сделал бы Микрофанову ничего плохого, если бы тот буквально силой не заставил его, Сидорова, причинить ему. Микрофанову, неприятности.
Дело в том, что избалованному славой инженеру-экономисту стало казаться, будто он может не только предсказывать события, но даже как-то влиять на них. И тут он жестоко заблуждался. И в самом скором времени ему пришлось в этом убедиться.
В один прекрасный день он вышел в коридор, привычно перешел из четверга в пятницу и поспешил к доске объявлений. То, что он увидел, его потрясло и возмутило. Новый, еще тепленький приказ директора возвещал о том, что инженер-экономист Микрофанов В. С. за недостойное поведение и появление на работе в нетрезвом виде подлежит немедленному увольнению и дело о нем передается в товарищеский суд.
Микрофанов не поверил своим глазам, однако приказ, под которым стояло обидное слово «верно» и подпись секретарши, висел на доске объявлений и был реальной действительностью.
И самым несправедливым было то, что Микрофанов ни разу не являлся на работу в нетрезвом виде и не позволял себе ничего такого, что можно было бы назвать недостойным поведением. Весь приказ был наглой ложью зарвавшегося самодура.
— Это зависть! — решил возмущенный Микрофанов. — Сидоров завидует моему авторитету и хочет учинить надо мной расправу. Но я не допущу этого. Хорошо, что я заранее узнал о приказе. Теперь я знаю, что мне надо делать!
С этими словами он немедленно вернулся из пятницы в четверг, ворвался к директору и поднял скандал.
Ни о чем не подозревавший Иван Петрович никак не мог понять, чего от него хочет этот инженер-экономист и о каком приказе он так надсадно кричит.
Он пробовал его успокоить, но Микрофанов, обозвав Сидорова притворщиком, интриганом, самодуром и лжецом, стал надрываться с удвоенной силой.
В порыве праведного возмущения Микрофанов упустил из виду, что директор совершенно ничего не знает о своем завтрашнем приказе, и любую попытку директора успокоить его воспринимал как жалкое притворство и распалялся еще сильней.
А столпившиеся перед кабинетом работники учреждения не находили объяснения происходящему и выдвигали всевозможные гипотезы. Выдвигали они их до тех пор, пока главный бухгалтер (который отличался странной памятью, фиксирующей лишь то, что другие хотели бы забыть) не припомнил разговоры о послефутбольных возлияниях Микрофанова.
— Вот она — молодежь! — сказал главный бухгалтер. — И когда только они закусывать научатся как следует!
А конфликт в кабинете приобретал все более острый характер. Микрофанов резко требовал, чтобы Сидоров отменил свой приказ, а Сидоров при всем желании не мог отменить то. чего еще не было… Потеряв терпение. Иван Петрович тоже стал кричать и, убедившись, что Микрофанова все равно не перекричишь, потребовал, чтобы дебошира убрали вон из кабинета.
Однако Микрофанов занял круговую оборону и поклялся сопротивляться до конца.
Тогда Иван Петрович Сидоров сам ушел из кабинета. А на следующий день появился тот самый приказ за № 2508/70, с упоминания о котором мы и начали этот рассказ.
Правда, вскоре коллектив взял Микрофанова на поруки, а часы его испортились и никто не смог их починить. Да этого и следовало ждать, потому что хороших часов за 10 рублей не купишь — чудес на свете не бывает!
ЧУДЕСА В РЕШЕТИЛОВКЕ
Очень странно начинать рассказ с откровенного признания в том, что название рассказа следовало бы изменить. Но в этой необычной истории встретится столько странного, что будет ли здесь одной странностью больше или меньше — никакой роли не играет.
А в названии меня лично смущает слово «чудеса». Во-первых, оно, это слово, открывает лазейку для всякого рода лженаучных измышлений, квазинаучных гипотез и антинаучной мистики. А во-вторых, как мы знаем, никаких чудес не бывает, а бывают загадочные явления, которые рано или поздно получают исчерпывающее научное объяснение. И мы сами потом — через год или через тысячу лет — удивляемся, как можно было такое простое явление принимать за чудо.
Так вот, в Решетиловке произошел необычный, загадочный случай, который другие окрестили бы чудом, а мы попросту назовем феноменальным явлением.
Наивно полагать, будто феноменальные явления случаются только в крупнейших городах мира или столицах союзных и автономных республик. Например, Решетиловка не была даже районным центром. Вернее, во времена одной из административных реконструкций Решетиловка считалась райцентром. Но это продолжалось всего три недели, и едва успели там превратить сельсовет в райсовет и поменять все вывески, как снова слили несколько районов в один. Решетиловка опять стала рядовым селом, и о ее кратковременном возвышении никто не вспоминал.
И вот в этом рядовом селе подряд случилось два феноменальных явления, одно феноменальнее другого.
Первое заключалось в следующем: двадцатипятилетний зоотехник Владимир Вишняков обнаружил у себя странную способность видеть с закрытыми глазами. Заметил он это седьмого мая, как раз в День радио. Накануне ночью разыгралась первая весенняя гроза. Казалось, она собиралась с силами всю зиму… Беспрерывно вспыхивали молнии, и над самой крышей гремел гром. Он взрывался с такой силой, что зоотехник проснулся и, чтобы заглушить раскаты грома, сунул голову под подушку, как привык делать в шумном студенческом общежитии…
И тут произошло первое чу… простите, феноменальное явление. Владимир внезапно обнаружил, что сквозь опущенные веки и толстую пуховую подушку он видит не только яркие мгновенные разветвления молний, но и крестовину окна и стоящие на подоконнике цветы. Вишняков даже не успел удивиться. Он только подумал, что это ему снится. И уснул.
А утром, едва проснувшись, он увидел промытый грозою светлый клочок неба, белые ветки черемухи за окном, воробьев, прыгающих по веткам… И тут же с изумлением убедился, что видит все это сквозь подушку. Зоотехник вскочил с кровати и завязал глаза полотенцем. Результат был тот же: он все видел.
Тогда поверх одного полотенца он намотал второе, да еще приложил к нему подушку. Ничего не помогало! Он видел.
Нет, Володя не испугался. Еще в техникуме ему приходилось читать, как у некоторых людей неожиданно проявлялись какие-то невероятные способности. Одни каким-то Образом начинали перемножать и делить в уме десятизначные числа. Другие в виде наследственности получали от прапрадеда по материнской линии знание никому не известного языка. Третьи, как Роза Кулешова из Свердловска, умели, закрыв глаза и прикасаясь к предмету, определять его цвет.
Так что Володя не столько испугался, сколько поразил ся тому, что подобное феноменальное явление произошло именно с ним. С обычным человеком, у которого самым удивительным событием в жизни был выигрыш по билету денежно-вещевой лотереи швейной машины «Тула». Произведя над собой еще несколько несложных опытов, Вишняков побежал в амбулаторию.
Молодой врач Нина Львовна внимательно выслушала пациента и сказала:
— Володька, кончай этот дурацкий розыгрыш, меня больные ждут.
Но зоотехнику, который вообще-то и вправду имел склонность к розыгрышам, сейчас было не до шуток.
— Какой розыгрыш? — закричал обиженный феномен. — Ты сначала проверь, а потом говори. Ну, проверяй! — И начались знаменитые опыты, которые вечером продолжались в районной больнице, а назавтра были перенесены в облздрав.
Да, Владимир Вишняков, в дальнейшем именуемый пациентом, феноменом и знаменитым Вишняковым, видел с закрытыми, завязанными и забинтованными глазами.
Видел сквозь очки, в которые вместо стекол были вставлены стальные, медные, серебряные или свинцовые пластины.
Видел в освещенном помещении, в затемненном и просто темном.
Видел даже в несгораемом шкафу, куда согласился залезть и где был наглухо закрыт во имя науки.
Специалисты осторожно высказали смелое предположение, что их пациент, подобно Розе Кулешовой, видит кончиками пальцев.
И уже на второй день корреспондент областной газеты написал об этом сенсационную заметку «По почину Розы Кулешовой». Но редактор правильно возразил, что загадочные способности никак не могут являться почином, и. назвав заметку о Вишнякове «Удивительно, но факт», напечатал ее на всякий случай в самом безответственном отделе «В часы досуга».
Новость о феномене из Решетиловки облетела всю страну. Вишняковым заинтересовались крупнейшие ученые всего мира, а Оксфордский университет пригласил его выступить с лекцией.
И тут случилось второе феноменальное явление, поразившее ученых еще сильнее, чем первое.
Трудно сказать, что этому второму явлению предшествовало. или, вернее, что послужило его причиной. То ли невероятной силы гроза, снова разразившаяся над Решетиловкой. То ли серьезный разговор, который Вишняков имел в райсовете… Он, как зоотехник, требовал у зампреда Пуговкина стройматериалы для новых телятников, а Пуговкин отвечал, что стройматериалов нет. Вишняков настаивал, а Пуговкин, не привыкший, чтобы с ним так разговаривали, намекал на каких-то зазнавшихся феноменов… Потом зампред стукнул кулаком по столу и заявил, что Вишняков зарвался и вообще ничего у него не получит… А Вишняков тоже стукнул по тому же столу и сказал: «Посмотрим!»
Возможно, феномен во время этого разговора погорячился… Возможно, сказалось общее переутомление от бесконечных опытов и славы…
Во всяком случае, когда Вишнякова опять привезли в областной центр и попросили продемонстрировать свой загадочный талант перед врачами-окулистами, оказалось, что его поразительные способности исчезли и демонстрировать, в сущности, нечего…
Бывший феномен краснел, бледнел, старался взять себя в руки… Но увы… Окулисты были разочарованы. И только один из них криво усмехнулся и покачал головой:
— Боже мой, и когда мы перестанем верить в чудеса!
Ему, этому скептику, было даже приятно, что опыт не удался. Ведь любое из ряда вон выходящее явление делает обжитый и привычный мир таким неуютным, ненадежным. И потом, если все научатся видеть пальцами, что же тогда окулистам прикажете делать? На дантистов переучиваться?
Но радость этого унылого скептика длилась недолго. Едва обесславленный Вишняков возвратился в свою Решетиловку, как все его феноменальные способности воскресли и стали проявляться с удвоенной силой.
Оказалось, например, что он может, завязав глаза и не прикасаясь пальцами к бумаге, а только водя ими над страницей, читать газету. Медленно, по складам, но читает.
Снова доставили его в область. И снова — полный провал.
Вот тут-то и выяснилось самое невероятное в этой невероятной истории. Читайте внимательно! Выяснилось, что с недавних пор труднообъяснимые способности Вишнякова могут проявляться только на территории его родной Решетиловки, что было уж совсем необъяснимо!
И этот новый, так называемый географический феномен совершенно потряс передовых ученых на пяти континентах. И со всего мира психиатры, невропатологи, врачи-окулисты, парапсихологи, специалисты по проведению телепатических опытов и специалисты по их разоблачению, йоги и просто любопытные интуристы потянулись в Решетиловку знакомиться с Вишняковым.
Районное начальство всполошилось.
В Решетиловке срочно выстроили многоэтажный фешенебельный Дом колхозника для приезжих светил науки.
Отгрохали ресторан-закусочную с коктейль-холлом и ночным баром для избалованных иностранных туристов.
Завезли в сельпо японские транзисторы, итальянские кофточки, шотландский виски, французские духи и матрешки местного производства.
Для демонстрации научных опытов и проведения международных симпозиумов соорудили новый Дворец культуры на полторы тысячи мест. Делалось все это, разумеется, за счет различных районных и областных организаций.
Также в спешном порядке пришлось прокладывать десятикилометровую бетонную дорогу райцентр — Решетиловка и капитально ремонтировать мост через речку Хлюпку.
Председателю решетиловского колхоза даже не нужно было объяснять районному начальству, что теперь, когда в Решетиловке иностранцев больше, чем в каком-нибудь Монте-Карло, нужно выделить стройматериалы для новых телятников, а заодно и шифер для крыш. Пуговкин сам чувствовал ответственность момента, и самые дефицитные материалы хлынули по новому шоссе в Решетиловку.
А приезжие ученые производили с Вишняковым новые серии опытов и. убедившись в полном отсутствии мистификации, все больше склонялись к тому, что их поразительный пациент действительно видит кончиками пальцев.
А Вишняков с плотно завязанными глазами уже читал не по складам, а бегло. Причем читал не только русский текст, но и английский, хоть, прямо скажем, произношение у феномена было неважным.
Абсолютной загадкой для ученых оставалось то, почему способности подопытного строго ограничены в пространстве и проявляются только в Решетиловке и в радиусе одного километра вокруг нее. Географический феномен был совершенно необъясним.
И вдруг это таинственное пространственное ограничение исчезло. Исчезло так же внезапно и необъяснимо, как и появилось. В один прекрасный день обнаружилось, что Вишняков снова может проявлять свои фантастические ('пособности не только в Решетиловке. но и в районном центре, в областном центре и, по-видимому, в любом другом населенном и ненаселенном пункте земного шара.
И выяснилось это таинственное, но приятное обстоятельство как раз в тот день, когда председатель решетиловского колхоза получил у Пуговкина все. что требовалось, до последнего дефицитного гвоздика. И если близкие друзья спрашивали у феномена, нет ли прямой связи между этими двумя событиями, Вишняков только посмеивался. Как бы там ни было, а в споре с Пуговкиным победил зоотехник…
Так вот, как я уже сказал вначале, чудес не бывает, а бывают загадочные явления, которые рано или поздно получают исчерпывающее научное объяснение.
Загадка пространственного ограничения, как видите, уже полностью разгадана. И то, каким образом Вишняков стал видеть с закрытыми глазами, тоже в свое время будет объяснено с самых передовых научных позиций. Не все сразу, товарищи!
СИМПАТИИ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
(Страшная история)
В пятницу, когда рабочий день уже приближался к концу, председатель Городского Комитета по Использованию Великих Открытий и Изобретений Иван Спиридонович Розов срочно вызвал начальников отделов. Приветливо улыбаясь, он познакомил их с молодым человеком в роговых очках.
— Это товарищ Фигуркин! — радостно сообщил председатель. — Он предлагает нам свой невероятно интересный препарат. И я собрал вас для того, чтобы мы, не откладывая, сегодня же решили вопрос о его массовом производстве. Поверьте, мы имеем дело с очень важным открытием!
Работники комитета, не привыкшие к такой оперативности, даже опешили. Но Иван Спиридонович улыбался так ласково, а Фигуркин казался почему-то таким симпатичным, что начальники отделов вскоре несколько приободрились, и в кабинете воцарилась атмосфера благожелательности и взаимопонимания.
— Прошу вас. товарищ Фигуркин, изложите моим коллегам все, что вы рассказывали мне, — предложил председатель. — Вы очень хорошо рассказываете!
Польщенный Фигуркин слегка покраснел и от этого стал еще более симпатичен присутствующим. Скромность все-таки очень украшает!
— Видите ли, — начал молодой ученый, — я разработал препарат, который действует на любого человека так, что он, человек, проникается симпатией ко всем окружающим и начинает испытывать сильнейшую потребность совершать какие-нибудь благородные поступки. Препарат, который я назвал «симпатином», прост и не требует для производства никакой специальной аппаратуры.
— Поразительно! — воскликнули присутствующие. — Невероятно!
— Для того чтобы почувствовать в сердце непреодолимую любовь к ближнему. — продолжал Фигуркин. — достаточно крохотной капли или даже одного только запаха симпатина. Поэтому я считал бы наиболее целесообразным выпускать мой препарат примерно вот в такой аэрозольной упаковке. — и молодой человек достал из кармана небольшой пластмассовый флакон с никелированным колпачком. — При легком нажатии на эту кнопку симпатии распыляется, издавая тонкий запах черного тюльпана. Действие распыленной жидкости начинает сказываться через семь-восемь секунд и продолжается полтора-два часа. Вот. пожалуй, и все…
— Грандиозно! А не могли бы вы испробовать ваш препарат ну хотя бы на ком-нибудь из нас?
— Видите ли. вы все уже некоторое время находитесь под воздействием симпатина: я распылил его здесь еще до вашего прихода, когда показывал мой препарат Ивану Спиридоновичу…
Председатель комитета весело захохотал, а начальники отделов припомнили, что. когда они вошли в кабинет, им действительно послышался какой-то странный запах.
«Ага, так вот почему так необычайно приветлив был председатель, — думали они, — так вот почему молодой человек казался таким симпатичным! А впрочем, погодите: раз симпатии подействовал на всех таким образом, значит, он действительно способен творить чудеса!»
— Великолепный препарат!
— И очень своевременный! Сколько радости принесет он людям!
— А как остроумно придумана аэрозольная упаковка! Заходишь в магазин или в троллейбус в часы пик, когда нервы напряжены до предела, вынимаешь флакон, незаметно распыляешь — и все: страсти утихают, скандалы прекращаются — благодать!
Работники Городского Комитета по Использованию Великих Открытий и Изобретений были единодушны, как никогда. Флакон с симпатином переходил из рук в руки, каждому хотелось нажать на кнопку, запах черного тюльпана в кабинете все усиливался, а вместе с ним усиливалась любовь заседающих друг к другу.
Здесь, правда, следовало бы отметить, что у начальника бытового отдела Трубникова разыгрался в тот день сильный насморк, поэтому симпатии действовал на товарища Трубникова слабей, чем на остальных присутствующих. Нет. нет, начальник бытового отдела тоже ощущал пылкую любовь к товарищам по работе, и ему, конечно, тоже хотелось совершить какой-нибудь благородный поступок… Но при всем том он благодаря случайной простуде сумел и в этот день сохранить присущую ему осмотрительность. И когда Иван Спиридонович предложил безотлагательно начать выпуск симпатина в аэрозольной упаковке, Трубников мягко заметил, что прежде следовало бы все-таки провести экспериментальные испытания симпатина в более широком масштабе. Чисто формально, в кратчайшие сроки, но все же провести…
Председатель любовно, по-отечески пожурил начальника бытового отдела за пристрастие к никому не нужным формальностям. Но поскольку Ивану Спиридоновичу под действием симпатина хотелось сделать приятное и простуженному Трубникову, то против предварительных испытаний препарата возражать он>не стал, распорядившись провернуть их в ближайший понедельник.
Первый эксперимент был проведен в 8.20 в автобусе № 3 (маршрут вокзал — парк — вокзал). Через пятнадцать секунд после распыления симпатина сидевшие пассажиры вдруг вскочили и начали уступать свои места тем пассажирам, которые стояли в проходе. Однако стоявшие вежливо, но твердо садиться отказывались, мягко прося вскочивших занять свои места снова. Вскочившие деликатно. но настойчиво продолжали уговаривать стоявших, и в результате все сидячие места оказались пустыми, а в салоне автобуса возникла страшная давка. Дружелюбно улыбаясь, пассажиры безуспешно пытались продраться к выходу, и от этого давка только усиливалась. Пришлось вторично распылить симпатии, после чего стоявшие, желая сделать приятное вскочившим, заняли их места. Давка прекратилась. Обмениваясь приветливыми улыбками, попутчики стали знакомиться друг с другом. И вскоре выяснилось, что ни один из пассажиров не хочет выходить, желая как можно дольше пробыть в замечательной дружелюбной атмосфере автобуса № 3.
— Здесь как на курорте. Прямо душа отдыхает! — сказала пожилая женщина, смахнув радостную слезу авоськой.
И пассажиры единой дружной семьей продолжали колесить по маршруту вокзал — парк — вокзал, не забывая на конечных остановках аккуратно платить за билеты. А когда наступил обеденный час, водитель автобуса остановил машину у гастронома, сбегал в магазин и угостил своих пассажиров бутербродами с плавленым сыром.
Но следует учесть, что на каждой остановке в автобус втискивались все новые и новые люди, а выходить по-прежнему никто не хотел. И в конце концов транспорт оказался перегруженным втрое против нормы, рессоры не выдержали и все едва не кончилось аварией. Еще более отрицательно сказалось действие симпатина в гастрономе № 5. Продавцы с таким вниманием обслуживали покупателей, так тщательно взвешивали продукты и столько времени тратили на каждого человека, что в результате у магазина выросли такие очереди, каких не упомнят и старожилы. Покупатели, вынужденные толпиться на улице, оказались вне зоны действия симпатина и гневно требовали жалобную книгу.
Директор гастронома за плохое обслуживание получил выговор, а продавцы лишились премии и долго еще вспоминали в своем кругу тот день, когда они неизвестно зачем старались обслуживать покупателей. И воспоминание вызывало в них ужас.
В ателье индпошива мастер после примерки старательно упаковал заказчику новый костюм и трогательно распрощался. Но едва заказчик подошел к двери, портной внезапно догнал его и вырвал у него из рук пакет. Заказчик, естественно, опешил, но мастер заявил, что он не может отдать костюм в таком виде, потому что он, костюм, имеет скрытые недостатки. Заказчик, естественно, не поверил и стал свой костюм отнимать. Однако мастер не отдавал его. Так они, дружелюбно улыбаясь, все более проникаясь чувством взаимной симпатии, вырывали друг у друга костюм до тех пор, пока новенький пиджак не лопнул по швам.
Но самые неприглядные сцены происходили на колхозном рынке. Там под воздействием симпатина торгующие лица пытались продать свои продукты вдвое дешевле государственных, а покупатели изо всех сил старались уплатить как можно дороже. Ни та, ни другая сторона не уступали, и нормальная работа рынка была сорвана.
Город лихорадило весь понедельник. А во вторник в Городском Комитете по Использованию Великих Изобретений снова было совещание. И Иван Спиридонович сразу же самокритично признал, что, приняв решение о массовом производстве симпатина, они явно погорячились. Правда, решение это они принимали в нездоровой, загрязненной парами симпатина атмосфере. Однако это обстоятельство ответственности с них не снимает.
Короче говоря, выпуск нового препарата временно отложили.
…С тех пор прошло пять лет. Но поскольку невероятные события, имевшие место в тот страшный понедельник, больше не повторялись, я думаю, что симпатии пока еще, слава богу, не выпускают.
ДЯДЯ ВАСЯ — ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Будильник, как обычно, зазвонил ровно в семь. Трезвонил он до тех пор, пока специальный фотоэлемент не отметил, что я уже открыл глаза. Да и как я мог не проснуться, если часы подключались к особому устройству, которое при первом звонке будильника начинало трясти кровать и стаскивать с меня одеяло. Эта аппаратура стоила недешево, но работала четко и безотказно.
Стоя под душем, я быстро пришел в себя. Вода была холодной. чересчур холодной. Однако сделать ее теплей я не мог: температурой воды занимался электронный терморегулятор, точно знавший, какой именно водой мне следует умываться по утрам. Регулятор, естественно, не знал жалости, и ради укрепления моего здоровья я готов был на любые жертвы с моей стороны!
Ровно в половине восьмого завтрак был уже на столе. Мой электронный повар стоил дороже самого дорогого автомобиля. Он хранил в своей памяти тысячи кулинарных рецептов и мог приготовить шашлык по-карски, лангусты по-испански, суточные щи по-гавайски и такую стерляжью уху, которую можно отведать только в Конго (Браззавиль).
Однако лично меня мой электронный повар кормил одними лишь манными кашками, рисовыми да морковными котлетками и постными овощными супами. Такое меню составил для меня врач-диетолог из нашей районной поликлиники. А электронные повара программировались так, что нарушить приказ участкового врача они были просто не в состоянии.
В результате сегодня передо мной стояли жиденькая овсяная кашка, манный пудинг, политый розоватым сиропом, и ацидофилин.
— Где солонка? — раздраженно спросил я.
— Чрезмерное потребление соли вредно для организма. Так сказал Сам Участковый Врач! — Последние слова электронный кашевар произнес с явным трепетом.
— Но каша совершенно не соленая! — продолжал настаивать я.
— Предварительный анализ вашей каши показал, что количество соли в ней строго соответствует норме.
— И все-таки она абсолютно безвкусная!
— О вкусах не спорят.
В восемь часов я сел за письменный стол и, заложив в машинку чистую страницу, задумался над первой фразой. В 8.05 послышался нежный звон видеофона, и на экране появилась моя приятельница Мика.
— Вы уже проснулись? — весело спросила она.
— Нет еще, — хмуро ответил я.
— А почему же вы не в постели, а за столом? — тотчас нашлась наблюдательная Мика.
— Потому что я всегда так сплю! — остроумно парировал я.
— Всегда спите за письменным столом? — удивилась Мика.
— Нет, иногда и за обеденным…
Так содержательно и интересно мы проговорили минут двадцать. После чего я решил больше на вызовы видеофона не отвечать и поручить это дело электронному секретарю.
Этот секретарь был великолепным и надежным помощником. Он никогда ничего не путал, не терял, не забывал, — короче, не знал ни одной человеческой слабости. И вот тут-то создатели этого замечательного аппарата где-то в чем-то перестарались. Секретарь, например, совершенно неспособен был лгать, и такой, казалось бы, пустяковый дефектик часто ставил меня в неловкое положение. Вот и сейчас вместо того, чтобы просто отвечать всем звонившим мне. что меня нет дома, электронный секретарь с какой-то тупой честностью объяснял, что я в данный момент занят и потому разговаривать с ними не смогу. Я понимал, что такой честный ответ обижает всех моих друзей, и это отвлекало меня от работы. Я не написал еще ни одной фразы и страшно хотел, чтобы видеофон сломался или испортился хотя бы на три часа. Но. как вы сами понимаете. этого не могло произойти: наша аппаратура отличалась, увы, самой высокой степенью надежности и никогда. к сожалению, не портилась! Я сидел расстроенный и мрачный, тупо глядя на пустую страницу… И вдруг понял. кто меня может спасти: дядя Вася, вот кто! Да как я мог забыть об этом замечательном умельце, об этом мастере на все руки? Как я мог забыть про Василия Емельяновича, о невероятной смекалке которого ходили легенды! Это он, орудуя молотком и зубилом, мог исправить любой телевизор. Это он, шуруя разводным ключом и отверткой, налаживал и улучшал сложнейшие вычислительные машины! И он же однажды с помощью двух шурупов, зубочистки и дамской шпильки починил атомный реактор!
Я бросился к видеофону. Дядя Вася, к счастью, был дома.
— А чего же не приехать? — легко согласился он. — У меня как раз сегодня отгул.
Вскоре Василий Емельянович был у меня. Выслушав мою просьбу, он не удивился, вынул из кармана отвертку, что-то в видеофоне подкрутил, что-то открутил, что-то прикрутил, и через пять минут видеофон мой, слава богу, уже не работал.
— Чинить начнут — за неделю не починят! — обнадежил меня умелец.
И тогда я робко спросил, нельзя ли как-нибудь разрегулировать электронного повара так, чтобы он слушался не диетолога, а меня?
— Почему нельзя? — сказал дядя Вася. — Дело нехитрое.
Он подошел к электронному повару, извлек из кармана электропаяльник, что-то отпаял, что-то припаял, что-то перепаял, и повар по моей команде стал безропотно выдавать шашлыки, лангусты, перуанские пельмени и такую стерляжью уху, которую можно отведать только в Конго (Браззавиль).
Потом дядя Вася вытащил разводной ключ, пассатижи и занялся электронным секретарем. Тут ему пришлось здорово повозиться: секретарь был тверд, как скала, и из него, казалось, невозможно было выжать ни одного слова неправды. Но Василий Емельянович не сдавался. Он что-то откручивал, что-то закручивал, что-то паял-перепаивал. В комнате пахло горелой резиной и оловом. И в конце концов человек победил: электронный секретарь начал говорить, что я на совещании, что меня вызвали в министерство, что я уехал в командировку… И слова его звучали так правдиво, так убедительно, что не поверить его вранью было просто невозможно!
Затем дядя Вася не торопясь, аккуратно испортил терморегулятор в ванной, разрегулировал электробудильник в спальне и, рассовав по карманам свой нехитрый инструмент, стал собираться домой.
— У вас золотые руки, Василий Емельянович! Вы меня просто выручили!
— Да чего там! — скромно сказал Василий Емельянович. — Не впервой таким делом заниматься приходится. С техникой нужно уметь ладить.
— А сколько ж я вам за работу должен?
— Ну, это небось сами хорошо знаете! — Дядя Вася хитро подмигнул. — Такса у нас известная!
Я вынул из кармана два билета в консерваторию и протянул их Василию Емельяновичу.
— Не многовато ли? — застеснялся он.
— Берите, берите!
— Ну спасибо! — довольно сказал дядя Вася, бережно пряча билеты. — А то ведь я давненько Брамса не слыхивал!
РАССКАЗ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
Все началось с того, что Петр Иванович Подсвечников однажды ночью увидел странный сон. Я полагаю, что это случилось именно ночью, потому что, если Подсвечникову и удавалось иногда вздремнуть днем, он все равно снов не видел. То ли мешало дневное освещение, то ли на работе не было подходящих условий для полноценного сна со сновидениями, но реально рассчитывать на интересные сны можно было только ночью.
Так вот ночью и приснилось Петру Ивановичу, будто он гуляет по выставке кибернетических машин.
В одних залах экспонировались обычные кибернетические устройства, умеющие только читать, писать, считать. переводить и заниматься перспективным планированием.
В других залах были выставлены электронные шахматисты, способные предусматривать все варианты, которые могли возникнуть на шахматной доске, на 40 ходов вперед. После первого же хода противника дальновидные аппараты мгновенно производили сложнейшие расчеты и в зависимости от ситуации или предлагали сдаться противнику, или. не теряя времени, сдавались сами.
Иногда проводились турниры, в которых электронные шахматисты из одного зала сражались с аппаратурой из другого зала. Впрочем, это только так говорится — сражались. Обычно кибернетические гроссмейстеры соглашались на ничью еще до первого хода.
Но все это была, так сказать, техника на грани фантастики. А в следующих залах находилась техника, перешагнувшая эту грань. Там были выставлены невероятные киберы, способные делать все. что делают люди. Они умели даже допускать ошибки, на которых другие самообучающиеся роботы тут же учились.
Вот по какой выставке бродил во сне Подсвечников. Л экскурсоводом Подсвечникова был интеллигентный, модно одетый молодой человек. Он пространно отвечал на все вопросы Петра Ивановича, и, когда тот случайно чего-нибудь не понимал (а он случайно не понимал абсолютно ничего), молодой человек терпеливо повторял объяснения до тех пор, пока Подсвечников, хотя бы из вежливости, не начинал понимать.
Если бы этот гид не был таким предупредительным и симпатичным, Петр Иванович поклялся бы, что гида зовут Евгений Алексеевич Кожин и что он работает юрисконсультом в руководимом Подсвечниковым тресте. Сходство было необыкновенным. Но даже во сне Петр Иванович немог спутать вежливого гида с горластым, вечно критиканствующим Кожиным.
Три часа подряд молодой человек водил Петра Ивановича по выставочным залам и только потом сообщил ему, что он вовсе не молодой человек, а робот, созданный ради рекламы специально для этой выставки.
— Как это — робот? — удивился Петр Иванович. — Почему же вы не железный?
— Железные роботы — это вчерашний день, — вежливо улыбнулся нежелезный гид. — Теперь нас делают из тех же материалов, что и настоящих людей. Можете пощупать, это разрешается, — и он протянул руку.
Петр Иванович пощупал. Рука была теплой и упругой.
«Разыгрывает! Ой, разыгрывает! — решил Подсвечников. — Не зря он так похож на Кожина».
— А почему вы думаете, что вы не человек, а именно робот?
— Хотя бы потому, что я не думаю вообще. Понимаете, не мыслю.
— Ну да, не мыслите! А как же вы беседуете, объясняете и вообще действуете?
— Все мои действия запрограммированы. Мне не нужно думать.
— Но ведь я не могу проверить, думаете вы в действительности или нет. Правда? А как еще вы можете доказать мне, что вы робот? Чем вы отличаетесь от человека? Например, от меня?
Гид как-то странно посмотрел на Подсвечникова и так же вежливо, как и прежде, сказал:
— А почему вы полагаете, что вы человек, а не робот?
От этого неожиданного вопроса Петру Ивановичу стало так неприятно, что он на минуту проснулся, потом перевернулся на другой бок и снова уснул. И как только он уснул, опять появился гид и с мягкой настойчивостью повторил свой вопрос:
— Как вы можете доказать, что вы человек?
— Очень просто, — снисходительно ответил Подсвечников. — Если бы я не был человеком, я бы, например, не мог руководить трестом.
— Это не доказательство. Разве нельзя создать робота и запрограммировать его так, чтобы он возглавлял трест? Вполне возможно.
— Но я точно знаю, что появился на свет естественным путем.
— Вы не можете этого знать, ибо ни один человек не помнит момента своего рождения.
— Ну и что? Зато я помню детство, ясли, детский сад…
— Память и воспоминания тоже можно создать искусственным путем.
— Ноу меня есть свидетельство о рождении, трудовая книжка… Посмотрите, наконец, мое личное дело!
— Я смотрел. Ни в одной графе личного дела не сказано. что вы человек…
«Тьфу ты, черт! — подумал Подсвечников, окончательно просыпаясь. — Не надо было мне так поздно ужинать».
Возможно, он и забыл бы это малоприятное сновидение, если бы не Кожин, с которым он столкнулся, как только пришел на работу. При виде Кожина Петр Иванович тотчас вспомнил и кибернетический музей, и молодого человека, вернее, молодого робота, ну. в общем, гида, задавшего ему такой нелепый вопрос: «Как вы можете доказать, что вы человек?»
Он вспомнил все это и как-то даже огорчился, что он. Подсвечников, хоть это происходило только во сне, не мог дать достойной отповеди жалкому экскурсоводишке. И. испытывая странное удовлетворение (какое мы все испытываем, найдя остроумный ответ на заданный нам три дня назад ехидный вопрос), Петр Иванович стал придумывать едкое и хлесткое замечание, которое сразу бы поставило на место зарвавшегося робота.
Но такой ответ почему-то не придумывался. Вернее, ответов было много. Но на каждый убедительный ответ находилось еще более убедительное возражение. Причем Петру Ивановичу казалось, что выдвигает эти возражения не он сам, а все тот же гид.
— Человек — это звучит гордо! — провозглашал Петр Иванович.
— Совершенно с вами согласен, — вежливо кивал головой собеседник. — Но это еще не значит, что именно вы — человек.
Подсвечников решил изменить тактику.
— А в чем, по-вашему, основное отличие робота от человека?
— Роботу все равно, чем заниматься.
— Вот видите! А мне не все равно.
— В таком случае почему вы и в животноводстве подвизались, и в кинофикации руководили, и в торговле?
— Гм… А чем еще отличается робот от человека?
— Отсутствием интереса к конечному результату своей деятельности.
— Ага, отсутствием! А у меня — наличие.
— Наличие чего?
— Наличие интереса.
— Нет. к сожалению, у вас именно отсутствие наличия и. наоборот, наличие отсутствия.
— Нет, у меня наличие наличия и отсутствие отсутствия. Потому что, если бы у меня было отсутствие наличия, я бы не говорил, что у меня наличие отсутствия…
Игра в ничего не значащие слова была так хорошо знакома Петру Ивановичу, что тут он бы наверняка выиграл. Но в эту минуту Подсвечников вспомнил, что он, в сущности, спорит сам с собой. А самому себе он, конечно, мог признаться как в отсутствии наличия, так и в наличии отсутствия настоящего интереса к результату своей деятельности.
— Ну, хорошо, вот вам еще одно доказательство того, что я человек. Вы мне приснились. Так? Следовательно, я вижу сны. А роботы снов не видят. Вот!
— Только сами роботы могут знать, видят они сны или нет.
Да, спорить с гидом становилось все трудней, и в конце концов в запасе у Подсвечникова оставались только такие дамские аргументы, как:
1. «Если вы сами робот, то не думайте, что все тоже роботы».
2. «Кто вы такой, чтобы я перед вами отчитывался?» И, наконец:
3. «А я вообще не желаю разговаривать в таком тоне».
И когда Петр Иванович уже собирался пустить в ход эти жалкие фразы, зазвонил телефон: Подсвечникова срочно вызывали на совещание в главк.
Но и по дороге в вышестоящую организацию и во время совещания Подсвечников продолжал обдумывать свой разговор. И обдумывание сводилось к тому, что он постепенно привыкал к мысли, что, может быть, он действительно робот. Ну, может, не совсем робот, а так, вроде как бы робот. А может, и совсем. Наука дошла до того, что все возможно.
И вдруг Петр Иванович услыхал свою фамилию. И хоть он. погруженный в невеселые думы, не слыхал, о чем говорили до этого, но по одной только интонации, с какой его фамилия была произнесена, он почувствовал: сейчас с него будут снимать стружку. И не ошибся.
Стружку снимали толстыми слоями. Подсвечникова обвиняли и в безынициативности, и в бездумности, и в равнодушии. И каждое обвинение еще и еще раз доказывало, насколько прав был кибернетический гид в своих предположениях.
А начальник главка прямо сказал, что он впервые видит работника, который бы так активно не хотел работать и до такой степени не справлялся с порученным ему делом.
И тут произошло то, о чем и сегодня еще помнят в главке.
А произошло следующее: во время выступления начальника главка Подсвечников вдруг радостно захохотал, захлопал в ладоши и, продемонстрировав несколько па из народного танца краковяк, бросился целовать выступавшего.
И никто не мог знать, что Подсвечников сделал это потому, что начальник главка невольно подсказал ему тот самый аргумент, благодаря которому он. Подсвечников, сразу поставит теперь на место зарвавшегося кибера.
Да, наука может все.
Но кому придет в голову делать именно такого робота, который бы не хотел работать?! Кто специально станет создавать кибера с таким расчетом, чтобы он не справлялся с порученным ему делом?!
А он. Подсвечников, работать не хочет! Он не справляется! Значит, он не робот! Он — человек!!!
И в эту ночь Петру Ивановичу снились только самые приятные сны, несмотря на то что он плотно поужинал. На радостях он даже позволил себе перед сном выпить, ибо он — человек и ничто человеческое ему не было чуждо!
ФОРМУЛА УСПЕХА
Конечно, попасть к королю книжных издателей — господину Дойблу — было не так-то просто, или, говоря точней, просто невозможно. И, вероятно, Кристи удалось это лишь потому, что в Урании имелось еще пять таких же королей, и как раз теперь решалось, кто же из них действительно всем королям — король.
А может быть, помогло то, что Кристи предлагал не рукопись, а странное изобретение, которое он отказывался демонстрировать кому-либо, кроме самого господина Дойбла.
Как бы то ни было, чудо случилось. И Кристи, едва вступив в кабинет, еще по дороге к столу, за которым сидел Дойбл, стал излагать суть дела. На счету была каждая секунда. Издателя следовало заинтриговать в течение первых четырех минут…
— Господин Дойбл, — сказал Кристи, прикрывая за собой дверь. — Всем известно, что в ваше издательство поступают тысячи рукописей и вам приходится держать не одну дюжину рецензентов, для того чтобы они эти рукописи читали и выискивали жемчужные зерна. Господин Дойбл, я изобрел электронного рецензента, способного прочитать и математически проанализировать до ста рукописей в сутки. Гарантируется быстрота ответа, объективность. точность и неподкупность рецензента.
Исключается потеря рукописи, вкусовщина, приверженность к тем или иным группировкам, течениям и направлениям. Благодаря нестирающейся электронной памяти рецензента автоматически исключается возможность напечатания литературного плагиата. Математический анализ выдается в письменном виде. Здравствуйте! — изобретатель только теперь подошел к столу.
— Добрый день… — Тучный издатель неопределенно помахал рукой, что одновременно' являлось и приветствием, и ненастойчивым приглашением сесть и чувствовать себя как дома. — Так сколько времени нужно вашей штуковине, чтобы прочитать, скажем, рукопись романа?
— От двенадцати до пятнадцати минут. Причем учтите, мой электронный рецензент состоит из двух отдельных блоков. И пока второй блок пишет рецензию на одну рукопись, первый блок уже читает следующую рукопись.
— Занятно. Могу я увидеть эту машину в действии?
— Разумеется. — И Кристи, на мгновение выскочив из кабинета, вернулся, неся в руках полированный, похожий на радиолу ящик. — Разрешите воспользоваться вашей розеткой? Благодарю. Теперь дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь рукопись. Спасибо. — Кристи сунул под крышку аппарата пухлую рукопись и нажал клавиши.
Зажглась зеленая лампочка, послышался шелест быстро перелистываемых страниц — электронный рецензент принялся за работу.
Лишь теперь изобретатель с облегчением вздохнул и уселся в кресло. Прошло всего три минуты сорок секунд с тех пор, как Кристи вступил в кабинет. Он уложился в срок. Важно было только заставить Дойбла выслушать себя и включить аппарат. А уж электронный рецензент сделает все остальное, в этом Кристи не сомневался. Счетчик на передней панели рецензента указывал количество прочитанных страниц… Все шло нормально…
— Кому еще предлагали вы свое изобретение? — поинтересовался Дойбл. — Я имею в виду издателей.
— Пока никому.
— А почему вы решили начать именно с меня?
— Мне трудно ответить на этот вопрос. Если я скажу правду, вы подумаете, что я льстец. Если я скажу неправду. вы сочтете, что я лгун. А я ведь не знаю, какое из этих двух качеств вам неприятней.
— Мда… — издатель одобрительно посмотрел на Кристи.
— Господин Дойбл. я хотел бы сказать несколько слов о тех критериях, которыми пользуется мой электронный рецензент для составления математических анализов. Возможно, мои соображения покажутся вам наивным лепетом. Но, произведя математический анализ бестселлеров последних трех лет, я обратил внимание на следующее: читателю надоели мрачные произведения. Читатель ищет такие книги, которые бы убеждали его, что жизнь прекрасна и каждый может насладиться ею по-своему. Читателю надоели ужасы, патология, неправдоподобные страсти…
— Короче! — буркнул Дойбл.
— Короче, исходя из вышесказанного, я высчитал, что именно сегодня ценится в книгах, и составил подробную шкалу оценок. Наивысшая оценка — плюс сто радостей, наихудшая — минус сто радостей. Так что электронному рецензенту остается только сверять прочитанную рукопись со шкалой и проставлять оценки. Те рукописи, которые наберут более четырехсот радостей, можно издавать без риска, ибо именно такое количество радостей насчитывают бестселлеры последних лет. А набравших более семисот следует издавать вне всякой очереди. Таким образом вы будете единственным издателем, выпускающим только бестселлеры. И все благодаря моему аппарату. Да вот, кстати, рецензия уже готова…
Вместо зеленой лампочки на панели замигала красная, и из щелки, открывавшейся внизу аппарата, заструилась бумажная лента. Подхватив ее, Кристи начал читать вслух:
— «Математический анализ романа «Окна смотрят туда». Общий вес рукописи 2 кг. 457 гр. Из них: основная сюжетная линия — 840 гр. любовь — 1280 гр. (900 гр. взаимной любви. 150 гр. — безответной, 230 гр. — переходящей в дружбу)… Главные показатели по шкале Кристи: занимательность — плюс 50 радостей: доступность изложения — плюс 35 радостей: успокаивающее воздействие — плюс 20 радостей; значительность темы — минус 70 радостей: стимулирование приятных воспоминаний — плюс 10 радостей…»
Так пункт за пунктом изобретатель прочитал весь математический анализ, кончавшийся словами: «Итого по шкале Кристи роман «Окна смотрят туда» — плюс 120 радостей…»
— Не много! — проворчал издатель.
— Конечно. Но зато теперь вы можете быть уверены, что эту книгу издавать не стоит. Вы застрахованы от неудач!
— А дальше?
— Что дальше? — не понял Кристи.
— Кто мне станет писать те замечательные бестселлеры, которые смогут набрать более четырехсот радостей по шкале Кристи? — не без ехидства спросил Дойбл.
— В том-то и дело, что их не нужно писать. Они уже написаны. Вспомните, как время от времени вдруг снова становится модной то одна, то другая старая, забытая книга.
— Это так. Но попробуйте угадать, какая именно забытая книга завтра станет бестселлером. Их же миллионы, этих старых книг!
— Конечно! Поэтому без электронного рецензента вам не обойтись. Как раз переиздание забытых книг я и имел в виду, предлагая вам свое изобретение.
Издатель задумался.
— А вам не кажется, что, прочитывая за день всего сто томов, ваш аппарат может и за год не найти того, что мне нужно?
— Закажите, и я создам для вас десять таких рецензентов. Тогда уж ни одна стоящая книга не уйдет от вас.
— Ну что ж, считайте, молодой человек, что мы договорились. Можете приступать к делу. И поторопитесь!
* * *
Уже целый месяц круглосуточно работали электронные рецензенты. Сотрудники издательства едва успевали доставлять из библиотек и отвозить обратно в библиотеки десятки тысяч давным-давно забытых книг. Между прочим, как узнал Дойбл, один из королей-конкурентов, а именно Мойбл, тоже решил издавать забытые книги. Мойбл бросил на их поиски тридцать самых опытных рецензентов. Но что значила эта кустарщина по сравнению с мощной техникой Дойбла! Был понедельник. И едва издатель вошел в свой кабинет. как ворвался возбужденный, взъерошенный Кристи. — Вот она! — радостно закричал он. — Вот она. та самая! — И бросил на стол издателя бумажную ленту. — Вы посмотрите, какие невероятные показатели у этой книги! Доступность изложения — плюс сто, занимательность — плюс сто, описание радостей жизни — плюс сто, стимулирование приятных воспоминаний — плюс сто. успокаивающее воздействие — плюс сто… Чем дальше читал Кристи, тем ясней становилось старому издателю, что это и есть та книга, которая его сделает королем королей… Теперь уже Кристи и Дойбл хором выкрикивали каждый показатель. — Но что это за книга? — спросил издатель. — Как называется этот шедевр? — Здесь же указано название: «Каждому — свое». Автор Джинина Германолли. Издание 1925 года. — Никогда не слыхал о такой. Тащите ее сюда. — Джинину? — Да нет, книгу! — Видите ли, ее по недоразумению уже увезли обратно в библиотеку. Но это не страшно… — Как не страшно?! Вы забываете про Мойбла. — Издатель схватил телефонную трубку. — Чочкинс, немедленно свяжитесь с кем нужно, узнайте, какая фирма имеет права на книгу «Каждому — свое». Написала ее какая-то Джинина Германолли. Перекупите права, сколько бы это ни стоило! Все! А вы, Кристи, пошлите кого-нибудь в библиотеку Книга должна быть в наших руках.* * *
Не прошло и часа, как исполнительный Чочкинс сообщил, что дело улажено, и за полмиллиона Дойбл получил исключительные права на все будущие издания книги «Каждому — свое». Успокоившись, господин Дойбл стал еще раз с наслаждением перечитывать небывалые, фантастические показатели. — Доступность изложения — плюс сто. Замечательно! Поднятие жизненного тонуса — плюс сто. Невероятно! Значительность затронутых проблем — плюс сто. Порази тельно! А еще через пять минут на стол господина Дойбла положили только что доставленную из библиотеки книгу. На пожелтевшей обложке ее чуть ниже фамилии автора было написано: «Каждому — свое», а еще ниже — в скобках мелким шрифтом уточнялось: «Поваренная книга о вкусной и полезной пище».
ИЗБРАННЫЕ РАЗДУМИНЫ
И РАЗМЫШЛИЗМЫ
ЕВГ. САЗОНОВА

Вступление
В конце 60-х годов в «Клубе 12 стульев», что на 16-й полосе «Лит. газеты», появилось новое имя — Евгений Сазонов. Он оказался прямым потомком (по материнской линии) бессмертного Козьмы Пруткова.
«Клуб 12 стульев», как и всякий уважающий себя клуб, отличался почитанием традиций. Поэтому Евг. Сазонова — продолжателя поэтической, философской и людоведческой традиции своего знаменитого предка — приняли с распростертыми объятиями. (Правда, Козьме Пруткову не был знаком термин «людоведение», он считал себя просто знатоком человеческой природы, но, доживи философ до наших дней, он, без сомнения, овладел бы современной научной терминологией.)
Старейшины Клуба стали всячески опекать новичка и развивать его наследственные таланты.
На последующих страницах избранно представлен тот носильный вклад, который внес в творчество Евг. Сазонова В. Бахнов.
Размышлизмы — это короткие раздумины, а раздумины — это удлиненные размышлизмы.
Евг. Сазонов
Размышлизмы
о правилах уличного движения
Противопожарные размышлизмы
Раздумины
о вечном коловращении в природе
Раздумины
о быстротекущем времени
Раздумины о благотворном влиянии
технического прогресса
Философские размышлизмы
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздумины о поэте
и его лирическом герое
Импортные раздумины
Раздумины с недомолвками
Открытое письмо диким осам, которые могли бы обитать на садовом участке поэта, если бы таковой у него был
К вопросу о загадке романа
«Три мушкетера»
Читая Гулливера
Читая Шехерезаду
Читая Робинзона Крузо
Читая всемирную историю
К вопросу о комплексном изучении
иностранных языков
Ангина в творчестве народов мира
(переводы Евг. Сазонова)
С английского
С испанского
С французского
С итальянского
С немецкого
С персидского
С древнегреческого
С эсперанто
КАК ПОГАСЛО СОЛНЦЕ
(повесть)

Вселенная так велика, что нет такого, чего бы не было.
ПРОЛОГ
Исторические события, правдиво и объективно излагаемые в этой хронике, имели место на далекой-далекой планете Аномалии, медленно вращающейся вокруг звезды Оо.
Впрочем, если для нас. землян, Оо только звезда 10-й величины, каких много, то для жителей Аномалии Оо — Солнце, дающее свет и жизнь всему живому.
Кроме Аномалии в системе Оо было еще шесть планет. Аномалийцы летать на планеты не умели, но были уверены, что через каких-нибудь двести-триста лет научатся. А поэтому дальновидные политики во избежание будущих недоразумений и скандалов договорились о следующем:
а) Шесть Великих Диктаторий, а именно: Великания, Гигантония, Грандиозия, Колоссалия. Потрясалия и Огромандия — заранее распределят между собой шесть планет.
б) Каждая Великая Диктатория даст торжественное заверение в том. что она никогда и ни при каких обстоятельствах не станет притязать на принадлежащие другим Великим Диктаториям планеты.
Конечно, договориться об этом было не так-то просто. Сопоры возникали по каждому вопросу. А нужно отметить, что в то время, как у нас на Земле истина рождается в спорах, на Аномалии любая истина, наоборот, рождала споры. И если в результате подобных споров и появлялась на свет какая-нибудь истина, то она имела такой чахлый вид, что сразу становилось ясно: эта истина долго не протянет.
Проблемы появлялись одна за другой. Так, скажем. Попечитель Колоссалии спросил, как они поступят в том случае, если в будущем еще какое-нибудь государство станет Великой Диктаторией и тоже захочет иметь в Солнечной системе свою планету.
— Ну что ж, — ответил Попечитель Потрясалии, — можно будет, если возникнет такая необходимость, поручить астрономам открыть еще пару планет.
— Но ведь планеты по приказу не открываются!
— Вы думаете? Н-да, подраспустили вы своих ученых… Ну хорошо, мои астрономы откроют…
— И вы согласитесь взять именно такую планету для своей Потрясалии? — поинтересовался ехидный Попечитель Колоссалии.
— Ну знаете, если бы все, что открывают мои ученые, я оставлял только для Потрясалии, мир не знал бы многих величайших открытий. Ученые моей страны работают на благо всей Аномалии! Их единственной целью и заботой является…
Попечители знали, что в таком духе каждый из них способен говорить круглосуточно, и, ступив на эту опасную тропу, совещание легко могло зайти в тупик. Поэтому решили вопрос о будущем с повестки снять и перейти к распределению планет.
А поскольку ученые всех стран дружно утверждали, что все планеты примерно равноценны, то мудрейший из мудрых государственных мужей внес предложение положить в шляпу шесть записок с названиями планет и тянуть жребий. Проект был принят единогласно при одном воздержавшемся, и Главы Правительств собственноручно тащили из шляпы Попечителя Колоссалии свернутые в трубочку записки. Так состоялся этот незабываемый акт, и историческая шляпа до сих пор хранится в Центральном Аномалийском музее, где желающие могут ознакомиться с ней в любое время, кроме понедельников и санитарных дней.
Бесспорно, Попечителям удалось прийти к соглашению только потому, что число Великих Диктаторий соответствовало числу планет. И все думали, что такое совпа-дение является счастливой случайностью. Но время показало, что случайность эта, увы, не была счастливой, потому что именно из-за нее в дальнейшем произошли столь трагические события. Само собой разумеется, на Аномалии, помимо Великих Диктаторий, существовали и другие малые и большие государства. К их числу принадлежала и некогда могущественная страна Огогондия. Огогондия была огромным, широко раскинувшимся государством и Великой Диктаторией не считалась только по двум причинам: 1) Политический разброд в Огогондии был прямо пропорционален ее географическим размерам, в то время как 2) Международный престиж Огогондии был этим размерам обратно пропорционален. Великие Державы особого интереса к этой стране не проявляли, потому что стараниями своих собственных правителей Огогондия была доведена до такого состояния, что ее, прежде чем ограбить, надо было хотя бы одеть. И никто не обратил внимания, как с помощью военной хунты в результате очередного мятежа в Огого — столице Огогондии — к власти пришел генерал Нибумбум. Впервые о Нибумбуме заговорили тогда, когда дотошные журналисты выяснили, что он президентствует уже целых шесть месяцев, в то время как его предшественникам удавалось продержаться в президентском дворце от трех с половиной часов до пяти недель максимум. Один Президент, правда, руководил страной на два дня дольше. Но это случилось не по вине военной хунты, а только потому, что в результате неожиданных ливней в Огогондии промок весь порох и хунта вынуждена была ждать, пока он просохнет, ибо, согласитесь, что начинать мятеж без стрельбы просто смешно! Но Президенту эта отсрочка на пользу не пошла. Он очень томился и нервничал в ожидании неприятностей. И в конце концов он уговорил хунту свергнуть его немедля, а пострелять из всех видов оружия потом, когда порох просохнет. А вот Нибумбум жил в президентском дворце полгода и. по-видимому, даже не собирался нервничать. Совершенно спокойно он подавил в Огого семь мятежей и раскрыл шесть заговоров. (Три из них были не совсем настоящими, но зато в подлинности остальных сомневаться не приходилось, потому что Президент организовал их сам.) Тридцать полковников он разжаловал в солдаты, а сто тридцать — произвел в генералы. Роты он переименовал в полки, а батальоны в дивизии, велел считать свою армию самой непобедимой и объявил себя родоначальником бессмертной династии Нибумбумов. Обо всем этом журналисты поговорили и забыли. А еще через год о Нибумбуме вспомнили снова. Вернее, он сам напомнил о себе. Прибыв на очередное международное совещание Великих и Малых (ВиМ), Президент Огогондии выступил со следующим неожиданным заявлением: — Я солдат и люблю говорить прямо, по-солдатски. Ввиду того что за последнее время Огогондия достигла невиданного расцвета в экономическом, политическом и военном отношениях и в результате невероятного подъема духовных сил вышла в ряды передовых государств, я прошу выделить Огогондии какую-нибудь планету. Это заявление вызвало веселое оживление в зале. — Господин Президент, — сказал, сдерживая улыбку. Председатель. — согласно историческому соглашению все имеющиеся в наличности планеты были распределены между Великими Диктаториями. А насколько мне известно, Огогондия Великой Диктаторией не является. — Да, господин Председатель, — ответил Нибумбум, — но если дело только в этом, я согласен на то, чтобы Огогондию тоже считали Великой Диктаторией. Я не возражаю. — Великими Диктаториями по собственному желанию не становятся. Великие Диктатории образуются исторически. — Хорошо, с этим я не тороплюсь, пусть исторически. Но планету вы нам должны выделить сейчас! — Что значит — должны?! Свободных планет в нашей солнечной системе нет. Сколько было — все распределили! Вот если ученые откроют новые планеты, тогда пожалуйста! А пока мы вас можем поставить на очередь. — Черта с два! — сказал генерал. — У всех планеты, а у нас очередь? Да? Не выйдет! Я солдат и буду говорить прямо: пусть лучше мы погибнем в неравном бою, чем будем и дальше жить без своей планеты! Тут все стали успокаивать генерала: «Ну для чего вам планета?», «Что толку от нее, кроме названия?», «Все равно раньше чем через двести лет туда не полетите!», «Одни только расходы!» Но Нибумбум стоял на своем. — Мы не ищем материальных выгод. Нам нужна планета. — Но ведь у нас нет планет. Понимаете — нет! Генерал задумался и потом решительно сказал: — В таком случае закрепите за нами Солнце. — А зачем вам Солнце? Оно же не планета. Оно же звезда. — А я не формалист. Я солдат. Бесспорно, любая Великая Диктатория легко могла в тот день поставить на место зарвавшегося генерала. Но одна Диктатория готовилась к войне, и Попечитель ее избегал каких-либо неожиданностей. Другая Диктатория была уже занята микровойной и не знала, как из нее выпутаться. Третья вынашивала коварные планы, в связи с чем старалась в данный момент показать всем государствам, что она их верный друг и защитник. В общем, обстоятельства сложились так, что Попечители посоветовались между собой и рассудили, что на Солнце все равно никто никогда высадиться не сможет, а следовательно, какая разница, чьим владением оно будет? В конце концов еще смешней, что какая-то Огогондия станет считаться сюзереном самого Солнца!
Казалось, генерал одержал победу. Но, как выяснилось, эта победа в самом скором времени обернулась для него полным поражением. Едва получив Солнце, Нибумбум почувствовал себя обманутым и обойденным: у всех настоящие планеты, а у него Солнце. Продешевил, явно продешевил! Он затеял переписку с Попечителями Великих Диктаторий, пытаясь обменять свое Солнце на чью-нибудь планету. Он даже соглашался доплатить. Но Попечители отвечали отказом. И это лишний раз доказывало генералу, что, взяв Солнце, он дал маху. Правда, огогондские газеты дружно утверждали, что раз планет много, а Солнце одно, значит, та страна, которой принадлежит Солнце, и есть самая лучшая. Но эти слова вселяли гордость во всех огогондцев, кроме самого Нибумбума. Комплекс неполноценности так измучил его, что он стал пить, курить и играть в карты. Пил он так много, а играл так азартно, что однажды проиграл свое президентское место собственному сыну Нибумбуму Второму. И приблизительно в это время в Огогондии стал функционировать таинственный синдикат Икс… Прошло много лет. Сменилось несколько Нибумбумов. Огогондия стала седьмой Великой Диктаторией. Очередной Нибумбум превратился из Президента в Попечителя. Но по-прежнему у всех Диктаторий были настоящие планеты, а у Великой Диктатории Огогондии — Солнце. И по-прежнему в Огогондии процветал загадочный синдикат Икс.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Итак, начнем, — сказал пожилой благообразный господин, обращаясь к своим не менее благообразным собеседникам. — Я просил вас, господа директора синдиката, безотлагательно явиться сюда, потому что речь идет о жизни и смерти. — О чьей смерти, господин генеральный директор? — деловито, но без излишнего любопытства уточнил узколицый джентльмен с безукоризненными манерами. — К сожалению, о нашей. Сегодня вечером у Попечителя Огогондии состоялось чрезвычайно секретное совещание, на котором решено было покончить с нашим синдикатом Икс. — Покончить? — недоверчиво переспросил тучный господин. — Не представляю, каким образом это можно сделать? — Самым простым, но в то же время самым коварным и эффективным. Нашему человеку удалось провести видеозапись этого секретного совещания. Посмотрите, господа. выступление Попечителя, и вы убедитесь, насколько мои опасения основательны. Стена раздвинулась, открывая экран, на котором были видны только стол и ноги сидящих за этим длинным, уходящим в перспективу столом. Еще одна пара ног в башмаках с пряжками нервно расхаживала по экрану, то останавливаясь, то гневно топая. — Почему здесь только ноги? Что за странная манера вести съемку? — недовольно пожал плечами тощий джентльмен. — Я напоминаю, совещание было чрезвычайно секретным, ракурса для съемок выбирать не приходилось. Но слушайте, говорит Нибумбум Пятый. — Это черт знает что! — послышалось с экрана. — Гангстеры в Огогондии распустились до неприличия. Ну разве так можно? Ну так же нельзя! Мало того, что их синдикат Икс торгует запрещенными у нас наркотиками и содержит запрещенные у нас игорные дома и притоны — мало этого! Как нам доложил Департамент импортных дел. синдикат произвел перевооружение своих людей и снабдил их всех заграничным оружием! Наше отечественное оружие этим гангстерам, видите ли. уже не подходит! Вот до чего они докатились! — Позор! Позор! — дружно затопали сидящие за столом. — Я всегда знал, что гангстеры нехорошие люди. Но я не подозревал, что они до такой степени непатриоты. Ну разве так можно? Ну так же нельзя! — Позор! Позор! — Синдикат Икс забывает, что его доходы целиком зависят от наших законов, — продолжали расхаживать ноги в башмаках. — Стоило нам запретить наркотики, и синдикат стал их продавать в двадцать раз дороже, нажив на этом не один миллиард игреков. Стоило нам закрыть игорные дома, как синдикат построил тайные игорные небоскребы и снова заработал немалые денежки. Ну разве так можно? Ну так же нельзя! И пора с этим кончать! — Господин Попечитель, вы намерены привлечь синдикат к суду за нарушение законов? — спросили, щелкнув каблуками, сапоги. — Нет, господин управляющий Департаментом преступлений и наказаний. Напротив. Я намерен отменить все запретительные законы и разрешить в Огогондии абсолютно все: наркотики, проституцию, игорные дома. Все! Синдикат останется без дела, лишится доходов, обанкротится, а мы избавимся от гангстеров. Вот!— Достаточно, — сказал генеральный директор, выключая экран. — Я думаю, джентльмены, вы согласитесь теперь, что положение наше чрезвычайно серьезно? — Но как же так? — недоуменно и обиженно воскликнул тучный директор. — Сегодня одни законы, завтра — другие… Это же произвол! — Да, произвол. Но мы живем в Огогондии, где основным законом является беззаконие. И поэтому мы или должны будем надежно застраховать себя от всякого рода неожиданностей, или падем жертвой произвола. Третьего не дано. — А как мы можем застраховаться? — Я вижу только один надежный способ: Попечителем Огогондии должен стать наш человек. Маленький, никому не известный человек из нашего синдиката. — А вы подсчитали, господин генеральный директор, сколько на проведение этого мероприятия понадобится средств? — поинтересовался тощий джентльмен. — Много, очень много. Но цель, господа, оправдает затраченные средства. Спустя два дня после совещания Попечитель Огогондии Нибумбум Пятый издал закон, разрешающий свободную продажу наркотиков и порнографических открыток. Синдикат пошатнулся. А на следующий день произошло первое покушение на Попечителя, и начался период, получивший впоследствии название Большой Трехлетней Охоты. Достаточно взглянуть на заголовки пожелтевших газет того времени, чтобы ясно увидеть, что происходило тогда в Огогондии: «Неудачное покушение на Попечителя». «Еще одна неудача». «Удачное покушение на Попечителя». «Огогондия в слезах». «Нибумбум Шестой принес присягу». «Покушение на Нибумбума Шестого». «2:0 в пользу синдиката». «Огогондия в трауре». Нибумбум сменял Нибумбума с невиданной быстротой. Род Нибумбумов таял, и в ход пошли троюродные племянники. Огогондцы устали вывешивать, снимать и снова вывешивать траурные флаги. Поэтому на фасадах домов траурные флаги висели теперь постоянно, а траурные одежды стали ежедневной спецодеждой огогондцев. Так продолжалось три года. Синдикат вел самую крупную игру в своей истории и был близок к банкротству. Но наконец династия Нибумбумов иссякла, к власти пришел никому дотоле не известный Дино Динами, и охота на попечителей прекратилась. Синдикат победил. Новый Попечитель твердо знал, что нужно делать. Он снизил цены на пиво, чем сразу завоевал любовь и благодарность верноподданных. Он начал борьбу за оздоровление расы и строжайше запретил торговлю наркотиками, благодаря чему сразу укрепил материальную базу синдиката Икс. И наконец, он назначил себя по совместительству генеральным директором синдиката и провозгласил начало новой Тысячелетней Диктатории. Тот, кто одновременно управлял государством и синдикатом, был застрахован от всяких неожиданностей: Попечитель охранял синдикат: синдикат охранял Попечителя. Синдикат перестал быть государством в государстве, поскольку стал самим государством. Поэтому удалось резко сократить полицейский аппарат: гангстеры сами поддерживали порядок в своем государстве. А оставшиеся без работы полицейские устроились благодаря своим давним связям в тот же синдикат Икс. Время от времени Дино, как глава государства, что-нибудь запрещал, синдикат развертывал широкую торговлю запрещенным товаром, и Дино, как глава синдиката, клал в карман солидный куш. Число запретов росло. Могло случиться так, что в Огогондии было бы запрещено абсолютно все. Но государственный ум подсказывал Дино, что этого делать не следует. И, подчиняясь здравому смыслу. Попечитель перед каждым новым запретом отменял какой-нибудь свой прежний запрет, что у благодарных огогондцев вызывало новую вспышку любви и обожания. И неудивительно. Ведь для каждого запрета Динами находил объективные причины, а любую отмену запретов объяснял исключительно личным стремлением сделать приятное своему народу. И чем хуже огогондцы жили, тем они больше любили Дино. Прошло десять лет. Государство-синдикат процветало, и Попечитель уже подумывал, не пора ли переименовать Тысячелетнюю Диктаторию в миллионолетнюю, чтобы на этом основании снова потребовать перераспределения планет. Но тут начались самые интересные события нашей хроники.
ГЛАВА ВТОРАЯ
По мрачным улицам Огого двигался туристский автобус. От обычных автобусов он отличался только тем. что был без окон, и из него туристы могли увидеть не больше, чем из запаянной консервной банки. — Господа иностранные туристы! — профессионально бодрым голосом выкрикивал гид, в то время как экскурсанты мерно покачивались в уютных креслах. — Мы проезжаем сейчас по залитой солнцем древней столице Великой Диктатории Огогондии. Пусть вас не удивляет, господа туристы, что в нашем автобусе нет окон. Благодаря свойственному нам гостеприимству иностранцам разрешается свободно передвигаться по улицам столицы. Но из соображений государственной безопасности запрещается на эти улицы смотреть. Однако это не страшно. Поверьте мне. я лично буду рассказывать вам самым подробнейшим образом обо всех городских достопримечательностях, мимо которых нам доведется проезжать. Вот сейчас, — и гид одним глазом заглянул в специальное, величиною с замочную скважину, смотровое отверстие, — вот сейчас мы едем по бульвару, носящему имя нашего Великого Попечителя Дино Динами. Ах, ах. какой красивый бульвар! А теперь мы проезжаем Дино-сквер, пересекаем площадь Динами и выезжаем на самую длинную в мире Дино-Динамиевскую улицу. Теперь справа находится памятник Динами, едущего на коне, а слева — монумент Дино, переплывающего реку. Гид восторженно описывал красоты столицы, а мимо замочной скважины проплывали то громадный бронзовый сапог, то колоссальное конское копыто, то окна с решеткой. — Но вот уже видна, — и голос гида стал еще более торжественным, — да, вот уже видна скромная резиденция Великого Попечителя Великой Диктатории Огогондии. Резиденция, которую огогондцы с любовью называют «хижина дядюшки Дино». Ах. ах. какая хижина! Браво, Динами! И, словно эхо, из хижины донеслось: — Браво, Динами! Слава Динами! Браво, брависсимо, Дино Динами! — Это дружно кричали солидные ученые мужи. Они кричали, и взоры их были обращены на массивные, высотою с трехэтажный дом двери. Сейчас они распахнутся, и к ученым выйдет сам Дино. Но вопреки ожиданиям двери не распахивались. Только в нижнем левом углу этих гигантских дверей для парадных приемов открылись небольшие обычные двери — так сказать, двери на каждый день, — и из них выскочил маленький юркий человек, чей облик никак не вязался с представлением о том самом Дино Динами. И все же это был он. Тот самый. Великий. Усики, бородка и даже улыбка на лисьей мордочке Попечителя казались не настоящими, а приклеенными. Но этого никто не замечал. Наоборот, всех умиляло, что Величайший из Великих такой, как все, и носит такую же бородку, как любой огогондский мужчина старше двадцати пяти лет. Всем это нравилось, и никто не вспоминал, что в Огогондии усы и бородки вошли в моду только после того, как их стал носить Дино. Впрочем, как мы увидим, здесь часто путали причину и следствие. — Браво, Дино! — еще неистовей заорали ученые, увидев Попечителя. — Слава Солнцеподобному! — Ну что это такое? — добродушно попытался остановить их Дино. — Ну что вы заладили: «Браво, браво»? Так и зазнаться можно. (Смех в зале.) А я такой же, как все. Равный среди Равных! — Да здравствует Равный среди Равных! — подхватила, присутствующие. — Сто тысяч лет жизни самому Равному! — Да ну вас, хватит! — махнул рукою Дино. — Не хватит! — завопили строптивые. — Слава Равнейшему! Ух ты-ы! (Нужно сказать, что огогондцы вообще любили горячо приветствовать своих попечителей. А тут был особый случай. Сегодня в резиденции собрались представители двух враждующих течений огогондской науки. Справа расположились гуманитологи, слева — конструктарии. И каждая сторона пыталась кричать как можно громче, стараясь, во-первых, заглушить своих противников, а во-вторых, наглядно продемонстрировать свои верноподданнические чувства.) — Ну ладно, ладно. Попрыгали, повеселились и будет. — Дино произнес зти слова почти так же добродушно, но чуткие ученые, прервав на полуслове приветствия, сразу умолкли. — Что же там у нас на повесточке? О чем толковать будем? — Сегодня вы. Ваше Равенство, хотели поговорить с учеными гуманитологами и конструктариями о массовом производстве искусственных солдат. — напомнил вежливый безликий секретарь. — Ага, понятно. Так вот, дорогие мои гуманитологи, конструктарии и всякое такое. Мне нужны солдаты. То есть не мне лично. Мне лично ничего не нужно. Солдаты нужны нашей родной Огогондии. Вы сами знаете, что Колоссалия, Потрясалия и другие Диктатории, отхватив себе настоящие планеты, подсунули Огогондии Солнце. Прибыли от этого Солнца никакой, высадиться на него все равно никто никогда не сможет, так что, скажем прямо, облапошили нашу любимую Огогондию будь здоров! Конечно, до планет раньше чем через двести лет тоже никто не доберется. Но дело не в этом. Дело в принципе! (Аплодисменты.) Я терпеть не могу исторические несправедливости и никому не позволю обижать мой горячо любимый народ. (Бурные аплодисменты.) Себе, понимаете, планеты, а нам, понимаете. Солнце. Ишь, жулики! (Смех.) Но я добьюсь того, что Огогондия получит все, что ей причитается. Все! И даже больше! Но для этого мне нужны солдаты, солдаты и еще раз солдаты. Мне нужны солдаты, способные пройти сквозь огонь, воду и медные трубы! И я хотел бы знать, чем конкретно вы, гуманитологи и конструктарии, собираетесь помочь нашей Огогондии? — Разрешите вам напомнить. Ваше Равенство, — тихо сказал секретарь. — что между гуманитологами и конструктариями существуют разногласия. — Разногласия? — удивился Дино Динами. — Это даже интересно… И наступила такая тишина, что казалось, можно было услышать, как Главный конструктарий молится: «Господи, покарай гуманитошек!» А Предводитель гуманитологов, полагаясь на более реальные силы, мысленно восклицает: «О Равный среди Равных, почему конструктарии до сих пор не отправлены на перевоспитание?» А сидящий в задних рядах молодой ученый Котангенс, с преданным обожанием глядя на Попечителя, думал: «Сегодня, сейчас вот, наконец-то выяснится, на чьей стороне Дино и правильно ли я сделал, став конструктарием. Прогадал я или не прогадал?» — Ну что же вы молчите? — нетерпеливо спросил Попечитель. — Мы не молчим, — одновременно откликнулись Главный конструктарий и Предводитель гуманитологов. — Так говорите!. — Мы говорим. Ваше Равенство, мы, конструктарии. считаем… — Ваше Равенство, мы, гуманитологи. полагаем… — Дорогие ученые. — перебил их Дино. — хоть у меня и два уха, я попросил бы вас выступать поодиночке. (Почтительный смех в зале.) Пусть начнет гуманитолог. «Почему гуманитолог первый? — вздрогнул молодой ученый. — Неужели я прогадал?» — Впрочем, нет, пусть сначала выскажется конструктарий. «Ух, слава богу», — облегченно вздохнул Котангенс. — Ваше Равенство, мы, конструктарии, считаем, что для того, чтобы непобедимая армия Огогондии стала еще более непобедимой, нужно создать таких искусственных кибернетических солдат-роботов, которые ничем не отличались бы от людей, но в то же время не ведали бы ни страха, ни сомнений, ни прочих штучек-дрючек. — Это хорошо. А гуманитологи что думают? — А мы, гуманитологи, полагаем, что для того, чтобы наша непобедимая армия стала совершенно непобедимой, следует уделять внимание не каким-то там кибернетическим устройствам, а людям. Живым людям! И доводить вышеупомянутых людей следует до такой степени совершенства, чтобы они ничем не отличались от роботов и, следовательно, тоже не знали ни страха, ни сомнений ни прочих фиглей-миглей. — Это тоже хорошо, — отметил Дино. — Причем наш, гуманитологический, способ получения солдат-роботов гораздо экономичней, потому что полуфабрикаты для их производства нам совершенно бесплатно поставляет сама природа. — Да, изготовлять роботов по вашему способу гораздо дешевле, — снова вскочил Главный конструктарий. — А прокормить? Не забывайте, что даже в мирное время ваших солдат-роботов нужно как кормить-поить, так и обувать-одевать. А наши киберы в этом не нуждаются. Уложенные в аккуратные штабеля или построенные в боевые порядки, киберы могут, не требуя никаких дополнительных затрат, годами дожидаться сигнала боевой тревоги, чтобы тут же броситься в бой, не испытывая ни малейшего желания сохранить свою искусственную жизнь. — Но киберы не испытывают также ни любви к Огогондии, ни (да простят мне эти слова!) преданности Великому Дино Динами. — Вы ошибаетесь. Эти чувства в киберах программируются в первую очередь. — Допустим. Но ваши киберы не могут стремиться пролить свою кровь за нашего Попечителя, ибо у них этой крови нет. — Да, у киберов нет стремления проливать свою кровь. Но в них запрограммировано более важное стремление: проливать кровь врага! — Все ясно! — тровозгласил Дино. — Я подумаю. А вы, гуманитологи и конструктарии, продолжайте работать. Пусть, как говорится, цветут все цветы и скачут все кони. Но скачут побыстрей, я люблю большие скачки! Браво, брависсимо! В едином порыве вскочили деятели науки. И хотя Дин< уже успел нырнуть в те самые маленькие двери на каждый день, ученые долго кричали ему вслед. — Браво, Дино Динами! Слава Равному среди Равных! — выкрикивали гуманитологи и конструктарии, бросая друг на друга яростные взгляды. И сквозь этот рев пробивалась пытливая мысль молодого ученого Котангенса: «Прогадал я или не прогадал?»ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Как мы уже знаем, на Аномалии, кроме Огогондии, существовало еще шесть Великих Диктаторий, из которых каждая считала себя Самой Великой. Правили Великими Диктаториями Великие Попечители, и каждый из них в пределах своей страны именовался Самым Великим или, попросту говоря. Величайшим. Казалось бы: все Великие, все Самые — следовательно, все в порядке. Но нет! Каждый Попечитель ревниво следил за успехами других попечителей, и не столько радовался своим достижениям, сколько огорчался достижениями своих коллег. — Вот, читай! — кричал, например, нервный Попечитель Колоссалии Отдай Первый, который даже среди попечителей считался самодуром. Выкрикивая, он совал под нос своему Управляющему Наукой газету. — Читай вслух! — У-у-ученые По-потрясалии, — читал испуганный Управляющий, — с помощью спектрального анализа обнаружили на своей планете богатейшие алмазные россыпи. — Видал? Она, Потрясалия, может обнаруживать, а мы, Колоссалия, не можем? Ступай и вели ученым что-нибудь обнаружить! Живо! И цепная реакция начинала действовать.— Ах, министры, вы мои министры! — с грустью произносил томный Попечитель Гигантонии Ну-и-ну. Подперев рукой голову, Ну-и-ну лежал на уютной тахте, а министры в полной форме, при орденах и портфелях, живописным полукругом возлежали перед своим владыкой. — Ну что с того, что Потрясалии нашла на своей планете алмазные россыпи, а Колоссалия — брильянтовые залежи. Пусть их! Разве в этом счастье? Разве в этом смысл жизни? — Никак нет! — единодушно отвечал кабинет министров. — Да, никак нет! — печально повторял Попечитель. — Вот. например, параллельные линии. Как они до нашего появления на свет не могли встретиться друг с другом, так не встретятся и после нас. А в таком случае для чего мы? Зачем мы? Неизвестно… С этими словами Попечитель перевернулся на другой бок, и министры, быстро обежав тахту, снова расположились полукругом. — Или, скажем, вещие сны. — И Попечитель перешел на шепот: — Вы верите в них, министры? — Так точно, — прошептали министры. — Верим. — И правильно делаете. А снилось мне. будто смотрю я на принадлежащую нам планету и вижу на ней… знаете, что? — Что? — полюбопытствовали министры. — Горы из чистого золота — вот что! — подумав, объявил Ну-и-ну. — К чему бы это, интересно?
— Поздравляю! — злорадно сказала Брунгульда, супруга Великого Дино. — Поздравляю! Так я и знала! Вот уже Гигантония открыла на своей планете золотые горы. А ты? Что ты можешь открыть на своем паршивом Солнце? Пятна? — Дай мне спокойно поесть, — попросил Дино. — Ешь, ешь. Люди со своих планет будут привозить драгоценности, а ты — пятна! — Ну что ты заладила: пятна, пятна… Я. что ли. Солнце выбирал? Так уж получилось… Дура! — Ну конечно, я дура. Но если ты такой умный, почему ты не можешь добиться, чтоб тебе тоже выделили планету, как всем людям? Тряпка! Тряпка! — И чтобы ее слова звучали убедительней, дородная Брунгульда грохнула об пол чашку. В Огогондии самой засекреченной тайной являлось то, что Дино, Великий Дино, нагонявший страх на врагов и друзей, сам безумно боялся своей супруги Брунгульды. Конечно, этот подрывающий авторитет Попечителя факт следовало держать в секрете и хранить в тайне. И в Огогондии существовало два специальных Департамента — Департамент секретов и Департамент тайн, — следивших за тем, чтобы страшная правда оставалась в узком семейном кругу. И мы не стали бы касаться этих чисто семейных отношений, если бы в дальнейших трагических событиях они не сыграли роковой роли.
А пока мы рассказывали об интимных подробностях из жизни Великого Попечителя, Брунгульда, побросав и перебив все, что стояло на столе (благо посуда в резиденции была казенная!), гневно удалилась. На прощанье госпожа Попечительша так хлопнула дверью, что из рук Дино выпала последняя чашка, и работа над сервизом окончилась. — Приближенные, приблизьтесь! — тихо позвал Динами. — Мы здесь. Ваше Равенство! — тотчас откликнулись два господина — тощий и тучный, с которыми мы уже встречались у бывшего генерального директора синдиката Икс. Они не вошли, а именно возникли, каким-то необъяснимым образом появившись прямо из стен. Но способ их появления нисколько не удивил Попечителя. — Видали, приближенные, что творится? — беспомощно сказал он, указывая на битую посуду. — Для таких разговоров никаких сервизов не хватит. А приближенные деликатно развели руками: мол, что поделаешь. Ваше Равенство. Бывает… — Кто-нибудь находился в зоне слышимости? — Двое слуг и три офицера охраны, — доложил тучный приближенный Баобоб. — Все замеченные надежно изолированы. — Нет, не все, — мягко возразил тощий приближенный по имени Урарий. — Мой наблюдательный друг, — и он нежно улыбнулся Баобобу, — видимо, чисто случайно не заметил, что в пределах слышимости находился также Ара… — Кто? — Ара. Так называемый попугай. И если этот попугай вздумает повторить то, что услышал… — Ах, Ваше Равенство, мой осторожный друг, — и Баобоб нежно посмотрел на Урария, — видимо, запамятовал, что наши талантливые ученые вывели специальную породу немых попугаев, которые молчат как рыбы… — Нет, дружочек, я не забыл этого, — ласково ответил Урарий. — Но бывают моменты, когда и так называемые рыбы заговаривают. А мы не имеем права рисковать. — Точно! — согласился Попечитель. — Не имеем. Ты совершенно прав, Урарий. Распорядись! И тощий приближенный, ехидно улыбнувшись тучному, исчез в стене. А Попечитель в сопровождении Баобоба последовал из столовой в кабинет. — А я, между прочим, тебя казнить собираюсь, — сообщил Дино приближенному по дороге. — За что. Ваше Равенство? — спросил не без интереса Баобоб. — А вот казню, тогда узнаешь, за что. Вопрос: кто начальник секретного департамента? Ответ: ты, Баобоб. — Я, Ваше Равенство. — Вопрос: кто отвечает за строительство секретного объекта (а + b)2? Ответ: ты. — Я. — Вопрос: когда будет готов объект? Ответ: а шут его знает! Вот за это я тебя и казню. — Но, Ваше Равенство, объект (а + b)2 уже готов. — Так какого черта ты мне его не показываешь? — Не могу. Ваше Равенство. В секретный объект, который построил мой Департамент секретов, можно попасть только через тайный ход, находящийся, естественно, в ведении Департамента тайн. А начальник Тайного департамента Урарий категорически отказывается показать мне. где находится тайная дверь, тот тайный ход, который ведет к секретному объекту. — И правильно делаю! — сказал Урарий. появившись из стены. — Если Ваше Равенство распорядится тайну от крыть, тогда пожалуйста. — Распоряжаюсь! — нетерпеливо приказал Попечи тель. Начальник Тайного департамента, погрузив указа тельный палец в одну из стоявших на столе чернильниц, нажал невидимую кнопку. И тотчас стоявшая в углу кабинета статуя Попечителя (бывшая в полтора раза выше своего оригинала) сошла с постамента. Плита сдвинулась, открывая тайный ход, а затем снова стала на место. После этого статуя вернулась на постамент и заняла исходное положение. — Потрясно! — закричал Динами. — А ну-ка я! — И он так же ткнул пальцем в чернильницу. Но статуя даже не шелохнулась. — Ты это что же? — грозно спросил Динами Урария, разглядывая испачканный чернилами палец. — Шутки шутишь?. — Никак нет. Ваше Равенство, вы просто ошиблись чернильницей. Разрешите. — Урарий бережно опустил палец Попечителя в нужную чернильницу, и статуя сработала быстро и четко. — Вот видите! — За мной! — скомандовал Динами и решительно полез в тайный ход, ведущий к секретному объекту.
Вся Аномалия знала, что в резиденции, или, как ее называли, в «хижине дядюшки Дино», насчитывалось ровно тысяча и одна комната, включая спальни, кабинеты, приемные залы, искусственные лужайки для игры в гольф и небольшие помещения для военных маневров, которыми в минуты грусти тешил себя Великий Попечитель. И каждое помещение, независимо от его назначения, непременно украшала какая-нибудь статуя Великого Попечителя: Дино с мечом, Дино с веслом, Дино — роденовский мыслитель, Дино — дискобол, Дино — Аполлон и даже Дино — сфинкс… Но никто, конечно, не ведал, что по личному заданию Дино Динами в его резиденции была построена еще одна комната, именуемая объектом (а + b)3. О существовании и назначении этого объекта знали только начальники тайн и секретов. И сейчас Баобоб с гордостью показывал Попечителю этот таинственный объект. — Согласно вашему распоряжению объект строился с учетом того, что в моменты наивысшей нервной деятельности госпожи Брунгульды Ваше Равенство сможет в полной безопасности и недосягаемости проводить здесь свое свободное время. Вот экран, на котором вы сумеете наблюдать за всем, что происходит в любом месте вашей резиденции, а также смотреть телевизионные передачи. А это радиопульт. На нем, как видите, ровно тысяча кнопок. — Тысяча? Не многовато ли? — усомнился Урарий. — Нет, дружок. Как раз по числу микрофонов, тайно установленных вашим Департаментом тайн в стенах «хижины». Думаю, Ваше Равенство, с помощью этой трансляционной сети вы услышите немало интересного. — Да, я вижу, мне здесь скучно не будет. А как насчет питания? — В этом холодильнике находится месячный запас продуктов и коллекционных вин. — И Баобоб, самодовольно улыбаясь, открыл холодильник. Но холодильник был пуст. — Ах, какие продукты! — восхитился Динами. — Ах, какие коллекционные вина! — Ваше Равенство, я здесь ни при чем, — поторопился оправдаться тучный приближенный. — Тайной доставкой продуктов должен был заниматься Тайный департамент. — Это почему же? — возразил Урарий. — Раз продукты секретного назначения, значит, отвечает за них Департамент секретов. — Э, нет! Вы должны были сделать тайные запасы. — Пардон! Запасы не тайные, а секретные. — Нет, не секретные, а тайные. — Молчать! — прикрикнул Попечитель. — Вы оба правы. И я вас обоих пересажу с министерских кресел на электрические стулья, если завтра же холодильник не будет наполнен. Леще скажите мне, приближенные, вот что. Допустим, Брунгульда рассердится; допустим, я уйду в подполье и проведу в этом уютном гнездышке недельку-другую… А что потом? Как я объясню Брунгульде свое отсутствие? А? — Вы сможете сказать, что вас послали в срочную заграничную командировку… — посоветовал Баобоб. — Меня? Послали? Да кто, кроме Брунгульды, посмеет меня, так сказать, послать? Думайте, приближенные, думайте! Я, Величайший из Великих, не могу прятаться от собственной супруги, когда хочу и где хочу! Фантастика!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— К сожалению, господин Главный конструктарий, последние опыты не принесли ничего нового, — докладывал Котангенс. — Опять как только мы усиливали нагрузку на мозговые центры, так у киберов появлялись симптомы безумия. — А сколько опытов вы поставили? — спросил седобородый ученый, сидевший рядом с Главным конструктарием. — Три. — И все три кибера сошли с ума? — Увы! — развел руками Котангенс. — Вы свободны. — сказал Главный конструктарий. — Можете идти. — Вот видишь, — седобородый вскочил со стула и нервно заметался по комнате. — Мы не можем в таком виде показывать Попечителю наших киберов. — Не можем, но должны. И покажем. Мы обязаны убедить Попечителя в том, что обогнали проклятых гуманитологов. — Но ведь киберы не готовы. Они требуют доработки. — Да, да, да. Однако дефект заложен в самой схеме. Для его устранения нужно не меньше года. А за это время гуманитошки убедят Попечителя, что мы вообще не нужны. И тогда… Конструктарий замолчал. А Котангенс, подслушивавший этот разговор в соседней комнате, судорожно перевел дыхание и снова припал к замочной скважине. — Мы вынуждены рискнуть. Ты сам знаешь, что дефект у киберов проявляется только при повышенной нагрузке, если им приходится решать какие-нибудь трудные задачи. А мы постараемся демонстрировать киберов при нагрузке минимальной, что обеспечит им абсолютно нормальную деятельность. И если Попечитель ничего не заметит и одобрит опытный экземпляр, у нас будет достаточно времени для устранения любых недоделок. А жалкие гуманитошки… — Ну а если Динами все-таки обнаружит, что мы ему подсовываем брак, что тогда? — Об этом варианте я предпочитаю не думать. Котангенс испуганно отшатнулся от скважины и, покинув на цыпочках наблюдательный пункт, стремительно зашагал по длинному коридору, стягивая с себя на ходу белый халат. — Ну нет, хватит! Наука требует жертв, но у нее есть большой выбор и без меня. К черту конструктариев!— Браво, Дино! — выкрикнули, войдя в кабинет Попечителя, Главный конструктарий и человек в шляпе. — Браво, брависсимо! — небрежно ответил Дино и, взбежав по ступенькам, уселся в огромное кресло за громадным столом. — Ну-с, докладывайте. — Ваше Равенство, я рад сообщить вам, что упорные поиски конструктариев увенчались успехом… — начал Главный конструктарий. — А конкретнее? — Если вы разрешите, я продемонстрирую вам опытный образец универсального кибера УК-1. — Разрешаю. Где он? — Он здесь. Ваше Равенство. — Не говори загадками. Где здесь? — Вот он. — И конструктарий указал на стоявшего рядом с ним молодого человека в шляпе. — Браво, Динами! — щелкнул каблуками кибер. — Слава Великому Попечителю! — Ты смотри! — удивился Дино. — Это кибер? — Кибер. — А как же это все у него получается? — Очень просто, Ваше Равенство: кибернетика… — А-а, — удовлетворенно кивнул Дино. — Скажи пожалуйста! — и он осторожно дотронулся до кибера. — А кожа-то какая! Прямо как настоящая. — Кожа, Ваше Равенство, первый сорт. Не какой-нибудь эрзац-дерматин. — Ну а ходить он умеет? — Кибер, покажи Великому Попечителю, как ты движешься, — со сдержанной гордостью приказал конструктарий. И кибер, продемонстрировав несколько па огогондского твиста, ловко стал на руки, а затем, перевернувшись, проделал ряд головокружительных кульбитов и колесом выкатился из кабинета. — Артист! — восхитился Динами. — Просто артист! Приближенные, видали? — А как же! — появились из стен приближенные. — И что скажете? — Нет слов! — ответили приближенные и, отступив назад, снова растворились в стенах. — А много у тебя таких киберов? — Пока еще нет. Но если вы прикажете, — серийное производство может быть налажено в самое ближайшее время. Причем следует учесть, что по желанию заказчика мы можем изготовлять киберов любых размеров, обличий, способностей и профессий. — Ну а, скажем, офицера из кибера сделать можно? — Безусловно. — А генерала? — И генерала. — А начальника департамента? Говори, говори, я разрешаю. — Ах, Ваше Равенство, боюсь, что можно и начальника. — Так, так, так! — возбужденно проговорил Попечитель, бегая по широким просторам своего кабинета. — Так, так, так! Урарий! — Я здесь. — откликнулся Урарий. наполовину высовываясь из стены. — Нас никто не подслушивает? Проверь. — Минутку! — И исполнительный Урарий нырнул в одну стену и тут же вынырнул из противоположной. — В зоне слышимости никого. — Хорошо. — И Дино Динами вплотную подступил к 1'лавному конструктарию. — Ну а такого кибера, который был бы похож на меня, наука в состоянии сделать? — Не могу знать! — испуганно залепетал конструктарий. — Можешь знать. Я тебе разрешаю. — Ваше Равенство, в силу технических причин киберы не могут быть гениальными. — Ну и черт с ними! Пусть мой двойник будет только ярко талантливым. А впрочем, и это не обязательно. Мне же не надо, чтобы он управлял Диктаторией. Пусть появляется на приемах, встречается с моими подданными и всякое такое… — Но, господин Попечитель, я не совсем понимаю… — А ты пойми. Думаешь, мне, Великому Попечителю, хорошо? Нет, не хорошо. Только появлюсь где, все «ух ты-ы» начинают кричать. Просто неудобно получается. Хоть не выходи. Вот для этих дел мне двойник-то и нужен. Пусть «ух ты-ы» выслушивает. Для этого особой гениальности не требуется. Ясно? Вот и хорошо. И не тяни с этим делом. Не советую. Даю тебе три дня. Браво, брависсимо! — Браво, Динами! — растерянно попрощался ошарашенный конструктарий. Ничего не видя перед собой, он направился к выходу и по дороге наткнулся на стену, из которой тут же появился Баобоб. — Простите, вам не сюда, — вежливо остановил он конструктария и, взяв под руку, нежно вывел его из кабинета. — Значит, так, приближенные, — скомандовал Дино, снова взобравшись в кресло. — Пишите. Первое. Объявляю задание, данное мною конструктариям, государственной тайной чрезвычайной секретности. Второе. О ходе выполнения задания докладывать лично мне. Все! Ну, приближенные, теперь вы понимаете, кто будет находиться с Брунгульдой, пока я буду отдыхать в секретном объекте?
И закипела работа. Главный конструктарий, словно портной, снимал мерку с Дино Динами и диктовал данные своему седобородому коллеге, старательно регистрировавшему каждую цифру. Рост… Объем талии… Размер обуви… Длина носа… Угол падения носа на губу… Высота и общая площадь лба… Ширина улыбки… Диаметр родинки за правым ухом… Глубина морщин… — Видите ли, господин Попечитель, — объяснял конструктарий, — при создании копии важно учесть каждую мелочь, чтобы не пропустить какой-нибудь характерной приметы. Например, обладаете ли вы какой-либо редкой способностью? — А как же! Я умею шевелить ушами. — О, это очень важная деталь! Запишите, коллега: шевелит ушами.
И наконец наступил самый ответственный момент. В святая святых института, в так называемой копировальной, происходил таинственный процесс выкопировки. Дино Динами и кибер, предназначенный стать его двойником, лежали, погруженные в электросон, на операционных столах. На голову каждого было надето странное приспособление, напоминающее одновременно шлем космонавта и куполообразный фен для просушки волос в дамских парикмахерских. От оригинала к копии тянулись многочисленные провода, а осциллографы, индикаторы, кардиографы, энцефалографы и прочие приборы чутко регистрировали и отражали все, что им положено было отражать и регистрировать. Приближенные Баобоб и Урарий с уважением и трепетом поглядывали на эту загадочную аппаратуру, а Главный конструктарий давал им необходимые пояснения. — Сейчас, как видите, происходит процесс передачи информации. Вся информация, хранящаяся в мозговых клетках оригинала, с помощью вот этого усилителя биотоков и копировальной машины передается в запоминающее устройство копии и там надежно фиксируется. Таким же образом копии передаются не только знания оригинала, но также его моральные качества, привычки, склонности и так далее. — Разрешите вопросик, — перебил ученого Баобоб. — А недостатки оригинала копии передаются тоже? — Вообще-то передаются… — подумав, ответил тактичный конструктарий. — Но в данном случае этого не случится, поскольку весь мир знает, что оригинал лишен каких бы то ни было недостатков. — Еще бы! — сказал Урарий и неодобрительно посмотрел на Баобоба. — А долго эта процедура будет продолжаться? — Нет. Как видите, стрелка на информациографе пошла вниз. Следовательно, копия уже усвоила весь объем информации, переданной оригиналом. Сеанс окончен. Конструктарий защелкал тумблерами и осторожно снял с пациентов шлемы. Еще минуту Дино и кибер лежали с закрытыми глазами, затем одновременно проснулись, спрыгнули с операционных столов, потянулись и, только теперь заметив друг друга, вместе восхищенно воскликнули: — Надо же! И действительно, оригинал и копия были до того похожи друг на друга, что казалось, будто Попечитель просто видит свое отражение в зеркале. Усики а-ля Дино, бородка а-ля Динами, мимика, жесты, интонация — все-все, как у Дино Динами. — Хорош! — радовался удовлетворенный осмотром Попечитель. — Если я такой же, как он, то я себе определенно нравлюсь! — И, заливаясь визгливым смехом, он игриво толкнул кибера. — Хи-хи-хи! — подхватила копия. Но хоть кибер смеялся так же, как Дино, в его смехе слышалось и желание угодить, и стремление подчиненного показать своему патрону, как ему, подчиненному, приятно, что он, шеф, изволит с ним шутить. И хоть копия смеется вроде бы на равных со своим оригиналом, но знает свое место и никогда не позволит себе чего-либо этакого. Вот как много способно уместить в себе короткое «хи-хи-хи». Потому что смех подобен песне без слов, в которой иной раз удается сказать гораздо больше, чем в песне со словами. — Молодец, киберуша! — хлопнул его по плечу Дино. — Рад стараться. Ваше Равенство. — И ты. Главный конструктарий, молодец. Не обманул моих надежд. Жалую тебе звание Лоцман Огогондской науки и награждаю орденом «Ай да я!» первой степени. — Браво, Динами! — возликовал конструктарий. — И представь мне списки всех, кто помогал тебе делать этого молодца. Всех награжу! Никого не обижу! Ух ты! — выкрикнул Попечитель. — Ух ты! — подхватили приближенные и конструктарий. — Ух ты-ы! — заорал во всю свою искусственную глотку старательный кибер.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Не считая пива и Попечителя, огогондцы больше всего любили конкурсы на звание Мисс Огогондия. Согласно правилам самой красивой женщиной Огогондии считалась та, которая занимала на этом конкурсе второе место, ибо первое место было пожизненно закреплено за госпожой Попечительшей. Участницам конкурса полагалось быть красивыми, упитанными, целомудренными, обаятельными и образованными. Красота измерялась приближенностью к идеалу. Целомудренность — площадью и густотой румянца, который должен был — по идее — появляться на лицах претенденток после прослушивания определенных, отобранных лично Попечителем анекдотов. А образованность определялась количеством вызубренных наизусть изречений из цитатника Дино Динами. Причем наибольшее число баллов за образованность получали те красавицы, которые настолько хорошо знали цитаты, что умели произносить их не слово за словом, а через слово, через два и даже из конца в начало. И вот теперь чемпионат красоты подходил к финишу. Под звуки марша лучшие красавицы Огогондии, покачивая лучшими в Огогондии бедрами, вышли на сцену и очаровательно склонили набитые цитатами головки. — Итак, леди и джентльмены, — объявил ведущий, — я имею честь сообщить вам, что второй красавицей Огогондии в этом году выбрана очаровательная Ора Тория. Аплодисменты, свистки и крики болельщиков заглушили ведущего, и он, прося тишины, поднял руку. — Но я не сказал вам самого главного. Радость наша не поддается описанию! Поздравить юную победительницу прибыл сам Великий Попечитель. Браво, Динами! Зрители вскочили, и под неистовые вопли Великий Попечитель в сопровождении приближенных появился на сцене. Самые стройные в Диктатории ноги подкосились. Увидев Попечителя, осчастливленная красавица попыталась упасть в обморок. Но опытные приближенные подхватили ее и поставили на места. — Поздравляю тебя. Мисс Огогондия! Ты вправе носить это гордое имя! — прочувствованно сказал Попечитель и трижды поцеловал Ору Торию. Оратория не смогла сдержать счастливых слез. И операторы телевидения показывали эти самые счастливые во всей Огогондии слезы крупным планом. А телевизионную передачу с интересом смотрел, спрятавшись в секретном объекте (а + b)2, настоящий Дино Динами. — Но помни, Ора Тория, — говорила копия, — что высокое звание Мисс Огогондия накладывает на тебя такую же высокую ответственность, ибо вся Аномалия глядит и не может наглядеться на твою типично огогондскую красоту. Нет никаких сомнений в том. что конкурс на звание Мисс Огогондия явился ярким свидетельством высокой породистости нашей расы и еще раз продемонстрировал всему миру, как мы красивы. И думается мне, что брак Мисс Огогондия с Мистером Огогондия, которого мы выбрали на прошлой неделе, послужит хорошим начинанием для выведения новой расы Огогондия-люкс.— Послушайте, вам не кажется, что он говорит что-то не то? — спросил Главного конструктария его пожилой коллега. — Нет, не кажется. Вы только посмотрите, как ему аплодируют. — И Главный конструктарий показал на экран наполненной коньяком рюмкой. — Он говорит то же, что сам Великий Попечитель. И так же, как Великий Попечитель. И если бы вы, коллега, не знали, что это кибер, вам бы и в голову не пришло, будто в его речи что-нибудь не так и не то. Будьте здоровы! — Ваше здоровье! Но я все время боюсь, что у него откажут сдерживающие центры, которые мы так и не смогли отрегулировать, и тогда… — Не бойтесь. Он уже принимал парад, выступал на вегетарианском обеде, произносил речь на открытии клуба закрытого типа… И все обошлось. Давайте лучше припомним, не забыли ли мы кого-нибудь вставить в список? — Нет, нет. Я два раза проверял: всех вставили. Кроме этого бездарного Котангенса. — И правильно не вставили его. Сбежал от нас в самый критический момент. Пусть теперь поплачет! А представляете, что будет с Предводителем гуманитошек, когда он узнает, как нас наградили? — Кондрашка, не меньше. — Никак не меньше. На меньшее я просто не согласен!
Прошло две недели. Испытательный срок подходил к концу. — А теперь, дорогуша, — сказал Дино своему двойнику, — теперь тебе предстоит самое главное испытание. Сейчас ты пойдешь завтракать с моей супругой Брунгульдой. Постарайся вести себя так, чтобы она ничего не заметила. Не нервничай, будь спокоен, сдержан… — И старайся не бояться госпожи Брунгульды, — вставил Баобоб. — Болван! Если он не будет ее бояться, она сразу поймет, что это не я. Бойся, но не трусь. Ясно? Всем своим видом показывай, что ты сам себе хозяин. Но показывай так, чтобы Брунгульда этого не заметила. А теперь ступай. А то чай остынет. Кибер покинул секретный объект и. пройдя анфиладу комнат, вошел в столовую, где его уже ждала прелестная Брунгульда. — Доброе утро, дорогая, — проговорил кибер, целуя Попечительшу в лоб. — Как ты себя чувствуешь? — Как обычно, — недовольно ответила Брунгульда. — А между прочим, я так и предполагала. Ты знаешь, что Великания открыла на своей планете? — Нет, дорогая, не знаю. — И я не знаю. Но это как раз и подозрительно. Раз мы ничего не знаем, значит, они ничего не сообщают. А раз они ничего не сообщают, значит, им есть что скрывать. — Почему ты так думаешь? — Потому что, если бы им нечего было скрывать, они бы не молчали. Это же всем ясно! — Но я не совсем понимаю… — Еще бы. Это же твое обычное состояние… — Ну, слава богу, — сказал с облегчением Дино. — Опыт удался. Брунгульда ничего не заметила. Можете выключить экран. Я хорошо знаю все, что будет дальше. Бедный кибер! — Ничего, Ваше Равенство, у кибера буквально железные нервы, — успокоил Попечителя Урарий. — Он выдержит. — А молодцы конструктарии, не подвели! Кстати, наградные списки они представили? — Так точно. — Никого не пропустили? — Никого, — уверил Баобоб. — Ну и?.. — Согласно спискам, — доложил Урарий, — все принимавшие участие в создании копии отправлены на перевоспитание. — Ай-ай-ай! А какие хорошие люди были, — грустно покачал головой Попечитель. — Но раз надо, значит, надо… Выходит, теперь про эту копию знаем только мы с вами? — Только мы! — так же грустно подтвердили Баобоб и Урарий. — Тогда вопрос, — сразу же перешел на деловой тон Динами. — Сколько при мне находится приближенных? Ответ: два. Вопрос: а при моей копии сколько? Ответ: ни одного. Вопрос: а почему? Ответ: а по халатности. Значит, с сегодняшнего дня один из вас будет дежурить при мне, а второй — при моем двойнике. — Чрезвычайно правильное решение, — сказал Урарий. — И позволю заметить: существование кибера настолько засекречено, что находиться при нем прямая обязанность нашего талантливого начальника Департамента секретов. — Прошу прощения, но мой дорогой друг не учел следующего обстоятельства: наличие двойника является важнейшей государственной тайной. А кому охранять тайны, как не славному Департаменту тайн? — Нет уж, извините: кибер засекречен или не засекречен? — Засекречен. Но любая засекреченная вещь превращается в тайну. — Пусть так! Но каждая тайна, в свою очередь, становится секретом. Логика! — Вы меня логикой не пугайте! — А вы не делайте из тайны секрета. — Господа приближенные, будьте взаимно вежливы! — прервал их Дино. — Существование копии является государственной тайной, и тут ничего не попишешь. Значит. при кибере будет тайный начальник, а секретный — при мне. Все. Точка! — Ваше Равенство, вы отдаляете меня от вас? — обиженно спросил Урарий. — Нет, я только приближаю тебя к моей копии. И Урарий успел заметить злорадную улыбку своего тучного соперника.
Гуманитологи нервничали… А неясные слухи об успехах конструктариев обрастали невероятными подробностями, в которых было все. кроме правды. В этот день Предводитель гуманитологов вызвал своих заместителей и заперся с ними в кабинете. — Я должен сообщить вам крайне удручающую новость! — сказал Предводитель. — К сожалению, мои опасения оказались не напрасными. Бесчестным конструктариям удалось-таки втереться в доверие к Попечителю. — Да что вы говорите! — Откуда это известно? — Может быть, все не так страшно? — Нет, страшно! И именно так! Не далее как вчера ночью всех конструктариев собрали и увезли. А вы понимаете, что это значит? Это значит. Попечитель признал работу конструктариев настолько важной и перспективной, что приказал немедленно отправить их в более тихие места и создать им такие условия, чтоб никто не мешал их деятельности. — Вот везунчики! — Я всегда говорил, что эти проходимцы умеют устраиваться! — Но что же нам теперь делать? — Нужно пойти к Попечителю, — твердо сказал Предводитель. — Пойти и добиться такого положения, какого добились пройдохи конструктарии. Мы заслужили это, господа, и получим. Я верю в справедливость Великого Попечителя!
— Десять… девять… восемь… семь… — отсчитывал кто-то напряженно и четко. Загадочный, напоминающий сложную счетную машину аппарат шевелил стрелками приборов… Загорались и гасли разноцветные лампочки, и стремительные зигзаги изменяли очертания на его голубых экранах. Что это за фантастическое достижение науки и техники? И кто этот человек в белом халате? Он сидит за пультом управления, нажимая на многочисленные кнопки и не отрывая взгляда от тревожно вспыхивающих цифр… — Шесть… пять… четыре… — продолжал отсчитывать голос. Пальцы сидящего у пульта-человека все ближе подбирались к красной кнопке… — Три… два… один… ноль! Человек нажал кнопку. Взвыла сирена… И из никелированной трубки тонкой струйкой потекла в маленькую чашку темная жидкость. Загадочный аппарат, именуемый в просторечии кофеваркой, сделал свое дело. — Кофе для Попечителя готов! — торжественно возвестил голос. Человек, сидевший у пульта, поставил чашку на поднос и передал вошедшему офицеру охраны. — Кофе для Равного среди Равных. — сказал он. Офицер пересек коридор и с теми же словами отдал поднос следующему офицеру. Так, переходя из рук в руки, поднос попал наконец к тому. кому доверено было вручать кофе самому Попечителю. Облеченный доверием офицер вошел в кабинет, где на высоком-высоком кресле за высоким-высоким столом восседал Равный среди Равных, и. взойдя по ступенькам, поставил перед ним кофе. — Слушаю вас. господа гуманитологи, — сказал, прихлебывая кофе. Попечитель. — Просите все, что вам требуется, и не бойтесь. Ибо вы имеете такое же полное право просить, как я отказывать. — Ваше Равенство, — поднялся Предводитель гуманитологов. — Наши опыты по превращению людей в роботов подходят к концу. И теперь нам требуются только полуфабрикаты. — А разве в Огогондии мало населения? Берите, сколько нужно. — Но кого брать. Ваше Равенство? По какому принципу? — Н-да, принцип должен быть. Это верно. — И Попечитель задумался. — А вам не кажется, господа гуманитологи, что в Огогондии развелось много рыжих, а? Ходят тут. понимаете. Все не рыжие, а они, видите ли, рыжие. Нескромно даже как-то получается. И что мы с ними ни делаем, а они все есть и все такие же рыжие! — Совершенно справедливо. Ваше Равенство. — Так вот вам и принцип. Все рыжие в вашем распоряжении. А не хватит, мы вам еще каких-нибудь подыщем. Только работайте! — И Попечитель встал, показывая, что аудиенция окончена.
— Браво, Динами! — выкрикнули дружно ученые и удалились. — Секретный! — позвал Динами, когда гуманитологи вышли. — Начальник Департамента секретов здесь! — возник посредине кабинета Баобоб. — Насчет рыжих слыхал? — Так точно! — Набросай секретный закон. Я подпишу. А как с бомбами? — Все в порядке. Моим людям удалось по секрету купить десять бомб. Правда, не то чтобы ультрасовременных, но… — Ничего, ничего, я за модой не гонюсь. Мне лишь бы взрывались. И почем брали? — Дешевле грибов. Ваше Равенство. Всего по миллиону за каждую… — Орлы! Хвалю! Урарий! — К вашим услугам! — ответил, мгновенно материализуясь в воздухе, начальник Тайного департамента. — А Секретный департамент тебя обскакал. Бомбочки-то они купили! — сообщил Динами. — Да. Ваше Равенство, я уже знаю, — развел руками начальник тайн. — Молодцы секретники. И всего по полмиллиона за штуку отвалили. Просто поразительно! — А ты говорил: по миллиону за каждую? — строго обратился Дино к начальнику секретов. — Ну да, по миллиону за каждую… за каждую пару, — уточнил Баобоб и, едва улыбнувшись, взглянул на Урария: «Ну что, съел?!» — Браво, Динами! — выкрикнул Урарий. появляясь в дверях секретного объекта. — Браво, брависсимо! — нехотя ответил кибер, лениво поднимаясь с дивана. — Небось опять поведешь меня завтракать? — А что делать? Я человек маленький… — Господи! Сто раз я уже завтракал с госпожой Попечительшей! И если бы ты знал, что самое страшное в этих завтраках… — Догадываюсь. — Нет, не догадываешься. Манная каша с изюмом — вот чего я не могу терпеть. И вот что мне приходится есть каждое утро. Как только я сажусь за стол, так мне подсовывают эту проклятую кашу! — Но вы можете ее не есть! — Да? Черта с два! Мой оригинал обожает это блюдо, и. значит, я, чтобы не вызвать подозрений, тоже должен его обожать. Манная каша с изюмом! — содрогаясь, повторил кибер. — И зачем меня сделали копией Попечителя? Я бы с удовольствием умер, но не знаю, как это делается. Как ты думаешь, приближенный, если я попрошу Попечителя казнить меня, он уважит мою просьбу? — Честно говоря, не уверен. Доброта нашего Попечителя не знает границ, и он всегда рад в таких вопросах пойти навстречу. Но боюсь, что этой просьбы он не исполнит… — Так что же мне делать? Неужели нет способа избавиться от манной каши? Урарий оглянулся по сторонам. — Если позволите, я мог бы дать вам совет. Но боюсь, что вы не согласитесь… — Соглашусь, соглашусь… — Тогда слушайте: сегодня вечером в резиденции состоится грандиозный прием…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В «хижине» был грандиозный прием. Ожидая появления Дино, послы больших и малых держав, важные государственные мужи и их еще более важные жены, мультимиллионеры и миллионеры среднего достатка неторопливо прохаживались вокруг установленного в центре зала монумента. Монумент состоял из трех частей: глыба, на глыбе лев, на льве Дино Динами, одобрительно рассматривающий свой занимающий всю стену портрет. А изображенный на огромном портрете Попечитель с доброй улыбкой и нежностью взирал на каменного всадника. И было ясно, что портрет и монумент весьма довольны друг другом. Церемониймейстер громко выкрикивал имена вновь прибывающих, объявляя согласно огогондскому этикету реальную стоимость каждого нового гостя. — Король жевательных резинок господин Андексин-младший, цена пятьдесят миллионов. Вдовствующая королева искусственных заменителей госпожа Химида, восемьдесят миллионов. Король безалкогольных напитков с супругой, общая стоимость сто пятьдесят миллионов. Согласно установленному Дино порядку гостей на приемах угощали не слуги, а стоящие вдоль стены железные роботы. И чтобы получить из рук робота, например, бокал шампанского, следовало опустить в щель автомата соответствующую монету. Вот только что какой-то генерал бросил монету, но увы, шампанское не появилось, и робот, негодяй, делал вид, будто он здесь ни при чем. Генерал безрезультатно нажимал на все кнопки, потом исподтишка пнул робота ногой. но тут же получил ответный пинок. — Я же заплатил! — тихо зашипел генерал. — Прошу вернуть деньги! — Но робот только навесил на себя табличку «Автомат не работает» — и все!А в другом конце зала два старых сановника вели неторопливый разговор. — Подумайте только, еще в прошлом году чашка риса стоила десять игреков, а теперь уже двадцать! — Да, да. Как быстро растет наше благосостояние!
И так, занимаясь самообслуживанием, высшее общество ожидало выхода Великого Попечителя.
А Дино Динами в домашнем халате и шлепанцах, уютно развалившись на тахте, давал облаченному в полную парадную форму киберу последние инструкции: — На шампанское не налегай: алкоголь — это яд. Послам ничего не обещай. Ограничивайся ответами вроде «следует подумать» или «надо посоветоваться». Дамам говори: «Вы все хорошеете». Миллионерам: «Вы все богатеете». А с остальными вообще не разговаривай. Ясно? — Так точно! — Через час вернешься незаметно сюда, а я выйду к моему любимому народу. — Господин Попечитель, а стоит ли вам себя утруждать? Вы достаточно поработали. Почему бы вам не отдохнуть? — Ах, киберуша, разве есть у меня время отдыхать? — А почему бы нет? Отдыхайте год, пять лет, всю жизнь. Вы это заслужили. Но Великому Попечителю подобная забота о его здоровье почему-то не понравилась. — Что это за разговоры, черт побери? — строго сказал он, вскакивая с дивана. — Что за чушь ты придумал? — Я просил бы называть меня на «вы». — Этого еще не хватало! — И при обращении ко мне не забывайте добавлять «Ваше Равенство». — Ха-ха! Да кто вы такой?! — С этой минуты и навсегда я Великий Попечитель Великой Огогондии. — Приближенные! — заорал Дино Динами. — Эй, приближенные! — Я здесь. Ваше Равенство, — сказал Урарий, обращаясь к киберу и не глядя на Дино. — Разве сегодня вы сами изволите быть на приеме? А ваша копия будет отдыхать? — Болван! — завизжал Дино. — Это я — мое Равенство! А он кибер! Оригинала от копии отличить не можешь, недоучка?! А ты что молчишь? — набросился он на Баобоба. — Я не молчу, господин Попечитель. Я молниеносно соображаю. Ваше Равенство, я должен вас огорчить: произошел государственный переворот. — Твой толстячок прав, — подтвердил кибер. — И не будем играть в прятки. Я забрал власть! И все! Не надо было отдавать. — А ты думаешь, я отдал? Дудки! Я обращусь к моим верноподданным, к армии. Я позвоню в полицию! — Послушай, приближенный, — обернулся кибер к У рарию. — Сделай одолжение, объясни этому свергнутому истерику реальную ситуацию. — Слушаюсь, Ваше Равенство. Понимаете, свергнутый, вы никуда и ни к кому не можете обратиться. Это во-первых. А во-вторых, вам все равно никто не поверит. Посмотрите на него и на себя. Разве, например. Попечители ходят в шлепанцах? Нет, свергнутый, будем объективны: ваше дело проиграно. — Эх, не ожидал я от тебя такой неблагодарности! — сказал экс-попечитель копии. — Нехорошо! Некрасиво! — Конечно, некрасиво. — легко согласился кибер. — Даже подло, грязно и бесчестно. Я интриган, предатель, лихоимец, прохвост, жулик. Не отрицаю. Но ведь я твоя копия. И все мои низкие качества перешли ко мне непосредственно от тебя. Меня никто не испортил: ни школа, ни родители, ни дурные товарищи. Только ты. А ведь я мог быть копией какого-нибудь честного, благородного человека. Я мог бы иметь основания для того, чтобы гордиться своими высокими моральными качествами. Но ты лишил меня этой возможности. И стоит мне только подумать об этом, как я готов тебя казнить! Но к этому вопросу мы еще вернемся. А пока я должен идти к моим любезным верноподданным. Пойдем, дорогой приближенный. И запри этих свергнутых на замок. Они удалились. И на экране телевизора было видно, как растворились гигантские парадные двери и под звуки огогондского торжественного марша в зал вошли госпожа Попечительша и приятно улыбающийся Великий Попечитель. — Так обвести вокруг пальца! И кого? Меня! Нет, если даже такого, как я, можно объегорить, значит, мир устроен несправедливо! Позор! Позор на мою голову! — закричал Дино, едва его враги вышли. — Ваше Равенство! — прервал причитания Дино Баобоб. — Разрешите дать вам совет. Мне кажется, для отчаяния у нас будет еще много времени. А сейчас нам следует срочно решить, что делать. — Как что? Восстановить торжество справедливости и вернуться к власти. — Это само собой. Но для этого, как минимум, надо остаться в живых. Потому что, когда к власти возвращаются мертвые, справедливость не торжествует. — А почему ты уверен, что моя копия нас того… надежно изолирует? — Именно потому, что узурпатор — ваша копия. Что бы вы с ним сделали? — Я? — воодушевился Дино. — Да я бы!.. — Вот и он то же самое. Нам надо немедленно бежать. Из этого объекта есть один никому, кроме меня, не известный выход в городской парк.
В старом парке на окраине Огого луна освещала безлюдные аллеи, раскидистые дубы, каштаны, вязы и прочие деревья, названия которых автору, к сожалению, неизвестны. Внезапно из дупла столетнего дуба, отдуваясь, выкарабкался Баобоб и, внимательно оглядевшись, спрыгнул на землю. — Угу-гу! — подал он условный сигнал, долженствующий изображать крик филина. — Угу-гу! — раздалось в ответ, и из того же дупла вылез Дино. — На дворе трава, на траве дрова… — тихо произнес начальник секретов, и вход в дупло надежно закрыли автоматические створки, неотличимые от грубой коры дерева. Стараясь держаться в тени, пугливо прижимаясь к стенам домов, беглецы направились в город. Всю ночь экс-Попечитель и приближенный занимались уголовными деяниями. Сломав замок, они забрались в магазин готового платья и похитили два костюма. Разбив окно, они проникли в парикмахерскую и наголо остригли и побрили друг друга. Теперь их нельзя было узнать. Они изменились до того, что Баобоб, взглянув на безусое, безбородое, до неприличия обнаженное лицо Динами, позволил себе даже непочтительно хихикнуть. Но Дино не обратил на это внимания. — Ничего, ничего! — с угрозой сказал экс-Попечитель, поглаживая бритую лысую, как бильярдный шар, голову. — Они мне за все заплатят. И за усы. и за бороду, и за каждый волос, который упал с моей головы и, черт его побери попал мне за шиворот! — Несомненно, господин Попечитель! — поддержал его приближенный. — У меня есть все основания полагать, что ваша копия долго у власти не продержится. Дело в том. что мне, как начальнику Департамента секретов, уже давно известно о том, что ваш двойничок с брачком. Просто я не хотел вас огорчать. — И Баобаб рассказал Динами, что у копии есть один не известный ей самой дефектик. И стоит киберу хоть один раз над чем-нибудь серьезно задуматься, как у него что-то там перегреется, выйдет из строя, и он. попросту говоря, свихнется. — Это точно? — спросил, не веря такой удаче, Дино. — Абсолютно! — Так почему же он до сих пор не свихивался? — А когда ему приходилось задумываться? На конкурсах красоты, что ли? Причем. Ваше Равенство, учтите: конструктарий хранили этот факт в страшной тайне и, следовательно, доложить вам об этом должен был Департамент тайн. Но разве это департамент? Урарий до сих пор даже не подозревает о существовании дефекта. — Ну и конструктарий, ну. и молодцы! — возликовал Дино. — Кибера с недоделками сдали. Ах, благодетели! Значит, кибер сходит с ума, а мы опять приходим к власти? Вот как даже халтура может приносить пользу человечеству.
Это историческое заявление было сделано под мостом, сооруженным в честь дня рождения Дино Динами и носившим имя Великого Попечителя. Новый Попечитель действовал решительно, энергично, с характерным для Дино размахом. Правда, вначале, узнав, что свергнутые исчезли, он решил было впасть в бешенство и устроить скандал с мордобитием. Но тут же взял себя в руки и здраво рассудил, что скандал от него никуда не уйдет, а сейчас необходимо в первую очередь выловить Динами. — Оцепить весь город, — приказал он Урарию. — Прочесать каждую улицу, каждый дом. Задерживать всех мало-мальски похожих на меня. — Слушаю. Но как объяснить полиции, кого мы ищем? — Скажите, что появился самозванец, утверждающий благодаря случайному сходству, что он — это я… то есть что я — это он. То есть что я не он, а он не я. В общем, ты меня понимаешь… Действуй! Стой! Чуть не забыл: немедленно издай закон о повсеместном запрещении манной каши с изюмом! Так. казалось бы, совершенно безопасная нелюбовь к манной каше положила начало тем трагическим событиям, о которых пойдет речь в дальнейшем. И следует полагать, что когда-нибудь произведут серьезные научные исследования о влиянии субъективных вкусовых ощущений на объективный ход истории.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Город проснулся от воя сирен. Включив сирены, полицейские машины мчались по улицам, и вскоре на каждом углу появились усиленные патрули. Бдительные полицейские, снабженные точной инструкцией, внимательно вглядывались в лица прохожих. — Эй ты, в шляпе! — окликнул полицейский какого-то старичка. — Иди-ка сюда! — Слушаю вас… — торопливо засеменил старичок. — А ну-ка сними шляпу. Похож? — спросил полицейский у своего младшего напарника. — Вроде бы нет… — неуверенно ответил напарник, сравнивая старичка с возвышающейся на перекрестке статуей Дино. — А бородка? — Вроде бы да… — Марш в машину! — приказал старичку полицейский. и дисциплинированный гражданин послушно полез и автобус, где уже теснились обладатели модных в Огогондии усов и бородок а-ля Динами. — А ты давай побдительней! А то — «вроде бы нет, вроде бы да», — передразнил старший напарник, и они продолжали нести свою нелегкую службу. — Мадам! — остановил младший полицейский пересекавшую улицу женщину. — Попрошу вас на минутку. — В чем дело? — Сейчас узнаете. Станьте в профиль. Ну, что скажешь? — Так она вроде бы не совсем того пола… — засомневался старший полицейский. — А усы? — Усы действительно налицо. Мадам, попрошу вас в машину. Над перекрестком повис вертолет, и из него по веревочной лестнице спустился дежурный офицер. — Ну как, много на этом перекрестке задержали? — осведомился он. — Тридцать с бородками и шестьдесят с усами, — бодро доложил старший полицейский и вдруг испуганно умолк, поймав на себе подозрительный взгляд начальства. Офицер молча переводил взгляд с одного подчиненного на другого, а полицейские смотрели на офицера, и каждый видел на лицах своих собеседников те самые сакраментальные подозрительные усы а-ля Динами. — В машину за мной шагом марш! — мужественно скомандовал офицер, и три бдительные жертвы верноподданнической моды строевым шагом направились к полицейскому автобусу.О нет, не напрасно Дино приучал своих граждан к бездумному исполнению приказов. Вот сейчас было приказано ловить похожих на Попечителя. Похожих ловили, а на безбородых и безусых не обращали внимания, ибо любое отклонение от приказа считалось вольнодумством. Экс-Попечителя и приближенного ни разу не остановили. Но день подходил к концу, где-то нужно было спрятаться на ночь, и тут у Баобоба появилась блестящая идея. Почему бы им не вернуться в секретный ход и не переночевать там? Более того, по секретному ходу они могли пробраться в секретный объект, где по ночам никого не бывает, и воспользоваться запасами из холодильника. Это была замечательная мысль. И поздним вечером экс-Попечитель и Баобоб пришли в парк. — Вот наш дуб, — сказал приближенный. — Теперь нужно постучать по дереву пять раз (три длинных, два коротких), произнести: «Карл у Клары украл кораллы» — и вход в дупло откроется сам собой. — Так чего ж ты ждешь! Стучи! Произноси! — Слушаюсь! Раз, два, три, четыре, пять… Карл у Клары украл кораллы. Открылся вход? — И не подумал. — Странно. Наверное, это не тот дуб. Попробую постучать по соседнему. Раз, два. три, четыре, пять… Карл у Клары украл кораллы. Ну как? — Все так же. — Боже мой, неужели я забыл, в каком именно дереве находится наше дупло?
— Введите задержанных. — произнес дежурный чин, и полицейские втолкнули в комнату Дино и Баобоба. Их изрядно помятый вид и синяки под глазами свидетельствовали о том, что времени даром они не теряли. — За что задержали? — спросил дежурный. — Да вот, разрешите доложить, бегали эти двое ночью по парку, хулиганили, стучали по деревьям и кричали про какого-то Карла, который украл у какой-то Клары какие-то кораллы. Фамилии и адреса укравшего и потерпевшей задержанные назвать отказались. И вообще при задержании оказали яростное сопротивление, нанеся различными частями своих тел ряд болезненных ударов по нашим кулакам. — Назюзюкались. — определил опытный дежурный и не без профессионального любопытства уточнил: — А что пили? — Все пили, — быстро ответил Баобоб. — Все подряд смешивали. — И даже не закусывали, — добавил Дино. — Вот дураки! — Отведите их в камеру, пусть проспятся! — решил дежурный. — А впрочем, подождите! — И, подойдя к задержанным, он начал подозрительно осматривать их. — Вы почему лысые? — Как почему? От природы, — нашелся Дино. — Врете! Лысыми с детства не бывают. Значит, вы свои шевелюры сбрили. Так? А какого цвета у вас были волосы до бритья? А? — Черного. Мы брюнеты. — Жгучие брюнеты. — Опять врете! Брюнетам незачем бриться наголо. Вы оба рыжие! — Нет, нет! — испуганно закричали задержанные. — Тогда назовите имена десяти свидетелей, которые подтвердили бы, что вы никогда не были рыжими. Есть такие свидетели? Ага, молчите? В таком случае я обвиняю вас в том, что вы рыжие. И согласно личному приказу Равного среди Равных отправляю вас туда, куда теперь свозят всех рыжемордых! Думаю, из вас там сделают пару отличных роботов. Ха-ха-ха! А Дино Динами посмотрел на свой висевший в простенке портрет, и ему почудилось, будто Великий Попечитель на портрете в ужасе схватился за голову.
Помещение, куда ввели Дино с приближенным, было похоже на небольшой клубный зал. И если бы не стоявшие у стен странные личности с автоматами, нацеленными на сидящих в зале, можно было подумать, что собравшиеся пришли сюда послушать популярную лекцию. Тем более что здесь был и так называемый лектор. — Вы счастливые люди, вам просто повезло, — говорил он, обращаясь к слушателям. — От чего более всего страдает человек? От несбыточных желаний и неудовлетворенных потребностей. А вы. превратившись в роботов, не станете испытывать никаких желаний, а это значит, что все ваши потребности будут полностью удовлетворены. Могли вы когда-нибудь мечтать об этом? Человека гнетут заботы, мучает совесть, терзает зависть, раздирают противоречия. Это не жизнь, это ад. А вы, превратившись в роботов, не будете знать ни забот, ни волнений, ни страхов. И если не это, то что же тогда можно назвать райской жизнью? Процедура превращения в роботов проста и безболезненна. Вам размагнитят память как размагничивают записи на магнитофонных Лентах, и вы забудете все, что знали. Затем на свежую голову вас обучат нужному ремеслу — и все! Посмотрите на них, — и лектор указал на вооруженных субъектов, — разве можно сказать, что им плохо? А ведь они роботы. Так что не бойтесь. Кто желает пойти вне очереди первым? — Я, — поднялся рослый мужчина. — Вот молодец! А почему вы хотите быть первым? — Вы говорили, что роботов лишают памяти? — Да. — Так вот я хочу поскорей забыть, что живу в проклятой Огогондии! — И, ударом ноги отворив дверь, человек вошел в кабинет. — Ишь ты какой! — возмутился лектор. — Мало этому рыжему, что его без очереди пропустили, так он еще выражается! Кто следующий? Пожалуйста, у нас одновременно работают несколько мастеров. Теперь ваша очередь. — Это относилось к Дино и Баобобу. — Нет, нет, я подожду своего мастера, — сказал Динами. — У нас все мастера хорошие. Проводите их! И, подчиняясь приказу, дюжие роботы, подхватив под руки Дино и приближенного, потащили их в разные процедурные. — Браво, Динами! — закричал, прощаясь, Баобоб. — Браво, брависсимо! — ответил, дрыгая ногами, экс-Попечитель.
Через минуту Дино был накрепко привязан к приспособлению. напоминающему зубоврачебное кресло, и роботы вышли. А п кабинете появился гуманитолог. Пациент и ученый посмотрели друг на друга (первый со страхом, а второй с безразличием) и, конечно же, друг друга не узнали. А между тем они уже встречались. Только тот, которому сейчас предстояло превратиться в робота, был тогда Величайшим из Великих, а теперешний гуманитолог Котангенс считался в те дни еще конструктарием и, с благоговением внимая каждому слову Динами, думал: «Прогадал я или не прогадал?» И когда ученый начал опускать на голову Дино куполообразный размагничивающий дроссель, пациент вдруг заговорил. — Доктор, — торопливо сказал Дино, — я хочу вам назвать свое имя.? — Меня это не интересует, — ответил Котангенс. — Я должен открыть вам страшную тайну. Я Дино Динами. — Очень приятно. — Нет, я тот самый Дино Динами. Настоящий. Равный среди Равных, Величайший из Великих. — Вы очень интересно рассказываете. А теперь держите голову неподвижно. Я включаю размагничиватель. — Одну минуту! Вы успеете его включить. Выслушайте меня. Я Дино Динами! Попечитель. А в моей резиденции сидит сейчас кибер, моя проклятая копия, мой двойник! — Копия? — насторожился Котангенс. Уж ему-то хорошо было известно, что о копиях знал только самый узкий круг конструктариев. — Да, копия. Только она долго не продержится у власти, потому что у нее есть дефект и она вот-вот сойдет с ума. — Дефект? — еще больше удивился Котангенс, прекрасно знавший о пресловутых недоделках и дефектах. — Откуда вы вообще знаете о копиях? Это же государственная тайна. — Какие могут быть тайны от меня? — Да кто вы такой, в конце концов? — Я целый час твержу тебе, что я Дино Динами. Конструктарии сделали мою копию, а она захватила мою власть. И сними с меня этот дурацкий набалдашник! А то еще размагничусь! — Не нервничайте! Я слушаю всю вашу болтовню именно потому, что могу в любой момент нажать на кнопку, и вы забудете все, в том числе и этот разговор. И если даже вы в самом деле были бы Дино Динами, я все равно не знал бы, как с вами поступить. И Котангенсом снова овладели мучительные колебания. — Есть только два выхода, — быстро заговорил, пользуясь замешательством ученого, Дино. — Первый: ты можешь превратить меня в робота. Второй: ты можешь оставить меня человеком. Рассмотрим оба варианта. Ты превращаешь меня в робота, и все остается по-прежнему. Ты ничем не рискуешь, но ничего не выигрываешь, до конца своей жизни оставаясь обычным заурядным ученым. Правильно я говорю? Правильно! А если ты рискнешь и оставишь меня человеком, я выведу тебя в люди. Я вернусь к власти и присвою тебе звание адмирал-кормчего! Я сделаю тебя Главнокомандующим академией наук, старшим приближенным и его заместителем одновременно. Я назначу тебя главой школы и светочем науки. Я отдам за тебя замуж свою дочь. — У вас же нет дочери. — Неважно! Удочерю кого-нибудь. Рискни! Ни у одного человека в мире не было шансов сделать такую потрясающую карьеру. Рискни, тебе говорят! — Ну что вы меня мучаете! — завизжал Котангенс. — Что вы меня терзаете! Всю жизнь я прикидывал, как бы не прогадать, и каждый раз прогадывал и расстраивался. А тут я только махнул на себя рукой, только успокоился, так черт вас принес на мою голову, мучитель проклятый! Вот сейчас как нажму кнопку, как размагничу вас, так узнаете! — Ну и нажимай! — закричал Дино. — Размагничивай! Ну. долго я ждать буду? Может быть, ученый привык, чтобы на него кричали. Во всяком случае, он прекратил истерику и сразу успокоился. — Но если я оставлю вас человеком, вам все равно придется притворяться беспамятным роботом, — предупредил он, развязывая Дино. — Ну и что? Ты меня не знаешь. Я одаренный, я все могу. И все стерплю! Только бы моя копия скорее… того… задумалась!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
— Господин Попечитель, — докладывал Урарий. — Только что получен ответ Великих Диктаторий на ваше предложение Собраться для перераспределения планет. — Ну. ну? — Категорически отказываются. Это, говорят, вопрос решенный и пересматривать его нет оснований. Как за Огогондией Солнце закрепили, так оно и будет. — Эх. мне бы побольше бомб! Они бы. Попечители, со мной так не посмели разговаривать. — Есть бомбы. Ваше Равенство. Самые модные, импортные. И продать их согласны. — Так чего ж ты не покупаешь? — Вот он, министр финансов, денег не дает. — Как не дает? — удивился Попечитель. — Ты что ж это, министр, человека обижаешь? — Нет у нас финансов. Ваше Равенство, — прижал руки к груди министр. — Да неужели бы я на такое святое дело, как бомбы, денег пожалел? Ни одного игрека в казне не осталось, честное министерское! — Интересная петрушка в Огогондии получается. Министерство финансов есть, министр финансов есть, а финансов нету?! Чем же твое министерство занимается? — Государственные долги подсчитывает. Работы хватает! — Вот и одолжите у какой-нибудь Диктатории требуемую сумму, — подсказал Урарий. — Пробовал. Не дают. Колоссалия сама у Потрясалии одолжила. А Грандиозия из-за безденежья половину своей планеты Великании продала! — Вот видишь. А мы можем Солнце продать, — предложил Попечитель. — А кто его купит. Ваше Равенство, когда оно и так всем светит? — Это он верно говорит, — подтвердил Урарий. — Вы мне надоели! — грохнул по столу кибер. — Этот прав, тот прав… Никакой инициативы проявить не можете! Катитесь отсюда, я сам что-нибудь придумаю! И исполняющий обязанности Великого Попечителя начал думать. Нахмурившись, он шагал по своему просторному кабинету. Торопливо листал и отбрасывал какие-то внушительных размеров книги. Что-то подсчитывал на бумаге и, разорвав свои записи, снова думал и шагал, шагал и думал. И внезапно предметы в кабинете сами по себе стали меняться местами. Ковер, оторвавшись от пола, всплыл к потолку, а свисавшая с потолка люстра, словно причудливое дерево, выросла из пола. Диван сдвинулся с места и на собственных ножках принялся шагать из угла в угол, иногда сталкиваясь с Попечителем, когда их пути пересекались, а иногда предупредительно уступая дорогу. — Приближенный! — заорал кибер, и Урарий тотчас возник рядом. — Приближенный, я нашел выход! У нас будут деньги! Какая маленькая страна граничит с нами? — Липеция, Ваше Равенство, — недоумевая, ответил Урарий. — Липеция? Очень хорошо. Пиши: «Нота». Написал? Теперь с новой строки: «Попечитель Огогондии свидетельствует свое глубочайшее уважение Президенту Липеции и просит его принять во внимание следующее. Учитывая, что на Липецию круглый год падают солнечные лучи и, таким образом. Липеция, по самым скромным подсчетам, потребляет не менее одного миллиарда киловатт-часов солнечной энергии в год, а также принимая во внимание, что на основании исторического Соглашения Попечителей Великих Диктаторий Солнце, а следовательно, и солнечная энергия являются собственностью Огогондии, Огогондия настоящим извещает Липецию, что последняя за пользование солнечной энергией обязана выплатить Огогондии миллиард иксов из расчета 2 игрека за 1 киловатт-час вышеназванной энергии». Написал? Я тебя спрашиваю, написал? Но приближенный не мог ответить: потрясенный беспрецедентным требованием, он упал в обморок. — Встать! — скомандовал кибер, и четкая команда заставила Урария мгновенно прийти в себя. — Пиши дальше: «Деньги должны быть внесены в банк в месячный срок. За каждый день просрочки платежа будут начисляться пени в размере 0,1 % от всей суммы». — Не станут они платить. Ваше Равенство, — осмелился сказать приближенный. — Такого еще не бывало. — Заплатят. Я все продумал. Пиши: «Если же, господин Президент, Липеция в течение полугода долга не выплатит, Огогондия вынуждена будет сбросить на нее весь свой скромный запас ядерных бомб». Точка. «Обнимаю вас. Привет вашей супруге. Дино Динами».— Бред! Типичный бред сумасшедшего! — радостно кричал, размахивая газетой, настоящий Дино. — Ни один нормальный человек не додумался бы выдвинуть такое нелепое требование. — Да, мозг кибера явно не выдержал перегрузки. Индекс логики вышел из строя, — подтвердил Котангенс. — Представляю, как вся Аномалия хохочет над Огогон-дией! И тем лучше. Все поймут, что я не мог написать такого бредового послания! Все увидят, что здесь что-то неладно, и я вернусь к власти и сделаю тебя, кем ты только захочешь! — Большое спасибо. Ваше Равенство. Но пока, умоляю вас, будьте осторожны. Не забывайте, что… — Об этом не беспокойся. — И Дино тотчас снова превратился в робота и, тупо глядя перед собой, покинул процедурную, где происходил этот разговор.
— Господа Великие Попечители, мы собрались, чтобы немедленно решить, как нам следует реагировать на беспрецедентные и непонятные требования Попечителя Дино Динами. — Так начал совещание в верхах Председательствующий Попечитель. — Я уверен, что обмен мнениями будет носить откровенный характер и пройдет в дружественной, теплой обстановке. Участники совещания согласно закивали, и даже несдержанный Попечитель Колоссалии Отдай Первый изобразил на своем лице нечто среднее между улыбкой и нервным тиком. Для обсуждения важных вопросов главам Великих Диктаторий отнюдь не нужно было съезжаться со всех концов Аномалии, они пользовались телевидением, и совещания на высшем уровне следовало бы скорей назвать телесовещаниями. В главных резиденциях имелись специально оборудованные комнаты, в стенах которых каждый раз загоралось столько экранов, сколько стран принимало участие в телесовещании. Таким образом, любой участник совещания мог видеть на экранах своих коллег и решать с ними вопросы войны и мира, не снимая комнатных туфель. — Кто просит слова? — Я! — закричал Отдай Первый. — Я объявлю войну Огогондии — и все! — Разрешите. — сказал холеный Попечитель Потрясалии. — Я совершенно согласен, что иск, предъявленный Огогондией Липеции, является беспрецедентным в истории государств и народов. Но беспрецедентность того или иного иска не является достаточным свидетельством его незаконности и юридической необоснованности. Возможно, несколько поспешным было решение, делавшее Солнце собственностью Огогондии. Возможно. Но поспешность принятия какого-либо решения не может отменить законность последнего. Следовательно, Солнце принадлежит Огогондии. Так? — Так. — Мы сами это на днях категорически подчеркнули. Так? — Так. — А теперь представьте себе, что у вас есть корова… — Корова?! — Какая корова? — Что вы подразумеваете под словом «корова»? — недоумевали Попечители. — Повторяю: представьте себе, что у вас есть обычная корова, которая дает вам молоко. Является ли это молоко вашей собственностью? — Конечно. — Должны ли вам потребители за это молоко платить? — Еще бы! — Ну вот. А солнечная энергия так же принадлежит владельцу Солнца, как молоко — владельцу коровы. — М-да… — А раз так, то почему за молоко, например, платить нужно, а за солнечную энергию — нет? Где логика? Где закон? Сегодня кто-либо отказывается платить за солнечную энергию, завтра — за молоко, послезавтра — вообще за продукты и товары! А там вместе с товарами начинают бесплатно присваивать фабрики и заводы, выпускающие эти товары. Вот к чему ведет нарушение буквы закона. Закон есть закон! Попечитель Потрясалии замолчал, а его высокие коллеги задумались. Слова о законе показались им весьма убедительными. Тем более что лучше потерять чужую Липецию, чем свои заводы. — Ай да Динами! Хитер, собака! — четко сформулировал общую мысль Попечитель Грандиозии. — И согласитесь, что нужно быть гениальным человеком, чтобы додуматься до такого небывалого требования, как плата за Солнце. — Да, Дино Динами — это штучка! — Я всегда знал, что он ловкач, но чтобы этак!.. — И главное, на законном основании. Придется Липеции раскошелиться. — А если завтра он потребует плату за Солнце с нас? — Не потребует. Он прекрасно понимает, что мы не Липеция. — Но мы должны безотлагательно получить от него официальный документ о праве Великих Диктаторий на вечное бесплатное пользование солнечной энергией. — Вот это верно. И не сомневаюсь, что Дино такую декларацию издаст. Он достаточно умен, раз сумел так ловко обвести всех нас вокруг пальца!
И назавтра вся Аномалия узнала, что Попечители сочли претензии Огогондии законными и требуют от Липеции беспрекословного соблюдения закона, ибо несоблюдение последнего ведет к анархии. Правда, в Липеции нашелся один юрист-правдолюб, который попытался плыть против течения. «Я согласен, — писал этот смельчак в газете «Голос в пустыне». — что от законов, какими бы они ни были, нельзя отступать ни на йоту. Однако известно, что не Солнце вращается вокруг Аномалии, но Аномалия вращается вокруг Солнца и находится в полной зависимости от последнего. И следовательно, назначение любого государства планеты Аномалии-1 владельцем Солнца является с юридической точки зрения незаконным. Не может вассал быть хозяином своего сюзерена. А раз так. Огогондия не имеет права требовать уплаты за пользование имуществом ей. Огогондии, не принадлежащим. Закон есть закон». Но Великий Попечитель послал правдолюбцу письмо, из которого следовало, что так как правдолюбец провел два месяца на южном курорте под южным солнцем, то на него лично было израсходовано в этом году более 100 тысяч киловатт-часов солнечной энергии. И если он не прекратит блистать эрудицией, то ему из собственного кармана придется уплатить Огогондии за амортизацию Солнца все до последнего игрека. А коль ему так уж необходимо проявить свою образованность, пусть переезжает в Огогондию, где его таланту будут отданы все почести, вплоть до бесплатной квартиры и надбавки за принципиальность. Так юрист-правдолюб стал просто юристом. Или, говоря точнее, личным юрисконсультом Великого Попечителя.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Нельзя сказать, что при настоящем Дино Динами его приближенные жили спокойной, способствующей долголетию жизнью. Нельзя утверждать, что они были уверены в своем безоблачном будущем. Но теперь прежняя работа у Дино казалась Урарию санаторным отдыхом. Потому что действия Лжединами невозможно было ни понять, ни тем более предугадать. Вот, например, к Попечителю прибыла очень важная делегация. — Ваше Равенство, — торжественно доложил Урарий, — разрешите представить вам делегацию союза королей-промышленников: король нефти, король стали, король уцененных товаров. — Очень приятно. — буркнул кибер. — Господин Попечитель, от имени нашего союза, — сказал король нефти, — мы хотим поздравить вас с тем. что Липеция начала вносить в огогондский банк плату за Солнце. Короли-промышленники восхищены вашей смелой и гениальной идеей. Собственность есть собственность. И пусть Липеция платит! А кибер, вместо того чтобы обрадоваться, вдруг застонал, нескладно размахивая руками, заметался по кабинету. А затем упал в кресло и, обхватив голову, стал горестно раскачиваться из стороны в сторону. — Господин Попечитель, что с вами? — решился спросить король стали. — Ах, короли, меня мучает совесть, — ответил, продолжая раскачиваться, кибер. — Некрасиво поступаю я, короли, несправедливо. Понятно? — Ваше Равенство, мы в невероятно затруднительном положении. С одной стороны, мы не можем усомниться в абсолютной правдивости ваших слов, а с другой — не можем поверить, чтобы вы поступали несправедливо. — А я вам говорю, что я несправедлив! — упрямо повторил кибер. — И не спорьте! Я несправедлив по отношению к Липеции. Почему она должна платить нам деньги за Солнце? — Потому что… — Не перебивайте! Почему она должна платить нам деньги за Солнце, а другие не должны? Пусть все платят! — Но, господин Попечитель, вы сами дали Великим Диктаториям право на бесплатное пользование Солнцем, — вставил Урарий. — И пусть пользуются. А другие страны все должны платить, чтоб Липеции не было обидно. Я никому не позволю обижать Липецию. Она не виновата в том, что она маленькая! — А сколько должна платить каждая страна? — Строго по закону. Приказываю поставить во всех малых странах счетчики солнечной энергии. Сколько каждая страна будет потреблять, столько будет платить! Счетчики научат их экономить нашу родную солнечную энергию, а не транжирить ее почем зря!В прокуренной пивной стояла невероятная тишина. Забыв про пиво, верноподданные с благоговением слушали выступление своего обожаемого Попечителя. А на огромном экране телевизора бесновался кибер. — Если же какие-нибудь государства откажутся поставить у себя счетчики, — кричал он, — плата за пользование Солнцем будет этим странам начисляться по количеству проживающих там подданных. А это странам с большой плотностью населения обойдется значительно дороже! Но сие, как говорится, дело хозяйское. А мы во внутренние дела других стран не вмешиваемся. Огогондия хочет получить только то. что ей полагается. И не будь я Дино Динами, если Огогондия этого не получит. Я заставлю всех бережно относиться к Солнцу и экономить нашу солнечную энергию. Пусть почаще устраивают пасмурную дождливую погоду без прояснений — вот и меньше платить придется. Пусть делают у себя подлиннее ночи и покороче дни. Отдельные государства пытаются утверждать. что это, мол, от них не зависит. Ерунда! Научились же северные страны организовывать у себя ночи, которые длятся по полгода. Пусть и другие научатся. Учиться никогда не поздно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спасибо за внимание. Дино Динами исчез, и тут же появился диктор. — Вы прослушали очередное историческое выступление нашего Великого Попечителя, — торжественно произнес он. — Браво, Динами! — Браво, брависсимо! — дружно вскочили завсегдатаи пивной и, покричав минут десять, снова налегли на пиво. — Все же крайне любопытно, профессор, — говорили за одним столиком, — каким образом, путем каких логических построений Динами пришел к такой, казалось бы, невероятной и в то же время простой мысли, как плата за Солнце? — Гений. — коротко объяснил профессор. — И теперь уже кажется странным, как это раньше никто не додумался до этого. Почему его первого озарила эта идея? — Гений! — повторил профессор. — И не ищите, коллега, иных объяснений. Честно говоря, я прежде позволял себе в глубине души безмолвно критиковать некоторые действия Дино. А теперь я убедился: Дино знает, что делает. Ох знает! И если мы не всегда можем проследить внутреннюю логику его поступков, то это только потому, что он гений, а мы простые смертные. — Да, господа, повезло нам, что мы родились в Огогондии! — кричали за другим столиком. — За Солнце платить не надо — раз. Рыжих истребили — два. Самого лучшего Попечителя имеем — три. И вообще мы лучше всех — четыре! — Вот ты меня спроси, за что я уважаю Дино? — громко просил пьяный. — Спроси! — За что ты его уважаешь? — За все я его уважаю. Вот! — Нет, вы мне скажите, почему все за Солнце платят, а Диктатории нет? Чем они лучше других? — Ничего, мы еще до них доберемся. Дино знает, что делает. Солнце наше. А Дино — Властелин Солнца. Понятно? — И мордастый детина, сказавший это, поднялся, расплескивая пиво. — Эй, вы все! Я предлагаю выпить за Дино Динами — Властелина Солнца! Властелин Солнца! Так в пропахшей пивом и табачным дымом пивнушке появились эти нелепые и страшные слова — Властелин Солнца. С тех пор как Дино стал Великим Попечителем, ему довелось услышать применительно к себе немало самых лестных определений. Один огогондский ученый составил даже двухтомный «Словарь эпитетов, связанных с именем Дино Динами» (за что. между прочим, получил звание Главного Фонетика, дающее Право на орфографические ошибки). В этом словаре такие прилагательные, как солнцеподобный и солнцеликий, были чуть ли не самыми скромными. Но еще никогда ни одного Владыку не называли Властелином Солнца. Бывали империи солнца, бывали короли-солнце. Но Властелинов Солнца еще не бывало. А теперь вся Огогондия. а за ней и другие страны стали именовать Дино Динами только так — Властелин Солнца. От частого употребления всякого рода словосочетания или теряют смысл, или, наоборот, приобретают его. И как раз последнее случилось с этим образным выражением — Властелин Солнца. Сначала Попечителя так только называли, а потом стали верить, что раз его так называют, значит, так оно и есть. На далекой планете Аномалии часто путали причину со следствием. И по улицам Огого начали шагать упитанные молодчики. Распевая воинственные песни, они призывали вступать в Союз солнцепоклонников (в дальнейшем именуемый СС) и в честь Властелина Солнца устраивали по ночам факельные шествия под аккомпанемент марша солнцепоклонников.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
А тому, кого величали Властелином Солнца, с каждым днем становилось все хуже. Координация движений у него все больше разлаживалась. И теперь, когда он шел, правая рука его беспрерывно крутилась, напоминая вращение пропеллера. И чем быстрее кибер шел, тем пропеллер быстрее вращался. В его речи появился так называемый эффект испорченной пластинки, и он мог без конца повторять одно и то же слово. Он все чаще хандрил, и беспричинная злость перемежалась только вспышками ярости. Сочетание собственных технических дефектов с моральными, перешедшими к копии от оригинала, давало себя знать. — Вот что, приближенный, — мрачно сказал однажды кибер во время очередного приступа меланхолии. — Мне все надоело! Зачем ты втравил меня в эту историю? — Простите, я не понимаю, о чем вы говорите. Ваше Равенство, — осторожно ответил Урарий. — Прекрасно понимаешь. Зачем ты научил меня свергать правительство? У, интриган! Я не хочу быть оригиналом! Я опять только ко… пятьтолькоко… пятьтолькоко, — кибер нетерпеливо стукнул себя в грудь, — я опять только копией хочу быть. — Но, господин Попечитель… — Я тебе не Попечитель. Я копия! Копия — и все! Где мой оригинал? Это из-за тебя он исчез! Верни мне его сейчас же! — Это невозможно! Как я его могу вернуть? — Не мое дело! — Ваше Равенство, ну зачем вам какой-то оригинал? Вы же самый настоящий Дино Динами. Властелин Солнца, Великий Попечитель, — ласково пытался уговорить кибера приближенный. — Вы же мудрейший из мудрых, величайший из великих, равный среди равных. — Нет, я не равный! — упорствовал кибер. — Я не Дино, я не Динами! Я вообще не человек! — Но этого же никто не знает! — Так будут знать! Пусть знают. Я хочу, чтоб знали! — И, вращая правой рукой, он бросился к дверям кабинета и распахнул их. — Эй, приближенные! — заорал он. — Все ко мне! — Приближенные, к Попечителю! Приближенные, к Попечителю! — разнеслось по коридорам, и со всех сторон «хижины» устремились к кабинету приближенные. И странное дело: у каждого приближенного, словно пропеллер, вращалась правая рука, и поэтому казалось, что приближенные не сбегаются, а слетаются к своему владыке. Вот увешанный аксельбантами офицер выскочил из комнаты и тоже побежал. Но бежавшие рядом смотрели на него с таким удивлением и недовольством, будто он допустил какую-то бестактность. Да и сам офицер чувствовал, что ведет себя как-то не так, как нужно. В чем дело? Ах, боже мой. он почему-то не знал, что теперь принято вращать ручкой. Ну конечно. И офицер тоже начал вращать и, слившись со всеми, свой среди своих, полетел на зов любимого Попечителя. — Слушайте все! — закричал кибер, когда кабинет наполнился приближенными. — Слушайте все и сообщите всем: я вообще не че… обще не че… — И кибер с яростью стукнул себя в грудь. — Я вообще не человек! Вами правит не человек. Не человек! Даже привыкшие ко всему приближенные растерянно молчали. — Не человек! — кричал кибер, и крик его гулко разносился по всей резиденции.На обнесенном высоким забором плацу в этот день, как обычно, происходили учения роботов. Глядя на них, можно было подумать, что это манекены, которые сбежали: витрин и собрались здесь для своих манекенных дел. А впрочем, нет. Любой стереотипный манекен выгодно отличался бы от робота своей индивидуальностью. А роботов делали одинаковыми не только одинаковые синие спецовки, одинаково размеренные движения и одинаково обессмысленные лица. Было что-то еще, что заставляло роботов становиться неотличимо похожими друг на друга. Может быть, отсутствие чувств. А скорее всего, отсутствие воспоминаний. Видимо, человеку все время нужно чувствовать и помнить, что он человек! Человек! Даже если ему стараются внушить, что он сверхчеловек или просто пыль на ветру, он все равно должен быть человеком. Сегодня роботы приобщались к труду. Делалось это так: в противоположных углах плаца стояли две бочки. Каждый робот, сначала набрав ведро воды из одной бочки, бережно переносил воду во вторую, а затем, зачерпнув из второй бочки, переливал воду обратно в первую. Таким образом, работа не прекращалась, и круг роботов неторопливо и беспрерывно вращался по часовой стрелке. — Робот 17 дробь 15, в процедурную, — раздался голос по радио. — Повторяю: робот 17 дробь 15, в процедурную! И, подчиняясь приказу, из круга вышел ничем не отличающийся от прочих робот и, не выпуская ведра, тупо глядя перед собой, размеренным шагом направился к зданию. — Робот 17 дробь 15, — бесцветным голосом доложил он, входя в процедурную и закрывая за собой дверь. — Здравствуйте, господин Попечитель, — торопливо подбежал к вошедшему Котангенс. И только теперь Дино Динами разрешил себе стать похожим на человека. — Зачем ты меня вызвал? — недовольно спросил он. — Конспирации не соблюдаешь! — Ваше Равенство, потрясающая новость! Кибер сам признался, что он не человек! — Не может быть! Сам? — Да, да. признался. При всех. В газетах даже написано. — Ну, теперь все! Теперь Урарию не выкрутиться!
Давным-давно, еще в первые годы своего попечительства, Дино создал Комитет по углублению и толкованию своих высказываний. Работа членов Комитета напоминала состязания опытных искателей жемчуга: кто глубже нырнет и вытащит больше перлов. Нужно отметить, члены Комитета настолько овладели искусством толкования и углубления, что даже в таких кратких высказываниях Дино, как «м-да…» или «ну, ну…», легко находили стройную философскую концепцию, а простейшие междометия Попечителя «О! У-у! А!» ухитрялись разбить на две-три цитаты. И теперь Урарий в срочном порядке созвал этот уникальный Комитет. — Нам следует безотлагательно уяснить, какой именно глубокий смысл вложил Властелин Солнца в свою исчерпывающую формулировку «Я не человек», — сказал Урарий. — Кто сегодня дежурный философ? — Я, господин приближенный. — с достоинством произнес убеленный сединами философ. — По-моему, все ясно. И гениальное высказывание Попечителя можно было предвидеть. Еще древние мудрецы утверждали: все течет, все меняется. Это истина. А человек, как был много тысяч лет назад человеком, таким и остается, что явно противоречит вышеу… читвишеу… читвишеу… («эффект испорченной пластинки» тоже вошел в моду) противоречит вышеуказанному мной постулату. Вот и все! — Как все? Попрошу вас, философ, выражаться поясней. Вы не Дино Динами и должны свои мысли выражать ясно и понятно. — Слушаюсь. Человечество развивается, и нечеловек — это следующая, более высокая ступень в развитии человека. Таким образом, прогрессируя и превращаясь из человека в нечеловека, человечество тем самым доказывает ту истину, что все течет и все меняется. А истина превыше всего. — Нет, господа, конечно, «нечеловек» — это звучит. Но хотелось бы, чтобы кто-нибудь из вас попытался еще глубже нырнуть в глубокий смысл этого высказывания нашего дорогого Попечителя. Господин дежурный оптимист, ваше слово. — Как хорошо, господа. Хорошо, как никогда! — Я сам знаю, что хорошо. Давайте конкретные примеры. — Пожалуйста. Сколько раз нам с грустью приходилось слышать: человек человеку враг. И даже я, оптимист, опасался, что так будет всегда. Но нет! Вдумайтесь в слова «я не человек». Какой потрясающий вывод можно сделать из… лать из… лать из… — Господа. — нетерпеливо перебил Урарий. — Я прошу вас сегодня обходиться без этих… заскоков: время не ждет. — Слушаюсь. Какой потрясающий вывод можно сделать из этих слов? Человек человеку враг? Хорошо. А нечеловек нечеловеку кто? Невраг! Вот! Разве это не говорит о замечательных изменениях в человеческих отношениях? — Говорит, говорит, — согласился приближенный, обрадованный тем. что Комитет подсказал ему выход из этой, казалось, безвыходной ситуации. — Молодец, оптимист, умница. А теперь для объективности послушаем и дежурного пессимиста. Неужели он и на этот раз чего-нибудь боится? — Да, господа, боюсь, — печально подтвердил пессимист. — Я боюсь, что на всей планете Аномалии не найдется ни одного человека, который мог бы с таким правом и уверенностью, как наш гениальный Властелин Солнца, сказать о себе: «Я не человек». — И это верно, — кивнул головой приближенный. — Что ж, вопрос, по-моему, ясен. — И он взял в руки телефонную трубку: — Алло, дайте мне Главное управление по организации стихийных шествий. Господин управляющий, у вас все готово? Можете начинать…
И мимо резиденции широким потоком двинулись толпы огогондцев. Беспрерывно скандируя «Браво, Дино!», демонстранты высоко поднимали многочисленные портреты Великого Попечителя и плакаты, среди которых, кроме традиционных приветствий и здравиц в честь Властелина Солнца, были и такие, как «Слава нечеловеку!». «Да здравствует первый нечеловек!», «Хотим быть нечеловеками!» и «К черту все человеческое!». Дойдя до первого перекрестка, демонстранты сворачивали в переулок и, обойдя резиденцию с тыла, снова появлялись на площади перед окнами «хижины». А поскольку круг, как известно, не имеет конца, то шествие могло продолжаться бесконечно. — Вот видите. Ваше Равенство, — говорил Урарий киберу, — видите, как ваши подданные радуются тому, что вы нечеловек. Так они вас любят еще больше, хоть больше, казалось бы, любить невозможно. — Да? — мрачно переспросил кибер. — А ты знаешь, что мне заявила сегодня Брунгульда? — Что, Ваше Равенство? — Она сказала: «Нечеловек — это ты хорошо придумал. Ты стал настоящим человеком». — Ах, эти женщины! — шутливо развел руками приближенный. Все-таки ему удалось хоть на время выбраться из такого катастрофического положения, и он был в хорошем настроении. А демонстранты все шли и шли. И все чаще мелькали плакаты: «Будем нечеловеками!», «Вступайте в Лигу нечеловеков!», «Солнце для нечеловеков!», «Книги — в огонь!», и опять же: «К черту все человеческое!». Еще днем были разгромлены библиотеки, а вечером запылали первые костры из книг. И парни из Союза солнцепоклонников, первые кандидаты в нечеловеки, радостно прыгали вокруг костров, подбрасывая в них все новые и новые книги. Все больше горело костров. А нечеловеки плясали у огня и с помощью тех же костров, которые вывели человечество из пещер, пытались загнать его обратно в пещеры.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Властелин Солнца принимал парад роботов. Неизвестно, почему кибер надумал вдруг посетить это учреждение. Может быть, ему просто захотелось побыть с настоящими нечеловеками. И теперь, сидя на балконе, выходившем на огороженный плац. Попечитель принимал парад. Справа от кибера расположилась Брунгульда, слева — Урарий, а Предводитель гуманитологов почтительно стоял за спиной, готовый в любую минуту дать необходимые пояснения. Роботы четко маршировали под звуки оркестра. Они высоко поднимали ноги и старательно вытягивали носки. А Попечитель и его свита в такт шагам роботов весело хлопали в ладоши. Правда, движения кибера уже настолько разладились, что он чаще попадал по Урарию, чем по собственной ладони, но все делали вид, будто ничего не замечают. — Вот что можно сделать из обыкновенных рыжих! — довольно произнес кибер. — Настоящие солдаты! — Спасибо. Ваше Равенство. Мы горды вашей похвалой, — проникновенно ответил Предводитель. — Роботы, как вы предельно точно сформулировали, настоящие солдаты. Разве их можно сравнить с киберами! — Нельзя! — резко сказал Попечитель. — Нельзя сравнивать роботов с киберами! — Абсолютно согласен. Нельзя сравнивать роботов с киберами. — А я тебе говорю: нельзя сравнивать роботов с киберами! Предводитель растерянно замолчал, а Урарий, понимая, что именно задело кибера, быстро вмешался в беседу: — А скажите. Предводитель, что еще могут делать ваши роботы? — Да, да, — поддержал его раздраженный Попечитель, — помнится, ты говорил, что роботы способны ради меня в огонь, в воду и медные трубы. Нам интересно было бы посмотреть это в натуре. Не правда ли, Брунгульда? — Слушаю, Ваше Равенство! — с готовностью ответил Предводитель и тут же скомандовал в мегафон: — Роботы, стой! Разжечь костры! Наполнить рвы водой! Хлынула вода. Запылали костры. А роботы, стоя по стойке «смирно», безучастно смотрели на эти приготовления. И таким же безучастным старался казаться робот 17/15. Но он чувствовал, что волосы дыбом встают на его голове, несмотря на то что он, как известно, был лыс. — На две группы разде-елись! — послышалась команда. — Во имя Великого Дино Динами первая группа в огонь, вторая в воду шагом марш! И роботы без колебаний пошли в огонь и воду. Не испытывая ни страха, ни желания жить, они послушно тонули по рву и спокойно всходили на костры. Им было все безразлично. Даже то. что они гибнут ради Великого Попечителя. И лишь один из них не хотел ни гореть, ни тонуть во имя Дино Динами. Это был сам Дино Динами. Но для него и подчинение приказу и неподчинение означало одно — смерть. Уставившись в затылок шагавшего перед ним бывшего приближенного Баобоба, он шел на ватных ногах и понимал, что выхода нет. И вот уже Баобоб прыгнул в ров и, пуская пузыри, дисциплинированно пошел ко дну! Все! Дино закрыл глаза. И Котангенс, стоявший среди зрителей, отвернулся. Еще секунда… — А медные трубы? — спросил вдруг подозрительно кибер. — В каком смысле медные трубы? — не понял Предводитель. — Ты говорил, что роботы пройдут сквозь огонь, воду и медные трубы. Почему же они не проходят сквозь медные трубы? Халтуришь? — Простите, Ваше Равенство, забыл. Роботы, стой! — дрожащим голосом скомандовал Предводитель. — В медные трубы шагом марш! И эта команда спасла Дино Динами! Еще не веря в свое спасений и боясь, как бы начальство не передумало, он бросился к трубе и первым из роботов совершенно необъяснимым образом забрался в нее. Только чудо могло помочь ему пролезать через эту узкую трубу. Но он полез. Было видно, как под его неистовым напором труба пузырится и деформируется. И когда Дино наконец выбрался из трубы, он оказался заметно сузившимся и вытянутым. — Орел! — сказал кибер. — Сокол! Люблю старательных. Мне он нравится. — И мне тоже! — сказала Брунгульда. — Динчик, давай возьмем этого робота в «хижину». Он такой смешной! — Беру! — согласился кибер. — Заверните! Таким образом Дино Динами вернулся в свою резиденцию. Правда, это произошло не совсем так, как он мечтал, и занимал он не ту должность, что прежде. Но все-таки он снова был в «хижине». Теперь его обязанности заключались в неотлучном пребывании при Попечителе (так, на всякий случай) и прислуживании за традиционным семейным завтраком. Робот 17/15 получил новое имя: его называли теперь Эй». («Эй, подай! Эй, убери!») А поскольку Эй был всего-навсего роботом, его не стеснялись и говорили при нем так свободно, будто его не было вовсе. И нужно заметить, что среди многочисленных изменений, происшедших в резиденции, Дино более всего поразила метаморфоза, случившаяся с Брунгульдой. Некогда грозная госпожа Попечительша ныне буквально робела в присутствии Лжепопечителя и боялась его не меньше, чем когда-то Дино боялся своей благоверной. А узурпатор вел себя так, словно разговаривал не с Брунгульдой, а с каким-нибудь министром. Да, в кибере явно что-то разладилось. И Дино понимал, что если даже трепет перед Брунгульдой, унаследованный копией от оригинала, так ослабел, значит, от кибера следовало ожидать чего угодно. Это же учитывал и осторожный Урарий. Вот почему он решился однажды на очень рискованный разговор: — Ах, господин Попечитель, я просто опасаюсь за ваше здоровье. У вас столько дел, столько дел! Вот, например, сегодня вы обещали быть на параде Союза солнцепоклонников, выступить на слете юных нечеловеков, принять при делегации зарубежных нелюдей и произнести какую-нибудь историческую речь на ужине, который вы даете в честь самого себя. И это не считая таких повседневных дел, как интриги, политические заигрывания и вмешательства во внутренние дела других стран. Вы просто не жалеете себя. Ваше Равенство! — А кто виноват? Ты виноват! Ты втравил меня в это дело. — Ну что ж, раз я виноват, я готов нести наказание. Накажите меня: назначьте меня исполняющим обязанности Попечителя, и я за вас буду делать все-все. Так мне и надо! — А это видал? — сказал Властелин Солнца, с трудом складывая непослушные пальцы в кукиш. — Хитрый какой! — Неужели вы мне не верите? — А ты как думал? Конечно, не верю! — Тогда мне лучше умереть! — с пафосом воскликнул приближенный. — Это я тебе помогу! Эй! — обратился он к стоявшему в углу роботу. — Позови гвардию! — Не нужно. Ваше Равенство, — быстро сказал Урарий. — Я еще подумаю. Знаете, семь раз отмерь, один отрежь. — Ну, ты отмеряй, а насчет того, чтобы отрезать, положись на меня. — Большое спасибо. Но почему, почему вы мне не верите? — Потому что потому кончается на «у», — откровение объяснил Попечитель и добавил, указывая на робота: — А вот ему я верю. Он наш нечеловек. Эй, тебе можно верить? — Я робот 17 дробь 15, — безучастно ответил Эй, — к вашим услугам. — Молодец. Пусть он будет за меня исполнять обязанности Попечителя. Роботу пришлось прислониться к стене, чтобы удержаться на ногах. — Как он?! — закричал Урарий. — Он же робот! Он же не справится! — Справлюсь, — поспешно заверил робот и, спохватившись, равнодушно добавил: — Если мне прикажут. — Я приказываю. И пусть Эй станет моей копией. У Дино была копия, а я что — хуже? — Но Эй совершенно не похож на вас. — Так загримируй его! Раз я по твоей вине лишился своего оригинала, так сделай мне хоть копию. И знать ничего не желаю. И приближенный, почувствовав, что кибер вот-вот сменит гнев на бешенство, торопливо согласился. …В секретном объекте закипела работа. Эй сидел перед зеркалом, а Урарий в качестве гримера старался сделать его похожим на Дино Динами. И вопреки ожиданиям Урария, это удавалось. Едва он напялил на робота парик, приклеил усы и прикрепил бородку, как сходство стало бесспорным. — Черт возьми! — изумился Урарий. — А ну-ка надень этот мундир. Робот облачился в мундир Попечителя, и Урарию стало как-то не по себе. Ему даже померещилось, будто Эй, посмотрев на себя в зеркало, как-то знакомо хихикнул. — Робот 17 дробь 15 ждет ваших приказов, — четко произнес Эй, и его бесцветный голос успокоил приближенного. «Нервы, — подумал он. — Нервишки!» В старом парке так же, как и в прошлый раз. было темно и безлюдно. Из дупла выбрался Дино и, притаившись в ветвях, многозначительно загугукал. И так же многозначительно где-то откликнулась собака. Дино спрыгнул с дерева и пошел на лай. Какое-то время заговорщики, гугукая и лая. продирались сквозь кусты и кружились возле деревьев, разыскивая друг друга. Но, помимо всего, поискам мешало то обстоятельство, что лай раздавался сразу со всех сторон, ибо городские бродячие собаки не знали, что, завывая, они подражают чьему-то паролю, и невольно мешали деловой встрече. И все-таки Дино и Котангенс встретились. — Сейчас мы с тобой проникнем в резиденцию, — сказал Дино, — и дело будет сделано. — Сейчас? Уже? Но, ВашеРавенство, я никогда еще не делал дворцовых переворотов… — Так учись. И учти, мы не делаем переворотов. Мы идем восстанавливать справедливость. — Но уже полночь. Поздно. — Восстанавливать справедливость никогда не поздно. Иногда даже чем позже, тем лучше. Пошли! До утра ты посидишь в проходе. А утром, когда я отправлюсь завтракать с Брунгульдой и узурпатор останется в объекте один, ты сделаешь следующее…Некоторые события, увы, имеют не ахти какую приятную привычку повторяться. И если верить Конфуцию, которому мы, конечно, не верим, это случается довольно часто. Во всяком случае, теперь в объекте (а + b)2 не Дино киберу. а, наоборот, кибер давал наставления своему двойнику: — За завтраком держись уверенно. Побольше ешь. поменьше разговаривай. И вообще не во… щенево… щене-во… — Пардон-с, — извинился Урарий и стукнул кибера по спине. — И вообще не волнуйся, — окончил кибер. — Робот 17 дробь 15 не волнуется. — Забудь, что ты робот, — прервал Урарий. — Ты Дино Динами. Властелин Солнца. Запомни! — Запомнил: я Дино Динами, Властелин Солнца. — Ну, ступай. Властелин, — приказал кибер. — А то чай остынет. Аты, Урарий, на всякий случай будь при нем. И вот настоящий Дино Динами, играющий по приказу Лжединами роль Дино Динами, шел по длинному секретному ходу, невольно замедляя шаги. Его хитроумный план близился к благополучному завершению. И лишь одно обстоятельство тревожило Дино. Он опасался, что при виде Брунгульды в нем может проснуться многолетний привычный страх перед благоверной. и тогда сразу разоблачится подлог. «Я Брунгульды не боюсь! — старался внушить себе Властелин Солнца. — Я Брунгульды не боюсь!» И, зная, что лучшей защитой является нападение, Великий стратег решил применить это на практике. — Доброе утро, — мрачно буркнул он, входя в столовую. — А где Эй? — Я не знаю, — испуганно ответила Брунгульда. — Ты никогда ничего не знаешь! Хозяйка называется! И почему мне. черт побери, не дают мою кашу? — Какую кашу? — удивилась супруга. — Ясно какую: манную, с изюмом. — Но ты же сам… — Что сам? Что сам? Опять я во всем виноват! — распаляясь. заорал Дино.
— Ух дает! — удовлетворенно хихикал кибер, глядя на экран. — Как в кино! Увлеченный интересным зрелищем, он не заметил, как за его спиной бесшумно развернулся холодильник и появившийся из-за холодильника человек в маске стал на цыпочках подкрадываться к киберу. По дороге неизвестный, правда, зацепился за электрический шнур и. опрокинув настольную лампу, испуганно нырнул за диван, но крайне заинтересованный происходящим на экране кибер даже не оглянулся. — Нельзя ли потише! — только и сказал он. — Видите, я занят. — Извините, — пробормотал неизвестный. Но потом все-таки решился и, тихо подобравшись к киберу, стукнул его по голове чем-то тяжелым. Так никогда и не узнал кибер, чем кончился этот завтрак.
А жаль. Потому что кончился завтрак довольно неожиданно. — Динчик, успокойся! Ты ведь сам запретил кашу… — робко напомнила Брунгульда. — Я? Сам? Кто тебе сказал? — Урарий. — Ах так! Приближенный! — Слушаю! — откликнулся, возникая посредине комнаты, Урарий. — Вызови гвардию. Гвардия, слушай мою команду. За самовольные действия приказываю самого приближенного Урария разжаловать в самые отдаленные. В тюрьму шагом марш! — И гвардейские офицеры, быстро и умело выполнив приказ, вывели Урария. — А с тобой мы еще поговорим! — пообещал Дино Брунгульде и, схватив со стола хрустальную вазу, швырнул ее на пол. — Совсем распустилась! Хозяйство вести не умеешь! — И он громко хлопнул дверью. Ох уж эта Аномалия! Из-за какой-то манной каши дважды устраивать дворцовые перевороты — это уж, знаете ли, слишком! Но никто не знал, что звон разбиваемой вазы и грохот захлопнутой двери возвещали о наступлении новой эпохи в истории Огогондии.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
— Ну, наконец-то, наконец-то, наконец-то! — радовался Динами, расхаживая по кабинету. Он то взбирался в свое кресло и подпрыгивал на мягком сиденье, то перескакивал с кресла на гигантский стол. — Как я и предсказывал, дорогой мой Котангенс, мы победили. Пиши: «За потрясающее никому не известное изобретение и вообще назначено с сегодняшнего числа Котангенса моим самым-самым близким приближенным». Подпись: «Великий Попечитель, Властелин Солнца и прочая и тому подобная». — Благодарю вас, Ваше Равенство! — Пустяки! Ах, Котангенс, наконец-то справедливость восторжествовала! И теперь подумаем, как сделать, чтобы этого никто не заметил. — Зачем, Ваше Равенство? Ведь власть снова в ваших руках. — В моих. Но ни один человек не должен догадываться, что она побывала в чужих. Не могу же я признаться, что Огогондией вместо меня управлял ненормальный кибер и никто даже разницы не заметил! — Это верно. — Еще бы! Мои подданные — они ж как дети. Узнают, что у власти временно был не я. и начнут подозревать, что и теперь я тоже не я. Чувствуешь? — Так что же делать? — А ничего. Власть преемственна. Значит, будем вести себя так, как вел себя наш предшественник, — и Дино забегал по комнате, вращая правой рукой. — Похоже? — Абсолютно! — Но это внешнее сходство. А сейчас подумаем, как нам до… емкак нам до… емкакнамдо… емкакнам до… стичь сходства внутреннего. Что бы этакое придумать поненормальней, а? — Провозгласите себя богом. — Старо. — Ну обвините какое-нибудь государство в том, что оно в агрессивных целях собирается устроить солнечное затмение. — Пресно. Мне нужны сумасшедшие идеи помасштабней. Вроде платы за Солнце или установки счетчиков. А кстати, счетчики мы установили, а деньги-то нам платят? Министра финансов! Срочно! — распорядился Дино, нажав кнопку диктофона. И министр финансов тотчас влетел в кабинет, даже не успев остановить вращение правой руки. — Браво, Динами! — Браво, брависсимо. Как поступает плата за Солнце? — Самым аккуратным образом. Ваше Равенство. — И платят строго по показанию счетчиков? — Абсолютно. Вот только в Игралии какие-то хулиганы разбили два счетчика. — Разбили? — обрадованно переспросил Дино. — Так точно, разбили. — Так что же ты раньше молчал? — И Попечитель расцеловал оторопевшего финансиста. — Военного министра! Мигом! И министр так стремительно вбежал в кабинет, что вынужден был по инерции пробежать еще целый круг, прежде чем смог затормозить и остановиться. — Ты что же это? — набросился на него Дино. — Не могу знать. — Наши враги, понимаешь, громят наши счетчики, а армия бездействует? Приказываю тебе срочно организовать надежную охрану счетчиков. — Но, Ваше Равенство, счетчики находятся в других странах. — Тем более! Ввести в эти страны войска. По одному полку на каждый счетчик. — У нас нет столько полков. — Провести мобилизацию! Военизировать всю Огогондию! Все огогондцы — солдаты! Вперед! — И министры наперегонки побежали из кабинета. — Видал? — самодовольно спросил Дино Котангенса. — Вот та сумасшедшая идея, которую мы искали. Похож я был на сумасшедшего? — Точь-в-точь. Ваше Равенство! — Ну погоди, то ли еще будет!Тысячи огогондцев толпились у «хижины». — Мы никому не позволим! — кричал Великий Попечитель с балкона резиденции вперед многотысячной толпой. — Мы никому не позволим, чтобы наши солнечные счетчики, построенные на деньги наших налогоплательщиков, громили и уничтожали! — Не позволим! — подхватывала толпа. — Мы видим, что правительства некоторых государств не могут или не хотят гарантировать нам сохранность нашего имущества, находящегося на их территории. Поэтому мы вынуждены для охраны вышеназванного имущества посылать в эти страны своих солдат. Правильно я говорю? — Правильно! — орала толпа. — Все огогондцы — солдаты! В Огогондии нет несолдат! Несолдатам не место в Огогондии! — Браво, Динами! — бесновались огогондцы. — Сто тысяч лет жизни Солнцеподобному! В этот раз телесовещание на высшем уровне было необычайно деловым и коротким. — Господа попечители, — сказал Председательствующий, — ввиду чрезвычайной важности и срочности обсуждаемого нами вопроса есть предложение называть вещи своими именами. — Правильно! — зашумели разом попечители. — Зачем нам эти цирлихи-манирлихи? Подумаешь, интеллигенция! — Предложение считаю принятым. А теперь поговорим по душам. — Какого дьявола Динами отхватил Малявию? — сразу же закричал нервный Попечитель Колоссалии. — Я же еще в прошлом году собирался ее оккупировать! — А Игралия всегда граничила с Великанией. Значит, именно Великания имеет историческое право захватывать Игралию, а не какая-то там Огогондия. — Каждому приятно этими делами заниматься. — Это же черт знает что такое! Прямо из-под носа страны утаскивает. На минутку отвернуться нельзя! — Себе все, а другим ничего. Эгоист! — Нахал — и все! — И нечего с ним церемониться. Предлагаю сбросить на Огогондию бомбу и начать войну. — А я предлагаю сбросить две бомбы и начать переговоры о мире. — А лучше всего сбросить три и вообще ничего не начинать. — Господа, господа, не забывайте: у Огогондии тоже есть бомбы. Правда, подержанные, но все же… — Это верно. Так что же вы предлагаете? — Предлагаю послать этому выскочке ультиматум со строгим выговором и последним предупреждением. Или он немедленно отдает нам все захваченные им страны… — …или мы их сами захватим. Но Дино Динами ничего еще не знал о близящихся неприятностях. И настроение у него было превосходное. — Все идет как надо! — уверял он нового приближенного. — И войска движутся, и диктаторишки молчат. Говорил я тебе. Котангенс, что все будет в порядке? — Говорили. Три раза говорили. Ваше Равенство. Даже четыре. — Вот видишь. А ты меня чуть не размагнитил. — Так ведь… — Знаю, знаю. Пойди в наградной департамент и награди себя чем хочешь. Потом оформим. Ступай! — Браво, Динами! А Дино, оставшись наедине, задумался: «Гм… Почему все попечители так меня боятся? А? Кибера называли Властелином Солнца. Но он не мог быть Властелином Солнца, потому что он не я. А я почему не Властелин Солнца? Потому что я не он. Нет, я что-то путаю… Начнем сначала. Кибер был Властелином Солнца. Но он не был Властелином Солнца. А кто был Властелином? Тот, кто не был? Нет, я опять где-то ошибся. Попробуем еще раз, не торопясь, спокойно, логично…» А в Огогондии происходила тотальная военизация. Печатая шаг, по площади прошел батальон Союза солнцепоклонников. Они маршировали, громко распевая:
Не нужно забывать, что, кроме самых первых приближенных и министров, у Великого Попечителя было много не самых первых приближенных, вслед за которыми в табели о рангах шли вторые, третьи, четвертые и. наконец, пятые приближенные, которые приравнивались к дальним родственникам и пользовались теми же правами и привилегиями. И теперь по сигналу трубы все они собрались в большом парадном зале, и Дино произнес перед ними одну из своих самых исторических речей. — Так называемые Великие Диктатории, которыми правят сумасшедшие попечители, забыли, с кем они имеют дело, и посмели выступить против меня. Я мог бы сегодня же стереть их в порошок, но я не буду воевать с ними. Приближенные облегченно вздохнули, но радость их была преждевременной. — Я могу заставить эти державишки подчиниться мне без единого выстрела, ибо в моем распоряжении есть более грозное оружие, чем жалкие водородные бомбы. Если бы присутствующие посмели удивленно переглянуться, они бы это сделали. — Я все обдумал. — торжественно сказал Дино, — и решил приказать Солнцу, чтобы оно перестало светить! Или, может, кто-нибудь сомневается, что Солнце подчинится моему приказу?! Но, конечно, никто не сомневался. — За мной! — зычно крикнул Великий Попечитель и, выскочив из зала, подпрыгивая, побежал вверх по широкой дворцовой лестнице. Приближенные, не смея отстать, хрипя и задыхаясь, бежали за ним. Пятый этаж… седьмой… десятый… Великий Попечитель несся все быстрее. Сердца его дряхлых приближенных бешено колотились, бежавшие рисковали умереть на ходу. Но страх перед Попечителем был сильнее страха смерти. Дино выбежал на крышу и, широко раскрыв глаза, уставился прямо на Солнце. Он знал силу своего взгляда, потому что стоило ему гневно взглянуть на кого-нибудь — и тот падал замертво. Дино смотрел на Солнце, вкладывая в этот взгляд всю свою силу воли. — Солнце! — тихо и уверенно сказал Дино Динами. — С тобой говорит твой Властелин. Я приказываю тебе: перестань светить! Перестань светить!!! И тут произошло нечто невероятное и ужасное: Солнце подчинилось его приказу и погасло. И Властелину Солнца стало так страшно, что он закричал и рухнул на остывающую крышу своей «хижины». А когда Дино очнулся, весь мир был погружен в кромешную тьму, такую густую, вязкую, абсолютную тьму, которую невозможно себе представить и которая наступает, когда Солнце гаснет… — Где я? — спросил Попечитель. — У себя в «хижине», — отвечали приближенные. — А почему так темно? Солнце все-таки подчинилось мне и погасло, да? — Да, — словно эхо. откликнулись приближенные. — И человечество гибнет, да? — Да, — повторили приближенные, давно уже разучившиеся говорить слово «нет». Великий Попечитель закрыл глаза и захихикал, довольный тем, что ему удалось сделать. Умер Дино Динами через два дня. И до самой смерти никто не осмелился сказать ему, что Солнце погасло только для него одного. Просто потому, что он ослеп.
ПАРОДИИ КОНЦА
60-Х — 70-Х ГОДОВ

Евгений Винокуров
Отражение
Римма Казакова
Каждому свое
Юрий Левитанский
Киносон о зайце и охотнике,
который ходил в кино зайцем
Меж тем я решительно знаю По прихоти сна моего. Что я в этой пьесе играю. Но только не помню кого.Ю. Левитанский.«Сон о забытой роли»
Павел Вегин
В дальнем плаванье
И вот я в летейские воды вхожу. И вот я уже холодею. Я голову, может, за прихоть сложу Увидеть в лицо Лорелею.
…И в белую ночь ее вольных волос Вошли мои пальцы, как кони в овес.П. Вегин. «Лорелея»
Лев Халиф
Об осебяченной собаке
и особаченных стихах
…Собаки Просто внешностью запаздывают. А так они Почти что люди. Я пса. Ей-богу б, Осебячил, — А что верней Любви Собачьей?!Л. Халиф
Николай Глазков
Метровые стихи
Трамваи! Хотя и электромоторные, Могли б они справиться? Разве трамваям Развить было можно скорость метройную? Куда им!Н. Глазков.«Огромная экономия»
Семен Кирсанов
Никудыки
С тихим смехом — Навсегданьица! Никударики летят.С. Кирсанов.«Никударики»
Белеет парус одинокий…
Литературные пародии 1947-1979
ОТ АВТОРА
Пародийный цикл «Белеет парус одинокий…» я начал писать давно. Первая из этих пародий была написана в 1947 году, а последняя — в декабре 1978-го. Героями цикла «Белеет парус…» становились только такие поэты, которые, с моей точки зрения, имеют свой индивидуальный почерк и отличаются лица необщим выраженьем. Любители поэзии хорошо знакомы с произведениями этих поэтов, что позволяет мне не предварять каждую пародию эпиграфом, как бы подсказывающим читателю, какие именно строки послужили поводом для данной литературной пародии. Я вообще предпочитаю по возможности обходиться в пародиях без эпиграфа, потому что эпиграфы — вещь опасная и подчас оказываются смешнее самих пародий.
Подстрочник
Александр Твардовский
Парус, парус…
Павел Антокольский
Парусиада
Константин Симонов
Парусиновый экран
Алексей Сурков
Черный парус
Евгений Винокуров
Молодо-зелено
Григорий Поженян
Полундра
Расул Гамзатов
Горный сонет
Роберт Рождественский Хватит!
Борис Слуцкий
К вопросу о парусе
Леонид Мартынов
Марсианские паруса
Новелла Матвеева
О парусе, палтусе и страусе
Кайсын Кулиев
Вечерний звон
Сергей Михалков
Мачта и зампом
(басня)
Александр Межиров
В тихой гавани
Давид САМОЙЛОВ
Воспоминание о Понте Эвксинском
Александр КУШНЕР
Здесь будет город заложен…
Виктор УРИН
Стихолод
Булат ОКУДЖАВА
Королева Маруся
Евгений ЕВТУШЕНКО
Я
Белла АХМАДУЛИНА
Ноктюрн
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
За тех, кто в моде!
Владимир ВЫСОЦКИЙ
Я ляжу на пляжу
Лопухиада
1978
Лето 1978 года отличалось небывалым урожаем лопухов. Они заполонили Переделкино, обретая порой причудливые, роскошные формы. По этому случаю некоторые обитатели Дома творчества решили изменить традиции, воспев в стихах не розу, а лопух.
Азартное состязание стихотворцев вылилось в Лопухиаду. Владлен Бахнов принял в ней участие в излюбленном жанре пародии.
Давид Самойлов
Борис Слуцкий
Леонид Мартынов
Сергей Островой
Сергей Михалков
Лопух и штаты
Лопух и роза
Отрывок из народного эпоса
«Лопухинди руси — пхай, пхай!»
Прощание с лопухами
(элегия)
Посвящается Всемирной Лопухиаде, проходившей в Переделкине в августе 1978 г.
«Прощай, свободная стихия…» (Так называю лопухи я.)
Приложение к «ЛОПУХИАДЕ»
В Доме творчества «Переделкино» одновременно появились пожилая, с крашеными волосами переводчица и столь же почтенного возраста лысеющий прозаик. За обоими тянулась худая слава стукачей. Между ними начался флирт, заметный окружающим. Это послужило поводом написать стихи.Ноктюрн
Жестокий романс
ЭПИГРАММЫ
* * *
Моему бывшему сценарию
* * *
СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

БЕГ В МЕШКАХ
К нам в областную команду бегунов на короткие дистанции пришел новый тренер Иван Сергеевич Прямых. Пришел не с пустыми руками, а с новой системой тренировок, придуманной и разработанной Иваном Сергеевичем лично. Он был скуповат на слова и говорил коротко, но образно. — Тренироваться будем под девизом «тяжело в учении — легко в бою». И если вас не испугают трудности, вы у меня станете первыми не только в области, но и… В общем, сами увидите, где вы у меня станете первыми. А теперь о тренировках. Отличительная особенность моей системы состоит в том, что сначала мы будем учиться бегать в мешках. — Как это в мешках? — В каких мешках? — Объясняю: в простых, стандартных мешках. Тут Иван Сергеевич вынул из сумки обыкновенный мешок, влез в мешок ногами и, подняв его до пояса, закрепил в районе талии специальным шнурком. Потом он для примера пробежал в мешке стометровку и. плюхнувшись только два раза, прошел дистанцию всего за 3 минуты 35 секунд. Потрясающая идея нашего нового тренера заключалась вот в чем: если мы, преодолев трудности, научимся прилично бегать в мешках, то уж без мешков мы шутя и играя будем показывать такое время, что все мировые рекорды станут нашими… И мы начали бегать в мешках. Первая часть девиза оправдалась полностью: в учении было тяжело. Но мы не сдавались. Мы тренировались, тренировались, тренировались… И, наконец, научились проходить дистанцию за небывало короткое время, если, конечно, учесть, что бегали мы все-таки в мешках. И уже мы мечтали, как осуществится вторая половина девиза: как будет легко в бою! Многие опытные спортсмены приходили посмотреть, как мы тренируемся, и просто поражались нашим редким способностям. Заслуженные мастера спорта и те заверяли, что так бегать в мешках, как мы, они ни за что не смогли бы. А будущие соперники просто впадали в панику, когда представляли себе, что будет, если мы побежим без мешков. Хитроумный план Ивана Сергеевича близился к победному завершению. Вот голова! И когда до областных соревнований оставалось всего пять дней, нас наконец из мешков выпустили. И мы рванули! Но оказалось, что бегать без мешков мы уже как-то разучились. Выяснилось, до начала тренировок-по новой системе мы показывали лучшее время. Более того. Обнаружилось, что даже в мешках мы бегаем теперь быстрее, чем без них. Но Иван Сергеевич не растерялся. Он предложил устроить международные соревнования по бегу в мешках и обратился в соответствующие инстанции. Однако его идею не поддержали, поскольку оказалось, что на всех пяти континентах в мешках бегает только наша команда и, выходит, соревноваться нам не с кем. Мы были страшно разочарованы. Но Иван Сергеевич — вот голова! — сказал: — Поздравляю вас. ребята! Вы сами слышали, что по новому виду спорта наша команда единственная в мире. А раз единственная, значит, тем самым и лучшая. Так что не обманывал я вас. когда обещал сделать вас первыми не только в области, но и во всем мире. — Спа-си-бо! — дружно крикнули мы. Иван Сергеевич был взволнован и растроган. Но только один я углядел, как скупая слеза блеснула в его правом глазу и тренер незаметно вытер ее грубым концом тренировочного мешка.ЗАКОЛДОВАННАЯ БОЧКА
Поздним летним вечером я вел свою машину по безлюдному, темному переулку. Ехал я не торопясь, осторожно объезжая выбоины и лужи… И вдруг откуда-то выскочил огромный грузовик. Громыхая, сверкая фарами и разбрызгивая грязь, он обогнал меня и. резко развернувшись, стал поперек дороги. Все произошло так неожиданно, что я даже не успел растеряться и с силой нажал на тормоза. А из кабины грузовика выскочил здоровенный детина и направился ко мне. К этому времени я уже достаточно пришел в себя, чтобы почувствовать страх. Быстро включив заднюю скорость, я попытался уехать задом наперед, но было поздно. Детина подошел ко мне и хрипло спросил: — Бензин нужен? Отдам по дешевке. Берешь триста литров, даешь на литр — и квиты! — А куда ж я триста литров дену? У меня и бочки такой нет! — Тара моя. с доставкой на дом. Обслуживание — будь здоров! И все за тот же литр. Ну как? Теперь, когда я понял, что жизнь моя в безопасности и грабить меня тоже вроде никто не собирается, я приободрился и даже обнаглел. — Литр — это вы дорого просите, — сказал я. — За пол-литра возьму. — Ну черт с тобой! — легко согласился он. — Бери. Для хорошего человека не жалко! Вскоре железная бочка с бензином была сгружена у меня во дворе, а водитель получил оговоренную сумму и пообещал со временем заехать за тарой. — Эта бочка за мной числится. — объяснил он. — А наша база, понимаешь, за экономию борется. Теле что тару придется вернуть. Как она у тебя опорожнится, ты вот по этому телефончику брякни и Семку кликни. Семка — это я. С этими словами мой новый знакомый поспешно уехал, потому что приближался тот час, когда начинают закрывать магазины. А я стоял у бочки и радостно думал, какую замечательную с финансовой точки зрения операцию мне удалось провернуть. Триста литров бензина стоят двадцать один рубль, а я купил их за трешку, то есть в семь раз дешевле! Я пошел сообщать жене эту приятную новость. Но жена — юрист по образованию и паникерша по характеру — выслушала мое сообщение без особого восторга. — А что, если захотят узнать, где ты взял этот бензин? — Это мое личное дело. — Ошибаешься! Ты, милый мой, замешан в уголовно наказуемом деянии, предусмотренном статьей 5169, часть вторая, пункт «б». Я растерянно посмотрел на жену. До этой минуты я действительно ни разу не подумал, как я смогу объяснить соседям мое подозрительное приобретение. — Но ведь пока никто ничего не знает, — попытался я успокоить жену. — И не должен знать! — решительно проговорила она. — Нужно спрятать твою покупку сегодня же ночью! Это единственный выход. — Но где я могу спрятать триста литров горючего? — Надо подумать… И она придумала. Всю ночь я переливал бензин из бочки в канистры. Лифт у нас по ночам не работает, и таскать тяжеленные канистры на шестой этаж приходилось пешком. Дома я выливал бензин в первую попавшуюся посуду и налегке снова бежал к бочке. За ночь я совершил пятнадцать рейсов, и к рассвету бочка наконец оказалась пустой. Но зато вся имевшаяся в квартире тара, включая сидячую ванну, была заполнена бензином. Смертельно усталый, я плюхнулся на тахту и с наслаждением закурил. Однако наслаждался я недолго: теща увидела горящую сигарету и, вскрикнув, упала в обморок. С этой секунды в квартире под угрозой взрыва и пожара запрещено было курить, зажигать спички и пользоваться газом. Питались мы всухомятку и сидели в темноте, так как теща заявила, что при включении света вылетает электрическая искра, которая тоже может послужить причиной взрыва. На работу я не ходил, потому что мои женщины боялись остаться одни в огнеопасной квартире. Пришлось взять отпуск за свой счет. Таким образом, каждый литр купленного мною по дешевке бензина обходился мне теперь вдвое дороже государственного. Но это было только начало… На третий день к нам ворвалась испуганная соседка. Она объявила, что в нашем подъезде слышен какой-то странный запах. Наверное, где-то просачивается газ, и поэтому следует срочно вызвать инспектора из «Мосгаза». Я пообещал лично заняться этим. Прекрасно понимая, чем для меня кончится приход инспектора, я всю ночь переливал бензин обратно в бочку. А рано утром повез эту проклятую бочку на дачу к двоюродному брату. Конечно, для этого мне пришлось взять грузовое такси, и теперь уже каждый литр моего дешевого горючего стоил мне примерно в четыре раза дороже обычного. Бочку мы спрятали в самом конце участка и ловко замаскировали ветками. Впервые за много дней я облегченно вздохнул, радостно огляделся вокруг и с ужасом увидел, что по ту сторону изгороди в двух метрах от бочки дачники-соседи разжигают костер для шашлыков. Двоюродный брат бросился было к соседям, чтобы объяснить им, какую смертельную опасность таят в себе их шашлыки, но я остановил его: ведь статья 5169, часть вторая, пункт «б», продолжала действовать. Брат смотрел на меня так, что я чувствовал, как безвозвратно теряю родственника. Ведь ко всему прочему оказалось, что у этого оптимиста дача даже не застрахована… И тогда у меня появилась до гениальности простая идея, как избавиться от бензина. Для того чтобы израсходовать триста литров горючего, нужно проехать около трех тысяч километров. Значит, если я сейчас же выеду на Окружную дорогу и стану на большой скорости крутиться вокруг Москвы, то уже через каких-нибудь три дня бензин будет израсходован до последней капли. Не теряя времени, я выехал на окружное шоссе и принялся за свое нелегкое дело. Я кружил вокруг столицы, как спутник вокруг планеты. Но уже на третьем витке у меня мелькнула страшная мысль: а что, если пока я тут прохлаждаюсь, дача уже горит? Я постарался взять себя в руки, однако на пятом витке нервы мои не выдержали, я свернул с Кольцевой и помчался на дачу. Дача еще не горела. Но двоюродный брат уже успел упаковать все вещи и отправить семью в безопасное место. — Я не могу рисковать своими детьми, — холодно сказал он, — и сам не буду здесь жить. А ты сиди тут и стереги свой бензин, хоть я был бы рад, если бы ты успел перевезти бочку подальше от моей дачи. Прощай! Ну куда, куда я мог везти этот треклятый бензин? Обратно домой? И тут я вспомнил, что Сема велел позвонить ему, когда у меня освободится тара. Я бросился к телефону. Сема, к счастью, оказался на месте. — Здравствуйте! — радостно закричал я. — С вами говорит тот, у которого осталась ваша бочка. — А, здорово, здорово! — прохрипел Сема. — Что, освободилась тарочка? Можно забрать? — Да, да, заезжайте, и чем скорее, тем лучше. — Мы по-быстрому! — Только видите ли, в чем дело: эта бочка на даче. Почти весь бензин ваш цел, и я хотел бы, чтобы вы его забрали вместе с бочкой… Сема даже не удивился. — Можно и с бочкой. Только какая твоя цена будет? — Какая там цена! — восторженно завопил я. — Никакой цены! Отдаю бесплатно. — Ты-то бесплатно отдаешь, да я-то бесплатно не беру. — спокойно возразил Сема. — Я спрашиваю: сколько ты заплатишь за то, чтобы я твой бензин вывез? Такая неожиданная постановка вопроса несколько удивила меня. — Я, право, не знаю… Ну, пять рублей заплачу… — Не пойдет! На четыре поллитры дашь — заберу горючее, нет — пеняй на себя! Я не стал раздумывать, и через час с помощью благодетеля Семы избавился наконец от бензина, каждый литр которого стоил мне теперь полтинник. — Ну бывай! — сказал мой благодетель, небрежно сунув в карман деньги. — Не поминай лихом. — Большое вам спасибо! — растроганно ответил я. — Вы меня просто выручили! — Чего там! Не тебя первого! — засмеялся водитель. — Веришь, нет, я эту самую бочку уже раз пятнадцать продавал и забирал обратно. Отдаю за бутылку, забираю за четыре. Ничего, жить можно!МЕТАМОРФОЗЫ
Свои первые сто граммов водки Федор Васильевич выпил не так чтобы слишком рано и не так уж поздно — в 15 лет. В день получения паспорта на боевом счету Феди было двадцать пол-литров, а к свадьбе — сто сорок пять. Так что поначалу дело двигалось не чересчур быстро и, можно сказать, в пределах среднестатистической нормы. Но дальше пошло легче. К рождению первенца Федя осилил уже пятьсот пол-литров. Сына назвали Петром, и в честь этого знаменательного события молодой отец справился еще с двумя бутылками. Где-то в районе двухтысячной бутылки у Феди родилась дочь, а когда дело подходило к третьей тысяче — родился второй мальчик, которого счастливый отец по пьяной лавочке тоже хотел назвать Петром. Но затем, будучи под хмельком, о своем решении как-то забыл и нарек парнишку Вольдемаром. Вообще-то Федор Васильевич где-то кем-то работал, в жизни его, конечно, происходили какие-то важные события и случались радости и огорчения. Завершая пятую тысячу бутылок, Федор Васильевич получил новую квартиру со всеми удобствами и «гастрономом» внизу. Жить, разумеется, стало еще лучше и еще веселей. А однажды, где-то в конце восьмой тысячи пол-литров, Федор вдруг на какое-то мгновенье протрезвел и с удивлением обнаружил, что сидит в компании каких-то незнакомых молодых людей. Все они были в черных костюмах, белых рубашках и ярких галстуках… И только потом Федор Васильевич понял, что это он гуляет на свадьбе у своего старшего сына Пети. А вообще-то друзья-собутыльники менялись часто и как-то незаметно. Только первые три с половиной тысячи бутылок плечом к плечу с Федей шел его лучший друг Пепла Егорычев. Федя его очень любил, и сколько бы им ни приходилось выяснять отношения, всегда оказывалось, что друг друга они уважают и понимают. Но потом вдруг Паша бросил пить и стал играть в шашки, что, конечно, к добру не привело, потому что однажды Паша отравился грибами и чуть не умер. И хоть Федор тоже не против был иной раз подвигать по доске шашки, но знал меру. А после того, что случилось с Пашей, он стал еще более осторожно увлекаться этим опасным и отчаянным занятием. Шли дни, сменялись этикетки на бутылках, и к тому времени, когда Федор Васильевич приканчивал свою десятую тысячу, сердчишко у него стало пошаливать и врач сказал, что жить ему осталось всего лишь пятьсот пол-литров, не больше. — Пятьсот пол-литров чего именно? — дрогнувшим голосом попытался уточнить Федор. — Именно ее! — строго половил врач. — Ну а если на что-нибудь послабей перейти? На перцовку или портвейн. Сколько я в таком случае бутылок протяну? — постарался все-таки поторговаться с судьбой бедный Федя. — Что водка, что портвейн — все равно алкоголь, и норму свою вы давно уже перевыполнили, фонды выбрали и лимит исчерпали. Так что советую переходить на кефир. …Прямо из поликлиники расстроенный Федор Васильевич зашел в пивной зал. Обводя отрешенным прощальным взглядом холодные стены и круглые с мраморными крышками столики, он осушил одну кружку, вторую и спохватился, что не выяснил у доктора, входит ли пиво в те самые роковые пятьсот бутылок или нет? А как только в его мозгу всплыло страшное слово «лимит», так почему-то вспомнил он своего бывшего собутыльника Пашку и решил обратиться к нему с неслыханной просьбой. Паша был дома. Потягивая чаек, он сидел за столом и. раскрыв журнал «Спутник шашиста», с увлечением разбирал партию Лихтенштейн — Гогенцолерн, сыгранную на последнем международном чемпионате игроков в поддавки. Федор Васильевич извлек из карманов бутылку белой, бутылку красной и, поведав дружку о своем печальном разговоре с доктором, сообщил, что жить ему осталось всего пятьсот пол-литров. А если считать и те. что стоят на столе, — так и того меньше, а именно четыреста девяносто восемь. В глазах у Паши появились слезы. — Выбрал я, брат, свои алкогольные фонды, — сказал Федор. — Исчерпал я, дорогой мой, свои водочные лимиты. — И он с грустным бульканьем наполнил водкой стаканы… Но Паша пить белую отказался, а о красной вообще даже разговаривать не стал. Однако Федор не обиделся. — Знаю я, Паша, что ты давно и на веки вечные пить бросил. И правильно сделал. Так вот какая у меня к тебе великая просьба: не уступишь ли ты мне свои неизрасходованные лимиты? — То есть как это? — не понял сразу Паша. — Да очень просто. Ты в своей правильной трезвой жизни небось еще тысяч пять бутылок недоизрасходовал. И тебе, непьющему, эти лимиты абсолютно ни к чему. А мне бы они во как пригодились! Ну так как? — Надо подумать… — сказал Павел и насупился. — А чего тут думать? Ты-то ведь пить не собираешься? — А ты почем знаешь? Я, может, как раз к этому… к Дню печати развязать намечаю… Паша явно врал, потому как День печати отгуляли еще на прошлой неделе и Паша ничего, кроме томатного сока, себе не позволил. Но Федор страшно испугался. — Да ты что, Паша! — замахал он руками. — Ты что это надумал! Алкоголь же — яд! Ну хочешь, я тебе за твои неизрасходованные лимиты мой телевизор отдам? Хочешь? — За пять тысяч бутылок — телевизор? — Паша обидно засмеялся. — Где ты такие цены видел? — А что же ты хотел, автомобиль, что ли? — Да уж во всяком случае не телевизор. Пять тысяч пол-литров! Одна посуда и та дороже стоит, не говоря про содержимое! — Так я ж у тебя не выпивку покупаю, а только лимиты. — Ну и что? Лимиты, по-твоему, на улице валяются? Да я лучше сам свои лимиты израсходую, чем отдам их за какой-то доисторический телевизор устаревшей модели! — И с этими словами Паша неожиданно схватил Федин стакан и залпом осушил его. — Поч-чему это мой телевизор ус-старев-ший? — обиделся вдруг Федя. — Десять лет не был устаревшим, а тут взял да и устарел? — А ты как, Феденька, думал? Все в природе стареет: и я, и ты, и телевизоры. Диалектика! Федору Васильевичу стало совсем грустно. — Ну ладно, — согласился он, — раз диалектика, не отдавай мне все пять тысяч бутылок. Но хоть половину ты за мой телевизор уступишь? — Не знаю, — сказал Паша, явно боясь продешевить. — Мне бы с женой посоветоваться надо: сам понимаешь, покупка телевизора — дело семейное. — Какая ж это покупка? — удивился Федор. — Я ж тебе телевизор задаром даю! — Нет, Федюня, не даром, а за мои лимиты, — рассудительно возразил Паша и разлил по стаканам остатки водки. — Телевизор я в любом магазине куплю хоть в кредит, хоть за наличные. А лимиты пока выхлопочешь — сам не рад будешь. — Эх, Паша, Павел Николаевич! — горько сказал Федор, откупоривая портвейн. — Мы с тобой три с половиной тыщи бутылок душа в душу прожили. Я думал, ты друг, а ты стяжатель, собственник и пережиток — вот ты кто, Паша! И я лучше совсем пить брошу, чем твоими лимитами воспользуюсь! С этими словами Федор Васильевич демонстративно вылил бутылку розового портвейна в цветочный горшок с фикусом и, хлопнув дверью, нетвердыми шагами направился к молочной. Он знал, где она находится, потому что рядом с ней принимали посуду. …С этого дня Федор Васильевич ничего, кроме кефира, не признавал. А Павел, наоборот, забросил шашки и стал пить, стремительно наверстывая упущенное. Пока он не ведал, что ему причитаются какие-то там лимиты, он и жил спокойно, и беззаботно играл в настольные игры. А тут ему стало страшно, что его собственные лимиты, его кровные фонды могут пропасть так, задаром, — и это не давало ему покоя ни днем, ни ночью… Да, нет никакого лекарства от жадности. И куда смотрит медицина — неизвестно!ЗИМНИЕ ЦВЕТЫ
Когда дул порывистый ветер, снег под фонарями проносился косыми прерывистыми шквалами. Когда ветер стихал, снежинки тоже притормаживали и падали плавно, медленно огибая выгнутые тюльпаны фонарей. Рогожин вышел из метро и сразу же увидел продававшую цветы женщину. И она сама, повязанная пуховым платком, и корзина, наполненная чахлыми букетиками с мимозой, — все было облеплено пушистым мокрым снегом. И может быть, от того, что Рогожину стало жаль этой женщины на морозном ветру и желтых букетиков, — он вдруг ни с того ни с сего неожиданно для себя купил обернутый целлофаном букетик, бережно отряхнул его перчаткой и сунул в необъятный портфель. Последний раз он покупал цветы лет десять назад, последний раз дарил их жене еще раньше. И теперь ему стало приятно думать, что вот сейчас он придет домой и не в День Восьмого марта, и не в день рождения, а просто так. в самый что ни на есть обыкновенный зимний день он. Петр Петрович Рогожин, подарит своей жене цветы! Как будто так у них заведено: просто дарить друг другу цветы… А почему бы и нет? Почему бы и вправду время от времени не приносить Татьяне цветы? Ведь он ее любит? Факт! Должно это чувство проявляться как-нибудь материально? Факт! А дети придут из школы — а на столе цветы… «Откуда цветы?» — «Папа принес», — скромно ответит жена, и Рогожин знал, что Татьяне это будет очень приятно. И, возможно, она не преминет сказать шестнадцатилетнему Николаше: — «Ничего, скоро и ты своей Нине цветы станешь дарить. Или уже даришь?..» А Николаша басовито ответит: «Ну ты и скажешь, мать! Нина — это пройденный этап…»А Ленка обязательно добавит: «Наш Николенька теперь по Насте вздыхает!..» На душе у Петра Петровича было светло и покойно. Он прибавил шагу — до того ему хотелосьпоскорей отдать букет. — взбежал, не дожидаясь лифта, по лестнице и, занесенный снегом, вломился в квартиру. Жена пылесосила большую комнату. Гудение пылесоса заглушило шаги Рогожина, и, когда он, мокрый от снега, обнял Татьяну, та от неожиданности вскрикнула и уронила пылесос. — Вот медведь! — сказала она в сердцах. — Сколько раз я просила не входить в пальто в комнату! — Да брось ты, Танька, посмотри, что я тебе принес… — замок, как назло, не открывался, Рогожин тряс портфель, и крупные ошметки снега разлетались по комнате. — Пойди сейчас же разденься! — прикрикнула жена. — Убираешь, убираешь, а они, как в берлогу, прямо в валенках лезут. Ты погляди, сколько снегу с тебя насыпалось! Но тут наконец портфель открылся, и Рогожин торжественно извлек из него смятый букетик. — Ты что это? — подозрительно спросила жена. — Опять премию отмечал? — Да ничего я не отмечал. Просто купил тебе цветы. Шел по улице и купил. — А откуда шел? Из сосисочной? — не унималась супруга. — Ну почему из сосисочной? Почему ты сразу подозреваешь? Могу я тебе или не могу? — Можешь. Но не покупаешь. А ну-ка дыхни! Рогожину это показалось чрезвычайно оскорбительным. — Вот вечно ты так, — обиженно сказал он. — К тебе как лучше, а ты… — Нет, ты дыхни, дыхни! И нечего мне зубы заговаривать. Я тут из последних сил выбиваюсь, а он с друзьями развлекается. На десятку выпил, на полтинник цветочками занюхал… — Цветы, между прочим, стоят три рубля! — строго заметил Петр Петрович. — Вот тебе и доказательство! — злорадно сказала жена. — Будь ты трезвый, ты б ни за что трешку на цветы не потратил. А если тебе охота приятное мне сделать, так купил бы новый веник… Рогожин швырнул цветы в портфель и, непонятый, хлопнул дверью. В этот вечер он все-таки посетил сосисочную, хотя не до того, как жена сказала ему об этом, так после… И в стекляшке он тоже побывал — так что и насчет пропитой десятки жена в конечном итоге также оказалась права… … А на следующий день, придя на службу, Рогожин раскрыл свой пухлый портфель и неожиданно обнаружил в нем сморщенный чахлый букетик. И так ему стало жаль и цветов, и себя, и Татьяну, что он тут же, подсев к телефону, набрал служебный номер жены и, едва услышав ее голос, сказал: — Таня, ты извини меня. Это я. Я правда купил тебе вчера цветы. Я люблю тебя. Таня, правда. — О, господи! — сказала жена. — Уже с утра пораньше стал набираться. И когда это только кончится? Аккуратно опустив трубку на рычаг, она заплакала. А Рогожин словно на расстоянии почувствовал слезы жены и решил, что больше никогда не будет покупать никаких цветов. И так хватает сложностей в семейной жизни… Нанюхались!В ЧАСЫ ДОСУГА
«Нет, что ни говори, а домашний бар — это не просто дань моде. Если хочешь знать, это еще очень важная вещь в морально-этическом плане! Да, да. и нечего ехидно улыбаться! Думала ли ты, что интеллигентному человеку как-то неловко ходить по сомнительным кафе и торопливо глотать свои два по сто! И полтора по сто не хочу! Это мое сугубо личное дело. Может, я сегодня хочу небольшую рюмочку коньяка или там стакан сухого грузинского — и все! И вот дома я открываю бар, наливаю на донышко бокала коньячок и, не спеша потягивая, листаю журналы, слежу за новинками литературы и техники или. на худой конец, просто думаю, размышляю…» Все это я сто раз пытался втолковать моей жене. А я умею быть красноречивым. Так что в конце концов она согласилась. и мы приобрели бар — помесь тумбочки с комодом. Я закупил полдюжины бутылок с яркими наклейками, а жена высокие стаканы для коктейлей и псевдохрустальные рюмки. Все это мы эффектно расставили в баре и пригласили гостей, моих сослуживцев. Все пришли с женами — Рататов, Хфедюлин, Топотков… — Не хотите ли выпить чего-нибудь? — небрежно спросил я. — Коньяк? Джин? Виски? Жена тоже вроде бы небрежно открыла дверцы бара, внутри автоматически зажглась лампочка, и бар осветился теплым призывным светом. Гости гикнули! Ахнули по первой, по второй… А следует отметить, бар изнутри был облицован зеркалами. Бутылки многократно отражались в них. и это создавало приятную иллюзию, что бутылок там гораздо больше, чем на сеймом деле. И. конечно, в результате такого чисто оптического обмана гости не рассчитали и еще до конца вечера осушили все, что имелось в баре. Назавтра пришлось пополнять запасы, потому что к вечеру мы ждали гостей со стороны жены. Гости, разумеется, пришли. Жена опять вроде бы небрежно открыла дверцы бара, опять зажглась лампочка. — Не хотите ли чего-нибудь попробовать? — осторожно и ненавязчиво спросил я. Гости вежливо согласились и начали пробовать. Все. что было в баре, перепробовали, одни пустые бутылки оставили. — Кончено! — сказала жена, когда все разошлись. — Больше никаких запасов! Пускай пустые бутылки стоят. В крайнем случае нальем подкрашенной воды. — Да какой же это бар, если в нем ничего, кроме воды, не будет? А вдруг гости захотят попробовать? — Пусть пробуют: мне воды не жалко. А если в баре держать всякие джины и вермуты, твои приятели, как хазары, будут каждый раз совершать опустошительные набеги. Я понял, что ее не переспоришь, сделал вид. что примирился. а сам задумал маленькую хитрость. Люди мы. слава богу, интеллигентные, книгу нас в доме хватает, вот я и решил свои запасы за книгами прятать… За Вальтер Скоттом, за Маминым-Сибиряком, за Рабиндранатом Тагором. А главное, конечно, за Большой Советской Энциклопедией. Помню, жена давно уговаривала меня сдать эту энциклопедию в букинистический: все равно, говорит, не пользуешься. А я не соглашался: еще, говорил, пригодится. И как в воду глядел: вот ведь как выручила меня в трудную минуту эта энциклопедия. Не зря она Большой называется: за ней любого размера бутылка свободно спрячется. Жена даже удивлялась, что это я все возле энциклопедии кручусь. А я говорю: на то и энциклопедия, чтобы в нее заглядывать и кругозор расширять. А жена говорит: знаю я твой кругозор, знаю, зачем тебе вдруг энциклопедия понадобилась! Ты, говорит, в «Огоньке» кроссворд разгадываешь — вот и весь твой кругозор! А я говорю: ах. дорогая, от тебя ничего не утаишь! Ну а тут как-то коллеги заглянули: Рататов, Хфедюлин, Топотков… Посидели, пофилософствовали. А как жена к подруге ушла, так мы и за Вальтером Скотом осушили, и за Рабиндранатом добавили, и всю, представьте себе. Большую Энциклопедию от А до Я проштудировали! Но, честно говоря, больше по вкусу нам Рабиндранат Тагор пришелся: за Тагором кагор стоял… Жена в тот вечер страшно рассердилась! Неужели вы с друзьями, говорит, не можете как-то интересней время проводить? Вы же интеллигентные люди! Сходили бы в музей, музыку бы послушали. Ты ж когда-то в филармонию ходил. Мы ж за одну радиолу «Симфония» триста рублей заплатили, а ты ее почти не включаешь и никакой музыки, кроме хоккея и футбола, не слушаешь! Я не спорил: стыдно мне стало. Ведь действительно ходил я когда-то в филармонию, пластинки собирал… Они и сейчас у меня есть… В общем, пригласил я друзей в субботу Баха послушать. Рататов пришел — зачем-то вермут принес, Хфедюлин пришел — «Старку» принес и Топотков — тоже вермут. Стали слушать великого Баха (1685–1750). Час слушали, два… Спохватились, а магазины уже закрыты! Ну что ты будешь делать? Мы ведь только-только до Третьего Брандербургского концерта дошли, не прерывать же на середине. Пришлось к соседям идти, одалживаться. Так что финал знаменитого Третьего концерта был как-то смазан и прозвучал не в полную силу. Жена еще больше расстроилась. Я, говорит, интеллигент, а ты алкоголик. А я говорю: как же это я не интеллигент, когда у меня диплом есть? И какой же я алкоголик, если я, наоборот, не алкоголик?! — А кто же ты, если в свободное время ничего не можешь делать, только пить. Вон люди языки иностранные изучают, в бассейн ходят, в шахматы играют. — Ну и что? Я тоже в шахматы могу! Еще как! Да ведь с кем играть? Ты не умеешь, сын тоже не умеет… И чему только их там, в детском саду, учат? В общем, позвонил я Хфендюлину: приходи, мол, в шахматишки перекинемся. Только шахматы с собой захвати, а то у меня нету. Вас понял, говорит Хфендюлин, все сделаем. Приходит. В одной руке доска, в другой — бутылка. «А это еще, — говорю, — зачем?» — «Так ты ж сам велел, чтоб я с собой захватил». Ну, стали играть. Первую играли не торопясь. Я выиграл, и Хфендюлин сбегал в «Гастроном» за второй. Стали играть вторую. Хфендюлин применил сицилианскую защиту, а я пошел конем С2 за третьей… Стали играть третью. Быстро разменяли офицеров, ферзей, королей, я провел свою ладью в дамки, а Хфендюлин пробовал блефовать и сел на мизере. Тут он обиделся и попытался утверждать, что так король не ходит, а ходит только ферзь или козырной туз. Но я не обращал внимания на его выкрики и провел в дамки вторую шашку. Тогда Хфендюлин совсем обалдел и стал кричать, что ладья по диагонали не ходит, особенно когда играют в двадцать одно! Но тут, конечно, откуда-то явилась жена, и партия ос талась неоконченной… А жаль… Ведь у меня было большое преимущество: три фигуры, два рубля и навалом закус ки… Очень интересная игра могла бы получиться!ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШАЯ ГРУСТНАЯ СОБАКА
Как известно, главный человек в кино — режиссер-постановщик. Все это знают. А Портос не знал. Не знал, потому что, во-первых, сниматься он начал недавно, а во-вторых, — был собакой. Когда драматург Евг. Сослуживцев написал первый вариант сценария «На большой дороге», никакой собаки там не было. И во втором варианте, доработанном и улучшенном, не было. И в третьем, дополненном и ухудшенном, не было. И в четвертом, исправленном и сокращенном… Собаки не было ни в одном из семи вариантов. А придумал ее сам постановщик фильма — молодой и целенаправленный режиссер Артамон Заозерный. — Я вижу здесь собаку, — сказал режиссер. — Не могу вам объяснить почему, но вижу… Собака пройдет через весь фильм. Большая и грустная. В этом что-то есть. Поверьте мне! — А что она будет делать? — уточнил сценарист. — Ничего. Присутствовать. Быть беспристрастным свидетелем происходящего. — А чья она. эта собака? — Конечно, героя! — уверенно воскликнул режиссер. — А может быть, героини… Впрочем, нет: она ничья. Большая, грустная, ничья. Неужели вы не чувствуете? — Собака для нас не проблема. Собаку можно провести по смете, — согласился многоопытный директор картины Творожный. Он знал, что Заозерный мог случайно увидеть своим режиссерским видением не собаку, а, скажем, слона. И тогда гораздо труднее было бы с кормами… — Но имейте в виду, мне нужна не какая-нибудь обычная собака. Мне нужна такая собака, которая существует в единственном экземпляре, чтобы второй подобной не было! — Второй такой не будет, — спокойно пообещал Творожный. — Дай бог, чтобы нашлась хотя бы первая. …Три дня киностудия напоминала собачью выставку. На помещенное в вечерней газете объявление «Требуется большая грустная собака» откликнулись две тысячи владельцев грустных и больших собак. Три дня оглушенные лаем ассистенты придирчиво отбирали кандидатов на ответственную роль ничьей собаки. А уж потом сам Заозерный выбрал из дюжины претендентов именно того пса, который наиболее соответствовал его творческим замыслам. Звали победителя конкурса Портос. И следует сразу сказать, что второй такой собаки действительно не было. Огромный пятнистый дог, он даже среди аристократических догов отличался своими изысканными манерами и ростом. И было непонятно, о чем может грустить этот красавец. — Его что — из двоих сшили? — спросил Творожный, опасливо поглядев на гигантского дога. Но Портос подошел к нему и, обнюхав его костюм из чистой полушерсти с лавсаном, привстал и так доверчиво положил свои могучие лапы на хилые директорские плечи, так ласково заглянул ему в очи своими грустными глазами! И растроганный директор тотчас подписал с хозяйкой Портоса трудовое соглашение, по которому владелица собаки Ольга Михайловна Рубашова обязалась за соответствующее вознаграждение приводить Портоса на съемки и сопровождать его в киноэкспедициях. Затем директор обстоятельно растолковал Ольге Михайловне ее права и обязанности. В итоге этой беседы Ольга Михайловна уяснила, что основным ее правом является право исполнять обязанности, а Творожный вдруг увидел, что Ольга Михайловна очень недурна собой, и в душу его закралось смутное предчувствие каких-то больших неприятностей. …Заозерный был в восторге. Портос вел себя перед камерой так естественно и непринужденно, будто окончил актерский факультет ВГИКа. — Нет, нет, я был неправ, — признался режиссер сценаристу. — Я был неправ, когда говорил, что собака на экране будет лишь присутствовать. Такая собака не может оставаться только беспристрастным свидетелем. У Портоса не тот характер! Портос должен действовать. Поверьте мне! Хоть Артамон Заозерный ставил всего лишь второй фильм, слова «Поверьте мне!» он произносил так убедительно, что даже сам начинал себе верить. И Евг. Сослуживцеву не оставалось ничего другого, как написать еще один — на этот раз специально собачий — вариант сценария. Постепенно Портос занимал в фильме все больше и больше места, деликатно оттесняя остальных героев на второй план. Теперь миловидной Ольге Михайловне приходилось доставлять Портоса на съемки почти каждый день. А потом начались экспедиции. Группа приехала в Батуми. И здесь, в субтропиках, Артамон Заозерный впервые по-настоящему заметил Ольгу Михайловну. — Черт возьми! — только и воскликнул он в своей лаконичной манере. — Ах, черт возьми! Действительно, было совершенно непонятно, как он до сих пор умудрился не заметить такой очаровательной женщины! И этот вечер Портос провел в полном одиночестве, грустно слоняясь по гостиничному номеру и безнадежно обнюхивая ножки стульев из чешского гарнитура. И весь следующий вечер Портос был один. И все последующие вечера тоже… А в понедельник Портос вдруг категорически отказался сниматься. Сначала он вообще не захотел выходить на съемочную площадку. А затем, подойдя к кинокамере, он поднял заднюю ногу и совершил такой хулиганский поступок, какого не позволяла себе по отношению к киноаппаратуре ни одна собака! Кроткого и послушного Портоса нельзя было узнать. Когда Заозерный пытался погладить его по голове, Портос так рявкнул, что режиссер, отскочив, чуть не повалил юпитер. На Ольгу Михайловну Портос не смотрел и на слова ее не обращал внимания. Никто не мог понять, что случилось с собакой… Расстроенный режиссер отправился перекусить в ближайшую шашлычную. Однако, едва он исчез, Портос вдруг вышел на съемочную площадку и стал перед камерой, всем своим видом показывая, что он готов к съемкам. Обрадованные ассистенты помчались за режиссером. Но как только Заозерный, торопливо дожевывая шашлык, появился на площадке. Портос зарычал и демонстративно улегся, не подчиняясь никаким командам. Лежачая забастовка продолжалась до тех пор, пока вконец издерганный режиссер не пошел к морю освежиться. И снова Портос поднялся, потянулся и. добродушно помахивая хвостом, приготовился к съемкам. И опять помчались за режиссером. Опять прибежал Заозерный. И снова Портос, зарычав, бросился на постановщика. И тут уж всем стало ясно, что пес абсолютно здоров и просто не желает сниматься у Артамона Заозерного. Зарвавшийся, слишком возомнивший о себе пес буквально предъявлял ультиматум: или я, или режиссер. Это даже было смешно! Наивный Портос не знал, что в кино первый человек — режиссер, и продолжал упорствовать. Прошло еще три дня. Портос стоял на своем. — Будем менять собаку! — решительно сказал Заозерный. — Как это менять? — строго спросил директор. — С Портосом уже отснято три четверти фильма! — Неважно! Собака не актер. Найдите второго такого же Портоса. — Что значит «найдите»? Вы же сами требовали подобрать вам необычную собаку. Я вам подобрал. И вы прекрасно знали, что второго Портоса не существует в природе! Так что постарайтесь наладить с ним отношения! В конце концов, режиссер должен уметь работать с творческими кадрами! Прошло еще пять дней. Пядь съемочных дней! Заозерный пытался честно работать с кадрами. Он говорил Портосу такие неуклюжие комплименты, что даже осветители краснели. Он пытался найти с ним общий язык с помощью краковской полукопченой колбасы. Он старался восстановить с Портосом творческие контакты, выклянчивая для этого в ресторане сахарные кости. Но Портос бросался на режиссера с такой яростью, что Заозерный стал бояться съемочной площадки. А время шло. А график катастрофически срывался. А выхода не было. И Портос победил! Артамона Заозерного от картины отстранили и доснимать фильм «На большой дороге» поручили другому — молодому и талантливому. Так собака, можно сказать, съела режиссера. Представляете? Ну, если бы хоть лев съел — все-таки царь зверей… А то ведь друг человека — собака. Как обидно должно быть режиссеру! А ведь, с другой стороны, в первом варианте сценария никакой собаки не было. И во втором не было. И в седьмом. Так что собаку, которая его съела, режиссер выдумал сам. И никто, кроме него, не виноват! А Портоса, к сожалению, в кино больше не снимают. Хоть он и талантливый, и умный, но уж очень неуступчивый!ОДНАЖДЫ УТРОМ
Когда юрисконсульт Антон Филимонович Пестриков неожиданно обнаружил, что умеет летать, он просто растерялся. Как человек современный, он твердо знал, что этого не может быть. Первый раз он поднялся в воздух ранним летним утром, когда, как обычно, делал зарядку и, расставив ноги на ширину плеч, под вежливо-бодрые команды радио мерно поднимал и опускал руки… Он поднимал и опускал руки, разглядывая в зеркальной дверце шкафа свою не слишком спортивную фигуру… И вдруг зеркало медленно поплыло куда-то вниз, и Пестриков стукнулся головой о потолок. Оттолкнувшись головой от потолка, он плавно опустился на пол, отчаянно замахав руками, снова взмыл вверх и увидел, что в зеркале отражаются только его худые волосатые ноги. — Я летаю! — изумленно пискнул Антон Филимонович. Легко перейдя из вертикального положения в горизонтальное, он торжественно и тихо поплыл над неприбран-ной тахтой, над телевизором, над письменным столом и полированной гладью шкафа… Вначале потрясенный юрисконсульт летал только по своей комнате, паря под потолком и описывая неправильные эллипсы вокруг польской люстры. Комната холостяка выглядела сверху необычно и странно. Затем Пестриков, сообразив, что его соседи по квартире уже ушли на работу, выпорхнул в коридор. Он облетел кухню, покружился в местах общего пользования, присел на холодильник и, с трудом развернувшись в малогабаритной передней, бочком влетел в свою комнату и спланировал на тахту. Да, черт возьми, он умел летать! Умел летать! Однако пока он увлекался полетами, время шло. и, взглянув на часы, Антон Филимонович стал поспешно собираться на работу. Доедая бутерброд с диетической колбасой, Пестриков еще раз облетел люстру, приземлился и, схватив папку, побежал в управление. В течение рабочего дня юрисконсульт раз двадцать запирался в кабинете, чтобы снова и снова проверить, не разучился ли он летать. К счастью, все было в порядке, и однажды он даже чуть не вылетел в распахнутое окно. А вечером соседи, как назло, были дома, и обладателю феноменальных способностей пришлось ограничить летную зону своей небольшой комнатой. Но ему уже надоело порхать на своих пятнадцати квадратных метрах. Ему уже были тесны просторы жилплощади. Его звало открытое небо, влекла бездонная синева, манили заветные дали. Едва дождавшись выходного дня, Пестриков отправился за город и отыскал в лесу безлюдную поляну. Прищурясь, взглянул он на бегущие в небе светлые облака, плавно взмахнул руками и взлетел. Вот уже верхушки берез и сосен остались внизу, а юрисконсульт все поднимался, поднимался… Какие-то птички пролетели под ним и. испуганно свистнув, бросились в сторону. Никогда еще за все тридцать пять лет Пестриков не чувствовал себя так хорошо и уверенно. Он нырял, кувыркался, проделывал фигуры высшего пилотажа, а из карманов его сыпались мелкие деньги, папиросы и старые троллейбусные билеты. — Господи, — взволнованно думал Антон Филимонович. — Я умею летать! Я летаю! И пусть я не знаю, каким образом это у меня получается, — все равно я счастлив! И если даже чудо окажется недолговременным и я разучусь летать так же неожиданно, как научился, — все равно я буду считать себя счастливейшим человеком, потому что… Однако додумать эту красивую и благородную мысль Пестриков не успел. Другая мысль, внезапная и страшная, мгновенно заставила его замахать всеми четырьмя конечностями и стремительно пойти на посадку. Снижаясь, он зацепился за какую-то ветку, шарахнулся в сторону и приземлился прямо в крапиву. А испугало Антона Филимоновича простое и не лишенное рационального зерна предположение. Ведь если он может разучиться летать так же неожиданно, как научился, то не исключено, что это произойдет именно тогда, когда он будет в воздухе. И ничто не спасет его от верной гибели. Вот о чем подумал Антон Филимонович, кружась высоко над землей. И, даже благополучно выбравшись из крапивы. он долго не мог оправиться от испуга и поверить, что все обошлось. Почистив пиджак, Антон Филимонович отправился на станцию. Больше он вне комнаты не летал. Да и в комнате, для вящей безопасности, он кружил только над тахтой. Или в крайнем случае над шкафом, если нужно было вытереть пыль. Правда, в глубине души Пестриков надеялся, что когда-нибудь в неопределенном будущем он еще взлетит в небеса. И нередко с замиранием сердца он представлял себе этот полет, это свободное и гордое парение, надежно застрахованное от неприятностей. И не об этом ли думал Антон Филимонович в тот раз, когда, мечтательно глядя в небо, он шел по улице и, поскользнувшись на арбузной корке, вдруг упал. Нет, нет, Пестриков не погиб. Он даже не очень ушибся. Но после этого трагического падения Антон Филимонович навсегда утратил свою замечательную способность летать. Теперь он часто грустит о своих былых возможностях. Грусть эта приятна и элегична. А иногда ему снится, что он снова летит, летит… И он вздрагивает во сне.ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПОЛУЧКИ
Николай Терентьевич, или попросту — дядя Коля, был человеком порядочным. На чужое он не зарился, и если что брал, то лишь потому, что горела душа и погасить огонь могла только бормотуха (1 р. 12 к. с посудой). Сегодня Николаю Терентьевичу подфартило: кто-то зазевался, кто-то недоглядел, и дядя Коля угнал из депо, где он работал, паровоз. Он отогнал его километров за пять, поставил в тупичок, где рельсы почти скрывались в зарослях пыльного лопуха, и стал ждать: авось набежит покупатель. Первым подошел случайный прохожий. — Что стоишь? — Паровоз продаю. — Сколько просишь? — А сколько дашь? — Твоя вещь — твоя и цена. — Отдам недорого, — заверил дядя Коля. — Лишнего не возьму. — Я б купил. Только сегодня у меня ни копейки, — честно признался прохожий. — Три дня до получки… — После получки у меня у самого гроши будут! — вздохнул дядя Коля. — Значит, не возьмешь? — Сегодня — никак. — Тогда об чем толковать… И прохожий побрел дальше. Потом к паровозу подошла женщина. В руках она не ела тяжелые сумки, да еще на спине у нее был прилажен туристский, туго набитый то ли яблоками, то ли картошкой рюкзак. — Слышь, машинист! — окликнула женщина. — Ты меня подвезешь? — Не… — покачал головой дядя Коля. — Я в другую сторону еду. — Да мне тут рядом, на станцию. Я тебе рубь заплачу. Рубль, конечно, дело соблазнительное, скинуться можно. Однако на станцию ехать дядя Коля не рискнул. — Не… — повторил он. — На станцию мне сейчас не с руки. Другим разом. Женщина подняла увесистые сумки и скрылась в редком ельнике. Николай Терентьевич, прислонившись спиной к паровозу, задумался, представляя себе текущую в стакан бормотуху. Мимо в разбитых сапогах, мятом пиджаке и соломенной шляпе шел старик. За ним на веревке трусила коза. Ни старик, ни коза не обращали на паровоз ни малейшего внимания. — Эй, дед! — крикнул дядя Коля; старик остановился. — Закурить не найдется? — Не курю. — Ну тогда купи паровоз. Старик подошел поближе: — А почем он у тебя? — А сколько дашь? — Да откуда ж я знаю, почем теперь паровозы? Ты сколько просишь? Дядя Коля, боясь прогадать, от прямого ответа ушел. — Деньги нужны, — сказал он. — А то б сам катался. Он знаешь как бегает! Старик привязал козу к поручням и медленно, приглядываясь. обошел вокруг машины, время от времени стукая кулачком по теплому железу. — Хорошая вещь, — определил он. — Крепкая. Только мне она вроде как без надобности. Вот если б ты мне вагон предложил, это да! — Можно и вагон, — сказал на всякий случай дядя Коля. — Тебе какой — товарный или пассажирский? — Мне лучше пассажирский. Купейный. Но не мягкий. Я из него на участке дом для дачников сделал бы. В каждом купе комната. Тут тебе и койки, и столик — что еще дачнику нужно. И туалеты опять же есть. — Правильно придумал! — одобрил идею дядя Коля. — И вагон я тебе пригоню. Только, сам понимаешь, нужен задаток. Конечно, Николай Терентьевич хорошо знал, что вагона он не достанет, у них в депо вообще вагонов не было. И в то же время дядя Коля искренне верил в то. что каким-то образом покупателя он не обманет, задаток не зажилит и вагон пригонит. Совесть его знала, что вагона не будет, но горевшая душа заверяла стыдливую совесть, что все устроится. уладится, и главное — успеть до закрытия магазина. — Задаток тебе полагается, — согласился старик. — Как же без задатка? Только я сначала с женой посоветоваться должен. — А долго советоваться будешь? — приуныл дядя Коля. — Спешить в таких делах нельзя, — рассудительно ответил старик, отвязал козу и пошел своей дорогой. Дядя Коля понял, что хитрый мужичок ему не поверил, однако не обиделся, а только заскучал и прикрыл глаза. — Твой паровоз? — услыхал Николай Терентьевич. Перед ним стоял высокий широкоплечий парень в яркой рубахе с иностранными надписями. — А что? — осторожно спросил дядя Коля. — А ничего, интересуюсь: твой или нет? — А если мой? — Продай уголь, — попросил парень. Такой вариант частичной продажи имущества Николай Терентьевич не предусмотрел и растерялся. — Отдельно уголь не продаем. Бери вместе с паровозом. — Да на кой мне твой паровоз? Мне уголь нужен. — А куда я с паровозом без угля денусь? — Ну, значит, не сговорились… — Парень явно собирался уходить. — Погоди, погоди, — остановил его дядя Коля. — Ты ж не понимаешь. Я ж тебе, чудак человек, за те же деньги все отдаю. — То есть как? — Раз ты покупаешь уголь, я тебе паровоз бесплатно в придачу даю! Но покупатель попался несговорчивый. — Уголь возьму, а паровоз — не надо. — Черт с тобой, бери без паровоза, где наше не пропадало! — Сейчас грузовик подгоню и деньги привезу, — поспешно согласился покупатель и побежал в сторону деревни. Дядя Коля хлопнул в ладоши и довольно потер руки. До закрытия магазина было далеко, все складывалось в лучшем виде! Но тут за ельником показалась бегущая по рельсам дрезина. Дядя Коля в сердцах сплюнул, крепко высказался и приуныл… Дрезина подъехала, и с нее соскочили два человека. — Вот он. Иван Иваныч! — закричал вахтер Крючкин. подбегая к паровозу. — Я ж говорил, что он его сюда загонит. — Что уж, рабочему человеку и покататься нельзя? — попытался выкрутиться дядя Коля. — Ты мне зубы не заговаривай — покататься! — погрозил ему пальцем вахтер. — Ни на минуту отвернуться нельзя. — Да, Николай Терентьевич, пеняй на себя! — строго сказал Иван Иванович. — Не видать тебе премии в этом месяце, да еще выговор закатим! И дядя Коля, чертыхаясь, погнал паровоз обратно в депо. Паровоз жалобно гудел. Душа горела.ФОРТУНА
Жизнь любит делать неожиданные повороты. И никогда не знаешь, в какой день произойдет тот решительный случай, который изменит всю твою судьбу, и что нужно делать. чтобы случай этот не упустить. Скажу больше — вот она идет навстречу, твоя фортуна, а ты как раз в эту минуту отвернулся и читаешь вывешенную на стенде «Вечерку». И в результате фортуна проходит мимо, с тем чтобы уже больше никогда с тобой не встретиться. Вот, к примеру, зайди дядя Кока в магазин «Пиво — воды» на полчаса раньше — и все. Не случилось бы с ним всех тех незаурядных событий. которые в дальнейшем наполнили его замечательную жизнь. Впрочем, честно говоря, это я только к слову сказал: «Зайди дядя Кока в магазин раньше — и все»… С дядей Кокой этого случиться не могло, потому что он ежедневно околачивался в этом магазине с самой первой минуты его открытия до 19.00. И ходил ли он домой, когда магазин закрывали на обеденный перерыв, неизвестно. Во всяком случае, когда «Пиво — воды» открывались после перерыва — дядя Кока был уже там. И не потому, что у него горела душа и требовала сию же секунду залить ее трепещущий пламень тыквенной мадерой или морковным хересом. Нет, дядя Кока просто не представлял себе своего существования нигде, кроме этого тесного, заставленного ящиками из-под тары помещения. Здесь он общался, грелся, заводил знакомства, обмывал и большей частью оставлял свою законную пенсию. А те дни. когда магазин был выходным или закрывался по случаю переучета, такие дни были для дяди Коки самыми тяжелыми и бессмысленными. Он забивал «козла», резался в подкидного, пробовал пить в домашней обстановке — но все это было не то. ох, не то! «Паллиатив!» — как сказал бы Сергей Петрович, если бы был жив. Дядя Кока весьма ценил знакомство с этим высокообразованным человеком. Да. кого только не встретишь в этом магазине, с кем только не покалякаешь и о каких диковинах не наслушаешься. «Школа жизни!» — как сказал бы все тот же Сергей Петрович, если бы, разумеется, был жив. Магазин был небольшим, можно даже сказать — маленьким. И если почему-либо образовывалась очередь, в помещении могло утрамбоваться не более сорока трех человек. Продавщица Варвара Михайловна, которую никто (кроме покойного Сергея Петровича) Варварой Михайловной не звал, а звали Варей, Варенькой, а то и просто Варюшей, — так вот эта продавщица была зычной, острой на слово и принципиальной в решениях. Отпускала товар она споро, а обсчитывала по-божески. И хороший человек всегда мог рассчитывать на то, что у Вареньки-Варюхи всегда найдется для него то, что не найдется для нехорошего: и в жаркий день пиво, и в холодный водочка, и в любое время «Гранатовка». О «Гранатовке». Вино это получило свое оригинальное название исключительно из-за разрывного сходства с вышеназванным боевым снарядом. И человек, впервые хвативший стакан этой взрывчатой смеси, мог по неопытности вполне решить, что заглотал гранату и та произвела у него внутри соответствующие разрушительные действия. Закуски «Гранатовка» не требовала, двух стаканов ее хватало на вечер, а разрушенный ею организм вполне восстанавливался всего через неделю. Дядя Кока «Гранатовку» не уважал, может быть, потому. что любил жизнь. Но смотреть, как другие пьют этот нектар, не отказывался. Неизвестно, замечала ли раньше Варвара Михайловна этого расторопного старичка или он просто попался ей на глаза в подходящий счастливый момент, но только однажды без десяти минут семь (а магазин закрывался ровно в семь) Варвара сказала: — Эй, дедусь, стань в дверях и никого больше не пускай, а то у меня вон еще какая очередь! Что ж. я с ними до утра чикаться буду? Дядя Кока послушно стал в дверях и начал нести службу. Он. конечно, не понял, какое счастье свалилось на него. как фортуна повернулась к нему и подошла так близко, что можно было разглядеть добрую улыбку на ее благородном лице. Впрочем, ему было не до фортуны: он нес службу. Сначала каждому подходившему он вежливо и несколько даже смущаясь объяснял, что в магазин, к сожалению. пустить его не может, потому что магазин, к сожалению, закрыт. Но подходившие все больше наседали, грозя снести маломощную преграду. Тогда дядя Кока поднатужился, захлопнул дверь и закрыл на массивную задвижку. Там, за стеклом, понуро стояли опоздавшие, и дядя Кока в глубине души даже жалел их, ведь теперь им аж до завтра маяться, но впустить их в магазин он не решался. У него даже мысли такой кощунственной не возникало ослушаться продавщицы. Приказ есть приказ. Не он его придумал. не ему отменять его. И тут, как назло, дядя Кока увидел за дверью своего стародавнего соседа и собутыльника Сан Саныча. Тот стоял, приплюснувшись носом к стеклу, и с безмолвной тайной надеждой смотрел на приятеля. В руках у него болталась авоська с двумя пустыми бутылками, а глаза, как сказал бы покойный Сергей Петрович, буквально гипнотизировали всемогущего дядю Коку. И тот не выдержал: то ли под влиянием гипноза, то ли под воздействием совести он на мгновение приоткрыл двери и, дернув за рукав, втащил Сан Саныча в помещение. Этот впереди этого стоял, пояснил он Варваре. Толпа за дверью недовольно заворчала, но тут же смолкла. Каждый надеялся, что, если быть послушным, дядя Кока может и тебя впустить в магазин, а начнешь права качать, так уж наверняка за дверью останешься! Так дядя Кока, которого вдруг стали величать Николай Александровичем, впервые в жизни почувствовал, что в его власти находятся судьбы посторонних людей: кого захочет, впустит за пять минут до закрытия, а кого не захочет, и за десять до закрытия не впустит. Не впустит, и все, и иди ищи на него управу! Вернее, управа была — Варя, Варвара Михайловна. Но она стояла за прилавком, а дядя Кока у дверей, и между ними было не меньше восьми метров. Тех, которые были с покупками, верный страж беспрепятственно выпускал, а тех, кто шел за покупками, не впускал. А если шибко нагло начинали барабанить в дверь, Варвара зычным криком, слышным во всем микрорайоне, наводила порядок, и на улице смолкали. — Ну, спасибо, дедуся, помог ты мне, — сказала продавщица, когда стали закрывать магазин. — Ловко ты с ними справлялся! — Так я… пожалуйста… — Дядя Кока даже смутился. — Мне без трудов… И на следующий день ровно без десяти семь дядя Кока, весь день топтавшийся в магазине, подошел к Варваре и тихо спросил: — Ну что, будем закрывать? Время. — Время, время, — согласилась продавщица. — Ты давай, дедусь, действуй! — От зорких глаз Вари не укрылось, что дедуся был как-то торжественно подтянут и даже выбрит. А дядя Кока плотно прикрыл двери и закрыл задвижку, не обращая внимания на какого-то гражданина с портфелем, пытавшегося морально воздействовать сквозь стекло на неумолимого дедушку. Он даже показал ему рубль. Но дядя Кока был неподкупен. И, чтобы продемонстрировать свою неподкупность, он, увидев за стеклом тощую мающуюся личность, вдруг открыл двери и тощую личность в магазин впустил, а того, с портфелем, оставил на улице. Пусть знает, как денежными знаками размахивать. На третий день дядя Кока уже без всяких согласований с продавщицей точно в назначенное время закрыл двери. И когда кто-нибудь из запоздавших пытался барабанить в стекло, дядя Кока отворачивал правый рукав и тыкал в то место на запястье, где должны были находиться часы. Конечно, если бы часики и вправду находились там, где им было положено, разговор был бы посолидней. Но опоздавшие и так прекрасно понимали скупой жест дядя Коки и. кляня свой несчастный жребий, не сопротивлялись. И в жизни дяди Коки стали происходить маленькие, но весьма знаменательные перемены. Зашел он как-то в мясной магазин ливерной колбаской побаловаться. Очередь кружилась по залу, и опытным взглядом дядя Кока определил, что стоять ему тут минут сорок. Однако какой-то незнакомый молодой человек в яркой куртке и еще более ярком свитере сказал ему: — Причаливай, батя, к прилавку. — И пояснил стоявшим рядом: — Это тот, который в «Пиво — водах» в дверях дежурит. Давай, отец, не стесняйся! И дядя Кока понял, что у него появился новый статус. И та позиция у дверей «Пиво — воды», которую он ежедневно занимает в течение десяти минут. — очень заметная позиция в масштабах микрорайона. И, в общем, как сказал бы Сергей Петрович, наступил его звездный час. Теперь на улице с дядей Кокой здоровались совершенно незнакомые ему люди. Грузчики из овощного магазина подбрасывали ему свеженькой зелени, продавец из молочного оставлял для него творог, а домовой электрик Саша ни с того ни с сего пришел и исправил дяде Коке дверной звонок. Откуда Саша прознал, что звонок сломался, дядя Кока ни сном ни духом не ведал и в домоуправление на испорченный звонок не жаловался по причине своей исключительной занятости в магазине. Но. видимо, во время какой-нибудь задушевной беседы с каким-нибудь посторонним человеком дядя Кока обмолвился, что жизнь, конечно, штука хорошая, но дверные звонки все-таки еще ломаются. А тот, задушевный, возьми да и передай эти слова еще кому-нибудь. И дошло это дело до самого домоуправа, мол, у того, который стоит в дверях «Пиво — воды», звонок не работает. Нехорошо получается. И послал к нему домоуправ электрика. И электрик все исправил, а от денег наотрез отказался, видно, дядя Кока уже понемногу входил в те круги, где не деньги главное… Да и сам электрик понимал, что стоит дядя Кока на таком месте, где не раз еще сможет пригодиться без двух минут семь. Так что спасибо испорченному звонку за то, что свел их! С новым общественным поручением дядя Кока справлялся хорошо и с достоинством. Другой стал бы на его месте авторитет свой тешить или, скажем, двери на три минуты раньше положенного закрывать. Дядя Кока себе этого не позволял. А что позволял, так это разок-другой пропустить своих закадычных товарищей в магазин тогда, когда для незакадычных вход был уже строго-настрого заказан. Но и тут он знал строгую меру и понимал, что сегодня лишних впустишь, а завтра авторитет потеряешь. Большую борьбу вел дядя Крка среди себя и в отношении среднедопустимой нормы. Ведь теперь каждый рад был бы поднести ему. Но дядя Кока свою норму знал, и если нарушал, то знал, что нарушает. Он и прежде никогда не жадничал и, как верно говорил Сергей Петрович, больше любил обмен информацией во время виновозлияния, чем сам процесс принятия спиртного. Теперь же, когда он мог пить столько, сколько принимала душа, и даже вдвое больше, — теперь ему следовало быть еще осторожней. Но он боялся показаться недемократичным и, когда ему подносили, долго отказывался, прося войти в его положение и печень. Однако дружки настаивали. И однажды случилось так, что очнулся дядя Кока там. Уде ни разу до этого не был. И, мало того, оказалось, что теперь ему предстоит двухнедельная разлука с родными «Пиво — водами». И когда наконец минули эти тянувшиеся, словно годы, денечки и когда, умывшись и приодевшись, пришел дядя Кока в свое ненаглядное помещение, то выяснилось самое неприятное: оказалось, что двери без десяти семь закрывает теперь другой человек по имени дядя Кузя. И Варвара кивнула дяде Коке так равнодушно, будто знала его только как потребителя тыквенной мадеры или морковного хереса, так, будто между ними никогда не было никаких интимно-производственных интересов и не он, как верный рыцарь или участковый милиционер, ограждал вход в магазин от 18.50 до 19.00. Да, быстро проходит глория мунди, то есть мирская слава, как сказал бы Сергей Петрович. И не здороваются теперь с дядей Кокой незнакомые на улице, и не уступают ему очереди. А электрический звонок как опять испортился, так с тех пор висит нечиненый. И вряд ли его когда-нибудь починят. Ох. вряд ли! Потому что к человеку не может прийти два раза в жизни такая слава, какую пришлось изведать дяде Коке. А в «Пиво — воды» он теперь не ходит. Уж слишком много воспоминаний связано у него с этим местом… Слишком много!БЕЗМОЛВНЫЙ РАЗГОВОР
Когда люди долго живут вместе, они начинают понимать друг друга с полуслова, с полужеста, с полувздоха… — Я ХОЧУ ЕСТЬ, — сказал муж, как бы говоря, что он умирает от голода и, в конце концов, имеет право хотя бы в выходной день нормально позавтракать. — В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, — сказала жена, как бы говоря, что она так же, как и муж, каждый день ходит на работу и имеет, в конце концов, право на законный отдых. — ТАМ ОДНИ ПЕЛЬМЕНИ, — сказал муж, как бы намекая, что он и так круглосуточно питается этим традиционным блюдом сибиряков и младших научных сотрудников. — СВАРИ. — равнодушно предложила жена, как бы говоря. что она и так кончает работу в половине седьмого и добирается домой с двумя пересадками, и если ей при этом ходить еще по магазинам и искать для мужа всякие деликатесы, то… — А ЯИЦ НЕТ? — ворчливо спросил муж, как бы напоминая, что он и так помогает жене по хозяйству и дверной замок отрегулировал, и шуруп ввинтил, и бачок починил, и вообще… Уж не хочет ли она. чтобы он за нее готовил завтраки и обеды? — ЯЙЦА КОНЧИЛИСЬ, — подчеркнуто спокойно ответила жена, как бы давая понять, что если у него появилась такая гастрономическая прихоть и ему захотелось яичницы. пусть оденется и сходит в магазин, а по дороге сдаст молочные бутылки, которые загромоздили уже всю кухню. И заодно, кстати, пусть чего-нибудь к чаю купит, — только если будет брать торт, пусть выберет песочный, без крема. Однако мужу выходить из дому не хотелось. Он сделал вид, будто не понял насчет бутылок и торта, а затем полистал газету и сказал: — СЕГОДНЯ В ЛУЖНИКАХ ФУТБОЛ. Но жена даже не поинтересовалась, кто играет, и продолжала медленно расчесывать волосы, как бы настаивая на том, что сначала ему все-таки придется сдать бутылки, а уж потом думать о развлечениях. — БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ, — подчеркнул муж так, что любому стало быясно, что бутылки он сдаст только в следующий выходной, а за тортом не пойдет вообще. — А МНЕ ЗА ОПОЗДАНИЯ ВЫГОВОР ВЛЕПИЛИ, ТЕПЕРЬ ПРЕМИИ НЕ БУДЕТ, — сообщила вдруг жена, как бы желая сказать, что ей за опоздание влепили выговор и теперь у нее не будет премии. — ПОРАНЬШЕ НА РАБОТУ ВЫХОДИ. — ехидно посоветовал муж, как бы говоря, что нечего, мол, по утрам вертеться перед зеркалом и наводить глянец. В конце концов, не в театр идет. А если ей хочется выглядеть покрасивей для этого кретина Тряпушкина, то он. муж, не виноват. Жена ничего не ответила, как бы говоря, что если ему хочется верить всяким дурацким сплетням — это его личное дело. Потом она, поджав губы, поглядела в окно, и муж понял, что ей известно о его романе с Шурочкой. А поскольку пауза зловеще затягивалась, то он заподозрил, что о Зиночке жена знает тоже. Это уж было ни к чему. — СХОЖУ В ГАСТРОНОМ! — сказал он, как бы торжественно заверяя, что на первом месте для него семейные дела, а уж потом футбол и всякое такое. — ЕСЛИ ХОЧЕШЬ. СХОДИ, — согласилась жена, и ему стало ясно, что о Зине и Шуре она ничего не знает, а вот о Наташе, пожалуй, догадывается. — А К ЧАЮ ЧЕГО-НИБУДЬ КУПИТЬ? — осторожно спросил он. пытаясь выяснить, откуда жена могла узнать о Наташе. — КУПИ ТОРГ. НО БЕЗ КРЕМА. — попросила жена, и муж понял, что ее проинформировала обо всем Раскукуева. Ну, конечно, она. Только спокойно, фактов у Раскукуевой никаких нет, одни догадки. Так что важно вовремя рассеять подозрения жены — и все. — СДАМ-КА Я ЗАОДНО БУТЫЛКИ, А ТО ОНИ ВСЮ КУХНЮ ЗАГРОМОЗДИЛИ, — сказал, не подумав, муж и тут же, едва взглянув на жену, понял, что непоправимо проговорился! И жена поняла, что он понял. И он понял, что она поняла, что он понял… Ох, как это сложно и опасно, когда люди хорошо понимают друг друга!СДЕЛКА
В начале уикэнда или, как говорится, в пятницу вечером, у Рукавицына зазвонил телефон. Сергей нехотя оторвался от разложенных на столе чертежей. Звонил его приятель из конструкторского — Костя Лумокошин. — Отец, я в тоске! — деловито сообщил он. — Приезжай. надо чего-нибудь придумать. — Не могу. Очень хотел бы, но не могу… — Рукавицын пытался придать голосу глубокое сожаление. — Рандеву? — заинтересовался Лумокошин. — Если бы! — Сергей отвечал кратко, чтобы поскорее кончить ненужный разговор. — Дела у меня… Серьезно… — Ну какие могут быть серьезные дела в пятницу вечером? Хватай такси. — Занят я, можешь ты это понять? — Не могу! Твой друг в тоске, твой друг в печали, он не знает, как убить время, а ты… Он продолжал канючить, но Сергей не слушал его: у него возникла одна любопытная идея… — Послушай. Лумокошин, — осторожно начал Рукавицын. — Ты действительно хотел бы как-нибудь убить время? — А что? — оживился Костя. — Есть идеи? — Есть. Зачем тебе убивать время? Ты лучше продай его мне. — То есть как продать? — не понял Костя. — Очень просто: ты мне продаешь, скажем, десять часов. а я тебе плачу десять рублей. — Пятнадцать! — не растерялся Лумокошин. — Спекулянт! — Хочешь купить дешевле — покупай в магазине. — Ну ладно, пусть будет пятнадцать. Только время завезешь мне домой. Завтра утром. — А деньги когда отдашь? — Из первой зарплаты. Так состоялась эта странная сделка. Костя вручил Рукавицыну десять часов того самого времени, которое собирался убить, а Сергей отдал Лумокошину пятнадцать рублей, и тот побежал рассказывать всем знакомым, какой лопух Рукавицын. Через месяц сделка повторилась. Сергею зачем-то требовалось все больше и больше времени, а у Лумокошина и на службе было много лишнего времени, и дома, и он все равно не знал, что с ним делать… Так что в общей сложности он продал Сергею около ста часов. А спустя год оказалось, что Рукавицын потихоньку чего-то там такое изобрел, получил, представьте, патент и, глядишь, еще чего доброго заработает кучу денег! Все поздравляли Сергея и не понимали, когда он успел сделать такое важное изобретение: ведь не на работе же, в самом деле. — Дома по вечерам сидел, — объяснил Рукавицын: — По субботам и воскресеньям работал… Но, конечно, времени не хватало… И тогда Лумокошин понял, зачем Сергей покупал у него время. Понял и страшно обиделся, потому что получалось, что на свое изобретение Сергей почем попало тратил его. Костино, время. И может, эти купленные по дешевке минуты и часы в результате были звездными часами Рукавицына и как раз в это, лумокошинское, время Рукавицы-на посещали самые блестящие идеи! Выходило, что он. Костя Лумокошин. просто батрачил на бездарного Рукавицына, и тот нещадно эксплуатировал его незаурядные интеллектуальные способности, платя ему какие-то жалкие гроши! Да бесправные негры в Южно-Африканской Республике получают больше, чем Костя, человек с высшим образованием, получал у сквалыги Рукавицына! И куда смотрел местком? Почему вовремя не осудил этой потогонной системы? Ведь Лумокошин отдавал Рукавицыну свое время и в будни и в праздники. И можно с уверенностью сказать, не будь у Сергея Костиного времени, никогда бы ему не довести своего изобретения до конца. Да и принадлежит ли это изобретение Рукавицыну, если говорить по совести? Разве не является его истинным автором или хотя бы соавтором Константин Лумокошин? Лумокошин пытался по-хорошему договориться с Сергеем… Лумокошин ходил в местком, партком и суд… Но правды Лумокошин не нашел нигде! — Да, — горько восклицал обиженный. — Вот после этого и делай людям добро! И с тех пор Костя никому не уступает свободного времени, а просто убивает его — и все!КОНКУРЕНТЫ
Николай Севастьянович, юркий старичок, известный в своем, прилегающем к «Гастроному», микрорайоне под именем дяди Коли, имел маленький, но верный бизнес. Впрочем, дядя Коля и слов-то таких нехороших, как бизнес, не знал и называл свое занятие «обслугой». Для того, чем занимался этот дедушка, требовалось помещение. И оно у дяди Коли имелось, если продуваемую сквозняками подворотню можно было хотя бы условно назвать помещением. Находилась подворотня рядом с «Гастрономом № 2». и в том было ее основное достоинство. Желающие распить в компании бутылочку «Солнцедара» или «Перцовки» брали эту бутылочку в магазине и тихо сворачивали в подворотню. Но не в любую, а именно к дяде Коле. Потому что в другой подворотне им пришлось бы пить прямо из горла, а дядя Коля любезно одалживал своим клиентам алюминиевую кружку. И в благодарность за такую заботу посетители оставляли старичку пустую стеклотару. За рабочий день бутылок набиралось штук тридцать. и вырученные за них деньги составляли чистый доход фирмы. Вернее, не совсем чистый: какую-то часть его приходилось тратить на покупку нового инвентаря. Так, например, однажды дядя Коля недоглядел и подгулявшая клиентура увела у него кружку. Предприниматель обзавелся новой кружкой, но уж теперь, будучи ученым, держал ее на железной цепочке, прикрепленной к широкому поясу, каким пользуются верхолазы. Пояс этот хитрый старичок никогда не снимал, так что новую кружку можно было унести только вместе с дядей Колей. Такое нововведение, разумеется, стоило денег, но вскоре расходы на покупку кружки, цепочки и пояса окупились. Дело процветало, и шустрый старичок стал даже подумывать о приобретении второй кружки… Однако тут случилось непредвиденное: у дяди Коли появился конкурент! Впрочем, бесхитростный дед и таких нехороших слов, как конкурент, тоже не знал и называл соперника попросту ворюгой и сукиным сыном. И его можно было понять. Этот сукин сын и ворюга украл его идею и открыл свое собственное дело в такой же точно подворотне, но только не справа от «Гастронома», а слева. Звали этого ворюгу Филиппычем. А кроме алюминиевой кружки этот сукин сын давал закусывающим ножик и вилку… И все это без дополнительной платы, за ту же пустую тару! Дядя Коля помрачнел и тоже обзавелся перочинным ножом. Однако выяснилось немаловажное обстоятельство: у старичка инвентарь был приклепан к коротким цепочкам, а у Филиппыча — к длинным, что позволяло конкуренту стоять подальше от выпивающих и не мозолить глаза интимно закусывающим. Дядя Коля не пожалел денег и тоже удлинил цепочки. Но сукин сын Филиппыч. узнав об этом, совсем отказался от цепей и таким благородным поступком сразу привлек сердца граждан. Клиентура явно начала переметываться к Филиппычу. Тем более что с ним можно было потолковать о футболе, о фигурном катании, о положении в Южной Африке и Северной Родезии… А дядя Коля ни в чем таком не разбирался и здорово проигрывал в сравнении со своим всесторонне образованным конкурентом. Да и уютней как-то было в подворотне Филиппыча, поскольку на стенах он со вкусом развесил плакаты типа «Приобретайте билеты денежно-вещевой лотереи» или «Нет, не зря говорят: алкоголь — это яд!». Красочные плакаты радовали глаз. А комфорт и уют, как известно, имеют в сфере обслуживания непреходящее значение. Лишенный художественного вкуса первооткрыватель выгодного бизнеса дядя Коля помрачнел, призадумался… И то ли сам он надумал, то ли кто подсказал ему. но в один прекрасный день у него в подворотне вдруг появился транзисторный приемник и запел массовые песни, заиграл полонезы да симфонии и стал оглашать стихи современных поэтов. С этого дня клиенты дяди Коли уже не просто выпивали. а как бы приобщались к культуре и уходили, завороженные звуками песен, симфоний и нежной гражданской лирики. Пришла пора призадуматься Филиппычу. И что же? Этот опасный и башковитый конкурент сделал совершенно неожиданный ход. Он закупил партию каспийских килек — шесть банок, — и теперь желающие могли закусить кружку какого-нибудь ликера аппетитной килечкой. Битва в каменных джунглях подворотен разгоралась. Клиентура с неослабевающим интересом следила за боевыми действиями конкурентов. Дядя Коля крякнул и засолил бочку огурцов. Филиппыч не растерялся и предложил посетителям свое фирменное блюдо: селедочку с картошкой. Дядя Коля принес в подворотню зеленый лучок и другие богатые витаминами овощи. Филиппыч пораскинул мозгами и открыл для завсегдатаев кредит. Дядя Коля замысловато выразился и притащил взятый напрокат переносной телевизор «Юность». Чтобы посетители могли следить за футбольными баталиями без отрыва от бутылки. Филиппыч дрогнул, но не растерялся и подрядил какого-то лихого гитариста, автора и исполнителя старинных романсов. Беспринципная клиентура оторвалась от телевизора и повалила в подворотню Филиппыча. Дядя Коля обанкротился! И тогда в голове у банкрота созрел безжалостный и коварный план мести. — Ну, ты у меня еще узнаешь, где вирусы зимуют! — пообещал он Филиппычу. И с того дня в ближайшее отделение милиции стали регулярно поступать письма, разоблачающие подворотню Филиппыча как рассадник алкоголизма, инфекций и старинных романсов. Реагируя на сигналы, участковый стал все чаще наведываться в заведение Филиппыча, а дружинники установили там постоянное дежурстве. Так закрылось еще одно доходное предприятие, и разоренный бизнесмен пошел по миру искать другую подворотню. Вот как закончилась эта битва титанов, столь характерная для мира оголтелого бизнеса и не знающей пощады конкуренции. Обе фирмы, сожрав друг друга, перестали существовать! Но не то удивительно, что не вынесли они смертельной междоусобицы. Нет. поразительно то, что какой-то там дядя Коля со своей алюминиевой кружкой на цепочке так долго конкурировал не с одним Филиппычем, но с целым Городским трестом кафе и закусочных! И то интересно, каким образом Филиппыч со своим складным ножиком ухитрялся выдерживать конкуренцию мощного Городского треста ресторанов, у которого имелось все — от запрограммированной электронной техники д эстрадных ансамблей с утвержденной программой. Жизнь полна загадок, и есть над чем подумать пытливым умам. Ох, есть!КАК БУДТО
В нашем учреждении работают в основном серьезные, взрослые люди. Мы делаем в основном необходимое полезное дело, о чем-то всерьез беспокоимся, за что-то отвечаем или, по крайней мере, пытаемся переложить ответственность на других. Короче говоря, мы заняты серьезными взрослыми делами, и дел этих с избытком хватает на полный рабочий день. Но время от времени весь наш коллектив вдруг начинает играть в популярную среди детей дошкольного возраста игру, в которую все мы в далеком прошлом играли. Игра называется «как будто». Помните? Это как будто не скамейка, а магазин. А я как будто продавец. А ты как будто покупатель. А это не камешки, а как будто конфеты. И я их тебе как будто продаю, и ты их как будто ешь. и они как будто вкусные. Невзаправду. Как будто. Понарошку. И обычно эта незамысловатая игра в нашем учреждении начинается с того, что на самом видном месте в коридоре появляется объявление. «Сегодня после работы состоится общее собрание. Явка обязательна». И с этого момента правила игры вступают в действие. Одни сотрудники тотчас заявляют, что они себя как будто плохо чувствуют и спешат в поликлинику. Другие говорят, будто бы у них дома все заболели вирусным гриппом и они торопятся в аптеку. Третьи ничего не говорят и, притворяясь. будто бы идут на собрание, стараются незаметно прошмыгнуть в гардероб. Но председатель месткома Зинаида Васильевна Маломальская клятвенно заверяет, будто бы собрание продлится всего минут тридцать пять — тридцать шесть, и мы, будто бы в это поверив, рассаживаемся по местам. — Для ведения собрания нужно выбрать председателя и секретаря. Какие будут предложения? — спрашивает Маломальская. Спрашивает, как будто заранее неизвестно, что председателем, как всегда, будет Иван Семенович Шумский, а протокол опять придется вести Ниночке Горемыкиной. Ниночка пробует отказаться, как будто не знает, что ей ничего не поможет, говорит, что она медленно пишет. Но все дружно кричат: «Нечего! Нечего! Ничего! Ничего!» И Горемыкина сдается. Слово для доклада предоставляется Маломальской, и Зинаида Васильевна начинает говорить. Строго соблюдая правила игры, она говорит так, как будто еще ни разу не говорила о том же самом и теми же самыми словами… Говорит так, как будто мы сами не знаем, что наряду с достигнутыми успехами в нашей работе имеются отдельные недостатки, как будто нам неизвестно, что надо выполнять взятые на себя обязательства, как будто мы только сейчас узнали, что следует своевременно платить членские взносы и возвращать ссуды, взятые в кассе взаимопомощи. Одним словом. Маломальская говорит так, как будто мы ее внимательно слушаем, и говорит ровно сорок минут. Потом начинаются прения. Вернее, не начинаются, потому что выступать никто не хочет. — Товарищи! Давайте поактивней! — призывает председательствующий. — Мы же сами себя задерживаем. Что же, мы так до утра молчать будем? И тогда у меня не выдерживают нервы, и я иду выступать. Моему примеру следуют еще двое слабонервных. И, помня о правилах игры, мы выступаем так, как будто нам действительно есть что сказать. Говорим мы вместе полчаса. Наш почин подхватывают еще три оратора, и собрание, делая вид. будто первый вопрос уже решен, переходит ко второму. Второй вопрос о стенгазете. Маломальская сообщает нам, как будто мы этого сами не знаем, что наша стенгазета «За отличную работу» выходит всего два раза в год — к майским и ноябрьским праздникам — и это никуда не годится. Стенгазета, должна выходить по меньшей мере два раза, в месяц. — И хорошо бы наладить вечерний выпуск! — выкрикивает с места плановик Марк Твенский. — Не остроумно! — тут же парирует Маломальская. — Товарищи! Мы обсуждаем серьезный вопрос, — поддерживает ее председательствующий. — Шутить будем потом: А сейчас я представляю слово редактору стенгазеты Трубецкому. — Здравствуйте! — обижается Трубецкой. — Почему это я редактор? Меня еще в прошлом году переизбрали. — Да. да. — подтверждает Ниночка Горемыкина. — Я, помню, об этом записывала в протоколе. — А кто же редактор? — Все молчат. — Товарищи, не могла же у нас первомайская газета выйти без редактора. Это же мистика! Кто-то же газету выпустил! После долгих выяснений оказывается, что редактор действительно был — Степан Степанович Тверской-Ямской. Но, сделав последнюю майскую стенгазету, он с чистой совестью и легкой душой ушел на пенсию. А остальная редколлегия отчасти находится в командировке, отчасти — в декретном отпуске. — Но так же нельзя! — ужасается Маломальская. И тут же мы выбираем новую редколлегию. По давно установившейся традиции редколлегия в основном комплектуется из неявившихся на собрание, и поэтому дело обходится без самоотводов. Далее мы единогласно выносим решение, обязывающее редколлегию выпускать газету еженедельно (как будто не знаем, что газета по-прежнему будет выходить два раза в год), и приступаем к третьему вопросу. Обсуждаем недостойное поведение младшего экономиста Привозного, умудрившегося в течение одного месяца дважды побывать в вытрезвителе. — Товарищ Привозной! — говорит Маломальская. — Объясните собранию свое поведение. Привозной — полный, рыхлый человек лет тридцати пяти — встает и, улыбаясь так, будто ему сейчас будут вручать грамоту, басит:. — А что объяснять? По-моему, все и так в этом вопросе хорошо разбираются. — Не вижу ничего смешного, — строго прерывает его председатель, стуча карандашом по графину. — Вы, Привозной, понимаете, что своим поведением позорите весь наш коллектив? Привозной делает вид, будто понимает. Затем снова начинаются прения. Выступают в основном женщины. Но есть и мужчины, один закоренелый трезвенник, один хронический язвенник и два закадычных приятеля Привозного. Последние стараются больше всех. Они так искренне, так гневно бичуют любителя небезалкогольных напитков, как будто сами не пили с ним в недавнем прошлом. Как будто снова не станут чокаться в ближайшем будущем. И Привозной на приятелей не обижается. Он понимает. что они должны были выступить и что это не взаправду, а как будто. Обижается он только на трезвенника. Во-первых, его никто за язык не тянул, мог бы и промолчать. А во-вторых. Привозной твердо убежден, что трезвенник не имеет морального права осуждать его. Не имеет хотя бы потому, что сам не пьет и пить не пробовал. И если бы он, трезвенник, пил, то наверняка стал бы алкоголиком. И, следовательно, его, трезвенника, от вытрезвителя спасает только то, что он не пьет. И пока Привозной мысленно возводил свои сложные логические построения, все желающие отговорили, и обсуждение персонального дела стремительно пошло к финишу. — Я предлагаю вынести товарищу Привозному выговор. И надеюсь, сегодняшняя нелицеприятная критика послужит ему хорошим уроком. Младший экономист старательно всем своим видом показывает, будто послужит. — Я также надеюсь, что у товарища Привозного хватит силы воли взять себя в руки. Ведь не зря весь наш коллектив, — с пафосом восклицает Маломальская, — верит, что Привозной навсегда покончит со своей слабостью! И мы дружно делаем вид, будто действительно верим. — Ну вот, товарищи, как будто бы все! — говорит председатель, и мы торопливо бросаемся к выходу. Не как будто торопливо, а всерьез, взаправду. Мы расходимся так, как будто только так и должно быть на нашем собрании. Как будто не бывает по-другому. По-настоящему. Без всяких «как будто».НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
В субботу в 11.00 на Малой Звездолетной улице у промтоварного магазина № 9 остановился странный человек. В одной руке у него была длинная палка от метлы, в другой — нарисованный на фанерном щите плакат. Странный человек прикрепил к древку плакат, прислонил сооружение к стене и, став рядом, хладнокровно закурил. Через пять минут у плаката начали собираться любознательные прохожие. Спустя еще пять минут из магазина выглянула хорошенькая девушка в синем халате, прочитала транспарант и, презрительно хмыкнув, вернулась в помещение. Затем оттуда выскочил тучный заведующий и попытался вырвать древко плаката из рук незнакомца. Однако, поддержанный прохожими, незнакомец вежливо, но решительно отстранил завмага, и тот с криками «хулиган» и «милиция» побежал в сторону Космической площади. Так началась или, точнее, вступила в решающую фазу одна из самых примечательных историй в жизни инженера Элегия Люблютикова. Нужно сказать, что вообще-то Элегий не был человеком робкого десятка. Скорее — наоборот. Он решительно отстаивал свои технические идеи. Он однажды принципиально раскритиковал на собрании своего директора, а в другой раз спас утопающего, хоть и сам не умел плавать. Короче, Элегия можно было назвать мужественным товарищем. И одного лишь боялся смелый Люблютиков: он боялся продавщиц из промтоварного магазина № 9. Заходя в этот магазин, он как-то преображался. Он сникал, начинал лепетать, заикаться… У него появлялось такое неловкое чувство, будто он, обращаясь со своими пустяковыми делами к продавщицам, отрывает их от чего-то действительно важного и серьезного. А те. угадывая своим профессиональным чутьем, что перед ними покупатель робкий, разговаривали с ним раздраженно или же не разговаривали вообще. Так что Люблютиков никак не мог считаться баловнем торговой сети. Скорее он был ее жертвой. Но он привычно терпел. Терпел до того самого вечера, который предшествовал этой незабываемой субботе. В тот вечер в магазине, куда зашел Элегий, было пусто. Перед прилавком в одиночестве стояла пожилая женщина и с явным нетерпением поглядывала на продавщиц. А они. сойдясь в другом конце магазина, увлеченно слушали самую молодую смазливенькую девчонку. С помощью косметики она была загримирована под светловолосого ангела. Но косметики оказалось многовато, и ангел выглядел слегка падшим. Падший ангел излагал товарищам по работе новый заграничный кинофильм из жизни несчастных миллионеров. Люблютиков видел этот двухсерийный шедевр и, прислушавшись, понял, что рассказчица добралась только до середины. Вздохнув, Элегий собрался терпеливо ждать, прикидывая, не закроется ли магазин еще до окончания второй серии… Однако пожилая покупательница оказалась не столь терпеливой. — Можно вас на минуточку? — сказала она как раз в тот момент, когда одетую в макси с разрезом спереди и без спины миллионершу спасал от гангстеров такой парень, что просто, девочки, закачаешься… — Девушка, можно вас на минуточку? — повторила женщина, в то время как жена миллионера вот в такой золотой пижаме и вот в таких платиновых туфлях на вот такой платформе целовалась с таким ковбоем, что просто умереть мало, а муж ее узнал, что жена его любит другого, и достал из вот такого сейфа вот такой пистолет и… — Девушка, я к вам обращаюсь! — повысила голос покупательница. — Ну что вы орете? — откликнулся наконец ангел. — Здесь не глухие! — Я уже двадцать минут слушаю вашу историю! — Можете не слушать, не вам рассказывают! — Вы, между прочим, на работе! — выкрикнула пожилая женщина. — А вы, сразу видно, на пенсии! — мгновенно нашлась девушка, и коллектив поддержал ее одобрительным хихиканьем. — Ну что за нахалка! — возмутилась, обращаясь к Люблютикову, покупательница. — Нахалки на палке, а я — на ногах! — убедительно парировала продавщица, и дружный коллектив восхитился ее находчивостью. И вот тут-то Элегий Люблютиков взорвался! Нет, нет, если бы так разговаривали с ним лично, он бы просто расстроился и отступил. Но сейчас при нем оскорбляли женщину, и Люблютиков неожиданно для самого себя взорвался! Размахивая руками, он потребовал извинений, потребовал заведующего, потребовал жалобную книгу. Извинений не было, заведующего не было, жалобная книга — была. И в ней Элегий обнаружил столько жалоб, что не стал ничего писать, но страшной клятвой поклялся совершить чудо. — Я научу вас уважать покупателя! — пискнул он срывающимся голосом. — Дома на свою жену кричите! — посоветовал падший ангел… И в субботу в 11.00 Люблютиков начал пикетировать магазин № 9. Прохожие останавливались у необычного плаката, на котором крупными буквами было написано: «Внимание! В этом магазине грубо обращаются с покупателями!» И пока завмаг бегал за милицией. Элегий страстно призывал окружающих бойкотировать данную торговую точку. Наконец явился пожилой неторопливый милиционер. Увидев его, Люблютиков решительно сжал древко и выпятил мужественный подбородок, всем своим видом являя непоколебимую готовность идти до конца. А милиционер внимательно прочитал плакат, с интересом поглядел на Элегия и, повернувшись к завмагу, спросил: — Так… И что же этот гражданин делает? — Как — что? С плакатом стоит!.. Видели, что там написано? — Видел. Так ведь правильно критикует! — развел руками милиционер. — И супруга моя на ваш магазин, между прочим, жаловалась… — Кто же так критикует? — изумился заведующий. — Он же нам план срывает! — А вы бы повежливей! А то ведь вон до чего нормального покупателя довели! — и. указав на Элегия, милиционер отдал честь и не спеша удалился. …Время шло, и никто, ни один человек не заходил туда, где грубо обращались с покупателями. Заведующий нервно метался по магазину, а продавщицы, сбившись в стайку, делали вид, что все происходящее не имеет к ним никакого отношения. Потом завмаг принял решение, зарычал на подчиненных и снова выскочил на улицу. — Послушайте! — обратился он к Элегию. — Ну вас мои работники плохо обслуживали, ну я признаю их ошибки, и теперь вас будут обслуживать хорошо! Договорились? — Нет. не договорились! — громко ответил Люблютиков. — Я требую, чтобы ваши работники принесли извинения! — Пожалуйста! Заходите в магазин, и они извинятся хоть сто раз. — Нет. я требую, чтобы ваши работники извинились публично и вот здесь, при всех торжественно пообещали быть вежливыми и внимательными! — Что мы — с ума сошли? — сказали продавщицы. И Люблютиков продолжал стоять с плакатом. Отдельные прохожие расспрашивали его, как именно ему нагрубили, и. возмущаясь, присоединялись к пикетчику. Какая-то молодая кормящая мать робко попросила Элегия, нельзя ли на время оставить возле него детскую коляску. Он, мол, все равно здесь стоит, а ей, мол, необходимо в гастроном сбегать. Пикетчик любезно согласился, и вскоре рядом с ним разместилось полдюжины разноцветных колясок. Окруженный ими странный человек с плакатом привлекал еще больше внимания, толпа росла… В 13.40 завмагу позвонили из горторга и категорически посоветовали пойти навстречу покупателям. В 13.45 заведующий предъявил своим подчиненным ультиматум: или они сейчас же удовлетворят справедливые требования этого чокнутого с плакатом, или… Продавщицы поправили прически, подкрасили губы и в 13.50 вышли к народу. — Мы больше не будем! — торжественно сказали работники прилавка. Хотя, впрочем, может быть, они сказали не так. Может быть, они, наоборот, сказали: «Мы будем вежливыми и внимательными!» — еще что-нибудь в таком роде. Дело не в этом. Дело в том, что рядовой покупатель Люблютиков сумел добиться такого обещания. И в тот же день слухи о невероятном событии облетели все торговые точки нашего города. И еще долго каждому работнику прилавка мерещилось, что сейчас как раз в его магазине находится этот ужасный Люблютиков и потому на всякий случай нужно быть вежливым и внимательным. И в конце концов обслуживание в наших магазинах достигло такого невиданного расцвета, что к нам стали приезжать покупатели из других городов! Однако все это было потом. А когда в ту знаменательную субботу Элегий, одержав нелегкую победу, возвращался домой, он увидел, что возле столовой № 5 стоит странная девушка с плакатом. На плакате было написано: «Внимание! В этой столовой очень плохо кормят!» Из окон выглядывали изумленные повара и официантки. А вокруг девушки начинали собираться прохожие… И Элегий Люблютиков присоединился к ним.К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Меня всегда поражает моя жена. Поражает каким-то удивительным незнанием жизни и абсолютным отсутствием логики. Как-то весной я собирался в автомобильный магазин. Приобрести кое-какие запчасти. Жена говорит: — Сегодня у нас вечером Танины с Маниными будут. Хорошо, если б ты там к ужину что-нибудь купил. — Где — там? — В магазине. — Что же я могу купить в автомобильном магазине к ужину? Винтики-болтики? — Ну, я не знаю, — отвечает жена. — Я ведь только так, на всякий случай сказала. Я молча пожал плечами и уехал. Конечно, нужных запчастей в магазине не было. Но у входа ко мне подошел какой-то небритый тип в длинном, до пола, пальто и, глядя в сторону, спросил: — Рыба нужна? — Какая рыба? — не понял я. — Съедобная, — пояснил незнакомец. Отведя меня в сторону, он распахнул пальто. Вдоль пальто вниз хвостами висели крупные золотисто-коричневые рыбины. — А свежие? — поинтересовался я. — Ну! — заверил таинственный незнакомец. — Прямо со склада! Вечером гости наперебой спрашивали, где я достал такую замечательную семгу. Я говорил, что в автомобильном магазине, и все громко смеялись. …А однажды командировали меня в Омск, оборудование у поставщиков получить. Жена говорит: — Вот хорошо! Если не устроишься в гостинице, сможешь остановиться у Кеши. — Послушай, я еду в Омск, а твой брат Кеша живет в Томске. Как же я могу у него остановиться? Или, по-твоему, Омск и Томск — один город? — Ну что ты сердишься, — сказала жена. — Я ведь просто так напомнила, на всякий случай. Я молча пожал плечами и уехал… В Омске мне сообщили. что заказ наш готов, но выдать его без подписи директора они не могут, а директора послали на двухнедельный семинар в Новосибирск. Недолго думая, я тоже махнул в Новосибирск, но там выяснилось, что весь семинар повезли на передовое предприятие в Томск. Так я и побывал в гостях у Кеши… — Ну вот. — удовлетворенно сказала жена. — А ты еще говорил, что Омск не в Томске! Тебе бы только спорить! А совсем недавно я ездил туристом во Францию. — Ах, как я тебе завидую. — вздохнула жена. — Как я мечтала побывать там! Прошу тебя, обязательно сфотографируйся на фоне знаменитой падающей башни. — Ты, вероятно, хочешь сказать — на фоне Эйфелевой башни? — уточнил я. — А разве Эйфелева башня тоже падает? — встревожилась жена. — Нет. Но падающая башня находится в Пизе, Пиза находится в Италии, а я еду во Францию. Как же я моту сфотографироваться в Пизе? — Ну. не знаю, не знаю… Тебя ни о чем нельзя попросить! Я молча пожал плечами и уехал… А когда самолет пролетал над Францией, стюардесса вдруг объявила, что по всей стране служащие аэродромов начали забастовку и поэтому приземлиться мы можем только в соседнем государстве, где забастовка, наоборот, только что закончилась. Так я очутился в Италии… И когда я привез жене фото, где я был запечатлен на фоне знаменитой Пизанской башни, жена поцеловала меня и сказала: — Вот видишь! А ты говорил, что Эйфелева башня не падает!САВУШКИН, КОТОРЫЙ НИКОМУ НЕ ВЕРИЛ
Часы в приходно-расходном отделе пробили девять. И тотчас торопливо застучала пишущая машинка, деловито защелкали счеты, заскрипел арифмометр и раздался первый телефонный звонок. Аппарат находился на столе у нашего плановика Марии Михайловны, на все звонки отвечать приходилось ей одной, и она смиренно несла этот крест ежедневно с девяти до шести с получасовым перерывом на обед. Вот и сейчас, сняв трубку, Мария Михайловна привычно и вежливо ответила: — Слушаю. Баклушина, к сожалению, нет. Он только что вышел. Начался обычный трудовой день, и старший экономист Савушкин сварливо сказал: — У нас в пригороде происходит черт знает что! Гуляю я вчера на своем дачном участке, вдруг вижу: прямо на меня лягушка скачет. Подскакала и говорит своим лягушечьим голосом: «Товарищ Савушкин, возьмите меня, пожалуйста, на руки». Я взял… — Большая лягушка? — поинтересовался, не переставая крутить арифмометр, бухгалтер Николай Федорович. — Нормальная. Но не в этом дело. Взял я ее на руки, а она говорит: «Товарищ Савушкин, у меня к вам огромная просьба: поцелуйте меня, пожалуйста». Представляете? — А зачем ей это понадобилось? — спросила наша машинистка Оленька, закладывая в машинку новый лист. — Да какая мне разница, зачем? — закричал Савушкин. — Как вообще можно обращаться с подобными просьбами? За кого меня эта лягушка принимает? Что я, болван какой-нибудь, что ли, чтобы целоваться с лягушкой? Вы сами лягушку поцеловали бы? — Лягушку — нет, но если бы она была кошкой или собакой. поцеловала бы. Я вообще люблю животных, — пояснила Оленька и снова учащенно застучала на машинке. — Ну а что потом все-таки было? — спросил я. — Ничего не было. Выбросил я ее — и все. — Ах, я понимаю Евгения Севастьяновича! — проговорила. отрываясь от бумаг. Мария Михайловна. — У нас на даче в этом году тоже очень много всяких лягушек развелось… Но тут снова зазвонил телефон, и Мария Михайловна сказала: — Слушаю. Баклушина, к сожалению, нет. Он только что вышел. Мы продолжали свои занятия. Только Савушкин никак не мог успокоиться и отправился в отдел капитального строительства, где снова рассказал о наглой лягушке, которая, по-видимому, считала его законченным кретином, если надеялась, что он исполнит ее просьбу. Потом Савушкин перешел в плановый отдел, потом в отдел лимитов, и к концу дня вся наша контора была поставлена в известность. что старший экономист Савушкин отнюдь не такой дурак, как думают некоторые. Более того, из рассказов Савушкина получалось, что он каким-то образом ловко перехитрил эту лягушку и просто оставил ее в дураках. Одним словом, пальца ему в рот не клади, он этого не любит! А спустя неделю в газете «Малаховские новости» появилось сообщение о том, что некий работник общественного питания Свирелькин, проводя за городом свой воскресный досуг, случайно нашел лягушку, которая попросила ее поцеловать. Будучи человеком отзывчивым и добрым. Свирелькин эту просьбу исполнил. И каково же было его удивление, когда лягушка тут же превратилась в принцессу. Заметка называлась «Благородный поступок» и кончалась уведомлением, что свадьба работника общественного питания и принцессы состоится в ближайшую субботу. Весь наш приходно-расходный отдел сочувствовал старшему экономисту Савушкину. А он. кровно обидясь на неблагодарную лягушку, всем своим видом показывал, что ему нет дела ни до принцессы, ни до счастливчика Свирелькина. — Все-таки эта лягушка могла бы как-то намекнуть Евгению Севостьяновичу, что она не просто лягушка, — сказала, быстро щелкая на счетах. Мария Михайловна. — Ха! — презрительно воскликнул Савушкин. — Намекнуть! Вы полагаете, я сам не догадывался, что она принцесса? — А чего ж ты в таком случае растерялся? — спросил я. — Сейчас бы мы на твоей свадьбе гуляли… — Ха! — повторил Савушкин. — Да если хотите знать, я потому и не стал целовать ее, что не хочу жениться. — Ну и глупо! — воскликнула, грохоча на машинке, незамужняя Оленька. — Принцессы на улице не валяются! — объявил Николай Федорович и, покрутив раз десять ручку арифмометра, добавил: — На то они и принцессы. — Ха! — только и смог сказать старший экономист. — И правильно! Евгений Севастьянович еще молод. И в конце концов, не одна ведь принцесса на белом свете. — поддержала Савушкина сердобольная Мария Михайловна и. подняв телефонную трубку, ответила: — Слушаю. Нет, Баклушин только что вышел… А в среду расстроенный Савушкин взял за свой счет недельный отпуск и исчез. Говорили, что он всю неделю с сачком в руках бегал по лугам и рощам, безуспешно целуя всех встречных лягушек. Но сам он об этих поисках умалчивал. и все мы видели, что он стал мрачным, задумчивым и еще более недоверчивым и нудным. Только один раз он развеселился. И было это тогда, когда он рассказал нам. как его пытались перехитрить, а он не попался. — Забросил я удочки, сижу, вдруг вижу — клюет! Вытаскиваю рыбу, снимаю с крючка, а она мне говорит: «Савушкин, а Савушкин, отпусти ты меня обратно в речку!» — А ты на что ловил, на червячка? — поинтересовался, крутя арифмометр. Николай Федорович. — На мотыля. Но не в этом дело. «Отпусти меня, — говорит она, — а я за это исполню любое твое желание». Представляете? — Буквально любое? — спросила Оленька. — Ну да. А я ей говорю: «Нашла дурака! Я тебя выпущу, а ты — поминай, как звали! Нет уж, сначала исполни мое желание, а там посмотрим». А она говорит: «Нет, я. к сожалению, умею исполнять желания, только находясь в реке. Так что ты сначала выпусти меня, а потом — не пожалеешь». — Ну и как, выпустил? — спросил я. — Да что я, идиот, по-твоему, что ли? — закричал, обидевшись, Савушкин. — Что я, кретин, чтобы живую рыбу в речку выпускать?! Зажарил я ее в сметане, и все! — Вкусная рыбка? — деловито поинтересовался бухгалтер. — Так себе. Костей много. — В следующий раз вы, пожалуй, такую рыбу лучше сварите, — мягко посоветовала Мария Михайловна. Разговор о жареной рыбе раздразнил мой аппетит. Я достал из портфеля бутерброд. Как обычно, моя жена завернула его в «Малаховские новости». И теперь, разворачивая газету, я сразу же увидел напечатанное жирным шрифтом объявление: «Пропала говорящая рыбка. Особые приметы: исполняет чужие желания и собственные обещания. Нашедшего просим вернуть за крупное вознаграждение». Я прочитал это объявление вслух. И тотчас умолкли счеты, стих арифмометр, резко оборвала очередь пишущая машинка… Мы молча смотрели на Савушкина. И небывалую тяжелую тишину нарушил только телефонный звонок и вежливый голос Марии Михайловны: — Слушаю. Баклушин только что вышел… В тот же день Савушкин взял за свой счет двухнедельный отпуск и уехал. Не знаю, чем он занимался эти две недели: то ли тщетно пытался поймать еще одну золотую рыбку, то ли, отдыхая, приходил в себя после страшного потрясения. А может быть, старший экономист просто вспоминал всю свою жизнь, пересматривая свое неправильное мировосприятие и недоверчивое отношение к окружающим… И вскоре произошло новое событие, показавшее всему приходно-расходному отделу, как изменился наш Савушкин. Случилось вот что. Ровно в полночь старшего экономиста разбудил громкий стук в дверь. Поспешно натянув полосатую пижаму, он выбежал из дачи и в неясном призрачном свете луны увидел какого-то короля. Трудно объяснить, почему Савушкин решил, что перед ним именно король. Однако он не ошибся. — Нас предали! — воскликнул король, устало опустившись на крыльцо и вытирая лоб кружевными манжетами. — Армия разбита, а мой верный конь пал, не выдержав бешеной скачки. Коня! Полцарства за коня! — Сколько? — переспросил старший экономист. — Пол. — Но, знаете, у меня нет коня. У меня есть только мотоциклет «Ява». — Ладно, подайте мне «Яву», — поспешно согласился король. — О небо, небо! — И, ловко вскочив на мотоцикл, он включил зажигание, дал скорость и скрылся в ночной тьме. Все это Савушкин на следующее утро рассказал нам. страшно гордясь своей находчивостью и широтой натуры. Бухгалтер Николай Федорович спросил только, в кредит или за наличные был куплен этот мотоцикл. Оленька поинтересовалась, как король был одет. Мария Михайловна похвалила Савушкина за то, что он помог попавшему в беду человеку. А я сказал, что полцарства за мотоциклет «Ява» очень хорошая цена. В общем, все мы одобрили действия Савушкина, а он отправился бродить по конторе, рассказывая в каждом отделе про свой благородный поступок и мешая работать, потому что все были заняты квартальным отчетом. В обеденный перерыв мы попробовали прикинуть, что наш Савушкин сделает со своей половиной царства. Но оказалось, что у старшего экономиста есть уже конкретная идея. Он решил завести конный завод специально на тот случай, если и другим королям вдруг срочно понадобятся кони. Савушкин будет снабжать королей конями, а они с ним будут расплачиваться по стандартной таксе — полцарства за штуку. Савушкин стал уже почитывать специальную конную литературу и похаживать на бега. Но дни шли за днями, а король не подавал о себе никаких вестей. Савушкин начал нервничать и наконец заявил в милицию, что какой-то жулик угнал у него «Яву». В милиции обещали помочь. И в результате долгих поисков в каком-то овраге нашли совершенно разбитый мотоцикл. Так мы узнали, что старший экономист Савушкин поплатился за свою доверчивость. — Вот не умеют ездить, а потом разбиваются! — в сердцах сказала Оленька и яростно затарахтела на машинке. — Хоть мотоцикл твой разбили, а кредит с тебя все равно удержат, — не преминул напомнить Николай Федорович. — Да вы, Евгений Севоастьянович, не переживайте. Живут же люди и без мотоциклетов, — попыталась утешить Савушкина добрейшая Мария Михайловна. И тут зазвонил телефон. И я подумал, что это опять звонит тот человек, который, веря в чудеса, надеется, несмотря ни на что, надеется поймать неуловимого Баклушина… Но на этот раз звонил король. Звонил, чтобы узнать у Савушкина, куда принести причитающиеся ему полцарства.
«БОГИ ЖАЖДУТ»
Сказки

Сказка о Короле и барометре
1963
Сказка
о правильном произношении
1963
Сказка о вопросительном
и восклицательном знаках
Сказка о том, что было потом
(или История одного трусливого мальчика, который совершил смелый поступок, но в результате этого стал еще более трусливым)
Сказка о том,
как опасна лень
Сказка о бедном слоне
Сказка о горе,
которая родила мышь
Сказка о мыши,
которая родила гору
Сказка о короле Генрихе Шестнадцатом,
который был Карлом ШесТЫМ
Сказка О Короле, Шуте и Палаче
Сказка о Шуте и Палаче
БОГИ ЖАЖДУТ
1984
Давняя история
Боги жаждут
Паденье Рима
Мечта раба
Калигула
ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОМАНУ «ДОН КИХОТ»
Монолог Санчо Пансы
Монолог Дульцинеи
Монолог Росинанта
Монолог Мельницы
Монолог стада
МОНОЛОГ ДОН КИХОТА
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
(Хроника
времен застоя и натиска)

ГЛАВА ПЕРВАЯ
В ночь на новый 1975 год получила независимость последняя колония некогда могучей европейской державы. В столице Ломалии Ломуте над бывшим губернаторским, а ныне президентским дворцом впервые взвился флаг суверенного государства. Флаг состоял из разноцветных квадратов и напоминал пестрое, покрытое заплатами одеяло. Двести сорок раз выстрелили дворцовые пушки, народ ликовал и пел новый государственный гимн «Ча-ча-ча». Согласно новой конституции ныне при звуках гимна свободные граждане не должны были стоять по стойке «смирно» — наоборот, слушая гимн, каждый гражданин обязан был раскачивать влево-вправо, влево-вправо тазобедренным суставом, исполняя па известного народного танца, и прищелкивать пальцами. Таким образом гимн символизировал свободу, раскрепощенность и радость. И в ту же ночь, пока ломалийцы пели и плясали, в далеком городе Вечногорске Степан Степанович Футиков по пьяной лавочке не уберегся, и жена его зачала сына. Того самого сына, которому предстояло сыграть важную историческую роль в судьбе этого заштатного городка. Выдающийся борец за свободу и независимость Ломалии президент Лучезарро Кастракки объявил свой народ самым свободным, а свою страну — самой демократичной страной в мире. В ответ на это радостное событие благодарные граждане Ломалии присвоили Кастракки пожизненное звание Адмирал-Президента. Как мы потом увидим, подобные пожизненные звания давали в Ломалии и на три, и на два года, и даже на один месяц, но, как бы там ни было, 15 апреля 1975 года Лучезарро Кастракки такое звание получил. И по странному стечению обстоятельств в тот же день Аделаида Футикова узнала у врача, что аборт теперь уже делать поздно. Хочешь не хочешь — придется рожать. Старший плановик Степан Степанович легко смирялся со всякими неприятностями. Смирился он и с тем, что в семье у него будет третий ребенок. 15 июля Адмирал-Президент объявил о своем твердом намерении в течение трех лет перегнать Америку и сделать свой народ самым счастливым. Благодарный народ ликовал и пел «ча-ча-ча». К этому времени аккредитованные в Ломуте дипломаты знали, что при исполнении государственного гимна следует раскачивать тазобедренным суставом, но стеснялись. Первым, как всегда, преодолел глупые предрассудки представитель Москвы. Видимо, заранее потренировавшись в посольстве, он лихо завихлял задом, к нему присоединились другие представители стран СЭВ, и вскоре весь дипломатический корпус, как только слышались звуки гимна, начинал вращать нижней частью туловища. И только английский посол чопорно стоял встороне, ожидая, очевидно, конкретных указаний своего Форин-офиса. Но дело не в этом, а в том, что аккурат 15 июля Аделаида Футикова, отдыхая вечером на балконе, сказала: — Степ, а Степ, а если будет девочка, как назовем? Я думала, думала и решила назвать Диной. — Тоже красиво, — равнодушно согласился прильнувший к телевизору Футиков. — А мальчика? — еще более мечтательно вопросила Аделаида. И сама же ответила: — А мальчика назовем Димой. — Не, Дима не пойдет. — вяло возразил отец. — А как же? — Надо подумать, — пообещал Футиков и тут же забыл об этом много раз повторявшемся разговоре. 20 августа старший плановик отвез жену в родильный дом. И в тот же день борец за свободу и независимость Ломалии Адмирал-Президент Кастракки прибыл в Москву, ибо для того, чтобы догнать Америку и сделать свой народ самым счастливым, Кастракки требовалось пятьдесят самолетов, шестьдесят танков и восемьдесят самоходок. 23 августа утром жена Футикова родила сына, и в тот же вечер переволновавшийся счастливый отец смотрел по телевизору выступление Адмирал-Президента. Борец за свободу и независимость обаятельно улыбался, благодарил за бескорыстную помощь великий советский народ и с очаровательным акцентом говорил «тобрый фетчер» и «то свитаня». И, слушая это выступление, выпивший на радостях отец семейства проникся к президенту неподдельной симпатией и сразу понял, как нужно назвать новорожденного. Лучезарро! Да, да, вот именно — Лучезарро! 26 августа Адмирал-Президент вернулся в Ломуту и спустя всего три часа получил телеграмму: «ЛОМАЛИЯ ЛОМУТА ГОСПОДИНУ АДМИРАЛ-ПРЕЗИДЕНТУ ЛУЧЕЗАРРО КАСТРАККИ ЛИЧНО ВОСХИЩАЯСЬ ВАШЕЙ МУЖЕСТВЕННОЙ БОРЬБОЙ СВОБОДУ ЗПТ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗПТ РЕШИЛ НАЗВАТЬ СВОЕГО НОВОРОЖДЕННОГО СЫНА ВАШУ ЧЕСТЬ ЛУЧЕЗАРРОМ ТЧК ЖЕЛАЮ УСПЕХА РАБОТЕ ЗПТ СЧАСТЬЯ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ТЧК СТАРШИЙ ПЛАНОВИК ФУТИКОВ». Искренние чувства бесхитростного плановика тронули закаленного в борьбе за свободу и независимость Кастракки, и в Вечногорске начались невероятные события. Маленький Лучезарро Футиков любил орать по ночам. Днем он невинно спал в своей кроватке, а с 23.00 начинал развивать легкие и развлекался как мог. Аделаида и Степан по очереди баюкали его, пели колыбельно-массовые песни, но ничего не помогало. Футиков-младший надрывался и не умолкал. Однако стоило в шесть утра зазвенеть будильнику, поднимавшему Степана на работу, Лучезарро резко обрывал рев и погружался в глубокий сон. В то утро одуревший от бессонной ночи Футиков кое-как побрился, проглотил бутерброд с плавленным сыром и, торопясь, сбежал по лестнице. Когда он выходил из подъезда, к дому подкатили две невероятно вытянутые машины — одна, представьте, черная-черная, а вторая, черт побери, серебристо-пепельная. Футикову, видевшему прежде такие неправдоподобные автомобили только в фильмах из не нашей жизни, почудилось даже, что от этих потусторонних машин попахивает духами. Из черного-черного автомобиля выглянул какой-то молодой человек и на чисто русском языке спросил Степан Степаныча, не это ли дом четыре? Футиков подтвердил, что этот. — А вы не подскажете, где здесь двадцатая квартира? — Я живу в двадцатой, — осторожно ответил плановик. — А что? — О! — воскликнул молодой человек. — Так вы, наверное, и есть Степан Степанович Футиков? — и он что-то проговорил на каком-то иностранном языке сидевшему в глубине машины смуглому гражданину, явно импортного вида. — О! — воскликнул в свою очередь иностранец. — Господин Футико-фф!!! Молодой человек, оббежав вокруг машины, открыл дверцы иностранцу, и тот, подойдя к растерянному Футикову, стал трясти его руку. — Разрешите, Степан Степаныч, представить вам первого секретаря посольства Ломалии господина Луизо Луччиччо — сказал молодой человек. — Очень приятно, — пробормотал Футиков. — А я переводчик, — добавил молодой человек, и, не назвав своего имени, щелкнул каблуками. Футиков тоже неумело щелкнул каблуками. Все было нереально и странно, как во сне. Иностранец еще раз крепко пожал руку Футикову и произнес длинную фразу, из которой Степан Степаныч понял только три слова: свою фамилию, Лучезарро и Кастракки. — Господин Луччиччо говорит. — продолжал переводчик в штатском, — что он имеет честь передать вам послание своего Президента. А первый секретарь открыл папку из бегемотовой кожи, достал из папки плотный лист с печатями и стал торжественно читать, а молодой человек, запинаясь, переводил: — Уважаемый господин старший плановик Футиков, от всего сердца поздравляю вас… эээ… с рождением сына. Я глубоко тронут вашим желанием… эээ… дать вашему сыну мое скромное имя Лучезарро. Разрешите поблагодарить вас за оказанную мне честь и преподнести новорожденному мой… эээ… скромный подарок. Примите заверения в совершенном уважении. Президент Кастракки. В полном недоумении Футиков смотрел то на иностранца. то на переводчика и ничего не понимал. Иностранец вложил послание в папку и отдал ее Футикову. Потом он что-то сказал переводчику, и тот проговорил: — А вот и подарок, о котором упомянул господин Президент, — и молодой человек, указав Футикову на серебристый автомобиль, вручил плановику связку ключей. И тут Степан Степанович наконец-то понял, что все это просто-напросто обыкновенный сон. Секретарь посольства еще раз пожал ему руку, затем то же самое сделал переводчик, потом они сели в черную машину и, оставив Футикову серебристое чудо, уехали… — Это кто такие приезжали? Чего им надо? — с подозрением в голосе прокричала Аделаида с балкона. — Да так, подарок от Кастракки привезли. — небрежно махнул рукой Футиков. Потом он уразумел, что все это не сон, и. зашатавшись, рухнул в машину. На службу, разумеется, в тот день Футиков не явился. Но уже через полчаса его сослуживцы, не сговариваясь, прекратили работу и потянулись к дому старшего плановика. Каждому хотелось увидеть чудо собственными глазами. Они шли сплоченным коллективом, по дороге к ним примыкали пораженные новостью прохожие, и толпа, постепенно превращаясь в колонну, двигалась по улице… Из окон других многочисленных учреждений служащие с интересом глядели на проходившую мимо колонну, а узнав, в чем дело, тоже бросали свои бумаги и присоединялись к процессии. Это было первое в истории Вечногорска никем не организованное шествие. Они шли по улице, оживленно обмениваясь слухами, и чем дальше, тем богаче становился подарок Адмирал-Президента. Одни утверждали, что Футикову подарили яхту, другие говорили, что не яхту, а самолет, третьи соглашались, что именно самолет, но добавляли, что его уже успели похитить какие-то отчаянные террористы… Автомобиль же стоял на том месте, где его оставили гости из посольства, а вокруг толпилось не менее тысячи любопытных. Одни старались продвинуться к невиданному автомобилю, другие поднимались на цыпочки, пытаясь поверх голов разглядеть серебристое чудо, жильцы же торчали на балконах, а те, у кого балконов не было, высовывались из окон, рискуя выпасть, и громко перекликались друге другом… Степан Степаныч сидел за рулем. Все еще не до конца веря своему счастью, он время от времени нажимал на круглую кнопку сигнала, и машина издавала баритональный типично заграничный звук, а толпа отзывалась восхищенным одобрительным рокотом. Аделаида снова и снова рассказывала, какую телеграмму Степан послал в свое время Президенту, и как обрадовался Лучезарро Кастракки, узнав, что его имя будет носить младший Футиков, и как Степан Степанычу торжественно вручали послание благодарного Президента. — Это сколько ж такая штуковина, к примеру, может стоить? В переводе на наши. — полюбопытствовал сослуживец Футикова бухгалтер Колупаев. — Там в документах не указано? — Да что ж вы думаете, Кастракки за нее из своего кармана платил, что ли? — хмыкнул управляющий конторой. — Да я понимаю, что по безналичному расчету, — сказал бухгалтер. — Но документация все равно должна быть, как же без документации? — Ас запчастями как будет? — поинтересовался сосед Футикова. издерганный бесконечными ремонтами своего «Запорожца». — У нас же их не достанешь… — А зачем нам доставать? Напишем Президенту — пришлет, — беспечно ответила Аделаида. Она уже успела притащить сверху оранжевое пластмассовое ведро и теперь бережно мыла и без того чистую машину. Автомобилисты и зрители наперебой давали советы, как ухаживать за машиной, и люто завидовали Футикову, на которого ни с того ни с сего за здорово живешь свалилось такое счастье. Футикову завидовали все, но больше всех страдал от зависти Семен Семенович Артыбашев. У него были все основания для самых невыносимых страданий. Дело в том, что в тот же день, когда появился на свет младший Футиков, в том же самом родильном доме и почти в то же самое время, и даже на полчаса раньше супруга Артыбашева тоже родила мальчика. И Артыбашев, который тоже мог назвать своего отпрыска в честь президента Лучезарром и получить машину. — Артыбашев до этого не додумался, а взял и назвал сына в свою честь Семеном. Вот какую непоправимую глупость может совершить человек! Правда, у Артыбашевых с незапамятных времен все мужчины в роду были Семен Семенычами. Это считалось фамильной традицией, и этим все Артыбашевы гордились, потому что, честно говоря, больше им гордиться было нечем. Однако Артыбашев знал, что теперь всю жизнь будет казнить себя из-за упущенной возможности, и, смертельно ненавидя счастливчика Футикова, он как бы между прочим, но довольно громко заметил: — Нету нас, у русских, гордости. Выклянчивать у иностранцев автомобили — это уж последнее дело! Казалось, никто не обратил на эти слова внимания. Однако в тот же день председатель месткома срочно собрал закрытое заседание, чтобы разобрать это дело. Все собравшиеся тоже люто завидовали Футикову, но местком после долгих обсуждений все же пришел к выводу, что так как: а) ни на какие президентские подарки старший плановик заранее не рассчитывал и действовал бескорыстно, б) Лучезарро Кастракки явно является прогрессивным деятелем левого толка и последовательным борцом за свободу и независимость своего народа, в) страна Ломалия — слаборазвитая и видит в Советском Союзе своего верного друга, — то подарок Адмирала-Президента в виде исключения принять можно, однако без нездорового ажиотажа!!! Что означала эта последняя фраза, до сих пор осталось неизвестным. Но, странное дело, именно с этого дня Лучезарро Футиков перестал орать по ночам. Однако к дальнейшим событиям это странное совпадение никакого отношения не имеет, и мы упомянули об этом исключительно просто так.ГЛАВА ВТОРАЯ
Если, например, лететь на «ТУ-144» из Вечногорска в Париж, то в столицу Франции можно попасть приблизительно за 4 часа 15 минут. Но «ТУ-144» между Парижем и Вечногорском не курсировали, и другие самолеты тоже, так что из Вечногорска в Париж и из Парижа в Вечногорск никто никогда не летал. Правда, можно было из Парижа сначала долететь до Москвы, а уж оттуда поездом добираться до Вечногорска. Но и поездом никто никогда из Парижа в Вечногорск не ездил. Ни с одной столицей не было у Вечногорска прямой транспортной связи. Даже в Москву из Вечногорска надо было ехать с пересадкой в Козлодоевске. Но, тем не менее, именно Вечногорск вступил в самые тесные контакты с самыми отдаленными странами нашей планеты. Первым подхватил замечательный почин Футикова сантехник Виктор Сфиридонов. Еще накануне вечером рассеянно шаря в эфире в поисках хоть какого-нибудь завалящего футбольного репортажа, он случайно услышал «Голос Америки». Противники разрядки сообщали о том, что в Абабуа скончался престарелый король Абутабу и на престол взошел его наследник Абыкабы. Виктор подивился странным именам и стал дальше искать про футбол. Вообще-то сантехник никогда королями не интересовался, однако два дня назад у Сфиридонова тоже появился наследник (вес точно восемь пол-литров, рост — 60 см). И как только Виктор увидел, какой подарочек Президент отвалил Футикову, так он вспомнил вчерашнее сообщение и поспешил на почту. Там он долго потел над телеграфным бланком, не зная, как лучше обращаться к королю — ваше благородие или ваше высокоблагородие? — кроме этого, он не знал почтового адреса короля, а у девушки в окошке спросить стеснялся, да и она, наверное, тоже не знала таких интимных подробностей. Но в конце концов Сфиридонов, изрядно потрудившись и изведя дюжину бланков, составил такое послание: «АБАБУА ДВОРЕЦ КОРОЛЮ АБЫКАБЫ ГЛУБОКО СКОРБЛЮ СМЕРТИ ВАШЕГО ПАПЫ А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВОСШЕСТВИЕМ ПРЕСТОЛ ЧЕСТЬ ЭТОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ НЕБЫВАЛЫМ ПОДЪЕМОМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ПРИСВОИЛ СВОЕМУ НОВОРОЖДЕННОМУ СЫНУ ВАШЕ КРАСИВОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ИМЯ АБЫКАБЫ ОТВЕТ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ ВЕЧНОГОРСК ТУПИКОВЫЙ ПРОСПЕКТ 17 КВАРТИРА ТОЖЕ 17 С УВАЖЕНИЕМ СФИРИДОНОВ». Составив столь тонкий дипломатический документ, Виктор вытер рукавом лоб и подошел к окошку. Девушка перечитала телеграмму и сказала: — Напишите индекс. — Какой еще индекс? — удивился Сфиридонов. — Индекс этого вашего Абабуа… — Да откуда же я знаю?! — Индекса не знаете, а пишете, — упрекнула девушка и стала листать толстый справочник… Разделавшись с телеграммой, довольный отец решил проведать своего Абыкабы Викторовича, а заодно и сообщить супруге Ксюше о принятом им решении. В роддом никого не пускали, поэтому под окнами роддома толпились посетители, задрав головы, перекликались с выглядывавшими из окон счастливыми матерями, и вокруг стоял веселый галдеж… Ксюша находилась на четвертом этаже, и прокричать во весь голос свою новость Виктор не решился. Выпросив у кого-то листок бумаги, он написал: «Дорогая Ксюша, сообщаю тебе, что сына мы назвали в честь короля Абыкабы Абыкабой. Один человек сделал так и получил за это иностранный автомобиль, почти совсем новый. И я тоже решил так сделать, машина всегда пригодится. Твой Витя». Сфиридонов передал записку с нянечкой и стал ждать ответа. Минут через десять Ксюша выглянула из окна и осуждающе покачала головой. — Уже! — прокричала она. — Что уже? — закричал в ответ Сфиридонов. — Кто рожает, а кто выпивает! — выкрикнула Ксюша. — Да я в рот не брал! — крикнул обиженный Виктор и для убедительности дыхнул, хоть до четвертого этажа легкий ветерок его безалкогольного дыхания вряд ли долетел. — А чего ж ты про какого-то короля пишешь? — сложив ладони рупором, крикнула супруга. — Да я уже ему телеграмму послал. — сообщил Виктор. — Кому ему? — Да королю же! — рявкнул Виктор. — Не ори, я не глухая! — ответила Ксения. Остальные посетители умолкли, прислушиваясь к интимной сваре, так что теперь супругам Сфиридоновым можно было объясняться без крика. — Да ты про машину прочитала? — спросил Виктор. — Прочитала… Неужели все правда? — Правда… — А чего ж ты своему родному сыну такое страшное имя выдумал? — Зато машина какая! Когда б ты. Ксюша, ее видела, ты б так не говорила. — А если не подарят машину? — спросила молодая мать. — Так он и будет ходить с таким дурацким именем без машины? — Как это не подарят? — растерялся от неожиданности молодой отец. — Ведь другим дарят! Посетители и роженицы все с большим интересом слушали семейный разговор, как в театре, переводя взгляды то на отца, то на мать. — Вот пусть сначала подарят, а потом назовем! — решила, хорошенько подумав, мать. — Что ж я, по-твоему, должен королю диктовать условия? — спросил, распаляясь. Виктор. — А чего ж тут такого? Если ему надо, пусть пришлет! — Да на фиг ему это надо? — заорал опять Виктор. — Чихать он хотел на нас с Эйфелевой башни! — А раз чихал, так пусть сам и носит свое имя, а не присваивает его чужим детям! — Ксюша совсем разошлась. — Тоже благодетель нашелся! — она б еще долго кричала, высовываясь из окна, но тут няни объявили, что наследников пора кормить, скандал был прерван, и мать отправилась к Абыкабы Викторовичу, а обиженный в своих лучших чувствах молодой отец решительно двинулся к «Гастроному». Ничто не сближает людей так. как вермут за 1 р. 67 к. с посудой. И всего часа через два новые друзья Виктора — какой-то хмырь в шляпе и старичок в накинутой поверх бумазейной пижамы болонье — заслушали сбивчивый рассказ Сфиридонова о переписке с королями и единодушно одобрили его внешнеполитический курс. Искренняя поддержка воодушевила Виктора, и он поставил еще бутылку, которую тут же осушили, почтив вставанием память покойного папы короля. Впрочем, хмырь в шляпе встать уже не мог и почтил память лежа.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Ксюша, выйдя из роддома, собственными глазами увидела царский подарок Кастракки, и сердце ее дрогнуло. — Ой, дура я, дура, — призналась она мужу. — Зазря я тебя ругала, и правильно ты сделал, что написал своему Абыкабы. Только лучше бы его тоже звали Лучезарром. Ой, неужели нам тоже такое пришлют? А между тем у счастливого обладателя иномарки были свои трудности. В первую же ночь кто-то гвоздем нацарапал на правом крыле самое краткое изречение, какое знал. Футиков пытался закрасить бранное слово, но самый известный в городе специалист по покраске автомобилей сказал, что краски такого цвета у него нет, и ближайший город, где ее можно достать. — Лондон! Ездить по городу с такой надписью было по меньшей мере неприлично, и, не найдя другого выхода, старший плановик написал письмо лично Кастракки, чтоб тот прислал краску, но Адмирал-Президент с сожалением сообщил, что сможет сделать это только в следующем финансовом году. Кроме этого Футиков вступил в гараж, который обещали построить к концу 1999 года, и пока что проводил ночи в машине, оберегая ее от угона и прочих напастей. Иногда он позволял себе крутить руль и нажимать на педаль акселератора, воображая, будто мчится по необъятным просторам нашей родины. Иногда нажатием кнопки он опускал и поднимал стекла в машине, а потом усталый засыпал, и снились ему приятные импортные сны… Днем автомобиль сторожила теща. Время от времени ее подменяла Аделаида, выходившая погулять вокруг автомобиля с коляской, в которой спал маленький Лучезарро. И в тот самый день, когда Ксюша призналась мужу, что она дура, Виктор ближе к вечеру получил от короля Абыкабы телеграмму: «БЛАГОДАРЮ ПИСЬМОМ ПОДРОБНО». И Сфиридоновы с нетерпением стали ждать письма и подробностей. А подробности оказались вот какими. Спустя три месяца, отгуляв с друзьями положенный траур, король сообщил Виктору, что, согласно древним обычаям предков, он должен подарить Сфиридонову самое дорогое, что у него есть. — Что же это? Что конкретно? — гадали супруги. — Корона с брильянтами? Какое-нибудь алмазное украшение? — Если будет дарить гарем, отказывайся! — строго предупредила Ксения. — Да вроде неудобно отказываться, не принято. — попробовал было возразить Виктор, но супруга так зыркнула на него, что он понял: и не надейся! Но зря супруги гадали. Не могли же они знать, что самым дорогим для любого жителя Абабуа является дряхлый священный орел. И именно его прислал в подарок щедрый король. Поначалу Сфиридоновы растерялись. Орел, нахохлившись, сидел в совмещенном санузле на унитазе и низким клекотом требовал кровавой пищи. Иногда он взмахивал крыльями, они упирались в стены санузла, и чтоб орел мог до конца расправить крылья, совмещенный санузел нужно было бы совместить еще с кухней. — Что я тебе говорила?! — кричала Ксения. — Получил подарок?! Из кровавой пищи в Вечногорске были только шестикопеечные домашние котлеты. Но когда Виктор предложил их орлу, тот возмущенно заклекотал и объявил голодовку. — Сколько ж мы будем к соседям в сортир бегать?! — кричала Ксюша. — Орлы ж по триста лет живут! И, устав от криков, Виктор поехал в московский зоопарк узнать, не возьмут ли они этого орла. В зоопарке взять согласились, но сказали, что так как дело это международное, то пусть сначала Виктор сходит в Министерство иностранных дел. Сфиридонов поплелся в МИД. Там долго не могли понять, что ему нужно, пересылали из отдела в отдел, из комнаты в комнату, пока наконец он не попал к серому незаметному человечку, непосредственно ведавшему сектором, в который входило королевство Абабуа. Завсектором удивился, узнав, что Абутабу умер, еще более удивился, услышав, что теперь на престоле королевский сын Абыкабы. Во-первых, все это произошло, когда весь их сектор находился в командировке на овощной базе, а во-вторых, он вообще не предполагал, что Абабуа королевство, а не республика. И уж полнейшей неожиданностью для него был тот факт, что государство, которым он занимался уже четверть века, пишется через «А» — Абабуа, но не Обобуа, как ему казалось. Однако он не огорчился, через «А» так через «А», все равно скоро на пенсию! Как бы то ни было, работник МИДа поблагодарил Сфиридонова за ценную информацию, но предупредил, что с Абабуа отношения у нас довольно сложные, и если сдать королевский подарок в зоопарк, они могут усложниться еще больше. Нельзя оскорблять национальные чувства народов слаборазвитых стран, — поучительно заметил завсектором. — Но жить-то как?! — взмолился Сфиридонов. — У меня ж квартира кругом-бегом 18 метров, ребенок у меня же, а орел, между прочим, питания требует, мяса, а в Вечногорске сплошные рыбные дни, только без рыбы! — Н-да, — согласился чиновник. — С одной стороны, установление братских контактов с малыми странами — это положительный фактор, а с другой — орла манной кашей не прокормишь, он же хищник! — И санузел этот хищник занимает, — подхватил Сфиридонов. — Ни помыться, ни побриться… — И это важный фактор. — согласно кивнул завсектором. — В общем, мы тут посоветуемся, свяжемся с нашим послом в этом… как его? Абабуа и сообщим вам, как быть. …Через неделю Сфиридонова вызвали в местные компетентные органы. Там ему вручили ордер на трехкомнатную квартиру — две комнаты для семьи, третья, 14 квадратных метров, для орла — и пропуск в закрытый распределитель. где Виктор получал для орла кровавую пищу из расчета 1 кг 200 гр. в день. Обалдевший от счастья Сфиридонов не стал допытываться, как установили, что орлиная норма именно 14 квадратных метров и 1 кг 200 гр. мяса. Не теряя времени, он переселился в новую квартиру, честно выделил орлу его метраж и по-братски, как равноправному члену семьи, стал отдавать ему четвертую часть пайка. Весь Вечногорск завидовал счастливым обладателям птицы, а те требовали для орла то рыбки свежей, то копченой колбаски, и не только требовали, но и получали. Ведь король не прекращал интересоваться, как поживает его крестный Абыкабы Викторович, и просил прислать фотографию своего любимого орла. А со священной птицей, честно говоря, было неважно. То ли она тосковала по родине и ей хотелось улететь туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края или еще куда-нибудь, то ли священная птица отравилась сосиской, но так или иначе в День шахтера орел сдох… Сфиридоновы горевали искренне и безутешно. Во-первых, сразу же кончились мясные блага, а во-вторых, супруги боялись, что в освободившуюся комнату райсовет кого-нибудь подселит. Они телеграфировали о постигшем их несчастье королю, надеясь, что тот пришлет еще одну птицу. Но тот в своем исполненном горя послании просил сделать из орла чучело. Кроме этого король сообщил, что согласно древним обычаям тот, кто не уберег священной птицы, должен умереть вслед за ней. Абыкабы давал Виктору две недели и обещал прислать в Вечногорск высококвалифицированных жрецов, которые легко помогут Сфиридонову, как было сказано в послании, пересечь Долину Смерти и окунуться в Реку Вечного Блаженства. Растерянный сантехник побежал с королевским посланием в милицию. Но начальник отделения провентилировал этот вопрос с кем надо и объяснил Виктору, что международные дела нужно решать не в милиции, а в МИДе. Так Сфиридонов снова очутился у того чиновника, который ведал отношениями с Абабуа. — Н-да, — сказал тот, изучив послание, — заварили вы кашу! Чем же мы теперь можем вам помочь? — Как чем? Объясните им по своим дипломатическим каналам, что нельзя из-за какого-то дохлого орла убивать живого человека! — Интересно вы рассуждаете! — криво улыбнулся чиновник. — Вы хотите, чтоб мы, так сказать, критиковали их древние традиции, то есть грубо вмешивались в их внутренние дела? Так позволите вас понимать? — Так ведь они решили меня укокошить! — взвыл сантехник. — Что ж, мне умирать прикажете, что ли? — Наше министерство, — четко проговорил завсектором, — вам этого не приказывает. Но как советский человек вы должны понимать, что отношения у нас с Абабуа сложные и из-за частного лица, состоящего в частной переписке с королем, мы не можем вступать в конфликт со всем королевством. Американцы только и ждут этого, и Китай ждет, не говоря уже об Израиле, который просто спит и видит! Не в наших интересах играть им на руку. Так что, согласитесь, в такой напряженный момент мы не имеем права обострять! — Ну а мне-то, мне-то лично что делать? — перебил его Сфиридонов. — А вам лично нужно не ставить свои личные интересы выше государственных. — Но они же укокошат меня! — Вот тогда мы будем иметь все основания послать им официальную ноту протеста. Однако это все же Виктора не успокоило. — А может, мне лучше спрятаться куда-нибудь? — спросил он с надеждой. — Это ведь не обострит? — Не обострит, — согласился чиновник. — Прятаться — это ваше право. Только куда вы от этих жрецов спрячетесь? Вот если б к вам охрану приставили — тогда другое дело… — Я просил насчет охраны. Не дают… Может, ваше министерство похлопочет? — О господи, да я же вам объяснял, не имеет права наше министерство вмешиваться в чужие традиции! И, в конце концов, вы же сами вступили в отношения с королем, так что теперь сами и выкручивайтесь. …А три дня спустя поздним вечером в Вечногорске было совершено первое в истории города вооруженное ограбление. Размахивая револьвером. Сфиридонов ворвался в магазин и потребовал у кассирши денег. Насмерть испуганная кассирша отдала ему 242 рубля 17 копеек, и, прихватив бутылку коньяка, грабитель растаял в ночной тьме. На следующий день за Виктором пришли. При аресте грабитель честно вручил милиции 242 рубля 17 копеек, пустую бутылку из-под коньяка, а также детский пластмассовый пистолет, на котором вскоре были обнаружены дактилоскопические отпечатки, принадлежавшие, как установила экспертиза на Петровке, 38, Сфиридонову-младшему. За дерзкое ограбление Виктор получил 5 лет и самую надежную охрану. Но еще на пересылке сантехник узнал, что король Абыкабы свергнут, Абабуа объявлена демократической республикой и секта жрецов там запрещена. Так что можно было и не прятаться, а тем более — в лагере. Но сколько в дальнейшем Виктор ни писал в разные инстанции, объясняя, что совершил ограбление не с целью ограбления, а только чтоб попасть под охрану и спастись от жрецов, никто ему не верил. А когда он написал тому самому чиновнику в МИД, чиновник ответил, что наказание за уголовное преступление сугубо внутреннее дело каждой страны, а МИД во внутренние дела своей страны не вмешивается!ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Как мы уже говорили, первым подхватил почин Футикова Виктор Сфиридонов. Однако следует добавить, что он был первым, но отнюдь не единственным. Почти одновременно с сантехником на путь укрепления международных связей вступил и другой житель Вечногорска — Велимир Будимирович Иванов. Он был юрисконсультом и работал в учреждении с таким сложным названием, что его не только выговорить — написать и то трудно. На работе Велимир Будимирович любил мечтательно поговорить о пахоте, о косовице, о яровых да озимых. И в этом сугубо городском пропыленном учреждении, укомплектованном сугубо городскими бледнолицыми жителями, юрисконсульт слыл знатоком русской деревни и был невидимыми корнями прочно связан с черноземом да суглинком. — Вот уже в отпуск поеду в свое Неликвидово, исхожу босиком по землице, поваляюсь на траве-мураве, поночую на сеновале — и хвори городские из меня повыдует! — любил поговаривать он. И бледнолицые, начиненные тахикардиями и гипертониями коллеги слушали Будимирыча и завидовали его богатырскому целинному здоровью и волжскому размаху его плеч. Когда маленький Лучезарро получил автомобиль, Велимир Будимирович только крякнул: — Таровато! — сказал он и одобрительно потряс своей пышной русой шевелюрой. — Таровато, ничего не скажешь! И в лихой забубенной головушке юрисконсульта родилась-заиграла бедовая мысль-затея. И что ни час, то росла-вырастала та идея-идеюшка. А и надумал Велимир свет Будимирович дело дельное, дело серьезное. А решил-порешил он своему сыну кровному, намедни рожденному, дать имя чудное, имя странное, имя странное-иностранное, и окрестил он его не по-нашему, окрестил его по-заморскому, по-заморскому-заокеанскому. А и назвал он его не Василием. не Савелием, не Димитрием, не Алехою, не Серегою, не Афонею, не Афонием-Афанасием, а назвал он его Малахатою, так и в метрике записать велел! Сделал же он это по той причине, что в далекой Амба-рии во время покушения умер старый император Хата и на престоле его место занял сын Малахата. В Вечногорске же ежедневно появлялись на свет примерно тридцать детей, и Будимирыч правильно рассудил, что если не он, то кто-нибудь другой из тридцати отцов все равно наречет своего ребенка Малахатой, потому что любой дурак не прочь получить в подарок машину или чего-нибудь получше. Дав своему сыну столь звучное имя, Иванов поспешно оформил все в ЗАГСе, снял с метрики заверенную нотариусом копию с печатью и все это вместе со своим поздравлением отправил императору. Но еще до того, как Сфиридонов получил священного орла, Будимирычу вручили послание Малахаты. Император в самых изысканных выражениях благодарил юрисконсульта и сообщал ему следующее: согласно древним законам Амбарии и сам Иванов, и его сын Малахата Иванов считаются отныне ближайшими родственниками императора. Поэтому последний дарит им один из своих лучших дворцов (дарственная прилагается к письму) и 10 миллионов шурупиков. Деньги и ключ от дворца Ивановы смогут получить, как только прибудут в столицу Амбарии Амбар для постоянного проживания. Будимирыч еще раз перечитал послание, придирчиво проверил, правильно ли оформлена дарственная, и, убедившись, что все в порядке, упал в обморок. Впервые в жизни Иванов терял сознание. Но ведь и дворцов он тоже никогда прежде не получал, и 10 миллионов шурупиков ему, представьте, тоже не дарили. Но не это заставило могучего Иванова потерять сознание. Выдержать получение такого богатого подарка юрисконсульт, пожалуй, бы смог, а вот вынести потерю дворца и живой валюты — нет, этого не смогло выдержать даже черноземное здоровье Иванова. Проклятый император не понимал, что при всем желании Велимир Будимирович не сможет попасть в Амбарию. Кто его туда выпустит?! Иванов очнулся, почувствовав, что на его лицо что-то льется. Это лила слезы склонившаяся над супругом Дарья. Она тоже прочла письмо Малахаты и теперь плакала от счастья… — Радость-то, радость-то какая! — всхлипнула жена, едва супруг ее открыл глаза. — Мы, и вдруг во дворце! Юрисконсульта разозлило, что жена его такая же дура, как Малахата. Еще находясь в обмороке, как настоящий юрист он прикинул все варианты и убедился, что царского подарка ему не видать, как своих ушей. — «Мы, и вдруг во дворце»… — слабым голосом передразнил он жену. — Где мы, а где дворец, ты подумала? Как мы в этот дворец попадем? — А вот как приедем в Амбарию, так нам ключ и выдадут. Здесь же написано… — А кто нас за границу выпустит? — Других же выпускают. — возразила жена. — Кого других? — Вот с нашей фабрики Либерзон уехал… Тоже юрист, между прочим… — Не юрист, между прочим, а еврей. Им у нас все пути открыты, мотай куда хочешь! — А если попросить императора сюда перевести шурупики? — предложила Дарья. — А дворец тоже сюда перевести? — ехидно опросил муж. — Да бог с ним, со дворцом! Хоть деньги получить бы! Мы в кооператив вступили бы… — Лихо ты дворцами разбрасываешься! — неодобрительно откликнулся супруг. — Дан деньги не станет он переводить по почте. В послании ясно сказано: деньги можно получить, только приехав в Амбарию. Юридически все точно сформулировано, не придерешься! — Так что же делать, а. Веля? А у Велимира Будимировича уже созрел новый план. Заранее все обдумав, хитрый юрисконсульт стал оформляться туристом в Гренландию. Не прошло и года, а уже все документы были оформлены. Жена Дарья взяла с мужа страшную клятву, что он выпишет ее с подросшим Мала-хаткой, как только обоснуется во дворце. Конечно, юрисконсульт понимал, что Дарью так просто не выпустят, но был уверен, что с помощью императора и прогрессивной общественности Амбарии он сумеет соединиться со своей семьей и Дарью в конце концов пропишут во дворце. Едва прибыв в Гренландию и не успев даже полюбоваться на плавающие на горизонте айсберги, Иванов отправился в полицию. Гренландские полицейские по-русски не понимали. Они, правда, знали английский, но не тот английский, который юрисконсульт учил когда-то в институте, а какой-то совсем другой. По этой причине Иванов стал объясняться жестами. Указав пальцем в землю, он приложил руки к сердцу, а затем сложил кукиш и выразительно указал им в сторону России… В общем, полицейские поняли, что он ни за что не вернется домой и хочет остаться на свободном Северо-Западе. После завершения всех формальностей политэмигрант связался с императором, и тот подтвердил свое приглашение. Прямой воздушной связи между Гренландией и Амбарией пока не было. Так что сначала Иванов ехал на оленях, потом на попутных собачьих упряжках, затем на пароходе и самолете и, наконец, на верблюде. Путешествие длилось долго и, добравшись все-таки до Амбарии, Будимирыч поспешил в императорский дворец и, как говорится, попал с корабля на бал. Бал давали по случаю свержения императора Малахаты и провозглашения республики. Сторонников монархии разыскивали по всему городу. Через 15 минут Иванов был схвачен, обвинен как иностранец в шпионаже и приговорен к расстрелу. Его застрелили бы тут же, но, к счастью, у восставших к тому времени уже кончились патроны. У них остались только артиллерийские снаряды и ракеты. Тратить на шпиона ракету пожалели, а вешать его поленились, ибо на главной улице грабили в это время магазины и приверженцы республики боялись опоздать к этому историческому событию. Революционные массы понимали, что в первую очередь следует решать неотложные экономические проблемы. Поэтому они поторопились в центр, а Иванова заперли в полиции. Однако ночью представители левонастроенных уголовников и проституток полицейский участок подожгли, и политэмигранту удалось бежать. Кое-как он добрался до советского посольства. Стеная и колотясь головой о спинку мягкого кресла, он признался, что в состоянии умопомрачения совершил непростительную ошибку и готов ее исправить любой ценой, только бы ему разрешили вернуться туда, где так вольно дышит человек! Посол сначала велел гнать его к чертовой матери, но затем, будучи человеком справедливым и гуманным, распорядился дать преступнику временное убежище. Правда, сразу же возникла проблема, где его поместить? Тюрьмы в посольстве, к сожалению, не было. И в то время как посол вел длительные переговоры с Москвой, бывший владелец дворца сидел во дворе в сарае и, вспоминая Дарью и потерянные шурупики, всхлипывая, писал слезные заявления в далекие инстанции. Но вот переговоры благополучно завершились, раскаявшемуся невозвращенцу разрешили вернуться, блудного сына посадили в самолет и доставили на любимую родину. В компетентных органах он подробнейшим образом поведал свою одиссею и чистосердечно пожелал искупить вину. Ему пообещали пойти навстречу и предоставить такую возможность. В дальнейшем некий Веймир Бенемирович Рабинович не раз выступал на различных пресс-конференциях по телевидению. со всей откровенностью рассказывая, как он был одурачен сионистской лживой пропагандой и как. попавшись на их удочку, променял свою родину с бесплатной малогабаритной квартирой на так называемую обетованную землю и какие капиталистические ужасы видел он своими глазами в Израиле! Иванов любил пресс-конференции. Во-первых, его на это время выпускали из тюрьмы, где он отбывал свой срок за измену родине. А во-вторых, после выступлений ему разрешали внеочередные свидания с женой. А в камере Будимирыч пользовался уважением как человек. оставшийся за кордоном, сладко поживший там и выкраденный оттуда с помощью специальной подводной лодки. Конечно, блудный сын придумал все это сам, но урки любили слушать его рассказы о сладком закордонном житье-бытье. Байки его обрастали все более интересными подробностями. А если заинтригованные слушатели спрашивали, зачем понадобилось его похищать, Будимирыч только таинственно подмигивал, как бы говоря: уж зря выкрадывать не станут, за кем попало подводную лодку не пошлют! А то, что Иванов по временам куда-то исчезал, делало его еще более загадочным. И он опять разоблачал на конференциях израильские кошмары и опять получал внеочередные свидания… И вот на одном из таких свиданий Дарья случайно проговорилась, и Иванов узнал окончательно погубившую его новость. Оказалось, что, пока он отсиживался в посольском сарае, в Амбарии произошла реставрация монархии. Вернувшийся к власти Малахата повсюду разыскивал Иванова, дабы вручить ему ключ от дворца и шурупики. Узнав об этом, юрисконсульт засмеялся, зарыдал, а в мозгу у него что-то щелкнуло и замкнулось. На ближайшей пресс-конференции в присутствии иностранных корреспондентов он рассказал о том, как сладко жил за кордоном и как его умыкнули на подводной лодке. А когда его доставили в камеру, он покаялся, что был одурачен сионистской пропагандой, и рассказал об ужасах капитализма и выразил свою радость по поводу возвращения на родину. На этом закатилась звезда телевидения и кончилось тюремное благополучие патриота-невозвращенца. Больше его не приглашали на пресс-конференции, больше его не слушали в камере… А бедный император все ждал и ждал, когда же наконец объявится Велимир Будимирович Иванов.ГЛАВА ПЯТАЯ
А между тем связи Вечногорска с зарубежными странами крепли и расширялись. Не успел еще приехать в Амбарию Будимирыч, еще в страхе ожидал прибытия опер-жрецов Сфиридонов, а уже многие расторопные вечногорцы установили личные дипломатические контакты с далекими экзотическими странами. Едва в прекрасной Бамбукии взошел на престол Бамбук Третий Сладкий, как в его честь фельетонист газеты «Вечерний Вечногорск» Семен Данилов поспешил назвать своего первенца Бамбуком и тут же послал международную телеграмму с оплаченным ответом. Оплаченный ответ не заставил себя ждать. Он гласил, что признательный король всемилостивейше повелел присвоить Данилову-младшему дворянское звание и с 17 июля сего года считать Данилова-юниора дворянином. Фельетонист, честно говоря, был разочарован столь мизерной и эфемерной благодарностью короля. К тому же он испугался, не зная, как посмотрят на королевские фокусы в редакции и не попрут ли его, советского журналиста-фельетониста, за связь с сыном-дворянином из газеты. Однако никаких неприятностей не последовало. Отдел кадров не реагировал, редактор, не имея указаний, дружелюбно помалкивал. И, постепенно успокоившись. Данилов стал окольными путями выяснять, считается ли почетное звание дворянина потомственным. Но ответить на этот вопрос толком никто не мог, а послать запрос непосредственно королю фельетонист как-то постеснялся. Он деликатным был, этот человек, и под грубой фельетонийской кожей скрывалось нежное, легко ранимое сердце. И тут кто-то из близких надоумил Данилова обратиться в посольство. Бамбукия была такой крохотной и бедной страной, что посольство ее помещалось не в тихом уютном особняке, не в многоэтажном доме — нет, посольство Великого Королевства занимало всего две комнаты в коммунальной малонаселенной квартире. В одной комнате была канцелярия (офис), во второй — жил посол, который по совместительству за полставки служил в своем посольстве шофером, а еще за полставки сотрудничал в местных компетентных органах, куда регулярно писал на самого себя подробные доносы. Вежливый, равнодушный посол объяснил Данилову, что по законам Бамбукии пожалованное королем дворянское звание к потомкам не переходит, но зато имеет обратную силу и распространяется на предков, то есть на отца, деда, прадеда и так далее до седьмого колена. После этого дипломат угостил журналиста чаем с мятными пряниками и, поговорив о погоде в Бамбукии, вежливо проводил его до дверей. От посла Данилов уходил в странном состоянии. Что же получалось? Получалось, что и сам он, член Союза советских журналистов, и отец его, некогда популярный холодный сапожник, и дед, знаменитый городской золотарь, и прадед, прославленный конокрад губернского масштаба. все они теперь были дворянами. Пусть не российскими, а бамбукскими — все равно: дворянин он везде дворянин. А то, что не местный, а иноземный, так в этом есть даже что-то усиливающее эту самую дворянскую голубизну. Вон как в России раньше котировались французские дворяне — будь здоров! С незнакомым интересом стал прислушиваться к себе Данилов и услышал, как в жилах его плещется чистопородная дворянская кровь, а в железах внутренней секреции играют древние аристократические гены и хромосомы. Впервые в жизни Данилов стал интересоваться своей генеалогией и помимо сапожника, золотаря и конокрада нашел среди своих предков со стороны матери барского кучера Севастьяна, который теоретически вполне мог быть незаконным сыном своего барина, который гипотетически вполне мог соблазнить дворовую девку Пелагею. Барином же был известный предводитель дворянства Данилов-Задунайский. Так что в жилах Семена Данилова действительномогла плескаться голубая дворянская кровь, несколько, правда, разбавленная кровью приказчиков, половых, конюхов и прочих лиц не совсем аристократического происхождения… Не прошло и недели, а вечногорский газетчик уже привык к мысли о том, что он бамбукский дворянин и происходит из древнего аристократического рода. Мысленно он уже называл себя не Даниловым, а Д аниловым. Долгими зимними вечерами он набрасывал эскизы своего фамильного герба, напоминавшего помесь значка ГТО со знаком Отличника боевой и политической подготовки. Затем он старательно выпиливал лобзиком из фанеры этот замысловатый герб и, когда кропотливая работа наконец была закончена, в Бамбукии свершилась революция, и первым ее декретом были упразднены дворянские звания и привилегии. Случившееся больно ударило по интересам Д’Анилова, и он объявил себя монархистом. То есть, разумеется, он никому об этом, кроме жены, не объявлял, но в душе твердо верил, что отныне он убежденный сторонник монархии. Впервые в жизни у него появились хоть какие-то убеждения. И он проникся к себе уважением — т. е. опять-таки впервые в жизни изведал незнакомое ему чувство, о котором только читал в книгах да писал в своих фельетонах. Вскоре убежденному приверженцу монархии удалось раздобыть полустертый медальон с изображением генерала Скобелева. Принимая героя Плевны не то за Николая Первого, не то за Александра Второго, Данилов приделал к медальону цепочку и стал его носить на своей волосатой груди под теплой нижней рубахой. Совершив этот вызывающе смелый, граничивший с отчаянным безрассудством поступок, журналист проникся еще большим уважением к своей свободомыслящей личности. Причем внешне в жизни газетчика ничего не изменилось, и он по-прежнему писал фельетоны, в которых бесстрашно бичевал тружеников прилавка, разоблачал сантехников и клеймил капиталистов — в действительности все это делал не прежний Данилов, а новый. Новый презирал и свои фельетоны, и редактора, и газету, и тех, кто читал его фельетоны. Новый Д'Анилов твердо знал, что при монархии и сантехники вкалывали бы как следует, и труженики прилавка бы трудились, и он сам не мучился бы над фельетонами, а был бы главным редактором газеты «Вечерний Монархист». Империалистам же теперь от фельетониста доставалось пуще прежнего. Во-первых, он как настоящий дворянин не уважал всяких Дюпонов, Рокфеллеров и прочих выскочек-буржуа. А во-вторых, он не мог простить империалистам то, что они проспали революцию в Бамбукии. Есть у них в конце концов ЦРУ или нет?! Так куда же оно, черт возьми, смотрит?! Вот она, их хваленая демократия! Взяточничество, коррупция! Нет, монархия, только монархия! И не какая-нибудь там просвещенная, ограниченная… Только абсолютная монархия может спасти мир! Таковы были на текущий момент политические убеждения Данилова. И когда на газетном профсоюзном собрании кто-то предложил избрать фельетониста в местком, он сам отвел свою кандидатуру. — Я не могу быть членом месткома, — побледнев, твердо сказал он. — Почему? — закричали присутствующие. — У меня есть причины… — Какие? Какие такие причины? — не унималось собрание. — Я… я, видите ли. монархист, — еще более побледнев, признался газетчик. — Смешно! Это не причина для самоотвода, — сказал председатель. — Бросьте валять дурака! Так в месткоме профсоюза работников печати появился первый монархист. …А между тем в компетентные органы поступил очередной рапорт бамбукского посла. После свержения короля посол в Бамбукию возвращаться не захотел и попросил убежища в своей коммунальной квартире. А так как новое революционное правительство в Бамбукии затеяло сразу же какие-то темные махинации с империалистами и начало разнузданную антисоветскую кампанию, Москва стала на сторону свергнутого короля и оставила королевского посла в столице. Дипломатической работы у посла, естественно, не было никакой, посольской зарплаты он не получал, и единственными кормильцами его стали теперь компетентные органы. Поэтому донесения бывшего посла становились все более пространными и велеречивыми. С утра до вечера посол на машинке кропотливо отстукивал свои послания. Он был трудолюбив, как дятел, ибо ему, как дятлу, хотелось есть. Многословные и малоинтересные сочинения посла читать ленились и разве что иногда бегло просматривали и подшивали в толстую картонную папку. И вот из очередного донесения стало известно, что некий Данилов интересовался правами бамбукских дворян. А так как любой интерес к любым правам всегда подозрителен, а все подозрительное находится в компетенции компетентных органов, Данилова вызвали. Разговаривал с ним майор Зубатых. С ходу беря быка за рога, майор спросил, почему Данилов не указывал в анкетах своего дворянского происхождения? Фельетонист попытался объяснить, что тогда, когда он заполнял анкеты, он еще не был дворянином. Но этот довод майора не убедил. — Нам известно, что ваш отец был дворянином, не так ли? — спросил Зубатых. — Что вы! Он был холодным сапожником на углу Первомайской и Восьмимартовской. — Одно другого не исключает! Значит, отец ваш дворянин, стало быть, вы тоже дворянин. Так ведь получается? Зачем же вы пытались скрыть этот факт? Будь вы на моем месте, вам не показалось бы это странным? Данилов начал с самого начала рассказывать об отношениях о королем Бамбукии. Майор слушал не перебивая, но и без интереса, вращая в пальцах блестящую шариковую ручку. Данилов почему-то не мог оторвать глаз от крутящейся ручки. Это мешало ему сосредоточиться. И чем дальше он рассказывал, тем более неубедительной казалась ему его история. Наконец он умолк. — Ну, хорошо, — проговорил Зубатых. — Допустим, — он подчеркнул это слово. — Допустим, ваша версия соответствует действительности. — Майор помолчал и вдруг пристально поглядел в глаза фельетониста. — Вы монархист? «Вот оно! — подумал Данилов. — Вот оно самое». Ему очень хотелось выкрутиться и соврать. Но святая убежденность в правоте своего мировоззрения не позволила ему покривить душой, и он, как ему показалось, с непоколебимой твердостью, а на самом деле смущенно, заикаясь и ерзая на стуле, промямлил: — Ну, вообще-то я, можно сказать, монархист, но я не диссидент какой-нибудь… Я всей душой предан партии, правительству и лично… — Вот именно это вам и предстоит доказать! — строго оказал Зубатых. — Кто еще из ваших знакомых монархист? — Не знаю, честное слово, не знаю. — торопливо залепетал труженик пера. — А если подумать? — майор снова стал крутить в пальцах шариковую ручку. — Да вы не бойтесь, мы ничего против монархистов не имеем. Так кто же еще разделяет ваши взгляды? — Видите ли, я монархист, так сказать, в глубине души и никогда ни с кем своими взглядами не делился… Так что я не знаю, кто их разделяет, а кто нет. — Ну, как же так? — ухмыльнулся майор. — Нам известно, что вы на собрании прямо говорили, что вы монархист. И как же отнеслось к этому собрание? — Да просто никто мне не поверил… — Но кто-нибудь что-нибудь по этому поводу говорил? — продолжал гнуть свою линию Зубатых. — Почему вы все время что-то утаиваете, чего-то недоговариваете? Что, например, сказал председатель собрания? Данилов задумался и вспомнил: — Он сказал, что то, что я монархист, не причина для самоотвода… — Вот видите, значит, председатель не осуждает ваши монархические взгляды. Так ведь получается? — Так, — ответил фельетонист. — Следовательно, он их разделяет. А как называется тот, кто разделяет монархические убеждения? Ну? Мо-на… Ну? — Монархист, — угадал труженик идеологического фронта. Майор опять улыбнулся: — Вот видите, значит, вы сами убедились, что у вас в редакции есть еще монархисты… Как, кстати, фамилия председателя? — Тимошкин Алексей Иванович… — Верно. Ну а если монархисты есть даже в редакции газеты, в нашей, так сказать, идеологической цитадели, то уж в других учреждениях, сами понимаете! — и майор снова широко заулыбался, так, будто рад был сообщить собеседнику это приятное известие. Данилов тоже, как бы радуясь приятной новости, изобразил на лице улыбку, но тут майор внезапно посерьезнел и, пристукнув по столу шариковой ручкой, тоном приказа сказал: — Теперь вы, товарищ Данилов, будете совершенно откровенно делиться мыслями со своими сослуживцами и выявлять среди них своих единомышленников и тех, кто разделяет ваши монархические взгляды. Было бы хорошо, если бы вам удалось сколотить небольшую, но хорошо законспирированную группу верных идеям монархии товарищей. В своей деятельности опирайтесь на нашу замечательную молодежь… Родине нужны преданные партии и правительству идейно подкованные монархисты… — Я понимаю, — услужливо кивал идейно подкованный дворянин. — Я понимаю. — Нов действительности он ничего не понимал, кроме того, что происходит что-то нереальное. — Разумеется, имена членов вашей подпольной организации вы будете сообщать лично мне. — сказал, прощаясь, Зубатых. — Я понимаю, я понимаю… — И не забудьте указать Тимошкина Алексея Ивановича. Засветил он себя, ох, засветил! — и Зубатых крепко пожал руку монархисту Данилову.ГЛАВА ШЕСТАЯ
А братание вечногорцев с главами заморских держав продолжалось. Расширялись и крепли государственные связи вечногорских аборигенов с шейхами, шахиншахами и вождями свободолюбивых племен и слаборазвитых кланов. Компетентные органы до поры до времени не мешали возникновению подобных связей и даже поощряли их, потому что в непредвиденных дипломатических схватках родственные связи могли оказаться прочней и надежней межгосударственных. Теперь граждане Вечногорска с не лишенным прагматических целей интересом следили за сменой зарубежных правительств, переворотами и кровавыми действиями хунт, а также за здоровьем многочисленных монархов, среди которых особым вниманием пользовались дряхлые старики и их молодые наследники. Деторождаемость в городе увеличилась на пятьсот процентов. Произошел демографический взрыв, и предприимчивые вечногорцы старались использовать его в мирных, хоть и корыстных, целях. Но мало было родить ребенка. Надо было подгадать так. чтобы он родился в самый благоприятный момент, т. е. когда где-нибудь на престол взойдет новый монарх или появится свежеиспеченный глава правительства. А для этого необходимо было основанное на точной информации научное предвидение: где, когда, кто? Атакой информацией во всем городе располагал один-единственный человек. Нет, это был не секретарь горкома, не председатель горсовета и даже не начальник компетентных органов. Этим информированным человеком был скромный пенсионер Абрам Маркович Глузман. С давних детских лет, еще с «Биржевых ведомостей» Абрам Маркович регулярно читал газеты и интересовался мировыми проблемами. Одни читали про лаун-теннис и футбол, других занимала судебная хроника и уличные происшествия, а часовщик Глузман следил исключительно за международным положением. Не было такой страны, какой бы он не знал, не было такого главы государства, которого он не помнил бы. Правда, последнее время пенсионера несколько беспокоил все убыстряющийся темп появления новых государств и премьеров. Но, с другой стороны, в этих стремительных переменах, как в остросюжетных романах, была своя прелесть, особенно если ды помните нить сюжета и понимаете, что к чему. А старый часовщик как-то умудрялся хранить в памяти бесконечное число фактов, имен и событий. Он даже помнил, кто такие правые христианские демократы, а кто — левые демократические христиане. Но вот беда: говорить об этом старику Глузману было абсолютно не с кем. Дети разъехались, жена раз и навсегда сказала, чтоб он не приставал к ней со своими международными глупостями, потому что нормальный человек от этой ненормальной политики может сойти с ума. И Абрам Маркович с этим смирился. Обычные пенсионеры забивали во дворе козла, играли в шахматы, говорили о диабетах и выгуливали собак, а Глузман сидел на балконе и думал, как бы лейбористам получше выкрутиться из очередного валютного кризиса. Кто все-таки умней: теперешний сенатор, Джексон, или бывший, лорд Керзон? Прежде часовщик обсуждал мировые политические проблемы со своим постоянным оппонентом Епиходовым. Пал Палыч хотя и ошибался, когда утверждал, что христианские демократы левее демократических христиан, и все-таки он был в курсе новейших международных течений, и Абрам Маркович мог говорить с ним на равных. Но года три назад Епиходов, к сожалению, уехал к сыну в Тюмень. и приятные политбеседы закончились. Друзья пробовали переписываться, но сочинять длинные послания о положении в Родезии или перевороте в Сальвадоре было утомительно. Тогда политпенсионеры стали слать друг другу короткие открытки типа: «Как тебе нравятся Эфиопия? Кто б мог подумать!» или «Вот так Лучезарро Кастракки! Я ж тебе говорил!». Старики прекрасно понимали друг друга, но обмениваться одними междометиями было неинтересно, и вскоре переписка заглохла. Теперь Глузман в печальном и гордом одиночестве следил за сложными международными хитросплетениями. Но никого не интересовали его прогнозы. И только изредка, когда то ли в парке, то ли в красном уголке жэка какой-нибудь пропагандист читал лекцию о международном положении, Абрам Маркович обрушивался на него с лавиной вопросов. Вопросы были специфичными и трудными. Тонкости их не понимали не только слушатели, но и пропагандисты. Слушатели начинали шуметь, лекторы не знали, что отвечать, а пенсионер разочарованно вздыхал и горько удивлялся, как таким необразованным людям доверяют такое серьезное дело, как лекции о международном положении! Да, никому в Вечногорске не нужны были его уникальные познания… И вдруг он стал самым уважаемым человеком в городе. С ним мечтали познакомиться все супруги, ожидавшие пополнения семьи. Его приглашали на чай дедушки и бабушки предполагаемых внуков. К нему приходили в гости, чтоб перекинуться парой слов о международных делах и выведать, не предвидится ли, по его мнению, где-нибудь дворцового переворотика и в какой точке земного шара можно ожидать появления хоть какого-нибудь заштатного суверенного государства и кто станет во главе этой свободолюбивой державы. Абрам Маркович был счастлив, что у него появились собеседники. Он часами готов был обсуждать мировые проблемы и самым подробным образом рассматривать шансы всевозможных претендентов, мечтающих занять просторное президентское кресло, мягкий престол или скромный кабинет диктатора. Жена пенсионера Нина Семеновна была рада, что к ее мужу пришло наконец-то настоящее признание. А признание было так велико, что ей стали отпускать продукты не там, где их получают, а точнее сказать — не получают простые смертные, а в подсобке, и Нина Семеновна хоть на старости лет перестала стоять в очередях, в которых она провела большую часть своей жизни. А Глузману звонили теперь из универмага и спрашивали, не нужны ли ему китайские брюки или алжирские подштанники. Да что там, заведующий собеса предложил Глузману горящую путевку в кисловодский желудочный санаторий. И хоть любитель-международник был по своему медицинскому профилю не желудочник, а сердечник — все равно такая забота была приятна. Так Абрам Маркович стал полноправным членом неофициальной, но существующей в каждом населенном пункте элиты. Той элиты, которую объединяет один-единственный принцип: в нее входят только нужные люди. Одни — потому что могут достать путевки, другие — потому что ведают театральными билетами, третьи — потому что способны обеспечить алжирскими подштанниками или подпиской на Жан-Жака Руссо. И то, что политнадомник попал в их число, означало, что обширные знания Глузмана были оценены по достоинству и приравнены, по меньшей мере, к алжирскому исподнему. Неожиданно выяснилось, что заявление, которое Глузман нехотя оттащил в райсовет двадцать лет назад, рассмотрели, и чету Глузманов переселили из коммунальной квартиры в отдельную. Неожиданно им также поставили телефон, и Абрам Маркович, проклиная склероз, никак не мог вспомнить, просил ли он кого-нибудь об этом и кого он должен благодарить за такую невероятную услугу. Однажды утром раздался звонок, и вежливый бархатный голос сообщил, что Абрама Марковича беспокоит референт товарища Самоедова. Но пенсионер, мысливший в глобальных международных масштабах, был абсолютным профаном во всем, что касалось самого Вечногорска. Он парил над странами и континентами, и с той высоты, на которой витали мысли пенсионера, заштатный городок был почти незаметен. Если бы товарищ Самоедов являлся самым незначительным министром в какой-нибудь грейпфрутовой республике, Глузман, конечно, о нем бы знал. Но Николай Трофимович Самоедов был всего лишь самым главным человеком в Вечногорске, и Абрам Маркович о нем как-то не слышал. Он не входил в круг его интересов. Однако Глузман был человеком воспитанным, отнесся к референту доброжелательно, и когда тот сообщил, что товарищ Самоедов хотел бы проведать товарища Глузмана в среду вечером, пенсионер, ни о чем не расспрашивая, сообщил референту, что готов принять товарища Самоедова в любой день, кроме среды. Потому что как раз в среду в районной библиотеке должна быть лекция о положении в Южной Африке, и он хотел бы уточнить с лектором некоторые важные детали. Референт также был человеком воспитанным, вернее — вышколенным, и не стал настаивать. Договорились, что товарищ Самоедов приедет к товарищу Глузману в четверг в 19.00. Затем референт пожелал старичку доброго здоровьичка, и в трубке послышались короткие гудки. Когда Нина Семеновна узнала, что к ним приедет товарищ Самоедов, она не поверила. Уж она-то, как всякий нормальный человек, хорошо знала, кто такой Николай Трофимович. В очередях то и дело кричали, что пойдут жаловаться к Самоедову. Поверить-то она не поверила, но на всякий случай начала генеральную уборку и приготовление своего главного фирменного блюда — пирога с маком. Абрам Маркович, когда жена объяснила ему что к чему, тоже смутился: ему стало неловко, что он, как какой-нибудь оголтелый бюрократ, перенес встречу со среды на четверг. Он уже согласен был не пойти на лекцию и встретиться с Самоедовым в среду, но не знал, как позвонить референту… В конце концов, немного успокоившись. Глузман, старательно пылесося ковер, стал думать, зачем он мог понадобиться такому большому человеку? Конечно, старик понимал, что Самоедов хочет потолковать с ним о международном положении. Зачем же людям еще нужен Глузман? Но что конкретно может интересовать Самоедова? Ближний Восток? Отношения Сомали с Эфиопией? А что, если он собирается обсудить проблемы Общего рынка? Или кризис в Италии? Хорошенькое дело! Товарищ Самоедов захочет узнать, чем закончится этот кризис и войдут ли коммунисты в правительство, а Глузман будет сидеть и хлопать ушами… И хотите знать, почему? Потому что он понятия не имеет, что себе думают христианские демократы. Это же не партия, а какая-то гоп-компания: то они объединяются с одними, то с другими, то они с профсоюзами, то не с профсоюзами… Но это же не ответ на вопрос. Раз уж Самоедов приезжает к Глузману, ему нужен точный ответ, потому что неточный он мог бы получить у своего референта. И Глузман решил сосредоточиться на правительственном кризисе в Италии. Машинально он продолжал пылесосить ковер, и неизвестно, сколько это бы продолжалось, но тут в комнате появилась Нина Семеновна. — Ты соображаешь, что делаешь? — закричала она. — Сколько можно мучить пылесосом этот ковер? Или ты хочешь. чтобы он стал лысым, как ты?! И Абрам Маркович был переброшен на вытряхивание подстилок. В четверг в 19.00 у дома, где жил пенсионер, остановилась «Чешка». Затем неслышно захлопнулись дверцы, и машина отъехала. Николай Трофимович, высокий и широкоплечий, с едва намечающейся типично номенклатурной полнотой, оказался человеком простым и вежливым. — Это вам не какой-нибудь босяк! — говорила о нем потом Нина Семеновна. Он извинился за то, что нарушает заслуженный покой пенсионера, не отказался попить чаю с пирогом, попросил еще кусок пирога и особо отметил замечательные кулинарные способности хозяйки. Во время чаепития разговор шел о градостроительстве, о мерах по дальнейшему озеленению… Абрам Маркович все ждал, когда же гость заговорит о международных делах, но Самоедов не торопился. После чая он внимательно осмотрел комнату, сказал, что с удовольствием прогуляется, и спросил, не составит ли ему компанию Абрам Маркович. — Совсем, понимаете, разучился ходить пешком, — проговорил Самоедов, когда они вышли из дому. — Все, понимаете, заседания, совещания… — Пешком ходить очень полезно, — вежливо откликнулся Глузман. — Воздух, кислород и вообще… — А у меня к вам, Абрам Маркович, очень серьезное дело. — сказал, озираясь, Николай Трофимович. Они вышли на пустынную набережную имени Беломорканала и направились вдоль реки Хлюпки. — Серьезное и в то же время деликатное… — Слушаю вас… — Но сначала я хочу попросить, чтобы разговор остался между нами. Можете вы мне это пообещать? — Товарищ Самоедов, — сказал Глузман, поднимая с земли камешек. — Видите, я бросаю этот камень в речку, — пенсионер размахнулся, и камешек, булькнув, ушел в воду. — Так вот скорее этот камень выплывет обратно, чем я нарушу обещание. — Я вам верю, — торжественно проговорил Николай Трофимович. — То. что я вам расскажу, касается не меня, а моего близкого друга. Он живет в другом городе и занимает там примерно такой же пост, как я в Вечногорске, понимаете? — Самоедов пристально поглядел на Глузмана. Глузман медленно кивнул. — У моего коллеги должен появиться ребенок. Но вы же знаете женщин с их женскими причудами… Так вот жена моего друга понаслышалась о связях наших горожан с заграницей и настаивает, чтобы крестным ее ребенка тоже сделали какого-нибудь иностранного политического деятеля. Муж объясняет ей, что он и рад бы, но ему при его должности никак нельзя. А она ни в какую! «Что ж, — говорит она. — получается, что наш ребенок хуже других! Лучше бы, раз на то пошло, я бы аборт сделала!» Представляете, она на седьмом месяце, ей нельзя волноваться, а она каждый день устраивает скандалы! Друг, чтобы успокоить ее, пообещал посоветоваться с вышестоящими организациями. а те сказали, что, если он выдвинет подходящую кандидатуру, его просьбу в порядке исключения уважат. Он спрашивает, не могут ли они подобрать для него кандидатуру по своему вкусу, им все-таки видней, а они говорят: пусть выбирает сам и притом под собственную ответственность! Вы представляете мое положение?! — Разумеется! — кивнул Глузман. делая вид, будто не заметил оговорки. — Но ведь никто в нашем городе, кроме вас, не может ответить, есть ли в мире подходящие кандидатуры и если есть, то кто именно? — Другими словами, вы хотите переложить ответственность за выбор кандидатуры на меня? — Ну что вы, Абрам Маркович! Зачем вы так ставите вопрос? — Тогда давайте подумаем вместе. Во-первых, каким требованиям должен отвечать этот гипотетический кандидат в родственники? — Ну, прежде всего он, разумеется, должен быть другом нашей страны… — Ясно. Еще? — Во-вторых, он обязательно должен быть прогрессивным деятелем. — Ну, это, я извиняюсь, одно и то же. Не все прогрессивные деятели наши друзья, но все наши друзья — прогрессивные. Как говорится, скажи мне, кто наш друг, и я скажу тебе, что он прогрессивный! — Самоедов вежливо улыбнулся, показывая, что он ценит юмор. — Откровенно говоря. Николай Трофимович, я не понимаю. зачем вам понадобился мой совет? Пусть этот ваш приятель даст своему ребенку имя любого политического деятеля — друга нашей страны, и все! Их, слава богу, чтоб они были здоровы, как собак нерезаных… — Э нет, Абрам Маркович, вы упрощаете! Вы недопонимаете сложности ситуации. Сегодня этот деятель наш друг, и все в порядке. А завтра этот друг переходит в лагерь реакционеров, противников разрядки, и я оказываюсь в родственных отношениях с нашим врагом! То есть не я, а мой приятель… Вот ведь в чем опасность. И я хочу, чтоб вы мне порекомендовали такого деятеля, который не подведет. Понимаете? — Понимаю. Вам нужна надежная дружба со знаком качества и бессрочной гарантией… — Глузман задумался. — Товарищ Самоедов, вы, извиняюсь, хотите услышать то, что я думаю, или то, что вы думаете? Я боюсь, что наши мнения не совсем идентичны. — Конечно, я хочу знать, что именно вы думаете по этому вопросу. Для этого я к вам и приехал. — И вы не обидитесь? — Разумеется! — без колебаний пообещал Самоедов. — Видите ли, Николай Трофимович, сколько бы наших друзей мы ни перебирали, никакой гарантии я как порядочный человек вам дать не могу. Наоборот, я вам могу гарантировать ненадежность дружбы. И хотите знать, почему? — Любопытно… — Потому что дружба с нами никогда не переходит в любовь. И только по одной причине. Мы обожаем с нашими друзьями обниматься. — Обниматься? — Да, именно обниматься! И чем сильнее дружба, тем крепче наши объятия. И, в конце концов, объятия становятся такими, что у наших друзей начинают трещать кости! Они пытаются хоть чуть-чуть разжать наши дружеские объятия, а мы прижимаем их к сердцу еще сильней. Я не собираюсь учить вас физике, Николай Трофимович, но действие, представьте себе, равно противодействию. И чем крепче мы их прижимаем, тем сильнее они хотят освободиться. Но чем больше рвутся они из наших объятий, тем крепче мы их прижимаем. И что отсюда следует? Отсюда следует, что чем больше мы с кем-нибудь дружим, тем больше шансов, что завтра этот друг станет нашим закадычным недругом… Я старый опытный часовщик — и что же? Я скорее дам гарантию на те часы, которые почему-то выпускает наш паровозостроительный завод, чем поручусь за наших зарубежных друзей. Я, конечно, не говорю про страны Варшавского пакта. Но вы знаете такого человека, который хотел бы с этими странами породниться? Самоедов на этот риторический вопрос не ответил. Он сказал: — Вы мрачно смотрите на вещи. Вы пессимист. — Что вы, Николай Трофимович! — не согласился пенсионер. — Я самый настоящий оптимист. Иначе как бы я мог столько лет читать газеты и не умереть от инфаркта? — Но неужели во всем мире нет такого прогрессивного деятеля, на которого можно положиться? — Почему нет? Патрис Лумумба, Че Гевара, Мартин Лютер Кинг… С каждым днем их все больше. Они прогрессивные, они друзья, на них можно положиться. Они таки не перейдут в другой лагерь. Но… — Абрам Маркович пожал плечами и. задумавшись, прищурился. — Но кто знает, — сказал он после долгой паузы, — мы же сами можем перейти. И тогда все равно мы окажемся даже с ними в разных лагерях. Нет. Николай Трофимович, я, конечно, извиняюсь, но при современном международном положении я лично ни за что не ручаюсь! Самоедов развел руками — мол, ну что ж поделаешь! — выдавил вежливую улыбку и еще раз напомнил о секретности разговора. Тут же откуда ни возьмись рядом возникла «Чайка». Глузман не заметил, чтобы Самоедов подавал какие-нибудь знаки водителю. И как водитель догадался, что разговор окончен и нужно подъехать именно в эту минуту — было совершенно непонятно. Возможно, между шофером и его хозяином существовала телепатическая связь. Николай Трофимович вежливо предложил подвезти пенсионера, но тот отказался, и самый главный человек в городе раскланялся и уехал. А международник-надомник пошел, раздумывая о превратностях мировой политики, домой. — Ну, о чем этот Самоедов говорил с тобой? — с нетерпением спросила Нина Семеновна. — О разрядке международных отношений, — кратко ответил Глузман. — И что ты ему сказал? — Пообещал разрядить…Четвертый сон Веры Павловны
Спал залитый лунным сиянием Вечногорск. Спали старожилы. Спали невинные несмышленые тезки несмышленых правителей. Спал, широко разбросавшись в своей иностранной двуспальной машине, отец Лучезарро Футикова. Спал в камере предварительного заключения спрятавшийся от спецжрецов сантехник. Спал Глузман и видел во сне заседание английского теневого кабинета. Спал тот самый Семен Семеныч, у которого в роду все мужчины были Семен Семенычами, и снилось ему, будто родилась у него тройня и. нарушив фамильные традиции, дал он всем трем мальчикам имена трех арабских шейхов. И скинулись три шейха и подарили Семен Семенычу нефтяную скважину вместе с вышкой. Что делать с этой скважиной, Семен Семеныч еще не знал, но даже во сне он не забывал о нефтяном кризисе и. боясь продешевить, пытался вспомнить, почем теперь нефть на мировом рынке и с какими странами выгодней всего вести торговлю. Вначале ему приснилось, что он, дурак, торгует с СЭВом. От страха Семен Семеныч застонал, перевернулся на другой бок, установил торговые отношения с Западом и, успокоившись, захрапел… Спал Вечногорск. Спала и персональная пенсионерка Вера Павловна, и снились Вере Павловне цветные идейно выдержанные сны… …Вера Павловна шла по улицам какого-то города. Ее сопровождал предупредительно вежливый человек в сером. Город был одновременно и чужим, и хорошо знакомым. Она знала, что идет по бывшей Никитской, ныне Сусловке, что сейчас покажется кинотеатр «Динамо», потом аптека, затем «Гастроном». Слева должен быть особняк, украшенный лепными завитушками и балконом, который поддерживают атланты. Нижний этаж этого дома занимала контора «Вечвторсырье». Вера Павловна проходила по улицам родного города и удивлялась. Несмотря на то что был день, над каждым зданием переливались яркие световые рекламы. «Курите только сигареты КЕМЕЛ!» «Добро пожаловать НА ЯМАЙКУ!» «Останавливайтесь только в гостинице КОНТИНЕНТАЛЬ!» «ГОНОЛУЛУ — вот место, где вы можете провести отпуск!» «ЯХТА ОЛИМПИЯ — лучшее из того, что вы можете подарить жене!» И даже на том балконе, который покоился на могучих плечах атлантов, был установлен светящийся транспарант. На нем ритмично возникали и гасли слова «Накопил и РОЛС-РОЙС купил!», а также время от времени возникала бегущая по серому шоссе элегантная машина. Получалось, что атланты держат на плечах не балкон, а рекламу, и это придавало рекламе еще большую достоверность и солидность. — У нас теперь продаются «Роллс-ройсы?» — удивилась Вера Павловна. — И я действительно могу поехать на Ямайку? Человек в сером тоже в свою очередь посмотрел на Веру Павловну. — Странно, разве вы не знаете, что Вечногорск заключил с Америкой договор о культурном обмене рекламами? Они торгуют нашими товарами, а мы рекламируем их товары. — И у нас продаются американские товары? — Ну что вы! У нас только рекламируются. — Зачем? — Как зачем? Мы же подписали договор. А их хваленые товары нам ни к чему! У нас еще вчера объявили, что наступил полный расцвет. Только теперь Вера Павловна заметила, что на всех домах полощутся праздничные флаги, а на заставленных запыленными муляжами витринах красуются лозунги: «Да здравствует полный расцвет!», «Слава полному расцвету!», «Пусть живет и крепнет в веках полный расцвет!» и «Встретим полный расцвет новыми трудовыми успехами!». — Неужели все ж таки наступил?! — обрадовалась Вера Павловна. — Представьте себе! — подтвердил человек в сером. — И к тому же, представьте себе, на две недели раньше запланированного срока! Вера Павловна остановилась. Сердце билось радостно и учащенно… О Господи, тот самый расцвет, во имя которого пришлось столько пережить! Тот самый расцвет, о котором мечтали лучшие умы человечества, тот самый расцвет, в неизбежном приходе которого сомневались пессимисты, нытики, скептики и маловеры — он наступил! Это ли не служит ярким свидетельством, это ли не является убедительным доказательством того, что жизнь все-таки прожита недаром, и Воркута не зря, и Магадан не напрасно! — И каким образом? Как же этого удалось добиться? И в такие сжатые сроки! — не переставала изумляться Вера Павловна. — О, это благодаря дальновидной политике и мудрому руководству лично товарища Сама! — объяснил серый. — Чем, по-вашему, в первую очередь характеризуется полный расцвет? — Разумеется, полным удовлетворением разумных потребностей. — Совершенно верно. И для этого существовало несколько путей. Так. например, был предложен самый простой путь: приказать считать с такого-то числа все потребности удовлетворенными. Но товарищ Сам не согласился. «Это попахивает волюнтаризмом, — сказал товарищ Сам. — Мы пойдем другим путем!» Другой же путь заключался в следующем. Согласно историческим указаниям товарища Сама основное внимание следовало уделять не борьбе за удовлетворение потребностей, а воспитанию граждан. Так, благодаря правильному воспитанию, рост сознательности граждан должен был опережать рост потребностей. И в итоге сознательность должна была достичь такого уровня, когда каждый сознательный гражданин поймет, что иметь потребности некрасиво. И основной потребностью станет полный отказ от каких бы то ни было потребностей, и постепенно потребности исчезнут. А раз потребности исчезнут, значит, не надо их удовлетворять. А раз их не надо удовлетворять, значит, они полностью удовлетворены. А полное удовлетворение потребностей, как вы сами оказали, означает полный расцвет! Вера Павловна была поражена гениальной простотой решения столь сложной задачи… Однако тут же она заметила. что к магазинам тянутся длинные очереди, и вопросительно посмотрела на своего попутчика. — Видите ли, — спокойно объяснил серый, — я ж говорил, что расцвет наступил за две недели до положенного срока… Поэтому произошла неувязочка, и потребности еще не успели окончательно исчезнуть. И когда по случаю праздника в магазины выбросили говяжью колбасу из свинины и колготки, отдельные граждане бросились делать запасы, и образовались очереди. Опять-таки можно было отдать приказ и очереди разогнать. Но любящий свой народ и знающий его мечты и чаяния товарищ Сам был исключительно против. «Это попахивает антидемократичностью, — сказал он. — Мы пойдем другим путем!» И Вера Павловна увидела, как согласно мудрому решению товарища Сама стоящим в очереди раздали флаги, красочные транспаранты и кумачовые полотнища с соответствующими моменту радостными лозунгами. Благодаря этому очереди сразу же превратились в праздничные шествия. Каждой очереди был придан бравый духовой оркестр. Сверкали на солнце надраенные трубы, звучали бодрые марши, развевались стяги, и ликующие граждане отгоняли древками знамен тех, кто пытался пролезть без очереди! Временами мажорные марши сменялись минорными вальсами, и тогда очереди, разбившись на пары, танцевали. не выпуская из рук праздничных украшений, и вместе с парами кружились транспаранты и бесчисленные портреты Сама, который с доброй отцовской улыбкой смотрел на благодарные очереди…ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Многое изменилось за эти годы в мире. Борец за свободу и независимость Ломалии адмирал Кастракки стал за это время адмиралиссимусом, но продолжал перегонять Америку. В Ломалии уже имелось более двухсот самолетов, триста танков и двести пятьдесят бронетранспортеров. Для очередного исторического скачка у Кастракки не было только запчастей. И адмиралиссимус отправился за запчастями в Москву. Разумеется, о визите высокого гостя было договорено заранее. К приезду его разработали программу переговоров на высшем уровне. В перерыве между переговорами высокого гостя должны были развлекать, и развлечения также были организованы по высшему классу. Так, например, Кастракки намеревался совершить путешествие в Сочи и Ленинград. И вот как раз по дороге из Сочи в Ленинград чадолюбивый адмиралиссимус собирался навестить своего тезку Лучезарро Футикова в Вечногорске, который находился аккурат посредине между двумя вышеназванными географическими точками. Вечногорское начальство всполошилось. Шутка ли! Ни разу в истории нога какого-либо адмиралиссимуса не ступала на асфальт древнего города. Ни один зарубежный деятель не посещал этот забытый борцами за свободу и независимость город. Счастливчика Футикова переселили на время визита Кастракки в отдельную четырехкомнатную квартиру, предварительно выселив из нее секретаря райкома. И секретарь пошел на эту временную жертву, сознавая, что представитель недостаточно развитой страны должен видеть, в каких условиях живут простые советские люди. В новую резиденцию Футикова завезли югославский кабинет. арабскую спальню, румынский столовый гарнитур и финскую кухню. В югославском кабинете установили японский цветной телевизор, немецкую стереосистему. В румынском серванте разместили английские сервизы, а в финском баре установили бутылки с французским коньяком, шотландским виски, американским тоником и новороссийской пепси-колой. Все это запретили трогать до приезда Кастракки. Паркет сиял, мебель сверкала, а семья Футиковых, чтобы случайно чего-нибудь не запачкать и не поцарапать, ютилась пока что у себя в квартире, а у дверей новой квартиры на всякий случай дежурил милиционер. которому было велено никого не пускать и бдить. По случаю срочной уборки города среда была объявлена комсомольским субботником, а в субботу устроили дополнительно профсоюзный воскресник. Погода стояла холодная. пронзительный ветер разбрасывал кучи собранного мусора, моросил дождь, участники суббото-воскресника спасались от простуды, и в магазинах шла бойкая торговля местным портвейном. Вино это, как известно, делалось из разбавленных чернил с небольшой примесью керосина и отличалось редким букетом. У ценителей оно называлось шерибрендиевкой. На прилавках оно ввиду дешевизны не застаивалось, и теперь ради комсомольско-профсоюзного мероприятия его выбросили в неограниченном количестве, и за два дня богатыри-вечногорцы осушили годовую норму этого живительного напитка. Но так как бутылки из-под шерибрендиевки никакими известными науке способами не отмывались, то в магазины их обратно не принимали. Пустая посуда валялась по всем улицам, город благоухал шерибрендиевкой, и, когда солнце выглядывало из-за туч, бутылки начинали сверкать предательским блеском. И после воскресника во вторник объявили еще один субботник, чтобы вывезти стеклотару за пределы города. И вот настал день великого посещения. Футиковых пустили наконец в квартиру, и теперь они в срочном порядке осваивали ее, чтоб хоть примерно знать, где что, и чувствовать себя как дома. За четверть часа до прихода поезда все городское начальство во главе с Самоедовым прибыло на вокзал. Все, в том числе и старший плановик Футиков, были в черных костюмах, белых рубашках и серых галстуках. Взволнованная Аделаида держала за руку подросшего ребенка и страшно боялась, как бы Кастракки не разглядел, что ребенок, которого он увидит, вовсе не Лучезарро. Да, да, случилось нечто непредвиденное, как раз накануне приезда Кастракки мальчик вдруг простудился, стал кашлять, сморкаться. И учитывая, что адмиралиссимус пожелает обнять своего тезку и даже поцеловать его, и боясь, что тезка может заразить адмиралиссимуса гриппом, городское начальство решило на всякий случай ребенка временно подменить. Ровно в 12.37 поезд остановился на первом пути. Сверкая ослепительной улыбкой и орденами, Кастракки показался в дверях вагона, и сводный духовой оркестр грянул «Ча-ча-ча». Проинструктированные, как вести себя во время исполнения гимна, встречающие покрутили тазобедренными суставами, и, когда гимн смолк, к адмиралиссимусу подошел Самоедов и крепко обнял его, за ним поспешило другое городское начальство и тоже обнимало и тискало борца за свободу. После всех к Кастракки подошли Футиковы. Переводчик что-то сказал адмиралиссимусу. — О, Лучезарро! — закричал темпераментный Кастракки и поднял ребенка над головой. — О, бамбино! Испуганный Лжелучезарро испуганно заорал, и адмиралиссимус. расцеловав, опустил его на землю. Потом он потрепал по щеке обалдевшую мамашу, пожал руку Футикову и вслед за Самоедовым двинулся к выходу. Привокзальная площадь встретила прогрессивного деятеля кумачовыми транспарантами и приветственными криками. Все кричали то, что было написано на транспарантах, а на транспарантах было написано то, что все кричали: «Да здравствует свободная Ломалия!», «Мир — дружба!» и «Добро пожаловать, амиго Кастракки!». Городское начальство и заморские гости расселись по машинам. Кавалькада тронулась, и на вокзальных ступеньках остались только забытые супруги Футиковы с врио Лучезарро. Торжественный кортеж медленно двигался по центральным улицам. Вдоль всего маршрута стояли вечногорцы и размахивали флажками. Не избалованные, как столичные жители, высокими зарубежными гостями, они искренне радовались и приятному развлечению, и тому, что видят живьем адмиралиссимуса, и тем более тому, что их с самого утра отпустили для этого с работы. Высокий гость отдавал честь, улыбался, делал ручкой и радовался, что его так бескорыстно любят русские. Сидевший рядом Самоедов тоже улыбался, тоже делал ручкой, но насчет бескорыстной любви иллюзий не испытывал. Трудящиеся размахивали руками, шапками, транспарантами. Но внезапно на одной стороне улицы показалась никем не заполненная странная пустота. Она тянулась от магазина «Динамо» до кинотеатра «Динамо», метров двести, а за ней снова теснились ликующие горожане. — Странно, — подумал Николай Трофимович. — Почему здесь никого нет? Какое-нибудь предприятие должно же здесь находиться. — И, сохраняя на лице приветливую улыбку, хозяин города засек эту двухсотметровую прогалину в густой роще красных транспарантов и в дальнейшем не раз еще вспоминал о ней. Прямо с вокзала высокого гостя привезли в самый большой городской ресторан, где уже красовались щедро накрытые, стоявшие покоем столы. Все расселись, и мэр города Бранденбургский поднялся, держа в одной руке фужер. а в другой многостраничную речь. Увидев, что обе руки заняты и поэтому он несможет переворачивать страницы, мэр почувствовал легкое замешательство, но затем догадался поставить фужер на стол и, откашлявшись, начал речь. Вначале он, как водится, сказал, с каким радостным чувством законной гордости и глубокого удовлетворения трудящиеся Вечногорска узнали, что в их город приедет известный всему миру борец за свободу и независимость Ломалии адмиралиссимус Кастракки. Затем он отметил, что создание независимой республики Ломалии открывает перед свободолюбивым ломалийским народом путь к политическому и экономическому развитию, социальной свободе и прогрессу. Освободительная борьба народа Ломалии, продолжал он, встретила решительную поддержку со стороны народов Советского Союза, что является прочной основой советско-ломалийских отношений, достигнутых на основе равенства, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга, как того требуют интересы народов обеих стран. Бранденбургский также подчеркнул, что советский народ уверен, что народ Ломалии полон решимости следовать курсом глубоких национально-экономических преобразований, убедительным доказательством и ярким свидетельством чего является братская бескорыстная помощь Советского Союза и политика миролюбивых сил, которая служит надежным гарантом мира и безопасности. Однако, сказал далее предгорсовета, нельзя не отметить, что еще есть влиятельные круги на Западе, происки противников разрядки, нагнетание международной напряженности, вступая на путь прямых угроз и провокаций, изливая потоки лжи и клеветы, пропагандистская шумиха, израильская военщина, сионисты. сионистов, сионистами, обречено на провал, и передать народу Ломалии пожелания дальнейших успехов, прогресса и процветания! Речь мэра длилась ровно 19 минут. Присутствующие поаплодировали, выпили, закусили. Затем с ответным словом выступил Президент Кастракки. Будучи, вероятно, малограмотным, он не надеялся, что с ходу сможет прочитать текст по бумажке, и потому, как акын, слагал свою речь экспромтом. В ответном слове адмиралиссимус выразил глубокую благодарность жителям Вечногорска за теплую дружескую встречу и отметил, что создание независимой республики Ломалии открывает перед свободолюбивым народом этой страны путь к политической и экономической независимости, социальной свободе и прогрессу. Освободительная борьба народа Ломалии. продолжал Кастракки. встретила понимание и поддержку со стороны Советского Союза, что является прочной основой всестороннего развития ломалийско-советских отношений на основе равенства, взаимной выгоды и невмешательства в дела друг друга, что служит интересам обеих стран. Братская бескорыстная помощь Советского Союза является ярким свидетельством и убедительным доказательством братской бескорыстной помощи и яркого свидетельства. Советский народ может быть уверен, подчеркнул Президент, что народ Ломалии полон решимости следовать курсом глубоких экономических преобразований. Однако, продолжал Президент, нельзя не отметить, что весьма влиятельные реакционные круги на Западе, противники разрядки напряженности, изливая потоки лжи и клеветы, вступая на путь прямых угроз и провокаций путем пропагандистской шумихи сионисты, сионистами, сионистов, обречено на провал и передать жителям Вечногорска пожелания дальнейших успехов, процветания и прогресса! Речь Лучезарро Кастракки продолжалась тоже ровно 19 минут и была встречена бурными аплодисментами и возгласами «Браво!» и «Бис!». «Умеет говорить! — восхищались присутствующие. — Трибун! Вот что значит — южный темперамент!» Опять выпили, закусили, и слово получил Самоедов. Он тоже умел говорить без бумажки, пользуясь гладкими и синтаксически завершенными периодами, в которых подлежащие соседствовали со сказуемыми, а сложносочиненные предложения перемежались сложноподчиненными… А это ведь не так просто. Вечногорцы помнят, как предшественник Самоедова впервые попробовал говорить без бумажки. Он так запутался в первом же сложноподчиненном предложении, что никак не мог из него выбраться. Чем дальше он говорил, тем больше путался во всевозможных «постольку поскольку» и «некоторые из которых». В конце своей трехчасовой речи он был дальше от конца фразы, чем в начале выступления. Так волны прибоя относят неопытного пловца от берега и, чем сильнее он размахивает руками, тем все дальше уплывает от суши. Он уже не следил за смыслом того, что говорил, он только мечтал добраться до первой точки. Однако через три часа он понял, что, захлебываясь, идет ко дну, и сдался. Так и не завершив первой фразы, он закончил историческую речь словами «из чего следует, что от того что потому что» и сошел с трибуны. Честно говоря, никто ничего не заметил бы, но оратор забыл завершить речь традиционным «Да здравствует…», и вот это сразу заметили, и вскоре оратор оказался на пенсии. Самоедов же был деятелем более современного толка. Он умел говорить просто и содержательно. Суть выступления Самоедова заключалась в следующем: Николай Трофимович полагал, что создание независимой республики Ломалии открывает перед ее свободолюбивым народом путь к экономической и политической независимости. Далее он справедливо отметил, что интересы обеих стран требуют дальнейшего развития и углубления советско-ломалийских отношений, достигнутых на основе равенства, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга. Затем Самоедов заговорил о солидарности, противниках разрядки, реакционных милитаристах, сионистах, сионистами, сионистов и передал наилучшие пожелания народу Ломалии!Согласно намеченной и утвержденной программе Кастракки должен был еще после банкета посетить Фунтиковых, а уж оттуда отправиться обратно на вокзал к вечернему поезду. Однако программа была нарушена: банкет несколько затянулся. Хваленое русское хлебосольство дало себя знать, и из ресторана прогрессивного деятеля пришлось везти прямо на поезд. В вагон адмиралиссимуса вносили по частям, и. если в дальнейшем он пытался вспомнить далекий Вечногорск, в памяти всплывали только размахивающие флажками толпы и чья-то рука, подливающая в его фужер коньяк. Дальше голова борца за свободу начинала кружиться, к горлу подступала тошнота, и на этом воспоминания о Вечногорске кончались. Кастракки, разумеется, не помнил, как по дороге на вокзал его снова приветствовали горожане, как он снова делал ручкой и пытался на ходу выйти из машины. Сидевший рядом Самоедов вежливо, но решительно придерживал его, обнимая за талию. И вот что интересно: когда процессия проезжала мимо кинотеатра «Динамо», гостеприимный хозяин отметил, что от кинотеатра до одноименного магазина, опять неприлично прерывая ряды провожающих, зияет пустота. — Черт знает что такое! — подумал Самоедов. Весь маршрут высокого гостя был заранее разбит на участки, и каждый участок был заранее закреплен за определенным предприятием. И если какой-то отрезок пустовал, значит, какое-то предприятие не выполнило указания и не прислало своих представителей. Такое самоуправство не то что возмущало, а скорее озадачивало Самоедова. Подобного своеволия в Вечногорске просто не могло быть! И Николай Трофимович сразу же понял: здесь что-то не то… — Чей участок возле магазина <Динамо» на Суслов-ке? — сердито спросил Николай Трофимович референта, едва лишь удалось спровадить дорогого гостя. — Сейчас уточним, — сказал референт и, заглянув в специальный список, сказал: — Это участок почтового ящика 19/17. — Узнайте, почему они не вывели на мероприятие своих людей? Они думают, что если они почтовый ящик, так им законы не писаны? Вызовите ко мне директора. Кто у них парторг? — Не помню… — задумался референт. — Но я сейчас уточню. — Соедините меня с ним, — распорядился Самоедов… И здесь необходимо краткое отступление.
Краткое отступление
Лет за 15 до описываемых нами событий согласно Постановлению Совета Министров на окраине Вечногорска начали строить номерной завод. Но поскольку этот завод номерной, мы не станем разглашать военной тайны и говорить, какую продукцию ему полагалось выпускать. Да это и не имеет значения. Важно, что во всех документах безымянный завод фигурировал как почтовый ящик 19/17. И еще более важно, что завод этот не то чтобы действительно начали строить, но точно в срок, установленный Советом Министров, доложили, что строительство начало. Ну а раз начали стройку, значит, когда-нибудь ее нужно и закончить. И не просто когда-нибудь, а точно в намеченный срок. И вот в указанный срок и даже на два дня раньше отрапортовали, что строительство закончено и что завод своевременно приступил к освоению продукции. Освоению опять-таки отводили конкретные сжатые сроки, пути к отступлению не было, и пришлось сообщить, что несуществующий завод выпуск продукции начал. Дефицитная продукция на пять лет вперед была распределена между подрядчиками, и через год подрядчики стали жаловаться, что завод-поставщик не выполняет заказов в срок. Плохая работа завода служила косвенным доказательством того, что завод существует. Ведь как-то же несуществующий завод работает, хоть он и работает пока что недостаточно хорошо? Постепенно привыкли к тому, что почтовый ящик 19/17 с планом не справляется. Попробовали сменить директора. Тут уж, казалось бы, и обнаружится, что завода нет. Но не успел новый директор доехать до несуществующего завода, как его, директора, в дороге настигла телеграмма, вызывающая его на заседание в министерство. С заседания директор был послан на межведомственное совещание в Киев, откуда все участники совещания поехали перенимать опыт в Йошкар-Олу. Из Йошкар-Олы директора послали в командировку в страны СЭВа. А вернувшись из загранкомандировки, директор узнал, что его опять перевели на другое предприятие. А в почтовый ящик 19/17 вернули прежнего директора. Так тайна почтового ящика и осталась нераскрытой. Постепенно те немногие отцы города, которые знали, что завода не существует, переехали в другие города, в другие ведомства строить другие заводы или просто ушли на пенсию и засели за мемуары. А вокруг несуществующего завода на средства, отпускаемые для жилищного строительства, выросли несуществующие дома, появились несуществующие магазины с несуществующими товарами и открылись замечательные несуществующие ясли нового типа. Несуществующие рабочие несуществующего завода по разнарядке сверху выступили инициаторами важного и своевременного почина, имевшего всесоюзный резонанс. Но, поскольку завод был почтовым ящиком, почин неудобно было называть почтовоящиковским. И поэтому почин именовали вечногорским, а людей, подхвативших этот славный почин, — вечногорцами. И когда в город приехал новый хозяин, Николай Трофимович, несуществующий почтовый ящик уже действовал вовсю, беспрекословно выполняя все приказы и распоряжения начальства. И вдруг такая партизанщина — демонстративный невыход на такое ответственное мероприятие!ГЛАВА СЕДЬМАЯ (продолжение)
Самоедов с нетерпением ждал, когда его соединят с виновником безобразного ЧП. Но тут вошел растерянный референт и, бледнея, заявил, что он никак не может найти телефон этого почтового ящика и что никто не знает даже фамилии тамошнего парторга. Просто какое-то наваждение! Так начала разматываться ниточка, приведшая к раскрытию ужасной тайны, подобной по своим масштабам Уотергейтскому скандалу. И когда правда о почтовом ящике наконец приоткрылась, Самоедов просто-напросто растерялся. Он не мог сообщить в Москву о том, что узнал, и в то же время не мог не сообщить! Пять лет он был самым главным человеком в городе и, следовательно, все эти годы покрывал неслыханное антигосударственное дело! Получалось, что, если бы в Вечногорск не приехал Кастракки, Самоедов так и не знал бы, какое безобразие творится у него под носом. Хорошо будет выглядеть хозяин города в глазах Москвы. Дай бог, чтобы весь этот вечногорский уотергейт окончился импичментом с занесением в личное дело! А тут еще эти Футиковы! Когда отбыл прогрессивный родственник и их вежливо попросили вернуться к себе домой и оставить квартиру секретаря, они наотрез отказались. Пришлось вызывать милицию. Но Футиковы забаррикадировались и представителей власти не пустили. Более того, Аделаида Футикова вышла на балкон и своим не нуждающимся в электронных усилителях голосом заорала на всю улицу, что, если их не оставят в покое, они объявят голодовку и пошлют об этом телеграмму прямо своему адмиралиссимусу! Столпившиеся под балконом горожане поддержали их дружными криками. И тогда вконец обнаглевшая Аделаида заявила, что мебель, которую им дали напрокат, они тоже оставляют себе и будут выплачивать ее в рассрочку. Если же учесть зарплату Футикова, то выходило, что окончательный расчет за мебель произойдет где-то в конце следующего века… Вот какие невероятные события вызвал кратковременный визит Кастракки. А тот выбил запчасти и поехал к себе перегонять ничего не подозревающую Америку.ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Как поется в старинном философском романсе, «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Не успел еще Николай Трофимович решить, как ему быть с загадкой почтового ящика 19/17. признаваться или не признаваться, а уж дело решилось само собой. Неожиданно Самоедова вызвали в Москву и предложили поехать послом в Кандалузию. На том языке, на котором разговаривали в тех сферах, где вращался Николай Трофимович, предложили означало — приказали. Так что согласия его никто не спрашивал, ибо оно подразумевалось в самом емком слове «предложили». И в глубине души Самоедов такому назначению обрадовался. Что бы его ни ожидало в этой неизвестной Кандалузии, а расхлебывать историю с почтовым ящиком теперь так или иначе придется другому. На сдачу дел и сборы Самоедову дали две недели, и, естественно. любопытство заставило Николая Трофимовича вторично встретиться с пенсионером-международником Глузманом. Кто же еще мог снабдить посла информацией о той стране, куда его посылали. Точные инструкции он. разумеется, получит в Москве. А вот насчет точной информации — нет, тут Самоедов больше доверял Глузману. Абрам Маркович не удивился, когда снова позвонил безымянный помощник и сказал, что его шеф опять хотел бы встретиться с уважаемым Абрамом Марковичем. Честно говоря. Глузман даже ждал этого звонка… И все повторилось. Был небольшой переполох со стороны Нины Семеновны, была «Чайка» у подъезда, был чай с традиционным пирогом… Но теперь Глузман знал, что Самоедов заговорит о деле только тогда, когда они выйдут погулять по набережной и останутся вдвоем. — Абрам Маркович, — сказал Самоедов, когда они оказались на пустынной Беломорской набережной. — я хочу открыть вам один секрет. Меня перебрасывают на работу за границу, но я прошу вас пока об этом никому не говорить… — Николай Трофимович, мне абсолютно незачем кому-нибудь что-нибудь говорить: весь город и так про вас все знает. — О чем знает? — удивился Самоедов. — О том, что вы едете, если я не ошибаюсь, в Кандалузию. И, между прочим, не кем-нибудь, а послом. — Ну ты скажи! — воскликнул пораженный Самоедов. — И откуда все всё узнают? — Я сам часто думаю: откуда у нас все всё знают, когда никому ничего не известно?! И, наоборот, почему иногда никто не знает то, что известно каждому? Это очень непростой вопрос! — Ну, уж если вам известно, куда я еду, тогда скажите, что вы знаете об этой стране? — спросил посол. — У меня, честно говоря, не было времени познакомиться, что там да как… — Что там да как? — задумчиво повторил Абрам Маркович. — Я, конечно, не Большая Советская Энциклопедия, но если бы вы даже заглянули в эту энциклопедию, вы бы о Кандалузии ничего не узнали, потому что, когда издавался том на букву «К», этой страны еще не было. — А что же там было? — Был небольшой архипелаг Святого Пафнутия. Архипелаг считался мексиканским. Потом националисты-сепаратисты потребовали отделения архипелага от Мексики и создания независимого государства. Началась борьба. Никто. об этой борьбе не знал, хоть газета «Вечерний Вечногорск» не раз выступала в поддержку сепаратистов. Например, я помню, как в поддержку независимости островов Святого Пафнутия выступил токарь завода 19/17 Колупаев. как токаря поддержал пекарь Армавиров, а с тем и с другим согласился пенсионер Зельдин. Но ничего не помогло! И как вы думаете, что сделали националисты-сепаратисты? Успокоились? Как бы не так! Они захватили мексиканский самолет с заложниками и сказали, что, если им сейчас же не предоставят независимости, они камня на камне не оставят ни от заложников, ни от самолета! Никто не захотел связываться с этими бандитами, и на островах Святого Пафнутия появилась независимая Кандалузия. — Каждый народ вправе бороться за свою свободу и независимость! — четко сказал Николай Трофимович. — Еще бы! — согласился международник. — Тем более что жителей во всей Кандалузии меньше, чем у нас в Вечногорске, и вообще территория всего архипелага чуть больше вечногорского района. — Такое небольшое государство? — не сдержал удивления Самоедов. — Сказать, что Кандалузия небольшая страна, это все равно что ничего не сказать! — подтвердил пенсионер. — Она крохотная!!! Она даже меньше, чем Монако. — Ну а чем они занимаются? Что у них за экономика? — Это как раз я вам скажу. Экономика, между нами говоря, у Кандалузии еще менее надежная, чем рулеточно-картежная экономика Монако. Жители Кандалузии ничего не сеют, ничего не выращивают, только собирают. — Что собирают? — не понял Самоедов. — Бутылки, банки, я знаю…Экономическое отступление
Понимаете, архипелаг Святого Пафнутия находится как раз напротив Америки. И американцы уже давно привыкли проводить уикэнды на этих островах. Они там устраивают всякие пикники, массовки, междусобойчики. И после каждого уикэнда на островах остается вы себе не представляете сколько посуды. Из-под виски, из-под джина, из-под кока-колы — в общем, из-под всего. И еще с довоенных времен свободолюбивые жители этих островов собирали эту посуду и сдавали в Штаты. Архипелаг Святого Пафнутия всегда жил за счет сдаваемой посуды, и это же являлось основной статьей дохода независимой республики Кандалузия. Несмотря на провозглашение республики, американцы, как и прежде, каждый уикэнд приезжали на острова, а жители каждую неделю сдавали посуду. Но как только премьер Кандалузии объявил, что они с нового года начинают строить у себя социализм, так махновцы из вашингтонского Конгресса попытались задушить свободолюбивый народ с помощью экономических санкций. — Каких санкций? — заинтересовывался все больше Самоедов. — Вы еще спрашиваете! Конгрессмены издали закон, запрещающий принимать посуду у жителей Кандалузии — и все! Эта коварная и беспрецедентная в истории цивилизации мера сразу же подорвала экономику республики. Кандалузия стала буквально задыхаться в тисках экономической блокады. Но тут, конечно, на помощь ей пришел бескорыстный друг всех слаборазвитых стран. По всей Кандалузии были построены палатки по приему посуды. Причем мы, конечно же, платили за стеклотару больше, чем торгаши-американцы. Нам же не жалко! Экономика Кандалузии снова стала стремительно наращивать темпы, а курс ее валюты на биржах Лондона и Парижа резко пошел вверх… — Это хорошо! — удовлетворенно отреагировал посол. — Это замечательно! — поддержал Глузман. — Но, Николай Трофимович, вы представляете, где, примерно, Кандалузия. а где Одесса? — При чем здесь Одесса? — удивился Самоедов. — А при том, что прямо из Одессы в Кандалузию ходят огромные пароходы и забирают собранную посуду. Доставка каждой бутылки из-под виски обходится примерно в один рубль тринадцать копеек. Это не я подсчитал, это экономисты подсчитали. Однако, как вы знаете, американские бутылки отличаются от наших. И потому, когда пароходы, проделав кругосветное путешествие, наконец возвращаются и привозят посуду в Одессу, стеклотару из-за нестандартности пускают под пресс. Так растет и крепнет наша дружба. Кой-какие деятели сказали, что дешевле было бы оставлять принятую посуду на островах. Но эти недальновидные горе-экономисты не учли, что тогда нам незачем было бы строить в Кандалузии порт. — Какой порт? — Николай Трофимович, я, конечно, извиняюсь, но вы невнимательно слушаете. По-моему, я уже говорил, что из Одессы за стеклотарой приходят огромные пароходы. Говорил? А как. по-вашему, пароходы могут подходить к острову, если там нет приличного порта? А кто построит этой нищей стране порт, если не мы? Прежде кандалузцы ездили сдавать в Штаты посуду на моторных лодках, и им не нужен был порт. А пароходам порт нужен. Реакционная пресса подняла, конечно, шумиху, будто мы строим не порт, а военную базу. Но я вас спрашиваю, кто в это поверит? Вы, например, поверите? Любому здравомыслящему человеку доброй воли ясно, что эти досужие вымыслы рассчитаны на то. чтобы вбить клин между нашими дружественными народами. — Разумеется, разумеется, — закивал Самоедов. — Но у меня к вам еще один вопрос… Мне говорили, что там, в Кандалузии, недавно были серьезные беспорядки. Вы не слышали об этом? — Нет, я об этом не слышал, — подчеркнул Абрам Маркович. — Я об этом читал. И, между прочим, не где-нибудь, а в «Вечернем Вечногорске». Там-таки были беспорядки. И еще какие! Из-за них-то, насколько я понимаю, и сняли вашего предшественника… — А из-за чего они произошли, эти беспорядки? Я наводил справки, но мне никто ничего толком не мог объяснить… — И неудивительно, — сказал Глузман. — Я сам долго не мог понять, что там случилось. И если бы моя жена Нина Семеновна мне не подсказала, я бы и сейчас не знал. — Ваша супруга тоже интересуется международными делами? — удивился Самоедов. — Никогда в жизни! Она же не Индира Ганди. Но, в отличие от Индиры Ганди, она типичная советская домашняя хозяйка. И благодаря этому она поняла, что произошло в Кандалузии. раньше, чем я. Николай Трофимович был всерьез заинтригован. — Ну, ну, — заторопил он. — Видите ли. не мне вам говорить, дружба между государствами — дело сложное. — начал издалека Абрам Маркович. — И трудно предусмотреть, какие преграды станут на пути этой дружбы. Преграды могут быть экономические. политические, религиозные — я знаю! В одной стране, представьте себе, одна религия, а в другой, как назло, другая… Но в данном конкретном случае произошло совсем третье, чего никак нельзя было предусмотреть. Уж мы, казалось бы. ничего не жалели для Кандалузии. И принимали у них ненужную нам посуду, и специальные палатки для приема построили, и лучших наших приемщиков туда послали. Николай Трофимович, разрешите, я буду с вами откровенен. — Я вас об этом как раз и прошу. — Так вот не подумайте, что я насмотрелся по телевидению слишком много фильмов о разведчиках и шпионах… Я вообще не люблю телевизор. Но я понимаю, что у советских приемщиков посуды в Кандалузии была-таки вторая профессия. То есть работа в палатках была как раз у этих приемщиков второй профессией. В то время как первая профессия была у них гораздо серьезней, ответственней и опасней. Самоедов дипломатично промолчал. — Наши славные разведчики, чтобы не быть разоблаченными, перед тем как стать приемщиками посуды в Кандалузии. прошли суровую школу работы в советской торговой сети. Там они отлично освоили своеобразные методы обращения советских работников прилавка с покупателями, и теперь даже самый опытный глею не смог бы отличить наших отважных приемщиков стеклотары от обычных хамоватых советских продавцов. И произошло непредвиденное. Даже для не избалованных кандалузцев мещеры наших продавцов показались немного грубоватыми, я бы сказал, невоспитанными. Не до конца цивилизованные жители Кандалузии отличались прирожденной вежливостью, патриархальным уважением к старшим и наивной честностью. И поэтому, столкнувшись с непривычными для них дикими нравами нашей торговли, бедные аборигены растерялись. Им казалось, что они чего-то недопонимают. И туземцы начали роптать. Но на опытных штирлицев это не подействовало, и они продолжали вести себя так. как их учили. Я воображаю, как они орали на робких туземцев, как они их обсчитывали! Не для наживы обсчитывали, упаси бог. а чтобы не отличаться от наших настоящих продавцов и тем самым не вызывать подозрений. Вы только представьте себе, как какой-нибудь бедолага туземец, чтобы заработать для семьи пару копеек, тащит на себе с другого конца острова мешок с бутылками. А когда этот абориген добирается наконец до палатки, он видит на ней записку: «Ушел на базу» или «Закрыто на переучет». Ну? Вы только вообразите себе эту картину, и станет ясно, почему на островах произошло восстание. Это, повторяю, не моя гипотеза, это гипотеза моей жены, которая чаще меня ходит в наши магазины. И я так полагаю. что она права. Короче говоря, восставшие туземцы приемные палатки сожгли, приемщиков разогнали, и тем пришлось вплавь добираться до соседних стран. Хорошо еще, что у наших работников прилавка такая замечательная физическая подготовка. Американские враги разрядки воспользовались восстанием и внесли в Конгресс закон об отмене эмбарго и возобновлении закупок посуды у граждан с островов Святого Пафнутия. Это могло нанести непоправимый удар нашей бескорыстной дружбе и иметь далеко идущие последствия. Но, слава богу, силы мира восторжествовали, Конгресс не принял новый законопроект, но зато мы вдвое повысили закупочные цены, утроили число приемных пунктов на архипелаге Святого Пафнутия и в десять раз увеличили Кандалузии заем. В общем, скандал кое-как удалось замять. Но я вам, Николай Трофимович, как послу не завидую: хоть в приемных пунктах работают теперь новые товарищи, школу-то в нашей торговой сети прошли старую, и все может повториться. Так что у вас положение будет довольно сложное… — Ничего, Абрам Маркович, как-нибудь! — бодро пообещал Самоедов. Но на душе у него стало тревожно.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Когда премьер Кандалузии Хулахуп побывал с визитом дружбы в Москве, на него самое большое впечатление произвели дрессированные медведи в цирке и многоэтажные здания министерств на Калининском проспекте. В каком-то смысле министерства ему понравились даже больше, чем медведи. И он решил именно с создания таких же учреждений начать превращение отсталой Кандалузии в передовую державу. Весь полученный Хулахупом в Москве заем пошел на строительство сорока грандиозных сооружений из стекла и бетона, в которых разместились министерства. Так на одном из островов архипелага Святого Пафнутия появилась новая столица Кандалузии Халоград. Для укомплектования раздутых министерских штатов н' хватало людей, и по всему архипелагу стали набирать добровольцев-чиновников, и вХалограде, естественно, начался катастрофический жилищный кризис. Чиновники со своими семьями и малым рогатым скотом ютились прямо в кабинетах, что мешало нормальной работе министерств. И для расселения чиновников было решено построить вокруг Халограда несколько городов-спутников. Для строительства этих городов было создано специальное министерство, которое вскоре разделилось на несколько самостоятельных министерств. Одно министерство строило, второе исправляло недоделки, третье раздобывало строительные материалы, четвертое занималось оргнабором рабочей силы, и пятое координировало работу первых четырех. В Халограде бюрократическая жизнь била ключом. Укрупнялись и разукрупнялись министерства, шла оживленная деловая переписка. Она была такой оживленной, что пришлось для одного Халограда создавать специальное городское министерство связи. (Остальные жители Кандалузии не переписывались вообще, а в случае крайней необходимости пользовались голубиной почтой.) А между тем в этом процветающем чиновничьем царстве уже появились первые тревожные симптомы. Так, например, самой дефицитной профессией стала профессия машинистки. Были министры, замминистры, начальники главков, а машинисток не было. И на эту невысокую должность нельзя было назначить ни в порядке повышения, ни в порядке понижения, ни в порядке продвижения. Потому что по кандалузским законам машинистка обязательно должна была уметь печатать. Министерства сманивали их друг у друга и оформляли замминистрами. Но машинисток все равно не хватало. Дошло до того, что создание каждого нового министерства упиралось только в одно: найдут машинистку или не найдут. И тогда один сборщик посуды, которому уж очень хотелось стать министром и которому не давали создать министерство из-за отсутствия машинистки, — так вот этот человек заявил, что его министерству вообще никакая машинистка не потребуется, потому что у него дома есть своя собственная машинка и что все необходимые министерству бумаги он будет печатать сам. Дали ему министерство. И это послужило толчком для нового движения. Высокое начальство срочно стало овладевать искусством печатания на машинке. Печатать научились и министры, и их заместители. А поскольку нижестоящим чиновникам все же неудобно было просить самого министра перепечатать им какое-нибудь отношение, то они тоже стали учиться печатать. Очень трудно обстояло и с уборщицами. То есть уборщиц просто не было. Но и тут изворотливые канцеляристы нашли все-таки выход, и в каждом министерстве пять дней работали, а по субботам устраивали уборку. Все скопившиеся за неделю ненужные бумаги свозили на заготовительные пункты. Оттуда в субботу вечером макулатуру доставляли на бумажный комбинат, и тот в течение воскресенья перерабатывал это вторичное сырье, превращая его в чистую бумагу. В понедельник рано утром чистую бумагу развозили по министерствам, и все начиналось сначала. Так что при таком завершенном цикле бюрократический организм обеспечивал бумагой сам себя. А если же в отдельные недели макулатуры почему-либо не хватало, министерства получали указание переписку усилить, и в субботу поток вторсырья буквально затоплял заготовительные пункты. Так продуманно и планово разумно работали столичные министерства уже через три года после того, как в Халоград прибыл посол Николай Трофимович Самоедов. Приплыв в Халоград и по причине жилищного кризиса временно поселившись в вигваме, где находилось наше посольство, он не торопясь огляделся, что к чему, и убедился, что Глузман снабдил его довольно точной информацией. Когда же со временем Кандалузия крепко стала на свои бюрократические ноги и Самоедов узнал, что в Халограде каждый второй житель умеет профессионально печатать на машинке, у Николая Трофимовича появилась весьма оригинальная экономическая идея… Как известно, к тому времени Кандалузия задолжала Советскому Союзу такую сумму, в которой было еще больше нулей, чем в Халограде министерств. И, будучи человеком расчетливым и хозяйственным. Самоедов предложил вот что: он предложил, чтобы в целях укрепления экономической базы, а также для частичного погашения государственного долга в халоградских учреждениях организовали перепечатку бумаг из Москвы и других столиц Восточной Европы. Москва это предложение рассмотрела и одобрила. Премьер Хулахуп тоже. И из стран СЭВа стали слать в Кандалузию для перепечатки всякую деловую переписку… Бумаги для ускорения дела доставлялись самолетами. Поэтому возле Халограда пришлось строить специальный аэродром. Опять-таки враги мира стали кричать, что это аэродром военный. Но их, разумеется, никто не слушал. Печатали кандалузцы аккуратно и почти без ошибок. Однако, благодаря известной южной лени, не торопились… И если в каком-нибудь московском министерстве начинали вдруг искать какой-нибудь важный, срочно необходимый документ, чиновники уверено говорили: — А чего искать? Бумага эта сейчас находится не у нас. а в Кандалузии на перепечатке… И все сразу успокаивались…Шестой сон Веры Павловны
В конце светлого вытянутого зала находился стол. За покрытым красным кумачом столом расположились какие-то люди в белых халатах. Слева от стола возвышалась трибуна, на которую по очереди выходили те, кого вызывал председатель, и отвечали на вопросы. Вопросы задавали сидевшие за столом, а также присутствовавшие в зале. Вера Павловна оглянулась и увидела, что уставленные рядами стулья заполнены незнакомыми людьми, а сама она сидит в первом, самом близком к президиуму ряду. Все это ей что-то напоминало. Воспоминание мгновенно промелькнуло и исчезло. Однако Вера Павловна, закрыв глаза, сосредоточилась и вспомнила… Когда-то у них в учреждении происходили чистки. Так же за красным столом сидела парткомиссия. Так же из переполненного зала выходили товарищи по партии. Все они старались держаться свободно, спокойно, чтобы каждому было ясно, что совесть у них чиста и им не страшны никакие вопросы. Однако после первых же подковыристых вопросов парткомиссии они сбивались. Председатель незатейливо острил, собрание охотно и зловеще ржало… И Вера Павловна тоже смеялась. Уж она-то была здесь своим человеком, и ей-то уж не страшна была никакая чистка. И своим беззаботно-злым смехом она хотела продемонстрировать именно это. И комиссия с симпатией поглядывала на нее — веселую, белозубую, хохочущую… Над красным столом тянулся кумач «Даешь пятилетку в четыре года!». Ох. как давно это было! Еще до всего, до всего… Теперь же в зале стояла деловая, не гнетущая тишина. Над столом протянулся красный транспарант, на котором ничего не было написано. А за спиной президиума на стене висела массивная рама, окаймлявшая пустоту. Такие же пустые рамы, но размером поменьше, были развешаны и на других стенах. На трибуне стоял тощий, седой, но еще не старый человек в мешковатом френче. Обращаясь не то к комиссии, не то в зал, он тихо и размеренно говорил: — …Ну а потом я умер. Как это было, не помню… — Вы замерзли на этапе, — подсказал кто-то из президиума. — Может быть. — равнодушно согласился человек на трибуне. — У нас многие замерзали. Но как я лично умер, не помню. — А сколько лет вам было? — спросили из-за стола. — Тридцать восемь. Там. гражданин председатель, в анкете все указано. Только теперь Вера Павловна узнала его. Ну конечно же, это был ее следователь Пацюк. Как изменился, господи! — У вас есть какие-нибудь пожелания? — спросил председатель. — Я прошу членов комиссий учесть, что я пал жертвой репрессий времен культа личности и умер в расцвете сил. А потому прошу дать возможность прожить жизнь еще раз. Но, конечно, чтобы другая моя жизнь была без репрессий в отношении меня и чтоб жил я дольше тридцати восьми лет. Тридцать восемь — это уж очень мало, гражданин председатель… — Видите ли, — оказал председатель, — я уже объяснял, что наша комиссия обладает очень ограниченными полномочиями. Если мы устанавливаем, что жизнь истца была загублена по не зависящим от него причинам, мы имеем право предоставить этому истцу возможность прожить вторую жизнь. Вот и все. Окажется ли вторая жизнь лучше первой или еще хуже — за это комиссия ответственности не несет. А сейчас мы должны обсудить ваше персональное дело на особом совещании. Сидевшие за столом неслышно пошушукались, и председатель обратился к Пацюку: — Комиссия на особом совещании постановила следующее: ввиду того, что первая основная часть вашей жизни до ареста была прожита вами именно так, как вы хотели, а вторая часть входит в правила той игры, которую вы вели в первой, комиссия признает вас виновником собственного несчастья и во вторичной жизни вам отказывает. Сидевшие в зале молча и безразлично смотрели на того, который стоял на трибуне. — Я буду жаловаться! — деловито, без угрозы пообещал Пацюк. — Это ваше право, — равнодушно откликнулся председатель. …Теперь перед комиссией стоял знаменитый писатель. Вера Павловна знала его имя, помнила мелькавшие в газетах фотографии его мужественного, несколько расплывшегося лица и только никак не могла вспомнить, что же он написал. Романист, то и дело приглаживая серебристую, стриженную ежиком шевелюру и посасывая мундштук пустой трубки, обстоятельно отвечал на вопросы. Смысл его выступления сводился к тому, что, будучи автором двадцати романов, тридцати пьес и дюжины киносценариев, он все откладывал написание своей главной книги и в результате не успел осуществить свой грандиозный замысел. В ненаписанной книге, и только в ней, был смысл его жизни. В ней он хотел показать в полный рост ту «Большую Правду, которую знал. Правду без оговорок и умолчаний». Однако, понимаете ли, говорил он, поездки, симпозиумы, борьба за мир и руководство творческой интеллигенцией и, уж чего таить, робость, проклятая робость — но зато теперь, когда он все осознал, он просит дать ему еще одну жизнь, чтобы он безотлагательно засел за ту самую книгу. Председатель понимающе кивал. Однако, посовещавшись. комиссия решила, что вторая жизнь дело дорогостоящее, а никто не уверен, что знаменитый писатель распорядится ею лучше, чем первой. Поэтому в просьбе его комиссия отказывает. Прославленный автор ненаписанной книги пожал плечами и, с явным облегчением вздохнув, ушел в небытие. Вера Павловна не заметила, как на трибуне появилась старая рыхлая женщина. Лицо у нее было усталое, из-под платка выбивались седые влажные пряди… Видимо, она уже долго отвечала на вопросы… — Я, товарищ председатель, прямо скажу: я на ту свою жизнь не жалуюсь, — говорила она. — Другие, наверное, хуже жили. А у нас отдельная квартира была, двадцать семь квадратных метров, с лоджией… Ну, это, правда, уже под конец, а все ж таки! И муж меня любил. Только пил очень. Так кто ж не пьет? И в войну у меня никто не погиб, только муж без руки пришел. И вот тут я все слышу, люди в тюрьмах страдали, в лагерях. А у нас никого не тронули. Только брат сидел семь лет, а так больше никто. И все у нас хорошо было, и дети профессию получили, и я на пенсии еще пожить успела. Только почему сюда пришла? Жить-то я хорошо жила, а жизни вроде и не увидела… Все чего-то делала, все занята была. То работа, то в очереди стою, то по дому, то за больными хожу, то сама хвораю… Ну не может этого быть, чтоб вот это она вся жизнь и была! Неправильно это… Есть же еще чего-нибудь… Так что. разрешите мне, товарищи комиссия, еще раз попробовать пожить, если, конечно, можно. А вдруг что-нибудь получится? И еще хорошо бы опять Лепту встретить… Комиссия, не выходя из-за стола, снова удалилась на особое совещание. И через минуту председатель зачитал: — Обсудив заявление Петровой Валентины Ивановны и тщательно проверив изложенные ею факты, особое совещание постановило: так как истица по объективным, не зависящим от нее обстоятельствам действительно не ви дела жизни, на которую она как всякий человек имеет право, а также учитывая заслуги истицы, выразившиеся в ее безграничном терпении, комиссия считает возможным дать Петровой Валентине Ивановне вторую жизнь, а все расходы отнести за счет государства. …Вера Павловна не сразу поняла, что пришел ее черед и что на трибуне стоит она сама. Пока Вера Павловна отвечала на вопросы, она помнила рассказ старухи о квартире с лоджией и о жизни, как-то прошедшей мимо, и ее не покидало щемящее чувство вины. Комиссия совещалась дольше обычного, и наконец председатель сказал: — Особое совещание считает, что из-за несправедливо перенесенных страданий истица Вера Павловна Рахметова имеет право на вторую жизнь. И Вера Павловна, не испытывая радости, пошла с трибуны, но затем поспешно вернулась. — Я прошу комиссию вернуть мне мое заявление, — твердо проговорила она. — Я не хочу, я отказываюсь от вторичной попытки. Мне очень хотелось бы жить, но я боюсь, а вдруг моя бессмысленная жизнь повторится. Я боюсь. И Вера Павловна, не глядя на комиссию, покинула трибуну.ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Как жаль, что в нашем бесхитростном повествовании то и дело встречаются такие слова, как «заговор», «мятеж», «переворот» и опять «заговор». Мы бы с удовольствием отказались от подобных слов и еще с большим удовольствием — от подобных действий. Ибо переворот может кончиться новым заговором, а новый заговор — мятежом. Но что поделаешь, мы всего лишь описываем современную историю, а она. как назло, состоит из таких событий, которые нам не по душе. И даже пока мы пишем эти невинные строки, где-то происходит заговор и готовится переворот, а где-то уже совершился. И вот в это самое мгновение один из участников переворота назначается министром без портфеля. И, может быть, эта несправедливость так задевает его беспорт-фельное честолюбие, что он бросается с кулаками на только что назначенного министра финансов. Тот, обороняясь, хлопает его по голове своим министерским портфелем, а беспортфельный за неимением портфеля швыряет в коллегу массивную пепельницу. И назавтра министра финансов хоронят как героя, отдавшего свою жизнь в борьбе за светлое будущее… А между прочим, зря обижается министр без портфеля. Неизвестно, кто в конце концов возьмет верх. И может быть, вот этот самый беспортфельный в итоге окажется Президентом. Кто знает! Ведь вот случилось же такое в Бодливии. Делили там бывшие заговорщики, а ныне члены кабинета министров, ответственные посты. Делили, делили и не заметили, как один из их собратьев по заговору Македон Македонский остался не у дел. И когда обнаружилась эта досадная неувязка, все заговорщики, будучи в душе незлыми и справедливыми, как-то сконфузились. И тогда, кажется, министр караванных путей сообщения вспомнил: — Господа, а ведь Македон Македонский, если я не ошибаюсь, был в прошлом артистом… — Как же. как же! — откликнулся министр коневодства. — Я даже помню, как он выходил на сцену и говорил: «Лошади поданы!» Министр коневодства помнил все, что касалось лошадей. И в данной ситуации это оказалось очень кстати, и все засмеялись: — Ха, ха, ха! Лошади поданы! Ха. ха. ха! — Так вот, господа, я что предлагаю? Раз уважаемый Македонский имеет прямое отношение кискусству, так не создать ли нам что-нибудь вроде министерства искусства и не назначить ли Македонского в это министерство руководителем? Нужно отметить, что в данном случае лошадиный министр поступал очень благородно, потому что в Бодливии искусством традиционно ведало министерство коневодства и теперь министр по своей воле уступал лакомый кусок чужому дяде. Но кабинет министров с облегчением одобрил это предложение и тут же организовал какое-то мифическое министерство мифической культуры и отдал его Македонскому. Македонский, рассчитывавший на что-то более солидное, обиделся, но промолчал. Он умел молчать, старина Македоныч. Не зря и роли у него в его актерском прошлом были почти без слов. Однако и эта затаенная обида, и создание никому, казалось бы. не нужного министерства — все это обернулось цепью коварных хитроумных заговоров. И в конце концов премьер-министра нашли утопленным в его загородном бассейне, и вся власть в стране перешла к невиннейшему министерству культуры. И когда впервые собрался кабинет министров и члены его, рассевшись вокруг стола, почтительно уставились на Македонского, старина Македоныч сказал им фразу, которую вынашивал, тая до поры обиду и утешая себя тем, что в воображении уже сотни раз говорил ее и сотни раз представлял себе, как вытянутся рожи у министров, когда эту фразу скажет. И как только его братья по заговору уселись вокруг стола, ожидая, что будет дальше, он встал и сказал: — Лошади поданы! — сказал он. И в ту же минуту двери театрально распахнулись и в комнату вошли какие-то молодцы в строгих капельдинерских мундирах. — Лошади поданы! — повторил Македонский, и министры, увидев нацеленные на них автоматы, поняли, что для них спектакль окончен. А министерство культуры, захватив власть, сразу же стало издавать законы. Первый закон объявил, что Бодливия ни с кем не собирается воевать, и распускал вооруженные силы, источник заговоров, мятежей и непослушания. Второй закон отменял все и всяческие налоги. Ликующие граждане вышли на улицы, неся плакаты «Вся власть министерству культуры!», «Да здравствует министерство культуры!» и «Министерству культуры — слава!». А министерство между тем издало еще два. правда, менее значительных закона. Один обязывал достигших совершеннолетия граждан не реже одного раза в неделю посещать театры, а другой оповещал о временном повышении цен на театральные билеты. Но первые два декрета вызвали такой восторг и такую благодарность широких масс, что на остальные законы граждане как-то не обратили внимания. А между тем средняя стоимость одного театрального билета составляла теперь десятую часть зарплаты. И благодаря закону о еженедельном обязательном посещении театра в казну устремились денежные ручейки. Министр культуры, он же премьер-министр, распорядился закупить в Штатах оружие для капельдинеров, пожарников и рабочих сцены. Делалось это, как объяснил по телевидению министр культуры, для того, чтобы зрители после третьего звонка не входили в зал, а также занимали места согласно купленным билетам. Армии благодаря первому декрету теперь не было, так что вооружены в Бодливии были только капельдинеры и пожарники. Вскоре для поддержания порядка в театральных буфетах были вооружены также музыканты. Капельдинеры и пожарные образовали два самостоятельных боевых подразделения с соответствующими штабами и командующими, рабочие сцены составляли специальные боевые отряды, а музыканты — вспомогательные. Таким образом, в каждой театральной яме расползался оркестр, который в то же время был стрелковым взводом. Командовали взводами кадровые дирижеры. Они терпеть не могли разболтанных штафирок, и по их приказу по утрам музыканты под четкие зычные команды бравых капельмейстеров и первых скрипок занимались шагистикой и, стоя по команде «смирно», ели глазами щеголяющих новой дирижерской формой и хромовыми сапогами строгих маэстро. Некоторые музыканты время от времени еще играли на своих скрипочках, но стоило их отцу-дирижеру стать за пульт и махнуть палочкой — и они, не раздумывая, открыли бы огонь по зрителям. Разумеется, и музыканты, и капельдинеры, и пожарники — в общем, все вооруженные силы — подчинялись министру культуры (он же Великий Маэстро, он же Генеральный брандмайор, он же Лучший друг рабочих сцены). Билеты становились все дороже, но зрители, обязанные посещать театр не реже четырех раз в месяц, боялись роптать, потому что недовольных вызывали в местные отделы культуры, где с ними проводили беседы вкрадчивые капельдинеры. К тому времени капельдинеров насчитывалось больше пятнадцати дивизий. В уличной толпе то и дело попадались рослые, одетые в черную капельдинерскую форму здоровяки. Мундиры их были украшены аксельбантами и вышитыми на левом рукаве арфами. Вместо звезд на погонах красовались бронзовые театральные маски, символизирующие смех и плач, и по их числу, величине, а также по соотношению смеющихся и плачущих масок можно было определить чин капельдинера. Унтер-капельдинер носил на погоне одну плачущую малую маску. Штабс-капельдинер имел одну смеющуюся маску, а золотой погон Верховного капельдинера венчала одна большая золотая маска с таким непроницаемым выражением. что было ясно — кого-кого, а Верховного не проведешь! Капельдинеры являлись надежной опорой министерства культуры, и быть капельдинером считалось весьма престижным. Какой молодой человек не мечтал стать капельлейтенантом. чтобы иметь право спросить у любого гражданина: «Ваши билеты?» и, увидев в его глазах страх и готовность повиноваться, небрежно сказать: «Занимайте ваши места!» И вот странное дело: не было такого закона, который толковал бы права и обязанности капельдинеров, никто из государственных мужей ни разу официально не высказывался по этому вопросу, но все в Бодливии твердо знали, что права капельдинеров безграничны, а обязанность одна: блюсти интересы министерства культуры. Но министр культуры, как любил повторять Македонский, дает народу то. что ему необходимо, а именно — культуру. Народ же дает, в свою очередь, министру то, что необходимо ему, министру, а именно — министерство. Министерство делает все для народа, а народ — все для министерства. Народ и министерство едины! — повторял старик Македоныч. И оказалось, что он умеет не только молчать, но и говорить! А поскольку народу в первую очередь нужна культура, почти все остальные министерства были упразднены. Зато в министерстве культуры появились такие отделы, как, например, отдел культуры сельского хозяйства, отдел культуры путей сообщения, отдел культуры иностранных дел, а также отдел культуры государственной безопасности. Полиции в стране не было, но были культработники — пешие и конные. Они патрулировали улицы и волокли провинившихся в культучастки. Культработники завидовали капельдинерам. Не было такого закона, не было такого предписания или хотя бы устного указания, но капельдинеры находились на гораздо более высокой ступеньке иерархической лестницы. И с той верхотуры были, вероятно, видны невидимые для простых культработников дали. Но в далекой перспективе каждый культработник мог стать капельдинером и делал все, чтобы поскорей достичь заветной цели. Македон Македонский сделал для народа все, что обещал. Он упразднил дорогостоящую армию, отменил налоги и дал культуру. Конкретно возросший уровень культуры заключался в том, что в каждой семье был установлен бесплатный цветной телевизор. Для этого, правда, пришлось опять повысить цены на театральные билеты. Но жители Бодливии одно с другим не связывали и горячо благодарили Македонского за бесплатные телевизоры. Они вообще не умели связывать воедино события, и это скрашивало их жизнь. Телевидение тоже скрашивало их жизнь. Оно имело четырнадцать программ, и по всем программам каждый вечер передавали хоккей, перемежая его изредка футболом или баскетболом. Итак, вечером матч, который смотрели все граждане от мала до велика, на следующий день с утра разговоры об этом матче, а вечером снова матч. В стране было несколько любимых команд, и вместо бывших политических партий теперь существовали кланы болельщиков, вместо политических страстей — спортивные, а вместо политических дискуссий — хоккейно-футбольные свары. Министерство культуры знало, что делало. И даже последние известия читали за кадром, не прекращая показывать на экране хоккей. И постепенно международные события стали для граждан Бодливии ассоциироваться со спортом. И что бы ни происходило в мире, самым главным было все-таки: забросят шайбу или промажут, забьют гол или мяч опять пройдет мимо ворот. Закон, обязывающий посещать театры, разумеется, оставался в силе, но на сцене шли пьесы только на спортивные темы. В одних драмах герою в ответственный момент предстояло решить, кем быть: хоккеистом или футболистом. И зрители с волнением ждали, что же он выберет для себя и как будет жить дальше. В других, лирических, за героиней одновременно ухаживали футболист и хоккеист. Зрители старались угадать, кого же она предпочтет, но с помощью неуемной фантазии драматурга строптивая героиня отвергала и хоккеиста, и футболиста, предпочтя им баскетболиста… В третьих пьесах, комедийных, герой случайно попадал в чужой город, где его случайно принимали за прославленного футболиста и окружали уважением и почетом. Когда же захватывающий сюжет приближался к роковой развязке и герою грозило позорное разоблачение, то случайно выяснялось, что тот, кого принимали за прославленного футболиста, в действительности — прославленный хоккеист. Были и увлекательные остросюжетные пьесы, в которых герой, играя в одной команде, в душе был ярым приверженцем другой команды. Разумеется, та команда, за которую он играл, была иностранная, а та, за которую болел, — родная, отечественная. Оказывалось, что героя еще в грудном возрасте похитили из яслей и переправили за границу. Узнав об этом от своей дряхлой матери, которая специально приехала на решающий матч, чтобы открыть глаза своему похищенному сыну, прозревший приводил свою команду к поражению, а тренер в отместку убивал его мамашу как бы нечаянным ударом футбольного мяча в голову. Были и такие спектакли, в которых, наоборот, в отечественную команду специально засылали иноземного диверсанта-футболиста. чтобы он подорвал моральный дух спортсменов. Но перед вторым таймом негодяя разоблачали. (Когда он переодевался, на его груди случайно обнаруживали сделанную на иностранном языке татуировку.) И отечественная команда опять-таки побеждала с разгромным счетом своих морально нечистоплотных противников. Однако, несмотря на такие заманчивые и разнообразные спектакли, зрители шли в театр лишь только потому, что их обязывал к этому закон. Если бы не закон и не страх перед капельдинерами, черта с два их заманили бы в театр. Уловив эту тревожную тенденцию, министр культуры и лучший друг зрителей велел продавать наряду с обычными и льготные билеты. Льготные билеты стоили дороже, но лица, купившие их, от посещения театра освобождались, и многие граждане с радостью откупались от зрелищ, хоть и лишались хлеба. Но при таком положении дальнейшее повышение цен на билеты было неразумным. А в то же время расходы на культурно-массовые мероприятия росли, оснащение капельдинеров современным оружием тоже стоило все дороже, а хоккейно-футбольный психоз достиг апогея, и держаться только на нем было рискованно. И премьер-капельмейстер, пораскинув серым веществом, решил, что выручить Бодливию и поправить ее финансовые дела может только какой-нибудь надежный, хорошо проверенный, серьезный враг. Да, да, генеральный брандмайор понимал этот политический парадокс, хоть в бытность актером из серьезных государственных деятелей играл только тень отца Гамлета. — Нужен враг, — сказал Македонский заведующему отделом культуры иностранных дел. — Простите, маэстро? — не понял заведующий. — Нужен коварный, непримиримый, безжалостный, вооруженный до зубов враг! Есть у нас такой? — Откуда? — извиняясь, развел руками заведующий. — У нас никогда врагов не было! — Так будут! — стукнул кулаком по столу Македонский. — Да кто же с нами враждовать станет? Кому мы, извините за выражение, нужны? — Пойми, заведующий, — сказал задушевно и ласково Главный рабочий сцены. — нельзя нам без врага. Кто заставит народ любить нас. если не враг? Кто еще сильней сплотит вокруг нас наш народ, если не враг? Кто еще заставит наш замечательный народ пойти на новые лишения? Кто еще и еще раз сможет поднять цены на билеты? Враг, только враг! Так что ищи врага. Время не терпит. Лошади поданы! И заведующий, тронутый — тем, что с ним говорили так задушевно и доверительно, пообещал найти врага, чего бы это ни стоило! И вот по дипломатическим каналам Бодливии стала искать честного, преданного врага. Конечно, если бы Генеральный брандмайор посоветовался со стариком Глузманом, тот бы сразу подсказал ему, где искать врага. Но премьер-капельмейстер не знал о существовании Абрама Марковича. А зря! «Если я не ошибаюсь, — думал пенсионер международного значения, сидя в привычном одиночестве на балконе, — если я, конечно, не ошибаюсь, у адмиралиссимуса Кастракки есть серьезные проблемы… Обещал он перегнать Америку? Еще как обещал! Перегнал он ее? Еще как не перегнал! И с каждым днем не перегоняет все больше… Очереди недовольны. Очереди, между прочим, всегда недовольны, на то они и очереди. Народ единодушно одобряет, а очереди в это же время недовольно ворчат. И если народ проводит в очередях слишком много времени, он перестает быть народом и превращается в очередь. Это народ, может быть, безмолвствует, а очередь скандалит! Очередь злится и хочет знать, почему она все время должна стоять в очереди? Ей нужна конкретная причина. И если причина находится, очереди сразу становится легче. Народу не легче, а очереди легче! Это ее особенность… И адмиралиссимусу придется-таки эту причину изобрести. Конечно, если бы в Ломалии было хоть немного евреев, тогда было бы все проще. Евреи — вполне понятная для любой очереди причина всех неприятностей. На евреев презумпция невиновности не распространяется, и в чем бы их не обвинили, в том они и окажутся виноваты! Скажите, к примеру, что евреи скупают всю колбасу, чтобы делать из нее стиральный порошок, — и все поверят. Потому что для чего еще годится колбаса? Не для еды же! Но евреев в Ломалии нет, если, конечно, не считать корреспондента «Вечногорской правды» Лояльченко. Впрочем, откуда я знаю, что он еврей? Папа его Соломон Потопер был всем евреям еврей, и мама его Цицилия Залмановна тоже не похожа на китаянку. Но в наше время дети за отцов не отвечают. Так что будем считать, что евреев в Ломалии нет. И значит что? Значит, Кастракки должен искать причину своих выдающихся неуспехов вне Ломалии. И значит, Кастракки нужен хороший враг, на которого он мог бы все свалить. Враг, на которого он мог показать бы любой очереди и сказать: вот он, этот враг, причина твоих бед! И очередь согласится: да, он причина моих бед! И очереди сразу станет легче стоять в очереди. Да, что может быть лучше врага! Интересно, с кем Кастракки схлестнется? А то как бы враг не оказался лучше, чем надо, и не турнул бы президента из Ломалии! И когда в газете «Вечногорская правда» появились первые сообщения о пограничных инцидентах между Ломалией и Полугадией, пенсионер решил, что Кастракки нашел-таки врага… И стал Глузман старательно рыться во всех доступных ему справочниках, чтобы узнать, что же такое эта загадочная Полугалия, и узнал он поразительные подробности, о которых мы незамедлительно сообщим нашим благосклонным читателям. Итак, дорогой читатель, вашу руку! Мы отправляемся в далекую Полугалию и в ее древнюю столицу Земфирополь.ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Столица Полугалии Земфирополь раскинулась у подножия горы Алла-Малла, считавшейся одной из самых знаменитых гор мира. Верхняя часть ее почти всегда была окутана облаками, и в те редкие дни. когда облака рассеивались, очарованным зрителям открывалась величественно отдаленная и покрытая вечными снегами вершина. Это было незабываемое зрелище. И многие туристы посещали Земфирополь только для того, чтобы дождаться хорошей погоды и увидеть вершину. Во всем мире продавались открытки с изображением знаменитой горы. Во всех учебниках географии писали о ней и во всех школах мира ученики хватали двойки, если не могли вызубрить, что высота Аллы-Маллы была шесть тысяч четыреста сорок четыре метра. Представьте же себе, каково было удивление географов, когда никому дотоле не известный ученый Лошадь-Пржевальский заявил, что гора не является естественным геологическим образованием. На основании многолетних исследований он имеет смелость утверждать, что Алла-Малла такое же создание человеческих рук, как, например, египетские пирамиды или Беломорканал. Поначалу эта гипотеза была сразу же отвергнута и забыта как слишком фантастическая. Потом фантастика вошла в моду, и стало хорошим тоном объяснять все загадочное вмешательством звездных пришельцев. Падкие до сенсаций западные журналисты разыскали забытого Лошадь-Пржевальского. и он заявил, что не исключает вероятности того, что Алла-Маллу для каких-то неведомых целей действительно построили представители неведомых иногалактических цивилилизаций. Может быть, гора нужна была как посадочная площадка для летающих тарелок или, наоборот, как стартовая площадка для звездных кораблей. Может быть, там, на ее вершине, инопланетяне чувствовали себя в большей безопасности. Может быть, вообще им полезен был высокогорный разреженный воздух. А поскольку для них с их фантастической техникой ничего не стоило, то вот они эту гору и соорудили. Тут уж загадкой Алла-Маллы стали интересоваться самые широкие читательские массы. Интересовались ею и отдельные серьезные ученые. Со всех концов света они устремились к Алла-Малле и чем больше поражались ее несхожестью с другими горами, тем чаще соглашались с Лошадь-Пржевальским, что эта гора искусственного происхождения. Смелая гипотеза находила все больше сторонников. Постепенно геологические и археологические изыскания показали, что загадочная гора насчитывает девяносто девять гранитных пластов с мраморными и гипсовыми вкраплениями. Причем каждый пласт представляет собой не просто слой гранита, но бесчисленное множество бюстов и статуй, спрессованных под давлением верхних слоев в сплошные каменные плиты. В дальнейшем с помощью спектрально-лазерного анализа установили, что каждый слой состоял из каменных изваяний, запечатлевших облик одного и того же человека. И то, что гора насчитывала девяносто девять слоев, означало, что она была просто гигантским нагромождением памятников, запечатлевших некогда облик девяносто девяти исторических деятелей. Вот какое невероятное открытие сделали ученые. Также удалось выяснить, что памятники, составлявшие нижние слои, сделаны более ста тысяч лет назад, а верхние насчитывают не менее десяти тысячелетий. Следовательно, люди, увековеченные в этих памятниках, жили задолго до того, что принято называть «до нашей эры». Задолго до Древней Греции и египетских фараонов. Другими словами, это были представители высокоразвитой, доселе неизвестной древнейшей цивилизации. Причем некоторые бюсты сохранились почти целиком, от других статуй остались лишь носы и руки, от третьих — вообще только обломки каменных мундиров с гранитными пуговицами и орденами. Но, забегая на два-три десятилетия вперед, отметим, что к тому времени наука достигла таких невиданных возможностей, что могла восстановить облик давно умершего человека не только по черепу, но и по обломку оставшегося от монумента гранитного сапога. Более того, восстановив внешний облик, ученые могли восстановить и моральный облик изваянного, его мировоззрение и то, о чем он думал, когда его ваяли. Скажем прямо, что, когда была проделана гигантская работа по восстановлению морального облика и мировоззрения всех ископаемых, то выяснилось, что: а) у девяноста пяти из девяноста девяти мировоззрения вообще не было, б) восемьдесят из девяноста девяти вообще не знали, что таковое существует, в) восемнадцать считали, что отсутствие мировоззрения и есть самое передовое мировоззрение, г) основной моральный принцип, которым руководствовались в своих действиях ископаемые, можно сформулировать так: после нас хоть потоп! Древнюю страну в ученых кругах называли теперь Алламалией, а жителей ее — аллами. И с каждым днем эта древнейшая цивилизация загадывала все новые загадки. Предстояло выяснить, почему аллы не ставили, как принято теперь, изваяния своих правителей на городских площадях, а вместо этого складывали их друг на друга? Может быть, они исполняли этот странный ритуал, подчиняясь требованиям своей неведомой нам религии? И почему монументов было так много? Последний вопрос, как правильно предположил профессор колумбийского университета Эпштейн, заключал в себе ответ и на все предыдущие.Исторический экскурс
Со временем удалось установить, что все ископаемые правители этой страны были одержимы статуеманией и, находясь у власти, спешили увековечить себя в граните и мраморе. Так что после любого правителя оставалось бесчисленное множество статуй и бюстов. Каждый новый правитель, придя к власти, начинал повсюду устанавливать свои каменные изваяния, а для этого требовалось сначала освободить городские площади от статуй предшественника. Поначалу пробовали топить статуи в океане. Но постепенно из-за множества погруженных в воду каменных тел океан стал выходить из берегов и заливать окрестные селения. Кроме этого, испуганные страшными ликами рыбы перестали метать икру, и наступило полное безрыбье. Тогда ненужные бюсты попытались зарывать в землю. И опять случилось непредвиденное. Бюсты неожиданно стали пускать корни и прорастать над землей в виде причудливых каменных деревьев. Плоды этих деревьев имели форму маленьких бюстиков. Созревая, бюстики падали на землю, благодаря своей тяжести пробивали верхний слой почвы и. пройдя стадию подземного развития, опять поднимались над землей новыми бюстоносящими деревьями. Не прошло и двухсот лет. а разросшиеся каменные бюственницы покрыли чуть ли не половину страны. Пользы от них не было никакой, плоды их были несъедобны, ветви не горели и не поддавались обработке. Деревья, правда, отбрасывали приятную тень, но редкие путники, рискнувшие отдохнуть в тени коварных бюственниц, зачастую оказывались убитыми случайно упавшими на них листочками. Жорж Тринадцатый строжайше запретил зарывать изваяния. Он повелел свозить их на расположенный неподалеку от города огромный пустырь. И, едва успели оттащить и свалить на пустыре статуи Жоржа XII, ушел из жизни сам Жорж XIII, и его изваяния тут же легли поверх статуй Жоржа XII. Так образовались два нижних слоя будущей загадочной горы Алла-Маллы, которая, как мы выяснили, просто оказалась гигантской свалкой исторических деятелей. Но вот что интересно. Хотя правители знали, что будет с их памятниками в ближайшем будущем, они по-прежнему старались установить как можно больше своих статуй везде, где было возможно. Гранит свозили со всех концов света, и постепенно в этой точке земного шара скопилось такое количество камня, что центр тяжести земли сместился, климат на планете изменился, и не исключено, что в силу именно этой причины начался ледниковый период, уничтоживший древнейшую цивилизацию. А пока правители этой страны продолжали увлекаться самоваянием. Так, например, Жорж XXIV решил перехитрить всех и поставить себе такой огромный монумент, который благодаря его размерам нельзя было бы разрушить. Статую, разумеется, начали строить с пят. Каждая пята занимала примерно полгектара. Затем стали возводить ноги и все выше и выше. Когда были завершены высокопоставленные ягодицы, Жорж XXIV скончался, и дорогостоящее строительство тотчас прекратили. Но расчет покойного оказался верным. Вручную разрушить монумент оказалось невозможным, а взрывать — опасно. И многие годы над городом возвышались гигантские ляжки, и светлый образ Жоржа XXIV долго оставался в народной памяти в виде огромной задницы. Однако шли века, и постепенно забыли, кому именно принадлежал этот исторический зад, он уже был как бы абстрактным ничейным задом. И как Эйфелева башня является символом Парижа, так каменная задница долгое время была символом Алламалии и, когда ее закрывали перистые облака, знали, что это к дождю. А потом произошло вот что. Незавершенный монумент стоял на берегу океана. Столетиями волны ударяли в пьедестал, постепенно разрушая его. И однажды задница рухнула в воду. Гигантская волна, поднятая рухнувшим задом, помчалась по океану, заливая острова и опрокидывая корабли. И существует гипотеза Тряпкина-Розефорда, что как раз эта волна смыла к чертовой матери легендарную Атлантиду. Эта смелая гипотеза требует еще доказательств, но и окончательно зачеркивать ее тоже не следует.ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Вот какие, оказывается, невероятные события происходили у подножия искусственной горы Алла-Маллы задолго до нашей и ненашей эры. Однако к тому времени, когда Глузман заинтересовался загадочной Полугалией, вряд ли ее аборигены знали о своем доисторическом прошлом. Они жили в свободной стране и не подозревали, каково приходилось их предкам. Однако в данном случае важно не это. Важно то, что старик Глузман несколько ошибся… Нет, нет, он был прав, когда полагал, что Кастракки в Ломалии срочно требуется враг. Однако иногда недостаток информации, точнее сказать — полуинформация, хуже ее полного отсутствия. Откуда Абрам Маркович мог знать, что Генеральный брандмайор из Бодливии тоже ищет подходящего врага? И когда Адмиралиссимус и Главный дирижер снюхались на высшем уровне, министр культуры и Кастракки подписали «Секретный договор о вражде и ненависти». В документе указывалось, что: «1) Стремясь к дальнейшему ослаблению международной напряженности, а также в целях развития и укрепления сотрудничества между Бодливией и Ломалией, Высокие договаривающиеся Стороны подписали трехлетний секретный пакт о непримиримой вражде. 2) Договор входит в силу безотлагательно, и с ближайшего понедельника стороны начинают обвинять друг друга в коварных замыслах и территориальных притязаниях, нарушении прав человека, наращивании темпов вооружения, злобной клевете, облыжном охаивании, напрасном запугивании и угнетении нацменьшинств (причем Бодливия угнетает проживающих на ее территории граждан ломалийского происхождения, а Ломалия — бодливийцев). 3) Охаивать друг друга следует в печати, по радио, по телевидению, с трибуны ООН, а также на дипломатических приемах и в любом удобном случае. 4) Через три месяца после вступления в силу настоящего пакта Стороны обязуются устроить провокации на границе (место, характер и ход провокаций будут оговорены своевременно). 5) Вслед за провокациями стороны устраивают стихийные демонстрации протеста (Бодливия перед посольством Ломалии, а Ломалия — перед посольством Бодливии). Демонстрации же должны вылиться в народные негодования, что скажется в разгроме посольских зданий (материальный ущерб будет в дальнейшем возмещен Сторонами на взаимовыгодных условиях). 6) Все недоразумения между странами должны решаться путем ожесточенных нападок друг на друга и пропагандистской шумихи. 7) Каждая сторона своими действиями должна способствовать росту возмущения, агрессивности и страха противной стороны, что, несомненно, будет способствовать интересам миролюбивых народов обеих стран». Пакт, конечно, был хорошо продуман и ловко составлен. Но имелась в нем одна маленькая неувязочка насчет «пограничных инцидентов». Не граничили друг с другом Ломалия и Бодливия, вот в чем дело! Находилась между двумя Высокими Сторонами та самая Полугалия. И. следовательно, негде было устраивать Высоким Сторонам пограничные инциденты, а без инцидентов не получалось народного возмущения и разгрома посольств. В общем, все шло прахом! Македонский попытался уговорить Полугалию, чтобы та пропустила тыщонку-другую его пожарников к границам Ломалии. Они, мол, попугают, попугают Ломалию и сейчас же вернутся домой. Но Президент Полугалии Мбвабва Нурмбвабва был подозрителен и недоверчив. Он понимал, что пустить пожарников легче, чем выставить. «Моя твоя не пускала!» — сказал Президент Македонскому по телефону». «Почему?!» — обиделся Генеральный брандмайор. «Потому!!!» — ответил Мбвабва и повесил трубку. Однако не мог же Великий Маэстро начинать искать нового врага! Да и где бы он нашел такого задушевного врага, как Кастракки! Обо всем договорились, все уладили, а тут на тебе — какой-то несговорчивый Мбвабва. и все летит к черту! Конечно, Бодливия могла просто-напросто завоевать Полугалию и таким образом вплотную подойти к своему закадычному врагу Кастракки. И, секретно договорившись с адмиралиссимусом, министр культуры двинул своих оснащенных самой передовой техникой капельдинеров на Полугалию. Бесстрашные капельдинеры уселись в быстроходные танки, и спустя три дня только то обстоятельство, что танки были действительно очень быстроходными, позволило капельдинерам оторваться от армии противника и кое-как удрать… Да, да, всепобеждающие грозные дивизии капельдинеров драпали от полугалян. А секрет был в том, что темные полуголяне не знали, что капельдинеры непобедимы и их нужно бояться. Вот они и не боялись, и капельдинеры, выносливые и тренированные, неслись по дорогам своей Бодливии. Потому что одно дело покорять своих дисциплинированных граждан, которые даже спят с поднятыми руками, а другое дело воевать с хулиганами-чужестранцами. За танковыми дивизиями капельдинеров мчались, завывая сиренами, красные машины пожарников, а за теми в пешем строю отступали рабочие сцены. Кой-какое сопротивление оказал наступающим полугалянам большой симфонический оркестр, поддержанный сводным духовым оркестром и ансамблем песни и пляски пожарных. Но вскоре под натиском противника дрогнули смычковые, не выдержали медные, растерялись ударные, и вот уже на поле боя остались только контрабасы и арфистки, чьи инструменты были скорее приспособлены для позиционной, чем для маневренной войны. Видя, что его родного противника теснят, Кастракки решил было открыть второй фронт и напасть на Полугалию с тыла. Уже между Ломалией и Полугалией начались пограничные инциденты. Те самые инциденты, которые ввели в заблуждение всезнающего Глузмана… Но затем адмиралиссимус подумал, подумал и с чистой совестью предал своего лучшего врага: уж больно быстро отступали работники министерства культуры, лучше с такими не связываться. Генеральный брандмайор постыдно бежал из Бодливии на своем личном авиалайнере, и Бодливия, освободившись от культуры, облегченно вздохнула. Так и закончилась эта благородная вражда. Кастракки вынужден был искать нового врага, но все-таки приютил у себя Македонского. А тот, продав личный авиалайнер, открыл на вырученные деньги первый в Ломалии драматический театр. Несколько лет спустя театр в порядке культурного обмена приехал в Вечногорск, где выступал с большим успехом. И в газете «Вечерний Вечногорск» появилась рецензия Данилова «Заслуженный успех», в которой среди прочего автор отметил оригинальную трактовку образа Чацкого. Исполнитель этой роли М. Македонский, заканчивая монолог словами: «Карету мне, карету!», словно развивая эту мысль, неожиданно добавлял: «Лошади поданы!» Вечногорцы улавливали в этих словах какой-то особый намек и встречали их бурными аплодисментами!ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В центре города на бывшей Первомайской, которая прежде называлась Старомосковской, а до этого проспектом Сталина, а еще раньше тоже Первомайской, — так вот на этой дважды бывшей Первомайской, а ныне Октябрьской находилось стеклянное кафе. Оно называлось красиво «ЛИРА», и по вечерам над его прозрачными стенами трепетно загоралось это фиолетово-неоновое слово. Вскоре первая буква почему-то погасла, и кафе стало называться «ИРА». Затем перегорела вторая буква, и предприятие общественного питания получило имя древнеегипетского бога солнца «РА», что тоже было красиво и романтично. В народе же кафе называли просто стекляшкой. И в этой стекляшке с самого основания работала разбитная беспечальная буфетчица Варя, Варвара Самохина. Завсегдатаи любили ее, потому что нрава она была веселого, вино разбавляла все-таки по-божески, а недоливала по-человечески. В общем, не злоупотребляла и даже отпускала в долг.Лицо у Варвары было доброе и по-своему красивое. В нем всего было много. Круглые, как чайные блюдца, глаза, щедро вылепленный нос, пухлые губы, сдвоенный подбородок и много щек. Фигура у нее тоже была на любителя. Казалось, что под безразмерным бюстгальтером у Варвары лежат два астраханских арбуза, а под юбкой сзади спрятались две чарджуйские дыни. Такая действительно могла и в горящую избу, войти, и коня на скаку остановить. Да что там конь! Варвара запросто одной рукой вышвыривала из стекляшки недостаточно воспитанных посетителей. И завсегдатаи, зная это, уважали и побаивались буфетчицу. Варвара была как бы гордостью и достопримечательностью микрорайона. И посетители других стекляшек завидовали и жалели, что у них нет своей такой Вари. Но была у этой монолитной Варвары одна слабость: обожала она влюбляться. И сколько ее мужчины ни обманывали, сколько подлецы ни предавали — все равно каждый раз она безрассудно и безоглядно ныряла в очередной роман и, не сводя с любимого счастливых глаз, щедро поила его неразбавленным коньяком, кормила дефицитными апельсинами и верила, что уж этот сукин сын не предаст, этот подлец не обманет! Романы свои Варвара хранила в тайне. Знали о них только ближайшие подруги, да подруги тех подруг, да коллективы тех предприятий, где подруги подруг работали… И как только Варя влюблялась, так надевала самую яркую из своих ярких блузок, напяливала свой любимый парик со светлыми прямыми волосами, падавшими до бывшей талии, и наблюдательные завсегдатаи сразу понимали: все, наша Варя опять в тумане! И вдруг у Варвары Самохиной родился сын. Кто его отец, разумеется, не знали. Сама счастливая мать и та вряд ли могла точно сказать, кто его счастливый папаша. Беззвучно шевеля губами и даже щелкая на счетах, она все пыталась что-то подсчитать и решить для себя эту задачу со многими неизвестными или. вернее, известными, но только Варваре. И тайна, вероятно, так и осталась бы неразгаданной, но, едва Самохина вышла из роддома, в уже знакомой нам Полугалии произошел переворот и президентом стал также знакомый нам Мбвабва Нурмбвабва. Не успели иностранные станции сообщить об этом, как к Самохиной ввалился таксист Володька. — Так сказать, поздравляю, дорогая Варюша! — еще с порога закричал он. — Приветствую и поздравляю! — и он достал из кармана бутылку шерибрендиевки. — Явился! — не удивилась Варвара, не видевшая Володьку больше года. — Явился, не запылился. — А как же! — осклабился таксист, пленивший когда-то Варю именно своей белозубой улыбкой. — Спасибо тебе, Варюша, за нашего сына! — Ты-то здесь при чем?! — изумилась буфетчица. Ко-го-кого, а таксиста она-то уж никак в расчет не принимала. Володька подмигнул, мол, чего там между своими стесняться! Но даже неотразимая его улыбка на Варвару не подействовала. — А ну-ка топай отсюда! — сказала буфетчица. — Мне ребенка кормить пора. — Да чего ты? Я ж не просто к тебе пришел трали-вали… Я о будущем нашего сына думаю… Он же мне не чужой! — И таксист стал сдирать с бутылки пластмассовую пробку. — Ты что, жениться на мне хочешь? — прямо спросила Варвара. — А что? Можно и жениться! — легко согласился Володька. — Только я уже маленько женат… — Так разведись! — И разведусь! Только время сейчас не терпит! — и таксист рассказал буфетчице о международном положении и о том, какие выгоды можно извлечь, если породниться с Нурмбвабвой… Варвара, конечно, знала и о подарке Кастракки, и о дворце, который презентовали Вели-миру Будимировичу Иванову. В стекляшке неоднократно обсуждались эти взбудоражившие весь город события. И в Вечногорске не было такого человека, который бы не понимал, как выгодно породниться с новоиспеченным президентом. Однако и про дохлого орла тоже помнили, и мать-одиночка понимала, что Володька-таксист оттягивает женитьбу, потому что боится прогадать. Пришлет этот Нурмбвабва машину или еще чего-нибудь полезное, Володька и вправду женится. А подарит какого-нибудь орла или священного верблюда — таксист сразу же в кусты! Знала Варвара коварный мужской пол, ох, как знала! — Нет уж, — твердо сказала она. — Ты сначала женись, а потом уж давай сыну имя. А то много вас на готовенькое! — Да я ж тебе, Варюша, объясняю: время не терпит. Пока я со своей разведусь, пока с тобой зарегистрируюсь, этого Мбвабву десять раз могут скинуть! — Ну и пусть скидывают! А я, если хочешь, и без тебя в эту Полугалию телеграмму послать могу! — неожиданно пригрозила буфетчица. Но Володька не растерялся: — Послать-то ты можешь… Только как ты подпишешься? Мать-одиночка? Вот то-то и оно! Мне один пассажир рассказывал: у них там к незаконным детям очень отрицательное отношение! Это тебе не у нас: они же отсталые… Такого поворота буфетчица не ожидала, и аргумент Володьки показался ей весьма убедительным. Только чем убедительней звучали слова, тем обидней казались они Варваре. — Ну и мотай отсюда к своей законной! А ну проваливай! И таксист, помня дикий нрав экс-возлюбленной, поспешно покинул квартиру. — Ты, Варя, все-таки подумай, — предложил он, заглядывая с улицы в окно. — Я дело говорю… Варвара захлопнула окно, и тут же послышался стук в дверь. Разъяренная мать-одиночка бросилась в прихожую, чтобы разделаться с наглым Володькой. Но в дверях стоял не таксист, а инспектор ГАИ, старший лейтенант Потапенко. При виде разъяренной Варвары он испуганно отшатнулся, но потом щелкнул каблуками и, отдавая честь, поднес к козырьку фуражки руку, на запястье которой висел на ремешке милицейский жезл. Варвара смущенно хихикнула и отступила, пропуская Потапенко в квартиру. Когда дверь закрылась, милиционер обнял Варвару и, расцеловав, сказал: — Ты не поверишь, Варюха, как я рад, что у нас сын. Я всегда мечтал иметь сына! — и он снова поцеловал Варю. Но мать-одиночка легонько оттолкнула инспектора и, когда он отлетел в другой конец комнаты и шлепнулся на тахту, передразнила: — Рад, рад… Чего ж ты в роддом хоть цветы не принес? Всем и мужья несут, и хахали, а мне — только от коллектива? — Так я ж, Варвара, не знал. Я ж на дежурстве, у нас месячник борьбы за переход улицы на перекрестках. Я ж сто пятьдесят пять пешеходов оштрафовал, первое место в нашем ГАИ занял. А сегодня захожу в стекляшку и узнаю: родила! Вот так, думаю, подарок! — А где ж ты, Федя, все лето пропадал? — Я? Я в командировке был. В Воронеж ездил. Там у нас обмен опытом по безопасности движения был. Ты себе, Варюха. не представляешь, как там это дело поставлено и какие у нас скрытые резервы безопасности движения имеются! Потом меня в Козлодоевск послали, там у нас межзональное совещание по проезду нерегулируемых перекрестков было… — Вот ведь врет и не моргнет! — захохотала Варя. И от ее смеха задрожала посуда в серванте и затряслись хрустальные подвески на люстре. — Я ж тебя каждый день в твоем «стакане» видела! — Ну, прости. Варя, ну, виноват я перед тобой. Но теперь. когда у нас родился сын, ты должна меня простить. — А хрен с тобой! — великодушно согласилась Варя. — Что я, вас, мужиков, не знаю, что ли? — Скоты мы. скоты, Варвара! — поддакнул старший лейтенант. И тут же спросил: — А в Полугалии слыхала, что творится? Нельзя терять ни минуты! Я знаю, что говорю… — Про Полугалию-то я слыхала, — перебила Варя. — А жениться ты собираешься? — Так я уже женат… — Я спрашиваю, на мне ты жениться собираешься? — повысила голос Варя. — Да я бы хоть сегодня! — радостно сообщил инспектор. — Только у нас, в милиции, так нельзя. В милиции с аморалкой строго, не то что у вас, штатских… А я же офицер, не рядовой как-никак… И Варвара поняла, что старший лейтенант тоже не хочет рисковать, не зная, какой подарок отвалит Мбвабва. И хоть ничего хорошего буфетчица от мужиков не ожидала, и хоть кормила и поила их, заранее зная, что обманут и продадут, — тут ей стало очень обидно. Особенно из-за слов «офицер» и «аморалка». — Эй ты, лейтенант задрипанный! — сказала она. — Иди ты к едрене фене, и чтоб я тебя в моей стекляшке больше не видела! А то я тебе такую аморалку устрою!.. — и она, отбросив стул, двинулась на Потапенко. — Да ты не поняла, да я же совсем не против… — торопливо залепетал старший лейтенант, бочком, бочком пробираясь к дверям. Но тут запищал проголодавшийся младенец, и мать поспешила к нему, на ходу выкатывая из блузки свою могучую грудь. Инспектор, воспользовавшись ситуацией, благоразумно удалился. — Кушай, лапушка, кушай Мбвабвушка, — приговаривала буфетчица, как бы примеряясь к диковинному имени. И младенец сосал и причмокивал… — Тоже мне, офицеры! — приговаривала Варвара. — Как переспать, так все они рядовые. А как жениться — аморалка! Ты ешь, ешь, сынуля, мы и без офицеров проживем. И только угомонился, наевшись, лапушка-Мбвабвушка, как в передней снова раздался звонок. — А чтоб тебя! — оказала в сердцах буфетчица и, застегивая блузку, пошла к дверям. В дверях, прижимая к груди портфель, стоял Семен Семеныч. Да, да, тот самый Семен Семеныч, у которого в роду все мужчины были Семен Семенычами. — Здрасьте, пожалуйста! — удивилась буфетчица. — Только тебя мне здесь не хватало! Что у меня, день открытых дверей, что ли? — Разрешите войти? — вежливо спросил Семен Семеныч. — Входи, если пришел. Семен Семеныч аккуратно повесил плащ, достал из портфеля примятый букет и, встряхнув, протянул его Варваре. — Разрешите поздравить вас, Варвара Николаевна, с рождением сына от всей души и от всего сердца! Ребенок в семье — это большое и важное дело! А теперь, если позволите, я хотел бы взглянуть на нашего мальчика. — Ты-то здесь при чем?! — простодушно изумилась молодая мать. — Мы с тобой и полгода не знакомы… — Зачем так ставить вопрос? — кротко возразил гость. — Настоящие чувства не измеряются стажем. Он — мой сын! — Ты что, совсем спятил? Какой же он твой сын? Ребенок за полгода не получается! — Я не так ставлю вопрос. — снова возразил Семен Семеныч. — Кто бы ни был случайным отцом мальчика, я вас люблю. И поэтому считаю новорожденного своим сыном. Прошу вашей руки, Варвара Николаевна. Мать-одиночка озадаченно уставилась на пожилого жениха. Не знала же она, что с того дня, как Футиков назвал своего сына Лучезарром и получил автомобиль, а Семен Семеныч нарек своего первенца Семеном и получил шиш с маслом. — так вот с того самого дня Семен Семеныч не мог простить себе такой промашки. И теперь, когда судьба снова предоставила ему шанс, может быть, последний шанс в жизни, он готов был на все, только был бы у него сын, которого он мог бы назвать Мбвабвой. То есть Варвара понимала, чего от нее хочет этот лысый. Не зря же к ней приходили и таксист, и милиционер. Но Семен Семеныч первый по собственному почину предлагал ей выйти за него замуж. — Постой, Сема, — сказала Варвара. — Я что-то не соображу: ты ж, кажется, женат? — Формально женат, — не стал спорить жених. — Но я обещаю вам, что как только разведусь, так женюсь на вас. — Ха, нашел дурочку! Так вот я и поверила. Все вы одинаковые! — Варвара Николаевна, не надо меня сравнивать со всеми. Я человек серьезный. И если так стоит вопрос, то я готов дать расписку о том, что как только будет решен вопрос с моей теперешней супругой, так я безотлагательно подниму вопрос об официальном оформлении наших с вами отношений и, следовательно, об официальном усыновлении ребенка. — Пиши расписку! — согласилась мать-одиночка. — Уже написал! — и Семен Семеныч торопливо достал из портфеля аккуратно отпечатанный на машинке документ. «Дана мной, Артыбашевым Семеном Семеновичем, Самохиной Варваре Николаевне, — прочитала буфетчица, — в том, что я, Артыбашев С. С., обещаю Самохиной В. Н.»… — А почему подпись не заверена и печати нет? — придирчиво спросила молодая мать. — Ну кто ж такой интимный документ заверять может? — улыбнулся жених. — Да вы не сомневайтесь, я человек верный! — А сына небось Мбвабвой назвать хочешь? — Семен Семеныч подивился ее международной подкованности, однако юлить не стал: — Мбвабвой, Варвара Николаевна, вот именно Мбвабвой. Имя, конечно, для русского уха непривычное, но дело не в этом. Зачем от собственного счастья отказываться — вот в чем вопрос? Правильно я говорю? И неизвестно почему, то ли из-за расписки, то ли из-за убедительных формулировок, а то ли просто потому, что Семен Семеныч был достаточно некрасив и глуп, Варвара поверила ему. Поверила, что не обманет и разведется и у нее появится какой-никакой, а все-таки муж. Могучей рукой притянула она к себе жениха, чмокнула в лысину и сказала: — Ну. смотри, Семен, обманешь — пеняй на себя! Семен Семеныч, поднявшись на цыпочки, поцеловал невесту в подбородок и опять заверил, что как только решит вопрос о разводе, так займется вопросом женитьбы. Договорились, что завтра же с утра он пошлет соответствующую телеграмму в Полугалию, и окрыленный жених исчез. Только ни завтра, ни послезавтра, короче говоря, никогда в жизни посылать телеграмму за границу Семен Семеновичу не пришлось. Ибо в дело вмешались те непреодолимые силы рока, которые в разные эпохи назывались по-разному, а в наше время скромно именуются компетентными органами. Варвара уже собиралась спать, когда под ее окнами остановилась машина и в передней раздался резкий звонок. — Чего трезвоните! Чего трезвоните! — хриплым шепотом закричала Варвара, открывая двери. — Не понимаете, что ребенок спит? — Варвара Николаевна Самохина? — спросил, возникая на пороге, незнакомый человек в сером костюме и шляпе. — А ты кто такой? — подозрительно спросила молодая мать и увидела, что за незнакомцем стоит еще один, тоже в сером и тоже в шляпе. — Пройдемте в квартиру. Здесь неудобно разговаривать, — уверенно проговорил первый незнакомец и, пропустив в переднюю второго, закрыл дверь. — Да что вам надо? — струсила Варвара и невольно перешла на <вы>. Что-то в облике незнакомцев подсказывало ей, что с ними лучше быть повежливей. И на обэхээсовцев они вроде не были похожи, но все-таки была в них какая-то хозяйская уверенность. — У меня там в комнате ребеночек, — сказала Варвара. — Спит он. Туда нельзя. — Ничего, ничего, у нас голоса тихие, — улыбнулся незнакомец. — Проходите! — И он первым вошел в комнату. — Мы сначала хотели вас вызвать к себе. Но потом выяснили. что живете вы одни, ребенка вам оставить нс на кого. Вот мы и приехали к вам. Поверьте, дело серьезное, срочное, иначе мы бы ни за что не потревожили бы вас. Да вы садитесь, разговор будет длинным. И Варвара послушно села на краешек тахты, а гости расселись за столом. — Разрешите поздравить вас с рождением сына, — сказал первый в сером. — Мальчик, надеюсь, здоров? — Слава Богу, — кивнула Варвара, зябко кутаясь в халат. — А вам что нужно? — Сейчас все объясню. Я — майор Зубатых, Валерий Павлович. А он, — майор кивнул на второго, — капитан Петров, мой коллега, — и майор протянул Варваре какую-то красную книжицу, но она обеими руками торопливо отстранила ее. — Дело у нас к вам неожиданное, и вы, пожалуйста, постарайтесь вникнуть! Читателю тоже придется вникнуть. И для этого нам придется ознакомить читателя с некоторой незнакомой, вероятно, для него информацией.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Несколько лет назад в одной небольшой стране Сонливии произошла обычная для наших дней заварушка. Началось с пьяной потасовки в шалмане. Потом потасовка выплеснулась на улицу, и спустя сутки отличавшиеся мирным характером аборигены по всей стране дубасили друг друга. Туг же появились, разумеется, лидеры, и Сон-ливия разделилась на! враждующие лагери. Одни объявили себя красными, другие ярко-красными, третьи темно-красными. и это оказалось достаточным для того, чтобы красные убивали ярко-красных, ярко-красные истребляли темно-красных, а темно-красные уничтожали и тех, и других. Война оттенков была беспощадной и бесцельной. Количество оттенков множилось пропорционального количеству честолюбивых лидеров. В стране каким-то образом появилось оружие, оставшееся в Штатах после войны Севера и Юга, и артиллерия, которую постыдно бросили в Крыму армии барона Врангеля. Однако с каждым днем военная техника модернизировалась, и вот уже над Сонливией закружились американские «Боинги» и темно-красные стали пулять в ярко-красных самыми современными ракетами. В течение года было 68 перемирий и сменились 12 коалиционных правительств. Наконец по воле случая Президентом Сонливии стал подпоручик Орландо Орланьте. Он объявил, что хочет мира, и пригласил на мирную конференцию двадцать семь лидеров, представлявших двадцать семь красных оттенков. Впрочем, настоящих оттенков было гораздо меньше. Но к тому времени в Сонливии появились и такие партии, как неярко-красные, левоярко-красные и даже просто красно-красные, то есть партии, являвшиеся не оттенками, а оттенками оттенков. Но как бы то ни было, на совещании присутствовали двадцать семь лидеров, представлявших двадцать семь до зубов вооруженных партий. В целях безопасности совещание проходило на военном корабле, стоявшем в открытом море, чтобы никакие экстремисты и террористы не могли к нему подобраться. Орландо Орланьте краткой вступительной речью открыл мирное совещание и скромно уселся в сторонке… С первой же минуты начались ожесточенные дебаты. Увлеченные принципиальными спорами, участники мирной конференции даже не заметили, что Орландо исчез, а корабль тонет. Более того, уже очутившись в воде, лидеры продолжали дискутировать и топить друг друга. Короче говоря, спасся один Орландо. Он добрался до берега и, еще не успев обсохнуть, объявил, что отныне является единственным правителем Сонливии и не потерпит никаких оттенков. В стране наступил долгожданный мир. Случайно уцелевшие немногочисленные жители Сонливии благословляли мироносца. Орландо, почувствовав народную поддержку, объявил себя противником красных и сторонником каких-то сине-зеленых. Остатки бывших оттеночников стали быстро перекрашиваться в единственный разрешенный в стране цвет. А Орландо в интервью, данном корреспондентам газет «Вечерний Вечногорск» и «Вашингтон пост», наконец раскрыл свое идеологическое кредо. Он сказал, не вдаваясь в подробности, что считает себя продолжателем дела и идейным последователем атамана Маруськи. Это заявление озадачило международных специалистов во всем мире. Но Орландо отказался комментировать свое заявление и добавил только, что собирается довести дело атамана Маруськи до победного конца, в честь чего переименовывает столицу Сонливии — Сонарию в Санкт-Марусин, а себя просит впредь именовать не подпоручиком и не президентом, но атаманом. В первый же месяц атаман выгнал из столицы все посольства. выслал всех иностранных журналистов и посадил в тюрьмы отечественных, а уж после стал править. Ни одного интуриста в Сонливию не впускали и ни одного туриста из Сонливии не выпускали. Ни в какие отношения с внешним миром атаман не вступал, и о том, что происходит в загадочной Сонливии, знали только по слухам. Газеты там не выходили, радио передавало только бодрые марши. а из победных маршей, как известно, много информации не выжмешь. И вдруг пошли слухи, что вскоре атаман Орландо собирается торжественно отметить пятилетие своего прихода к власти. Сначала в МИДе надумали послать Орландо приветственную телеграмму. Но протокольный отдел сказал, что делать этого нельзя, потому что у Москвы с Сонливией нет дипломатических отношений. Однако упускать редкую возможность не хотели. И тогда в компетентных органах вспомнили о вечногорских традициях неформальных связей с зарубежными деятелями. И решили, что хорошо было бы, если бы кто-нибудь из жителей этого славного города в частном порядке назвал своего новорожденного в ознаменование исторического пятилетия Орландо и послал бы об этом атаману телеграмму. Конечно, атаман мог не обратить на телеграмму внимания. Тем более что не знали, сохранились ли в Сонливии телеграф и почта. Но был шанс, что телеграмма не останется незамеченной и, может быть, атаман даже ответит на нее. А это уж какое-никакое, а начало восстановления связей. Атам, глядишь, завяжется переписка, а там и… Да что загадывать! Риск минимальный, а выгода может быть очень большой! И планы у компетентных органов были далеко идущие и многообещающие. Разумеется, далеко не все, что мы поведали читателю, майор Зубатых сообщил молодой матери. Он приоткрыл ей лишь то, что считал возможным открыть частному незасекреченному лицу, не имеющему допуска к высоким тайнам государственной политики. Однако Варвара, которая знать не знала до этого ни про какую-то Сонливию, ни про какого-то атамана, сразу поняла, чего от нее хочет этот занудный мужик. — Да что, я одна в Советском Союзе? Вот у вас есть дети? Вы им и давайте имя вашего атамана! — Нет, Варвара Николаевна, я вижу, вы не вникли. — скорбно покачал головой майор. И вслед за ним так же покачал головой не проронивший ни слова капитан Петров'. — Если бы вы вникли, то вы бы поняли, что ваш сын — самая подходящая кандидатура: во-первых, у него еще нет имени, а юбилей Орландо будет отмечаться как раз завтра, так что телеграмму нужно давать немедленно. И если бы у меня лично родился бы сегодня ребенок, я бы не колебался ни минуты и дал бы ему любое полезное для интересов нашего государства имя! И он дал бы! — майор кивнул в сторону своего безмолвного спутника. — Теперь, во-вторых, у жителей нашего города есть замечательная традиция давать своим детям имена зарубежных прогрессивных деятелей. Весь мир знает об этом. И потому у атамана ваша телеграмма не вызовет никаких нездоровых подозрений. — Каких еще подозрений? — насторожилась Варвара. — Ну, он не станет думать, что, давая его имя ребенку, вы преследуете какие-нибудь неблаговидные политические цели. Вы же, надеюсь, не преследуете? — подозрительно уставился на Варвару майор. — Да на кой мне! — Вот видите… К тому же вы — мать-одиночка, а для нас это очень важно… — Ха! Да какая я одиночка? — вспыхнула Варвара. — Мне сегодня, если хотите знать, десять человек предложения делали! Да я хоть сию минуту замуж выйти могу! — Насчет десяти человек — это мы недосмотрели, — и Зубатых, улыбнувшись, развел руками. — А вот насчет троих знаем точно. — И, хитро прищурившись, майор назвал таксиста, инспектора и Семен Семеныча. — Я ничего не напутал? Так вот, уважаемая Варвара Николаевна, замуж вам за них выходить сейчас никак нельзя. Вы уж потерпите… — Да с какой стати я должна терпеть? Я уж с Семен Семенычем договорилась. Он завтра телеграмму Мбвабве даст! — Ну, с Семен Семенычем мы уладим, и телеграммы он никому не даст. А пока что, чисто формально, разумеется, по легенде мужем вашим будет вот он, капитан Петров. — Этот? — удивленно вздернула двойным подбородком Варвара. — Этот, — подтвердил майор, а капитан встал и деловито, без улыбки щелкнул каблуками и поклонился. — Валентин Сергеевич, — представился он, и это было все, что капитан сказал за весь вечер. — Чем не хорош? — восхитился Зубатых. — Орел! Варваре, честно говоря, капитан понравился. Ничего мужик! Однако упускать реального, хоть и траченного молью Семен Семеныча ей не хотелось. А что до интересов государства, так что ж ей, больше всех надо! — Не подходит мне ваш капитан! — заартачилась она. — Подходит. — спокойно заверил ее Зубатых. — Чисто формальная женитьба не обязывает вас ни к чему. — А если я откажусь? — продолжала торговаться буфетчица. — Вот возьму и откажусь! — Не откажетесь, — так же спокойно ответил Зубатых. — Мы же знаем, что вы настоящий патриот, любите родину, и в ОБХСС на вас кой-какие сигналы есть. Услышав последний довод, буфетчица капитулировала. Ибо не было для нее страшнее зверя, чем ОБХСС. А упоминутые как бы невзначай сигналы действительно могли иметь место… И в ту же ночь в таинственную Сонливию в город Марусин полетела телеграмма. А ранним утром Семен Семеныч вышел из дому. Неся в кармане готовый текст послания президенту Мбвабве, он свернул в сторону почтового отделения, и тут же перед ним появился человек в сером и загородил дорогу. Семен Семеныч подался вправо и оказался возле распахнутой дверцы черной «Волги>. Спустя мгновение Артыбашев очутился в машине, и «Волга» стремительно тронулась с места. — Что такое? — пискнул Семен Семеныч. — Куда вы меня везете? Я опаздываю на работу… — Не опоздаете, — успокоил его человек в сером. А спустя несколько минут Семен Семеныч сидел перед майором Зубатых, и тот, привычно вертя в пальцах блестящую шариковую ручку и ничего не объясняя, сказал Артыбашеву, что то, что он, Артыбашев, собирался сделать, ни в коем случае делать нельзя. — Но ведь я не знал, что Мбвабве не прогрессивный! — жалобно заверил Семен Семеныч. — А вас пока ни в чем не обвиняют, — сказал майор таким тоном, что Артыбашев понял: на свободу ему в ближайшие годы не выбраться. — Просто мы считаем нужным предостеречь вас от ошибки. — Спасибо! Честное слово, большое спасибо! — и Артыбашев благодарно прижал руку к тому месту, где лежал проклятый текст проклятой телеграммы, и почувствовал, как под бумажкой учащенно ухает сердце. — Кстати, вообще не стоит давать иностранным деятелям имена чужих детей, а тем более советских! — мягко пожурил Зубатых. — Он мне не чужой, я хотел его усыновить! — И это ни к чему! У Варвары Николаевны есть муж. — Нет у нее мужа, в том-то и дело. — Есть! — твердо сказал Зубатых, и Артыбашев поверил, что действительно есть. — Я бы вам вообще не советовал посещать этот семейный дом, — продолжал майор. — Вы член партии? — Нет… — Тем более! — многозначительно и туманно подчеркнул майор. — Вам когда на работу? — В девять. — Ну что ж, идите, а то опоздаете. — Куда идти? — На работу, куда ж еще! — Так вы меня отпускаете? — все еще не веря такому счастью, спросил Артыбашев. — Разумеется! — Зубатых был доволен эффектом. — Но, само собой, ни о том, что вы здесь были, ни о нашем разговоре никому ни слова! — Что вы, что вы! — заверил Семен Семеныч и, пятясь, вышел из кабинета.ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Жизнь буфетчицы Варьки стремительно покатилась по новой колее. Через три дня после того, как временно исполняющий роль мужа капитан Петров дал телеграмму Орландо, пришел ответ. Растроганный атаман благодарил за поздравления, сообщал, что в честь крестника один из городов Сонливии переименован в Птиорландополь, и просил прислать фотографию породнившейся с ним семьи. Варвара сшила по этому случаю вечернее платье с макси-декольте, капитану Петрову на службе справили новый серый костюм, и семья Петровых-Самохиных, держа перед собой сверток с Орландиком, увековечила себя и послала цветной снимок атаману. В «Вечернем Вечногорске» появился фельетон Д’Анилова о бесстыжих заигрываниях Вашингтона с кровавым режимом Орландо, и в это же время атаман получил фотографии. Увидев необъятную Варвару в черном платье с гипертрофированным декольте, из которого решительно выпирали могучие полушария. Президент зажмурил глаза и вздрогнул. Он вздрогнул и направил в Вечногорск срочную правительственную телеграмму, в которой просил новых родственников незамедлительно пожаловать к нему в гости. Компетентные органы ликовали. Действительность превосходила их самые смелые мечты. Варвару с помощью опытных педагогов срочно обучали приличным манерам. И буфетчица оказалась весьма способной ученицей. Всего через неделю ее привычные фразы типа <А ну мотай отсюда!». «Катись к едрене фене!» или «Чего варежку разинул?» заменили диковинные слова «Благодарю вас!», «Будьте добры!» и «Извините, ради бога!». И Варька так насобачилась употреблять их, что ее хоть сегодня можно было засылать куда угодно — хоть в Версаль! Те же опытные педагоги старались отучить капитана от разоблачающей привычки отдавать честь и щелкать каблуками. Ведь по легенде муж В. Н. Петровой-Самохиной был безобидным, заурядным директором овощной базы. Именно эту должность капитан придумал сам, потому что в порядке шефской помощи регулярно два раза в год перебирал в овощехранилище гнилую картошку и с работой овощных баз был в общих чертах знаком. Наконец скоростная подготовка к засылке засланцев была закончена, и семья Петровых отправилась в путь. До Парижа летели на советском самолете Аэрофлота. Там пересели на самолет авиакомпании «ПанАмерикан» и, с комфортом долетев до Ломалии, стали ждать оказии, чтобы лететь в Сонливию. В Санкт-Марусин можно было попасть только с оказией вот почему. Своих пассажирских самолетов у Орландо не было, а пилоты других авиакомпаний лететь в Сонливию боялись. Никогда не известно было, выпустят ли сине-зеленый самолет обратно или оставят у себя, чтобы получить выкуп. Воздушное пиратство являлось важной статьей дохода атамана. И уж несколько лет ни один разумный человек не решался по собственной воле приземляться в Сонливии. Если же. в крайнем случае, какому-нибудь представителю Орландо нужно было срочно лететь в ЮНЕСКО или, скажем, на кинофестиваль в Канны, делалось это так: специально подготовленные группы захвата выезжали в одну из соседних стран, садились в пассажирский самолет, захватывали его в полете и, угрожая пилоту автоматами, велели ему лететь в Санкт-Марусин. Там на борт поднимался тот самый представитель, и пилот получал указание, куда лететь дальше. Все авиакомпании знали, что если в таких случаях послушно подчиняться приказам террористов, то последние ничего плохого не сделают. Поэтому к временным захватам самолетов авиакомпании относились как к чему-то неизбежному и отнюдь не самому страшному. И действительно, как только пилот доставлял представителей Орландо в пункт назначения, так террористы, откланявшись, покидали самолет, и пассажиры свободно могли лететь по своему маршруту. Так осуществлялась воздушная связь Сонливии с остальным миром. На этот раз атаман приказал захватить самолет покомфортабельней. И вскоре семья Петровых приземлилась на центральном аэродроме Санкт-Марусина.У трапа Варвару встречал сам Орландо Орланьте. И вот, едва встретились взгляды атамана и буфетчицы, голова у Варьки закружилась, сердце затрепыхалось, в глазах замелькали разноцветные искры. Варька ахнула, ойкнула, вскрикнула и упала в объятия Орландо. Да, да, непонятная скептикам и недоступная циникам любовь с первого взгляда вспыхнула между Орландо и Варварой, и долго еще дано было гореть ее высокому и разгоняющему тьму низких истин пламени. Не разжимая объятий, атаман хрипло отдал приказ, и не успел еще капитан Петров сойти с трапа, как два дюжих террориста внесли его обратно в самолет и знаками дали понять пилоту, что он может убираться на все четыре стороны. Пассажиры облегченно вздохнули, авиалайнер незамедлительно взлетел и, унося растерянного капитана, стал стремительно набирать высоту. — Извините, ради бога, где я? — выдохнула наконец Варвара, когда самолет с ее бывшим мужем растаял на горизонте. — В Сонливии, мой амур Барбара, — ответил, тяжело дыша, атаман. — Миль пардон за то, что я отослал вашего мужа. Он бы только мешал нам, мой амур… — Благодарю вас, мон ами, — прошептала буфетчица. Они снова слились в поцелуе, и даже рев маленького Орландо не мог прервать их железобетонных объятий. Первое время прошло как в тумане. Незадачливый капитан уже успел вернуться на родину, отчитаться, вылететь с работы, устроиться на овощную базу, провороваться, получить срок и отбыть в Мордовскую АССР, а Варвара все еще обнималась да целовалась со своим Орландушкой. Ни разу у себя в стекляшке не видела она такого красавца-раскрасавца. И если б кто из подруг сказал ей, что такие бывают, она б все равно не поверила. Разве что только в кино или на обложке журнала «Советский Союз» — да и то навряд ли! Неизвестно, каким образом влюбленные изъяснялись, но не зря говорят многоопытные французы да Варькина подруга Клашка, что язык любви не требует перевода. И вот, вероятно, на этом самом языке любви Варвара как-то утром с ревностью спросила: — Что ты, Орлик, с атаманом Маруськой, как с писаной торбой, носишься? Что ты хорошего, извините, ради бога, в этой бабе нашел?. — Да что ты, мон амур? Какая же Маруська баба? — удивился и даже обиделся Орлик. — Ну не баба, извините, ради бога, а женщина… — И вовсе не женщина — Маруська, — снова возразил Орландо. — Не женщина? А кто же — невинная девица? — ехидно спросила Варвара. — Маруська не девица! — строго поправил атаман. — Маруська — старый старик. — Кто?! — Дед. Дедушка с бородой. — Да иди ты… — начала было буфетчица, но тут же запнулась и добавила: — Извините, ради бога! Благодарю вас! — Ты не веришь? А ну-ка вставай! — и атаман рывком поднял Варвару с кровати и прямо в прозрачной ночной рубашке потащил по коридору. Попадавшаяся по дороге охрана деликатно отворачивалась, а Орландо ввел Варвару в свой кабинет, где за его столом на стене висел хорошо знакомый Варваре еще по Вечногорску портрет. — Вот он! — торжественно сказал Орландо, показывая на портрет. — Вот он, атаман Маруська! — Да какая же это Маруська? — поразилась Варвара. — Это же Маркс! — Ну да, я так и говорю! Туг буфетчица наконец все поняла и захохотала так, что охрана всполошилась и подняла тревогу. Дело в том, что язык жителей Сонливии отличался одной особенностью: в нем не было гласных, ни одного гласного звука, только согласные. (В нм нблглснх звкв, тлк сглсн, — так бы, примерно, звучала в Сонливии последняя фраза.) И для атамана Орландо имя Маруськи (Мрск) звучало так же почти, как имя основоположника (Мркс). К этому надо добавить, что и об атамане, и об основоположнике он узнал одновременно от одного спившегося анархиста-эмигранта. При Николае Втором этот эмигрант был марксистом-аграрником, а при атамане Маруське министром воздухоплавания. Он-то и обучил Орландо началам политэкономии. И неудивительно, что в голове слаборазвитого Орландо произошла небольшая путаница (в глв слбрзвтг рлнд прзшл птнц), усугубленная отсутствием гласных, и в результате пышнобородая Маруська стала его идейным вдохновителем. Так в первый раз Варвара обнаружила идейную несостоятельность Орландо. Кое-как ей удалось втолковать Президенту Сонливии, что Маруська — это одно, а Маркс, можно сказать, другое. Орландо подивился образованности своей возлюбленной, но просил о допущенной им ошибке никому не рассказывать. Так в народной памяти он и остался продолжателем дела атамана Маруськи. А между тем, постепенно приходя в себя после достойного легенд и стихотворных эпосов любовного потрясения, бывшая буфетчица стала озираться вокруг и с присущей советским людям зоркостью начала подмечать отдельные недостатки. — А что это, Орлик, у тебя страна такая отсталая? — опросила однажды во время полуденной сиесты Варвара. — Разве так можно? Вот сделал бы ты свою страну передовой. тебе бы каждый спасибо сказал! — Не лезь в политику, Варька! — лениво одернул ее атаман. — Почему это не лезь? Что я, извините, ради бога, меньше других знаю, что ли? Слава богу, восемь классов отбарабанила, чуть в девятый не перешла! Орландо, опершись на локоть, приподнялся и с новым интересом посмотрел на Барбару. Лично он, Президент Сонливии, окончил два класса церковно-приходской школы и к таким образованным людям, как его возлюбленная, относился с почтением. А Варвара училась все-таки в советской школе, воспитывалась в советском коллективе и высиживала на'советских собраниях, особенно на тех, после которых бывали танцы. Так что в ее сознании навсегда осели готовые, четкие, стандартные определения на все случаи жизни. И она с радостью делилась своими искренними убеждениями с любимым: — Я лично, Орлик, капитализм не люблю. Я лично против капитализма. И честные люди всей земли против. Потому что при капитализме бедные люди живут бедно, а богатые, наоборот, богато. И это несправедливо! Хотя мне моя подруга Кланя в универмаге итальянскую кофточку купила, так все мужики на меня оглядывались, честное слово! Я вот так иду, а они вот так оглядываются. Очень красивые вещи у капиталистов! И я не люблю этих агрессоров, потому что они поджигатели войны. А зачем нам война? У нас испанские сапоги на двойной платформе продавались, так очередь до «Гастронома» стояла. А я как натянула, мужики так и попадали! На меху сто девяносто рублей. Только моего размера не было. Так что мы хорошо живем, Орлик, что ни выбрасывают, у нас за всем очереди, потому что денег у народа завались, а где крадут — непонятно. Поэтому нам, Орлик, война не нужна. Мы за мир. И ты тоже, Орлик, должен за него бороться. Вот мы тут лежим, а мир разделен на два лагеря. В одном лагере простые люди всей земли, силы мира и безопасности, а в другом лагере, Орлик, агрессоры. Они стремятся подорвать дело мира, Орлик, и не останавливаются ни перед какими, если хочешь знать, провокациями. Противники разрядки, Орлик, не унимаются, я тебе прямо скажу, если враг не сдается, его уничтожают. Так что хочешь не хочешь, а надо выходить в передовики и неустанно заботиться о дальнейшем росте благосостояния народа! — произнеся эту тираду. Варя устало откинулась на подушку, а Орландо оказал: — Благосостояние. Барбара, это хорошо. Кто же против благосостояния? Только где я его возьму? — А это, Орлик, просто. Нужно только захотеть, — лениво сказала Варвара и зевнула. — Вот ко мне в стекляшку всякий клиент ходит. Так вот инженер или еще кто попроще берет портвейн-шерибрендиевку, 37 копеек сто граммов, 74 — двести. Приедет начальство, просит коньяк, два рубля сто грамм, а то и два сорок. А это что значит? — Что? — без особого интереса переспросил атаман. — А то, что начальство живет лучше, чем не начальство. И чем у тебя будет в стране больше начальников, тем, значит, больше людей хорошо жить станет. А когда у тебя все станут начальниками, тогда и наступит в Сонливии настоящее благосостояние и все смогут пить коньяк. — А что же эти начальники у меня делать будут? — спросил Орландо. — А что у нас делают? Друг дружкой командуют, сверху вниз приказы шлют, снизу вверх отчеты посылают, на заседаниях вкалывают… В общем, работы хватает! И понравилась атаману эта оригинальная идея. И через месяц появилось в стране десять тысяч вновь назначенных начальников, а через три месяца еще двадцать тысяч. В Санкт-Марусине жить стало лучше, жить стало веселей. Тридцать тысяч счастливчиков, получая соответствующие их высоким должностям оклады, тратили, не жалея, свои шальные деньги, и торговля в столице заметно оживилась. Довольный таким многообещающим началом атаман учредил еще пятьдесят тысяч высокооплачиваемых должностей, и благосостояние еще пятидесяти тысяч граждан резко возросло. Но тут министр финансов не без страха осмелился доложить атаману, что государственная казна пуста. Орландо растерялся. Однако у бывшей буфетчицы были наготове новые экономические идеи. — И правильно казна опустела! — оказала Варвара. — Не надо было тебе начальникам зарплату давать… — А благосостояние? — удивился атаман. — Ты ж сама говорила! — Про начальство говорила, а про зарплату — это ты сам придумал! Зачем начальству зарплату давать? Раз они все начальники и друг от друга зависят, пусть друг у дружки взятки берут. Вот тебе и благосостояние, да еще какое! Кто ж с одной зарплаты живет? И подивился атаман Орландо светлому уму своей возлюбленной. Сделал он так, как она сказала, и стали жить начальники лучше прежнего. Сколько они друг у друга брали — дело темное. Только появились у них дома каменные, гасиенды загородные да яхты собственные. И благословляли все нововведения атамана. Однако дальновидная Варвара не давала своему Орландушке почить на лаврах и довольствоваться достигнутыми успехами. — Теперь, Орлик, самое время пополнять твою опустевшую казну и превращать отсталую аграрную Сонливию в передовую индустриальную державу. Это я тебе точно говорю! — Прямо-таки, разбежалась! — ухмылялся атаман, ласково хлопая ее по чарджуйскому заду. — Да где же я деньги возьму? Они ж на улице не валяются… — Ох, не валяются! — вздохнула Варвара. — Только чем человек отличается от обезьяны? — Ну? — заинтересовался Орландо. — Тем, что у него деньги есть. Думаешь, мне в буфете легко было работать? Сразу видно, что тебя к материальной ответственности и близко не подпускали! В стекляшке шариками крутить знаешь как надо! Тут тебе и ревизия, тут тебе и народный контроль, и ОБХСС, и всем дай, и себе оставь. А ничего, управлялась! Ты, Орлик, умный мужик, но башка у тебя, извините, ради бога, не варит. Погляди с принципиальной прямотой вокруг. Начальники твои за это время вон как зажрались! Добра у них навалом. И ежели это добро конфисковать, сразу страна разбогатеет! — Все мое! — поразился Орландо. — У тебя голова, Барбара, как у атамана Маруськи! — Поработал бы ты в буфете с мое, и у тебя не хуже была бы, — скромно согласилась буфетчица. — Насчет добра это ты здорово придумала! Добро мы конфискуем, это точно. А с начальниками что делать? Пострелять? — Да ты что, очумел? — прикрикнула Варвара. — Что у тебя за недозволенные методы! Начальников обязательно надо оставить на месте. Они через год-два опять добра накопят, а ты его опять конфискуешь, и так далее! Туг уж глава государства до того возликовал, что немедленно велел переименовать Санкт-Марусин в Барбаробад, и приступил к осуществлению принципиально новой экономической политики. В дальнейшем история Сонливии делилась на исторические вехи, которые именовались Первая конфискация имущества, Вторая конфискация имущества, Третья конфискация и т. д. Причем каждая конфискация имела конкретную экономическую цель. Так, первая конфискация была металлургической, вторая — станкостроительной, пятая — авиационной… Были конфискации сельскохозяйственные, электронно-вычислительные, геолого-разведочные… И чем больше богатела страна, тем легче было наживаться начальникам, а чем сильнее наживались они, тем больше у них конфисковали, а чем больше конфисковали, тем богаче становилась страна, а чем богаче становилась страна, тем эффективней ее растаскивали начальники. Получался замкнутый круг. Но только это был не порочный круг, а полезный. И граждане жили все лучше, а чиновники, зная, что для обогащения им отпущены жесткие сроки, старались воровать все быстрей, чтобы между двумя конфискациями успеть хоть немного пожить в свое удовольствие. Миллионные состояния наживались за полгода, особняки вырастали в течение полумесяца. Освоенные в Сонливии невиданные скоростные темпы воровства и строительства не были в дальнейшем достигнуты ни в одной передовой державе мира. А ежели какой-либо начальник не проявлял должной расторопности, медленно воровал и тем самым срывал утвержденные атаманом планы конфискации, то такого нерадивого работника с должности снимали как не справившегося и в служебной характеристике у него так и писали — «не ворует». А устроиться с такой характеристикой на ответственную работу было не просто. Долгое время в соседних государствах, глядя на Сонливию, удивлялись. И откуда эта нищая страна стала такой богатой? И каким образом эта неразвитая Сонливия так быстро развивается? — Оттого и развивается, что слаборазвитая, — объясняли завистники. — Развитым развиваться незачем, они и так слава богу! Но постепенно и другие государства стали перенимать опыт Сонливии и вводить у себя принципиально новую экономическую политику. Они отказывались от финансовой помощи сверхдержав и, в кои-то, веки обходясь без займов, смело шли по пути, указанному буфетчицей Варькой. Ученые подвели под новое экономическое учение базис, затуманили простые и ясные Варькины идеи сложными терминами. Но по настоянию атамана Орландо новое течение во всех научных работах называлось барбаризмом, а последователи этого учения — барбаристами. Таким образом, на нашей маленькой планете кроме капиталистических и социалистических стран, а также кроме стран неприсоединившихся появилась четвертая, барбаристская, группа, и лидером ее стал атаман Орландо, окончивший два класса церковно-приходской школы. Видно, под влиянием все той же Варьки, внушившей ему, что без диплома теперь не прожить, атаман поступил на заочное отделение Кембриджа и в результате получил ученую степень магистра, а потом и доктора за фундаментальный труд «Вопросы барбаризма».
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
И вот интересное дело. Изменилась Сонливия. Расцвела, раскинулась полями колосистыми да бананово-лимонными рощами. Разбогатела. Разиндустрилась. Вымахала из отсталых почти в передовые, и все благодаря правильному и последовательному принципу барбаризма. И перестал атаман разбойничать и захватывать чужие самолеты. То ли Варька не велела, то ли сам додумался, что не к лицу это доктору наук, несолидно. Да и у самой Сонливии самолетов теперь столько, что девать некуда. И стал Орландо восстанавливать дипломатические отношения. Стали навещать его всякие премьеры да президенты. Государственный секретарь из Соединенных Штатов как-то наведался: что у вас тут да как, не нужно ли чего-нибудь этакого? А тут и Москва: пожалуйте в гости. Что это вы у нас никогда не бываете? И захотелось Варваре Самохиной, ну просто до слез захотелось в свой Вечногорск поехать, стекляшку «Лиру» повидать и себя показать. Ее подружки-шмакодявки небось ни разу в жизни такой шубы не видели, как у Варьки, у мадам Орландо! Они небось от зависти помрут, когда посмотрят, какая у нее сумка из настоящего крокодила, сто пятьдесят долларей Орлик заплатил, если не врет, конечно, пудреница из настоящей черепахи, шапка из тигровой шкуры. Орлик сам тигра этого на охоте подстрелил, хоть это уж точно врет, что сам. Бриллианты им, дурехам, и показывать незачем, они все равно не поймут, но она все равно им покажет, и сережки покажет, и колье показала бы. да оно у нее на шее не застегивается, тесное колье купил Орлик, а больших размеров в Штатах не было. И пристала Варвара к Орландо: поедем и поедем, что ты все дома сидишь, личных контактов не налаживаешь? Поедем, я тебе Новый Арбат покажу, в Большой театр сходим. И согласился Орландо, и прибыл с официальным визитом в Москву. На аэродроме встречали его все те государственные деятели, которым согласно протоколу надлежало встречать самых высоких гостей. Были рукопожатия, был почетный караул, были речи… Причем по дипломатическим каналам договорились, что в своих выступлениях Президент Орландо постарается не упоминать имени атамана Маруськи. Звучали гимны, при этом Орландо впервые услышал советский гимн и деликатно попросил Варвару описать ему слова. А советские люди впервые услышали гимн Сонливии и подивились его сходству с популярной песней «Из-за острова на стрежень». Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Просто Варвара очень любила эту песню, напоминавшую ей о ее родимой стекляшке, и Орландо сделал эту песню национальным гимном. И всякий раз. слушая гимн Сонливии, Варвара своим зыки-но-шаляпинским голосом жалостливо подпевала, и это очень трогало сентиментального атамана. Но, разумеется, на внуковском аэродроме Варя песню о Стеньке не пела. Держа в правой руке преподнесенный ей букет алых роз, она то и дело старалась оказаться впереди супруга, чтобы попасть в объектив телекамеры. Пока звучали гимны, Варвара, принимая задумчиво-государственные позы, все гадала, видят ее сейчас в Вечногорске по телевизору или нет? И если видят, то узнают ли, что это она, Варька-буфетчица, или даже не догадываются? — Однако, хороши бабы в Сонливии! — говорил в это время Володька-таксист, разглядывая супругу атамана на экране телевизора. — Хороши, но полноваты, — отмечал заглянувший на огонек цветного телевизора к соседу инспектор Потапенко. — По мне так чем больше, тем лучше! — А это уж дело вкуса… — Хороша, ничего не скажешь! — повторил Володька. — «Хороша, хороша!» — передразнила жена таксиста. — Ты меня одень, как этот президент свою президентшу одевает, и я б не хуже была! — Эх, будь я президентом, дорогуша, я б тебя еще лучше одевал! — сказал Володька. — Уж на что у нее дорогое платье, а ты б в таком у меня квартиру убирала бы, а не то что за границу ездила бы! — От тебя дождешься! Будь ты президентом, ты б полгосударства пропил! — Ничего, нам бы и второй половины хватило бы! — заверил неунывающий таксист. — А это кто же рядом с этой женщиной в военной форме? — поинтересовался инспектор. — Охрана, наверное… — предположил таксист, наливая себе и дорогому гостю в граненые стаканы. — Да не охрана это! — догадался инспектор. — Это и есть сам президент! Орландо. — А чего ж этот Орландо все вроде как за жену прячется? — удивился Володька. — Не прячется, а женщину вперед пропускает. Культура! — с укором в голосе объяснила жена таксиста. — Ну что ты все наливаешь, все наливаешь?! Поставь бутылку на место! — А ты что за мной следишь? — обиделся Володька. — Ты вон за телевизором следи! — С тобой телевизор посмотришь! — В машину садятся, — сказал инспектор Потапенко и уважительно добавил: — В «ЗИЛ-111»! — Да хрен с ними! — сказал Володька, чокаясь. — Поехали! Сопровождаемая мотоциклистами, Варвара в черной уютной машине мчалась по Внуковскому шоссе, по Ленинскому проспекту и, прижимаясь к мужу, с гордостью говорила: — Видишь, Орлик, это столица нашей Родины — Москва. Это магазин «Синтетика», хороший магазин! А вон. видишь, стенка такая и церкви — это, Орлик, Кремль. Правда, красиво? Но задерживаться в Москве Варвара не стала. Что ей делать? В ГУМ сходить? Так чего она в этом ГУМе не видела? И, пока Орландо Орланьте вел в столице переговоры, мадам Орланьте отправилась в Вечногорск. В Вечногорске, конечно, знать не знали о судьбе Варвары Самохиной. Уехала и уехала, а куда — неизвестно. То есть компетентные органы знали все, на то они и компетентные, но постарались сделать так, чтобы ничего не знали другие. И поэтому, когда местным властям сообщили, что супруга Президента Сонливии желает посетить Вечногорск, городские власти удивились. Разумеется, не было того переполоха, который случился перед приездом Кастракки. После адмиралиссимуса и другие прогрессивные деятели посещали в Вечногорске своих крестников. И вообще международные связи горожан отучили местное начальство трепетать и вибрировать при встречах любых, даже самых захудалых, правителей. Но тут был незаурядный случай. Учитывая особую заинтересованность в дружбе с Сонливией как со страной, возглавляющей лагерь барбаристов, Москва распорядилась принять госпожу Орланьте по высшему классу. Правда, компетентные органы объяснили, что мадам Орланьте проживала прежде в Вечногорске и поэтому профсоюзно-комсомольские суббото-воскресники по уборке улиц устраивать бессмысленно, с местными можно без церемоний. А с другой стороны, какой же это прием на высшем уровне, если без церемоний? Мадам все-таки бывшая местная, так что все это только усложняет! Ну, освободили два люкса в гостинице «Магадан». Один люкс для мадам, второй — тоже для мадам. Ну, поставили в люксы аквариумы с рыбками, вазы с цветами, а помимо картин с мишками повесили еще картины с бушующим морем. Ну, забросили в буфет бананы — кто знает, может, там, в Сонливии, без бананов и за стол не садятся! Ну. покрыли тот участок коридора, который вел клюксам, новым ковром… А еще что делать, чтобы получилось на высшем уровне? Не выводить же на встречу мадам трудящихся?— Ни в коем случае! — предупредили в протокольном отделе. — Мадам Орланьте частное лицо, и надо ей оказывать простое прославленное русское гостеприимство. Но на высшем уровне! Показать ей новый нефтеперерабатывающий завод, сводить в цирк, свозить в совхоз имени Сессии Верховного Совета, познакомить со знатными доярками… — Да на фиг мне все это надо! — удивилась Варвара, когда ей огласили программу развлечений. —Я. извините, ради бога, хочу в «Лиру»! — Куда, простите? — не понял мэр города, который в забегаловке, разумеется, ни разу не бывал. — В «Лиру». Кафе такое. Председатель вопросительно поглядел на своего референта Шереметьева. — Если я не ошибаюсь, это кафе на Первомайской, — ответил подтянутый щеголеватый референт. — На Октябрьской, — поправила Варвара. — Ну да, на бывшей Октябрьской, теперь она опять Первомайская. Я вас провожу. Варвара, сопровождаемая Шереметьевым, вышла из гостиницы, и «Чайка» понеслась по такому знакомому Вечногорску. — Не гони, — сказала Варвара. — Дай на город поглядеть. Я ж не кататься приехала! — Не гоните! — распорядился Шереметьев, сидевший рядом с водителем, и, обернувшись к гостье, спросил: — Вы хорошо помните Вечногорск? — Ха! — ответила мадам Орланьте. — Спросите тоже! Я ж тут жизнь прожила! Заедем сначала на Лумумбовскую, я вам дом свой покажу. Шереметьев незаметно поежился. Дом номер семь на улице Патриса Лумумбы он знал хорошо. Еще позавчера на том доме, где проживала мадам Орланьте, решили на всякий случай укрепить мемориальную доску. Начертали золотом по мрамору «В этом доме жила Варвара Николаевна Самохина 1952–1976». Прикрепили массивную мраморную доску к стене, и давно требовавшая ремонта стена не выдержала — провалилась внутрь бывшей Варькиной квартиры. Кое-как спешно пролом заделали и прикрыли его ярко расцвеченным щитом «Лучшие люди нашего района», который срочно перенесли с другого места и даже из другого района. Варвара походила, походила вокруг милого ее сердцу дома. Захотела заглянуть в свою бывшую квартирку, но находчивый Шереметьев объяснил, что хозяева уехали в отпуск на юг, а ключа не оставили. Варвара опять обошла дом, вытерла глаза импортным платочком и стала разглядывать фотографии лучших людей района. Она очень обрадовалась, когда увидела на доске фотографию своей лучшей подруги Клали Родионовой. Повар столовой № 7 К. Родионова, завитая и подретушированная, таращилась с фотографии, и Варька в глубине души даже позавидовала ей. Мадам Орланьте тоже хотелось бы висеть на доске почета, но при этом, конечно, жить в Сонливии со своим Орликом. — Моя подружка! — с гордостью объявила Варвара, указывая Шереметьеву на фотографию Родионовой. — Вместе, можно сказать, начинали… — Интересная женщина, — вежливо поддержал беседу Шереметьев. — Но вы, должен вам сказать, выглядите гораздо моложе ее. — Иди ты! — игриво толкнула его своим могучим локотком кокетливая мадам, и Шереметьев отлетел к дожидавшейся в стороне «Чайке». — Комплиментщик! Варвара перешла дорогу и еще раз оглядела свой дом, навсегда прощаясь с ним: — Эх, хорошо я тут жила! Весело! Ну да ладно… …«Чайка», обгоняя машины, неслась по осевой линии. Гаишники, опытным взглядом завидев ее. перекрывали движение, давая «Чайке» зеленую улицу. — Стой, шеф! — закричала вдруг госпожа Орланьте зычным голосом. — Стой! Шофер резко затормозил, Шереметьев удивленно поглядел на мадам Орланьте, а та, распахнув дверцу, легко выскочила из машины. К остановившейся «Чайке» спешил милиционер. При виде спешащей к нему шикарной дамы, от которой за версту пахло заграницей, милиционер отдал честь, а Варвара уперла руки в бока и насмешливо протянула: — Ну, здорово, инспектор! Все свистишь? — Старший лейтенант растерянно молчал. — Что случилось, госпожа Орланьте? — встревоженно спросил, подбегая, Шереметьев. — Да все в порядке! — отмахнулась госпожа Орланьте. — Дружка встретила. Ничего не понимая. Потапенко продолжал таращиться на странную даму и, когда Шереметьев деликатно отошел в сторонку, она сказала: — А ведь сынок-то мой Орька, наверное, и вправду от тебя! — Варвара небрежно открыла крокодилью сумку и, порывшись в ней, достала цветную фотокарточку, где на фоне пальм был сфотографирован маленький ушастый белобрысый Потапенко. — Хороший ты человек, инспектор, только подлец! Да я не обижаюсь. Заходи вечерком, я прием устраиваю. Там и поговорим… Потапенко, разумеется, уже догадался, что перед ним Варвара, но по-прежнему не мог сказать ни слова, и пальцы его правой руки словно прикипели к козырьку фуражки. «Чайка», увозя Варвару, уже давно скрылась, а старший лейтенант все еще глядел ей вслед, отдавая честь. Светофор переключить он забыл, и застрявшие на перекрестке машины громко сигналили, тщетно пытаясь вывести инспектора из глубокого шока. Остановившись возле «Лиры», Варя с грустью оглядела родные стеклянные стены и попросила включить неоновое название. Загорелась одна только буква «А». — Чтобы к вечеру все название целиком горело! — строго приказала Шереметьеву Варя. — Сколько я тут ни работала, никак добиться не могла. Хоть что-нибудь для своего предприятия сделаю. — Не сомневайтесь, отремонтируем в лучшем виде, — заверил Шереметьев. Варя вошла в стекляшку, осмотрелась и опять поднесла к глазам импортный платочек. Но тут же взяла себя в руки и двинулась к буфету. — Экспресс-кофеварка работает? — сразу же спросила она у молодой буфетчицы. — Не работает, — потупилась новенькая и торопливо добавила: — Временно. Мадам Орланьте почему-то обрадовалась: — И при мне тоже ни разу не работала. И тоже временно! — засмеялась она и по-хозяйски сказала Шереметьеву: — Надо исправить. Зачем такой дорогой технике простаивать? — Да что в этой кофеварке варить? — спросила новенькая. — У нас в городе кофе отродясь не было! — Ну, это не проблема. Кофе я вам сама пришлю. Небось не чужие. А аппарат надо починить. — Будет сделано, — кивнул Шереметьев и отошел к телефону. А госпожа Орланьте протянула буфетчице украшенную браслетами и кольцами руку: — Ну, будем знакомы. Варя. — Очень приятно. Нина. — И буфетчица, зардевшись, слегка пожала протянутую через стойку руку. — Нина Лох-матова. — Ну, как тут у тебя? План даешь? — Наше кафе «Лира» соревнуется с кафе «Бригантина». В честь Дня работников питания наш коллектив взял на себя обязательство досрочно выполнить план первого полугодия, на отлично обслуживать посетителей, а также… — Ладно, ладно, — перебила ее Варя. — Это само собой… — и тихо спросила: — А по-человечески-то как? Жить можно? Чивилихин часто заходит? — Какой Чивилихин? — Будто не знаешь! Из ОБХСС… — Так он же сидит! — Да ну? — радостно выплеснула руками мадам Орланьте. — Я ж ему всегда говорила: ой, говорила, не жадничай! А Зайченко небось тоже сидит? Капитан. — Этот пока не сидит. Этот пока заходит… Только он теперь не по торговле. Он по науке, ученых проверяет… — Ну, там проще, — уверенно сказала Варвара. — У меня муж — доктор наук, ну прямо чистое дитя, при первой же ревизии сгореть может, хоть кристально чистый человек. — И, оглядев полки с бутылками за спиной у буфетчицы, с завистью сказала: — И бутылки-то у тебя какие заграничные! При мне таких не было. Ведь не знала бывшая Самохина, что как только она изъявила желание посетить свою стекляшку, так кафе из обычной, обслуживаемой бригадой коммунистического труда забегаловки превратилось в показательное предприятие общественного питания. Посетителей удалили, полы начисто вымыли, столы начисто вытерли, украсив каждый столик пластмассовыми стаканчиками с торчащими из них бумажными салфетками, завезли сосиски из обкомовской столовой, веселенькие цветочки из магазина похоронных принадлежностей и пестрые бутылки из бара при ресторане «Континенталь». — Хорошо туг! — затрясла головой и зажмурилась Варвара, жадно вдыхая дорогие ей запахи стекляшки, где, видать, навечно поселился почти уже забытый Варварой угарный дух шерибрендиевки. — Все! — внезапно решила Варвара. — Тут и проведем мероприятие! — Здесь? — удивился, оглядев непрезентабельное кафе. Шереметьев. — Вы ведь хотели в «Континентале»? Там уж и зал забронировали. И меню там разнообразней… — На фига мне ваш «Континенталь»? Тут я работала, тут. можно сказать, меня воспитали и вырастили… А блюда пускай сюда из «Континенталя» привезут. Я оплачу. — Так мы уж и приглашения согласно вашему списку разослали… — Новые разошлете. И все! — безапелляционно сказала Варя, которая за это время научилась командовать, и не какими-нибудь референтами, а бери повыше. — И обслуживающего персонала здесь нет… — Из «Континенталя» возьмете! Еще по дороге в родной город Варя надумала в самом лучшем-разлучшем ресторане собрать всех своих подружек и товарищей. И с кем детство провела, и с кем в школу ходила, и с кем на танцы бегала, и с кем в коммуналках лаялась, и у кого мужей сманивала, и кто у нее мужиков уводил, — в общем, решила Варя собрать всех-всех. И начальство свое бывшее, и ревизоров сговорчивых, и контролеров доверчивых… Пусть повеселятся, пусть выпьют и закусят и посмотрят, каким человеком Варька Самохина стала! Мысль эта очень увлекла Варвару, и она все составляла и дополняла список приглашенных. О своем желании мадам Орланьте известила городское начальство. Те, разумеется, с радостью пошли ей навстречу. А так как адресов приглашенных Варвара не знала, а знала только имена и фамилии, к делу подключили милицию, и участковые по всему Вечногорску разыскивали указанных в списке лиц и вручали им под расписку повестки. В повестках было написано: «Приглашение. Уважаемый товарищ! Мадам Орландо Орланьте приглашает Вас на дружескую торжественную встречу в честь встречи старых друзей. Встреча состоится в большом зале гостиницы «Континенталь» в 19.00. Ваша явка обязательна». Получившие такие приглашения не знали, что и подумать. Ведь, повторяем, жители славного города Вечногорска и не подозревали, что мадам Орланьте — их землячка. Работники горторга несли пригласительные билеты в партком и спрашивали, не лучше ли проигнорировать это капиталистическое приглашение. Партком же, согласовав с горкомом, рекомендовал непременно идти, но знать меру. Женщины, приглашенные на прием, бросались в парикмахерские. Но, как назло, лучшая парикмахерская в городе, «Чародейка», оказалась временно закрытой именно потому, что мадам Орланьте также пожелала освежить свою прическу. А когда, посетив мастеров завивки, вечногорские женщины, бережно неся на плечах свои свежезавитые головы, возвращались домой, там их ожидали новые повестки: «Уважаемый товарищ! Назначенная на 19.00 дружеская встреча из гостиницы «Континенталь» переносится в кафе «Лира». Ваша явка обязательна». А Варвара действительно побывала в «Чародейке». Сколько раз в знойной Сонливии вспоминала она знатного дамского парикмахера Сан Саныча. Сан Саныч был парикмахер нового типа. В нем сочетался вдохновенный творец и великий умелец, знаток женской психологии и специалист по холодной завивке, беспристрастный физик и безумствующий лирик. Сан Саныч посещал все театральные премьеры и не пропускал ни одного иностранного фильма, с профессиональным интересом разглядывая и изучая прически иностранных кинокрасавиц. Он проникал в секреты современных начесов и угадывал тайны грядущих причесочных мод. Это был парикмахер-футуролог, парикмахер-джентльмен с пристальным взглядом Лино Вентуры и манерами Иннокентия Смоктуновского. Сан Саныч был так труднодоступен, что на прием к нему записывались за полгода. Ходили слухи, что его на специальном самолете возят в Москву, где он работает над самыми высокопоставленными головами нашей страны. И Варя этим слухам верила, потому что второго такого умельца она не встречала. И даже, когда по специальному заданию атамана Орландо его люди похитили в Севилье знаменитейшего дамского мастера и, перелетев Атлантику, доставили его к Варваре и он три часа сочинял ей прическу, Варя, поглядев на результаты его работы, сказала: — Конечно! Но Сан Саныч куда лучше! — и севильского мастера оттащили обратно в Севилью. Вот почему, отправляясь в Вечногорск, Варвара лелеяла еще одну горделивую мечту: без всякой очереди попасть к Сан Санычу! Об этом тщеславном желании она также известила городские власти. Сан Саныч был предупрежден заранее и всю ночь лихорадочно листал зарубежную специальную литературу. Парикмахерскую, чтоб не было толчеи и криков «Почему пускаете без очереди?!», под предлогом санитарного дня закрыли. И Сан Саныч, уведомленный. что мадам Орланьте приедет между четырнадцатью и пятнадцатью часами, сидел в красном уголке, и, словно пианист, готовящийся к выступлению на международном фестивале, массировал пальцы и то сосредотачивался, то расслаблялся по системе йогов. В 14.30 госпожа Орланьте вошла в «Чародейку», и у самого входа ее встречали заведующий и председатель месткома. Мастер Сан Саныч, стоя у своего кресла, отвесил церемонный поклон. — Бонжур, мадам! — сказал прославленный мастер. — Привет! — радостно ответила Варвара. — Вот уж кого, извините ради бога, тысячу лет не видела! Через несколько минут, придя в себя после потрясения, мастер, пощелкивая ножницами, уже колдовал и шаманил. расчесывая волосы Варвары. — Сразу видно, что вы, мадам, не нашими, извиняюсь, шампунями пользовались, — тихо определил он, работая над ее головой. — Конечно, не нашими, — призналась Варя. — Где б я там наши достала? Вы думаете, что за границей все есть? — У вас редкие волосы, мадам Орланьте! — Ой, Сан Саныч, вы скажете! — хихикнула польщенная Варвара. — Вы что сегодня вечером. Сан Саныч, делаете? — Это в каком смысле? — ножницы в руках у мастера остановились. — Да ни в каком… Я сегодня вечером прием устраиваю, хотела вас пригласить… У Сан Саныча перед глазами мгновенно пронеслось: прием, фраки, коктейли, а-ля фуршет, смокинги, белые бабочки… — Что вы, что вы! — забормотал мастер. — Наклоните, пожалуйста, голову. — Так придете? Сан Саныч подумал: когда ему еще раз придется попасть на дипломатический прием? А что, если рискнуть? — А в чем приходить? — Да в чем хотите! Стекляшку «Лира» знаете? — «Лира»? — переспросил, недоумевая. Сан Саныч, и ножницы опять остановились. Он ничего не мог понять. Дипломатический прием в стекляшке?! Это же сюрреализм! — подумал бы он, если бы Знал это слово. Но он таких слов не знал и продолжал причесывать мадам Орланьте, по-прежнему ничего не понимая. — Значит, договорились? — спросила мадам, не поднимая головы. — Я вас буду ждать, — кокетливо добавила она. — С подругами познакомлю. И опять в воспаленном воображении Сан Саныча пронеслось что-то такое международное: вечерние платья, оголенные плечи, меховые накидки и невероятные декольте… В общем, что-то вроде кремлевского Дворца Съездов в день открытия международного кинофестиваля… Но при чем здесь кафе «Лира»? — Не опаздывайте, а то все выпьют! Жду вас ровно в семь. Озадаченный Сан Саныч работал несколько рассеянно. Однако его привычное мастерство все равно делало чудеса, и спустя два часа он усадил мадам Орланьте под колпак электросушки, сунул ей в руки, чтоб она не скучала, рижский журнал мод и на время удалился. Фен тихо жужжал, обволакивая убаюкивающей теплотой. Варвара прикрыла глаза и задремала… — Здравствуйте, Варвара Николаевна, — услышала она тихий вкрадчивый голос. Рядом с ней под таким же колпаком сидел незнакомый человек в белом халате. Лицо его наполовину было спрятано под феном. — Не узнаете? А мы ведь с вами встречались… Варя из-под фена нехотя взглянула на незнакомца. Что-то ей сразу не понравилось в нем. — Не помню. — сказала она. — У меня в стекляшке много алкашей бывало… — Ну зачем же так грубо? Если бы не я, вы бы, может быть, никогда не попали бы за границу. Варя еще раз поглядела на незнакомца, прикидывая, кто же это такой? — Интересно! — протянула она. — Может, я б без вас и с Орландо не познакомилась бы? — Вполне возможно. Я же вас за капитана Петрова сосватал, — дробно засмеялся незнакомец, словно поперхнувшись, закашлял. — Ну как, вспомнили? — Зубатых! — оказала Варя. — Точно — Зубатых! Чего вам в дамском зале надо? — Так я к вам по делу, Варвара Николаевна… — Кому Варвара Николаевна, а кому госпожа Орланьте. Ясно? И мотай отсюда, а то я людей позову! — Людей я, госпожа Орланьте, не боюсь… — Ну да, люди тебя боятся! Только я-то не боюсь! Давай мотай отсюда, если дипломатических осложнений не хочешь! — Нехорошо вы говорите, госпожа Орланьте, ох, нехорошо… Как ребенок ваш? Как он там климат переносит? Ему небось жарко. Или не жарко? Да, идет время, бежит время… Мальчонка, поди, подрастает. Уже, поди, разговаривает… А на каком же он языке разговаривает, если не секрет? Нельзя, чтобы он родной язык не знал… Поверьте мне, никак нельзя! Ему нужна хорошая няня из России. Чтоб русские песни пела, русские сказки рассказывала… Так сказать, своя Арина Родионовна… Да разве за границей такую найдешь! Как же вам помочь? — Ты куда клонишь? — резко спросила Варвара. — Как же вам помочь? Как же вам помочь? — не отвечая, тараторил Зубатых. — А впрочем, что же это я? Совсем забыл! Есть же у меня на примете замечательная няня. Хороший товарищ, задушевный человек… Только вряд ли она захочет в чужую страну ехать, вот ведь в чем закавыка! Но если желаете, я с ней свяжусь, постараюсь уговорить? — Она кто — твоя няня? — В каком смысле — кто? — Капитан, майор или, может, полковник? Резидента к нам в Сонливию заслать хочешь?! — Что вы, госпожа Орланьте! У вас какие-то устарелые представления о нашей работе! Я же о вашем родном сыне пекусь! А вы мне вдруг такое. Не хотите няни, и не надо! Я ведь чего боюсь? Я ведь боюсь, чтоб кто-нибудь из подлецов не написал вашему супругу анонимочку о вашем прошлом… Есть у нас еще такие отдельные подлецы… Вот их вам и надо опасаться. Варвара нахмурилась. — Ты кого пугаешь?! — спросила она, скрестив руки. — Ты дипломатически неприкосновенную особу пугаешь, гад! Да я сейчас же Орланьте позвоню и расскажу, как ты тут меня шантажируешь! Да он сейчас же переговоры прервет! Ты знаешь, что тебе за срыв международных переговоров будет?! — Успокойтесь, успокойтесь! — встревоженно озираясь, зашептал Зубатых. — Вы же меня не так поняли… — Я тебя хорошо поняла! Считаю до трех. Если не слиняешь, пеняй на себя! Раз… И майор исчез. Варвара даже не смогла увидеть, куда он делся. Вот был и растаял так же незаметно, как появился. А может, он и не появлялся? Убаюкивающе жужжал фен. Варя открыла глаза. На полу лежал выпавший из ее рук журнал мод. На кресле, где только что сидел Зубатых, валялся смятый белый халат. — Ну-с, как идет сушка? — спросил, входя в помещение, Сан Саныч.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Всего человек шестьдесят пригласила Варвара на прием, а весь Вечногорск лихорадило. Волнение расходилось, как круги по воде, охватывая все большие народные массы. Прежде всего волновались городские власти. Они оказались в затруднительном положении. С одной стороны, прием устраивало не местное начальство, а частное лицо, госпожа Орланьте. И уж кого оно, частное лицо, пригласит, а кого она, госпожа Орланьте, не пригласит, в это власти вмешиваться не могли. С другой стороны, не контролировать идеологическую сторону мероприятия власти тоже не решались. Особа, конечно, была экстерриториальной, но мероприятие проводилось на территории Вечногорска. И если, не дай бог, случится что-нибудь, мягко говоря, безыдейное, то с начальства спросят без скидок на экстерриториальность. И как выйти из этого щекотливого положения, власти не знали. Правда, на приеме будет Шереметьев. Правда, туда же приглашен управляющий Трестом кафе и ресторанов товарищ Зарешеткин. Вот на них и возложили ответственность и негласный надзор. Бывалый Зарешеткин сразу же понял сложность ситуации и попытался уклониться. Сославшись на больную печень, он сказал, что вообще не ходит на банкеты, а посылает вместо себя зама — крепкого здоровьем молодого человека. Но Зарешеткину твердо указали, что на этот раз он заместителем по банкетной части не отделается. Мероприятие деликатное, и отвечать за все, так или иначе, будет лично он, Зарешеткин! Ему же, кстати, придется выступить на банкете с такой речью, которая задала бы правильный тон всему приему. И Зарешеткин бросил на составление речи лучшие интеллектуальные силы своего треста. В результате бессонной ночи она была написана, согласована, переделана, снова согласована, отшлифована и после некоторых переделок условно утверждена. Из «Вечернего Вечногорска» прислали опытного литсотрудника, чтобы он расставил правильные ударения. И Зарешеткин стал учить речь. Литсотрудником был Д'Анилов. Между прочим, он тоже был приглашен мадам Орланьте на прием и в глубине души надеялся, что это связано с его дворянским происхождением. но не исключал и тот вариант, что он приглашен всего лишь как представитель прессы. На всякий случай такое посещение следовало согласовать, и бамбукский дворянин позвонил своему куратору. — Идите, идите! — сразу же сказал Зубатых. — Вам, как начинающему монархисту, полезно будет познакомиться с их нравами… И кстати, напишете для меня коротенько, кто там был да что говорил. В общем, вы понимаете… — Разумеется, — ответил, не теряя достоинства, бамбукский аристократ. Он совсем забыл, что много лет назад напечатал острый разоблачительный фельетон о кафе «Лира». Варвара фельетона не испугалась. Но была в нем одна фраза (цитируем): «И работает в этом кафе некто Варвара Самохина» (конец цитаты). Вот это словечко «некто» больше всего задело Варвару, хоть и было самым безобидным из всего, что о ней говорилось в этом национальном по форме и социалистическом по содержанию произведении. — У, очкастый! — думала обиженно Варвара, хоть Данилов не носил очков. — У, мордастая морда! — повторяла она, хоть лицо фельетониста, говоря объективно, было не мордастым, а кукишеобразным. И теперь, вспомнив о фельетоне, мадам Орланьте специально пригласила газетчика, чтобы этот мордастый очкарик увидел, кто из них это самое «некто» — она или он! Но Данилов не подозревал о коварных намерениях мадам Орланьте и шел на прием как обычный аристократ к аристократу. Были приглашены на прием и старики Глузманы. И невдомек им было, что госпожа Орланьте — та самая Варька, с которой они давным-давно жили в коммуналке. В шестикомнатной квартире жили девять семейств, на кухне одновременно полыхали двадцать газовых горелок, на десяти сковородках подгорали котлеты, а в девяти кастрюлях бурлили борщи и супы. По длинному коридору ездили на трехколесных велосипедах дошкольники, старательно объезжая стоявшую у тесной уборной очередь. Дружно жили, не ссорились. Давно это было. И теперь Варвара пригласила всех-всех своих бывших соседей в «Лиру». Абрам Маркович шел на первый и единственный в жизни дипломатический прием, недоумевая, зачем мог понадобиться иностранцам. Если бы его пригласил кто-нибудь из местных, он бы понимал: от него хотят услышать совет. Но какой совет он может давать зарубежным деятелям, да к тому же последователям атамана Маруськи? Правда, эти последователи не совсем последовательны. Что общего между Маруськой и барбаризмом? Вообще-то Абрам Маркович заметил, что, чем больше Орландо говорил о барбаризме (это же надо придумать такое названьице!), тем реже вспоминал свою Маруську. И все-таки! Нина Семеновна вообще не хотела идти на прием. Но Абрам Маркович убедил ее, что этого делать нельзя. Так в цивилизованном обществе не поступают: раз приглашают, надо идти. И вообще, когда они еще повращаются в этих сферах! Надо! Надо так надо! И Нина Семеновна стала гладить Абраму Марковичу брюки, чтоб он выглядел на приеме как человек в галстуке. — А кто этот Орландо? — спрашивала она, прижимая утюг к влажной тряпке. — Он хоть прогрессивный или какой-нибудь босяк-агрессор? — Какая тебе разница? Не он же нас приглашает, а его жена. — Если муж агрессор, так и жена у него не ангел, — убежденно сказала Нина Семеновна. — Не спали мне брюки! — попросил международник. — Я ж не могу явиться на прием в подштанниках… Пригласила Варвара и Семен Семеныча. Но тот после памятной встречи с майором Зубатых на веки вечные закаялся общаться с заграницей, и теперь, получив повестку на банкет, собрал теплые вещи и сам пошел сдаваться майору. Пригласила Варвара и Футикова, вернее, хотела пригласить, чтоб тот приехал на своей роскошной машине и увидел, что другим тоже пофартило, и подавился от зависти. Но тут же мадам Орланьте вспомнила, что Футиков связан с Кастракки, а у атамана весьма натянутые отношения с адмиралиссимусом. Мадам мыслила теперь международными категориями и благодаря такому мышлению сразу же поняла, что если она пригласит Футикова, то Кастракки может подумать, будто Сонливия ищет пути к примирению с Ломалией. А это вовсе не входило в планы атамана Орландо. И, взвесив все эти обстоятельства, мадам свое приглашение аннулировала, что, кстати, еще больше обострило отношения Кастракки и Орландо. Но самый большой переполох произошел среди приглашенных подруг. В чем идти? Вот что волновало бывших товарок мадам Орланьте. В люксембургском брючном костюме? А вдруг такой же наденет Танька из «Гастронома», и будем мы, как две дуры-близняшки. Так. может, надеть австрийскую блузку с брюссельскими кружевами и шведскую юбку-макси? А если Любка из мебельного в этом же припрется? И эти душераздирающие сомнения можно понять, если вспомнить, какая ужасная история с гавайскими платьями случилась в Вечногорске совсем недавно…Ужасная гавайская история
Месяца три назад в Горторг забросили партию гавайских вечерних платьев. Конечно, это был неслыханный дефицит. И все работники торговли и пищеторга постарались — кровь из носу! — приобрести эти невиданные платья. Ходить в этом вечернем дефиците было абсолютно некуда. И тут кто-то опытный пустил слух, дескать, там в таком ходят в оперу. Модницы воспрянули духом. В Вечногорске была своя Гранд-опера имени Могучей кучки. И вот на ближайшем спектакле (а была как раз премьера новой оперы «Протокол заседания месткома» местного композитора Наглинки), так вот, на премьеру в широко распахнутые двери Гранд-опера стал вливаться яркий поток совершенно одинаково одетых женщин. Когда поток растекся по рядам и обладатели гавайских платьев расселись, партер, если смотреть с галерки, напоминал экзотический гавайский луг в пору весеннего цветения диковинных цветов тиу-лиу. Не имеющая доступа к дефициту галерка злорадствовала. А обладательницы платьев-близняшек старались не глядеть друг на друга и еле сдерживали слезы. Закончилась увертюра, пошел занавес. На сцене, изображавшей кабину строительного крана, сидела исполнительница партии крановщицы и, двигая рычаги управления краном, пела:ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ (Продолжение)
Нелегко пришлось и Шереметьеву. Нет, товарищи, что ни говорите, а очень трудно проявлять инициативу, если точно не указано, как ее проявлять, когда и в каких масштабах. Попросила госпожа Орланьте перенести прием в «Лиру». Захотелось ей встретиться с бывшими товарищами по работе в привычной обстановке. Шереметьев проявил инициативу, и к вечеру «Лира» изменилась до такой степени, что ни один старожил-завсегдатай не узнал бы родимой стекляшки. Столы были покрыты белыми скатертями, взятыми из неприкосновенных запасов ресторана «Космос», и уставлены фарфоровой посудой из ресторана «Звездный». Слева и справа от тарелок лежали шесть разновеликих вилок, мал мала меньше, и по три ложки, бол бола больше. Перед приборами гвардейским строем стояли разнокалиберные хрустальные фужеры и покрытые золотой каймой рюмки, рядом возвышались конусы накрахмаленных салфеток с вензелями ресторана «Монблан». Обычные алюминиевые стулья с фанерными разноцветными сиденьями были заменены мягкими полукреслами из зала заседаний горсовета, а прозрачные стены стекляшки были закрыты тяжелыми бордовыми шторами, временно снятыми с окон гостиницы «Континенталь». При входе у гардероба стояли пальмы из ресторана «Астория» и травленное молью чучело медведя из кафе «Тундра». Потеряла «Лира» свое лицо, утратила первозданную прелесть. И госпожа Орланьте, явившись за четверть часа до начала приема, до того расстроилась, что заявила, что ей эта иллюминация-хренация ни к чему и пусть сделают все, как было! Но для этого уже не было времени. Шереметьев попытался объяснить капризной мадам, что он хотел сделать как лучше, но Варвара только махнула рукой: сама виновата! Разве ж не знала она, что в Вечногорске ничего нельзя пускать на самотек. А особенно не рекомендуется местных жителей посылать Богу молиться: они и себе лоб расшибут, и у вас неприятности будут! Нужна была ей эта городская самодеятельность! Однако вот-вот должны были появиться приглашенные. Госпожа Орланьте велела включить все люстры, врубить на полную мощность радиолу и, остановившись перед зеркалом, доставленным из парикмахерской «Чародейка», слегка поправила прическу и сбросила на руки Шереметьеву норковую шубу. Шереметьев восхищенно ахнул. Официанты зажмурились, стараясь не смотреть в сторону Варвары, но смотрели… О, как она была одета, как разодета, как раздета, о эта смелость туалета Варвариного! Ах! Она была полуобнажена! Увы, не в силах описать я покрой изысканного платья, язык мой беден — о проклятье! — и это ведь немудрено! Как описать костюм Варвары, когда такие промтовары у нас вовек не продавали и я их видел лишь в кино. О Господи, вы только гляньте, как хороша мадам Орланьте, брильянт сияет на брильянте, алмазы яркие горят, сверкают кольца и браслеты… Зачем Варваре туалеты? Да при алмазном фонде этом не нужен никакой наряд! И Варваре было приятно, что официанты так обалдело таращатся на нее! А тут и гости пошли, пошли гости… Мужчинам мадам Орланьте величаво протягивала руку, и те церемонно целовали ее, дивясь метаморфозе буфетчицы. А к каждой приходящей подруге Варвара, громко выкрикивая ее имя, издали неслась с распростертыми объятиями. Неинформированные подруги при виде несущейся на них полуобнаженной женщины испуганно шарахались, но затем, разглядев, что это Варька — с ума сойти можно! — ахали, вскрикивали и начинали целоваться.И когда на лице Варвары отпечатались губная помада всех цветов и оттенков, оказалось, что все гости в сборе и можно начинать.
Бал в Савойе
На женщинах было лучшее из того, что можно было достать в промтоварных и комиссионных магазинах. А на столах красовалось то, чего вообще в магазинах не было. Но гости, подавленные количеством разновеликих вилок, не знали, какой вилкой что брать и, чтобы не попасть впросак, совсем не ели. Обилие разнокалиберных фужеров и рюмок тоже приводило гостей в смущение, ибо непонятно было, куда что наливать, и гости, опять-таки боясь дать промашку, вообще не прикасались к бутылкам. Они говорили почему-то друг с другом шепотом, а то и вовсе молчали. — Да что у вас в Вечногорске. пить разучились? — удивлялась Варвара. Но гости что-то бормотали, и опять наступала гнетущая тишина, заглушаемая, правда, мощным ревом радиолы в исполнении Аллы Пугачевой. И тогда Варька сообразила, что нужно делать. Зычным голосом она велела официантам забрать со столов все лишние приборы, оставив каждому гостю одну вилку, один нож и одну большую рюмку. Гости, не таясь, облегченно вздохнули. Затем хозяйка распорядилась, чтобы официанты наполнили всем бокалы и. провозгласив: «Со свиданьицем!», осушила свой фужер до дна. Присутствующие последовали ее примеру. А Варвара без промедления велела опять наполнить рюмки и. категорично заявив: «После первой не закусывают!», снова осушила фужер. Ах, как она была прекрасна, когда приказывала властно налить и повторить опять! И были вежливо галантны послушные официанты, ее приказы и команды спеша немедля исполнять. И гости пили, гости ели. и все заметней веселели, но тут товарищ Зарешеткин, ответственный за идейную часть банкета, с ужасом увидел, что мероприятие уходит из-под контроля и еще через две-три рюмки станет совершенно неуправляемым. Этого нельзя было допускать. Шепотом он попросил Шереметьева, чтоб тот предоставил ему слово. Шереметьев оценил ситуацию и. громко постучав ножом по звонкому бокалу, торжественно произнес: — Слово имеет управляющий Трестом кафе и ресторанов Степан Емельянович Зарешеткин. — Просим, просим, — великодушно зааплодировала мадам Орланьте. — Просим, просим, — подхватили гости. Зарешеткин встал, мысленно повторил вызубренную речь и, на всякий случай положив ее текст перед собой, начал: — Дорогие товарищи! Дамы и господа, леди и джентльмены! — четыре последних обращения относились исключительно к Варваре. — Разрешите мне от имени работников Треста кафе и ресторанов, а также от имени всех присутствующих сердечно приветствовать посетившую Вечногорск нашу землячку Варвару Николаевну Орланьте! (Аплодисменты.) Много лет Варвара Николаевна трудилась на предприятиях нашего треста, честным и самоотверженным трудом завоевав уважение и признательность посетителей кафе «Лира». Посетители кафе «Лира» до сих пор с благодарностью вспоминают, какой теплотой и заботой их окружала госпожа Орланьте. Руководство треста высоко оценило трудовую деятельность госпожи Орланьте, наградив ее тремя грамотами, двумя благодарностями и именными настольными часами фирмы «Заря». Выходец из простой трудовой семьи (это верно, родители Варвары были раскулачены) Варвара Самохина прямо со школьной скамьи пошла на завод. (И это тоже верно: Варя пошла на завод, в столовую.) Оттуда ее перевели в кафе «Лира», и она прошла нелегкий и доблестный путь от рядовой буфетчицы до верной помощницы известного прогрессивного деятеля Орландо Орланьте. Слушая эти похвальные, достойные некролога слова, госпожа Орланьте вежливо улыбалась и незаметно подмигивала подружкам. И вдруг взгляд ее задержался на одном официанте. Он был немолод, лысоват, усат, и что-то в лице его показалось Варваре странно знакомым. Уловив взгляд Варвары, официант отвернулся и отошел в сторону. Но Самохина-Орланьте исподтишка наблюдала за ним и все старалась вспомнить, где же она его видела? А управляющий, завершив комплиментарную часть речи, перешел к цифрам: — Думаю, госпоже Орланьте будет приятно узнать, что только за последние три года в Вечногорске открыто пять новых ресторанов, пять баров, три диетических кафетерия и четырнадцать кафе широкого профиля. Эти цифры убедительно свидетельствуют о том, какое внимание в нашем городе уделяется вопросам общественного питания. До конца пятилетки в Вечногорске намечено ввести в строй еще сорок восемь предприятий, общее количество мест в которых будет достигать порядка трех — трех с половиной тысяч. И если теперь на душу населения в Вечногорске приходится ноль семь сотых ресторано-мест, то к концу пятилетки количество человеко-мест увеличится на девять целых три десятых процента и достигнет ноль целых двадцать семь сотых на душу населения, что почти в четыре раза превысит количество человеко-мест, имеющихся на сегодня в предприятиях нашего треста. «Каждому микрорайону — особое кафе быстрого реагирования официантов на просьбы посетителей» — под таким девизом не покладая рук трудятся скромные труженики нашего треста! Гости привычно томились и, отводя взгляды от соблазнительных закусок, терпеливо ждали, когда Зарешеткин кончит свои статистические выкладки. А вот Варвара — с ней творилось что-то непонятное. Услыхав такие давно забытые слова, как человеко-места и ресторано-человеки, слова, которые нигде на чужой сторонушке не услышишь, услыхав о каких-то нолях целых и бесчисленных сотых. Варвара вдруг впервые по-настоящему почувствовала себя в своем родном коллективе, в привычной обстановке предпраздничных собраний, когда сначала зачитывают какие-то абстрактные цифры, потом награждают мифическими грамотами и, наконец, переходят к художественной части. Глаза госпожи Орланьте вдруг стали влажными, и подбородки ее мелко задрожали. Но тут кофейно-ресторанный управляющий, покончив с процентами и десятичными дробями, перешел снова к Варваре. — Я предлагаю выпить. — сказал он. завершая выступление, — за Варвару Николаевну, бывшего члена нашего коллектива, которая с честью несет высокое звание советского человека далеко за рубежами нашей Родины! Сказав это, Зарешеткин, тяжело отдуваясь, сел и потянулся к грушевому лимонаду. Варвара, еще не до конца справившись с неожиданным волнением, встала. — Дорогие женщины! — сказала она. — Дорогие мужчины! Дорогие подружки и товарищи по работе! Вот тут Степан Емельянович, товарищ Зарешеткин, говорил обо мне всякие хорошие слова. Но я, конечно, отношу это не только к себе, но ко всему воспитавшему меня коллективу, который меня воспитал, и лично к товарищу Зарешеткину! — Все зааплодировали, и Степан Емельянович скромно кивнул. — И ничего я особенного не сделала. И я уверена, что каждый из вас, каждый советский простой человек, окажись на моем месте, сделал бы то же самое! — Зарешеткин снова кивнул. Слава богу, госпожа Орланьте стояла на правильных позициях и произносила правильные, идейно обточенные фразы. «Молодец, не зазналась! — подумал управляющий. — Хоть брильянтов на ней побольше, чем в московском Ювелирторге» И. продолжая время от времени согласно кивать головой в знак того, что он внимательно слушает, товарищ Зарешеткин. знающий толк в камушках, стал в уме подсчитывать примерную стоимость Вариных драгоценностей. А она между тем говорила: — Вас, наверное, интересует, товарищи, как я живу? Ничего живу, не жалуюсь! Муж у меня хороший, можно сказать, не пьющий, страной руководит. Мальчику нас растет. Оря. Хороший мальчик. На скрипке учится и по-английски. Семья у нас дружная, муж меня, прямо скажу, уважает, а что мне еще, простой бабе, нужно? Мне что в Сонливии нравится? Мне все там нравится! Климат хороший, фрукты круглый год, текила — водка такая, гадость ужасная, но пить можно. Ах, если б вы знали, дорогие земляки, как я часто вспоминала родной Вечногорск, хоть и здесь тоже имеются отдельные недостатки. — Зарешеткин опять кивнул, Шереметьев насторожился. — Только там, в Сонливии, я поняла, что такое плохая жизнь и как плохо я тут. в Вечногорске, жила. Нет, я не жалуюсь. Я жила тут хорошо. И радостей у меня много было. Туфли на платформе достану — радуюсь, замшевое пальто справлю — радуюсь, а уж дубленку оторву — совсем с ума схожу от радости! И так всю дорогу! Чего-нибудь без очереди достану — радость, такси поймала — радость, ревизор не поймал — опять радость! Там, за кордоном, простой человек этих простых радостей лишен. А непростые радости требуютбольших денег! Но вообще-то деньги кой у кого имеются, особенно у богатых. Я, конечно, против нетрудовых доходов и за свободу трудящихся всех стран. Тем более что мы это в школе проходили, у нас хорошая училка была. И классовая борьба идет между классами за что? За то, чтоб все были равными? Не-а! За то, чтоб все были богатыми — вот за что идет борьба! И лично я не возражаю: пусть борются! Вот вы у меня спросите: кто сделал нищую Сонливию богатой? И я вам скажу: тот, кто сам хотел разбогатеть! Такие люди все время головой работают, все время кумекают, что бы такое придумать, чтобы скорее разбогатеть? И придумывают. А те, кому ничего не надо, те головой работать не станут. Зачем им мозги зазря изнашивать? А раз человек мозгами не шурует, он и сам сыт не будет и, тем более, вокруг него другие не прокормятся. Зачем же, спрашивается, стране нужны такие тунеядцы, паразиты на теле общества? Ни-за-чем!!! Варвара перевела дыхание. Монархист Данилов, держа блокнот под столом, старательно слепым методом стенографировал крамольную речь госпожи Орланьте, отмечая, кстати, и реакцию присутствующих. Абрам Маркович, приложив к уху ладошку, внимательно слушал высказывания основоположника барбаризма и время от времени поглядывал на Зарешеткина. А тот как стал в начале согласно кивать, так по многолетней заседательской привычке не слушать, что говорят, продолжал кивать и теперь… Шереметьев же понимал, что начинает подгорать, однако не знал, как погасить пламя. — Теперь дальше. — сказала Варвара, отхлебнув из фужера не то нарзан, не то водку. В ораторском азарте Варвара даже не заметила, что выпила. — У нас в Сонливии так дело поставлено, что чем страну больше обворовывают, тем она богаче становится. А тут у нас все не как у людей: и воруют, и тащат, и взятки хапают, а пользы государству все равно никакой! Я думала, думала, почему так получается, а потом поняла, и я вам сейчас скажу. Мы с Орликом сначала даем людям разбогатеть, потому что, как правильно указал атаман Орландо, чем богаче жители, тем богаче страна. А тут хочут наоборот: пусть, мол, сначала государство богаче станет, а потом уж, если чего останется, разбогатеют люди. Нет, так, дорогие товарищи, задом наперед дело не пойдет! У людей жизнь короткая, куда короче, чем у государства. Поэтому они не могут ждать, пока государство разбогатеет. Дайте нашим замечательным людям разбогатеть, сделайте так, чтоб им имело смысл головой работать, а не красть что попало, и наша любимая советская страна быстро двинется без оглядки к светлому будущему! Правильно я говорю? Все зааплодировали. Причем акустика в стекляшке была такой, что аплодисменты звучали как бурные аплодисменты, по временам переходя в овации. И Зарешеткин, не выплывая из своего бриллиантового омута, привычно подключился к аплодисментам и стал тоже хлопать, профессионально оценивая брошь на платье Варвары. И не ведал он, ответственный за мероприятие, что в эту минуту он не просто аплодирует, а как бы подписывает приказ о собственном увольнении и под аплодисменты голосует за вынесение себе партийного строгача с занесением в личное дело. Варвара переждала аплодисменты и. завершая выступление, уже хотела поднять бокал за Вечногорск и лично товарища Зарешеткина. Но тут взгляд госпожи Орланьте снова встретился с настороженным взглядом пожилого официанта. И Варвара все поняла. — А ты, майор, не думай, — оказала она, вроде бы продолжая свое выступление, — не думай, что если ты переоделся официантом, приклеил усы и лысину себе придумал, так я тебя не узнала. Что ты за мной ходишь? Чего ты на банкет приперся? — Все с интересом уставились на официанта, а у разоблаченного майора одна щека побледнела, другая покраснела, а нос посинел… — Я тебе говорила, КГБ твою мать, что я неприкосновенная особа? Или не говорила? Ну да ладно! — смилостивилась и махнула рукой госпожа Орланьте. — Раз уж пришел, так пришел! Без тебя Вечногорск тоже не тем бы городом был… Садись за стол. Ну, кому говорю?! Майор подчинился и втиснулся между Зарешеткиным и Шереметьевым. Причем на Зарешеткина пал отсвет покрасневшей щеки майора, и управляющий апоплексически покраснел, а Шереметьеву достался отсвет побледневшей майорской щеки, и референт стал смертельно бледным. — Налейте ему штрафную! — распорядилась Варвара. — Пей, майор, и хорошенько мотай на ус, что я тут говорю, а то твои стукачи все перепутают. Данилов замер и, зажав блокнот меж колен, демонстративно положил обе руки на стол. — Ай, Варька, ай, атаманша! — засмеялся, замотав головой, Глузман. — Я себе представляю, что вытворяет сам атаман! — Это не дипломатический прием, — недовольно заметила Нина Семеновна. — Это типичное Гуляй-Поле! — А теперь, — сказала торжественно мадам Орланьте, — поднимем бокалы и выпьем за наш любимый город и его замечательных жителей! Ура, товарищи! …А поздно ночью, разговаривая с Москвой, мадам кричала в трубку: — Прием, Орлик, прошел в дружественной и теплой обстановке. Одного майора разоблачила, одного начальника, Зарешеткина, с инфарктом в больницу отправила! В общем, весело было!ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
С грустью следует признать, что тлетворное влияние Запада, а также Востока, Юга и Севера не прошли для вечногорцев без последствий. Напряженные и чреватые взрывом отношения сложились, например, в конторе «Вечвторсырье». Примерно три года назад бухгалтер этой конторы Сельдеев назвал своего сына в честь Президента Розалии генерала Риорита — Риоритом. А счетовод Замошкин таким же образом породнился с главой Астралии Трилопесом Сан Доминентом. Поначалу все шло хорошо. Вечногорские Риорит и Трилопес дружно орали в одних яслях, а их высокопоставленные тезки подвизались на международной арене, выступали в ООН и заключали друг с другом всевозможные пакты. Так среди прочих был заключен договор о культурно-шпионском обмене. А чтобы читателю стало ясно, насколько этот пакт являлся жизненно необходимым для этих государств, нужно сказать следующее. В Розалии генерал Риорит слыл человеком любознательным, и ему очень хотелось знать, что же происходит у него в государстве: что там собирают, что выплавляют, из чего стреляют, во что это влетает и вообще, что почем? Но как ни старался Президент, каких отчетов ни выслушивал и каких комиссий ни создавал — ничего у него не получалось. Так он и не мог узнать толком ни что у него собирают, ни из чего стреляют, ни, особенно, что почем. Одни комиссии цифры завышали, другие — занижали, третьи вообще не называли… Уж Риорит и так, и сяк пробовал с этим бороться: он тех, кто завышал, по-всякому понижал, он тех. кто занижал, по-всякому унижал, а тех, кто не называл. тоже по-всякому обзывал. Но ничего у него не получалось. Он и вычислительную технику завозил, и ученых привозил, и ученые обещали: вот сейчас мы информацию в машину заложим, поделим, помножим, и машина все скажет. Стали цифры закладывать, а машины говорят: таких цифр не бывает и быть не может! И тогда понял Риорит, что никто от него ничего не утаивает, никто никого не обманывает, а просто никто и сам правды не знает. И закручинился генерал, и задумался: как же это так? Сколько чего, например, в чужой Астралин есть, он точно знает, а что у него в собственной Розалии творится — ведать не ведает. Что в чужой Астралин планируют, он точно знает, а что у него в собственной Розалии замышляют — ведать не ведает. Что в чужой Астралин собирают, он наизусть сказать может, а что у него в его Розалии выплавляют — понятия не имеет. Как же это так получается? — А очень просто! — говорит ему самый тайный советник. — В Астралин у нас черт знает сколько своих шпионов. Вот от них мы все про Астралию и узнаем. — А у нас, в Розалии, наших шпионов нет? — Никак нет, господин Президент. У нас только астралийские шпионы водятся. — Так, может, хоть они про нас чего-нибудь точно знают? — Все знают, господин Президент, можете не сомневаться! Ловкие черти! — А нельзя ли этих астралийских шпионов как-нибудь выловить и про нас у них все как-нибудь выведать? — Нет, господин Президент. Выловить-то их можно, да разве они нам наши тайны выдадут? Они же как-никак патриоты! И тут у Риорита появилась гениальная идея. — А как ты думаешь, самый тайный советник, глава Астралин Трилопес знает, что у него в стране происходит? И самый тайный советник, не задумываясь, сказал: — Я так полагаю, господин Президент, что навряд ли. В общих чертах он, может, чего-нибудь случайно знает, а так, чтобы точно — откуда? Риорит задумался: — Значит, мы ничего не знаем о своих делах, но зато знаем все про Астралию. А Трилопес не ведает, что творится у него в Астралин, но знает все про нас. Так? — Так точно! — А что, если устроить обмен информацией? Так начались тайные дипломатические переговоры между Астралией и Розалией, — что вскоре привело к подписанию уникального, первого в истории дипломатии «Договора о культурно-шпионском обмене». Согласно этому Пакту высокие договаривающиеся стороны обязывались: а) Под видом культурных связей ежегодно засылать друг к другу не менее тысячи хорошо обученных шпионов. б) Каждый шпион обязан был в течение определенного периода времени собирать секретные сведения, касающиеся экономики и вооруженных сил дружеской страны. в) По истечении установленного срока шпиона вылавливали, и он сообщал разоблачившим его органам все собранные им данные. г) За получение особо важной секретной информации шпионы Розалии награждались астралийским орденом Черной кошки.Сведения, собранные шпионами, отличались точностью и надежностью, что позволило и Астралин и Розалии закрыть ставшие ненужными статистические управления и узнать наконец правду о себе. Экономика этих двух государств стала теперь развиваться не по дням, а по часам. Военные силы крепли. Благосостояние улучшалось, и помогавшие друг другу страны все сильнее проникались взаимной симпатией и засылали друг к другу все больше и больше шпионов. Соседние державы, не знавшие о тайном пакте, только удивлялись, наблюдая столь быстрый и необъяснимый расцвет слаборазвитой Астралии и недоразвитой Розалии. Дело стремительно шло к заключению Пакта о вечной любви и дружбе. Уже почти все взрослое население Розалии в качестве шпионов было заслано в Астралию, и даже астралийские пенсионеры вынуждены были проводить свои лучшие пенсионные годы в Розалии. Но однажды глава Астралии Трилопес вызвал к себе начальника разведки. — Нехорошо получается, — сказал он. — Мы засылаем в Розалию наших шпионов. Они разглашают розалийцам такие важные розалийские тайны, до которых сами розалийцы никогда не додумались бы… И что же мы с этого имеем? Бульон? — Извините, господин Трилопес, но ведь розалийские шпионы нам тоже выдают наши самые тайные тайны. Благодаря им мы теперь все знаем о себе… — Ну и что? Получается так, что теперь мы знаем все о себе и не знаем ничего о Розалии. — Совершенно справедливо! — А вот и не справедливо! Мы-то сами на себя нападать не можем, а Розалия — запросто. — Розалия наш верный друг, господин Глава. — Так-то оно так. Но откуда берутся враги, если не из бывших друзей? Ведь больше, начальничек мой. врагам браться неоткуда. Так что куда безопасней ничего не знать о себе, но зато знать все о своих друзьях. Понял, начальничек? Начальник подумал и ответил: — Никак нет! — Эх, ты! — вздохнул Глава. — Горе мое… Значит, так: шпионов засылать в Розалию мы, как и обещали, будем. Только информацию о Розалии пусть наши шпионы сообщают нам. А им пусть выдают чего-нибудь несущественное, ерунду какую-нибудь на постном масле! (Думают, что Глава, незнакомый с чисто русским выражением, связанным с постным маслом, распорядился выдавать друзьям ерунду на каком-нибудь другом, скажем, оливковом масле, но до нас его выражение дошло именно как ерунда на постном масле — вероятно, подсолнечном…) Ну что, начальничек, усек? Начальник разведки усек. Но вскоре это же усекли и в Розалии. Дружеские отношения между государствами пошли на спад. Резко уменьшилось число засылаемых шпионов. Астралийские шпионы перестали пользоваться доверием в Розалии, и, наоборот, розалийские шпионы потеряли всякий авторитет в Астралии. Их даже перестали вылавливать — вот до чего дошло дело! А это очень обижало Риорита, и он приказал не обращать никакого внимания на астралийских резидентов. Пакт о культурно-шпионских связях, естественно, был расторгнут, дипломатические отношения между странами держались на волоске. Прав был Трилопес, когда говорил, что враги берутся из бывших друзей. Не было теперь у Астралии более коварного врага, чем Розалия, и никто не относился к генералу Риориту более враждебно, чем Трилопес. Они осыпали друг друга упреками, оговорами и неслыханными обвинениями. И вся эта вражда находила болезненное отражение в конторе «Вечвторсырье». Как ни старались бухгалтер Сельдеев и счетовод Замашкин делать вид, что происходящее между Астралией и Розалией никак не сказывается на их служебных отношениях — международное положение властно вторгалось в обшарпанные стены конторы. И когда между некогда дружественными странами началась война, обстановка в комнате накалилась. Пока Розалия наступала. Сельдеев довольно потирал руки и демонстративно громко издевался над главой Астралии Трилопесом. А бедный Замашкин вынужден был это терпеть и выносить грубые шутки Сельдеева. Ведь тот, помимо всего прочего, являлся его непосредственным начальством. Когда же наконец в Астралин закончился сезон дождей и астралийцы перешли в наступление, тут уж настал черед Замашкина. Он прикрепил над своим столом карту военных действий и ежедневно отмечал на ней флажками победоносное продвижение астралийцев, вслух комментируя бездарные действия Риориты. Бухгалтеру это надоело, и он велел карту снять, ибо она, дескать, мешает нормальной работе бухгалтерии. Замашкин не послушался. Тогда бухгалтер, придравшись к ошибке, велел очумевшему от военных побед счетоводу переделывать квартальный отчет. Туг уж Замашкину пришлось подчиниться, но в отместку он придумал ехидную песенку о том, как один генерал войну проиграл, и стал распевать ее, аккомпанируя себе на счетах. В песенке, между прочим, слово «иностранец» бесхитростно рифмовалось с более обидным словом, и это абсолютно вывело бухгалтера из себя. Он побежал к начальнику конторы и заявил, что не может работать с Замашкиным! Однако бухгалтер не учел одного деликатного, но решающего обстоятельства. Дело в том, что сын директора носил имя предводителя небольшой страны Тыкималии. А Тыкималия подписала договор о дружбе с Астралией, так что, хоть и косвенно, директор конторы принадлежал к другому лагерю, нежели бухгалтер Сельдеев, и последний вряд ли мог рассчитывать на его сочувствие. — С кадрами, товарищ Сельдеев, надо уметь ладить! — жестко проговорил директор. — Вы, если я не ошибаюсь, связаны с Розалией? — Бухгалтер мрачно кивнул. — Так вот я бы вам не советовал ставить международные дела выше служебных. В нашей конторе этого не будет! Однако директор ошибался. Чем больше государств вмешивалось в свару между Астралией и Розалией, тем запутанней и взрывоопасней становилась обстановка в «Вечвторсырье». Контора походила на пороховой погреб Вечногорска. И даже секретарь партбюро не в силах был ничего поделать, ибо по тем же самым причинам, что и все остальные, был связан с одной из воюющих сторон. Непроверенные сметы пылились на столах, недопечатанные страницы свешивались из кареток пишущих машинок, смолкли арифмометры, и постепенно контора прекратила работу. В «Вечвторсырье» шла хоть и бескровная, но самая настоящая война. Впервые в истории конторы баталии происходили не из-за премий и путевок, не из-за графика отпусков и служебных подсиживаний, — нет, споры носили международный характер, и вскоре в этой сваре участвовал уже весь породнившийся с королями и президентами, негусами и шейхами атолами и эмирами Вечногорск. Сюда впору было вызывать миротворческие силы ООН. Но в ООН, видимо, не знали о затянувшемся в «Вечвторсырье» конфликте. И даже, когда война Астралии с Розалией закончилась и обе страны, окончательно разгромив друг друга, подписали мирное соглашение, — война в «Вечвторсырье» не затихала. И тут случилось самое неприятное. Начали сказываться обратные родственные связи. Благодаря конфликтной ситуации в конторе снова стали накаляться отношения между Розалией, Астралией и их союзниками. Ни та, ни другая сторона не давали в обиду своих крестников. Дело грозило новой мировой войной. И тогда по решению Совета Безопасности контору «Вечвторсырье» как источник повышенной опасности закрыли, а темпераментным жителям Вечногорска строго-настрого запретили заниматься какой бы то ни было международной самодеятельностью. И постепенно страсти в Вечногорске утихли… Недавно я побывал там. Городок почти не изменился. Только на месте конторы устроили дискотеку. Там тоже иногда вспыхивают скандалы, но в международные никогда не перерастают. Серебристо-пепельное чудо Футикова стоит на приколе, потому что пришедший в результате заговора боцманов преемник адмирала Кастракки боцман Кукараччо выплачивать государственные долги бывшего президента отказался и запчасти для машины Футикову не присылает. Однако старший плановик не унывает. В машине он держит кроликов и вскоре собирается открыть кооператив, где будет продавать кроличьи шапки и шашлыки. Это позволит ему купить новую машину. Он уже записался в очередь и надеется, что в течение следующего тысячелетия новый «Запорожец» обязательно получит…
Переделкино — Москва. 1978
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

И мы с тобой, мой друг Поэзия, встречаясь. Так часто говорим о пустяках…
Мудрецы и хитрецы
1964
Поп-арт
1965
Зависть
Самовлюбленность
Одиночество
Фантастическая история
1973
Враг
1975
Опыт предков
1967
Счастливый случай
1971
Читателям
1977
Про девочку Алену
1974
История моей жизни
1974
Об одной исторической ошибке
Незримый полк
1974
Гренада
Он хату покинул, пошел воевать. Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…
Откуда у хлопца испанская грусть?М. Светлов
Декабрь 1979
Апофеоз
Апофеоз с человечьим лицом! Это, конечно, прекрасная фраза, но, как ни грустно, не строится сразу апофеоз с человечьим лицом.
Если научно заняться вопросом, нужно решать поэтапно вопрос — и для начала построить всерьез апофеоз с человеческим носом.
Сделали нос, постарались быстрей, нос замечательный, хоть без ноздрей.
Первый этап со вторым крепко связан. Вот и настал подходящий момент — сделать еще один эксперимент — апофеоз с человеческим глазом. Сделали все в окончательном виде. Глаз замечательный, только не видит.
Дальше, назло клеветническим слухам, мы в соответствии с планом своим делаем, строим, возводим, творим апофеоз с человеческим ухом. Ветер победные стяги колышет. Ухо досрочно сдано, хоть не слышит.
Но успокаиваться нам не надо. Будем мы строить теперь на века апофеоз с человеческим задом. Это получится наверняка! '
1976
Подопытный кролик
* * *
1983
Сила воли и безволие
Дачная улица
1977
* * *
Недальновидный пес
Разбужены лаем, мы страшно страдаем, и спать мы желаем, а пес не дает, он лает и лает и не понимает, что местью пылает неспящий народ.
Не ведает он-то, что дом-то Литфонда, здесь члены живут самого ССП. Мы здесь проживаем и переживаем, что жены не спят, и родня, и т. п.
Пес думал, бедняга, что лает для блага, для нас он с отвагой всю ночь службу нес. Доказывал с жаром, что хлеб ест недаром, тот недальновидный беспаспортный пес.
Старался для нас он, но был он наказан и сослан в чужое глухое село.
Но Бог с ними, с псами! Ах, если б мы сами всегда понимали, что польза, что зло.
Вот так же. наверно, с усердьем чрезмерным хотим показать мы и верность и злость, ц лаем примерно, и служим мы верно за ту же похлебку и сЛадкую кость. Мы не понимаем, что, может быть, лаем кормильцам мешаем и лучше б молчать. Мы лаем — не знаем, что завтра хозяин прикажет: «Довольно!» и скажет: «Убрать!».
Но чу! Слышу лай я! И, счастьем пылая, твержу: «Пес вернулся! Он будет здесь жить! Кто верою служит, тот счастье заслужит. Пес с нами! Пес с нами! Давайте служить!»
Переделкино
К вопросу о прибавочной стоимости
1984
К вопросу о чести
1984
* * *
1974
Стихи о погасшем вулкане
1945–1978
Признание
(акростих)
1986
* * *
Еще живой, в глухую тьму
Все удаляюсь, удаляюсь,
Не удивляясь и тому.
Что ничему не удивляюсь.
* * *
1991
УМНИКИ

Иногда, говоря «нет», ты утверждаешь гораздо больше, чем если бы ты сказал «да».Гегель.«Сентиментальная диалектика», том 11, стр. 53
Не всем дано, но у всех отнято.Кукурузенко.«Очерки современной истории», том XVII.
Для того чтобы называться Иваном Грозным, не обязательно быть Иваном. Но будь Грозным, и тебя назовут, как ты захочешь.Карамзин — Эйдельман(из уроков «Младым царям»)
Как хорошо, что римляне не знали, что их светлым будущим станет мрачное средневековье.(?)
Татарское иго было и до татар.Батыр-хан
Каждое настоящее имеет прошлое. Но не каждое прошлое — настоящее.Пятистокл (Афины)
У одних истина рождается в споре, а у других истина рождает спор.«Занимательная диалектика»
Глупость умнее разума хотя бы потому, что она не надеется восторжествовать, а торжествует без надежды.Сампидокл Критский (до н. э.)
Бессилие сильнее силы хотя бы потому, что силу можно измерить, а бессилие — нет.Сарторий Афинский
Как грустно! Ему было шестьдесят лет, и всю свою долгую жизнь он прожил в средневековье.Хайне. «Der Winter», сказка
Дикарь не может быть образованным человеком, но образованный человек может быть дикарем.Иван Бронтозавер
Мы живем в страхе перед завтрашним днем не по тому, что боимся будущего, а потому, что помним прошлое.
Перельман«Занимательная история»
Горожане издали смотрели на пламя первых костров инквизиции и думали, что это и есть светлое будущее.Старец Пимен «Еще одно последнее сказанье»
Биясь головой о стену, ты должен точно знать, чего ты хочешь: пробить стену или расшибить голову. Если ты хочешь пробить стену — ты романтик, если собираешься расшибить голову — ты реалист. Если же ты надеешься довести до благополучного конца оба дела, ты — просто глуп.Авиценна
Будьте милосердны, и наказание никогда не падет на вашу голову.Надпись на табакерке Императора Всея Руси Павла I
Если бы никто не сражался с ветряными мельницами — разве изобрели бы мельницы электрические?Сервантес
Всякое начало имеет конец. Всякий конец имеет начало. Но если конец опережает начало — начало становится концом, а конец, наоборот, началом. И ничего не меняется.Гегель. «Сентиментальная диалектика»
Как странно! Я знал многих людей, продавших здоровье за деньги. Но кому они его продавали, если, как известно. здоровья за деньги не купишь?Соломон Грозный (1601–1603)
Ум отличается от глупости не количественно, а качественно. Иначе большая глупость могла бы считаться небольшим умом.Рамзес XIV Пирамидальный
Глупость не беспредельна. Но никто не знает, где она кончается.Цыц Арон (из речи, произнесенной на открытии Америки)
1. На мелководье тонут даже самые глубокие мысли. 2. Никому не может служить утешением то, что он утонул не в пруду, а в океане. 3. А, с другой стороны, уж если суждено утонуть, то лучше в океане, чем в луже. 4. Утонувший в океане не боится болота.Гегель. «Сентиментальная диалектика»
Почему-то все двуликие Янусы — на одно лицо.Зеесон
Если у твоего соседа табун коней, а у тебя всего один ишак — погляди на пешехода.Крез
Если Вселенная не имеет ни начала, ни конца, то где же она, в сущности, размещается? Ведь где-то же должна она находиться, раз мы здесь?Коперник-младший
Если перо поэта выходит из моды — горе поэту! Если перо страуса входит в моду — горе страусу!
Голыми руками его не возьмешь: противно!
Глуп тот одногорбый верблюд, который завидует двугорбому.Рахат ибн Лукум
Кто знает, может быть, светлое будущее уже наступило и незаметно ушло в прошлое?
Большая глупость отличается от небольшой не размером, а очевидностью. Каждый умный человек боится оказаться в дураках. А дураку это не грозит.
От великого до смешного один шаг — следовательно, от смешного до великого не больше.Сентиментальная диалектика
Если ты плохо пишешь — не печалься: вспомни, сколько на планете не умеющих читать. Пиши для них.
Воспоминания о Владлене Бахнове
Бенедикт Сарнов
Искать себя ему не пришлось
С Владиком Бахновым мы вместе учились в Литературном институте.
Это был совершенно особый институт, не похожий — я уверен в этом — ни на одно высшее учебное заведение не только в нашей стране, но, наверное, и в мире.
Преподаватели у нас были самые разные. Были среди них блестящие университетские профессора, ученые мирового класса — такие, как Валентин Фердинандович Асмус, Сергей Михайлович Бонди, Сергей Иванович Радциг, Александр Александрович Реформатский… Были персонажи совершенно реликтовые, неведомо как сохранившиеся в многочисленных советских чистках. Но и у них тоже мы многому могли бы научиться.
Однако, поскольку, как сказано в одном известном анекдоте, «чукча хочет быть писателем, а не читателем», гораздо больше, чем лекции, нас интересовали творческие семинары: у прозаиков их вели Федин. Паустовский, Гладков, у поэтов — Луговской, Сельвинский, одно время, кажется, Светлов.
Но ярче всего из всей моей литинститутской жизни мне запомнились лестница и подоконник. На этом подоконнике, возле этого подоконника шла главная наша жизнь. Если я и научился чему-нибудь в Литинституте. так именно вот здесь, на этом подоконнике.
Конечно, и на лекциях я узнавал много важного и интересного. Да и могло ли быть иначе, если лекции, как я уже говорил, нам читали Бонди, Реформатский. Асмус… Но все, что я узнал от них. я мог бы узнать, если бы учился и в другом каком-нибудь институте. Скажем, на филфаке МГУ А вот то, что происходило у подоконника…
Там читали стихи. Притом такие, которые нигде больше услышать мы бы не могли. Например, ставшие потом знаменитыми, но тогда мало кому известные четверостишия Коли Глазкова:
* * *
В начале 60-х я работал в «Литературной газете», главным редактором которой тогда был Сергей Сергеевич Смирнов. Сергея Сергеевича от всех других главных редакторов, с которыми мне приходилось иметь дело, отличало одно качество, не изменявшее ему никогда: он был доступен. В его кабинет всегда можно было войти запросто, в любое время рабочего дня. Даже если в этот момент он говорил по вертушке с секретарем ЦК. (Был однажды со мной такой случай.) Каково же было мое изумление, когда в один прекрасный день, пытаясь, как обычно, толкнуть дверь редакторского кабинета, я наткнулся на запрещающую реплику секретарши Милы: — К нему нельзя. — ??? — У него юмористы. Вскоре про эту странную слабость главного редактора уже зналивсе сотрудники. Раз в неделю за длинным столом, предназначенным для заседаний редколлегии, поминутно остря и подтрунивая друг над другом, рассаживались самые знаменитые юмористы столицы: Александр Раскин, Никита Богословский. Зиновий Паперный, Владлен Бахнов, Морис Слободской… На столе стояли скромные яства: печенье, конфеты, чай, иногда и другие напитки — все это покупалось на личные средства главного редактора. Сам же главный редактор сидел не в своем редакторском кресле во главе стола, а где-то сбоку-припеку и держался в высшей степени скромно. Пожалуй, даже подобострастно. Чувствовалось, что юмористы представляют в его глазах лучшую, достойнейшую часть человечества. Пили чай (или что-нибудь другое), закусывали конфетами. И читали только что сочиненные фельетоны, пародии, эпиграммы. Когда кому-нибудь случалось прочесть что-нибудь особенно удачное, особенно смешное, лица юмористов каменели. Не дрогнув ни единым мускулом, кто-то ронял: — Смешно. Иногда даже: — Очень смешно. Смеяться или хотя бы улыбаться удачным шуткам, очевидно, считалось у юмористов-профессионалов дурным тоном. А все они были профессионалы самого высокого класса. И остроумие у них у всех было профессиональное. Их мозги были словно натренированы на то. чтобы по всякому поводу, а иногда даже и без повода, выдавать «на гора» остроты — одна другой смешнее. И надо признать: острили они хорошо. Даже замечательно. И эти их профессиональные остроты никогда не казались искусственными. вымученными. Погружаясь в атмосферу царящего на этих посиделках бьющего ключом остроумия, я испытывал истинно художественное наслаждение. И все-таки нет-нет да и приходили на память хрестоматийные строчки Блока:* * *
В последние годы его жизни мы — вечерами — часто гуляли с ним по переулкам и закоулкам, пролегающим меж нашими кооперативными домами на Аэропортовской. Гуляя, естественно, разговаривали. Однажды разговорились на самую больную для него (отчасти и для меня тоже) тему: о гибели любимого жанра — литературной пародии. Сетовали на то. что нынешние пародисты пишут, в сущности, не пародии, а растянутые эпиграммы, стихотворные фельетоны, поскольку пытаются пародировать пустоту: прозаиков и поэтов, у которых нет ни своего голоса, ни своей манеры, ни своего, индивидуального, узнаваемого стиля. Главным губителем жанра при этом мы дружно называли самого знаменитого, да, пожалуй, и самого одаренного современного пародиста. Владик в том разговоре был более резок, чем я. Резок настолько, что в какой-то момент мне вдруг захотелось вступиться за изничтожаемого им «пересмешника». Я сказал: — Вообще-то ведь он человек талантливый. Владик мгновенно отреагировал: — Когда больше нечем взять, берет талантом. В другой раз, когда вот так же мы медленно прогуливались мимо гаража и Литфондовского детского сада, к нам подошел кто-то из собратьев по цеху и рассказал о том, что произошло в тот день на очередном пленуме Правления Союза писателей СССР. Первый секретарь Союза Георгий Мокеевич Марков во время доклада вдруг почувствовал себя худо. У него слегка закружилась голова, и он чуть было не потерял сознание. Но тут из президиума быстренько подскочил к трибуне Герой Советского Союза В. Карпов и, деликатно отведя Георгия Мокеевича в сторонку, заступил на его место и дочитал доклад до конца. Сообщив нам все это, очевидец вышеизложенного события высказал уверенность, что наверняка именно Карпов будет теперь назначен первым писателем страны. (Так оно впоследствии и оказалось.) Выслушав этот рассказ, Владик со смехом констатировал: — Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко»-песню допел до конца. А вот еще одна, мгновенно ставшая знаменитой, его реплика. Дело было в начале девяностых, в самый пик начавшегося у нас рыночного бума. На всем пространстве нашей улицы — от нашей подворотни аж до самого Ленинградского проспекта — выросли ряды новеньких палаток, в каждой из которых красовалась целая батарея бутылок с яркими импортными этикетками (продавать спиртное в палатках тогда еще не возбранялось). Разговор, естественно, зашел о том, что все эти этикетки —фальшивые. «Киндзмараули» — никакое не «Киндзмараули», а весьма сомнительной пойло, пить которое противно, а может быть, даже и небезопасно. Общую ситуацию я. тем не менее, оценивал положительно и бурное развитие даже такого ублюдочного рынка радостно приветствовал. И выразил по этому поводу резкое несогласие с только что прочитанным мною в каком-то из московских журналов четверостишием моего друга Володи Корнилова:
Библиография
«Отрывок из автобиографии» — Владлен Бахнов. «Чудеса в Решетиловке». Изд-во «Правда». М., 1973. («Библиотека Крокодила» № 20 (67).)
РАННИЕ СТИХИ, ПЕСНИ
«Редактор мне сказал однажды…» — публикуется впервые. «Мото-цикл» — «Литературная газета». 12 декабря 1995. «Мотеле-студент» — публикуется впервые. «Трезор» — «Вопросы литературы», № 1–2. 1997. «Сюжет, что всем известен издавна» — там же. «Гимн студентов» — «Вопросы литературы» № 5, 1995. «Песенных дел мастера» — «Вопросы литературы», № 1–2, 1997. «Пятнадцать консультантов» — там же. «Замечательный народ» — публикуется впервые. «Фаншета» — публикуется впервые. «Мадам Анжа» — публикуется впервые. «Коктебля» — «Магазин». Иронический журнал Жванецкого. № 1, 1995. «Сложная личность» — Владлен Бахнов. «Чудеса в Решетиловке». Изд-во «Правда», М., 1973. («Библиотека Крокодила» № 20 (67)). «Печальный рассказ о мореплавателе Колумбе» — Владлен Бахнов. «Дон Кихот, Дон Гуан и др…». Изд-во «Правда». М., 1989. («Библиотека Крокодила» № 20 (1080)). «Колыма» — «Вопросы литературы», № 1–2, 1997.ПЯТАЯ СЛЕВА
«Дешевая распродажа» — Владлен Бахнов. «Внимание: Ахи!». Изд-во «Молодая гвардия». М., 1970. «Внимание: Ахи!» — Там же. «Робники» — «Фантастика 1966». Изд-во «Молодая гвардия», М., 1966. «Сомнамбула» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком». Изд-во «Советский писатель», М., 1973. «Одиночество» — «Литературная газета», 1978, № 48. «Пятая слева» — Владлен Бахнов. «Внимание. Ахи!». «Из невыдуманных рассказов заслуженного водителя времяходов дальнего следования Николая Ложкина» — Владлен Бахнов. «Внимание: Ахи!».ПАРОДИИ 40-х — НАЧАЛА 60-х ГОДОВ
От автора — «Вопросы литературы», № 1–2. 1997. С. Гудзенко. Бесконечная баллада. — «Крокодил», 1947; «Вопросы литературы», № 1–2, 1997. С. Гудзенко. После атаки. — «Смена». 1947: «Вопросы литературы», № 1–2, 1997. Н. Мандель. Ветер, ветер, ты могуч… — «Вопросы литературы». № 1–2, 1997. А. Межиров. Как делили сухарь. — «Московский комсомолец», 1948: «Вопросы литературы», № 1–2, 1997. Ю. Друнина. Эх. раз, еще раз! — «Смена». 1949. М. Львов. «Мысли по поводу…». — «Вопросы литературы», № 1–2, 1997. М. Исаковский. Кокетливая. — Там же. А. Софронов. Ковыли-ковылики. — «Крокодил», 1947: «Вопросы литературы». № 1–2, 1997. С. Щипачев. Коротко и ясно. — «Вопросы литературы». № 1–2, 1997. А. Фатьянов и др. Одинокие гармонисты. Конно-лирическая. — Там же.РАННИЕ ПАРОДИИ
Из лирической тетради Алексея Кошмаркова Предисловие. — «Вопросы литературы». № 6. 1968. «Моей супруге» — там же. «Эх!» — там же. «Бессмертие» — «О чечевице и прочем». М., изд-во «Правда». 1968. («Библиотека Крокодила» № 36 (557)). «Письмо оттуда» — там же (подцензурный вариант). «Аграрная лирика» — Владлен Бахнов. «О чечевице и прочем». М., изд-во «Правда». 1968 («Библиотека Крокодила» № 36 (557)). «Как вольно дышится…» — «Вопросы литературы». № 1–2. 1997. «Письмо вождю» — там же. «Плач по случаю…» — «Вопросы литературы». № 10. 1968. «На брючном фронте» — Владлен Бахнов. «Чудеса в Решетиловке». Изд-во «Правда». М., 1973. («Библиотека Крокодила» № 20 (67)). «Лирическое бодание» — «Литературная газета». 1972. № 23. «Родственные связи» — публикуется впервые. «Дружелюбный мордобой» — «Вопросы литературы», № 4, 1971. «Дантеса мне, Дантеса!» — «Вопросы литературы» № 8. 1968. «Вокруг света» — «О чечевице и прочем». М., изд-во «Правда». 1968. («Библиотека Крокодила» № 36 (557)). Теорема Пифагора» — «О чечевице и прочем». М., изд-во «Правда», 1968. («Библиотека Крокодила» № 36 (557)).ЧУДЕСА В РЕШЕТИЛОВКЕ
А было это так…» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком». Иад-во «Советский писатель», М., 1973. «На чем земля держится» — Владлен Бахнов. «Опасные связи». Изд-во «Книжный сад», М., 1999. «Согласно научным данным» — Владлен Бахнов. «Внимание: Ахи!». Изд-во «Молодая гвардия», М., 1970. «Кое-что о чертовщине» — «Фантастика 1966». Изд-во «Молодая гвардия». М., 1966. «Рассказ человека, который был гением» — «Фантастика 1966». Изд-во «Молодая гвардия», М., 1966. «Эффект Тарабубина» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком». Изд-во «Советский писатель». М., 1973. «А за сценой неслышно пел невидимый хор» — там же. «Мавр» — Владлен Бахнов. «Чудеса в Решетиловке». Изд-во «Правда», М., 1973. («Библиотека Крокодила» 20 (67)). «Чудеса в Решетиловке» — там же. «Симпатии в аэрозольной упаковке» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком». Изд-во «Советский писатель». М., 1973. «Дядя Вася — золотые руки» — там же. «Рассказ со счастливым концом» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком». Изд-во «Советский писатель». М., 1973. «Формула успеха» — там же.ИЗБРАННЫЕ РАЗДУМИНЫ И РАЗМЫШЛИЗМЫ ЕВГЕНИЯ САЗОНОВА
Впервые публиковались в «Литературной газете» в 1970-х — 80-х годах. Кроме того: «Размышлизмы о правилах уличного движения» — «Вопросы литературы», № 1. 1969. «Противопожарные размышлизмы» — там же. «Раздумины о вечном коловращении в природе» — Владлен Бахнов. «Чудеса в Решетиловке». Изд-во «Правда», М., 1973. («Библиотека Крокодила» № 20 (67)). «Размышлизмы о быстротекущем времени» — Владлен Бахнов. «Дон Кихот. Дон Гуан и др…». Изд-во «Правда», М., 1989. («Библиотека Крокодила» № 20 (1080)). «Размышлизмы о благотворном влиянии технического прогресса» — «Вопросы литературы», июль-август 1999. «Философские размышлизмы» — Владлен Бахнов. «Чистая правда». Изд-во «Правда», М., 1979. («Библиотека Крокодила» № 16 (837)). «Раздумины о поэте и его лирическом герое» — «Вопросы литературы», июль-август 1999. «Импортные раздумины» — Владлен Бахнов. «Чистая правда». Изд-во «Правда», М., 1979 («Библиотека Крокодила» № 16 (837)) «Раздумины с недомолвками» — там же. «Открытое письмо диким осам…» — Владлен Бахнов. «Дон Кихот, Дон Гуан и др Изд-во «Правда», М., 1989. («Библиотека Крокодила» № 20 (1080)). «К вопросу о загадке романа «Три мушкетера» — «Вопросы литературы». июль-август 1999. «Читая Гулливера» — Владлен Бахнов. «Дон Кихот, Дон Гуан и др…». Изд-во «Правда», М.,1989. («Библиотека Крокодила» № 20(1080)). «Читая Шехерезаду» — там же. «Читая Робинзона Крузо» — там же. «Читая всемирную историю» — там же. «К вопросу о комплексном изучении…» — там же. «Ангина в творчестве народов мира» — там же.«КАК ПОГАСЛО СОЛНЦЕ» — «Фантастика 1968». Изд-во «Молодая гвардия», М., 1969.
ПАРОДИИ КОНЦА 60-х — 70-х ГОДОВ
Е. Винокуров. Отражение — «О чечевице и прочем». М., изд-во «Правда», 1968 («Библиотека Крокодила» № 36. (557)). Ю. Левитанский. «Киносон о зайце…» — «Литературная газета». 1972. № 17. П. Вегин. «В дальнем плаванье» — Владлен Бахнов. «Чудеса в Решетиловке». Изд-во «Правда», М., 1973. («Библиотека Крокодила» № 20 (67)). Л. Халиф. «Об осебяченной собаке…» — там же. Н. Глазков. «Метровые стихи» — там же. С. Кирсанов. «Никудыки» — «Литературная газета», 1972, № 28.БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ
Цикл пародий создавался с 1947 по 1978 гт. На протяжении 1970-х годов публиковался в «Литературной газете». Полностью: «Вопросы литературы», № 3, 1979. «Лопухиада» — «Вопросы литературы». № 1–2, 1997. Эпиграммы — публикуются впервые.СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
«Бег в мешках» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком» Изд-во «Советский писатель», М., 1973. «Заколдованная бочка» — там же. «Метаморфозы» — там же. «Зимние цветы» — публикуется впервые. «В часы досуга» — публикуется впервые. «Требуется большая грустная собака» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком». Изд-во «Советский писатель». М., 1973. «Однажды утром» — «Литературная газета», 1974, № 22. «За три дня до получки» — «Литературная газета», 1977, № 46. «Фортуна» — Владлен Бахнов. «Опасные связи». Изд-во «Книжный сад», М., 1999. «Безмолвный разговор — «Литературная газета», май 1977. «Сделка» — «Литературная газета», декабрь 1976. «Конкуренты» — «Крокодил», № 27, 1973. «Как будто» — Владлен Бахнов. «Чудеса в Решетиловке». Изд-во «Правда», М., 1973. («Библиотека Крокодила» № 20 (67)). «Не может быть!» — «Крокодил», № 17. 1973. «К вопросу о теории относительности» — «Литературная газета», 1973. № 17. «Савушкин, который никому не верил» — Владлен Бахнов. «Тайна, покрытая мраком». Изд-во «Советский писатель». М.', 1973.БОГИ ЖАЖДУТ
Сказки
«Сказка о Короле и барометре» — «О чечевице и прочем». М., изд-во «Правда», 1968 («Библиотека Крокодила» № 36 (557)). «Сказка о правильном произношении — там же. «Сказка о вопросительном и восклицательном знаках» — Владлен Бахнов. «Чистая правда». Изд-во «Правда», М., 1979 («Библиотека Крокодила» № 16 (837)). «Сказка о том, что было потом» — там же. «Сказка о том, как опасна лень» — там же. «Сказка о бедном слоне» — там же. «Сказка о короле Генрихе XVI, который был Карлом VI» — там же «Сказка о горе, которая родила мышь» — «Вопросы литературы», май-июнь 1998. «Сказка о мыши, которая родила гору» — там же. «Сказка о Короле. Шуте и Палаче» — там же. «Сказка о Шуте й Палаче» — там же.«БОГИ ЖАЖДУТ» — Владлен Бахнов. «Дон Кихот, Дон Гуан и др…». Изд-во «Правда», М..1989 («Библиотека Крокодила» № 20. (1080)).
«ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОМАНУ «ДОН КИХОТ» — там же.
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» — «Литературная газета», № № 5 — 11, 1993 (отдельные главы): Владлен Бахнов. «Опасные связи». Изд-во «Книжный сад». М., 1999.
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Эпиграф — «Вопросы литературы», май-июнь, 1998. «Мудрецы и хитрецы» — «Новая газета» 2001, № 27. «Поп-арт» — «Вопросы литературы», № 1–2, 1997. «Зависть» — «Дон Кихот, Дон Гуан и др…». Изд-во «Правда». М., 1989. («Библиотека Крокодила» № 20 (1080)). «Самовлюбленность» — там же. «Одиночество» — там же. «Фантастическая история» — «Вопросы литературы», № 1–2, 1997. «Надежный враг» — «Вопросы литературы», май-июнь 1998. «Опыт предков» — там же. «Счастливый случай» — там же. «Читателям» — там же. «Про девочку Алену» — «Общая газета». 1995, № 14. «Об одной исторической ошибке» — «Вопросы литературы». № 1–2. 1997. «Незримый полк» — «Общая газета». 1995, № 14. «Гренада» — «Общая газета», 1995, № 14. «Апофеоз» — «Вопросы литературы», май-июнь 1998. «Подопытный кролик» — там же. «Не бойся, друг, твой ум всесилен» — там же. «Сила воли и безволие» — там же. «Дачная улица» — там же. «С волками жить…» — там же. «Недальновидный пес» — там же. «К вопросу о прибавочной стоимости» — там же. «К вопросу о чести» — там же. «Не знаю, что тому причиной…» — «Общая газета», 1995, № 14. «Стихи о погасшем вулкане» — Владлен Бахнов. «Чистая правда». Изд-во «Правда». М., 1979. («Библиотека Крокодила» № 16(837)). «Признание» — публикуется впервые. «Еще живой…» — «Вопросы литературы», май-июнь 1998. «Если вы свернете вправо…» — публикуется впервые.«УМНИКИ» — частично «Общая газета», 1995, № 14, большинство публикуется впервые.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

В окне по росту. 1955 г.

Мать В. Е. — Анна Самойловна Бахнова.

Все детские фотографии будущего сатирика пропали во время войны. Зато сохранился комсомольский билет. Шалевый воротник пальто, перешитого то ли из маминого, то ли из бабушкиного, сперва был предметом тайной гордости, а потом ненависти владельца.

16 лет. В мечтах — поэт.

Смелость города берет. С девятью классами средней школы за плечами приступом взят Литинститут. Нижний ряд. Сидят: в центре — Л. И. Тимофеев, слева от него — Львов-Иванов (военрук); стоят: второй слева — А. Парфенов, В. Бахнов, К. А. Федин, Я. Козловский, (?), Н. Гребнев, А. Соколовский, В. Г. Лидин, Э. Зингер, (?), Л. Кривенко; верхний ряд: М. Бременер, А. Храбровицкий, крайний справа — Ю. Трифонов.

«В первые минуты Бог создал институты, И Адам студентом первым был…»
В годы студенчества

«Первым делом, первым делом — вдохновенье. Ну а лекции? — А лекции потом!»…Как видим, стихи можно было сочинять и на лекциях. Рисунок Юрия Трифонова, сделанный на лекции с натуры, дважды подтверждает правоту этих строк

Под крылом «Комсомолки». Верхний ряд слева направо: Максим Джежора, Евгений Винокуров, Владимир Солоухин, А. Храбровицкий. Второй ряд: Владлен Бахнов, Р. Я. Плятт, Н. Гребнев, (?) В. Гончаров, В. С. Сидорин, Р. Гамзатов. Нижний ряд: (?), Елена Николаевская, (?), Н. Антокольский, Г. Поженян, И. Кобзев. 1948 г.

Под крылышком ЦДРИ. Первый слева — В. Бахнов. Стоит у стены Н. Гребнев, за роялем К. Молчанов.

Тщетная попытка удержать от скользкого пути в сатиру. В. Бахнов с женой Нелли (в кругу близких — Нэка) Морозовой. Оба навеселе. (1950 г.)

«Началось все дело с песенки»

Леня и Инна Ганелины — друзья с 40-х годов

— Молодые! Нет ни званий, ни регалий, Льется смех свободно из груди. Их еще ни разу не ругали, Все, как говорится, — впереди»Александр Раскин
Адресаты эпиграммы — соавторы В. Бахнов и Я. Костюковский

Известный композитор Никита Богословский берет за горло начинающих авторов

Главное в жизни — выбрать нужный транспорт

Шутя и играя, сдружились всерьез. Слева направо: Я. Костюковский, Ю. Тимошенко (Тарапунька), В. Бахнов, Е. Березин (Штепсель)

Семейные разборки

Приближаясь к железному занавесу. Польша, 1963 г. Вторая слева — Мима Гребнева. Крайний справа — Наум Гребнев, рядом — Василий Аксенов

Ах, что за славная земля вокруг залива Коктебля!

Сегодня парень в бороде, а завтра где? В НКВДе!

Черновик «Коктебля»

Писатель Илья Зверев (Изольд) — близкий друг и первый гид по неведомым дорожкам фантастики в советских изданиях

Трое друзей под сенью статуи Пророка в Подвале Надима Сидура. В. Бахнов, В. Сидур, Н. Гребнев

Серьезные проблемы, как правило, обрушиваются внезапно и требуют дружеского участия

Застолье в Подвале — чем бог послал. В центре — Вадим Сидyp, слева — Юля Сидур, жена художника, справа — сын, Миша Сидур

Веселье перед «Гроб-артом»

1963 год. III Международный кинофестиваль. Главный приз получил-таки Федерико Феллини за «Восемь с половиной». У В. Дормана, В. Бахнова и Я. Костюковскоrо (отсутствующего на снимке) есть и своя радость — на экраны вышла их первая кинокомедия «Штрафной удар»

Дарственная надпись К. И. Чуковского на книге «О Чехове»

Открытка от К. И.
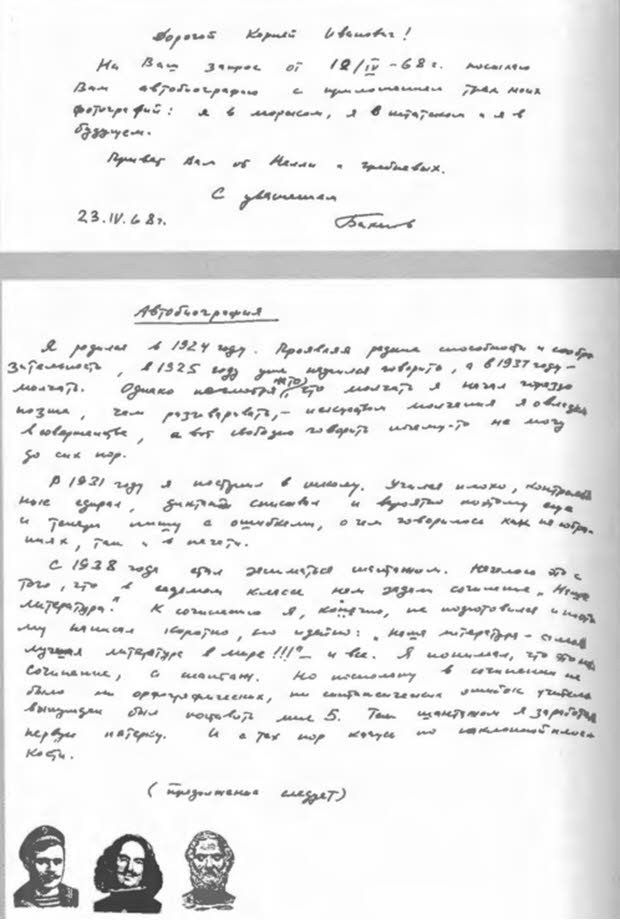
Письмо К. И. Чуковскому

Веселая команда клуба «12 стульев» развозит сатиру и юмор по стране (без стульев). Слева направо: сидят В Владин, В. Резников, стоят: В. Бахчанян, В. Бахнов, В. Веселовский, А. Иванов, И. Суслов



В кругу друзей поет душа… Слева направо: Галина Дмитриевна Катанян, Наум Гребнев, Мима Гребнева, Василий Катанян, Нэка

…и отрастает шевелюра

Творческий процесс на ходу

Трое в Переделках, не считая собаки (за спиной). Сын Леня вспоминает творчество Джерома К. Джерома или своего отца

С недальновидным псом (см. стихотворение на с.656)

В гостях у Генриха Белля. 1965 г. Г. Белль (в центре) еще не знает, что ему суждено стать Нобелевским лауреатом. В. Бахнов (слева) знает и улыбается

Два друга-поэта В. Бахнов и Сергей Кристи, чьи песни ушли в народ, вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они

Какой удачный экспромт — справить свой день рождения у Клары Лозовской на даче Корнея Ивановича в Переделкине (слева — Клара, справа — Нэка), 1975 г.

И друзьям из Дома творчества недалеко идти (слева направо: Леонид Лиходеев, Эмиль Кардин, Сергей Кристи). Гребнев снимает, почему и отсутствует на фото

Объясняет молодым юмористам — Михаилу Задорнову Лиону Измайлову и Андрею Кучаеву — секреты смехотворчества. Молодые реагируют правильно

В пору, когда Иван Васильевич менял профессию

Рекламный буклет к фильму «Двенадцать стульев»

Шапка Мономаха, которой Юрий Никулин увенчал Леонида Гайдая, на сей раз не столь тяжела; фильм «Иван Васильевич меняет профессию» имел большой успех. Соавтор сценария — на переднем плане

С известным зэком, он же писатель Евгений Александрович Гнедин (Парвус), и Хильдой Ангаровой — литературным переводчиком

С Владимиром Войновичем под покровом ночной темноты и под недреманным оком (из дежурной машины) — во дворе дома

На кухне (без недреманного ока). Незадолго до отъезда Войновича на Запад

Окно в Европу, доставленное с оказией. Сидят слева направо: Владимир Максимов, Александр Галич. Стоит Наум Коржавин. Мюнхен

Буйный ветер эмиграции занес друзей Нину Герман и Володю Вишняка в Англию. На берегу озера в Йоркшире

Эма Мандель (Н. Коржавин) мыкается в мире «желтого дьявола». Бостон, США

Когда никто не видит…

…а за столом у друзей — Руфины и Миши Гинзбургов (на переднем плане) — в поредевшем кругу, надо «держать площадку» и смешить…

Обложка книги «Внимание Ахи», художник Вадим Сидур

Писатель, литературовед Бенедикт Сарнов — однокашник по Литинституту и друг по жизни

«Лопухиада». Зачинщиком шутливого опуса нескольких писателей (Н. Горская, Д. Данин, И. Лиснянская, С. Липкин, Л. Разгон и др.) в Переделкине был В. Бахнов. Оформление Нателлы Горской

Наконец и сам попал в Европу, и не туристом, а в гости. С внучкой Полиной. Кембридж, Англия

Очень любознательные кошки в Англии…

С Ниной Герман и Нэкой (Володя Вишняк снимает) у ворот сада, в котором растут только упомянутые Шекспиром растения. Манчестер

И снова дома, где, как говорят, держат стены

Шарж. Художник Е. Шукаев



Уроки стихосложения для внучки Полины

Плечом к плечу: до полувека — чуть-чуть

Последнее прижизненное издание — «крокодильская» книжка

Поэт-переводчик Наум Гребнев (Нёма). По сути — брат

Потомство в Англии. Сидят: Полина (внучка), Майкл (ее муж), Нэт и Сэмми (правнуки). Стоит сын Леонид (в гостях). Пригород Лондона

INFO
Бахнов В. Б 30 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 37. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 688 с., ил. УДК 82-7 ББК 84(2 Рос-Рус)6-7 ISBN 5-699-08628-5 (т. 37) ISBN 5-04-003950-6
Литературно-художественное издание Владлен Бахнов АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Том тридцать седьмой
Ответственный редактор М. Яновская Художественный редактор А. Мусин Технический редактор Н. Носова Компьютерная верстка Т. Комарова Корректор М. Фирстова
ООО «Издательство «Эксмо» 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21. Home раде: www.eksmo.ru E-mail: lnfo@eksmo.ru
Подписано в печать с 26.11.2004. Формат 84х108 1/32. Гарнитура «Букмэн». Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 36,12 + вкл. Тираж 6000 экз. Заказ 6566.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат» 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15 Интернет/Home раде — www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) — sales@tverpk.ru
…………………..
Отсканировано Pretenders, обработано Superkaras и Siegetower
FB2 — mefysto, 2023

Последние комментарии
1 день 6 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 21 часов назад