Марка из Анголы [Лев Николаевич Николаев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Лев Николаевич Николаев МАРКА ИЗ АНГОЛЫ
Московским ребятам посвящаюАвтор


Художник М. ПЕТРЕНКО
СТАРЫЙ РОЯЛЬ
Окна выходили на широкую площадь перед метро «Сокольники». Но в доме всегда казалось пасмурно, свет скрадывал рояль. Громоздкий, черный, потрескавшийся инструмент занимал чуть ли не половину комнаты. Он казался неуклюжим, прожившим свой век угрюмым стариком в современной московской квартире рядом с модными стульями, столом и сервантом, которые как будто только вывезли из магазина. И это было неудивительно, потому что за столом и на стульях редко сидели. В основном ели на кухне, а сервант открывали только тогда, когда собирались гости. Однако рояль угнетал, как приживальщик. Он мешал Раисе Михайловне, матери Владика, воспринимать тщательно создаваемый уют, и потому она часто и недружелюбно смотрела в загроможденный роялем угол. Она швыряла на рояль все. И разбросанные по комнате сыном рубашки, платки, и неубранные книги, и валяющиеся везде галстуки мужа, сигареты, спички, а один раз даже поставила на него горячий чайник. С тех пор на рояле осталось большое матовое пятно, которое Раиса Михайловна, правда, прикрыла вышитой салфеткой, поместив на нее хрустальную вазу. Но ваза вскоре разбилась, и Раиса Михайловна, как бы вымещая злость на рояле, с решительностью произнесла свой приговор: — Продам я его. Надоел! Владик все равно на нем не играет. Отец и сын не вмешивались в разговор, и только бабушка, Софья Станиславовна, просила рояль не продавать. — Вся моя жизнь связана с ним,— сказала она.— Не продавайте. Я вас очень прошу... Он ведь так дорог... — Скажете тоже — дорог! — возразила Раиса Михайловна.— Может, раньше он что-то и стоил, а сейчас за него дадут гроши. — И все-таки я вас очень прошу,— перебила ее Софья Станиславовна,— не продавайте рояль. А если решите окончательно, я у вас его куплю... — О чем вы говорите, мама! — улыбнулась Раиса Михайловна.— Если бы вы даже купили рояль, где вы его поставите, в своей десятиметровке? Софья Станиславовна действительно занимала десятиметровую комнату в коммунальной квартире. Правда, много лет назад, когда жила еще с мужем и детьми, у них была большая трехкомнатная квартира здесь же, в Сокольниках, только не на Русаковской, а в Песочном переулке, у самого парка. Но потом дети выросли, квартиру она разменяла, а сама уехала, чтобы не мешать им, в десятиметровку. Старший сын Георгий женился рано. Через год у него родился сын Владик, ее первый внук, к которому она очень привязалась. Она и настояла на том, чтобы его отдали в музыкальную школу, так как у мальчика оказался хороший слух. Но Владик остался равнодушным к занятиям. Проучившись три года, бросил музыкальную школу, но сделал это тихо и незаметно, так что родители долго ничего об этом и не знали. Когда это стало известно ей, она сильно огорчилась: «Жалеть будет потом... Ведь у него способности...» Однажды вечером, когда Софья Станиславовна была у них в гостях, мать почти торжественно объявила : — Наконец-то нашла покупателя. На той неделе продаем рояль. Софья Станиславовна не проронила ни слова, а когда все вышли из комнаты, подошла к роялю и долго гладила его поцарапанную во многих местах крышку. В понедельник, когда Владик вернулся из школы, он снова увидел дома бабушку. Она сидела, склонившись над клавишами, и мягкие, слегка дребезжащие звуки плохо настроенного инструмента наполняли комнату. — Ты разве умеешь играть? — удивленно спросил Владик. — Умею... вернее, умела,— ответила она, задержав на секунду свои узловатые пальцы, а затем снова тронула ими клавиатуру. Он еще что-то хотел спросить, но почувствовал, что странным образом все, оставаясь на своих местах, переменилось в комнате. Главным вдруг стал этот черный потрескавшийся рояль, а современная мебель как-то измельчилась и потускнела, что ли. В центре осталась только бабушка.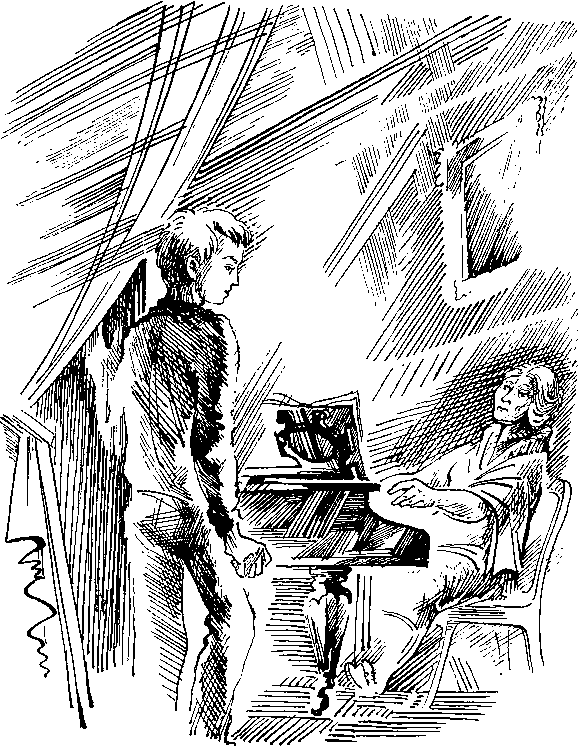 Даже трудно было назвать ее теперь таким привычным, домашним словом. Она была совсем другая, непохожая на ту бабушку, которую привык видеть Владик. Она не смотрела на него, как всегда, когда он был рядом, и даже не стремилась этого делать, потому что что-то большое и значительное вошло в нее в эти минуты, поглотило все: и комнату, и старый рояль, и даже самого Владика.
Мелодия вальса, которую она играла, будто втягивала ее в глубину, в омут своей грусти, и поднималась над этим омутом ее гордая, высокая голова, лицо, расправленное от морщин, и ясные-ясные, высвеченные мыслью глаза.
Она перестала играть. Откинулась на стуле, как это делают на концертах музыканты, мягко отняла от клавишей руки и закрыла глаза.
— Я никогда не слышал этого вальса,— тихо, как бы боясь нарушить тишину, сказал Владик.— И уж конечно не видел, чтобы под эту музыку танцевали...
— Этот вальс уже не танцуют,— тоже тихо ответила она.— Потому что он — воспоминания... А разве можно танцевать воспоминания?
Владик не понял, и она почувствовала это.
— Это первый вальс, который мы танцевали с Евгением Григорьевичем, твоим дедушкой,— продолжала она.— Давно это было, лет пятьдесят назад... Новая жизнь только что начиналась. Я преподавала тогда на рабфаке... Ты ведь, наверно, и не знаешь, что такое рабфак? — мягко улыбнулась она, взглянув на Владика.
Он ничего не ответил, очевидно боясь перебить ее, и даже не пошевелился.
— Рабфак — это рабочий факультет, где учились ребята с завода. Днем работали, а вечером учились... Так вот... Преподавала я им тогда там русский язык, а директором рабфака от партячейки завода был твой дедушка.
Софья Станиславовна опять посмотрела на Владика и поправилась:
<— Да какой он тогда был дедушка?! Молодой человек, высокий, с огромной шевелюрой. Вот там мы с ним и познакомились... А потом был вечер выпускников рабфака, и мы долго танцевали с Евгением Григорьевичем этот вальс. С тех пор эта музыка стала для нас как бы родной. Когда мы с твоим дедушкой поженились — купили этот рояль,— снова погладила она рукой его потрескавшуюся крышку.— Евгений Григорьевич очень любил музыку и играл неплохо. Часто, бывало, сядем мы с ним вместе за рояль и играем в четыре руки. В сорок первом он уходил на фронт... Помню, забежал на несколько минут домой проститься, сел к роялю и заиграл этот вальс. Вот здесь, рядом с подсвечником, тогда еще цветы стояли... Не помню какие, но помню, что стояли... Играл он тогда недолго, на улице просигналила машина: за ним приехали. Встал и сказал: «Ну что же? Вернусь — доиграю». Но доиграть ему так и не пришлось...
Софья Станиславовна помолчала, потом, как бы вспомнив самое важное, сказала:
— Трудное было время — война. У меня на руках трое детей осталось. Пошла работать, но все равно не хватало. Уснут, бывало, они голодными, а мне не до сна. Хожу, хожу по квартире, а потом закрою двери в большой комнате, подойду к роялю и тихотихо начинаю перебирать клавиши. Поиграю немного, и на душе становится легче... Помню, когда твой отец даже карточки потерял и все остались без хлеба, рояль даже тогда не был продан.
Заметив в глазах Владика искреннее удивление, а вернее, вопрос, который он боится задать, она догадалась: ему непонятно, что такое карточки.
— Карточки, Владик,— пояснила Софья Станиславовна,— это такие талоны, на которые во время войны выдавали продукты. Были карточки для рабочих, для служащих, для детей... И каждому своя норма полагалась. А что сделаешь? Шла война. Экономить нужно было и фронту давать. Пережили все-таки...
За окнами темнело. Ноябрьский день быстро гас, ему на смену торопился долгий осенний вечер. Они сидели друг против друга. Внезапно она встала, пошла в переднюю и, порывшись в своей маленькой сумочке, вернулась в комнату. В руках у нее была сгоревшая наполовину свеча. Она вставила ее в стоящий на рояле подсвечник, а Владик принес из кухни спички. Комната озарилась неярким светом, наполнилась терпким запахом стеарина.
А потом она ушла. Ушла не попрощавшись, наскоро надев свою старенькую меховую шапку.
Мать, возвратившись с работы, застала Владика за роялем. Он играл, вернее, пытался играть какую-то мелодию, похожую на вальс.
— Не надо продавать рояль,— сказал он.— Я буду учиться...
Даже трудно было назвать ее теперь таким привычным, домашним словом. Она была совсем другая, непохожая на ту бабушку, которую привык видеть Владик. Она не смотрела на него, как всегда, когда он был рядом, и даже не стремилась этого делать, потому что что-то большое и значительное вошло в нее в эти минуты, поглотило все: и комнату, и старый рояль, и даже самого Владика.
Мелодия вальса, которую она играла, будто втягивала ее в глубину, в омут своей грусти, и поднималась над этим омутом ее гордая, высокая голова, лицо, расправленное от морщин, и ясные-ясные, высвеченные мыслью глаза.
Она перестала играть. Откинулась на стуле, как это делают на концертах музыканты, мягко отняла от клавишей руки и закрыла глаза.
— Я никогда не слышал этого вальса,— тихо, как бы боясь нарушить тишину, сказал Владик.— И уж конечно не видел, чтобы под эту музыку танцевали...
— Этот вальс уже не танцуют,— тоже тихо ответила она.— Потому что он — воспоминания... А разве можно танцевать воспоминания?
Владик не понял, и она почувствовала это.
— Это первый вальс, который мы танцевали с Евгением Григорьевичем, твоим дедушкой,— продолжала она.— Давно это было, лет пятьдесят назад... Новая жизнь только что начиналась. Я преподавала тогда на рабфаке... Ты ведь, наверно, и не знаешь, что такое рабфак? — мягко улыбнулась она, взглянув на Владика.
Он ничего не ответил, очевидно боясь перебить ее, и даже не пошевелился.
— Рабфак — это рабочий факультет, где учились ребята с завода. Днем работали, а вечером учились... Так вот... Преподавала я им тогда там русский язык, а директором рабфака от партячейки завода был твой дедушка.
Софья Станиславовна опять посмотрела на Владика и поправилась:
<— Да какой он тогда был дедушка?! Молодой человек, высокий, с огромной шевелюрой. Вот там мы с ним и познакомились... А потом был вечер выпускников рабфака, и мы долго танцевали с Евгением Григорьевичем этот вальс. С тех пор эта музыка стала для нас как бы родной. Когда мы с твоим дедушкой поженились — купили этот рояль,— снова погладила она рукой его потрескавшуюся крышку.— Евгений Григорьевич очень любил музыку и играл неплохо. Часто, бывало, сядем мы с ним вместе за рояль и играем в четыре руки. В сорок первом он уходил на фронт... Помню, забежал на несколько минут домой проститься, сел к роялю и заиграл этот вальс. Вот здесь, рядом с подсвечником, тогда еще цветы стояли... Не помню какие, но помню, что стояли... Играл он тогда недолго, на улице просигналила машина: за ним приехали. Встал и сказал: «Ну что же? Вернусь — доиграю». Но доиграть ему так и не пришлось...
Софья Станиславовна помолчала, потом, как бы вспомнив самое важное, сказала:
— Трудное было время — война. У меня на руках трое детей осталось. Пошла работать, но все равно не хватало. Уснут, бывало, они голодными, а мне не до сна. Хожу, хожу по квартире, а потом закрою двери в большой комнате, подойду к роялю и тихотихо начинаю перебирать клавиши. Поиграю немного, и на душе становится легче... Помню, когда твой отец даже карточки потерял и все остались без хлеба, рояль даже тогда не был продан.
Заметив в глазах Владика искреннее удивление, а вернее, вопрос, который он боится задать, она догадалась: ему непонятно, что такое карточки.
— Карточки, Владик,— пояснила Софья Станиславовна,— это такие талоны, на которые во время войны выдавали продукты. Были карточки для рабочих, для служащих, для детей... И каждому своя норма полагалась. А что сделаешь? Шла война. Экономить нужно было и фронту давать. Пережили все-таки...
За окнами темнело. Ноябрьский день быстро гас, ему на смену торопился долгий осенний вечер. Они сидели друг против друга. Внезапно она встала, пошла в переднюю и, порывшись в своей маленькой сумочке, вернулась в комнату. В руках у нее была сгоревшая наполовину свеча. Она вставила ее в стоящий на рояле подсвечник, а Владик принес из кухни спички. Комната озарилась неярким светом, наполнилась терпким запахом стеарина.
А потом она ушла. Ушла не попрощавшись, наскоро надев свою старенькую меховую шапку.
Мать, возвратившись с работы, застала Владика за роялем. Он играл, вернее, пытался играть какую-то мелодию, похожую на вальс.
— Не надо продавать рояль,— сказал он.— Я буду учиться...
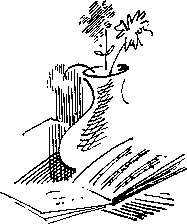
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Небольшая площадь, расположенная невдалеке от железнодорожной станции, была переполнена жарой и пылью. Стоящие здесь разнокалиберные палатки-домики, прилепленные друг к другу и выкрашенные в разные цвета, создавали почти замкнутый четырехугольник, из которого, казалось, они никогда не выпускали солнца. За площадью, под тенью нависших деревьев, располагались почта, магазин, милиция. Милиция была построена здесь недавно, и потому, наверно, таким опрятным и новым был окружавший ее невысокий штакетник. Несмотря на яркий солнечный день, вывеска у входа в милицию горела, как бы заново обозначая ее красные буквы. Из открытого окна, расположенного почти под вывеской, доносилось: — Он и грядки все потоптал! И кусты сломал! Кричала раскрасневшаяся женщина лет пятидесяти, загорелое лицо которой делало ее еще старше. — Пусть его родители заплатят нам за все! — вторил ей худой сутулый мужчина с перепачканными в земле руками и, повышая голос, что никак не вязалось с его внешностью, грозил: —Мы в суд подадим! Было видно, что мужчина только с огорода. Судя по морщинистому лбу, глазам, шее, сильно опущенным плечам, прикрытым старым, выцветшим от солнца пиджаком, хозяйство, как неуемная энергия его супруги, были чрезмерными. Они и придавили его когда-то стройную фигуру к земле. — Не шумите, граждане,— поднял голову молодой лейтенант,— разберемся. И он снова склонился над столом, но те не переставали : — Это хорошо еще нашего сына дома не было. Он бы намял ему бока. — Граждане,— уже строго произнес лейтенант,— потише!—И, повернувшись к Максиму, спросил: —Адрес? Максим не соврал. Он вообще сказал правду: залез в сад, потому что была нужна смородина. — Полакомиться захотел! — насмешливо произнесла женщина.— Ну и дети сегодня пошли! Да и родители тоже хороши...— Она чрезвычайно укоризненно посмотрела на Максима, даже с какой-то ненавистью, так, что у нее даже заходили желваки. «Боже мой! — подумал про себя лейтенант.— Что ж этот пацан такого натворил, чтобы так волноваться?!» Но лейтенант был при исполнении служебных обязанностей. Дежурный честь по чести должен был принять заявление, хотя еще только и устное, установить личность нарушителя и составить протокол, а говорить о том, как он оценивает случившееся, не мог. «Хотя, что за парадокс? — размышлял про себя лейтенант, вспоминая эпизоды своего недалекого детства и в который раз ловя себя на лицемерии своих чувств и действий.— С одной стороны, я надрал бы уши этому пацану да отпустил бы... Подумаешь, какое совершил преступление — мальчишки всегда этим занимались, а с другой — должен писать протокол, заводить дело на этого конопатого... Неправильно это. Но по-другому, может быть, и нельзя?» Зазвонивший телефон отвлек дежурного от размышлений. Он снял трубку. — Поездом сшибло? Юношу? — переспрашивал он в трубку.— В спортивном костюме? Сумка «adidas»? — Что? — бледнея, повернулся в сторону дежурного мужчина.— Попал под поезд с сумкой «adidas»? В спортивном костюме? Синем? Хотя они все синие... Женщина беспомощно опустилась на стул. — Это же Роберт... Сын наш... В больнице им сообщили, что ничего страшного нет. Только ушибы да потеря сознания. — Скажем откровенно,— пояснил врач,— повезло вашему сыну. Машинист вовремя успел затормозить, а то бы... Рассказывают, что электричка уже тронулась, а он переходил полотно. Так что вот такие дела, товарищи родители... Родители не знали, что двумя часами раньше Максим видел, как от станции отъехала светлая, с красным крестом машина. — Электричка его только толкнула,— слышались голоса. — И ничего не толкнула, а протащила несколько метров... — Ой, смотрите! — сказала девушка.— Сумка его осталась. Все обернулись в сторону валявшегося невдалеке синего квадрата, на котором отчетливо прочитывалось слово «adidas». — Сбегай в больницу,— толкнул Максима высокий блондин,— отнеси. Здесь недалеко. Вон за тем поворотом... Его туда повезли... В больнице Максима спрашивали, не знает ли он этого юношу, откуда он, где работает или учится. Но Максим ничего не знал и сказать ничего не мог.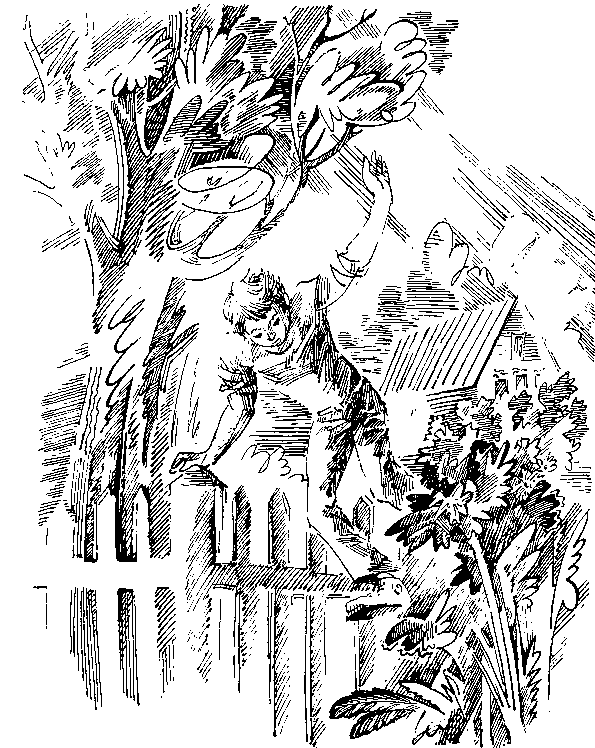 — Мы здесь первый год живем на даче,— пояснил он и спросил у врача: — А как он себя чувствует?
— Ничего. Смородины уже просит,— улыбнулся доктор и как-то запросто подмигнул подростку.
— Смородины? — удивился Максим.
— Да, смородины,— улыбнулся врач еще раз.— Черной смородины...
И Максим решился.
Но надо же так случиться, что, разыскивая по дачным проселкам участок, где бы росла смородина, он залез в сад к самому Роберту да еще попался. Впрочем, когда в милицию вызвали его мать, Максим так и не сказал, зачем ему понадобилась эта смородина.
Мать уплатила штраф.
— Мы здесь первый год живем на даче,— пояснил он и спросил у врача: — А как он себя чувствует?
— Ничего. Смородины уже просит,— улыбнулся доктор и как-то запросто подмигнул подростку.
— Смородины? — удивился Максим.
— Да, смородины,— улыбнулся врач еще раз.— Черной смородины...
И Максим решился.
Но надо же так случиться, что, разыскивая по дачным проселкам участок, где бы росла смородина, он залез в сад к самому Роберту да еще попался. Впрочем, когда в милицию вызвали его мать, Максим так и не сказал, зачем ему понадобилась эта смородина.
Мать уплатила штраф.
БЛИЗНЕЦЫ
На них сразу же обратили внимание. Еще бы! Близнецы! И как похожи! Глаза, волосы, даже носы одинаковые! Невысокие, крепко сбитые мальчики, казалось, не делали никаких усилий и даже не смотрели на шайбу, но легко обыгрывали всех. И бросок у них был одинаковый — сильный и жесткий. «Хорошо играют,— в который раз, глядя на них, замечал про себя Иван Спиридонович.— Спортивные ребята». — Друзья! — как-то подозвал он братьев к себе.— Вы меня знаете? — Знаем. Вы здесь работаете. — Точно. Я организатор спортивной и культурной работы жилищной конторы,— представился Иван Спиридонович,— а вот с вами еще не знаком. — Мы вообще-то с Матросской Тишины. А здесь недавно,— сказал Андрей.— Квартиру новую получили... — Ну а в хоккей где научились играть? — В спортшколе. Иван Спиридонович почему-то оглянулся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, продолжил: — А что, если мы вас включим в сборную жэка? Будете играть на приз дворовых команд «Золотая шайба»? — Нельзя,— решительно сказал Игорь.— Мы ведь за спортшколу играем. Нам не разрешат. Иван Спиридонович знал, что ребята, выступающие за спортшколу, не могут участвовать ни в каких соревнованиях, тем более в «Золотой шайбе»,— таков порядок. Но, подумав, он тем не менее принялся за уговоры: — А зачем вам рассказывать об этом? Кому какое дело, где вы еще играете?.. Будете играть за жэк, и все тут... Хотя смотрите — ваше дело,— после небольшой паузы произнес он.— Только ребята во дворе уже знают, что вы включены в сборную. Живете-то вы теперь в этом доме. Зачем подводить своих новых друзей? Прощаясь с ребятами, Иван Спиридонович сказал: — Если все-таки решитесь играть за жэк, о том, что в спортшколе занимаетесь, никому ни слова! Ясно? К предложению Ивана Спиридоновича у близнецов отношение было разное. Игорь решил сразу же отказаться, Андрей воспротивился. — Разрешают, не разрешают,— злился он.— Спиридоныч прав: никто не узнает, а честь дома тоже поддержать надо! — И ты будешь играть со слабаками? — Как это? — не понял Андрей, а потом, догадавшись, о чем говорит брат, с горячностью начал сыпать вопросы: —А ты знаешь?! Ты знаешь, что они слабаки? Откуда тебе это известно? Ты что, видел, как они играют? Видел? — Не видел, но знаю,— спокойно ответил Игорь.— Они же не ходят в спортивную школу и не тренируются, как ты, по четыре раза в неделю. У них же в руках клюшки, как лапша,— вспомнив излюбленную поговорку их тренера, добавил он и посмотрел на Андрея, очевидно ожидая возражений. Но тот промолчал. В воскресенье, в день соревнований, погода выдалась на славу. Шедший еще с вечера снег прекратился, застыв на земле неподвижной беленью. Его слепящий свет, перемешанный с лучами морозного солнца, заполнял улицы, дворы, переулки. Оранжевые зайчики, которых так и хотелось поймать рукой, играли на окнах домов, залетая в открытые форточки, как бы прятались так, чтобы никто их не поймал. Небо было высоким. Оно, казалось, открыло свой простор до самого космоса, приглашая желающих лететь или хотя бы смотреть до тех пор, пока не устанут глаза. Позавтракав, Андрей начал укладывать спортивную форму. Собирался и Игорь. — Ты это куда? — спросил брата Андрей. — Туда же, куда и ты... На стадион они пришли вместе. Вокруг ледяной площадки было уже много народу, играла музыка.
— Ну, где же вы? — встретили их ребята.— Куда запропастились? Все вас давно ждут. Скорее одевайтесь — и на лед. На площадку Игорь и Андрей тоже вышли вместе. Минуту спустя после начала игры Андрей послал шайбу в ворота. Болельщики сразу оживились. — Молодец, Андрей, так их! Давай, Матросская Тишина, давай! Иначе близнецов в новом дворе и не звали. — Ой! Смотрите! Что это? Игорь неудачно подставил клюшку, и шайба влетела в свои ворота. Какая оплошность! Прошло немного времени, и шайба вновь оказалась у Андрея. Обойдя на скорости двух защитников, он оказался один на один с вратарем, и шайба снова затрепетала в сетке. Болельщики наградили Андрея дружными аплодисментами. Но не успели еще стихнуть восторги, как прозвучал судейский свисток, призывающий хоккеистов вновь начать игру с центра поля. — Игорь Шальнов забил второй гол в собственные ворота,— объявил диктор. — Ты это что? — подъехав к брату, набросился на него разгоряченный Андрей. — Ничего,— пожал тот плечами,— только на каждый твой гол я буду забивать гол в собственные ворота. Андрей посмотрел на брата, повертел в руках клюшку и, ничего не сказав, направился к выходу. За ним поехал и Игорь. — В команде «Вымпел» произошли две замены,— объявил диктор, и его голос многократным эхом разнесся в студеном воздухе.
ЦВЕТЫ НА ПРОДАЖУ
Генка с отцом и матерью жил в старом рубленом доме, огороженном высоким забором. За забором был большой сад, в котором росли цветы. Ах, какие это были цветы! Таких не выращивалось ни у кого из соседей. Все вокруг так и говорили: — У вас прелестные цветы. Они какие-то особенные, необычные. Их можно отличить из тысячи... Слушая это, Генкина мать улыбалась и всегда застенчиво отвечала: — Ну что вы, цветы как цветы. Отец Генки работал на заводе, а мать нигде не работала — у нее и так дел было полным-полно. — Устала я,— часто вздыхала она по вечерам, — хуже, чем на работе... Генка знал, что мать каждое утро, положив цветы в большую корзину и укутав их мокрой тряпкой, уходила из дому. — Твоя мать цветами торгует,— сказал Генке как-то соседский Алик.— Я сам видел, на автобусной остановке. — Ну и что? — спросил в недоумении Генка. — Ничего, только спекуляция это... — Спекуляция? Генка и раньше слышал это слово, но не очень ясно понимал его значение. Но то, что было в этом слове что-то нехорошее, обидное, он чувствовал. Однажды на перемене Генка подошел к учительнице и спросил: — Скажите, Мария Павловна, плохо торговать цветами?
— Цветами? Какими цветами? — не поняла она вопроса. — Ну, которые в саду растут... — Где торговать? — переспросила учительница. — На автобусной остановке... Мария Павловна догадалась. — Видишь ли, Гена,— помолчав, сказала она,— цветы, конечно, можно продавать. Но продавать их нужно в магазине, на рынке. А те, кто торгует цветами на автобусной остановке, поступают неправильно, скажем, нехорошо... — Спекуляция это? — выпалил Генка. — В каком-то смысле да... Но не совсем... Как бы тебе это объяснить?..— подбирая слова, продолжала учительница, уже окончательно поняв, о чем идет речь.— Спекуляция — это когда что-нибудь покупают по одной цене, а перепродают по другой. Дороже берут за товар и наживаются на этом, понимаешь? Генка утвердительно кивнул головой, но почувствовал, что Мария Павловна говорит ему совсем не о том, что его интересует. — Нет,— сказал он.— Я спрашиваю, плохо торговать цветами, которые сами вырастили у себя, на участке? — тихо, но уже откровенно сформулировал он свой вопрос и испугался. Он даже посмотрел по сторонам, не слышит ли кто, а особенно Алик, и, убедившись, что поблизости никого нет, успокоился. Мария Павловна сделала вид, что не заметила никакого Генкиного волнения, однако, как бы поддерживая его доверительность и их разговор с глазу на глаз, сказала тоже негромко: — Эти цветы нужно продавать на рынке... Они еще долго разговаривали. Осень в этом году была ранняя и уже к началу октября почти не оставила на деревьях листьев. Она уложила их у Генкиного дома шуршащим ковром на мокрую землю, а ветер беспрерывно передвигал его с места на место, меняя причудливо рисунок. — Завтра День учителя,— не отрываясь от газеты, сказал однажды утром отец. — Ну вот и хорошо,— обрезая стебли астр, откликнулась мать.— Гена сегодня отнесет учительнице цветы и поздравит ее с праздником.— Она отложила несколько астр и добавила: — Вот возьми эти. Прекрасный подарок! — Не возьму я твоих цветов,— решительно сказал Генка. — Не возьмешь? Почему? — удивленно спросила мать. — А потому... потому...— заикаясь, произнес он,— что ты ими торгуешь на автобусной остановке. А это... это нехорошо...-— Генка встал и стремительно выбежал из комнаты. — Вернись,— услышал он,— вернись сейчас же! Но Генка не вернулся. Мать посмотрела на отца, который читал газету и, казалось, не слышал никакого разговора. Потом она медленно подошла к окну. Припав лбом к холодному стеклу, долго смотрела в сад на потускневшие астры. Может быть, в этот момент она вспомнила себя в Генкином возрасте, свою школу, подруг, свою учительницу? Но в этот день цветы так и остались лежать в корзине.
ПЕРОЧИННЫЙ НОЖИК
На день рождения Рудику подарили такой перочинный ножик, какого ни у кого не было во дворе. Перламутровый, в тонкой металлической оправе, он так переливался на солнце, будто внутри него были маленькие электрические лампочки. И лезвие у ножа открывалось не так, как у всех,— достаточно было нажать кнопку, как из рукоятки выскакивал острый металл. — Продай,— предложил Рудику Валька.— Я тебе червонец за него дам. — Нет,— ответил Рудик.— Он мне самому нравится. А потом, ведь это подарок... Однажды, когда во дворе уже наступали сумерки, а свет над подъездами еще не горел, Рудик, направляясь домой, услышал в палисаднике чей-то всхлип. — Ты что? — перемахнув через невысокий забор, он подошел к мальчику. Плакал Тарас со второго этажа. Прижавшись лбом к старой липе, Тарас плакал, не вытирая слез, беспомощно опустив руки. — Ты что? — повторил Рудик, дотрагиваясь до его плеч.— Что случилось? — Деньги... Я потерял деньги,— начал мальчик после долгих всхлипываний.— Тетя Аня попросила сходить в магазин... Дала десять рублей, а я их потерял... — Тетя Аня? Какая тетя Аня? — не понимал Рудик, продолжая теребить его за плечи. — Тетя Аня, которая болеет... которая живет в квартире напротив... Десять рублей напомнили Рудику о Валькином предложении. Он еще раз посмотрел на плачущего мальчугана и решился: — Ты подожди здесь. Я скоро... Когда Рудик вернулся, Тараса в палисаднике не было. Над подъездами уже горел свет, и яркие, окруженные зеленью деревьев фонари тоже светились. Рудик не знал, что, увидев сына в палисаднике и узнав о потере денег, отец дал Тарасу десять рублей и велел отнести их тете Ане. А потом сын и отец ушли домой. Правда, Тарас просил подождать Рудика, но отец убедил его, что уже поздно и что ничего не случится, если он встретит Рудика завтра. Назавтра они встретились. — Куда же ты пропал вчера? — спросил его Рудик.— Я ведь приносил тебе деньги. — Приносил? — переспросил Тарас и, рассказав все, как было, добавил: — А ты знаешь... Я ведь нашел сегодня ту десятку... Запрятал, понимаешь, ее, оказывается, в карман рубашки и забыл. — Да...— помолчав, протянул Рудик.— Ну, ничего... Он подошел к тротуару, поднял голову и крикнул в сторону открытых окон: — Эй! Валька! Выходи! Слышишь? Через несколько минут Валька вышел. — Бери назад свои деньги и отдавай мой ножик,— подошел к нему Рудик,— твоя десятка не пригодилась... — Отдавай?—насмешливо произнес Валька.— Как бы не так! Ножик этот мой. И я за него, может, теперь две цены возьму. — Как? — А вот так! Двадцать рублей он теперь стоит,— продолжал Валька.— Понял?
Рудик внимательно посмотрел на Вальку, затем перевел взгляд на деньги. Их было ровно десять рублей. — На! Бери! — внезапно подскочил к Вальке Тарас и развернул помятую ассигнацию.—Бери! И отдавай ножик!
ЯГОДЫ
Весь лагерь жил мечтой о поездке в воинскую часть. Да и как было не мечтать, если приглашали туда с ночевкой.. Даже дух захватывало, когда представлялись военные палатки из туго обтянутого брезента, сливающиеся с зеленью леса, солдатские кровати, на которых можно было спать целую ночь, звуки рожка утренней побудки и, конечно, замаскированные повсюду бронетранспортеры. На совете дружины было решено: поедет отряд — победитель игры «Зарница». Впрочем, по-другому решить было и нельзя: в лагере один автобус на тридцать человек.Сеня оказался в группе разведчиков. Ему и еще троим ребятам предстояло отыскать по указательным знакам спрятанный в лесу пакет и доставить его в штаб шифровальщикам. Те должны были быстро разгадать значение стрелок, кружков, кубиков, которые таили в себе очередное задание отряду на ближайшие два часа и указывали ему путь дальше. — Справитесь? — спросил их Леонид, вожатый отряда, и крепко, как это обычно показывают в кино о войне, пожал ребятам руки, будто настоящий командир отправлял своих бойцов на опасное боевое задание. — Постараемся, Леня,— ответил Сеня, но тут же поправился: —Справимся, товарищ командир. Вожатый с удовлетворением посмотрел на ребят, особенно на Сеню, и уже совсем не по-военному добавил: — Помните, ребятки, от пакета сейчас зависит все. И победа, и исход игры, и ваша поездка в воинскую часть... Ребята, впрочем, это хорошо понимали и сами. Шел заключительный этап «Зарницы». В финал вышли две команды, вернее, два отряда — отряд «синих» и «голубых». «Голубые», к которым принадлежал Сеня, побеждали. Еще утром они смяли оборону противника и заняли его окопы. Затем с «техникой» въехали в лес и нашли ту поляну, над которой взвилась красная ракета и где началась «атака». Сеня вспомнил «бой», дружное «вперед! ура!» и того худенького остроносого мальчика из отряда «синих», который, склонившись над рацией в накинутой на плечи, не по размеру, плащ-палатке, громко кричал в микрофон: — «Земля»! «Земля»! Вы меня слышите? Слышите? Нас окружают! Окружают! Срочно присылайте подкрепление! Но подкрепления уже не было. Минут пятнадцать назад его взяли в плен, как, впрочем, и всю армию «синих». Радист, однако, об этом не знал и потому надеялся, что вот-вот его услышат и пришлют подмогу.

Было жарко. Его белесый, почти прозрачный лоб был сплошь покрыт испариной. Плотно натянутые резиновые наушники мешали услышать все происходящее кругом, а стоящий перед ним микрофон, до которого радист почти дотрагивался губами, занимал все внимание. Он даже не услышал, как подошла группа захвата из отряда «голубых», и уж совсем никак не мог поверить, что тоже оказался в плену. — У меня рация оказалась неисправной,— почти со слезами произнес «синий».— Они меня не слышали... А так бы вы нас никогда не победили. Никогда! Все это было утром. И вот сейчас, когда до окончательной победы оставалось совсем немного, ему, Сене Канарейкину, и еще двоим юнармейцам поручалось найти пакет. Найти быстро, не теряя времени. Сверив часы, как это тоже всегда бывает на фронте, они отправились на задание. Сеня шел впереди, внимательно рассматривая полусгнившие пни, на которых должны быть указательные знаки. В руках у него был компас. — Есть первый! — крикнул он минут через десять, наклонившись к какой-то высоко торчащей гнилушке. Легко отодвинув толстую, покрытую слизью кору, он достал спичечную коробочку, на которой было обозначено местонахождение следующего пня, и, объявив его описание своим товарищам, снова двинулся дальше. А еще минут через пять они совсем рядом услышали: — Отойдите! Отойдите! Что вам нужно! Юнармейцы выглянули из-за кустов и увидели двух босоногих ребят, отнимающих у девочки ягоды. Она изо всех сил сопротивлялась, крепко держа в одной руке корзинку, а другой пыталась оттолкнуть от себя ребят. Но, изловчившись, один из них ухватил корзинку за ручку и дернул ее на себя. Ягоды оказались у него в руках. — Отдай! Отдай! Сейчас же! — еще громче закричала девочка, но мальчишка, отбежав в сторону, только громко захохотал. Сеня с ребятами вышел из-за кустов. Увидев их и оценив обстановку, босоногие бросились наутек. Девочка и юнармейцы побежали за ними. Но где им было соревноваться с ловкими деревенскими ребятами, птицами пролетающими над травой и цветами, муравьиными кучами, поваленными деревьями и всем тем, что лежит и растет на земле в июльском подмосковном лесу! — Стойте! — запыхавшись, остановился Сеня, увидев, что ребята уже скрылись из виду.— Убежали! — с досадой сказал он и, обращаясь к девочке, серьезно заметил: — А ты чего в лес одна ходишь? — Я недалеко хожу... — Все равно нельзя. Видишь, какие здесь местные... — А я их знаю,— тихо сказала девочка.— Они из деревни, в которой мы братишке молоко берем. — Знаешь?—оживился Сеня.— Тогда пошли...— Он решительно двинулся с места, но тут же, вспомнив что-то очень важное, остановился.— Ты,— посмотрел Сеня на одного из своих разведчиков,— беги в штаб и расскажи обо всем Лене. Командиру,— поправился он. — А как же пакет? —удивился тот.— Ведь его нужно быстро найти? — Юнармеец Селезнев,— строго сказал Сеня.— Выполняй приказ! Однако юнармеец Селезнев не торопился. — Ты что, Сеня? —продолжал удивляться он.— Пока я сбегаю, пройдет время. А потом что толку-то?.. — Как что? Толк есть, и большой,— начал обсуждать с ним Сеня приказ, что уж, конечно, никак не полагалось ни по какому уставу.— Доберешься до штаба, расскажешь все командиру. Он пошлет новую группу разведчиков^ и она найдет пакет... — Но время, время! — не унимался беспокойный Селезнев. Павлик его тоже поддержал. — А ты пойдешь со мной,— прервав разговор, сказал Сеня и строго посмотрел на второго бойца.— Я командир! И я приказываю. И он, ступая на хрустящие сучья, треск которых особенно сильно отзывался в тихом лесу, пошел вперед. Девочка ничего не понимала из разговора, но, глядя на них, почувствовала в себе какую-то необыкновенную уверенность. Она только сейчас разглядела на ребятах какие-то повязки, значки, погоны, пришитые к рубашке через край белыми нитками. — А вы кто? — спросила она, когда они вышли из леса. — Мы юнармейцы,— догадавшись о ее недоумении, сказал Сеня и, взглянув на нее, понял, что его ответ ее еще больше озадачил.— Мы из лагеря,— пояснил он.— Из пионерского лагеря «Салют». Знаешь, где он находится? — Знаю. — А сейчас у нас военная игра... Сразу за лесом открылась деревня. Ее маленькие серенькие домики, устремленные в небо журавли колодцев особенно четко выделялись на фоне уже тронутых желтизной полей, балочек, невысоких подъемов и спусков. Придя в деревню, ребята оказались в окружении тесного кольца деревенских. — Идите отсюда! — слышалось со всех сторон. — Ишь! Погоны нацепили! Генералы какие!.. Сорвем сейчас погоны-то, да еще по шее накостыляем... — Пусть ваши ребята ягоды ей отдадут,— волнуясь, сказал Сеня.— Это... это подло у девочки отнимать... — Ну, ты, потише, законник! — выдвинулся вперед какой-то нечесаный парень в выцветшей ковбойке. Он подошел к Сене и ударил его в плечо. Стоявший сзади другой парень подставил ногу, и Сеня упал. — Ой! Что вы делаете! Что делаете! — еще громче, чем там, в лесу, закричала девочка, вцепившись руками в ковбойку нечесаного.— Отойдите! А на земле уже катались. Павлик с оторванным погоном и раскрасневшимся лицом тоже оборонялся. Но силы были неравными. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не горн. Он прозвучал чисто и серебряно в накаленном июльском воздухе. В деревню входили и «синие» и «голубые»—все участники финала «Зарницы». Они шли с развернутым знаменем, и нес это знамя тот худенький остроносый мальчик, которого утром взяли в плен вместе с рацией.
СВИТЕР
Уходя гулять, Алешка не захотел надеть свитер. Мать запротестовала: — На улице еще прохладно, а он не хочет тепло одеваться. Погода действительно была неустойчивой. Запоздалая весна только какую-нибудь неделю коснулась своим дыханием воздуха. Она спешила за день обогреть его своим ласковым обновленным солнцем, высушить островки асфальта и ускорить поток беспокойных ручейков, повсюду находящих себе неширокие русла. Но к вечеру весны уже не чувствовалось. Солнце затягивалось сплошной нависающей пеленой, которая, казалось, никогда не уступит место прозрачному небу, островки на асфальте пропадали, а беспокойные ручейки покрывались тоненьким слоем льда. Таким тонким, что представлялось: если дотронуться до него только дыханием, он растает и вода снова побежит по своему руслу. Иногда поднимался ветер. Он сильно раскачивал на деревьях упругие сучья и вносил ощущение какой-то неуютности. — Я не надену свитер,— говорил Алешка,— надену пиджак... Но спор продолжался недолго. В конце концов мать заявила, что, если он ее не послушает, гулять не пойдет. И Алешка уселся в своей комнате, достав с этажерки недочитанного Дюма. «Ничего... Пусть посидит дома,— думала мать,— а то вон уже какой стал! Это — «я не хочу», это — «не буду»... Пиджак — надену, свитер — не надену... А свитер-то какой хороший! Еле достала...» Она не знала, что из-за этого яркого, с узорчатым рисунком свитера, который еще издали обращал на себя внимание, Алешку стали звать во дворе Американцем. Правда, он старался не отвечать на это обращение и даже делал вид, что не слышит, но прозвище все больше и больше закреплялось за ним. — Почему они зовут тебя Американец? — спросила как-то Маринка, его сестра. — Почему, почему! — огрызнулся Алешка, но, посмотрев в ее внимательные участливые глаза, смягчился: — Из-за свитера. Вот почему... — А почему из-за свитера? — не поняла Маринка. — Потому что он заграничный. Видишь, какой яркий. Вот одна вышитая полоса... Вот другая, третья...— объяснил Алешка, водя растопыренными пальцами по свитеру,— такие носят только в Америке, а не у нас...— Он глубоко вздохнул и добавил с горечью: — Был бы он другой, не американский... Глядя на брата, Маринка тоже вздохнула, но, тут же забыв о переживаниях, поскакала на одной ноге по расчерченному мелом асфальту. Однажды в их дворе появился какой-то гражданин в сером костюме и с туго набитым портфелем. Он подошел к ребятам, удобно расположившимся на спинке скамейки, и спросил: — В каком подъезде триста четырнадцатая квартира? В пятом или шестом? — В шестом, кажется,— отозвался кто-то,— а может, в пятом... Вы спросите лучше у Американца... Он живет в шестом подъезде. И уж знает точно... — У американца? — немало удивился гражданин.— У какого американца? Все дружно захохотали...
После этого случая Алешка окончательно решил свитер не носить. «Но как сказать об этом матери? Ведь ей он так нравится. Она подарила мне его на день рождения». Он знал, что мать не поймет, скажет, что ему просто завидуют, а то еще начнет узнавать, кто дразнит его Американцем, и ребята подумают, что Алешка нажаловался. А этого он боялся больше всего. «Нет, лучше ничего не говорить, а просто не надевать, и все». Прошел час, другой. Алешка продолжал сидеть в своей комнате, склонившись над книгой, но мысли его были далеки от сюжета приключенческого романа. «Как же все-таки быть? — думал он.— Не надевать — просто не получается. Может быть, рассказать?.. Нет, лучше что-нибудь придумать. Но что?» На приглашение ужинать он ответил молчанием. Тогда мать с силой толкнула дверь, но ее надежно держала металлическая защелка. — Открой! Открой сейчас же! — громко сказала она, потрясая дверь. — Я не буду ужинать,— услышала она Алешкин голос,— и дверь не открою. — Тогда я ее сломаю! — почти уже кричала мать. — Не кричи, не кричи, мама,— выбежала из другой комнаты Маринка.— Не ругай Алешу! Я свяжу ему другой свитер... Не американский... И ребята перестанут его дразнить... Только ты меня научишь вязать? Научишь, мама? Она держала в одной руке наполовину распущенный свитер, а в другой — перепутанные нитки.
КЛЮЧ НА «ДЕВЯТЬ»
Если смотреть с большака на поля этого совхоза, то с одной стороны они далеко уходят к горизонту, а с другой — касаются тонкой полоски леса. По утрам леса не видно. Туман плотно застилает его, оставляя видимыми лишь смутные очертания домов центральной усадьбы. Когда поднимается солнце, поля расцвечиваются, отделяясь от горизонта своими яркими красками: зелеными, желтыми, оранжевыми. Они как бы вбирают в себя падающий сверху золотой свет и отражают его так, как им хочется. Если полей касается легкий ветерок, они кажутся живыми и беспокойными, беспрестанно играющими своими красками. Витька летом всегда живет здесь у деда. Родители привозят его из Москвы весной, а увозят, когда становится совсем холодно. Дед Витьки — шофер. Он часто брал его с собой на работу. Обычно они приезжали на совхозный двор, им загружали машину и отправляли по хозяйствам. Иногда дед сворачивал в лес и, отъехав совсем немного, останавливался. — Ты погуляй здесь неподалеку,— говорил он, — а я повожусь с мотором. Барахлит что-то опять... Витька выпрыгивал из кабины и уходил недалеко, как ему велели. А потом он слышал, как сигналил дед, и они опять выезжали на дорогу. — Ой сколько бензину вытекло! — удивился однажды Витька, увидав под машиной сверкающую лужу.— Как же мы теперь поедем? — Это не бензин,— отвечал дед,— это... отработанное масло. Собрание заканчивалось. Через открытые окна до Витьки, поджидавшего деда у правления, донесся его громкий голос: — А ты видел, что я бензин сливал? Затем, размахивая руками, дед вместе с высоким усатым дядькой появился на крыльце. Дед наседал: — Ты видел, видел? — Видел,— спокойно ответил дядька.— Нехорошо это. Хочешь иметь длинный рубль, работай честно... А так нехорошо... Вокруг собрались люди. Витька насторожился. Он подошел ближе, пытаясь понять, что происходит. — У тебя только на спидометре километраж был накручен, а колеса отдыхали вместе с тобой,— продолжал горячиться усатый.— Да вот и внучонка твой подтвердит,— добавил он, увидев Витьку, и обратился к нему: —Сливал твой дедуля в лесу бензин? — Не тронь мальца! — грозно сказал дед.— Он не только что разговаривать с тобой — стороной обходить будет. Это я ему накажу.— И тут же обратился к внуку:—Слышишь, Витька? Запомни этого дядю... Обходи его всегда стороной. Чужой он для нас с тобой человек. Одним словом, недруг. Собравшиеся не поддержали деда: — Да брось ты, Калиныч! Зачем парнишку-то впутывать! Сам же говорил, не тронь мальца! — раздавались голоса. — Нет, пусть слышит и знает, какие бывают люди,— оправдывался дед. Однако где-то внутри понимал, что был не прав и что впутывать Витьку в это дело действительно не следовало бы. Но было уже поздно, и дед стоял на своем. Не мог же он теперь согласиться с тем, что сделал неправильно? «Так они эдак и про бензин подумают, что я его сливал,— размышлял дед.— Им только уступи...»Почему Витька в тот день пошел с речки другой дорогой, он и сам не знал. Ему никогда не нравилось ходить через лощину. Это низкое место с небольшими пригорками и буйно разросшейся зеленью всегда было каким-то мрачным, сырым и неприветливым. Рассказывали, что здесь водились даже привидения. Но в привидения Витька не верил, тем более что никогда не видел их, и потому считал все это бабушкиными сказками. Но лощина ему не нравилась. И если через нее и ходил, то только для того, чтобы сократить расстояние, хотя торопиться ему всегда, в общем-то, было некуда.
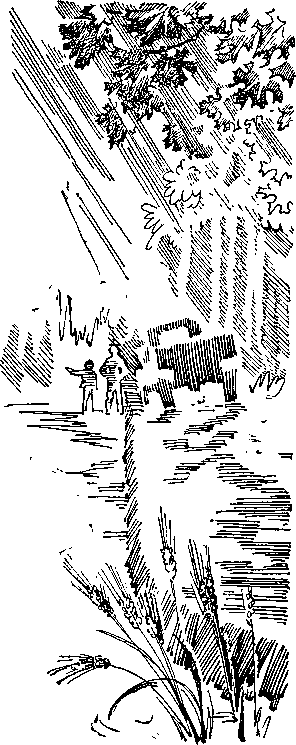
Поднявшись на пригорок, он увидел большую машину. Она стояла с поднятым капотом. Но Витьке представилось, что это раскрытая пасть какого-то чудовищного дракона. Вскинув, как копье, удочку, он устремился ему навстречу. — Ты откуда взялся? — вышел из-за машины высокий усатый дядька в резиновом фартуке. Витька сразу его узнал. «Как же так? — испугался он.— Дед велел обходить его стороной, а я, получается, сам к нему вышел...» — Как это я не догадался взять с собой «девятый»?— сказал вслух дядька, уже не обращая внимания на Витьку. Витька знал, что «девятый» — это определенного размера гаечный ключ. У деда был такой, и Витька даже знал, где он лежит в сарае. — А вы сходите в деревню, здесь близко,— посоветовал он дядьке. — Не могу, у меня груз,— ответил тот. Витька посмотрел на забитый мешками кузов. — Вот незадача! Ждут меня там, а я здесь загораю,— добавил дядька и вновь озабоченно наклонился к радиатору. Витька видел, как сильно напряглись его мышцы и как крупными каплями выступил на лице пот. «Ничего тут у него неполучится без ключа»,— подумал он. Витька постоял еще немного, а потом, повернувшись, побежал в деревню. Через несколько минут он вернулся, запыхавшийся, и протянул дядьке «девятый». Когда Витькин дед узнал об этой истории, он был очень недоволен. — Нельзя, нельзя так, внучек,— выговаривал он ему вечером, после ужина, когда они остались одни. — А что нельзя, деда? — Нельзя,— повторил он,— ведь мы же с тобой родные... А ты подвел меня, поступил, как чужой. Знай, внучек,— прав я или не прав — стой за меня... И если я тебе что-то велел, делай так, как сказал. Говорю тебе еще раз, ведь мы с тобой родные... А как ты поступил — так негоже. Обидел ты своего деда. Ну да ладно... Только не делай так больше. Пошли спать... В эту ночь Витька долго не мог заснуть. Все вспоминал свою встречу с дядькой, разговор с дедом, его слова, сказанные им тогда у правления: «Чужой он для нас с тобой человек... Обходи его всегда стороной...» «Ну, я бы и обошел,— думал Витька,— если бы у него машина не сломалась... А так как же обходить-то, ведь он груз вез?.. И чего деда ругается?..»
МАРКА ИЗ АНГОЛЫ
Стояла осень. Похудевшие деревья переливали золотом оставшуюся на ветвях листву и, казалось, гордились ею перед солнцем, еще довольно щедро посылавшим на землю свет и тепло. Некоторые из них были уже совсем прозрачными и четко обозначали свои серые сучья. Трава, хотя и мокрая, но потерявшая свою прежнюю свежесть и какая-то измельченная, высовывалась небольшими островками среди сплошного хрустящего покрова. Она как бы спорила с осенью, не хотела ей уступать и напоминала о лете, которое теперь вернется только через дожди и снега. Воздух был почти осязаем. Может быть, потому, что было утро и остывшая за ночь земля еще дышала своей прохладой, а может быть, и по той причине, что на улице уже была середина октября. Аркашка ходил в школу мимо парка. Ему было нужно только выйти из двора, пересечь трамвайную линию, миновать площадь, и дальше его путь шел вдоль высокой ограды парка. Иногда Аркашка держал путь прямо через парк. Проходил сквозь металлические перила входа, неизменно смотря на «чертово колесо», которое в это время года уже не работало, и шел тоже вдоль ограды, но с другой стороны. Висящие люльки колеса отчетливо вырисовывались на фоне неба. Причем от погоды это не зависело. Было ли солнце или лил дождь, их контуры всегда отпечатывались в вышине, как гроздья винограда, привязанные к огромному неподвижному кругу. Проходя через парк, Аркашка всегда собирал здесь красивые листья, но не только красивые, а те, которые на что-то похожи. Ну, скажем, на какую-нибудь птицу, каракатицу, яблоко или грушу. Вообще-то он любит собирать всякую всячину, и особенно марки. Теперь у него их много, А начал он их коллекционировать только в этом году, когда ему подарили в пионерском лагере за активное участие в художественной самодеятельности кожаный кошелек для марок. Пионервожатый Толя тогда так и сказал на линейке : — Пионер Аркадий Сазонов за активное участие в художественной самодеятельности награждается кожаным кляссером. «Чем-чем?»—не понял тогда Аркашка, но вышел вперед и под аплодисменты присутствующих и нестройные звуки баяна, исполняющего туш, направился к трибуне. Он тогда и не знал, что кляссер — это небольшой кошелек (по-другому его, пожалуй, и не назовешь), в который кладут марки, чтобы они не мялись и не портились, а были бы такими же гладкими и чистыми, как в альбоме. Теперь Аркашка знает, что такое кляссер, и сам часто говорит это слово. Первая марка, которую Аркашка положил в свой кляссер, была марка, подаренная ему дядей Митей, братом отца. В тот день, когда Аркашка приехал после смены из пионерского лагеря, дядя Митя был у них дома. — А, поворотись, сынку!..— начал он шутливо, припомнив то место из известной повести Гоголя, где Тарас Бульба встречает своих сыновей, и, перефразируя текст классика, еще веселее добавил: — Какой ты большой стал! И где же есть такие пионерские лагеря, чтобы там так мальчики вырастали?! Дядя Митя был военный пенсионер. У него не было детей, как не было и жены. Вернее, она когда-то была, но в самом начале войны ушла вслед за ним на фронт и больше не вернулась. Поэтому всегда казалось, что свое несостоявшееся семейное счастье дядя Митя находил теперь далеким отголоском в семье младшего брата, где был всегда желанным гостем. Особенно он привязался к Аркашке. Он был очень благодарен его родителям за то, что они именно так назвали мальчика, потому что Лида, его жена, всегда говорила: если у них родится сын, они обязательно дадут ему имя Аркадий... Портрет Лиды в светлой ореховой рамке висел у него дома над письменным столом. Молодая веселая женщина, скорее, еще девушка с заметными точками-ямочками на щеках и умными глазами смотрела из-за стекла и как бы спрашивала: «Ну, как тут у вас? Все хорошо?» Никто не знал, как она погибла. Рассказывали, что ушла на задание, а через два дня в освобожденном от немцев лесу ее нашли мертвой. Яркое пятно на гимнастерке отметило ее смерть. Стреляли в спину и, очевидно, неожиданно, потому что ее заряженный браунинг так и остался лежать в кобуре. Аркашка тоже любил дядю Митю. С ним ему всегда было интересно и весело, как на празднике. Только иногда дядя Митя становился каким-то серьезным и молчаливым, хмурил брови и сердито кашлял. Особенно Аркашка запомнил тот случай, когда они однажды, гуляя по Александровскому саду, подошли к могиле Неизвестного солдата... Было лето. Стоял жаркий полдень, и пламя огня таяло в нагретом воздухе, забирая широкий красноватый поток с самого центра звезды. — «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен»,— негромко прочитал вслух Аркашка. Дядя Митя как будто его не слушал. Он сосредоточенно смотрел на неширокое углубление, выложенное черным полированным мрамором, и молчал. Прошла минута, вторая... Аркашке показалось это целой вечностью, а дядя Митя все стоял и стоял, смотря в одну точку. — Дядя Митя... Что ты? — испугался тогда Аркашка и дотронулся рукой до его холодной ладони.— Пойдем... — Подожди, Аркадий,— сказал дядя Митя,— постоим еще немного. Ведь это место памяти... Он хотел еще что-то сказать, но закашлялся. Посмотрел на Аркашку из-за хмурых бровей и снова перевел взгляд на полированный мрамор. В тот день он почти больше не разговаривал. ...Закончив встречную тираду и вдоволь наудивлявшись тем, как Аркашка подрос за лето, что особенно было приятно мальчику, дядя Митя деловито спросил: — Ну, что нового у тебя произошло? — Кляссер получил за самодеятельность! — выпалил Аркашка и пожалел, потому что ехидная Ирина, его сестра, которая уже училась в девятом классе, тут же проявила к этому повышенный интерес. — За что? За что? — улыбнулась она одними глазами.— За самодеятельность? Ты у нас, оказывается, артист, а мы и не знали... И что же ты делал? Пел? Танцевал? А может быть, фокусы показывал? A-а, ты отливал на сцене пули...— И она залилась громким смехом. На помощь пришла мать. Она прикрикнула на Ирину и даже погрозила ей пальцем: — А что? Только ты, что ли, можешь выступать со сцены? Аркадий сумел же! Так что не гордись... Дядя Митя тоже протянул ему руку помощи: — Выступать, брат, это дело сложное. Не каждый из ребят умеет... Вот девочкам, тем легче. Они любят быть в центре внимания... Но Аркашке самому захотелось проучить свою самоуверенную сестрицу. Выждав момент, когда в комнате наступила тишина, он обратился к Ирине: — А ты знаешь, что такое кляссер? — Кляссер? — переспросила она, и поскольку не знала, то ответила: —Ерунда какая-нибудь... — А вот и не знаешь! — восторжествовал Аркашка.— Не знаешь и потому говоришь «ерунда»! Вот так-то! Он даже причмокнул от удовольствия языком — так ему было хорошо в эту минуту — и с достоинством достал из чемодана кошелек для марок. — Вот кляссер,— поднял он его над головой. — Молодец! Правильно, Аркадий,— отозвался дядя Митя.— Дави их, эрудитов! Все засмеялись, а когда смех закончился, дядя Митя взял у Аркашки кляссер и открыл его кожаные корочки. Внутри было пусто, как в новой тетради, которую только что купили. — Ну а где же марки? — спросил он Аркашку. — Марок нет еще... Дядя Митя почему-то задумался, а потом как-то серьезно произнес: — Придется подарить тебе первую. Приезжай ко мне в следующее воскресенье, и марка будет твоя... Это была неновая, сильно потертая испанская марка, так что даже сразу было трудно сказать, что на ней изображено: не то цветы, не то еще что-то. — Бери,— сказал дядя Митя, когда Аркашка приехал к нему домой,— дарю тебе эту марку. Я всю жизнь с ней прошел... И дядя Митя стал рассказывать Аркашке, что, когда он был мальчишкой, они с приятелями организовали у себя во дворе на Красной Пресне отряд честных и справедливых — ОЧИС. — В отряде устав был свой и клятва: «Клянусь всегда быть честным и справедливым, всегда бороться за правду и всегда быть готовым поехать в Испанию»,— почти торжественно произнес дядя Митя.— Вот какая у нас была клятва! — А почему в Испанию? — спросил Аркашка. — Тогда все хотели в Испанию ехать. В Испании шла война с фашистами. Читал, наверное? Аркашка кивнул головой. — Так вот. Все мальчишки мечтали тогда об Испании. И в качестве членского билета ОЧИСа у каждого из нас была испанская марка. А когда ребята с нашего двора уходили в сорок первом на фронт, договорились мы взять с собой испанские марки и дали друг другу слово после окончания войны собраться вместе на отрядный сбор ОЧИСа. — И собрались все? — спросил Аркашка. — Собрались... Только не все. Но марки были у всех оставшихся в живых... Помню, пришли мы тогда в тот старый разрушенный сарай во дворе, который был штабом ОЧИСа. Удивительно, как он еще сохранился во время войны,— невесело улыбнулся дядя Митя.— Помолчали, вспоминая тех, кого с нами нет, и свою ребячью клятву повторили: «Клянусь всегда быть честным и справедливым, всегда бороться за правду...» — А отец мой был в ОЧИСе? — спросил его Аркашка. — Нет, что ты! — опять улыбнулся дядя Митя.— Отец твой тогда был еще очень маленьким. Ходить только начинал... Вот тетя Лида была...— Он посмотрел на висящий над письменным столом портрет и добавил: — У нас с ней были одинаковые испанские марки... Не помню уж, где мы их достали, но только помню, что одинаковые... Тетя Лида жила в нашем дворе, заводила была и везде первая... Она только потом, когда уже была старше, изменилась — серьезной стала... Но веселый характер не пропал. Дядя Митя еще раз взглянул на портрет жены, как бы ища подтверждения своим словам, но Аркашка верил и так. — А дрались вы с ребятами? — задал он неожиданный вопрос. — Бывало... А как же иначе? Мальчишки всегда этим занимались... Но вдаваться в подробности дядя Митя не стал. Были у них другие меры воздействия, посерьезней. Самым страшным в ОЧИСе проступком считалась ложь. — Уличат, бывало, кого-нибудь во вранье,— говорил он,— испанскую марку отбирают, а то и из отряда выгоняют. Вранье, брат, считалось у нас преступлением... Что бы там ни было, говори всегда правду. Правду поймут... И простят, если ошибся... — Давай съездим с тобой как-нибудь в ваш старый двор,— предложил Аркашка. — Давай,— согласился дядя Митя и, помолчав, с грустью вздохнул: — Только вряд ли там теперь что-то осталось. Дом, в котором мы жили, давно снесли. На его месте построили новый, пятиэтажный... — А сарай остался? — Ну, что ты! Сарая тоже давно уже нет. А вот садик остался. — Какой садик? — Который мы с ребятами сажали... Через неделю они приехали на Красную Пресню. Выйдя из метро, увидели на другой стороне много народу, особенно ребят. — Сколько помню,— сказал дядя Митя,— здесь всегда толпились люди. Зоопарк у нас любят... — А вы ходили с ребятами в зоопарк? — спросил Аркашка. — А как же? Многие здесь даже в разных кружках занимались. Я уж сейчас не помню, как они назывались, но кажется, «Юные друзья животных». Рассказывая Аркашке о довоенной жизни, он, казалось, дарил ему свое ясное отрочество и был при этом предельно сосредоточен и даже немного печален, потому что знал: никогда уже больше не вернется та полная больше надежд, чем благополучия, но именно оттого и счастливая пора. Они свернули за угол и прошли улицу молча. — А ты знаешь,— обратился дядя Митя к Аркашке,— почему Красная Пресня называется Красной Пресней? — Нет. — Ну, почему Пресня, я и сам не знаю,— откровенно признался дядя Митя,— а вот почему Красная, мне известно. В 1905 году в Москве восстание было против царя,— начал он.— А в этом районе жило много рабочих, поэтому и бои здесь были против царских войск жестокие. Но силы были, конечно, неравные. У рабочих-то что?.. Дубины да булыжники... Ну, были, конечно, ружья, наганы... Но все равно. Разве они могли устоять против регулярной армии? Восстание было подавлено, а в память о событиях на Пресне район был назван Красной Пресней. Я еще помню стариков, которые жили у нас во дворе и рассказывали нам о том восстании,— задумался дядя Митя.— Справедливые такие были старики... И нас, пацанов, очень любили... Они подошли к линейкам пятиэтажных домов, смотрящих окнами друг на друга, и остановились. — Вот здесь и начинались наши «владения»,— сказал, подняв руку, дядя Митя.— А дом наш стоял вон там... Он сделал несколько шагов вперед, как бы увлекая Аркашку в мир дорогих ему воспоминаний, и пошел по неширокому асфальту, отделяющему серой лентой ровный бобрик кустов от подъездов. В самом конце дома они опять остановились. — Вот здесь сарай стоял, о котором я тебе рассказывал,— кивнул в сторону дядя Митя.— Видишь, где большие тополя... А там был дом, где жила тетя Лида. Да какой, впрочем, это был дом? — поправился он.— Барак какой-то стоял, да и только... Он подошел к тополям, дотронулся рукой до одного из них и долго гладил его черную сухую кору. «А этот тополь,— подумал Аркашка, когда шел в то утро в школу через парк,— почти такой же, как во дворе на Красной Пресне...» Он остановился, погладил, как дядя Митя, его сухую кору, поднял лист, удивительно напоминающий небольшого мышонка, окрашенного в золотую краску, вложил его в какой-то учебник (кажется, это была «География») и, пролезая через сломанные прутья железной ограды, заторопился на другую сторону улицы к большому четырехэтажному зданию, сложенному из красного кирпича. Войдя в школу, он увидел на стене, рядом с зеркалом, объявление. «Внимание! — гласил его текст.— В субботу после уроков состоится воскресник по уборке территории школы. Явка всех учащихся строго обязательна. Комитет комсомола и совет дружины». «Ну вот,— подумал Аркашка,— а в субботу мы договаривались с дядей Митей в музей пойти. Не могли уж воскресник сделать в воскресенье!..» И тут вдруг Аркашке стало весело. Он задумался над текстом объявления, над тем, что воскресник состоится в субботу. «Как это? Воскресник в субботу?..»— почти засмеялся он и хотел уже было и впрямь рассмеяться вслух и даже обернулся по сторонам, чтобы увидеть кого-нибудь из знакомых, но тут зазвонил звонок. Первым уроком была алгебра. Василий Терентьевич, преподаватель математики, человек резкий и порой даже суровый, вошел в класс с журналом под мышкой, держа в этой же руке свою старую вместительную папку. Он положил все это, как всегда, на стол и, отойдя к окну, обратился к классу: — Ну, разобрались с заданием? Все молчали, очевидно не рискуя хоть чем-то обратить на себя внимание. Василия Терентьевича в школе боялись и уважали. Боялись, наверное, за его характер, строгость, а уважали за то, что он отлично знал свой предмет и любил его преподавать. Это отношение к Василию Терентьевичу переходило от класса к классу. Его таким знали в школе все, даже те, которых он не учил. Подойдя к столу, Василий Терентьевич открыл классный журнал и, склонившись над ним с ручкой, начал «цедить». «Цедить» ребята называли тот момент, когда учитель искал по журналу, кого бы вызвать к доске. — Куркин,— произнес наконец Василий Терентьевич. Класс облегченно вздохнул. — К доске,— не поднимая головы, добавил математик и, не садясь на стул, начал что-то писать в правой стороне журнала, наверно, тему урока. Петя Куркин, рослый второгодник, всегда с ярким румянцем на щеках, неторопливо вышел к доске и, ожидая, что сейчас ему понадобится что-то писать, начал искать мел. Но мела не было ни на ровной, как линейка, прибитой к доске длинной рейке, ни под тряпкой. — Мела нет, Василий Терентьевич...— негромко, как бы с досадой произнес Куркин, подсознательно ожидая, что его положение вызванного к доске может измениться. — Сейчас... Я сбегаю...— все так же не отрываясь от журнала, произнес Василий Терентьевич, и класс захихикал.— Дежурные,— поднял голову математик,— за мелом, быстро! Когда принесли мел, Петя Куркин уже сидел на своем месте, еще больше раскрасневшись, а у доски стояла Верочка Карасева. Эту маленькую остроглазую девочку с торчащими косичками-хвостиками все звали в классе просто Верочка. И не потому, что это было ее прозвище и намек на ее внешность или для какого-то еще унижения, что так часто бывает у ребят, а просто потому, что по-другому ее было и нельзя назвать. Верочка, и все тут! Сначала ей это не нравилось, а потом привыкла. Урок продолжался. Очередной вызванный решал у доски задачу, а класс должен был следить за ходом решения. — Неправильно,— говорил изредка Василий Терентьевич и, обращаясь к ребятам, спрашивал: — Кто поможет? Но руки поднимались неохотно. И тут вдруг Василий Терентьевич что-то заметил. Он прошел по ряду, как бы убеждаясь, не ошибается ли, а потом подошел к окну и, повернувшись к его прозрачному стеклу, негромко произнес: — Сазонов! Вам все понятно в задачах? — Да! — подняв голову, поспешно ответил Аркашка. — То-то я и вижу, вы все так хорошо поняли, что даже начали книжки читать на моих уроках... «Как это он заметил?»—мелькнула мысль, но нужно было как-то выходить из положения. — Это же мелочь! — сказал он первое, что пришло ему на ум, и задвинул большую книгу в стол так, что она глухо ударилась о фанерную стенку. — Хороша мелочь! — не повышая голоса, продолжал на той же ноте Василий Терентьевич.— Полстола занимает! На сей раз в классе раздался дружный хохот. До конца урока Аркашка сидел, внимательно смотря на доску, и слушал все, о чем бы ни говорилось. Он даже два раза поднял руку, когда Василий Терентьевич обратился к классу со своим вопросом: «Кто поможет?» — но тот его не вызвал. Когда прозвенел звонок, Аркашка бережно убрал «Кондуит и Швамбранию» в свой ранец и вышел в коридор. Там уже пихались. Но Аркашка не присоединился к беспорядочно колышущейся толпе, а пошел на лестницу, намереваясь спуститься в вестибюль, хотя дел там у него никаких не было. Просто не хотел быть с ребятами из своего класса. Он вспомнил, как они несколько минут назад смеялись, когда Василий Терентьевич сделал ему замечание. Проходя мимо буфета, увидел у его дверей Герку, которого плотно окружили ребята. Герка что-то показывал, подняв локти и держа их у самой груди. — Что там? — протиснувшись в кольцо, спросил Аркашка. — Ангольская марка! — коротко бросил, взглянув на него, Серегин.— Настоящая ангольская марка! — Подумаешь, у меня тоже есть...— сказал Аркашка, не ожидая никакой реакции ребят. — Есть? — удивленно посмотрели они и даже расступились, оставив его с Геркой напротив друг друга. «Почему я тогда так сказал?» — думал потом много раз Аркашка и не находил ответа. Нет, вруном он никогда не был и хвальбой тоже. Просто сказал вот так, и все. А может быть, у него было тогда плохое настроение?.. Но какое может иметь отношение к плохому настроению то, что иногда люди говорят неправду? Однако, как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь, и, сказав «а», говори «б»... Аркашке ничего не оставалось делать, как упорствовать в своей нечаянной лжи. А что же? Сказать, что пошутил, отступить, значит? Тогда ребята снова наградили бы его смехом. Но этот смех был бы уже совсем другой, чем тот, в классе, когда он читал книгу. «Не надо бы мне говорить, что у меня есть марка»,— все-таки подумал он тогда под пристальными взглядами ребят, но было уже поздно. — Конечно, есть! И, посмотрев на марку, которую ему с готовностью протянул Герка, с каким-то отпетым отчаянием, будто в холодную воду прыгал, так и брякнул: — Даже лучше этой!.. — Покажи! — Дома. Завтра принесу. Но на другой день никакой марки Аркашка не принес. Не принес он ее ни на третий, ни на четвертый. ...А листьев на деревьях уже почти не осталось. Солнце теперь выглядывало редко и совсем не грело. Хрустящий покров парка напрочь спрятал траву и расстелился желто-коричневым одеялом, плотно окружая золотистыми кучками листьев подножия тополей. Воздух уже стал по утрам прохладным и даже был виден перед глазами, если постараться сильно выдохнуть из себя. Подступал ноябрь. Аркашка все так же ходил в школу через парк. И хотя он больше уже не собирал здесь похожие на что-нибудь листья, все же нет-нет да и наклонялся к земле, рассматривая причудливость их изображений. Но листьев не брал — они были мокрыми. — Ну, где же твоя Ангола? — спросил его как-то после уроков Герка. — Где-где! — огрызнулся Аркашка.— Дома, говорят тебе. Забываю все принести. — Ну-ну...— протянул тот.— Подождем, пока принесешь... Но если бы Герка знал, как мучился Аркашка, он, наверное, не стал бы его спрашивать о марке, а сделал бы вид, что забыл. Ведь ребята добрые, и если они чего-то друг другу не прощают, то только из-за справедливости. Но они никогда не будут мстить, обнаружив искренние переживания; они никогда не будут смеяться, зная, что человек мучается. А Аркашка мучился. Он просто не находил себе места. «Как же так я скажу ребятам, что у меня нет Анголы? Смеяться ведь будут... Задразнят... Нет, надо найти марку во что бы то ни стало. Достать где угодно. И непременно показать ребятам, а особенно этому Герке...» Во всех магазинах, куда он ни заходил, ему отвечали, что марок Анголы нет. Чего только Аркашка не был готов обменять за желанную Анголу — всю Южную Африку, Новую Зеландию. Он отдал бы даже Аргентину вместе с Танзанией. Но Анголы нигде не было. И тогда Аркашка подумал: «Может быть, написать туда письмо?» Он достал из шкафа толстый энциклопедический словарь, открыл его на букве «а», отыскал слово «Ангола» и прочитал: «Ангола (Angola) — страна в Африке, колония Португалии...» «Колония... — задумался Аркашка.— А разве можно писать письмо в колонию? Ведь там угнетенный народ... А письмо обязательно попадет к угнетателям...» Он даже представил себе такого толстого дядьку с плеткой в руках и в коротких штанах, совсем таких, какие носил он, Аркашка, когда еще не ходил в школу; как этот дядька берет в руки его письмо и, узнав, что оно от пионера из Советского Союза, рвет его или кладет на стол и долго бьет плеткой по конверту. «Нет, письмо туда писать нельзя,— твердо решил Аркашка.— Но что же делать? Что?» А в школе Герка все продолжал спрашивать Аркашку о марке. — Ну, что же? Где твоя Ангола? — не унимался он. А один раз, выждав перед началом уроков, чтобы в классе собрались почти все, громко объявил: — Аркашка все наврал! Нет у него никакой Анголы! А если и есть марка, то какая-нибудь задрипанная американская или испанская... И тут случилось неожиданное. Услышав про свою испанскую марку, Аркашка в два прыжка оказался рядом с Геркой. Тот не ожидал этого, но быстро собрался и, приготовившись к обороне, толкнул Аркашку в плечо: — Ты чего это? Но Аркашка что было сил навалился на Герку, прижал его к полу и начал бить. Герка, казалось, не сопротивлялся, а только хрипел. Однако, изловчившись, он сильно ударил Аркашку ногой в живот, так, что тот отлетел к столу, где сидела Верочка. — Ой! — покрывая общее возбуждение класса, завизжала она. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в класс не вошла Майя Семеновна, преподавательница русского языка. — Ой! — еще сильнее, чем Верочка, завизжала она, но это как раз и остановило всех, в том числе Герку и Аркадия. Поднимаясь с пола, они глянули друг на друга, понимая, что теперь оба друзья по несчастью, и, повернувшись к Майе Семеновне, пыхтя, стали ждать приговора. У Герки из носу текла кровь. — Сейчас же выйдите и умойтесь,— начала учительница.— А потом... потом ступайте к директору и расскажите, что случилось... К концу пятого урока в школу не пришел, а, скорее, прилетел Теркин папа. Классу было велено остаться. — Будет собрание,— объявила староста Пятакова.— Прорабатывать Сазонова будем... — А почему только Сазонова? — спросил кто-то.— Ведь они оба дрались... — Не знаю. Так сказали... В класс вошли Майя Семеновна, директор и Теркин папа, который вел своего сына за руку. — Вы посмотрите, посмотрите, как у него нос распух,— начал он еще от дверей демонстрировать Герку.— Ведь это варварство — так бить человека. Это же хулиганство... — Ну, за хулиганство судят... А за это Аркашку судить не будут,— раздался голос с задней парты. — Куркин! Помолчи! — властно прервал его директор.— Слушай лучше! И Куркин, буркнув что-то веселое своему соседу, замолчал. А Теркин отец все говорил и говорил. Он рассказывал совершенно невероятные сказки, будто когда он, Анатолий Петрович Листовский, был в таком же возрасте, как они, то никогда не дрался, что тогда вообще мальчишки не дрались, а были очень примерными и воспитанными и что драться — это нехорошо. В конце своей речи он опять вернулся к Геркиному носу и заметил: — Сазонов искалечил моего сына. Вот смотрите, как у него нос распух... — Но у Сазонова ведь тоже синяк не на спине,— вставил опять Куркин. Но на этот раз директор его не перебил. Он так же, как и все, взглянул на Аркашку и, как бы действительно убедившись, что синяк не на спине, а под глазом, вышел вперед и начал говорить. Он тоже говорил долго, а потом еще выступила и Майя Семеновна. Когда собрание закончилось и все вышли из класса, директор остался с Аркадием один на один. — Ну, расскажи мне, за что ты так налетел на Листовского? Почему появилась у тебя к нему такая ненависть? Из-за марки, как говорят? Нет, я этому никогда не поверю... Но Аркадий молчал. Он молчал и тогда, когда директор пригрозил ему четверкой по поведению за полугодие, и тогда, когда сказал, что поставит вопрос об исключении его из школы. Не помогало ничего. Аркашка молчал, как камень. — Ну, вот что,— произнес директор в заключение.— Завтра в школу без родителей не приходи. — А у меня отец в командировке. — Тогда пусть придет мать... После школы Аркашка поехал прямо к дяде Мите. Почему он так сделал? Отец его действительно был в командировке, а матери говорить, что ее вызывают в школу, не хотел. Он знал, что дядя Митя ему поможет. И дядя Митя помог бы ему обязательно, если бы он рассказал ему всю правду. Вообще-то Аркашка ничего не утаил — не сказал только, из-за чего началась драка. И уж, конечно, промолчал об истории с ангольской маркой. А вот этого как раз делать-то было и не нужно, потому что, как часто бывает, одна неприятность, если с ней не разделаться, ведет за собой другую. Так это случилось и в этот раз, хотя все так хорошо началось... Договорившись с дядей Митей, что он назавтра придет к нему в школу, Аркашка, не заезжая домой, решил заглянуть в магазин «Филателия». «Может быть, будет там Ангола на этот раз»,— подумал он. Но марки не оказалось. Уже выходя из магазина, Аркашка увидел у дверей высокого парня в ярком шерстяном шарфе. — Тебе что, Ангола нужна? — толкнул его тот плечом. Аркашка кивнул головой. — Пошли... На улице парень вытащил из кармана кусочек картона, обтянутый пленкой, и показал ему. У Аркашки захватило дух. Это была Ангола. Желтые, голубые, оранжевые квадратики так и поблескивали на ладони парня. Однако стоили они у «продавца» дорого, и денег у Аркашки не хватило. Тогда он, не раздумывая, вытащил кожаный кляссер и протянул его парню. Тот прямо-таки выхватил Аркашкино богатство. В троллейбусе по дороге домой Аркашка не мог налюбоваться марками. Он так и держал их перед собой озябшими пальцами, не надевая перчаток,— боялся, что испачкает целлофановую обертку или еще (не дай бог!) помнет. Изображавшие какие-то африканские деревья, марки казались ему самыми красивыми на свете. Он даже представил себе, как шумят эти деревья от дуновения жаркого африканского ветра. «Ветра? — подумал Аркашка.— А может быть, его там не бывает? Ведь это не наш климат. Это не Европа... Не Франция... Не Испания...» И тут вдруг Аркашка вспомнил, что забыл вытащить из кляссера, который отдал парню, ту старую испанскую марку — подарок дяди Мити. «Надо бежать к магазину,— искрой мелькнула у него мысль.— Найти этого парня... Обязательно найти... И во что бы то ни стало забрать у него испанскую марку... А вдруг парня уже там нет?..» Аркашка пересел на троллейбус, который шел к магазину, и через несколько минут уже был у «Филателии». А что толку — парня там не было. Аркашка ждал его долго. Все надеялся, что вот-вот покажется яркий шерстяной шарф и плащ. Но когда двери магазина стали закрывать, он окончательно понял, что парня больше не увидит. На другой день Аркашка шел в школу не через парк, а рядом с его оградой по мокрому тротуару. Деревья за ней уже стояли голыми, растопырив во все стороны свои острые сучья. Земля посерела, перемешав мелкой грязью еще видневшиеся листья. Воздух стал уже совсем холодным, и небо, тяжелое и низкое, было совсем без облаков. Оно покрыло сплошной непрозрачной пеленой все пространство и посылало на землю мелкую изморозь. Аркашка остановился у ограды. Он вспомнил, как собирал здесь листья, вспомнил и художественную самодеятельность в пионерском лагере, Красную Пресню, дядю Митю...
«А что, если рассказать ребятам всю правду, как в ОЧИСе,— решил он, но задумался.— Простят ли они меня? Наверно, простят, потому что в ОЧИСе всегда прощали... Вообще, нужно говорить правду»,— продолжал думать он и в эту минуту, может быть, решил для себя навсегда, что теперь будет говорить только правду. Потом он вытащил из кармана картонку с марками, взглянул еще раз на блестящие квадратики, скрытые под целлофаном, и далеко зашвырнул ее за прутья ограды. Как и условились, они встретились у школы. Аркашка пошел в свой класс, а дядя Митя направился в кабинет к директору. Уроки в этот день тянулись ужасно долго, а когда прозвенел последний звонок, Аркашка опрометью бросился в раздевалку. Наскоро набросив на плечи куртку, он устремился к двери, чтобы позвонить дяде Мите. Так они договорились. Но когда Аркашка уже взялся за ручку и хотел толкнуть ее от себя, услышал свою фамилию. — Сазонов! — по вестибюлю шла старшая пионервожатая школы Рита. Ее остренькие каблучки так и звенели по каменному полу. — Куда это ты так торопишься? А ну-ка вернись! Убежать захотел? — Ничего я не захотел,— растерянно ответил ничего не понимающий Аркашка. — Как не захотел? Я в класс, а его уже след простыл... Сейчас же зайди в пионерскую комнату. — Зачем? — Зайди, тебя просят,— сказала со значением Рита.— Там поговорим. Когда Аркашка вошел в пионерскую, он увидел Герку и еще нескольких ребят из старших классов, которых часто видел в школе, но не знал. — Ну? — строго начала Рита, садясь за свой небольшой столик.— Признавайтесь, голубчики, кто из вас это сделал? Аркашка пожал плечами и переспросил: — Что сделал? — Уж будто бы и не знаете...— как-то зло улыбнулась вожатая, что никак не шло к ее приветливому, доброму лицу, наполовину обрамленному золотистыми кудряшками. — Вот полюбуйтесь еще раз,— показала она рукой на стенгазету, стоящую сейчас здесь, в пионерской комнате, на стульях. Взглянув на плотные листочки ватмана, прикрепленные кнопками к деревянной рамке, Аркашка понял, в чем дело. Он и раньше много раз видел школьную газету «За знания», она действительно была интересной и выпускалась довольно необычно. Заметки в ней были сменные. Пройдет, скажем, в школе мероприятие, например пионерский сбор, экскурсия или сбор металлолома, об этом сразу же появляется в газете заметка. И прикрепляется эта заметка к доске кнопками взамен какой-нибудь старой, рассказывающей о том, что уже давно было. Карикатуры и рисунки в газете тоже сменные. Доска, на которую вешаются заметки, карикатуры и рисунки, красочная. Справа нарисован пионер с горном, слева — значок и галстук, а на самом верху выведенное большими буквами название «За знания». Но сейчас газета, которая стояла в пионерской комнате, была испорчена. В ее заглавии предлог «За» был жирно соединен черными чернилами, а может быть, даже и тушью, со словом «знания». К тому же была и исправлена буква «я» на «е» и получалось «Зазнание». — Ну? Узнаете свою работу? — строго продолжала Рита.— Дожили! И покритиковать уже стало нельзя... Их критикуют... а они нет, чтобы исправиться,— раз! Вот вам! Газету испортили! — И Рита резко рассекла ладонью воздух. — Это не мы,— выдавил Герка. — Подожди! — быстро оборвала его Рита.— Ты за себя отвечай. Может быть, и не ты, но вот Сазонов-то молчит. — Да они это сделали,— пропел дискантом чей-то голос.— Кому же еще? До карикатуры на них никто газету не портил. А вот как их нарисовали, так они и решили отомстить. Аркашка только сейчас разглядел нижний рисунок в газете. На нем были изображены какие-то два молодца с огромными кулаками, один из которых наносил другому удар в самый нос. «Это, наверно, я»,— подумал Аркашка и прочитал надпись: «Ученики Сазонов и Листовский перед началом урока подрались». — Я тоже это не делал,— пожал он плечами. — А кто же тогда это сделал? — не унимался все тот же дискант. — Не знаю. — А честное пионерское можешь дать? — Могу... Но только не буду... — Ну вот, значит, это ты и сделал,— отозвался с края стола какой-то парень. — И ничего это не значит! — вскипел Аркашка.— Ничего! Он снова в секунду вспомнил листья, пионерский лагерь, кляссер и ту злополучную картонку с марками, которую зашвырнул сегодня за ограду, и еще горше разобиделся: — Эх, вы! Вы даже и не знаете, что я сегодня дал себе слово... Выйдя из школы, Аркашка очень удивился, увидев на улице дядю Митю. — Ты что здесь? — подошел он к нему.— Мы же договорились, что я тебе буду звонить. — А я так... Думаю, погуляю здесь, тебя подожду, а потом вместе домой пойдем. — А куда домой? — Да куда хочешь,— ответил дядя Митя.— Завтра воскресенье. Хочешь, пойдем к вам, а хочешь, поедем ко мне. — Поедем к тебе. До метро они шли молча. Молча проехали несколько остановок, а когда поднялись наверх, Аркашка не удержался: — Ну, что тебе говорил директор? — Плохо говорил,— не задумываясь, отозвался дядя Митя.— Да и что он мог говорить, если ты и сам знаешь, что нехорошо кулаками своему товарищу силу доказывать. Аркашка насторожился: — Он мне не товарищ. — Как не товарищ? — спокойно рассуждал дядя Митя.— Ты же с ним вместе учишься, в одном классе. — Ну и что? — А потом ты же сам виноват,— продолжал он, как бы не слыша Аркашкиного вопроса.— Первым же заварил кашу, и первым начал всю эту историю... И тогда Аркашка подумал, что дядя Митя прав. Ведь если бы он тогда не сказал, что у него есть марка Анголы, ничего б не было. Не крикнул бы потом Герка перед всем классом, что Аркашка наврал, а значит, не случилось бы и драки, да и дядю Митю не пришлось бы просить приезжать в школу. «А началось все с неправды,— размышлял Аркашка.— Правильно все-таки решил я сегодня». Утро напомнило ему многое, и он, не подбирая никаких слов и ничего не утаивая, рассказал дяде Мите все, как было: и про Герку, и про магазин, и про ту заветную испанскую марку... Дядя Митя слушал его внимательно, не перебивая, только несколько раз кашлянул. — Ну что же мне теперь делать? — посмотрел на него Аркашка, окончив свой рассказ. — Да что же делать? Что можно плохого и хорошего ты уже сделал. Испанской марки ты себя лишил. Ты оплатил ею свою ложь. Ну, за то, что ты чистосердечно признался, в ОЧИСе тебя бы простили. — А как же с маркой? Она ведь там как членский билет. Ответ дяди Мити был совершенно неожиданным: — А теперь членским билетом ОЧИСа будет марка Анголы. Ты напиши туда письмо. — А что писать? И кому? — Как кому? Ангольским ребятам. Ну, надо, конечно, хотя бы коротко рассказать в письме о своей жизни, о том, как живут ребята в Советском Союзе...— раздумывал вслух дядя Митя, а Аркашка удивлялся и только ждал момента, чтобы его перебить. — Что ты! Что ты! — замахал он руками и даже остановился.— Ангола — ведь это же колония... — Э-э, брат! — протянул дядя Митя.— Да, я вижу, ты совсем газет не читаешь. Сегодня какое у нас число? — Шестнадцатое ноября. — Шестнадцатое,— повторил дядя Митя.— Ангола уже скоро как неделя стала независимой республикой! — Независимой республикой? — переспросил Аркашка. — Да! Одиннадцатого ноября в Анголе провозглашена независимость! — Так сразу?.. — Нет, на части территории страны еще идет борьба,— уточнил дядя Митя,— но Ангола уже республика. И в ее столицу Луанду ты смело можешь писать письмо... В воскресенье Аркашка достал конверт и старательно вывел: «Независимая республика Ангола, город Луанда, работникам почты». Потом, подумав немного, дописал в скобках: «Прошу письмо отдать кому-нибудь из ангольских ребят». Он обстоятельно написал о своей жизни и о жизни советских ребят, как ему советовал дядя Митя, и только в самом конце изложил свою просьбу насчет марки, а для ее крепости вложил в конверт две советские марки: одну с изображением космической ракеты, другую — Большого театра. Деревья уже давно держали снег. Он лежал на них белыми наростами, приклеившись к сучьям, стволам и веткам. В парке было светло. От самой ограды до того места, где деревья стояли уже сплошной черной стеной, расстилалась сверкающая белень. Солнце с высокого и прозрачного неба уверенно посылало на землю свой зимний свет и тепло. Аркашка не очень торопился из школы, он ведь не знал, что ожидало его дома. На столе лежал конверт из Луанды.
ТОБИК
Тобик, которого еще весной взяли у Левки, целое лето прожил у ребят на даче. За это время щенок вырос, окреп и превратился в настоящего сторожевого пса. Но сторожить Тобику было нечего. В этом тихом подмосковном поселке, окруженном зеленой стеной соснового леса, было тихо и спокойно. Поэтому Тобик вместе со своими маленькими хозяевами, которых звали Оленька и Шурик, целыми днями носился, задрав хвост, по дремавшим в хвойном настое широким улицам-просекам. — Тобик, взять! — Тобик, ищи! — Сюда, Тобик! — раздавались детские голоса. И Тобик брал, искал, носился. Его запрягали в коляску, в которой он возил куклы, сажали в пустую бочку, из которой он должен был лаять, заставляли пить молоко из бутылочки с соской. Чего только с ним не вытворяли! И Тобику вся эта возня нравилась нисколько не меньше, чем его хозяевам. Рано утром, когда все еще спали, он уже сидел у террасы и терпеливо ждал, когда откроются стеклянные двери. Двери в конце концов отворялись, и веселая кутерьма начиналась снова. По вечерам, когда порозовевшее солнце начинало захватывать косыми лучами крыши дач, Тобика брали на станцию, где встречали папу Оленька и Шурик. Пес всегда весело бежал впереди и озирался, как бы боясь, чтобы его спутники не отстали. Он просто верещал от удовольствия, когда Геннадий Яковлевич, погладив его, тут же, на платформе, бросал ему кусочек сахару... Но однажды, когда нудно моросящий дождь уныло поливал игольчатый наряд деревьев, большая крытая машина увезла Шурика и Оленьку в Москву, а Тобик остался. Долго сидел он на привязи у своей конуры, глядя в ту сторону, куда уехала машина. Потом пришел Левка и отвязал его. Но пес никуда не убежал. Он все ходил и ходил вокруг дачи, а когда стемнело, побрел на станцию. Там он просидел до тех пор, пока гудящие вагоны электричек не перестали сновать туда и обратно и на станции не осталось ни одной живой души. Утром на даче он опять сидел у террасы и, как обычно, ждал, когда откроются стеклянные двери. Но двери не открывались.
Опять пришел Левка, принес ему еды. Тобик к ней не притронулся. — Ешь, ешь, Тобик,— негромко сказал Левка.— Забудь о них... Все равно они не вернутся. Ни Геннадий Яковлевич, ни Шурик, ни Оленька... Услышав знакомые имена, Тобик взвизгнул. — Пойдем лучше жить к нам! — стал уговаривать Левка.— Там ведь все твои... Не успел он договорить, как Тобик метнулся к небольшому стожку сена. Поковыряв его носом, он через несколько секунд принес в зубах маленькую целлулоидную куклу. «Оленькина»,— догадался Левка. На станции вскоре привыкли к тому, что каждый вечер в одно и то же время на платформе появляется нечесаный исхудалый пес и глядит на проходящие мимо поезда. Еду он не берет.

ПОДАРОК
Кате двенадцать лет. Она живет в большой станице на Кубани и все время мечтает приехать в Москву. «Посмотреть хоть одним глазком,— говорит она,— хотя бы день, час...» Наконец ее мечта осуществилась, и она оказалась в Москве, на каникулах, у дяди Яши, брата ее матери. «Ух! Какой это большой город! — было первое, что ее поразило.— Сколько здесь людей, какое метро, какие улицы!» — Будь осторожней на улицах, когда будешь ходить одна,— предупредил ее в первый же день дядя Яша. — А куда ей ходить одной? — вмешалась в разговор тетя Тоня, его жена.— В театр мы вместе пойдем, в цирк тоже... А потом, может, я выхлопочу отпуск за свой счет дня на три... Тогда вообще все будет хорошо. Однако отпуска тете Тоне не дали, а разрешили только разок задержаться дома на полдня. Она тогда и проводила Катю до Кремля. — Назад дорогунайдешь? — спросила она, когда они остановились на небольшой площади, окруженной со всех сторон церквями. — Найду, конечно, найду,— ответила Катя, а сама уже торопилась к неширокому проходу, по которому шло много ребят. Собираясь на каникулы в Москву, она о многом мечтала. Но чтобы попасть на елку в Кремль, даже и думать не могла. — А это тебе от нас подарок,— сказал ей как-то утром дядя Яша, протягивая красивое приглашение на елку. Она даже своим глазам не поверила, взяв в руки билет с яркой картинкой: елкой, Дедом Морозом и веселыми румяными ребятами. Но что ее поразило особенно, это продолговатый голубой квадратик, отделенный от нарисованной картинки точками. На квадратике было написано: «Подарок». — Там и подарки дают? — не удержалась она от вопроса. — Дают,— улыбнулся дядя Яша. — Ой! У меня будет подарок из Кремля! — восторгалась Катя, прижимая к себе билет.— Подарок с самой главной елки! А какой он? — Не знаю,— ответил дядя Яша.— Вот будешь на елке... Принесешь его — тогда и увидим... — А в нем есть конфеты? — не могла успокоиться Катя. — Наверно, есть. — Вот хорошо! Мы вечером чай будем пить с конфетами с кремлевской елки,— весело объявила она и снова взглянула на билет. — Еще чего выдумала! — вмешалась, как всегда, тетя Тоня.— Домой подарок повезешь. Братика, маму угостишь. Кого-нибудь из подруг... А здесь и раскрывать его не будем. Катя не возразила, а только улыбнулась. «Вот радости-то дома будет! Я и бабушке Лизе что-нибудь дам... Ну, например, печенье. Она его любит. Пусть пьет чай с печеньем из Кремля... А будет ли в подарке печенье?» — думала она. В Кремле Катя осмотрела все: и раздевалку, и лестницу, и большую картину «Куликовская битва», занимающую почти всю стену целиком. Долго ходила по Грановитой палате, разглядывая красивые, но малопонятные ей рисунки из библейской истории, а потом вместе с говорливой ребячьей толпой заторопилась в самый большой зал. Увидев огромную елку, сплошь увешанную игрушками и гирляндами, она подумала: «Какая красота, а! Ведь если рассказать обо всем дома, не поверят!» Началось представление. Оно заставило Катю забыть обо всем на свете — так это было красочно и интересно, а главное, необычно. Ничего подобного она еще никогда не видела! Глядя на Деда Мороза, она решила, что он и есть тот самый настоящий Дед Мороз, о котором слышала, когда была еще совсем маленькой. «Он самый настоящий, самый главный,— почти шептала она про себя,— потому что он на самой главной елке, елке в Кремле! Все же остальные Деды Морозы — его помощники, а то и просто переодетые взрослые». После представления в залах открылись окошечки расставленных повсюду сказочных избушек, и русские боярыни в нарядных кокошниках начали раздавать подарки. «А вот сейчас я получу в Кремле подарок из рук этой красивой тети». И она направилась к одной из них. Однако желающих получить подарок оказалось много, и возле избушки образовалась целая очередь. Через некоторое время ей удалось продвинуться к окошку, и вот, когда уже хотела протянуть боярыне свой билет-приглашение, ее кто-то сильно оттолкнул. Она обернулась и увидела вихрастого паренька со смешным торчащим чубом, который, казалось, не брала никакая гребенка. Глянув на него, Катя чуть не рассмеялась, но вспомнив о нанесенной ей обиде, тоже толкнула вихрастого плечом: — Ты чего пихаешься? — А ты что? — ответил тот.— Ишь какая! Я тебя так сейчас пихну, что отлетишь. — Попробуй. Он не стал пробовать, а молча отошел к плотной ребячьей толпе и еще энергичнее заработал локтями. Свой подарок — пластмассовую коробку-ракету — она все же получила и снова отправилась в большой зал. Зал, как прежде, переливался всеми цветами радуги.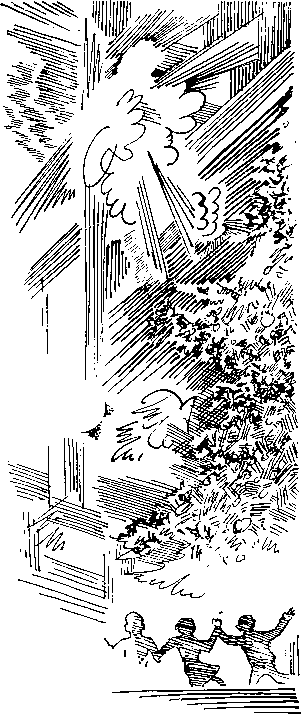

На этот раз огромные люстры показались ей драгоценными елочками, привешенными к потолку. Ровной прямой линией они расходились от вершины главной елки. Волшебные огоньки от фонарей вели какую-то замысловатую игру на беломраморных стенах, а высокие колонны стояли все так же торжественно и спокойно, с достоинством наблюдая за праздничной ребячьей чехардой. «Вот спутник висит на елке,— заметила она.— Вон ракета...» «Ракета...» Это слово заставило ее вспомнить о подарке. Она вспомнила и... почувствовала, как у нее похолодела спина: «ракеты» в руках не было. Перед глазами все пропало: и елка, и горящие люстры, и мраморные стены... Она шла по большому залу, пытаясь восстановить в памяти, где останавливалась, где могла потерять подарок. «Вот здесь у меня развязался шнурок... здесь я стояла...»—вспомнила она, оглядываясь по сторонам. Но подарка нигде не было: как в воду канул. «И как же это я так...» — сокрушалась Катя почти вслух, и слезы, большие и горькие, покатились из ее глаз. Спускаясь по лестнице, Катя увидела на площадке того самого чубатого парнишку, который ловко тогда прокладывал себе дорогу к избушке с помощью локтей. Его вихрастый чуб, который, казалось, не брала никакая гребенка, все так же смешно торчал. Увидев заплаканную Катю, парнишка подошел к ней. — Ты чего ревешь? — спросил он.— Разве я тебя так больно толкнул? — Нет. — А что? — Ничего,— ответила она и хотела пройти мимо, но вихрастый преградил дорогу: — Ну, чего ревешь-то, скажи? Сама не зная почему, она все рассказала. Наверно, хотелось ей очень поделиться с кем-нибудь в эту минуту. Ведь это часто бывает: когда горе, то хочется высказать, как бы выплеснуть его из себя. А у Кати было горе, и горе большое. Выслушав ее не перебивая, парень нахмурился, дотронулся рукой до своего непокорного чуба, а затем серьезно произнес: — Вот бери мой.— И он протянул ей свой подарок. Она, еще не понимая, а скорее только чувствуя, что сейчас этот самый дорогой для нее на свете пластмассовый предмет снова окажется у нее в руках, потянулась к «ракете». Через секунду желание взять подарок усилилось, а еще через две она вспомнила красивую тетю, из рук которой взяла кремлевский подарок, то чувство, с которым она к ней подходила, и этого парня там, у избушки, обидно и сильно оттолкнувшего ее. — Нет,— сказала она,— не возьму я у тебя подарка. Не возьму! И спрятала руки за спину.
ЕЛОВЫЕ ШИШКИ
Лагерь звенел. С большой террасы, окна которой были так широко открыты, что казалось, даже не оставалось стен, неслись звуки молдавского танца. Со спортивной площадки, где в воздухе мелькал волейбольный мяч, доносились визгливые вопли сирены, а чуть дальше, за густым барьером кустарника, щелчок стартового пистолета срывал с места стайки ребят в разноцветных майках. Чудилось, что шум, крики, веселая суета достигли самых верхушек стройных сосен и они, подчиняясь общему радостному настроению, невольно были вовлечены в эту захватывающую круговерть. Был тот час, который в распорядке дня значился как «кружковая работа, занятия спортивных секций». Костя с книгой в руках вбежал на крыльцо и увидел объявление: «Библиотека закрыта». Он хотел было уже повернуть назад, но вдруг услышал, как кто-то назвал его фамилию: — Павлов, иди-ка сюда... Это его друг. Он нам, может, что-нибудь прояснит. Костя вошел. Раскаленные лучи июльского солнца щедро наполняли комнату. Они аккуратно ложились на зеленое сукно стола и играли тысячами огоньков в прозрачной воде графина. Людей в библиотеке было немного: начальник лагеря, вожатый их отряда, библиотекарь Вера Васильевна и еще двое, которых он не знал. У стены, как приклеенный, сидел на стуле Валерка. Костя сразу почувствовал что-то неладное, о чем свидетельствовала странная, натянутая тишина. — Тебе Валера рассказывал о своем сочинении? — обратился к нему вожатый. — О каком сочинении? — не понял Костя и удивился строгому голосу Эдика. — Ну, о том, которое вы писали с ребятами... — На конкурсе, что ли? — Да. — Все писали... Он тоже...— кивнув в сторону Валерки, сказал Костя. — Писал-то писал,— с упреком произнес Эдик.— Да вот что написал... — Можешь идти, Костя,— сказал, чуть помолчав, начальник лагеря.— Мы тут сами разберемся... Костя, так и не прояснив ничего для собравшихся, направился к выходу... «Что же стряслось с Валеркой? Может, опять из-за этих шишек?» Это было в самом начале смены. Валерка, набрав целую рубашку еловых шишек, принес их в палату. Там он аккуратно разложил их на полках своей тумбочки, освободив место от мыла, зубного порошка, щетки, кружки и другой мелочи. Все это он отдал Косте на хранение, и тот каждое утро приносил к умывальнику два зубных порошка и две щетки, а мыло брал одно. «Зачем брать два? — решил Костя.— Нам и одного хватит». А потом в лагере был санитарный день, и все Валеркины шишки выбросили. — Не расстраивайся,— успокоил его тогда Костя,— других наберем. Подумаешь, невидаль! Шишки! Что это, патроны, что ли? — Нет, таких не наберем. Они ведь были мокрые и грозовые. — Грозовые?
Он не знал, что, когда Валерка уезжал в лагерь, его сестра, маленькая Танечка, просила привезти ей еловые шишки. Но не простые, а непременно собранные после грозы, с маленькими каплями дождя, которые превращаются ночью в яркие огоньки. «Каждый огонек,— говорила Таня,— это волшебный сон. И такой сон может присниться только тому, у кого есть такие шишки». Так Танечке кто-то рассказывал, и она в это верила. Валерка обещал привезти ей именно такие шишки. И он бы обязательно привез, если б не проводили в лагере санитарный день. Впрочем, с этого санитарного дня начались для Валерки и другие неприятности, вернее, он начал их сам. А что ему оставалось делать, если у него действительно изменилось к лагерю отношение? Два дня назад Эдик, собрав отряд на веранде, дал каждому карандаш и лист бумаги. — Сегодня, ребята,— объявил он,— каждый из вас напишет короткое сочинение на тему «За что я люблю свой лагерь». Лучшие из них мы поместим в нашей стенгазете. Через полчаса небольшая пачка листов была уже в руках у Эдика. Среди них находилось и сочинение Валерки на тему «За что я не люблю свой лагерь». О нем-то и говорило лагерное начальство в библиотеке, когда нечаянно туда попал Костя. В родительский день, который особенно шумно проходил в лагере, потому что для пап и мам давался концерт художественной самодеятельности, показывались спортивные выступления и устраивалась даже экскурсия по палатам, Валерка не находил себе места. «Вот сейчас приедет мама, и ей все расскажут». Но мама не приехала. Приехал отец. Они долго сидели с ним у самого забора и разговаривали. Подошел Эдик. — Товарищ Федоров? — обратился он к отцу. — Да. — Здравствуйте. Мне надо с вами поговорить. «Началось»,— подумал Валерка, вставая с отцовского пиджака, так уютно расстеленного среди высокой травы. О чем они говорили, он не слышал, потому что стоял поодаль и внимательно рассматривал высокие деревья, окруженные неподвижным воздухом. Уезжая из лагеря, отец крепко поцеловал сына и, как большому, протянул руку: — Ты уж держись, Валера. ...А погода, как назло, стояла отличная. Уже несколько дней на небе не было ни облачка. Дождя и не предвиделось. А Валерке так он был нужен. Можно было, конечно, привезти Тане просто шишки. Сказать, что они собраны после грозы. И она бы поверила. Но так Валерка поступить не мог. Кончалась смена, а дождя так и не было. Но вот, когда на другой день после завтрака уже нужно было уезжать в Москву, с вечера собрались тучи. Прохладный ветер закружил на дороге пыль, и ласточки замелькали над самой землей. «Ну, хотя бы пошел немного,— глядя на небо, думал Валерка,— только бы пошел... Тогда я завтра встану еще до подъема и наберу шишек». Дождь лил всю ночь. Молнии были тоже. А когда утром звуки горна разбудили лагерь, Валерка понял, что проспал. Вскочив с постели, он хотел сразу же бежать. Но Эдик, стоявший здесь же, громко объявил: — Быстро умываться и — в столовую. Зарядки сегодня не будет. После завтрака сразу же уезжаем. О том, чтобы успеть набрать шишки, не могло быть и речи. Автобусы тронулись. За окнами побежала серая лента шоссе. — Валера! — окликнул его лагерный баянист Михаил Алексеевич, который ехал вместе с ними.— Тут тебе Эдик просил передать какой-то кулек. Валерка взял в руки нетяжелый пакет и развернул. В пакете были еловые шишки.
САМООТВОД
Почему Кирилл взял на комсомольском собрании самоотвод, понять никто не мог. Лучший ученик класса, общественник, он уже два года подряд был секретарем комсомольского бюро класса. Его и в этом году хотели избрать, но он отказался. — Ну а почему ты все-таки не хочешь? — спросил у Кирилла классный руководитель Николай Фадеевич, выждав момент, когда ребята уже исчерпали свои вопросы. — Не хочу, и все! — ответил Кирилл и опустил голову. — Не-по-нятно. Ведь тебе ребята доверие оказывают, а ты этого не ценишь! — Ясно все тут! — крикнул кто-то.— На учебу решил приналечь. А то, не ровен час, и медаль уплывет. Комсомольская-то работа времени требует... — Замолчи ты! — не выдержал Кирилл. Оттолкнув ногой стоящий перед ним стул, он выбежал из класса, не закрыв за собой двери. Вечером Николай Фадеевич был у Кирилла дома. Разговаривал с отцом, рассказал ему о случившемся. Но так ничего и не выяснил. Правда, уходя уже, он услышал фразу, которую произнес отец: — Хороший все-таки парень у меня Кирилл! Но вдумываться в ее смысл не стал. Апрельское солнце уже вовсю заявляло о наступлении весны. У кинотеатра «Звездный» вновь разлилась огромная лужа, и со всех сторон стали сбегаться к ней веселые журчащие ручейки, прижимаясь к невысоким уличным тротуарам. Даже воробьи теперь зачирикали по-другому, радостно и оживленно, перебивая друг друга. Набухшие на деревьях почки готовы уже были раскрыться и, казалось, только ждали общей команды. Возвращаясь из школы, Кирилл увидел во дворе своего отца, неторопливо вытаскивающего из талой земли деревянные колышки. Взяв их в охапку, отец отнес колышки в самую глубину двора и бросил около забора. «Молодец, папка!» — обрадовался Кирилл. Ему так захотелось обнять отца, крепко прижаться к его всегда колючей щеке и сказать ему что-то хорошее-хорошее. Кирилл в секунду простил ему и его окрик: «Не суйся не в свое дело! Мал еще отцу советовать!» И то, что отец выгнал его тогда из комнаты. И вообще все, все, что не так давно произошло между ними. Он не хотел об этом думать, но неприятные воспоминания все-таки пролетели в его сознании, как быстрые кадры киноленты. ...Отец пришел домой радостно возбужденный, размахивая какой-то бумагой с гербовой печатью.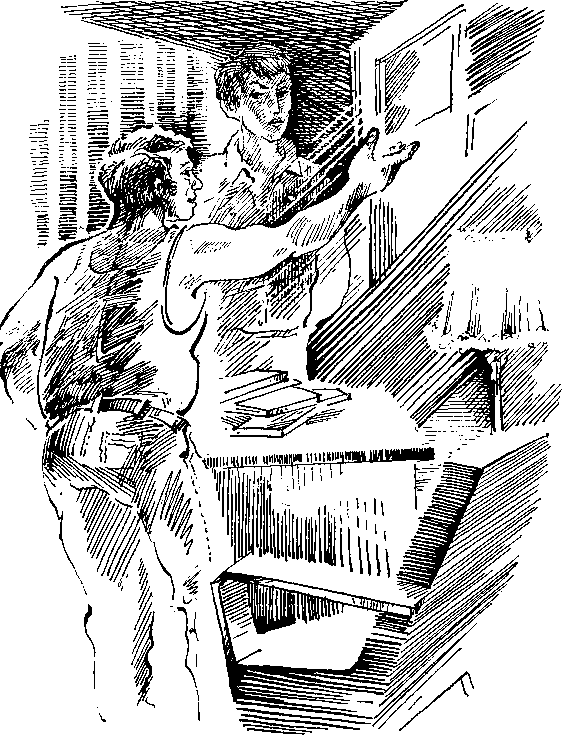
— Разрешили! Разрешили наконец-то гараж построить! — улыбаясь, сказал он.— Теперь у нас будет собственный гараж. И не где-нибудь, а рядом с домом. Собственный гараж под боком! Какая удача. А потом к ним приходили начальник жэка, председатель домкома, еще какие-то люди. Все уговаривали отца не строить во дворе гаража, объясняли, что собираются соорудить там спортивную площадку для ребятишек. — Мне разрешили,— неизменно твердил отец.— И участок отвели под строительство. Так что делаю все законно. — Но ведь как отвели-то... Они ж не знали, что мы предполагаем строить площадку...— попытался однажды кто-то возразить отцу, но тот даже и слушать не стал. — Мне отвели! И все тут,— стоял он на своем. Прошла неделя. — А может, не надо все-таки строить, папа? — сказал как-то Кирилл отцу.— Ребята тоже просили меня поговорить с тобой. Вот тут-то и произошла у них ссора. Крупная ссора, какой никогда прежде не случалось. Отец кричал, топал ногами. Говорил, чтобы Кирилл не смел лезть в его дела, тем более учить. Кириллу тогда казалось, что он никогда не простит этого отцу. А вот теперь... — Ликвидирую твой самоотвод! — негромко сказал отец, увидев Кирилла, и укоризненно посмотрел на лежащие рядом колышки. А весна уже совсем вступила в свои права. Журчащие ручейки пропали, оставив чистыми землю и тротуары. Почки на деревьях распустились, и даже кое-где появилась прозрачная травка. И совсем пошла на убыль лужа у «Звездного».
РОДНЫЕ
В милицию его доставили вместе с елкой. С ним начала разговаривать девушка. Сначала он не хотел даже ей отвечать. «Подумаешь, какая воспитательница выискалась! У нас в интернате много таких!» И Славка верно угадал. Люся действительно была школьницей. Она училась в десятом классе, а в свободное время работала в детской комнате отделения милиции. Молчал Славка недолго. — Елку срубил в парке. Хотел продать,— откровенно признался он.— А из интерната сбежал. — История!..— протянула Люся, когда он закончил свой невеселый рассказ.— Что же теперь делать будем? — Только матери не говорите,— тихо попросил он. На другой день в интернате Славку к директору не вызывали. Но ребята из шестого «А», узнав откуда-то, что вчера вечером Славку в интернат привела какая-то девушка, спросили: — Кто это? — Сестра,— соврал Славка. — У-у!.. Значит, вы родные... Этот день для него тянулся мучительно долго. А когда на улице совсем стемнело и зажглись фонари, в интернат пришла Люся. — Славка,— позвали его,— к тебе сестра! — Здравствуй,— сказал он и неуклюже протянул руку. — Ну что, уроки выучил? — спросила Люся. Она тоже испытывала какую-то неловкость. То ли от своего серьезного тона, то ли от нарочитости вопроса, который показался ей неуместным. — Выучил! Он и вправду сегодня впервые за последнее время по-настоящему, на совесть вызубрил уроки. — Ну, если так, то пошли погуляем... В этот вечер они говорили обо всем: и о спорте, и о кино, и об интернате. Славка даже похвастался, что умеет рисовать, и в следующий раз обещал показать свои рисунки. Но рисунков у него было немного, и он два дня усиленно рисовал. Потом, когда она снова пришла в интернат, Славка с гордостью показал целый альбом своих работ. — У тебя хорошо получается,— похвалила она.— Но нужно больше рисовать с натуры. Попытайся изображать на бумаге все, что видишь. Ходили потом они и в кино, и в театр, и на каток. Люся часто приезжала к Славке в интернат, а один раз, в субботу, засидевшись в ожидании его матери, сказала: — Слава, мама твоя, наверное, сегодня уже не придет... — Не придет,— согласился мальчик.— В ту субботу она тоже не приезжала. — Не огорчайся. Хочешь, поедем ко мне? Я тебя познакомлю со своей мамой. Побудешь у нас, а потом я тебя провожу до интерната. Славка молча кивнул головой. Однажды в Люсиной квартире раздался звонок. Она открыла дверь. На пороге стояла немолодая женщина в ярком пальто с блестящими пуговицами. Пережженные перекисью водорода волосы выбивались из-под малинового платка. — Видите ли,— произнесла незнакомка,— я мать Славика... — Здравствуйте, здравствуйте, проходите, пожалуйста...— всполошилась Люся. — Нет, проходить я не буду и задерживать тебя тоже. Я пришла попросить тебя: оставь ты моего Славика... — Почему? — непонимающе спросила ее Люся. — Почему?..— переспросила гостья и, посмотрев на свою юную собеседницу, добавила: —Какая ты воспитательница! Ты же еще жизни сама не знаешь. Чему ты можешь научить его? Тебе сколько лет? Двадцать? Двадцать пять? Люсю удивил этот вопрос — ей не было еще и восемнадцати, и двадцать, двадцать пять лет, о которых упомянула Славкина мама, ей казались очень далекими. А женщина, почувствовав, что разговор с Люсей, к которому она готовилась, не сможет иметь никакой убедительности, перешла на мягкий тон: — Вот у тебя есть мама и папа, а у него только я, мать. И он должен знать только меня! Прости! Уж какая я есть, но я мать, и он должен быть только со мной. Не отбивай его от меня... — Да что вы!..— попыталась возразить Люся, но, увидев слезы в глазах женщины, сказала: — Хорошо... Я больше не буду с ним видеться. — Спасибо тебе. И она, какая-то сгорбленная, что так не вязалось с ее яркой внешностью, направилась к лифту. ...Из интерната Люсе позвонили не сразу. Сначала пришла из детской комнаты Ольга Николаевна, спрашивала, что случилось и почему Люся перестала бывать у Славика, ведь так все шло хорошо. Но она ничего не сказала.
Молчала она и на заседании комитета комсомола, который обсуждал вопрос о невыполнении поручения комсомолкой Никифоровой. — Ты же предала парня! — Бросила его в самую трудную минуту! — раздавались возмущенные голоса. — Ведь это не в игрушки играть,— говорил секретарь.— Перевоспитание подростков — дело серьезное, кропотливое. Вот, сразу не получилось, так и руки опустила, перестала даже к нему ходить. Не ожидали мы такого от тебя. Комитет принял решение объявить Никифоровой строгий выговор. Она не оправдывалась и не протестовала. — Зайди ко мне на перемене,— сказал ей как-то директор школы. Она пришла. — Тут тебе все из интерната звонят. — Из какого интерната? — переспросила она. — Из интерната, где Слава... Да вот, это опять, наверное, оттуда...— Виктор Петрович снял трубку.— Да, да... Здесь... Сейчас... Тебя просят,— обратился директор к девушке. — Люся, Люся, это я, Слава,— услышала она в трубке взволнованный голос Славки.—Я знаю, к тебе приходила мать. Она мне все рассказала. Ты не слушай ее... Приезжай, я тебя очень жду, ведь все знают, что ты сестра... Люся молчала. — Приедешь? — уже тише прозвучал голос Славы.— Приедешь, Люся? В секунду вспомнилось все: и елка, и милиция, и разговор с его матерью, и выговор... А потом, взглянув в окно директорского кабинета, где, огороженный невысоким забором школьного сада, лежал уже почерневший снег, она тихо сказала в трубку: — Приеду. Обязательно приеду.

МУЖСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Николай учился уже на первом курсе института, а Антон, его младший брат, еще в школе. Жили они с матерью. Отца у них не было. Вернее, был, но, когда Антон еще только родился, он ушел из семьи и больше не возвращался. Мать очень хотела, чтобы мальчики учились, и поэтому, когда Николай окончил десять классов, она сказала ему: — Пойдешь в институт! И он пошел. Николай окончил школу с медалью, легко поступил в политехнический и сразу же начал получать стипендию. Мать работала на почте. Зарплата у нее была небольшая, и потому стипендия Николая вносила существенный вклад в бюджет семьи. Но однажды Николай стипендию не принес. — Что случилось? — строго спросила мать. — Потерял... Однако он солгал. Николай истратил деньги на куртку для своей однокурсницы, с которой не то чтобы дружил, но и полного равнодушия к ней не испытывал. В тот день, когда они со своей группой ездили в Кусково в усадьбу графа Шереметева, он был все время возле нее, не отставая ни на шаг. Вместе они возвращались домой в электричке, сидели тоже рядом, и Николай проводил ее в тот вечер до самого дома. — Ой! — сказала у подъезда Лена, когда рука Николая освободила ее пальцы.— А где же куртка? Моя куртка, которую я брала с собой? — Куртка? — удивился Николай, пытаясь ее припомнить. «Какой же я невнимательный,— с досадой подумал он,— даже забыл, что у нее была куртка... Ах как нехорошо получилось!..»— Что это? — спросил Антон, увидев у брата сверток. Николай не стал таиться и рассказал все, что произошло. — И сколько она стоит? — поинтересовался брат. Тот назвал сумму. — Фью! — присвистнул Антон.— Ничего себе! Вечером пришла мать. И когда Николай сообщил ей о потере денег, она оторопела. — Как же это ты потерял? Неужели все деньги? — все еще не веря в случившееся, спрашивала она.— Ты представляешь, что ты наделал? Как мы теперь будем жить до моей получки? — мать всплеснула руками и опустилась на стул.— Что-то не верю я, что ты мог их потерять,— продолжала она.— Может, истратил на что-нибудь? Лучше скажи сразу. Николай молчал. Молчал, будто набрав в рот воды, и Антон. — Негодяй! — вырвалось у матери.— Всю семью оставил без хлеба! Антон вдруг зримо представил себе такую картину: сидят они утром за столом на кухне все втроем, а на столе нет хлеба, даже масло не на что намазать. Но потом он понял, что мать выразилась фигурально, и ему от этого стало легче. — Но ведь занять можно, мама,— негромко сказал он. — Занять? — повернулась она к нему.— А отдавать как будем? Я и так уже в долгу как в шелку...

Она растерянно посмотрела вокруг, остановила взгляд на телевизоре, потом на фарфоровой вазе, стоящей в углу на столике, и, наконец, на детской копилке. Маленькая деревянная коробочка имитировала кованый сундук, на котором даже висел замок и были сделаны петли. Мать знала, что Антон уже давно копит деньги на фотоаппарат, и даже иногда сама давала ему одну-другую монетку. Но сейчас выхода не было. Копилку вскрыли, но — увы! — денег в ней не оказалось... Мать в сердцах дала Антону звонкую затрещину и плача повалилась на тахту. На другой день утром никто друг с другом не разговаривал. А когда мать ушла на работу, Николай подошел к брату: — Это я у тебя деньги взял. Понимаешь, на куртку не хватало... — А я догадался,— ответил Антон. — Но я отдам... Отдам обязательно,— продолжал он, глядя на брата,— ты только не обижайся... Вечером Николай вернулся возбужденным. В руках он держал все тот же сверток. — Понимаешь, какое вышло дело,— начал он с порога.— Лена-то, оказывается, и не брала куртку. — Как не брала? — почти крикнул Антон. — Да вот так! Хотела только взять, но не взяла. Дома она у нее осталась... — Ну вот,— как взрослый, развел руками Антон.— А что же теперь с этой делать? — кивнул он на сверток. — Отнесу в магазин, и мне вернут деньги. У Николая было такое радостное и счастливое выражение на лице, что и Антон не сдержал улыбки. Однако в магазине у Николая куртку не взяли. — Одежду назад не принимаем,— коротко и равнодушно заявила ему продавщица. — Но ведь ее никто не носил, даже не надевал ни разу и не примеривал,— с жаром начал объяснять ей Николай, но очень скоро понял, что ему не растопить льда равнодушия хозяйки прилавка. Было ясно: куртку она назад не возьмет. Узнав о неудаче, постигшей брата, в тот же вечер Антон, прихватив тайком злополучную куртку, сам отправился в магазин, прямо к директору. Он все рассказал ему — и про мать, и про брата, и про копилку... — Принять куртку,— дал кому-то по телефону распоряжение директор и внимательно посмотрел на Антона. — А ты, парень, молодец,— сказал он.— Мать только поменьше огорчайте. Ей и так нелегко с вами. Я-то это хорошо понимаю. Тоже без отца рос. Он встал и на прощание крепко, по-мужски, как большому, пожал Антону руку. — Как же мне отдать матери деньги? — спросил его дома Николай. — Как? А ты скажи, что нашел,— ответил Антон. Брат улыбнулся.

ЛЕКАРСТВО
Ромка приехал из пионерского лагеря на пересменок. Дома никого не было: отец и мать уехали в отпуск, а бабушка работала. Он знал об этом и потому, когда вошел во двор, еще долго не поднимался к себе наверх. — Рома! Рома! — услышал он через некоторое время голос соседки Марфы Андреевны.— Что же ты, милок, никак домой не дойдешь? Наговоришься еще с дружками... А сейчас иди сюда! Ключи от вашей квартиры у меня... Ромка обвел непонятно почему виноватым взглядом своих товарищей и неторопливо вошел в прохладный подъезд. Дома он влез в рукава махрового отцовского халата и пошел ставить чай. Однако, войдя на кухню, он не успел повернуть выключатель электроплиты, потому что в дверь позвонили. За дверью стояла девушка. Она была старше его года на два-три, и глаза у нее были голубые-голубые. — Здравствуй,— улыбаясь, сказала девушка.— Твоя мама дома? — Нет,— ответил удивленный Ромка.— Она уехала в отпуск. — Значит, ее долго не будет? — Долго... А тебе зачем она? — Я Оксана, дочь Галины Николаевны,— начала •она объяснять, но, увидев полное недоумение, замолчала. — А кто это — Галина Николаевна? — спросил после паузы Ромка. Девушка опять оживилась. — Галина Николаевна... Галя...— делая сильное ударение на «а», сказала она.— Галя, подруга твоей мамы... И тут Ромка услышал, что девушка говорит как-то странно, не «по-нашему». Все можно понять, но звуки какие-то не русские. — Познакомились они у нас, на Украине,— продолжала девушка,— когда приезжали твоя мама вместе с тобой отдыхать на Днипро... Но ты тогда был маленький и не помнишь, наверно... Ведь это было давно. А я вот тебя помню... Ромка взглянул на широкий отцовский халат, в который был одет, и засуетился. — Ты проходи в квартиру. Я сейчас,— сказал он и шмыгнул в комнату. Через несколько минут Ромка уже в своем спортивном костюме, облегающем фигуру, снова появился в передней. — А тебе зачем нужна мама? — спросил он. — Ой, лишенько у нас дома. Дед наш совсем плохой. Умрет он, наверное, если я ему одно лекарство не привезу. У нас в аптеках такого лекарства нет. Но и у вас тоже. Мама сказала, если я его не найду, чтобы попросила вас... — А какое лекарство? — перебил ее ничего не понимающий Ромка. Девушка протянула записку. Пока он читал непонятные ему латинские слова, часы пробили четыре раза. — Подожди,— сказал Ромка, возвращая записку,— скоро придет бабушка. — Ой нет! Что ты... Я ведь здесь на экскурсии... Меня только на два часа отпустили из группы. — Ну как хочешь. Тогда приходи завтра... Или нет, лучше позвони, а записку оставь.
Когда Оксана ушла, он, не теряя времени, помчался к Севе. Ромка вспомнил, что родители Севы врачи, и подумал, что они смогут помочь. — А зачем тебе это лекарство? — комкая в руках бумажку, спросил его Иван Павлович, отец Севы. Ромка рассказал все, как было. — Интересно,— протянул он, выслушав незатейливый рассказ мальчика и заглянув ему в глаза.— А ты их знаешь? — Конечно,— ответил Ромка.— Они даже каждое лето нам украинские яблоки присылают... Мама с Галиной Николаевной очень дружат... — Он хорошо их знает,— поспешно добавил Сева, очевидно для того, чтобы у отца не оставалось никаких сомнений.— Я даже сам яблоки пробовал... Отец снова перевел глаза на бумажку. — Лекарство это бывает в аптеках часто, но сейчас действительно его может и не быть,— неторопливо, как бы рассуждая про себя, сказал он. — А у вас в больнице оно есть? — нетерпеливо перебил Ромка. — В больнице есть... На другой день он вместе с Иваном Павловичем поехал к нему на работу, а потом, когда вернулся, никуда не уходил из дому — ждал Оксаниного звонка. Уже поздно вечером, отдавая ей лекарство, Ромка сказал: — А ни мама, ни я на Украине никогда не были. — Как не были? — Не были,— повторил Ромка.— Просто в нашей квартире раньше жила другая семья и там тоже был мальчик. Но я не знал их адреса...
ЧАСЫ СО ЩЕРБИНКОЙ
Олег пришел на то место, где в прошлом году утонул его отец. Сел под раскидистым вязом, заслонившим своей неподвижной кроной солнце, и долго смотрел на темную воду. Он отчетливо помнил последний день, который они провели вместе с отцом, их неторопливый разговор у костра, вполнакала тлевшего у самой реки. «Честность во всем нужна, сынок»,— говорил тогда отец. Олег вспомнил его приветливые глаза под немного нахмуренным лбом, а затем уже другое лицо — неживое, искаженное судорогой. Посидев немного, Олег собрал сухие сучья, аккуратно сложил их и зажег. Пламя забилось, затрещало. Потянуло приятным терпким дымком. Где-то совсем рядом прокуковала кукушка. «Глупая птица,— подумал Олег.— А еще называется гадалкой. Вспомни, сколько лет жизни ты тогда обещала отцу? И вот ошиблась...» — Можно прикурить? — услышал он неожиданно чей-то голос. Олег обернулся. С тропинки сходили два парня. Было видно, что они только искупались — волосы и трусы были мокрые. В зубах у одного — сигарета. — Прикуривайте,— ответил Олег. — А обогреться можно? — Грейтесь. — Ты что здесь делаешь в одиночестве? — спросил другой парень, выжимая обеими руками свои длинные волосы.— Ждешь кого?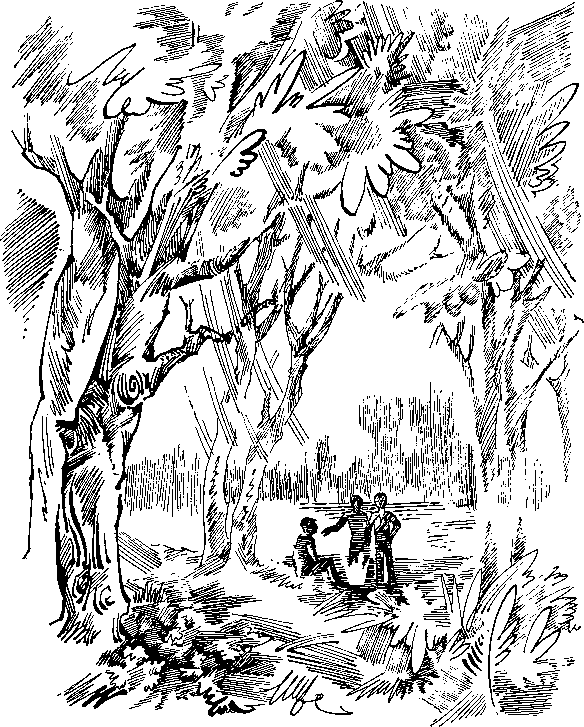
— Нет. Разговора не получалось. Сидели молча. Только длинноволосый время от времени подбрасывал в огонь сучья. — Немедленно погасите костер,— подошел к ним румяный толстяк в светлых парусиновых брюках, из кармана которых свисала небольшая цепочка... — А вы, дядя, пожарник? — спросил его один из парней, затягиваясь сигаретой. — Нет,— серьезно ответил тот,— но костры сейчас жечь нельзя. — Мы же на речке. У самой воды,— попытался объяснить Олег. — Все равно нельзя! Лето ныне жаркое. Природа и так горит, а вы еще тут с костром... Гасите! А то я вам сейчас покажу... — А что покажешь, дядя? — спокойно заметил длинноволосый. — Я сейчас приведу сюда милицию. Она вам покажет!..— входил в раж толстяк. И, схватив лежавшую на земле палку, он начал разбивать горящие головешки. — Тихо, тихо, дядя! — вскочил с травы длинноволосый.— А то... — А то что? — не дал ему договорить толстяк. — Ничего, а костер не трогайте... — Вы что, со мной драться собираетесь? — Драться не будем, а разок можно тряхнуть... — И брючки попачкать можем,— негромко добавил его приятель. — Хулиганы! Ну, погодите! И толстяк энергично зашагал в сторону поселка. — За милицией пошел,— сказал один из парней и, обращаясь к Олегу, посоветовал: — Погаси ты его... От греха подальше... В милиции толстяк рассказал все, как было. — Где это? — спросил его дежурный. — Да там,— неопределенно махнул он рукой и пояснил: — У лощины, за орешником. — Кольев,— обратился дежурный к молодому старшине, на форменной рубашке которого отчетливо выступали наглаженные стрелки,— сходи быстренько с товарищем. Давно это было? — Минут тридцать — тридцать пять,— потянулся толстяк к переднему карману брюк.— Часы! — Что часы? — не понял дежурный. — У меня были часы, серебряные часы... Еще до войны на работе подарили... На речке за орешником уже никого не оказалось. Лишь присыпанные землей головешки испускали мутный сероватый дымок. — Ну и костер тут был! — улыбнулся старшина, наступая на дымящийся бугорок. — Разгореться бы мог... Старшина ничего не ответил. Они внимательно осмотрели все место вокруг костра, несколько раз прошли по тропинке, заглянули в кусты. Часов нигде не было. — Обронил я их, а они подобрали,— вздохнул толстяк, присаживаясь на пенек.— Такие ребята не отдадут... А может, они у меня их вытащили? — обратился он к старшине. — Может, и вытащили,— спокойно ответил тот и, помолчав, добавил: — А может, и не они... Старшина взглянул в сторону речки. К вечеру она еще больше потемнела, и теперь вдали уже совсем слилась со своими берегами. — Вы оставьте заявление в милиции. Опишите приметы ребят, укажите, какой марки часы... — А что? Найдете? — оживился толстяк. — Не знаю. Всякое бывает. Может, и найдем.
Олег пристально смотрел на циферблат. «Может, ошибаюсь? — думал он.— Может быть, мне просто хочется, чтобы так было?» Он еще раз взглянул на часы, которые подобрал в траве, когда тушил костер, и зажмурился. Олег опять вспомнил отца, ту минуту, когда, уходя к реке, он отдал ему часы. Тогда в суматохе Олег забыл, куда они делись. Не оказалось часов и в одежде отца, которую им принесли вечером на дачу. «Нет, я не ошибаюсь,— повторил Олег про себя, сжимая в кулаке холодный кружок металла.— Нет! Кажется, и щербинка у шестерки такая же, какая была на отцовских часах...» Но мысли снова и снова возвращали его к сомнениям — уж очень неожиданно все случилось. «А вдруг это не те часы... Тогда как же? Значит, нечестно?»
Даже с крыльца было слышно, как сокрушался толстяк: — Товарищ лейтенант, серебряные часы! Мне их до войны еще на работе подарили! За беспримерную службу!.. Отдавая часы дежурному, который немало удивился его появлению, Олег, указывая глазами на толстяка, твердо сказал: — Никто их ему не дарил!.. Это не его часы. Вы разберитесь... Пожалуйста, разберитесь. Я очень прошу...
СОГЛАСИЕ
Приехав на сенокос, девятиклассники отказались жить в комнатах совхозного общежития и разместились в лесу, выбрав для палаток удобную поляну. Поляна находилась недалеко от небольшой речушки, названной кем-то в шутку Переплюйкой, и была совсем рядом с краем леса, за которым начинались луга. В селе они появлялись вечером, когда, спрятавшись за горизонт, солнце уже освещало только неширокую полоску неба, окрашивая ее в яркий, пылающий багрянец. Подойдя к клубу, ребята располагались плотным полукольцом рядом с баянистом, но чувствовали себя не очень уютно. Мелодии баяна вторгались в воздух тихого подмосковного вечера. Никто из москвичей не танцевал. «Стесняются, что ли?—думали местные.— А может быть, им зазорно с нами?» — Эй, вы, тихони! — услышали однажды москвичи, когда уже уходили.— Завтра придете постоять? Приходите, а то без вас скучно! И после дружного хохота последовало продолжение: — А еще городские... На другой день, захватив с собой гитару, москвичи подошли к клубу с песней, которая напрочь заглушила звуки баяна. — Тихо! — крикнул кто-то.— Не слышите, здесь играют! Но замечание не остановило ребят. Набрав побольше воздуха, они запели еще громче. — Кончай горло драть! — вышел вперед высокий худощавый парень в накинутом на плечи пиджаке. Это был Серый. Такое прозвище дали в селе этому парню, наверное, потому, что фамилия его была Серов, а может быть, потому, что цвет лица у него всегда был какой-то землистый, серый. Местные знали, что Серый недавно вернулся из колонии и еще нигде не работал: в совхозе не хотел, а в другие места не брали. На танцах он появлялся редко, но в этот вечер оказался у клуба. Подойдя к Эрику, он лениво постучал пальцами по гитаре. Тот сделал шаг назад, но играть не перестал. Серый снова дотронулся до гитары, но теперь уже потянул ее на себя. Звон струн прекратился. Пение тоже. — Вы что, шантажи держать? — спросил Серый на понятном только ему языке и смазал Эрика ладонью по лицу. — Отойдите! — сказал Эрик, но в ту же секунду почувствовал, как гитара больно ударила по подбородку. Коротким взмахом ноги Серый разбил инструмент. Поднялась суматоха, послышался визг, крики. Однако драки не случилось. Возвращаясь к себе на поляну, москвичи решили в село больше не ходить, а своему руководителю Александру Васильевичу ничего не стали рассказывать о случившемся. «Как-никак, а виноваты сами, что помешали танцам,— размышляли они.— Но почему все-таки тот парень оказался таким злым и жестоким?»

Время отодвинуло воспоминания о Сером, как и обо всей этой неприятной истории. Скоро уже нужно было собираться в Москву — срок работы в совхозе заканчивался. Однако незадолго до отъезда Серый снова напомнил о себе.
Припав спиной к свежему стогу сена, Александр Васильевич закрыл глаза. Ему нравились эти короткие минуты отдыха, в которые, казалось, расслаблялось все тело. «Тяжело мне уже на сенокосе,— подумалось в который раз.— Старею, наверное». Он посмотрел на бегущие по небу облака и задумался. — Говорят, он был пьяный, — неожиданно донеслось до него. — И ничего не пьяный,— возразил другой голос. За стогом разговаривали женщины. «Надо же мне было угодить сюда,— с досадой подумал Александр Васильевич,— пошел бы лучше к ребятам ». — Жаль Серафиму,— продолжал голос.— Крыша-то теперь вся разобрана. Не дай бог, дождь... Что делать? — Крышу ей соберут,— вмешалась в разговор еще одна женщина. — Соберут, поди... Найди сейчас в сенокос работников. — А с ним-то что? — Говорят, плохо. В сознание еще не приходил. — Ой, бабоньки,— причитая, продолжала одна из женщин,— может, я возьму грех на душу, но только думаю, что этого Серого ни одна холера не возьмет. Вечером на поляне уже все знали, что, перекрывая крышу своего старенького покосившегося дома, Серый упал и разбился. — Один решил перекрывать,— пояснял Александр Васильевич,— да вышло: ни крыши, ни мастера... А там старая женщина, мать его... Так что я предлагаю, ребята, задержаться нам еще здесь на пару деньков и закончить эту работу. Как думаете? Ребята молчали. — Я уже и у хозяйки побывал,— продолжал он,— Серафимой Владимировной ее зовут... Славная такая старушка, но только плачет все время. Ну, так как? Принимается предложение? Никто не ответил. На поляне установилась такая тишина, что даже было слышно, как потрескивают в костре сучья. Александр Васильевич растерялся. — Да вы что, ребята? — обвел он их взглядом.— Неужели не согласны? Он хорошо знал своих питомцев, любил их, верил им и сейчас никак не мог понять, почему они молчат. Он еще раз посмотрел в их лица и почувствовал, что они в чем-то правы. Слишком едины они все были в своем молчании. «Что же случилось? Что? Спросить? Не расскажут, наверное...» Александр Васильевич уже даже пожалел, что начал этот разговор. «Конечно, ведь они первый раз так надолго уехали из дома. Всем им хочется скорее вернуться. Там их ждут,— искал он оправдания,— а тут с предложением остаться на пару дней...» Он хотел уже перевести разговор на другую тему, но вдруг услышал: — Согласны?
КЛЯТВОПРЕСТУПНИКИ
К этому старому, заброшенному пруду в самом конце парка мальчишек притягивало как магнитом. И хотя здесь на самом видном месте был установлен большой фанерный щит со строгой надписью: «Купаться запрещено!» — он, конечно, не мог остановить их. Как это произошло, Борис не видел. Только услышал пронзительный крик: — Тонет! Тонет! На помощь! В два больших прыжка он оказался у самой кромки. Мальчишка отчаянно барахтался в воде, а другой, постарше, бегал по берегу и истошно кричал. Раздумывать было некогда, раздеваться тоже. Ступая по траве наполненными водой ботинками, он осторожно вынес мальчика на берег и положил на землю. Тот плакал. — Не реви,— тихо произнес Борис и невольно оглядел себя. Холодные водяные струйки медленно стекали с прилипших к телу брюк и рубашки. — Дела...— протянул он. — Спасибо тебе, спасибо за Гришку,— дотронулся до его локтя мальчик постарше.— Если бы не ты... — И часто вы здесь купаетесь? Что на щите написано? Читать не умеете? — спросил Борис. — Умеем... Но мы всегда только у берега. А сегодня его немного унесло,— сказал старший и тоже заплакал, очевидно, за компанию с потерпевшим. — Ох и попадет нам дома, если узнают,— продолжал всхлипывать мальчик. — Не узнают,— успокаивал их Борис.— Я никому не скажу. Но те заревели еще громче. — Ну вот что. Слушать, как вы здесь ревете, у меня нет времени. Я и так уже опоздал. Лучше дайте мне слово, что больше никогда не будете купаться в этом пруду... Нет, лучше поклянитесь... — Как? — недоуменно спросили приятели. — А как умеете? — Что, землю есть? — Можно и землю,— серьезно заметил Борис. — А ты зачем? — удивленно замигали они, увидев, что Борис тоже проглотил землю. — Это чтобы клятва была крепче. Вы клянитесь, что никогда здесь не будете купаться, а я клянусь, что никогда никому не расскажу об этом случае. Договорились?
Ребята наперебой закивали головами. — А куда ты опоздал? — помолчав, спросил его Гриша. — В школу... — В школу? — переспросил Гришин приятель.— Но ведь учебный год еще не начался! — А мне именно сегодня позарез нужно было быть там. Ну да ладно. Ничего не попишешь... Сбегав домой переодеться, Борис пришел в школу, когда все члены переэкзаменовочной комиссии уже разошлись. — Ты, как всегда, Васильев, огорчаешь нас,— строго встретил его классный руководитель.— Все тебя ждали, а ты так и не явился вовремя. Учителя уже ушли. Так что переэкзаменовки у тебя не будет. Решено оставить тебя на второй год. «Может быть, рассказать? — мелькнуло в голове у Бориса.— Но ведь клятва...» Домой он шел медленно. Торопиться теперь было некуда. Отец с матерью придут с работы поздно, и все разговоры с ним будут, значит, вечером. — Васильев, поди-ка сюда! — услышал он за своей спиной голос классного руководителя. Борис обернулся. Быстрыми шагами к нему шел Константин Тихонович, а впереди него вприпрыжку бежали Гриша и тот мальчик постарше, имя которого он так и не спросил. — Мы больше никогда не будем купаться на прудах,— кричали они что было мочи.— Никогда! А клятва не считается. Мы нарушили ее и все рассказали... Но мы больше никогда не будем купаться!..
«СЮРПРИЗ»
Погода вконец испортилась. Целыми днями моросил мелкий, надоедливый дождь, покрывая улицы и дворы низменного Нагатина глубокими лужами. Уроки в интернате давно закончились, и сюда пришла обычная субботняя тишина. В библиотеке Юра сидел один за полированным столиком и перелистывал подшивку «Огонька». Он вспомнил то утро, когда они с братом дома пили чай, а на столе стоял торт «Сюрприз». В тот день Дима впервые привез его в интернат. Уходя, сказал: — За маму не беспокойся. Не скучай! Я к тебе буду приезжать по субботам. Здесь ведь близко — всего три трамвайные остановки... И оба они так верили в это, что прощания, в общем-то, и не получилось. Но прошел уже месяц, а брат все не появлялся. «Работает, учится в вечерней школе... Трудно ему, наверное,— оправдывал брата Юра.— Ведь он тоже один!» Но Диме вовсе не было трудно. Оставшись дома один, он почувствовал какое-то облегчение. Не надо было теперь торопиться после работы домой, где его ждал младший брат, думать о том, чем его накормить завтра, в какой рубашке отправить в школу. С исчезновением забот появилось и время. Сначала Дима решил вечерами заниматься учебой. Даже переставил с подоконника на стол зеленую настольную лампу. Но в ней не оказалось лампочки, и она так и осталась незажженной. ...Горели свечи. Нестройным перезвоном гитара наполняла прокуренную комнату. На столе стояли пустые бутылки, валялись недоеденные бутерброды. Рядом с переполненной окурками пепельницей на промасленной газетной странице лежала гора килек. Компания разместилась по углам. — Нет ли чего выпить, Димыч? — донесся из темноты сипловатый голос Тольки, которого во дворе все почему-то звали Толюной. Дима вспомнил тот вечер, когда Толюна встретил его у подъезда дома. Это было через несколько дней после того, как он пристроил братишку в интернат. — Привет, Димыч! Слыхал, ты хозяином хаты стал? — Кем? — не понял Дима.


— Ну, один, значит, в доме живешь,— пояснил Толюна и оглядел соседа с ног до головы.— Шикарный ты парень, а вот время проводишь бездарно. Может, объединимся? У меня роскошная компания! Художницы, журналистки... Предложение Диме понравилось, и вечером Толюна пришел к нему в гости с девушкой. — Знакомься! Это Зиночка. Будущая актриса. Девушка протянула руку. — Дима,— сказал он просто тогда. — Без пяти минут инженер! — улыбаясь, добавил Толюна, подмигивая ему. Дима, помнится, хотел возразить насчет инженера, но не успел. Девушка вошла в квартиру и с интересом стала оглядывать комнату. А потом Зина пришла со своей подругой. Это была высокая симпатичная девушка старше Димы года на полтора. Звали ее Наташей. В тот вечер они долго ждали Толюну. А когда тот появился и привел с собой еще друга-гитариста, в комнате началось веселье. С тех пор гости у него собирались почти каждый вечер. Диме нравилось принимать их у себя. Нравилось быть хозяином дома. Но особенно он был доволен, когда приходила Наташа. Компания часто засиживалась за полночь. Наутро всегда болела голова и хотелось пить. Вскоре в доме не стало самовара, будильника, а потом и настольной лампы...
В библиотеку вошла воспитательница Светлана Сергеевна. — У вас нет конверта? — спросил ее Юра. — Конверта? — Да. Хочу письмо написать. Первую строчку он вывел медленно и старательно: «Здравствуй, Дима!» Долго рассматривал ее, а потом, склонившись над разлинованным листом, продолжал: «Приезжай ко мне, Дима, пожалуйста: ко всем приезжают, а ко мне нет. Я даже по субботам не хожу на прогулку. Вдруг ты приедешь, а меня нет. Тут близко — сам говорил. Всего три трамвайные остановки. А привозить мне ничего не надо. Только приезжай. Может, ты заболел? Тогда напиши мне. Как наша мама?..» Юра еще раз перечитал написанное и добавил: «Твой братан...»
Он не успел дочитать в письме последнюю строчку, как в дверь постучались. — Привет,— на пороге стоял коренастый брюнет,— мы, кажется, знакомы? — Знакомы,— неуверенно протянул Дима,— проходи, Саш... Они вошли в комнату. Дима положил на стол конверт и вопросительно посмотрел на брюнета. «Чего тебе?» — беспокойно спрашивали его глаза. — Письмишко получил? — начиная разговор, спросил его гость.— От кого, если не секрет? — От братана. А тебе-то что? — Голос дрогнул. Дима вспомнил тот день, когда видел младшего брата в последний раз, вспомнил, и краска залила его лицо, обожгла уши. — От братана, говоришь? — переспросил Саша.— А почему не навещаешь? И в больнице у матери тоже не бываешь?.. — А ты откуда знаешь? — Я все знаю,— ответил он. — Ишь какой маг-волшебник. Ясновидец...— протянул Дима.— Но что тебе, собственно, от меня надо? Зачем пришел? Он действительно не мог взять в толк, почему этот Саша, с которым они всего лишь несколько раз виделись на заводе, вдруг пришел к нему домой и так запросто задает вопросы. Ведь приятелями они не были, да и дел у них общих тоже никогда не было. — Все некогда из-за гулянок? — проговорил Саша. — Но ты потише, потише,— огрызнулся Дима.— Тебе-то что? Гуляю на свои... У тебя занимать не стану. — А я тебе и не дам... — Ты что, воспитывать меня пришел? — попытался съязвить Дима. — Да не воспитывать, а просто сказать тебе, что ты подлец, если забыл о матери и братишке... Этого Дима не ожидал. Густая краска вновь залила лицо, выступила красными пятнами на шее. Напрягшись, он приблизился вплотную к Саше. Голова его ушла в плечи, в глазах появилась злость. — Пускать в ход кулаки не советую,— тихо предупредил его тот.— У меня первый... по боксу.— И добавил: — А пришел я по поручению комитета комсомола. Поговорить надо. Садись,— указал он на диван. Из дому они вышли вместе. Вместе зашли в магазин, потом сели в трамвай и проехали три остановки. — Ну, прощай. Мне прямо,— сказал Саша. Дима взял в левую руку большую коробку с тортом «Сюрприз» и протянул ему правую. Он хотел что-то сказать, но только повернулся и быстро зашагал по тихому переулку к большому пятиэтажному дому.
УЧИТЕЛЬ
Он распахнул дверь и застыл на пороге. Залихватская песня, названием которой служила ее первая строчка «В огороде бабка, в огороде дедка», грянула ему навстречу. Пели все. Особенно старался Макагонов. Шустрый и вертлявый подросток даже привстал от усердия и, закатив глаза, покачивался в такт песне. Тимур понял, что медлить нельзя, и решительно направился к доске. Не обращая внимания на учителя, класс продолжал петь. Тимур постучал по столу. Класс пел. Тогда он вскинул руки и начал дирижировать. Пение прекратилось. «Ну, вот и все,— подумал Тимур.— Макагонов тоже, кажется, замолчал. Как он мне надоел!!!» И, уже обращаясь ко всем, произнес: — Хорошо поете. Только уж больно громко, всю школу небось всполошили...— Он посмотрел на притихший класс и отчего-то развеселился.— А знаете, как пел Шаляпин? — Тоже громко? — выкрикнул все тот же Макагонов, готовый уже захохотать во всю мочь. — Не только громко,— успел заметить Тимур. На память пришли воспоминания Горького о Шаляпине. Захотелось передать их ребятам, рассказать о том ощущении, которое испытывал великий писатель, слушая великого артиста. В доли секунды выстроился план рассказа. Тимур торопился. Он чувствовал, что вот-вот может оборваться эта тоненькая ниточка неожиданно возникшего у ребят интереса. И все-таки она оборвалась. Ее Макагонов оборвал.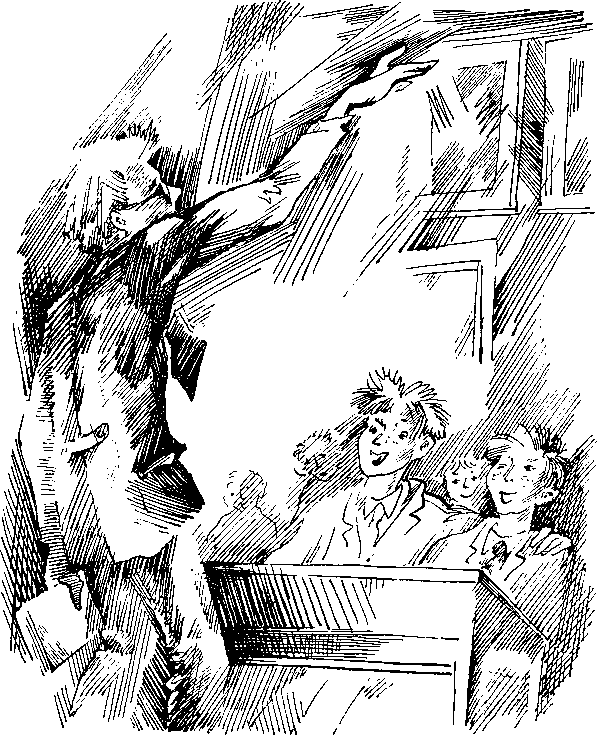
Подросток поднял руку и, не дожидаясь разрешения, встал из-за стола. — А все-таки вот так нужно петь? — зло спросил он и грянул залихватскую «Бабку...». Окна задребезжали от смеха. Тимур подскочил к Макагонову, стиснул его плечи и... почувствовал удар в грудь. Срочно собравшийся педсовет исключил Макагонова из школы, но и Тимуру тоже сделал замечание. — Нельзя так! — говорили ему.— Надо держать себя в руках! Да и классом нужно уметь управлять. «Ну а зачем все-таки Макагонова исключили? — думал после педсовета Тимур.— Уж не слишком ли это большое наказание? А может быть, так и нужно?.. Не знаю еще всего, ведь первый год работаю». На другой день, подходя к учительской, Тимур услышал женский голос: — Я этого так не оставлю! Я буду жаловаться! Учитель тоже еще мне... с учеником подрался! Он понял, что это была мать Макагонова. — Но мы исключили вашего сына не только за этот инцидент,— говорил директор.— У него ведь было последнее предупреждение. И вы об этом знаете, а выводов он никаких не делал. Учился плохо, прогуливал, постоянно срывал занятия. Сколько раз мы с вами встречались уже только в этом году? — Ну, хорошо...— снова заговорила мать. В эту минуту Тимур вошел в учительскую. — А... вот и Тимур Тимофеевич,— не договорив, обернулась она к нему.— Как же это вы могли ударить моего сына? Какой же вы учитель! И кто вам вообще дал право распускать руки? «Ударить?.. Распускать руки?.. Ну зачем уж так-то?» Но что-либо объяснять было бесполезно, Макагонова была сильно возбуждена и без остановки сыпала обидные слова. — Я вам еще покажу!—говорила она.— Вы у меня узнаете, как драться с учениками! Да вас диплома за это лишат, вас посадят... Тимура, конечно, не посадили и диплома не лишили, но тем не менее после заявления Макагоновой в районо оставаться ему в этой школе признали нецелесообразным. Устроиться на новое место в середине года оказалось не так просто, но его все-таки взяли. Встретив однажды на улице директора своей прежней школы, Тимур остановился. — А! Тимур Тимофеевич,— подал ему руку директор.— Ну, как у тебя там? — Все хорошо,— торопливо ответил Тимур,— а у вас? — У нас тоже вроде бы ничего... Виталий Федорович внимательно посмотрел на Тимура и покачал головой. — Нехорошо тогда получилось,— произнес он, еще больше наклоняя голову.— Нехорошо... Да и мы тоже не правы. Помочь бы вам надо. Класс этот трудный, а вы молодой. Не учли... — Ну что вы, Виталий Федорович,— возразил Тимур.— Я сам виноват... Только вот зря Макагонова тогда исключили из школы. — Почему? — насторожился директор. — Так... А вот зря... — Ты что же, оправдываешь Макагонова? — Нет. — Да ты не волнуйся,— продолжал после небольшой паузы директор.— Макагонову бы все равно в нашей школе не учиться. Мать-то его посадили... — Как? — Да вот так. Недостача какая-то... Тимур знал, что мать Макагонова работала буфетчицей на вокзале. — И что же теперь будет? — сделал он полшага вперед. — Не знаю. Отца ведь у Макагонова нет. Да и родственников тоже... В детский дом, наверное, возьмут... Домой в этот день Тимур не пришел: ночевал у Макагонова. А через несколько дней исполком райсовета народных депутатов вынес решение о признании Тимура Тимофеевича Ермакова временным опекуном несовершеннолетнего Алексея Андреевича Макагонова.
ВСТРЕЧА
История эта началась с фотографии, с простого снимка, опубликованного в газете. С полосы улыбались молодые парни из строительной бригады. Сам бригадир стоял в центре. Лихая прядь волос выбивалась из-под козырька старенькой кепки, а на широких, по-детски пухлых щеках проступали забавные ямочки. В подписи к снимку чин по чину были указаны все фамилии передовиков, а его имя, должно быть из лишнего старания или уважения, пропечатали полностью вместе с отчеством. «Похож, Владимир Петрович,— шутливо обратился к себе Володя, откладывая в сторону газету.— Вот только улыбка какая-то неестественная». Через несколько дней в отделе кадров ему вручили два письма. На конвертах — один и тот же незнакомый почерк ; на штемпеле — город, в котором он никогда не был. Первое письмо было следующее: «Дорогой мой сыночек! Вот наконец после скольких лет просохли мои слезыньки и увидела я белый свет. Уж не знаю, кому и в ноги кланяться, что помогли мне найти тебя. Мать я твоя, Александра Феодосьевна, сынок ты мой ненаглядный, Володенька. Со вчерашнего дня, когда увидела твой портрет в газете, не могу ни есть, ни спать. Наконец-то, слава богу, нашелся, отыскался, мой родненький. Сколько лет прошло, а я сразу тебя узнала. Изменился ты, стал мужчиной, а глазки и щечки с ямочками все те же, что и у маленького. Помню тот проклятый поезд, на котором везли нас немцы в неволю в Германию, и как силой отнимали тебя от меня. А ты протягивал ко мне ручонки и все кричал: «Мама, мамочка!» Больше я ничего не помню, потому что потеряла от горя сознание. Я все время верила: живой ты, найду я тебя, обязательно найду. После войны я везде тебя искала, но все напрасно. Куда я только не писала, в каких только детдомах не была.! Многих находила я однофамильцев с такими же именами. Но все они были чужими, не ты. И вот увидела я фотографию в газете. Твою фотографию! Материнское сердце не обманешь, кровь родную не проведешь! Узнав, что ты в Москве, сразу же хотела ехать, но врачи не разрешают. Как же хочется, Володенька, поскорее обнять тебя и поцеловать. Приезжай ко мне, мой родной, свидимся. Твоя мама». Владимир еще раз пробежал глазами строчки. Снова посмотрел на конверт. Распечатал второе письмо. В нем той же рукой сообщалось, что Александра Феодосьевна в настоящее время находится на излечении в больнице, что состояние ее крайне тяжелое и что они, врачи, даже опасаются за ее жизнь. Его приезд более чем желателен. Они шли с главным врачом по длинному коридору больницы, удивительно похожему на вагон поезда. Игорь Михайлович придерживал Володю за руку, отчего наброшенный халат все время сползал с плеча. У одной из палат они остановились. — Ну, смелее,— тихо произнес главврач и легонько подтолкнул его к двери. Володя вошел. Он узнал ее сразу. Она лежала в правом углу, у самого окна. — Мама,— тихо произнес он. — Володя! Володенька, сынок!.. Вот и свиделись... Только обнять тебя уже не могу... Нет сил... Конец скоро... Владимир наклонился, взял ее худую старческую руку в свою. — Ну что ты, мама, все будет хорошо. Вот увидишь, все обойдется. Ведь у тебя теперь есть сын... Они сидели долго. Сначала Володя слушал ее, а потом рассказывал о себе, о том, как живет, работает. — Не женился еще? — спросила она его. — Нет. Володя замолчал, вспомнив о Юле.
«Как это я ей даже не позвонил перед отъездом?» — Ты говори, говори. Я слушаю...— ласково попросила она, испугавшись, что прервала его. Принесли обед. Володя пододвинул тумбочку, помог ей удобнее поставить тарелку, намазал маслом хлеб. — Сыночек,— прошептала она,— любимый мой, спасибо тебе... Через день она умерла. — Все тебя звала, Володя,— рассказывала ему нянечка.— Говорила, что теперь она счастливая, что пересилит болезнь. Гордилась тобой, всем фотографию из газеты показывала. Все рассказывала, как нашла тебя. Домой Владимир добирался поездом. Самолетом лететь не хотелось. — И где это ты пропадал целую неделю? — укоризненно выговаривала ему мать, когда он вернулся в Москву.— Говорил, в командировку уехал, а тут со стройки звонили, сказали, что ты вроде взял отпуск за свой счет. Нехорошо родную мать обманывать!.. Володя ничего не ответил.
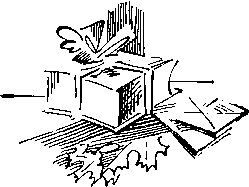
ЧУДО
Мишка работал в цехе уже более двух месяцев, но за это время ни с кем так и не подружился. Казалось, что все навязываются ему в друзья, норовят заглянуть в душу. А он этого терпеть не мог. И когда Вадим Исаев, чья фотография висела на заводской доске Почета, однажды спросил, почему он не надевает спецовку, Мишка так ему отрезал, что все в раздевалке даже обернулись. Работал он неважно. Нельзя сказать, чтобы не старался или не хотел. Просто не получалось. «Зря не согласился тогда с кадровиками»,— думал Мишка. Он хорошо помнил тот разговор в отделе кадров, когда впервые переступил порог завода. Кабинет был небольшой. Стол, два стула, металлический сейф, тумбочка у окна. — Работать, значит, к нам,— с улыбкой подавая руку, сказал седоволосый мужчина.— Это хорошо... Люди нам нужны. Ну а документы принес? Мишка видел, как нахмурился кадровик, когда прочитал его справку об освобождении из заключения. — Так, так... А направление из исполкома есть? Мишка достал бумагу. — Есть, значит,— протянул начальник отдела кадров.— Где же ты профессию токаря получил? — В колонии, пробормотал Мишка и поднялся со стула. — Да ты что встал? — негромко произнес седовласый. Беседовали они больше часа. — Советую начать с ученика,— сказал под конец кадровик.— А потом уже будешь работать самостоятельно за станком. — Нет,— наотрез отказался Мишка.— Не возьмете сразу токарем, к вам не пойду! — Ишь какой горячий! Смотри, я тебе добра желаю... Его взяли токарем. Сначала все шло как будто ничего, а потом цех получил новое задание. — Брак, Князев. Сплошной брак,— встретили его в ОТК, когда Мишка принес партию продукции.— Принять не можем. — Что же это ты, браток? — басил сосед.— А еще разряд имеешь! Нехорошо это как-то получается... — Тебе-то что? — огрызнулся Мишка.— Отвечай за себя, а ко мне не приставай! О Мишкином прошлом в цехе знали не все. Но те, кому была известна судьба этого замкнутого грубоватого паренька, старались относиться к нему с участием. Но Мишка никого к себе не подпускал. Не подпустил он и Вадима, когда тот второй раз подошел к нему: — Чего мучаешься? Ведь тут нужно смекнуть, в чем дело, и все. Давай покажу, и брака больше не будет. Вадим хотел уже остановить Мишкин станок и высвободить зажатую деталь, но тот почти оттолкнул его. — Не тронь! — закричал он.— Отойди! — Ну как знаешь... Время шло. Брак не снижался. — Послушай, Миша,— обратился к нему как-то начальник цеха,— может, тебе пока не браться за эти детали? — Это почему же? — насторожился Мишка.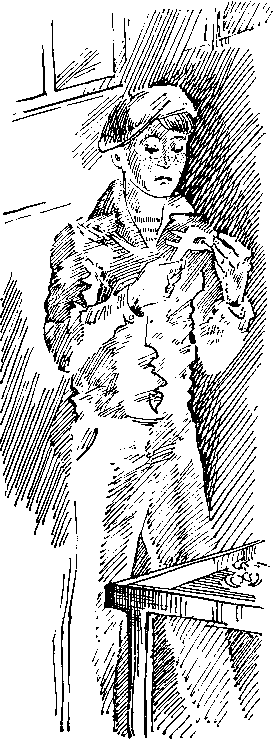
— Ну, хотя бы потому...— начальник замялся, подбирая слова. — Не получается, да? — опередил его Князев.— Ну и что? У меня же не получается, а не у вас. Кстати, за те детали, которые я запарываю, с меня же высчитывают, а не с вас. И чего вы только ко мне все пристали? Делать вам, что ли, больше нечего? — И он с силой бросил на пол болванку. Хотел уйти Мишка с завода, да не ушел. Трудно сказать почему. Может, все-таки хотелось укротить эти злосчастные детали, а может, вспомнил, что нужно будет идти в исполком, объяснять, почему ушел с завода, снова приходить в комиссию по трудоустройству. Как бы там ни было, он остался. Прошла еще неделя. Дневная выработка по-прежнему оставалась низкой, а процент бракованной продукции высоким. — Завтра снимаю тебя с этих деталей,— объявил ему как-то утром начальник цеха.— Снимаю! — твердо повторил он, ожидая привычного возражения и, может быть, даже грубости. Но Мишка промолчал. Работал он в этот день без всякого интереса. Даже не пытался стараться. Но произошло чудо. Когда он принес ящик с деталями в ОТК, там только руками развели. Все они оказались самого высокого качества. Послали за начальником цеха. Тот проверил все сам. Продукция полностью соответствовала требованиям ГОСТа. — Поздравляю! — громко сказал он, обращаясь к Мишке.— Оказывается, умеешь работать... Свое распоряжение отменяю. Давай и завтра в том же духе! — А ты что же сегодня подкачал? — не снижая голоса, спросил начальник цеха, повернувшись к стоящему здесь же Вадиму.— Не годится так, передовик. Смотри, пол-ящика брака. В раздевалке Мишка сам подошел к Вадиму. — Я все видел,— сказал он, хмуря брови.— Только зачем тебе понадобилось мои детали подменивать?.. Вадим ничего не ответил. — Ты торопишься сейчас? — не отставал от него Мишка. — Нет. — Покажи, как нужно...— выдавил он из себя после паузы. И они вернулись в цех.
ВРАЧ
Парень сидел в самолете рядом с женщиной удивительно похожей на врача. Спокойная, с внимательным взглядом из-под очков в тонкой золотой оправе, она держала на коленях небольшой чемоданчик, точно такой же, какой есть у всех участковых врачей. — Наш самолет Ту-104, следующий рейсом 705 по маршруту Москва — Минеральные Воды,— начала свое объявление бортпроводница,— будет находиться в полете два часа пять минут. Полет будет проходить на высоте десять тысяч метров... Вопросы есть? — А нельзя ли пониже? — пошутил кто-то. В салоне засмеялись. Улыбнулся и парень. Внизу проплывала земля. Казалось, что кто-то большой и сильной рукой аккуратно разлиновал ее на ровные квадраты и раскрасил их в разные цвета. — Товарищи пассажиры! Нет ли среди вас врача? — раздался тревожный голос стюардессы. — Что случилось? — озабоченно спросила пожилая женщина в платке, накинутом на плечи. — У одного пассажира что-то с сердцем... Товарищи, разбудите, пожалуйста, спящих. Может быть, среди них найдется врач? Женщина в очках слегка толкнула соседа. Он открыл глаза. — Вы не врач? Там человеку плохо... Парень неторопливо встал. — Где больной? — коротко спросил он и направился к проходу. Мужчина сидел в кресле, запрокинув голову назад. Руки его судорожно сжимали подлокотники. — Вас попрошу пересесть на другие места,— посмотрел парень на двух сидящих рядом пассажиров. Те поспешно выполнили его просьбу. — У вас есть аптечка? — не поворачивая головы, обратился он к бортпроводнице. — Есть. — Что в ней? — Аспирин, пирамидон, нашатырный спирт, капли Зеленина... — Несите капли Зеленина. Он раздвинул кресло и уложил на него мужчину. — Вам сейчас лучше? — спросил парень. — Да, спасибо. — Сейчас будет совсем хорошо. Только не надо волноваться,— сказал парень, протягивая ложечку с каплями.— Примите это, пожалуйста! Тот с трудом проглотил лекарство. — Намочите полотенце холодной водой или салфетку.., что там у вас есть? — снова обратился парень к бортпроводнице.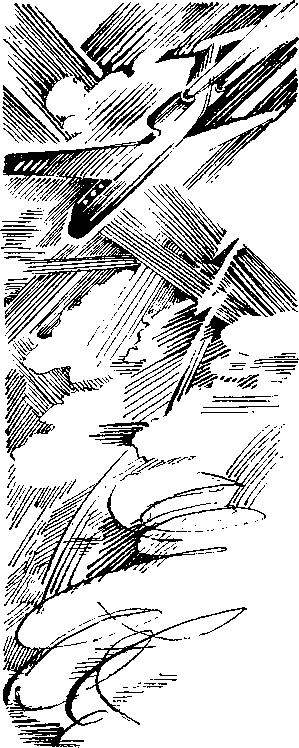
Девушка вернулась, держа в руках мокрый комок. Врач положил полотенце на лоб больного, затем осторожно расстегнул рубашку. — Не двигаться, лежать спокойно,— твердым голосом потребовал он, увидев, что мужчина заворочался. Прошло несколько минут. Как и прежде, ровно гудел мотор. Слегка закладывало уши. Доктор время от времени менял на голове больного полотенце. — Сообщите, пожалуйста, на аэродром, чтобы прислали к самолету санитарную машину,— сказал он бортпроводнице.— Больного нужно госпитализировать. — Хорошо... На аэродроме по пути к аэровокзалу доктора догнала женщина в очках. — Вы москвич? — спросила она, поравнявшись с ним. — Да,— остановился он. — И учились в Москве? — В Москве. — В Первом или во Втором? — Не понимаю... — Я имею в виду Первый или Второй медицинский кончили? — Ах, вон оно что,— улыбнулся парень.— Нет, я окончил педагогический. Литфак.— И, поняв ее недоумение, добавил: —Я не врач. Я по профессии учитель, а сейчас на комсомольской работе... В самолете просто нужен был врач, а его не оказалось. Вот я и решил помочь... — Да, но ведь вы не врач...— испуганно произнесла женщина. — Не врач,— пожал плечами парень.— Но главное в таких случаях, чтобы больной не терял веры. Ведь он считал, что рядом с ним врач, и уж только от одной этой мысли ему было лучше... — Ну а если бы что-то случилось? — не отставала женщина.— Ведь тогда были бы виноваты вы. — Случилось?—переспросил парень.— А что, собственно, могло бы случиться? Я же не операцию ему делал. Ну а положить на лоб холодное полотенце и дать капли Зеленина больному может каждый.
СЕРЕЖКИНА МАТЬ
Сережка ходил в детский сад и оставался там целых пять дней. В пятницу за детьми приходили мамы и бабушки, а за ним всегда отец. Они выходили на площадь, садились в троллейбус и ехали домой. — Мы пойдем с тобой в парикмахерскую? — спросил как-то Сережка. — Пойдем... — В военную? — Конечно, в военную... Сережка называл эту парикмахерскую военной, потому что однажды, когда они пришли туда с отцом и ожидали своей очереди, рядом с ними сидели дяди в военной форме. Потом они с отцом еще ходили в магазин. Там он примерил настоящий матросский костюм с блестящими якорями на рукавах. Тужурка была совсем впору, но вот брюки... Как Сережка ни старался подняться на цыпочки, брюки все же волочились по полу. — Ладно,— сказал отец,— не огорчайся. Купим в другой раз. Как не хотелось Сережке расставаться с костюмом! Он взглянул на отца и часто заморгал ресницами. А продавщица в синем халате еще раз посмотрела на брюки и сказала: — Берите, берите, они ведь бывают не каждый день. А что длинны — беда не велика. Мама дома подошьет. — Нет, купим в следующий раз,— строго сказал отец. Он не хотел, чтобы Сережка слышал этот разговор, но было уже поздно. Горькая обида на маму подступила к горлу мальчика, и из глаз его покатились слезы. — Не плачь, Сережа. Ты ведь у меня большой,— уговаривал его отец. Но даже «настоящая» пожарная машина, которую они купили в этот день, не могла его успокоить. — Папа, когда же приедет наша мама? — как-то по-взрослому спросил Сережа. «Что говорить?» Отец давно ожидал этого вопроса, но придумать ответ на него так и не смог. — Она не приедет,— негромко протянул он, но, испугавшись определенности, быстро добавил: — То есть она приедет, но не скоро... Сережка не знал, что, когда он был еще совсем маленьким, мама поцеловала его спящего и ушла из дому. Ушла насовсем. С тех пор они жили вдвоем: отец и сын. Отец работал в милиции и учился в вечернем институте. Был он молчаливым, неразговорчивым и никогда никому ничего не рассказывал. Иногда он не приходил на занятия в институт, но о причинах его отсутствия в деканате было известно, и окружающие не докучали ему излишними расспросами. Вот почему когда он не пришел в понедельник, никто не обратил на это особого внимания. Но он не пришел и в среду, не появился и в пятницу. — Что-то случилось,— всполошились в группе.Выстрел грянул неожиданно. Милиционер пошатнулся и медленно опустился на холодные ступени лестничной клетки. — Убили! Убили! — раздались крики по гулкому подъезду.— Милиционера убили! Через несколько минут из дому выводили убийцу, а «Скорая помощь», оглашая улицы воем сирены, мчала старшину в больницу. — Как же быть с Сережкой? — спрашивали ребята, обступив Катю, старосту курса.— Ведь сегодня пятница. Надо кому-то пойти за ним в детский сад. — Я пойду,— спокойно сказала староста.— Только я не знаю, где это находится... — Я провожу тебя,— сказал Женя. Они приехали в детский сад вместе с Женей. Сережка встретил их приветливо. Дядю Женю он знал, а вот тетю Катю видел впервые, но она ему сразу понравилась. В субботу и воскресенье он гостил у Кати. Они ходили в кино, долго гуляли во дворе, и Сережка даже два раза прокатился с большой горки — тетя Катя разрешила. ...Здоровье раненого не улучшалось, и состояние оставалось таким критическим, что врачи даже опасались за жизнь. Вторая операция тоже не помогла. — Спасибо тебе за Сережку,— сказал он как-то Кате, когда она, долго просидев у него, поднялась с краешка кровати. — Спасибо... И вот тебе письмо. Вскрой его, если я вдруг... Она ничего не сказала и молча положила в карман небольшой пакетик, запечатанный серой разлинованной бумагой. — У вас из кармана что-то может упасть, — услышала она в раздевалке, когда надевала пальто. Женщина в красивой переливающейся шубе показала ей на карман. «Письмо! — поспешно дотронулась Катя до кармана.— Как же это я так?..»

...Через неделю раненный при исполнении служебных обязанностей милиционер умер. В пятницу Катя снова пришла в детский сад. — Я за Сережей,— сказала она заведующей. Наступило неловкое молчание. Кате казалось, что оно никогда не кончится. Вспомнились слова матери: «Ты молода, дочка, сама еще ребенок. Всего двадцать годков живешь на белом свете. Отговаривать тебя с отцом не станем, но все же ты еще раз подумай...» Она подумала и решилась. — Я за Сережей,— твердо повторила Катя, глядя в глаза заведующей, и добавила: — Насовсем. Но заведующая продолжала молчать. В кабинет вошла женщина в переливающейся шубе. — Он капризничает и не идет,— начала она еще с порога.— Лариса Сергеевна, помогите... — А чем я вам могу помочь? — спокойно спросила заведующая. — Я не знаю, но скажите ему что-нибудь... Объясните же, что я его мама! Ведь вы воспитатели... А он ждет отца и какую-то тетю Катю. Сережка перестал плакать только на улице. Катя крепко держала его за руку, и он чувствовал тепло ее ладони. — Завтра мы пойдем в парикмахерскую? — спросил ее Сережка на углу улицы. — Конечно, пойдем. — В военную? — В военную... Она не понимала, почему парикмахерская «военная», и не представляла себе, есть ли вообще такая. Но она знала, что завтра эту парикмахерскую они найдут. Обязательно найдут.
НЕ НАДО ЗВОНИТЬ!
Сумрачный город раскинулся на берегу некогда широкой и глубоководной реки. Со временем река обмелела, и теперь казалось, переброшенный через нее мост стоит здесь только для того, чтобы удерживать на месте ее сильные покатые берега. Улицы сделали людей в этом городе незаметными. Протянувшись разноцветными лентами, они повесили над их головами бесчисленные «Купите!», «Смотрите!», «Пользуйтесь!». Нагромождение частных магазинов, кафе, ресторанов не оставило ни одного свободного метра. ...Зажатый между машинами автобус медленно продвигался вперед. Было жарко, но окна не открывались. — Уже не есть сезон,— заметил гид в клетчатом пиджаке, довольно неудачно пригнанном к его фигуре.— Скоро доедем,— продолжал он, глядя на туристов. Туристами были московские ребята. Они около трех часов добросовестно ходили за гидом, молча выслушивая его подробный рассказ о городе. Показав последний костел, гид взглянул на часы и, как всегда подбирая русские слова, сказал: — Мы уже... будем сейчас торопиться. Надо ехать в гостиница... Скоро есть ужин... Присутствующие молча восприняли эту информацию и также молча направились к автобусу. — Что это с ним? — вскрикнула Кира, остановившись у высокой подножки. Их шофер, тяжело дыша, полулежал на своем сиденье. Виталий, который неплохо знал язык этой страны, стоял рядом с ним и что-то говорил.
Кира подошла ближе. — Плохо ему,— объяснил Виталий,— сердце... Это от идиотской жары. Ведь он же вынужден торчать в этой кабине целый день. — Почему? — спросила Кира. — Видишь ли, по условию договора с фирмой шофер обязан неотлучно находиться в кабине. Выходить запрещается. Ребята помогли водителю перебраться в салон и уложили его на большое сиденье. Открыли двери. Шофер что-то сказал. — Он говорит, что сейчас все пройдет. Ему нужно немного отдохнуть,— перевел Виталий. Подошел гид. — О-о,— протянул он, оценив обстановку.— Это уже есть большой проблем... — Его теперь уволят,— сказал Виталий, кивнув на шофера. — Уволят? Почему? — А потому, что, по их понятиям, он сорвал программу. Опоздал ко времени привезти нас на ужин. — Сорвал программу? Ерунда какая! В конце концов, мы можем поужинать и на полчаса позже. Все равно у нас вечером свободное время,— раздались голоса ребят. — У них это так,— резюмировал Виталий. А гид уже объявлял: — Я сейчас буду звонить фирма, чтобы должны присылать новый автобус. А вы, господа, немного есть гуляйт... Но из автобуса никто не вышел. — А может, не надо звонить в фирму? — сказал кто-то.— Мы подождем, пока шофер отдохнет, а потом поедем. ’— Нет, нет,— не соглашался гид.— В девятнадцать ноль-ноль мы должны быть в гостиница. — Но ведь пока придет другой автобус, пройдет время, и мы все равно опоздаем к ужину. — О! Это есть уже другой случай... Все поняли, что гид боялся, как бы опоздание в гостиницу не было поставлено ему в вину. Ведь если придет другой автобус, то к гиду никаких претензий со стороны администрации не будет. На все же остальное ему было наплевать. — И все же не надо звонить! — послышался твердый голос Ильи, севшего за руль автобуса.— Мы будем на месте вовремя! Он был шофер, и потому пальцы его привычно коснулись ключа зажигания. Машина плавно тронулась с места. — Господа, господа,— всполошился гид.— Это невозможно, невозможно! Это есть большой нарушений! Но автобус уже набирал скорость.

СЛУЧАЙ НА РЫНКЕ
Замурованная со всех сторон громада почти не пропускала дневного света. Он был заменен электрическим. Для солнца кое-где оставались только узкие щели-бойницы. Громада напоминала вокзал с застывшими на рельсах товарными вагонами, в которых настежь распахнули двери. Вагонами были разноцветные лавочки, палатки, магазинчики. Современный восточный рынок! Что может сравниться с разноголосием и темпераментом его продавцов, разнообразием самых невероятных товаров — от золотых ваз, подносов, канделябров до ржавых изогнутых гвоздей, которые, казалось, и предлагать — дело безнадежное. Египетские статуэтки и марокканские апельсины, турецкие табаки и сенегальские маски, американские зажигалки и парижские шляпки, японские фонарики и африканские коврики... Все смешалось в едином круговороте! Потеряться на таком рынке ничего не стоило, и они потерялись: две девушки, туристки московской группы,— Тамара и Надя. Они помнили, что выход должен находиться где-то справа, неподалеку от того места, где прокопченные насквозь дымом жаровень торговцы продают истекающие соком чебуреки, и пошли туда. Но тут случилось неожиданное — на рынке погас свет, установилась такая непривычная здесь тишина, что даже зазвенело в ушах. Однако через секунду звон, крик, грохот прокатились волной по рынку с прежней силой, и все вокруг вновь задвигалось, зашумело, заволновалось.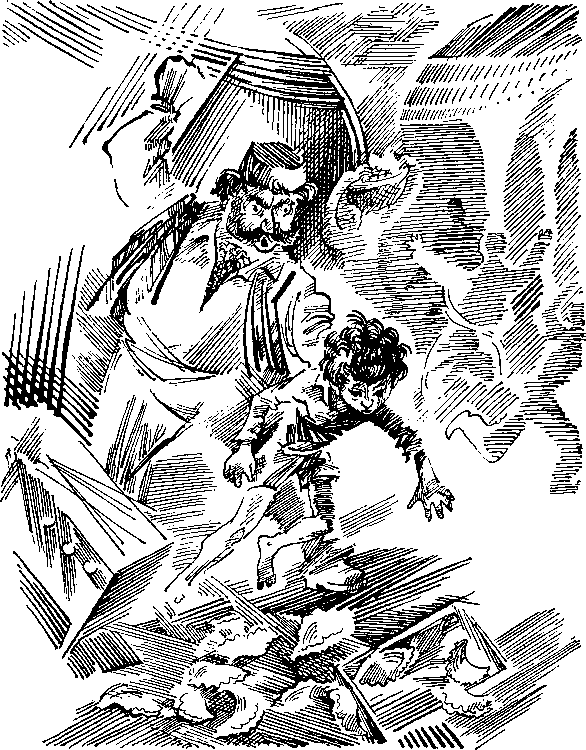
Послышался звон выбитых стекол, скрип дверей, лязг металлических жалюзи. Толпа прижала девушек к какому-то столбу. Их толкали, давили, задевали плечами, наступали на ноги. К счастью, все это длилось недолго. Свет загорелся. И снова со всех сторон раздались крики. Но теперь они уже смешивались с проклятиями и стонами. Особенно суетились продавцы. Они торопливо подбирали разбросанный товар: шкатулки, кувшинчики, рубашки, браслеты, ботинки — все, что было так тщательно разложено и расставлено на развалах. Потрясали черенками битой посуды, кусками разорванной материи, собирали затоптанные кофты, шали, галстуки, разматывали мотки перепутанных ниток. Какой-то толстяк в ярких малиновых шароварах, подпоясанный простой бечевкой, стоял на прилавке своего ларька и, вытирая грязным кулаком глаза, плакал навзрыд. — Пошли,— толкнула свою подругу Надя.— Нечего здесь делать... Там, где торговали чебуреками, девушки увидели усача в малиновой феске, который держал почти на весу смуглого мальчика и пытался прижать его голову к цементному полу. Напрягшись так, что даже вздулись на шее жилы, он норовил ткнуть мальчика лицом в раздавленный чьим-то каблуком чебурек. Тот кричал и вырывался. Собиралась толпа. — Что это он вытворяет? — удивленно спросила Тамара. — Не видишь, издевается,— ответила Надя.— Мальчик, наверное, в сутолоке перевернул его стол с чебуреками. А может быть, и не он. В такой толчее разве узнаешь кто? Вот этот торгаш поймал мальчика, который оказался под рукой, и требует, чтобы ему заплатили за ущерб. Как оказалось, Надя была права. Подошел полицейский. Он легко взял мальчика за ухо и что-то сказал. Тот заплакал еще громче. — Не можем ли мы, господин полицейский,— как можно вежливее обратилась к нему по-английски Тамара,— чем-нибудь помочь этому мальчику? На какую сумму нанес он убыток? Полицейский перевел вопрос продавцу. — У тебя с собой деньги? — обратилась Тамара к Наде. - Да. — Давай... — Вы его знаете? — кивнув на мальчика, спросил Тамару полицейский, когда она отдала деньги продавцу. — Нет. Полицейский пожал плечами...

В ЧУЖОМ ПОРТУ
Теплоход сильно качало. Тяжелые волны, казалось, вот-вот свернут его с курса. Они свирепо обрушивались на палубу, как бы испытывая на прочность мачты, тросы, капитанский мостик, и затем, обессиленные, уходили в океан, чтобы уступить дорогу новому водяному валу. За бортом штормило. Семь баллов сопровождали судно уже около суток. Наконец воздух посветлел. Вдали показалась узкая полоска берега. «Чужая, но все же земля...» — пришли на память слова известной песни. Федор стоял на палубе, облокотившись на перила, и смотрел на приближающийся берег. Внимание привлекал громадный костел, врезающийся своими шпилями в низкое небо. Вошли в бухту. Там было относительно спокойно. Только торопящийся с океана ветер будоражил водяную гладь и приносил холод. Проболтавшись несколько минут среди серых волн, теплоход причалил. Туристы заторопились к трапу. — Напоминаю! Стоянка в порту три часа,— объявил диктор судового радио.— Сверьте часы. Сейчас московское время четырнадцать часов десять минут. Местное время соответственно... И диктор повторил объявление два раза. У схода с трапа, как всегда, толпились мальчишки. Принося сюда всякую всячину, они изо всех сил норовили всучить ее туристам, предлагая наперебой открытки, сигареты, жевательную резинку и многое другое, что, по их мнению, могло заинтересовать иностранных гостей.
Возраст ребят был самый разный. Стояли и совсем маленькие, и подростки, и те, кого уж можно было назвать юношами. Федору с палубы хорошо было видно, что позади ребячьей толпы суетился малыш. Ему было лет семь, не больше. Повесив свой лоток на шею и широко растопырив ноги, он стремилсяпоспеть за всеми и тоже что-то кричал. На берегу Федор к нему подошел. Оказалось, что малыш продавал игрушки... Здесь был обитый бахромой клеенчатый верблюд, связанное из каких-то засушенных растений ожерелье, глиняный горшочек, на котором можно было только угадать когда-то обрамлявший его яркий рисунок, и еще несколько предметов. Федор заговорил с продавцом по-французски и не ошибся: малыш знал этот язык, как знали его мальчишки, промышляющие у трапа. Услышав разговор, их окружили. — Неужели месье купит у него эту дрянь? — галантно обратился к Федору невысокий плотный подросток, кивая головой в сторону игрушек. — Куплю,— ответил Федор.— Но только сначала хочу знать, зачем ему деньги. — У! Это уже не мои заботы,— протянул подросток и развернул перед Федором набор новеньких кожаных кошельков. Через некоторое время Федор уже знал, что малыш продавал игрушки «на доктора»: нужны были деньги, чтобы отвести к врачу сестру. — А что с ней? — У нее заболело лицо... — Но разве в вашем городе нет врачей, которые бы лечили бесплатно? — спросил Федор. — Есть. Но это где-то очень далеко. Мы не знаем, а здесь врачи лечат только за деньги... — Он уже два дня ходит по пристани, хочет продать игрушки,— добавил кто-то из толпы мальчишек.— Но разве кто купит? Ведь игрушки не новые... Услышав это, малыш еще раз с горечью посмотрел на свой лоток и тяжело вздохнул. Федор это заметил. — А где твоя сестра сейчас? — внезапно обратился он к малышу. — Там... За воротами, у склада...— неопределенно махнул тот рукой. — Приведи ее сюда. Малыш оживился. — А что? Купите? Да? — с надеждой посмотрел малыш на Федора. — Приведи! — строго повторил Федор. Когда малыш убежал, Федор попытался выяснить у мальчишек, сколько здесь платят за то, чтобы обратиться к врачу, и почему родители этих ребят не могут заплатить за это. — У них совсем нет денег,— коротко объяснил опять кто-то из мальчишек,— потому что их отец не может найти работу... — За доктора может заплатить только ее дядя,— добавил подросток, который торговал кошельками.— А он, наверное, не хочет... — Дядя? — не понял Федор и, стараясь не уходить от главного, тут же спросил: — А почему он не хочет? — У! — опять протянул подросток.— Это уже не мои заботы... Но он, наверно, не уверен, когда ее отец сможет отдать ему деньги, ведь работы у него уже давно нет... — А кем работал ее отец? — Шофером... Шофером такси,— ответил продавец кошельков и, как-то неумело копируя взрослых, произнес тихо и доверительно: —Но вы понимаете, конечно, месье... Нефтяной кризис на Западе отразился и на делах нашей страны. В частности, создались некоторые трудности с бензином,— продолжал он,— а это, в свою очередь, потребовало сократить некоторое количество такси... — Да,— перебил его Федор, пытаясь снова возвратить разговор к главному.— А кто же у девочки дядя? — спросил он, внимательно посмотрев на подростка. — У! — с иронией протянул тот.— Ее дядя недавно открыл свое дело и, как мне известно, преуспевает... Он работает здесь, недалеко от порта. И Сами понимаете, месье, имеет много клиентов,— опять неприятно-доверительно произнес подросток. — А что же у него за дело? — У! Он чистит обувь! У него свой павильон... — И хорошо зарабатывает? — Я же говорю, месье, есть клиентура... А потом, он еще и продает некоторый товар... Я не могу вам сказать какой — это уже не мои заботы, но только продает... Я,— дотронулся до своей груди подросток пальцем,— знаю это точно... Увидев девочку с перекошенным лицом, Федор понял сразу — острое воспаление надкостницы. Он был зубной врач и потому без труда мог определить такое ярко выраженное заболевание. — Подождите меня здесь! — громко сказал он.— Я скоро. Разговор с капитаном и судовым доктором был недолгим. Ему разрешили осмотреть девочку в медицинском кабинете теплохода, и вскоре она уже сидела в кресле, беспокойно озираясь по сторонам. — Не волнуйся. Все будет хорошо,— успокаивал ее Федор. Судовой доктор ему помогал. — Ну, вот и все. Теперь тебе будет легче,— сказал через несколько минут Федор, со звоном бросая инструменты в металлический ящичек. — Полоскать будешь вот этим,— протянул он ей темный пузырек.— А эти таблетки три раза в день. Понятно? По тому, как она поспешно закивала головой, Федор увидел, что она поняла. А тем временем у трапа назревал скандал. Дядя, узнав от торговца кошельками, что его племянница пошла на советский теплоход, явился на пристань. Он сделал это потому, что был уверен, что из этого что-то выйдет, что он что-то с этого будет иметь. Сама ситуация, о которой рассказал подросток, ему сразу же показалась необычной и потому уязвимой... «Местная девочка на чужом теплоходе... А это значит, на чужой территории,— рассуждал он.— О! Да, они за это и заплатить могут через полицию...» Правда, торговец кошельками сразу же предупредил дядю, что за сообщение, которое он ему сделал, он тоже хочет что-то иметь, но они быстро договорились. — Я — дядя! Дядя! — начал громко кричать чистильщик, подойдя к трапу.— По какому праву забрали мою племянницу? Выпустите ее сейчас же! Кто-то попытался ему что-то объяснить, но он не прореагировал, вернее, просто не хотел. У него была совсем другая задача. Хорошо, что Федор скоро вместе с девочкой появился на трапе. Девочка улыбалась. Однако, увидев дядю, остановилась и даже попятилась. В секунду оценив обстановку, Федор ринулся в наступление. Мгновенно сбежав с трапа, он подошел к мужчине и тоже громко начал: — Что же это вы, взрослый человек, не можете помочь своей маленькой родственнице? Не можете отвести ее к врачу, ведь у нее очень серьезное заболевание... — К врачу? — немало удивился тот. Он не ожидал такого поворота, а вернее, такого начала, но тем не менее, уверовав в благополучность исхода этой истории, продолжил: — Врачу деньги надо платить... — Но вы же богатый человек. У вас есть свое дело... Услышав слово «богатый», мужчина улыбнулся. Ему всегда льстило, когда его так называли, хотя, скажем откровенно, особых тому оснований не было. Но так уж было заведено в этой стране, что каждый торговец, лавочник, официант или чистильщик мечтал быть богатым. И когда это звание за кем-то из них укреплялось, возражений не было, а даже появлялась уверенность, что это именно так. Наулыбавшись, дядя все-таки заметил: — Платить можно тогда, когда знаешь за что... — Я вас не понимаю,— изумился Федор. — А что тут не понимать? Зуб отболит и пройдет, а если обратиться к врачу, то уйдут деньги... — А если зуб не пройдет? — почти вскрикнул Федор.— Если он разболится еще больше, заденет кость, тогда девочка может... Он остановился, не договорил, потому что кругом было много народу, да и знал, что где-то здесь стоит, держась за щеку, его юная пациентка. А при ней, даже маленькой девочке, он, как врач, произносить этих слов не имел права. Но дядя понял то, что хотел сказать Федор. Нисколько не смущаясь, он закончил его фразу вопросом: — Умереть может? Ах как это печально,— уже цинично продолжал дядя.— А у меня у самого двое детей умерли, мальчик и девочка... Что же мне теперь?— Он помолчал, а потом добавил: —Я так знаю: бог дал и бог взял, если ему будет угодно... Федор уже понял, что разговаривать с этим человеком бесполезно, и потому попытался скорее от него отвязаться. — Ну ладно,— сказал он,— племянница ваша в целости и сохранности, ничего с ней не случилось. Она уже здесь на пристани, на вашей земле. Так что, какие еще могут быть вопросы? Чувствуя, что намеченный план срывается и молодой человек полностью уверен в своей правоте, дядя неожиданно закричал во всю силу: — Полиция! Полиция! Сюда! Господа русские обидели мою несовершеннолетнюю родственницу! Появились полицейские. — Что здесь происходит? — спокойно спросил один из блюстителей порядка, поправляя у подбородка ремешок каски. Дядя начал объяснять. — Где ваша племянница? — перебил его полицейский.— Я сам хочу с ней говорить. — Вот...— посмотрел дядя в ту сторону, где она только что стояла, и не увидел ее.— Куда же она делась? Ее действительно уже не было. Воспользовавшись суматохой, девочка убежала с пристани, прижав к груди темный пузырек с микстурой и крепко зажав в кулаке таблетки. — Так где же ваша племянница? — снова повторил вопрос полицейский. — Не знаю... Но она была здесь... Была! Все видели... Они могут подтвердить,— обратился он к стоящим ребятам. Но те молчали, и полицейские, постояв еще немного, неторопливо пошли вдоль стоящих у причала светлых океанских кораблей. Федор посмотрел на обескураженного дядю, и тут вдруг ему пришла мысль: «А не попытается ли этот человек выместить потом на девочке свою злость, не попытается ли он в чем-то повлиять на ее родителей? Ведь она самовольно пришла на советский теплоход... А кто знает их, родителей, как они к этому отнесутся? Я же с ними не знаком! А потом...» Федор еще раз взглянул на дядю и понял, что этот человек может сделать все. Сбегав в свою каюту, Федор появился на пристани, держа в руках маленькую железную баночку — крем для обуви. Он захватил его с собой в дорогу, думая, что пригодится, но так ни разу не открыл. — Это вам как сувенир,— подошел он к мужчине.— И будем считать, что инцидент исчерпан. Увидев нераспечатанную банку гуталина, мужчина растаял. — О месье! — сказал он нараспев.— Я вами очень доволен... Примите мою благодарность... Такой подарок! И это в то время, когда цены на нефть поднялись... «А при чем тут нефть? — подумал Федор.— Очевидно, он имеет в виду, что гуталин делают из нефти...» А мужчина продолжал: — Я приношу свои искренние извинения вам, месье, за беспокойство... Но Федор перебил его. — Прошу вас выполнить оДну мою просьбу,— сказал он. — Какую? — как можно вежливее спросил мужчина. — Прошу вас никогда никому не рассказывать об этом случае и никогда не напоминать о нем ни девочке, ни ее брату. Никогда! Вы поняли? Вы можете мне это обещать? — Конечно! Конечно, месье! Даю вам слово порядочного человека... Вокруг захихикали, но дядя на это не обратил внимания. Он продолжал кланяться и рассыпаться в комплиментах даже тогда, когда теплоход уже отошел от пристани.

ЗДРАВСТВУЙ, ТОВАРИЩ!
Павел впервые увидел город, который, казалось, никогда не спал. Его неумолкающий шум заполнял улицы даже ночью. Стихнувшие под утро сирены машин сменяли скрип открывающихся ставен, жалюзи, крики шоферов, развозящих ранний товар, громкий лай усердных собак и визгливые возгласы быстроногих мальчишек — разносчиков газет. Павел вышел из гостиницы, едва забрезжил рассвет. Не спалось. К тому же он решил обязательно отыскать до завтрака тот мост, о котором рассказывала Элен и который, как она говорила, находился где-то совсем рядом. Хотелось взглянуть на чугунную оправу его камней, которая уже несколько веков держит это уникальное сооружение. ...Они приехали в этот город вчера во второй половине дня и разместились в шикарной гостинице, сплошь застеленной мягкими коврами. Ковры были везде: в холлах, на лестнице, в широких проходах этажей. В сочетании с белым мрамором стен и искусственным дневным светом, падающим откуда-то сверху, они придавали гостинице особенно богатый и парадный вид. Войдя в отведенный ему номер и оглядев апартаменты, Павел перво-наперво направился к сверкающему своей металлической белизной умывальнику. Он уже хотел было открыть кран и пустить воду, как в дверь постучали. — Кто там? — подошел он к еле заметному в стене квадрату, сбоку которого был ввинчен массивный набалдашник. — Это я, Элен,— услышал он голос переводчицы.— Быстрее, быстрее в ресторан обедать. В темпе... «Ну вот,— с досадой подумал Павел,— умыться даже не дадут... Опять «быстрее» и опять «в темпе»... Но что поделаешь? Ordnung ist Ordnung[1], — вспомнил он одну из немногих известных ему фраз из немецкого языка, который, хотя и учил пять лет в школе и два года в институте, знал все же плохо.— Что это я по-немецки? — смотря на тонкую, как вязальная спица, струйку воды, поймал себя Павел на мысли.— Здесь на этом языке никто не говорит...» — И, почувствовав (уже в который раз!), что ему так хотелось бы знать хоть какой-нибудь иностранный язык, вышел из ванной комнаты. Спускаясь вниз, Павел обратил внимание на обилие ярких плакатов, расположенных так, будто кто-то взял в руки игральные карты, закрыв углы каждой из них, и образовал разноцветный веер. На плакатах была помещена реклама. Она знакомила посетителей гостиницы и с модами летнего сезона, и с лучшими национальными блюдами, и с автомобилями, которые выпускает та или иная страна, и с музыкальными инструментами разных народов, и еще со многим другим, чего Павел даже не мог понять. «Америка, Япония, Австрия...» — складывал он латинские буквы, четко выведенные на плакатах, и удивлялся тому, какая представлена здесь широкая информация о мире. Ресторан гостиницы встретил туристов мягким светом и как бы сразу поглотил их. Сев за один стол с Любой и двумя юношами из своей группы, имен которых он так и не знал, Павел огляделся. Сбоку над оркестровой сценой висела большая луна. Она медленно вращалась в окружении золотистых звезд, в изобилии рассыпанных по темному фону. Луна улыбалась и удивительно была похожа на нашу игрушечную матрешку, которую обычно каждый уезжающий за границу обязательно берет с собой. Такая матрешка была и у Павла, даже не одна. «Как бы не забыть раздарить»,— вспомнил он о их существовании, глядя на эту луну. Подошедший официант заговорил по-русски. Это удивило Павла не меньше, чем всех, кто сидел с ним за одним столом. — Откуда вы знаете русский язык? — не удержалась от вопроса Люба. — Знаю,— коротко ответил официант и, сделав строгий вид, открыл свой блокнот, давая тем самым понять, что разговаривать об этом он не имеет времени, так как должен приступить к исполнению своих служебных обязанностей. — Вашей группе на первое мы можем предложить свекольник, куриный бульон,— начал перечислять он,— суп из черепахи... — Суп из черепахи? — перебил его Павел. — Да,— повторил официант,— суп из черепахи. — А что, ребята, давайте возьмем? Где еще доведется такое попробовать?.. Предложение было принято. Одна только Люба отказалась есть суп из черепахи. — Наверно, какая-нибудь гадость,— откровенно произнесла она и поморщилась. Услышав ее замечание, официант поспешно обернулся к ней, и его брови удивленно поползли вверх. Однако он ничего не сказал, а только молча кивнул головой, когда она попросила принести ей куриный бульон. Как бы дополняя спокойное настроение, создаваемое в зале освещением, в ресторане медленно плыли звуки блюза. Оркестр играл неторопливо и даже лениво, так, что, казалось, каждая взятая трубой или саксофоном нота надолго повисала в воздухе. Общий ритм нарушали только официанты. Они удивительно напоминали конькобежцев, скользя, как на льду, в разные стороны по гладкому полу. Особенно они были быстрыми, когда торопились с пустыми подносами к ярко освещенному входу без двери, за которым была, очевидно, кухня. Павел только сейчас обратил внимание на то, что они все были очень молодыми, почти подростками. «Ну сколько может быть нашему официанту? — размышлял он.— Лет пятнадцать, не больше... А этому, белобрысому, тоже почему-то строгому и серьезному?.. Он почти такой же, как Костька. И даже похож на его товарища. Этого... Как же его зовут? Кажется, Марик...» Павел вспомнил о брате, о том, как, провожая его на вокзале, Костька долго не решался что-то сказать, а потом, когда уже поезд тронулся, крикнул: — Привези из Чехословакии увеличительное стекло, которое прожигает! — Привезу! Чехословакия была единственная социалистическая страна, которую туристы посетили во время своей поездки. «Какие замечательные там люди,— вспоминал Павел,— добрые, внимательные...» Однако он скоро должен был отвлечься от воспоминаний, потому что официант уже все поставил на стол. Первым делом Павел начал недоверчиво рассматривать черепаший суп. Ребята, сидевшие с ним за столом, делали то же самое. Они даже включили стоящую здесь же настольную лампу, чтобы было лучше видно. К их удивлению, суп подавали не в тарелках, а в маленьких кофейных чашечках. По цвету он тоже был похож на кофе. Чувствуя некоторую ответственность за свое предложение заказать черепаший суп, Павел первым поднес чашечку к губам, отхлебнул и ощутил во рту густую наваристую жидкость. Другие последовали его примеру. — Ну как? — усмехнулась Люба, которая с нетерпением ждала оценки столь экзотического блюда и даже не трогала свой куриный бульон. — Ничего,— произнес Павел,— только маловато. Уже половины нет, а какой у него вкус — так и не понял. Все засмеялись. После обеда туристов повезли в музей современной живописи. Потом была экскурсия по городу, во время которой Элен и упомянула о том знаменитом мосте, который был построен еще в семнадцатом веке из чугуна и камня. Однако мост она не показала, сославшись на то, что он находится недалеко от гостиницы и туристы, если захотят, смогут его увидеть в свободное время сами. — А сейчас быстрее, быстрее ужинать,— произнесла она уже хорошо знакомый всем призыв.— В темпе... Заснуть ночью Павел не мог — мешал неумолкающий город. Забылся только, как ему показалось, на несколько минут, а когда туманный рассвет едва коснулся своим дыханием улиц, окружив прозрачной голубизной бесчисленные фонари и огни реклам, спустился вниз. «Ну где же этот мост?» — спрашивал он себя, неторопливо шагая вдоль серой линии домов по той стороне, где была гостиница. Он прошел уже почти целый квартал, но моста не было. Повернув в обратную сторону, снова миновал широкие двери гостиницы, за которыми все так же стоял навытяжку грузный швейцар с золотым погоном на правом плече. На этот раз Павлу показалось, что швейцар внимательно посмотрел на него, когда он проходил мимо. «Ну где же этот мост? Где?» —продолжал спрашивать он себя, озираясь по сторонам. И тут вдруг Павел увидел двух подростков, переходящих неширокую улицу. Похоже было, что подростки направлялись прямо к нему — так внимательно смотрели на него две пары любопытных глаз. Павел узнал их сразу. «Официанты! Ну, точно... Вон наш, а рядом с ним белобрысый». На этот раз они показались Павлу не такими строгими и серьезными, как там, в ресторане, а, наоборот, увиделись веселыми и молодыми в своих сильно потертых джинсах и одинаковых белых рубашках, мятых и даже небрежных. — Здравствуйте,— сделал навстречу к ним несколько шагов Павел. — Здравствуй, товарищ! Павел даже оторопел: «Какой я ему товарищ? И почему он меня так называет? » Однако он постарался скрыть свое недоумение и поспешно спросил: — Не скажете ли, где здесь мост, построенный из чугуна и камня? Мост семнадцатого века? Ожидая ответа, Павел взглянул на другого подростка: «Ну как он похож на Костькиного товарища! Просто как две капли воды». А официант уже отвечал. — О! Это совсем рядом! Надо только пройти вон ту площадь,— показал он рукой на зажатый высокими строениями асфальтовый четырехугольник,— и свернуть направо. Там и будет этот мост... — Спасибо,— поблагодарил его Павел и снова повторил вопрос, который задавала официанту Люба еще в ресторане во время обеда: — Откуда вы знаете’ русский язык? Паренек так же, как и тогда, коротко ответил «знаю», но Павел тем не менее почувствовал, что на этот раз подросток был готов сказать что-то еще, и потому заторопился поддержать разговор дальше, выбрав для этой цели, быть может, не самый удачный тон восторга. — Вы очень, очень хорошо знаете русский язык! — сказал он.— Это говорю вам я, русский... Я просто восхищен вами! Подросток улыбнулся: — А я тоже русский... — Как? — Мой дед жил в России,— начал он рассказывать, польщенный похвалами Павла,— но уехал оттуда давно. Здесь родился мой отец, его братья... Мои дяди,— уточнил подросток и посмотрел на своего приятеля, который явно не понимал, о чем они говорят, и потому, наверное, так увлеченно рассматривал остановившуюся рядом с ними машину, выкрашенную в необычный цвет, напоминающий новую алюминиевую кастрюлю.
— Здесь родился и я,— продолжал подросток.— В семье у нас прилагают все усилия, чтобы знать русский язык. Дедушка, когда был жив, всегда стоял на том, чтобы мы дома говорили только на русском языке. И вот я теперь его немного имею... Павел только сейчас заметил, что помимо акцента, который выдавал подростка, он еще как-то странно строит отдельные фразы и употребляет некоторые слова. Все вроде бы на русском и в то же время не по-русски. Но он не стал говорить ему. — А в Москве есть каменные мосты? — услышал неожиданный вопрос Павел. — Мосты? — не понял он.— Есть, конечно!.. Есть и каменные... — А нам говорили, что в Москве все мосты разрушены еще во время войны. — Что? Что?— опять не понял Павел.—Как разрушены? И тут только до него дошла вся степень незнания подростком его страны, Советского Союза, любимой Москвы, в которой он, Павел, родился, учился, в которой живет сейчас и работает. Павел даже растерялся поначалу. Ну в самом деле, что им на это скажешь? Однако, собравшись, он тихо и спокойно произнес : — Ну, во-первых, мосты в Москве все до единого уцелели после войны, а во-вторых, в Москве после победы восстановлено все. И восстановлено давно! Сейчас Москву не узнать. Она стала в сто, в тысячу раз лучше, чем была до войны... В Москве много строится... Он еще что-то говорил, пытаясь вспомнить самое главное, что особенно, как ему казалось, могло бы убедить подростка, но тот уже ничего не слушал, а взяв за рукав своего товарища, тянул его к Павлу. Белобрысый не сопротивлялся. Подойдя к Павлу ближе, он внимательно посмотрел на него и что-то произнес. Услышав перевод, Павел снова оторопел. Белобрысый спрашивал, где Павлу выдали его костюм: на границе или уже в их стране? — Да ты что? На какой границе? — Но ведь у вас нет костюмов...— снова услышал он перевод реплики белобрысого.— У вас лапти, балалайки, самовары... Ваши люди всегда их нам дарят. Павел уже совсем разгорячился, но, понимая, что сейчас эмоции — плохие его союзники в разговоре, заставил себя сдержаться. Ему на помощь пришел «их» официант. — И я ему всегда говорю, что у вас все есть,— сказал он, посмотрев на белобрысого.— Мы же слушаем дома ваше радио. Я знаю... А он вот не верит... И тут Павлу вдруг почему-то припомнились яркие плакаты в гостинице, на которых изображены элегантные пальто, красивые машины, аппетитные кушанья, рядом встали надписи: «Америка, Япония, Австрия...» Павел еще долго разговаривал с подростками, а когда они уже уходили — приближалось время начала их работы, Павел захотел подарить им на память сувениры, но потом раздумал. В его кармане лежали матрешки, на которые так была похожа луна в ресторане, где они работали.

Последние комментарии