Ледовое небо. К югу от линии [Еремей Иудович Парнов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Еремей Парнов Ледовое небо
Повести
ЛЕДОВОЕ НЕБО
(Повесть)

Шаманий бубен, а не лед озерный.Оскал костра — не облака заката.И дни — пока не дни, а только зерна,Которыми твоя судьба чревата.Николай Димчевский
ЗОЛОТОЙ БОГ
Оскаленный рот с удлиненными резцами и яростным языком смазали теплой оленьей кровью. Затем ублажили Владыку табунов яствами из семи драгоценных чаш: привета и окурили душистой травой авагангой, привезенной то ли с Керулена, то ли с Ангары. Отлитый из чистого золота в недоступных тибетских горах, стоял шестирукий охранитель посреди задымленного чума и улыбался застывшей окровавленной улыбкой; потрясая арканами и мечами, топтал нещадно жалящих змей. Чело его венчала диадема из черепов, а до самых колен, кривых и могучих, как положено прирожденному всаднику, свисало ожерелье со срезанными головками. Три лошади, устремленные в прошлое, настоящее и будущее, летели сквозь яростное пламя его волос. Шаманы в нагольных тулупах, окрашенных в алый цвет древней сакьяской секты, пропели мантры на непонятном чужом языке и бережно завернули своего бога в дорогую парчу, а после в песцовые шкурки. Путь ему предстоял долгий, трудный, и зима пришла на Таймыр такая, что камни — и те рассыпались в песок. Под рокот бубна и сердитый собачий лай уложили оленеводы одетую мехом фигуру на нарты, и лучшая упряжка из шести красавцев быков понесла ее к далеким горам Путорана. Следом потянулась вереница провожающих нарт. Длинный хорей направлял стремительный бег в черноту полярной ночи. Снежная пыль дрожала на малицах. Как заиндевелые ветки, сверкали под полной луной гордо откинутые рога. Так и не привелось Владыке табунов стать покровителем оленьего стада. Весть о том, что упорные чернецы с далеких островов Соловецких добрались до самого устья великой реки Енисей, напугала пришлых шаманов. Собрав пастухов, повелели они спрятать сокровище в самой глубокой котловине синих гор Путорана, где блуждают от века, не находя выхода, волчьи стаи и племена Одичалых людей. На том и потерялся след золотой фигуры. Но неведомым путем распространилась весть, что дорогу к ней укажет когда-нибудь белый отсвет в ночи, который ученые люди называют «ледовым небом».Ровно через двести лет, день в день, на месте того чума, откуда ушел в зимнее касланье[1] золотой охранитель, построили первое заводоуправление. Заполярный город, выросший посреди дикой тундры, стал самым северным городом в мире. Его многоэтажные каменные дома, словно повторяя далекое утро человечества, покоились на свайных опорах, намертво вмороженных в вечный лед. Немалых жертв потребовала мерзлота, прежде чем удалось приспособиться к ее крутому капризному норову. Подтаивая и расползаясь от малейшего тепла, излучаемого людским жильем, угрожая провалами и взрывом, она словно соединила в ледяной толщи сокрушительную мощь противоположных стихий: огня и воды. Первостроители, еще в тридцатые годы «заложившие» основы будущего комбината, пришли в отчаяние, когда с наступлением лета увидели провалившийся фундамент, перекрученные каркасы, изуродованные трещинами стены. Но это была лишь проба пера. Лежащая под тонким слоем торфяных отложений трехсотметровая ледяная толща не уставала держать в изумлении самонадеянных пришельцев, которые привезли с материка буквальна все: от гвоздей до автобусов, от каменных облицовочных плит до тракторов и железнодорожных рельсов. С рельсами мерзлота сыграла особенно каверзную шутку. Не успели проложить колею, соединившую город с портом на Енисее, как весь путь, вместе с насыпью самым откровенным образом утонул в трясине. На другой год сделали более высокую насыпь, которая по всем инженерным расчетам не могла оказать заметного давления на грунт и полностью защищала от перегрева. Но вечная хозяйка тундры ответила таким головоломным трюком, что даже видавшие виды полярники обреченно развели руками. Железнодорожная ветка, каждый метр которой обошелся в несколько раз дороже, чем на материке, превратилась в некое подобие американских горок: чудовищные провалы чередовались с фантастическими вздутиями, шпалы полопались, задранные к небу рельсы завернулись в штопор, оскалясь клыками выдранных костылей. И все же город построили: с асфальтированными улицами, магазинами, кино, бассейном для плавания. Проложили и железнодорожное полотно, по которому потянулись к Енисею составы, груженные металлическими слитками, углем, рудой. Мерзлота перестала быть непостижимой загадкой. Ее научились деликатно и бережно обходить. Специальная мерзлотная лаборатория, созданная при комбинате, начинала с азов. Суровую истину, что человек должен сосуществовать, а не бороться с природой, там усвоили задолго до того, как она стала внедряться в умы администраторов и ученых, живущих несколько южнее Полярного круга. Рекомендации, опробованные в Заполярном городе, нашли широкое применение по всей Арктике. В Гренландии, на Аляске, в Канаде — всюду можно встретить теперь водопровод в бетонном коробе, вознесенный, подобно римскому акведуку, высоко над землей, или прославленные железобетонные сваи. Заглубленные на добрых тридцать метров и залитые цементным раствором, они вмерзаются в грунт, срастаясь с ледяным монолитом. Парящие над землей «Черемушки» лишь оттенили легкостью и белизной суровый лик массивных старожилов. Словно памятники недавнего, но уже легендарного прошлого, покоятся они на незыблемом скальном грунте. Под каждым — тридцатиметровой глубины котлован, продолбленный киркой и пробойником, изобильно политый потом. Управление комбината размещалось именно в таком внушительном здании, с традиционными портиками и колоннадой индустриального стиля тридцатых годов. Серый камень, конструктивистские окна, шершавый железобетон… Памятник эпохе, свершившей прыжок через невозможность, и живое рабочее сердце города, чьи окраинные улицы обрывались прямо у ямин полигональной тундры, где осока да пушица выметывали к июлю неподатливые колоски. Но далеко за сопки из шлака и прочих индустриальных отходов, которым ветры, снега и цепкая зелень придали волнистую стать творений земли, далеко за гряду фиолетовых гор, врезанных в беловодье окоема, простирал свою пионерскую власть комбинат. От кедровой тайги до отмелей Карского моря, с их моржовыми лежбищами и гнездовьями легендарной розовой чайки, ставил он опорные вышки. Аж до самого Енисея метил заявочными колышками кочки хмельного багульника, чей обычно лиловый цветок был зелен от потайной меди или густо синел сокровенным кобальтом. Ажурные фермы ЛЭП и газопроводные трубы стали его крепостными стенами, сторожевыми башнями взметнулись над редколесьем вышки буровых и копров. На сто восемьдесят километров протянулся он по меридиану, связав навечно океан, тайгу и богатейшие горы, отдавшие взамен золотой жертвы медь, никель, кобальт и сопутствующие им редкие земли.
РЕЧНОЙ ЗАТОН
Вязкой горечью потянуло с увалов. Призывно-тревожно. Оцепеневшая за двести сорок суток зимы тугая древесная плоть нетерпеливо напружилась и живительный дух ее легким туманом просочился сквозь оттаявшие на припеке устьица. Архипелаги снега еще пятнали яры, поросшие чахлым лиственничным редколесьем, а волглая торфованная почва кое-где сочилась неукротимыми ручейками. Фильтруясь через сфагновый мох, осветляясь под пористым настом, они неудержимо рвались в пойму. Даже ночью не затихал вкрадчивый стеклянный шелест. Да и сгладилось различье между ночью и днем. Косматое дымное солнце, едва коснувшись лиловой сопки, на которой прошлым летом выгорел лес, не желало закатываться за горизонт. Чудовищно искаженное рефракцией, смазанное влажным дыханием пробудившейся тундры, висело оно над долиной, насылая бессонницу, тираня назойливым бредом. К концу первой декады июня реки еще были плотно набиты льдом. Круто замешанная, тронутая хмурой пороховой синью облачная пелена то озарялась блистающими окнами, то хлестала зарядами снега. Казалось, все висит на тончайшей волосинке и полусонный мир только и ждет, чтобы вновь погрузиться в оцепенение. Но несмотря на шквальные ветры, на метель, пролетающую под трубами газопровода, поднятыми подальше от мерзлоты, не утихал шелест таяния. И горьковатый дух тополиных проснувшихся почек по-прежнему томил душу. Необратимость извечного круговорота ощущалась в робких приметах весны. Подъем воды начался — не поздно, не рано — шестого мая, а первую подвижку наблюдали только в начале июня. Горизонт вешних вод поднялся к этому времени уже на двенадцать метров. Но лед далеко не пошел. Замер, словно собираясь с силами. За первой короткой подвижкой последовала другая, потом еще одна — мощная, когда, казалось, Енисей окончательно взломает и вынесет и океан разбитые ледяные оковы. Караваны судов терпеливо дожидались у кромки припая всего в каких-нибудь восьми милях, но к Дудинке было не подойти. В порту же скоплялись предназначенные к отправке грузы: руда для Мончегорска, слитки анодной меди, чистый, как зеркало, «никель-ноль». Река, в десяти верстах от которой построили Заполярный город, много раньше освободилась от ледяной хватки. Благодаря сильному течению, она на большом протяжении не замерзала даже в пятидесятиградусные морозы. Поэтому и звалась испокон веков Талой, хоть и тащила усердно в Пясинское озеро лед, погребенный и вымытый из-под берега, но, большей частью, с питающих рек и озер, вскрывавшихся в иные годы много позже енисейской лагуны. В Заливе и в Дудинке с нетерпением ждали открытия навигации, а на Талой уже вовсю шныряли катера и моторки. За шумовой завесой громоздящихся друг на друга геометрически правильных льдин едва ли можно было расслышать зябкий шорох иссушенной за зиму жестяной осоки, чавканье раздавшихся мочажин, вздохи набухшего белого моха. Но именно там шла незаметная целительная работа и день ото дня светлела взбудораженная вода. Первые лодки выскочили на струю, когда Талая только-только пришла в себя. Пробовала силы, неумеренно играла норовистыми, перехлестывающими — стоило лишь подставить борт — гребешками. Рыболовам большого заполярного города, наскучившим пробавляться подледным блеснением, не терпелось порезвиться на открытой воде. У каждого было свое облюбованное местечко, укромный уголок, память о котором скрашивала однообразие зимних дней. Слух о том, что таймень хватает блесну, молниеносно разнесся по заводам, научным институтам и прочим, так или иначе примыкавшим к комбинату учреждениям. Мужскую половину населения охватило нервное возбуждение. Едва наступило долгожданное субботнее утро, все, у кого только были лодки, устремились к причалу. На медном заводе и на прочих участках с непрерывным круглосуточным циклом, только и разговоров было, что про рыбу, а заводские социологи зафиксировали временное снижение производительности труда. Треск моторов оглашал весь берег от железнодорожного моста до угольной насыпи, а синий дым растекался по галечным мысам. Моторки шли, как рыба в косяке. Но понемногу русло расширилось, и река вобрала в себя и эти лодки с их грохочущими, воняющими бензином моторами, и людей, оживленных, азартных, умеющих по-детски радоваться простым и вечным проявлениям жизни. И вновь одиночество повисло меж высоких яров, утыканных кривыми тонюсенькими деревьями, за которыми смутно темнели матерые стволы, отвоевавшие себе место почти на самой границе безлесной тундры. Все непривычные шумы потонули в изначальной тишине, растворились в настороженном и мудром молчании. Север, окружающий заполярный город, еще способен был каждому дать уединенное место — естественный и бесценный дар, которого лишены горожане, живущие на материке, о котором едва ли узнают их быстро растущие дети.Рисковая это была затея — рыбалить на неустоявшейся воде, когда по протокам встречались заломы, а на отдельных перекатах даже рыба шла чуть ли не боком. Но в этом риске едва ли не главная прелесть таилась. Север приманивает к себе людей определенного склада: покорителей, первопроходцев, а потом мнет их, как первозданную глину, приспосабливая под свою мерку. Постепенно и выковывается характерный психологический тип, для которого особая притягательность заключается и противоборстве, как принято говорить, с природой. От сидения в прокуренных кабинетах да ежевечерних бдений у телевизора эта почти атавистическая жажда сама собой притупляется, но не исчезает совсем. И если только предоставляется удобный случай, коренной полярник всегда рад тряхнуть стариной. Начальнику поискового горно-металлургического цехи Андрею Петровичу Мечову такой случай как раз и представился. С помощью слесарей, которым была обещана бутылка редкостного армянского — в Заполярном городе вместо водки продавался только «питьевой спирт», — он загодя спустил лодку на воду. А потом все оставшиеся до выходного дни занимался блеснами, карабинами, леской и прочими упоительными причиндалами спиннингового промысла. Он лишь рассмеялся, когда начальник планового отдела Бузуев, с которым в урочный день столкнула его судьба, заикнулся насчет водокрутов во дальними валунами. — Кто не рискует, тот в тюрьме не сидит, — отшутился Мечов, стремясь поскорее отделаться. — Да и свежей тайменины ой как охота, — он блаженно потянулся, почесал живот под колючим свитером грубой шерсти и решительна застегнул молнию штормовки. — Видишь? — махнул рукой в сторону причала, где возле сарайчиков с лодками дымились костры. — Сплошная фиеста… — Ну, держи ухо востро, — предупредил сосед, затаив завистливый вздох. — В заводь, небось, пойдешь? — Ну, — нетерпеливо мотнул головой Мечов и без лишних церемоний поспешил расстаться с разговорчивым сослуживцем, так некстати вынырнувшим из дверей булочном. Купив теплую и влажную еще ржаную буханку, уложил ее в рюкзак, где рядом с укутанным в телогрейку термосом лежали консервы и фляга со спиртом, и заспешил под уклон, пританцовывая на ходу. Легко себя чувствовал, уверенно. Каждая жилка трепетала от бьющей через край нетерпеливой радости. Все было заготовлено еще с вечера: безотказный спиннинг норвежский, подсачник, багор и даже пропитанный бензином обломок диатомового кирпича, чтобы без всяких хлопот запалить костерок. Погода, тоже, можно сказать, баловала, пророчила удачу. С юга задувал несильный устойчивый ветер, очистившееся небо приветливо лучилось студеной голубизной. Дымилось на солнце, как сжиженный газ в дьюаре. Сложив вещи в свою видавшие виды дюралевую «Казанку», Мечов отомкнул замок, бережно завернутый в промасленный полиэтиленовый мешочек, и вынес из железной конурки мотор. С «Вихрем» в одной руке и запасной канистрой — в другой, косолапо затрусил по дощатому пирсу, мокрому и затоптанному сотнями таких же, как у него, резиновых сапог. Когда мотор вдоволь прочихался и, после долгих усилий взял нужную устойчивую ноту, Андрей Петрович описал широкую дугу и, махнув рукой приятелям, которые еще возились на берегу, дал полный газ. Ощущая как днище бьется о враз отвердевшую воду, чуточку убавил скорость и прямиком нацелился на белый бакен. С безотчетной грустью, навеянной небом и пасмурной водой, подумал о том, как мал, в сущности, заполярный город, самовластно внедрившийся в заповедные просторы, где человек всегда был лишь случайным кочевником, перегонявшим оленьи стада от гор к океану и от океана к горам. Промелькнули мосты и провисающие над рекой фарфоровые бусы электропередачи, сваи причалов, краны, уродливые, потемневшие от снега бревенчатые стены складских помещений с глубокими, как амбразуры, незрячими оконцами. Остались позади пирамиды железных бочек, свалки ржавого металлолома, и с резкой неожиданностью первозданный неприветливый берег — близко, чуть не рукой достать — открылся. Только трубы заводов, составлявших малую часть единого, исполинского в своем размахе горно-металлургического комбината, еще долго виднелись на горизонту, бледно-зеленом, застывшем. Неподвижной выглядела и бесконечная пряжа исходившего из них разноцветного дыма. И лиловые узкие облака в немыслимой обесцвеченной высоте, с которыми незаметно сливался этот холодеющий дым, и багровая, запекшаяся понизу пена — тоже казались лишенными малейших движений. Как мираж, привидевшийся в пустыне, как нераскрытая тайна, изгладился город. И сразу темнее навис берег, тоже обездвиженный и завороженный. По течению еще изредка несло ледяные обсоски, но в сумеречной глубине донная галька проблескивала и холодная пена перемывала гранитное зерно в корешках прибрежного тальника. Отчетливое мельтешение их желтой и бледно-розовой бахромы приковывало взгляд, невольно ищущий перемен. Набегавшая рябь монотонно колыхала устлавшие дно прошлогодние ветки, потонувшие мелкие листья. Мылкая накипь, колебля щепу и лесной сор, лизала выступившие валуны, меж которыми косичками завивались струи. Но стоило поднять голову, и муаровый узор ряби сглаживался, и там, где река скупо отсверкивала, как прокатанный лист, незыблемо отражался левый лесистый берег, расчлененный на узкие зеркальные полосы. Отсюда до цели уже близехонько было. Мечов прислушался и различил, невзирая на тарахтение мотора и переплеск, унылый протяжный звон. Не отпуская руля, привстал. Сощурив рысьи глаза, настороженно осмотрел берега и фарватер. Углядев справа по ходу бочку из-под солярки, намертво застрявшую на галечном плесе, разочарованно дернул плечом. Срывая и унося тускло-радужную пелену, как в бубен, била в железное днище тугая струя. Все было обыкновенно в окружавшем его скупом и бедном на сочные краски мире. Сотни раз видел он и эту необъятную панораму, в чем-то похожую на декорацию и неправдоподобную дымную пряжу, которая стыла в густой облачной синеве. Саднящие краски безначального восхода, незаметно переходящего в бесконечный закат, уже не томили его непонятной тоской, как в первые годы. Но в глубине души он знал, что будет вспоминать нее это, когда вернется, раньше ли позже, на материк. Как уже вспоминал, безотчетно тоскуя о них, где-нибудь в Ялте или Сочи. Почему-то всегда приходило на память одно и то же: пунцовый, курящийся ржавыми протуберанцами шар у самой кромки мертвого леса и протяжные всхлипы куда-то летящих серых гусей. В такие минуты он даже отчетливо слышал, как вторила им река, играя в сотни и тысячи опустошенных бочек, как призывно аккомпанировал басовыми струнами высоковольтных линий истекающий в туман электрический ток. Слишком безропотно объяла тундра дымящие трубы, нити газопроводов, вышки ЛЭП и эту жестяную тару, которую вместе с плавником разносили во все стороны освобожденные ото льда реки. Все приняла, все вобрала в свое вечное лоно, приобщив к таинствам сокровенных камланий. Как приобщала с незапамятных времен дымные струйки стойбищ, рокот бубнов и посвист оленьих нарт, летящих по наледи. Пока, во всяком случае, дурман багульника одолевал едучее дыхание серы, а перегретый нечистый пар, осев средь болотных кочек, тысячекратно возрождался для жизни. Питал ручьи и реки, наливал колдовским соком бледные мухоморы и еще какие-то призрачные грибы, чьи невидимые споры вспыхивали в осенние ночи зеленой фосфорной пылью. Экологические размышления не мешали Мечову зорко следить за фарватером. Метров за сто до валуна, отшлифованного льдами и вылизанного течением, он сбросил газ и направил «Казанку» в заливчик — прямо к золотистому пятачку, озаренному светом, полыхающим в облачных полыньях. Переменившийся ветер гнал к берегу, чуточку наискосок, и холодным приливом обжимал на спине штормовку. Рыба при таком ветре скорее всего стояла где-нибудь на глубине, противоборствуя придонным течениям, и не было никакой уверенности, что она прельстится на блесну. Но попробовать несомненно стоило, раз уж он все равно решился выехать в такое переменчивое, исходящее сыростью утро и добрался, невзирая на гудящие по реке гребешки, до заветного валуна, где его не раз баловала удача. Жаль, прежнее настроение развеялось. Бесконечно одиноко чувствовал он себя под этим небом, представшим вдруг таким безнадежно высоким, что страшно становилось глядеть в голубые скважины, где гуляла стужа и струились световые столбы: то ли обычные лучи иззаоблачные, то ли копья небесного воинства. А может, и вовсе колонны, косо подпирающие зенит, — ничего не поймешь в такое утро. Как замолк мотор, шум реки стал отчетливо слышен, шорох таяний, дальние отзвуки подвижек и обрушений. Высокий берег с редкими лиственничками теневым клином лежал на воде, по которой студеный парок завивался, точь-в-точь, как над прорубью. И такая везде несказанная красота ощущалась, что слезы подступали к горлу. Отрешенность, немота, грусть светлая и вместе с тем сумрачная. Все грустило вокруг: отвалы прозрачные, черным зеркалом обтекающие лодку, суровые камни и глянец латунный, которым, как свыше, отмечен был добычливый омут. На переменчивость вод и небес берег отвечал хмурым однообразием. Однако и в нем таилась вещая приглушенность, скупая, прямо-таки подвижническая умеренность. И как за сердце хватала, как щемила она, освобождая от всяческой суеты. Жаль, что ненадолго. Мечов знал уже, что ни настроения, ни ощущения удержать нельзя. Едва коснулся человека прилив высокой сути, как мысль ускользнула за глухую завесу. И нечего вспоминать и глупо задерживаться. Хоть расстаться никак невозможно, да любоваться уж нету сил. Только бесплодное раздражение или равнодушное скольжение невидящим взглядом. День ото дня, год от года нужно копить мимолетные ощущения, и тогда, быть может, что-то однажды откроется в сердце, высветится из мрака, как молнией озарит. Оттого, наверное, и прикипают люди всей душой к Северу, что разлито в нем потаенно угадываемое откровение, без которого муторно человеку на земле, беспокойно. Повсюду приметы духовной мощи угадываются. В пятнах лишайников на окатанных черных валунах, в неброской белизне галечных отмелей, в поросших мохом стволах пихт и лиственниц. Каждый яр, как погост, каждое дерево, как темный насупленный скит. И конечно, ветер еще, переменчивый, резкий. Он и солью, и стужей дохнет, и терпкостью тополиных почек, и хинным привкусом ив. Влекомая течением лодка незаметно проскользнула в затон и понеслась вдоль берега, заваленного плавником и ржавеющим хламом, уродливо обнажившимся со снеготаянием. Вечная мерзлота не принимала все растущие груды металлолома. Вывозить их на материк было дорого, перерабатывать — негде. Привычные мысли прокручивались в голове Мечова, когда проносило его мимо завалов, где между вывороченных корней темнели консервные банки и всевозможные емкости из-под горючего. Заботы привычные одолевали, но не остро, не раня памяти, не задевая сердца. Был он весь полон грустным очарованием и тем предощущением близкого озарения, которое постоянно влекло и никогда не сбывалось. Возможно потому, что просто времени недоставало побыть наедине с собой, с глазу на глаз остаться с выпуклым окоемом, где играла то медная прозелень, то лиловая пена, то беспросветная синева. Вот и теперь, едва правый борт чиркнул о камень, вросший в русло, под которым трехсотметровым слоем лежала мерзлота, схватился Мечов за спиннинг, предусмотрительно приведенный в боевую готовность. Несильно взмахнув упругим удилищем с пропускными кольцами из дымчатого агата, бросил блесну в самую середку светлого пятачка, где рябь так и лоснилась янтарным жиром. Едва тяжелая рыбка с тройником на хвосте нырнула в волну, отпустил рычажок и позабыл обо всем на свете. Полностью отключился. Роскошная норвежская катушка, взведенная на автомат, с завидной скоростью выбрала лесу. Андрей Петрович осмотрел блесну, щедро отмеченную острыми зубами лососевых рыб, и бросил наново. Теперь он крутил барабан уже сам, вручную. Лишний раз хотел поиграть чудо-снастью, сразу поймать тот особый пронзающий до нутра рывок, за которым последует тяжкое тупое сопротивление и начнется единственная в жизни работа, когда останавливается время и саднящая боль кровоточащих пальцев воспринимается как наивысшее блаженство. Пришлось сделать множество холостых забросов, раз за разом возвращая моторку к исходному камню, прежде чем рука ощутила легкое напряжение. Андрей Петрович затаил дыхание, по тут же понял, что ошибся и ничего на крючке нет. Едва ли он мог прозевать поклевку. Скорее всего видимость нагрузки создавала играющая против сильного течения блесна. Зевать на такой быстрине не приходилось. Случись что — развернет лодку боком и бросит на гладкий диабаз, где даже лишайник, и тот не сумел удержаться. Но приведи господь, если заглохнет мотор. Не доходя до воронок, остервенело будоражащих темный омут, Мечов плавно развернулся и вновь повторил заход. Блесна упала далеко от лодки. Без всплеска, отвесно канула в глубину. Еще не начиная мотать, Андрей Петрович каким-то шестым чувством угадал, что на сей раз удалось, клюнуло. И не какой-нибудь чир или муксун, а именно он, хозяин… Ощутив мертвый рывок книзу и в сторону, Мечов поспешил отпустить лесу, но не настолько, чтобы рыба могла уйти за перекат, откуда ее уже не выцарапаешь никакой силой. Поводив удилищем, которое сгибалось в дугу, он уперся пробковым концом в ременную пряжку и попытался подтянуть добычу поближе к лодке. Но едва схватился смотать слабину, как рыба ответила таким отчаянным броском, что затрещала катушка. Пришлось отпустить стопор, потому как леса грозила лопнуть. Уж опять маячили валуны и билась нечистая пена. Заход на заходом Мечов терял драгоценные метры. Когда же выходило так на так, считал, что добился: успеха. Хоть и сильна была рыба, но не могла она бесконечно тянуть, разрывающее челюсть железо, неизбежно должна была вымотаться. Когда Мечов, сам усталый от напряжения и азарта, вдруг почувствовал, что удилище гнется уже не так угрожающе и миллиметровая жилка много легче ложится на барабан, у него задрожали руки. Накручивая изо всех сил катушку, он потерял бдительность и едва не угодил в воронку, беснующуюся в безысходной близости от камней. Еще бы мгновение, и не увернуться. Продолжая накручивать, он свободной рукой вцепился в ручку мотора и уже собирался врубить на полный, как рыба совершила отчаянный смертельный прыжок. Сверкнув серебряным радужным боком, лишь чуточку тронутым чернью, которой покрывается крапчатая чешуя в речной подо, таймень сиганул на перекат. Шмякнувшись о камень, изогнулся кольцом и канул в омут. Мечов отчетливо видел вспененный столб, оскаленную черную голову, ртутное, как из ствола исторгнутое тело. Что случилось за этим растянутым, как при замедленной киносъемке мигом, он так и не понял. Перелетев через борт и с головой ухнув в обжигающую холодом воду, инстинктивно рванулся к поверхности, жадно хватанул воздух, но что-то тянуло его под воду, мешало плыть. Целая вечность прошла — по крайней мере так показалось, — прежде чем понял, что не выпустил все же спиннинг, намертво зажатый в оцепеневшей руке. Слабо дернул, ощутил, как забилась на дальнем конце намотанная до чертиков рыба, и попытался разжать сведенные пальцы. Надеясь выручить хотя бы снасть, лихорадочно нащупывал невесть куда запропастившийся нож и невольно следовал за уходящей в глубину жилкой. Андрей Петрович был заядлым моржом и не упускал случая поплавать в проруби, когда устанавливалась относительно умеренная погода. Только это и спасало его теперь от верного шока. Выпуская понемногу отработанный воздух, он сделал неловкую попытку перекусить леску, но только хлебнул воды и пробкой вылетел на поверхность. Обреченная рыба и снасть, которую он бессознательно выпустил, влекомый инстинктом самосохранения, остались в реке. Выплюнув воду, он ошалело огляделся и изо всех сил поплыл к лодке, которая, на счастье, врезалась в берег. Мотор заглох и течение неторопливо тащило ее вдоль галечной кромки к перекату. До берега было близко, но и мокро блестящие камни — отсюда они выглядели настоящими скалами — приближались с пугающей быстротой. Мечов сразу понял, что его сносит к водовороту, отяжелевшая одежда и резиновые сапоги едва ли позволят вырваться из воронки. В лучшем случае его швырнет на камни, откуда без чужой помощи не выберешься. А на помощь надеяться нечего. Прежде чем кто-нибудь случайно заглянет в эти забытые богом места, ледяная вода сделает свое дело. Это ясно на все сто процентов. Никуда тут не денешься. Он сознавал, что владевшее им несколько замедленное спокойствие очень непрочно. Под ним, как под тонкой кожицей пульсировал сгусток, в котором невнятно смешались сожаления, тошнотная тоска и отчаянная надежда. Резко оттолкнувшись ногами, упорно тянувшими вниз, Мечов лег щекой на воду, вдавился по самые ноздри, как в лед. Загребал широко, жадно, стремясь во что бы то ни стало выброситься на маячившую перед глазами окатанную гальку. Но они все не приближались, а лишь проносились мимо, эти светлые ядра, тальники за ними, высокий берег и лес. Опять с обостренной, почти неестественной четкостью, различал в пене мельчайшие подробности: выбеленный плавник, пляшущие в пене гладкие кусочки дерева, голые прутики ив с меховыми редкими шариками и острой, как морда лосося, чуть загнутой почкой. Он видел отдельные, почему-то укрупненные фрагменты, словно со стороны, и едва ли мог разобраться в своих ощущениях. Не хватало, ни сил, ни мгновений вглядываться. Как это случается в критической ситуации с умными, привыкшими аналитически мыслить людьми, инстинкт и разум дополняли друг друга. Когда моторка, очередной раз носом уткнувшись в камни, развернулась кормой и, словно притягиваемая магнитом, стала медленно отдаляться от берега, Мечов сразу понял, что ему дается дополнительный шанс. Чисто геометрически задача решалась просто. Необходимо было догнать лодку прежде, чем это само собой произойдет у переката, где пересекутся их трассы. Он не думал о том, как заберется на борт в чугунных веригах, которыми сразу же обернутся все надетые на него вещи, как сумеет запустить мотор или бросит в уключины почти бесполезные легкие весла, если, конечно, останется у него хотя бы секунда на то, чтобы просто оглядеться, понять что к чему. Он знал одно: плыть, и как можно быстрее. «Казанку» удалось догнать сравнительно скоро. Схватившись обеими руками за маленький кнехт, он какое-то мгновение висел, безуспешно пытаясь содрать скользкие голенища, облепившие щиколотки. Ничего из этого, конечно, не вышло, но, как бы прокручивая отснятую кинопленку, он вспомнил вдруг водяной веер и взлетевшую в воздух прекрасную рыбу. Непроизвольный толчок воображения словно подстегнул Мечова. Напружившись, он подтянулся, выжал на руках невероятную тяжесть тела и перевалился через борт, изливая потоки воды. Ни на что другое сил уже недостало. Распростершись на деревянном настиле, он почти безразлично ожидал столкновения. Но оно все не наступало. Хотя лодку покачивало и, очевидно, куда-то влекло. Удар оказался, против ожидания, совсем несильным. Он пришелся на корму, точнее на руль мотора, затем последовало легкое сотрясение и отвратительный скрежет. Поднявшись с усилием на колени, Андрей Петрович обнаружил, что застрял на мысу, в каменных россыпях и выброшенных рекой корневищах. Очевидно, импульс, полученный лодкой, и добавочный вес тела так повлияли на ее путь, что она смогла зацепиться за этот спасительный мыс. Последним усилием Мечов швырнул на берег кошку, закрепил трос и привалился к борту. Безумно хотелось спать. Саднило разбитые в кровь костяшки пальцев. Только теперь Андрей Петрович почувствовал, что его сотрясает дрожь. Одежда, согревавшая даже в воде, удерживая облегающий теплый слой, обратилась на воздухе в замораживающий компресс. Нужно было поскорее все с себя сбросить и развести костер. Благо река, снабжавшая деревом голую тундру, не пожалела плавника и для этого трижды благословенного уголка. Мечов разделся, докрасна растерся какими-то тряпками и облачился в телогрейку. Сидя на корточках, выпил кружку кофе из термоса. Теперь можно было заняться огнем. Найдя подходящую пихточку, углом подтянул кривой ствол полярной ивы. Плеснул для быстроты бензинчиком и запалил сразу во всю длину, по-таежному. Коптящее пламя с гулом рванулось к небу, обдавая знобким неустойчивым жаром. Андрей Петрович сразу почувствовал себя уютнее. Развесил сушиться белье, на тросе, ближе к огню распял на вывороченном корне шерстяной свитер, поодаль — штормовку и скользкие от заскорузлой рыбьей слизи эластичные брюки. Вытряхнув последние капли воды из сапог, протер их изнутри теми же тряпками, одинаково годными как для лодочного мотора, так и для многообразных рыбацких надобностей. Бензин мгновенно выгорел, но древесина уже занялась, обдавая слабым дыханием не вымытых до конца таежных смол. Мечов подбросил сушнячка под комли, надел сапоги на босу ногу и, как был, в одной телогрейке, полез в гору надрать перезимовавшего жесткого моха — на стельки, пока подсохнут портянки. И под сумку, на которой сидел, тоже простелить чего-нибудь следовало. Могильным, пронизывающим до костей хладом тянуло от гальки, сросшейся с мерзлотой. Он нашел закуток, немного защищенный от речного ветра, и устлал его мохом. Повесив чайник над пылающим комлем, вывалил на сковородку банку тушенки. Как бы далее ни сложилось, схватку он выиграл. Никогда еще поджаренный на огне хлеб не казался ему таким вкусным. До нутра, до самого отдаленного капиллярчика ожег и растекся по телу спирт. Мечов запил оставшимся кофе, заел хлебом, обмакнутым в пузырящийся жир. Приманенные теплом, близ костра закружились неуверенные еще комарики. Целительной горечью попыхивала обуглившаяся ивовая кора. Жаркий язык лизал исходившие паром портянки, упрямо шатался под ветром, и был почти прозрачный в сквозных лучах незакатного солнца.
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Утро, по обыкновению, началось со сводки погоды. Стоя возле окна, за которым синели испещренные узкими меловыми полосами отроги Путорана, прикрывавшего город от северных ветров, директор комбината Логинов рассеянно прислушивался к динамику. От окон тянуло сыростью и прохладой. Хорошо поставленным дикторским голосом дежурный синоптик коротко обрисовал ледовую обстановку в Заливе — за истекшие сутки ничего нового не произошло — и перечислил погодные показатели по объектам, разбросанным на обширной территории Таймырского полуострова. В городе Кайеркане и на Красной скале, откуда поступал основной поток руды, существенных перемен не предвиделось. В районе Валька ожидался кратковременный дождь, а на Мессояхе ночью выпал обильный снег и отмечалось резкое понижение температуры. Теплее всего было в Снежногорске, но именно там дули сейчас самые сильные ветры. Колебания, вызванные устойчивым антициклоном, были, в общем, в пределах нормы и опасений не вызывали. Даже ветер, достигавший местами двадцати метров в секунду. Ни на ЛЭП, питающей город, ни на работе самой Хантайской гидроэлектростанции это не сказывалось. Лишь Дудинка неотступной мыслью гвоздила в виске. Дни шли за днями, а навигация не начиналась, хотя лед еще третьего дня прошел Потапово. Если весна в Заполярье действительно продвигается со скоростью не выше пятнадцати километров в сутки, то ранее, чем к концу недели акватория не очистится, решил Логинов. Это значит, что долгожданный прокат, контейнеры с дефицитным оборудованием, автобусы, экскаваторы и вездеходы поступят практически только в будущем месяце, когда, как подстегнутая, по-летнему закипит жизнь, начнутся отпускные страдания, а детишки разъедутся по пионерлагерям. Хлопот, одним словом, прибавится вдвое. Всматриваясь в обесцвеченный с бледно-лиловыми подпалинами горизонт, Логинов невольно поежился. Зябко скрестив руки, огладил локти под легкой сорочкой. Затянул приспущенный было галстук и отступил в сумрачную глубь кабинета. Заново отделанный по последней финской модели, он, потеряв прежнюю помпезность, ожидаемого уюта нисколько не приобрел. Вопреки надеждам дизайнеров, деревянные пепельного оттенка панели и длинная полированная столешница выглядели до ужаса казенно. От хрустальных пепельниц и зеленых бутылок с минеральной водой так и сквозило холодом. Не помогла даже роскошная глыба высоцковита, бледно-голубоватая, как снятое молоко, помещенная в специальную стенную нишу. Последние дни Логинов чувствовал себя несколько подавленно, хоть и не мог понять почему. Особых поводов для огорчений он как будто не находил. Дела шли заведенным порядком и по всем показателям обстояли совсем неплохо. Во всяком случае не хуже, чем в это же время в прошлом году. Он подумал, что виною всему хронический недосып. Возможно, так оно и было. Несмотря на плотные шторы и двадцать капель пустырника, всю прошлую ночь он почти не сомкнул глаз. Отсюда, наверное, и проистекали потаенное беспокойство, непривычная раздражительность и, что хуже всего, какое-то заторможенное безразличие. Начинался новый день, новые и в то же время такие привычные заботы. Казалось бы, нет причин для тревоги. Не было еще случая, чтобы он как-то не управился с потоком текучки. Не сами по себе хлопоты, а именно это их неотвратимое приближение, выводило его из равновесия. Все в нем протестовало против ежедневно повторявшихся гонок по замкнутому кругу. Драгоценное время утекало, как вода сквозь пальцы. Уходило бог знает на что. Он раздраженно пожал плечами и, толкнув неприметную дверь в стене, прошел в комнату отдыха. Остановившись перед зеркалом, критически оглядел несколько помятое лицо, помассировал пальцами темные мешки под глазами и решил, что в свои сорок шесть мог бы выглядеть и получше. Сказывалась скверная ночь, усталость и неизбежный к началу весны авитаминоз. Надев строгий черный пиджак с золотой звездочкой Героя Социалистического Труда, нащупал в кармане баночку витаминных драже. Но принимать не стал, решив, что все равно толку не будет, раз уж пропущено столько дней. Лучше начать по новой с будущего месяца. Машинально глянув на календарное окошко электронных часов, подумал с легкой усмешкой, что директорский календарь отличается от природного сущей безделицей: план нужно давать круглый год. В остальном же — полная согласованность. Четкое разделение на долгую зиму и короткое колготное лето. Зимой — борьба со снежными заносами, мороз, от которого лопаются стальные детали в несеверном исполнении, сонливость, авитаминоз и прочие прелести, прямо влияющие на производительность труда, летом — ремонт дорог или все та же борьба, но только с верхним оттаивающим слоем, лавина отпусков, текучесть кадров, комарье и повышенная нервозность от незакатного солнца. Попробуй решить, что лучше. Наверное, все же зима. Слишком уж прочно связано лето с навигацией, ее разочарованиями и надеждами. Впрочем, лето все-таки лучше. Когда порт открыт, на душе спокойнее. Чувствуешь могучее дыхание материка. Самолет, хоть до Москвы на ИЛ-18 три с половиной часа полета, такого ощущения почему-то не дает.
Логинов возвратился в рабочее кресло и, повернувшись к динамику, установленному на отдельном столике рядом с селектором и телефонами, надавил клавиш на пульте. Метеослужба, как по команде, умолкла. — Аэропорт? — коротко поинтересовался он, вспомнив, что с этой недели должны были начаться воздушные поставки для нового автоклавного цеха. — Атмосферное давление восемьсот, температура плюс шесть, видимость хорошая, — повторил синоптик метеосводку по аэропорту. — Меня интересуют ближайшие двое суток. — Есть основания полагать, что сформировавшийся антициклон будит оттеснен несколько к югу, в этом случки теплый фронт пройдет… — Понятно, — оборвал директор. — Как видимость? — Возможен туман, Владлен Васильевич. — Спасибо, — Логинов нажал кнопку звонка. Бесшумно распахнулась дверь, обитая черной стеганой кожей, вместительного, как телефонная кабина, тамбура. Вопросительно улыбаясь, приблизился невысокий лысеющий помощник. — Прием сегодня большой? Помощник положил на стол раскрытую папку со списком. Пробежав глазами фамилии, Логинов задержался на незнакомой, указал пальцем и поднял голову. — Кто такой? — Фомичев? Да пенсионер один с никелевого, — помощник досадливо поморщился. — Я уже говорил с ним, обещал во всем разобраться, но он рвется лично к вам. Скандалит. — Что у него? — Квартирный обмен, Владлен Васильевич, — помощник неловко улыбнулся. — Вышел на пенсию, хочет к Челябинск к дочери или там к сыну. — Ну и?.. — Я звонил, просил помочь. Но… — помощник не договорил. Логинов понял и устало кивнул. По его глубочайшему убеждению, подобные вопросы должен был решать кто угодно, но только не директор. И тем не менее он их решал, почти безропотно. Так уж сложилось, с первых лет повелось. Плохая или хорошая, но это была традиция. Один из неписаных законов гигантского невиданного комплекса, которым ему выпала нелегкая честь руководить. По сути весь заполярный город с его двухсоттысячным населением состоял при комбинате. Был обязан комбинату своим рождением и стремительным ростом. Любой горожанин, кем бы он ни был — горняком, монтажником, плавильщиком, врачом или истопником в детских яслях, — так или иначе работал на комбинат. Директору подчинялись не только рудники или металлургические заводы, но шахты, электростанции, транспорт, связь, газопромыслы, коммунальное хозяйство, Дудинский порт. На него, явно или неявно, замыкалась вся жизнь большого индустриального центра — от школ и гостиниц до научно-исследовательских институтов и полярной авиации. Грандиозное, уникальное по масштабам и многогранности, объединение давным-давно переросло узкие рамки привычного названия «комбинат». Его отдельные отрасли сами выросли в целые комбинаты, но по сей день известные на всю страну крупнейшие металлургические заводы находились на положении цехов. Производство росло, укрупнялось год от году, а система управления оставалась классической «пирамидой». Логинов был восьмым по счету директором, но как и в нелегкие времена «Заполярстроя», за каждой мелочьюобращались только к нему. Однажды попробовав, он так и не смог поломать этот порочный порядок. — В исполкоме не возражают, — заметил помощник, словно был наделен даром читать мысли. — Не возражают, — усмехнулся Логинов. — У этого… — он глянул в список, — Фомичева все права… Сколько он у нас проработал? — Восемнадцать лет. — Вот видите… Ладно, я позвоню, — Владлен Васильевич хорошо знал, что от него нужно. Комбинат рос быстрее, чем город, и жилищная проблема стояла достаточно остро. И он звонил. Причем не только в исполком, где его слово было почти равнозначно приказу, но в Красноярский крайком, а то и в Москву по прямому проводу. Люди приезжали в Заполярье не на всю жизнь. На пять, десять, пятнадцать лет. И как всякий директор, Логинов был заинтересован, чтобы они задержались подольше. Поэтому их проблемы были его проблемами. Без лишних слов он снял трубку и передвинул рычажок на селекторе. — Доброе утро, Геннадий Порфирьевич, — вызвал председателя горсовета. — Не забыл про планерку? — Все на месте, Владлен Васильевич, — прозвучал в динамике бодрый приветливый голос. — Как всегда. — Вот и отлично. Скоро начнем. Будут вопросы и по вашей части. Да, — спохватился Логинов, как будто только вспомнил. — Ко мне тут обратился товарищ Фомичев, старый кадровый наш работник, так вот, Геннадий Порфирьевич, надо оказать содействие… Надо. Опуская трубку, взглянул на помощника. — Пойду скажу, что все уладилось, — удовлетворенно кивнул тот. — Нечего время у вас отрывать попусту. — Позвоните ему от моего имени. Позвонить? — помощник иронически поднял брови. — С восьми в приемной сидит, как пришитый. Настырный… — Значит, придется принять. Как-никак уезжает человек… Неудобно. Пригласите сразу же после планерки, — Логинов взглянул на часы. — А пока давайте Калюжного. У него быстро, только подписать. Начальник строительного управления Калюжный, румяный здоровяк в унтах и кожаной куртке, бережно пожал протянутую руку и, слегка переваливаясь от избытка силы, прошел к столу заседаний. По-хозяйски бросил рядом с собой папку, любовно набил табаком кривую прокуренную трубку. Директор нехотя оставил рабочее кресло и присел на соседний стул. — Ну, что скажешь, Петрович? — пробормотал он, придвигая к себе внушительную стопку документации. — Все подсчитали? — полез в карман за очками. — Две недели вкалывали ребята, — со значением отметил Калюжный. — Можешь не сомневаться. Все правильно. — Так? — Логинов достал авторучку и подписал проект, с которым знаком был лишь в общих чертах. — Что еще? Калюжный услужливо подсунул следующий лист, и директор покорно поставил новую подпись. Он уже давно не вникал в подробности строительных расчетов, обращая внимание лишь на итоговые цифры сметы и сроки. Да и мудрено было опекать хозяйство Калюжного, где на сегодняшний день числилось свыше двадцати тысяч работников. Осторожно склоняясь в последнее время к идее разумной децентрализации, Владлен Васильевич, тем не менее, и мысли не допускал, что стройуправление может стать самостоятельной единицей. Когда люди Калюжного однажды заикнулись об этом на собрании актива, он наотрез отказал. «Я не могу быть спокоен за строительство промышленных сооружений, — счел нужным объяснить свои мотивы, — если они станут вестись субподрядным способом. Одни межведомственные перебранки отнимут бездну рабочего времени. А тут все в наших руках». Он говорил, что думал, опираясь не только на логику, но и на весь предшествующий опыт: словно ощущал своего рода молчаливое одобрение прежних директоров всемогущего заполярного комбината, где привыкли к размаху, смелости и быстроте решений. Он и теперь не сомневался в своей правоте. По крайней мере в основах. Но чем скорее разрастался комбинат, тем чаще Владлена Васильевича одолевали тяжкие сомнения. Как и прежде, все осталось в одних руках, только рук этих уже никак не хватало. Естественная идея насчет того, что понятие «больше» всегда равнозначно «лучше», внушала все большие сомнения. Разросшееся, как кукушонок, стройуправление с трудом умещалось в гнезде и уже порядком теснило других «птенцом». Не чье-то волевое решение, а логика развития незаметно высвободила Калюжного из-под жесткого контроля. Это было ясно обоим. Но поскольку будущие взаимоотношения рисовались весьма туманно, следовало делать вид, что ничего не произошло. Пока, во всяком случае, сложившееся положение устраивало Калюжного, разумеется, больше, чем Логинова, который с растущей тревогой следил за участившимися в последнее время случаями срыва установленных сроков. На Красной скале, например, новые мощности вводились с месячным опозданием, раньше такое было бы немыслимым. С еще большим беспокойством директор вынужден был признать, что срывы, нарушающие порой четкий, слаженный ритм работы комбината, замечались и в других подразделениях, к которым строители прямого отношения не имели. — Как с «Надеждой?» — спросил Владлен Васильевич, подписав, в сущности не глядя, последний лист. — Не запаздываешь? — Есть маленько. Не успеваем, Васильевич, не хватает рук. — Надо подтянуться, Петрович. Перспективный план остается без перемен. О резервах, которые приберегал для строительства Надеждинского завода, Логинов пока решил не упоминать. Ужав нормативные сроки, горняки ускорили дело на целый год, а «Надежда» явно не поспевает к такому сроку. Уже сейчас поток руды идет такой, что только успевай перерабатывать. С одной стороны, — это превосходно, с другой — не очень. Требуется спешно подтянуть мощности обогатительной фабрики, медного, никелевого заводов. Отсюда и срочная необходимость в коренной реконструкции. Ведь в течение первых трех лет дополнительные площади вводиться не будут, а увеличение объемов выпуска продукции запланировано солидное: меди — на одиннадцать процентов, никеля — на двадцать. Путь вырисовывался один — модернизация оборудования. Но выгодная сама по себе, так сказать, в идеале, она была чревата немалыми трудностями. Останавливая на реконструкцию агрегаты, нельзя было допустить снижения общего выпуска продукции, ибо план оставался неизменным. — Надо подтянуться, — повторил Логинов и, включив вентилятор, развеял медовый душок «Золотого руна». — Слыхал я, — осторожно заметил Калюжный, — что ты опять решил подкинуть людей генподрядчику? Логинов в ответ только вздохнул. Начальник стройуправления был кругом прав. На комбинате рабочих рук и без того недоставало. На особый приток с материка из-за нехватки жилья тоже рассчитывать не приходилось. Но, скрепя сердце, он все же решил перебросить на новостройку еще одну бригаду монтажников. Другого выхода не было, потому что Минэнерго не позаботилось о создании в заполярном городе собственной базы. Забрав у Калюжного два готовых дома и несколько лучших специалистов, директор как бы потерял моральное право требовать с него неукоснительного соблюдения сроков. В чудо, которое совершается по мановению волшебной палочки, он, разумеется, никогда не верил. — Соревнование смежников организовали? — поинтересовался Владлен Васильевич, вспомнив, что Калюжный не раз ссылался на пример строителей Саяно-Шушенской ГЭС. — Даже штаб создали, но и он не всегда может воздействовать на тех, кто не выполняет своих обязательств. Минмонтажспецстрой по-прежнему отделывается одними обещаниями. — Буду говорить в Госплане, Петрович. Веришь? — Конечно, Васильевич. О чем речь? Но монтажников ты мне все же верни. Иначе не выкрутиться, право слово. И по части малой механизации подмогни поскорее… Простившись с Калюжным, Логинов еще раз просмотрел список и вызвал помощника: — Мечов здесь? — спросил, с удовольствием опускаясь в насиженное кресло. От неудобного стула или, возможно, легкого прострела противно ныла спина. — Не знаю, Владлен Васильевич, в приемной он не появлялся. — Тогда найдите скоренько. Логинов придвинул динамик и снял очки, оставившие на переносице багровый след. Но не успел он выслушать рапорт директора медеплавильного, где молодой термист получил из-за несоблюдения техники безопасности ожог второй степени, как вернулся взволнованный помощник. — Мечов не вышел на работу! — торопливо доложил он. — Я позвонил домой, но его и там не оказалось. Тогда я… — Короче, пожалуйста, Виктор Ильич, — сухо заметил директор, но терпевший ненужных подробностей. — Где он сейчас? — В том-то и дело, что никто не знает, Владлен Васильевич. — Прошу прощения, товарищи. Продолжайте пока без меня, — Логинов отключил свой микрофон. — Вот что, — хмуро кивнул, не снимая пальца с клавиша. — Человек — не иголка. Разберитесь, пожалуйста, — и вновь подсоединился к беседе. Докладывал начальник горнорудного управления. Упрекал железнодорожников, которые вовремя не подвезли закладку, из-за чего на два часа пришлось приостановить выработку горизонта сто семьдесят пять на «Комсомольском». — Прошу дать объяснение, — потребовал Логинов у железнодорожного начальства. В самый разгар сбивчивой нечленораздельной речи, где в различных вариациях фигурировали шестидесятитонные думпкары и строительство «Надежды», куда их срочно пришлось зачем-то перебросить, вернулся запыхавшийся Виктор Ильич. — На рыбалку уехал, — с трудом переводя дыхание, выдавил он, откупоривая бутылку боржоми. — Со вчерашнего утра. С тех пор его никто не видел. Может, случилось чего?.. — Куда именно, известно? — Логинов медленно приподнялся и грузно навис над столом. — Вроде, Владлен Васильевич, — кивнул помощник. — Я Бузуева привез, плановика с меди, он знает… Позвать? — Зачем? — Логинов вызвал по селектору начальника авиагруппы. — Берите мой катер и поезжайте, — бросил он Виктору Ильичу. — В случае чего подниму вертолеты.
АЛЫКЕЛЬ
«ИЛ-18» приземлился и аэропорту «Алыкель» и медленно подрулил к вокзалу. Подали трап, но пассажиры остались на своих местах и ожидании паспортного контроля. Не считая порта на Енисее, севернее расстилалась лишь дикая тундра с разбросанными по ней стойбищами. По всем канонам заполярный город был пограничным, хоть и отстоял от океанского побережья на многие десятки километров. Румяные, успевшие загореть на весеннем солнце, парни в зеленых фуражках с привычной деловитостью поднялись на борт и с двух сторон начали обход. В ожидании своей очереди Лосев достал паспорт, вложил в него командировочное удостоверение спецкора «Правды» и с любопытством приник к иллюминатору. За ангарами и шахматными будками вспомогательных служб расстилалась тундра. Белый с желто-бурыми пятнами бескрайний массив, испещренный зеркалами замерзших озер, открывшийся ему с высоты, обернулся робкой манящей зеленью. Казалось, что взлетная полоса с пунктиром сигнальных огней пролегла вдоль опушки невесть куда провалившегося подмосковного леса или по заливному лугу, сверкающему в каплях росы. Но редкие кривоствольные лиственницы и хмурые, отмеченные снежной клинописью горы вдали напрочь развеивали иллюзию. Непонятная пророческая невозмутимость неба наполняла ожиданием и ещё неясной свободой. Лосев помедлил у трапа, всматриваясь в лица стоявших у самолета людей, и неторопливо побрел к багажному отделению. Озабоченного выискивающего взгляда он так и не поймал. Похоже было, что его не встречали. А ведь из редакции звонили по прямому проводу самому Логинову. Очевидно, вышло недоразумение, кто-то чего-то перепутал, забыл, одним словом, обычная ерунда. Оставалось надеяться, как это уже бывало, что обратятся по трансляции. Но время шло, объявлялись и задерживались рейсы, а о нем так никто и не вспомнил. Последний пассажир с авоськой, набитой ядрами апельсинов, получил свой чемодан и зарешеченный вольер опустел. Ждать более не имело смысла. Печально опустив прогнутые лопасти винтов, застыли в строю вертолеты, отсверкивая стекляшками пустых кабин, а ожидавшие у вокзала черные «Волги» и зеленые «газики» умчались в облаках пыли по какому-то грейдеру. Лосев догнал девицу в красном пальто и олимпийских тренировочных брюках. Из-за огромного чемодана и множества сумок, где золотились спелые плоды — в самолете Лосева почему-то все везли апельсины, — она приотстала от общего торопящегося потока и ковыляла в аутсайдерах, поминутно меняя руку. — Простите, — забегая немного вперед, остановил ее Лосев. — До города далеко? Девица оказалась довольно хорошенькой простушкой. Поставив чемодан, она тыльной стороной ладони отёрла лоб, шумно вздохнула и вдруг озарилась широкой белозубой улыбкой.
— В первый раз к нам? — ее удивленно-наивные синие-синие глазищи сверкнули такой откровенной радостью, что Лосев невольно расплылся в ответной улыбке. — Первый… Меня, понимаете, должны были встретить, но… — он выразительно пожал плечами и взмахнул свободной от кейса рукой. — Придется добираться, как бог на душу положит. — Так поезжайте на электричке! — посоветовала она и тут же огорчилась. — Нехорошо получилось. Как это нас не встретили? У нас люди очень даже внимательные, им не подумайте. — Пустяки, всякое в жизни случается… А где электричка? Близко? — Близко, — она кивнула на узкий проход, в котором исчезли последние пассажиры. — Все туда пошли. — И вы тоже? — И я, — она наклонилась над вещами, но Лосев опередил. — Позвольте мне, — перебросив кейс в левую руку, он подхватил чемодан, и они зашагали, оживленно болтая, словно давние знакомые. Бетонированная платформа, где уже дожидался поезд, находилась сразу за аэровокзалом. Вокруг дымилась кочковатая равнина. Весенняя тундра поражала взгляд плюшевыми островками ржавых и бело-розовых мхов, цветами и зеленым стелющимся кустарником у окон, забитых подтаявшим снегом. Одинокая колея на высокой щебнистой насыпи узким клином смыкалась у горизонта, непроницаемого, слоистого. Лосеву она напомнила тающий след запущенной в пространство ракеты. Простояв с полчаса, электричка тронулась, с умеренной частотой отстукивая на стыках. Редко-редко за окном проносились глухие бревенчатые строения, будки обходчиков, побеленный известкой угрюмый сруб, напоминавший скорее острог, чем пакгауз. Телеграфную проволоку поддерживали тонкие железобетонные опоры, глубоко врезанные в ледовый грунт. Почерневшие, шелушащиеся лишайником останки прежней линии всосала или напрочь изрыгнула из себя мерзлота. Временное, случайное не приживалось в тундре. Что возникло по слепой воле или неведению, то исторгла она из чрева и обратила в труху: дерево ли, железо, колючую ржавую проволоку или черные ризы монахов, вознамерившихся обратить к истинному богу здешних кочевников. Нет памяти у природы на чуждые ей структуры. Все распыляет на первозданные атомы. На проталинах вовсю ликовала буйная зелень, тянулась к солнцу венчиками бессчетных цветов: розовых, желтых и белых. Не узнать уже никогда, что когтили цепкие корни под моховым слоем, чьи кости высасывали. Давным-давно осыпались те венчики, отмерли в скудном торфу те ненасытные корни. — Правда, красиво? — устроившаяся напротив девица наклонилась к Лосеву. (Сняв пальто, она осталась в олимпийском костюме). — Красиво, — он отвел взгляд от празднично белых, сплошь покрытых цветами кочек. Цепь ассоциаций, которая привычно развертывалась в мозгу, оборвалась. Он так и не додумал чего-то очень важного, обещавшего дать ключ к теме, которую собирался поднять. — А, собственно, что здесь красивого? — спросил он, обращаясь скорее к себе, нежели к ней. — Скупо, приглушенно, необоримо… Да, видимо, в затаенности, в подспудной, так сказать, мощи есть и своеобразная трогательная прелесть. — Это еще что! — по-своему, без подтекста, поняла Лосева жизнерадостная спутница. — Видели бы вы, что творится здесь летом! А осенью! — она всплеснула руками. — Весь город в тундре! Грибы, ну, выше деревьев! — В самом деле? — Лосев иронически улыбнулся. — Так уж и выше? — Не верите? — она пришла в совершенный восторг. — На материке никто сразу не верит, — залилась счастливым смехом. — Чудаки! Глядите, вон, как березки стелются, — приникла к окну, расплющив о стекло вздернутый носик. — Видите? — Вижу, — Лосев сидел лицом к движению и успел разглядеть голый еще пресмыкающийся кустарник. — К самой земле, в мох, можно сказать, врастают. А грибы… Что? — она чуть было не высунула язык, но вовремя удержалась. — Они, напротив, из моха вылезают, вверх, иначе им нельзя, — замолкла на мгновение, давая ему прочувствовать, и с торжеством подвела итог: — Вот и получается, что выше деревьев, над ветками. Сами увидите. — Вряд ли я прогощу столь долго. — Так осени ждать всего-ничего, — она пересчитала по пальцам, — июнь уже на исходе, это наша весна, — июль — лето, август — осень… — А остальное — зима? — досказал он. — Что ж, возможно, я и дождусь осени… Как вас зовут? — Люся. А вас? — Герман Данилович. — Очень приятно… А вы кто? Прямой, по-детски обнаженный вопрос несколько смутил Лосева. Ответить на него однозначно, без уточняющих подробностей, показалось не просто. Назваться ученым, он был доктором наук и профессором, как-то не очень хотелось. Неизбежно следовавшее за этим перечисление титулов воздвигало преграду, уводило в сторону от непритязательной житейской беседы. — Я приехал, чтобы написать статью для газеты, — несколько уклончиво ответил он и улыбнулся смущенно. — Хоть это и не совсем мое амплуа. — Зачем же вы взялись? — удивилась Люся. — Видите ли, я по специальности социолог и мой материал тоже будет с социологическим уклоном. Меня интересует социально-психологический климат большого производственного коллектива в условиях Крайнего Севера, принципы управления и все такое прочее. — Для науки? — И для науки. Но сначала я напишу газетный очерк. — Журналистика — ваше хобби? — Н-не уверен, — раздумывая над ответом, Лосев усмехнулся в усы. Точность и непосредственность ее вопросов определенно ему импонировали. — Скорее, оборотная сторона профессии… Но бог с ней, с профессией. Расскажите лучше, что вы делали на материке? Так, кажется, у вас говорят? — В Москве была, в Ленинграде, в Киеве, — Люся участливо зажмурилась и покачала головой. — Где я только не была! Даже в Закарпатье. — И все в один отпуск? — Он у меня длинный-предлинный. На целую полярную ночь впечатлений. Девчонки заслушаются, — она стала подробно перечислять виденное, сопровождая доверчивым смехом. Преображение было мгновенным. Развитая, схватывающая все на лету, серьезная девушка уступила место восторженной провинциалочке. Она буквально засыпала Лосева перечнем восхитивших ее достопримечательностей. Но он не нашел в ее рассказе ни точных характеристик, ни зорко подмеченных подробностей. Сплошь общие места и стереотипные эмоции. Стало скучно. Электричка несколько раз останавливалась, пережидая встречные поезда, и люди выходили поразмяться. — Не хотите немного погулять? — предложил Герман Данилович, когда они, кажется надолго, застряли на очередном разъезде. Он подал ей руку, помогая сойти с высокой ступеньки, жадно вдохнул пряный запах вечнозеленых, перезимовавших под снегом кожистых листьев. — Что это? — спросил, отламывая неподатливый желтый прутик от ближайшего к полотну кустика. — Вроде багульник? — Кассандра, — помяв листик, она поднесла его к носу. — Пахнет дурными предсказаниями, не так ли? — Вам знаком миф о несчастной прорицательнице? — Лосев удивленно глянул на девушку, которая старательно вышагивала по рельсу, балансируя вытянутыми руками. Казалось, не было для нее в эту минуту более интересного занятия. Так и шла рядом, молчаливая, сосредоточенная. Но, когда, сбившись, ухватилась за его плечо и соскочила на полотно, как ни в чем ни бывало кивнула. — Знаком, — ответила. — А я и на картах умею гадать. Хотите? — и, не дожидаясь ответа, промурлыкала: — «Как вдруг подбегает к нему человек, и ну шепелявить чего-то…» — Высоцкий? — Лосев был рад случаю перебросить мосток между поколениями. — Вам нравится? — он приотстал, разглядывая поразивший его колосок, сотканный внутри из серебристого пуха. Вокруг их было видимо-невидимо. Люся пожала плечами, удаляясь по стальной полосе. Без этого дурацкого карминно-красного пальто она показалась ему интереснее: превосходно развитые формы, но стройная и с тонкой талией. «Среднестатистическая сексапильность[2], безошибочно рассчитанная на среднестатистического мужчину», — подумал Лосев, следя за тем, как ловко она развернулась и пошла обратно. — А это у вас пушица, — выдернула из сомкнутого венчика шелковистую прядь и, дунув, пустила по ветру. — Наш одуванчик, — объяснила, — настоящие тут не растут. — Вы все растения знаете? — Все, — кивнула глубокомысленно, обозначив едва заметные ямочки, такие трогательные на круглом лице. — Их ведь у нас так мало. — Это что? — спросил Лосев, увидев пробившийся меж шпал хвощ. — Не притворяйтесь, — она погрозила пальцем. — Сами, небось, знаете. Он повсюду растет. — Знаю, — признался он. — Шучу… Жаль, что я никогда не интересовался цветами. — Чем же интересовались? Кроме социологии? — Знаками, которые оставили жившие давным-давно люди. — Это в каком же смысле? В прямом или в переносном? — В прямом. — Расскажите. — Долго. — А вы в двух словах. Скажите хоть, что за знаки? — Круг с точкой, серп, волнистые линии, спираль — мало ли… — И что они означают? — Солнце, луну, воду, вселенную, наконец. — Как интересно! — ей и впрямь было интересно. Все отражалось у нее на лице. Лосев присел на корточки и прутиком начертил на песке треугольник вершиной вниз. — Это тоже вода… И женщина. — Почему? — Мы, кажется, приблизились к опасному пределу, — отшутился Герман Данилович. — А вот и встречный! — спохватился он, заслышав свисток. — Побежали! — Можете не спешить, — остановила Люся. — Всех подождут, никого не оставят. — Хорошо у вас поставлено. — Очень хорошо, — согласилась она. Так и проболтали они до того момента, когда вагон остановился возле окутанного туманом озера, показавшегося Лосеву искусственным. У самого берега дымили градирни и трубы, в воде чернели то ли сгнившие сваи, то ли затопленные стволы. — Вот и приехали, — Люся стала поспешно собираться. — Ваша гостиница в самом конце проспекта. — Такси у вас есть? — Разумеется, — она горделиво дернула плечиком. — Как же иначе? Проводив Лосева до стоянки, где не было ни единой машины, она пригласила его к себе на рудник «Комсомольский» и побежала к автобусу. — Давайте подвезу? — запоздало крикнул вслед Герман Данилович. — Ничего, я близко живу, — отозвалась она и прощально взмахнула рукой. — И ждать неохота…
БОЛЬНИЦА
Мечов нехотя разлепил налитые медовой тяжестью веки. Сонный сумрак туманил невидимый потолок, где мерещились мутные сизые блики. Чахлые струи из неплотно занавешенного окна косо высвечивали унылую тумбочку с недопитым стаканом, угол какого-то шкафа, слепое бельмо экрана. Выключенный телевизор, однако, жил тайной пугающей жизнью, проецируя из потустороннего мира какой-то причудливый аппарат, излучавший ртутное сияние, и страшную маску утопленника, невесть сколько пробывшего под водой. Недоставало ни воли, ни сил разгадать эту причудливую, напоминающую о ночных кошмарах сцену. Да и любопытства настоящего не было. Краем сознания Мечов догадывался, что видит отражения ночника, выжатой половинки лимона и ложки в стакане, где сверкает жидкая блестка. Но не хотелось всматриваться и думать. Острая капля на кончике ложечки, вытягиваясь в тончайшую иголку, колола зрачок. Изжеванная подушка и влажная скомканная простыня затягивали в жаркий омут беспамятства. Толчками накатывала, расслабляя кости, врачуя уставшие глаза нежащая истома. Все становилось зыбким, как в затонувшей каюте. Растворялось время, сглаживалась память. Остужая набрякшие руки мятной прохладой крахмального пододеяльника, Мечов незаметно уснул. В затопившей его немоте тонко отстукивали пылевлагонепроницаемые часы. Проснулся он от скрипа отворенной двери и звона колечек на занавесках, распахнутых уверенной властной рукой. — Полюбуйся на него, — услышал он певучий насмешливый голос и, приоткрыв глаза, увидел склоненное сияющее лицо главврача Веры Ивановны. — На моей практике первый случай сонной болезни… Не находишь? — обернулась она к стоявшей в дверях женщине. Андрей Петрович тоже взглянул туда, но увидел лишь белый халат и расплывчатый золотисто-розовый ореол с пятнышком ярко-оранжевой помады. — Валя? — он сел, подоткнув под спину подушку. — Ты? — изумленно заморгал, еще пребывая в сонной одури, где, казалось, многое навсегда позабыл. — Хоть узнал! И на том спасибо, — на его робкую, чуть глуповатую улыбку она ответила грустным всепрощающим взглядом. — Доигрался? Доволен теперь? — Перестань рвать перо из мужика, Валентина, шутливо нахмурилась Вера Ивановна. — Они этого страсть как не любят, — она присела на койку, холодными сильными пальцами нащупала пульс. — А ты тоже дурака не валяй, — смягчила резкость голоса мимолетной улыбкой. — Ишь как глазами захлопал, «Валя? Ты?» — передразнила, включая секундомер. — Интересно, кого ты ждал?.. Но Андрей Петрович не притворялся и не валял дурака. И никого он не ждал, когда спал без предчувствий и сновидений, отдаваясь совершенно животной всепоглощающей радости бытия. Невозможно забыть женщину, с которой близок уже пятый год, но — это и изумляло Мечова — она возникла для него словно из небытия. «Узнал!..» — Очень точно она сказала. Он действительно сначала «узнал» ее и уж затем окончательно все припомнил. — Частит от температуры, как видно, но наполнение хорошее, — Вера Ивановна поднялась, сунула куда-то под белую шапочку резиновые трубки фонендоскопа и потрепала Мечова по плечу. — Ну-ка, сними пижаму. Холодок и твердость ее быстрых уверенных пальцев он тоже ощущал как навеянное воспоминание. И покорно «узнавал» вновь почерпнутые из детства: «дыши» — «не дыши», упругие постукивания, вынужденное, через силу, покашливание. Почему-то было неловко не перед Верой Ивановной, а перед той, прислонившейся к притолоке, прекрасной женщиной с такими всезнающими глазами. Словно до блеска отутюженный халат, так открыто подчеркивающий золотистую смуглость длинных ног, сделал ее чужой. — Определенно прослушивается, — заключила Вера Ивановна, выпрямляясь. — В правом. Самая верхушка, надо думать… — Не возражаешь, если я посмотрю? — Ради бога! Забирай его вместе с потрохами… Анфиса! — крикнула она в коридор. — Проводи Валентину Николаевну в рентгенкабинет. Можешь одеваться, герой! — звонко шлепнула Андрея Петровича по спине. — Тоже мне, Хемингуэй! — Я бы хотел умыться, — попросил Мечов, нашаривая ногами больничные тапочки. Конвульсивными сполохами вспыхнули лампы дневного света. Нестерпимым блеском засиял салатный кафель. Плотно закрыв за собой дверь, Андрей Петрович критически покосился на зеленое биде и погладил отросшую щетину. К великому своему удивлению, узрел на подзеркальной полочке собственную электробритву и зубную щетку. Очевидно, Валя позаботилась обо всем, ничего не забыла. Даже югославский лосьон в граненом флаконе принесла. Приведя себя в порядок, он вернулся в палату, где был встречен непроницаемым взором сестры Анфисы. Она, что называется, в упор не видела — ни его, ни Валентины, бочком присевшей, сомкнув колени, на белый вращающийся табурет. А Веры Ивановны в палате уже не было. Валя вошла в его жизнь легко и непринужденно, как это случается с людьми, потерпевшими крушение в первом браке. Абсолютно ненамеренно они оказались рядом в самолете, летевшем в Заполярный город, и инстинктивно потянулись друг к другу. Оба летели в неизвестность, начинали с нуля, оставив на материке кое-какие осколки прежнего, не слишком радостного существования. Дальше доверительного, но с умолчаниями разговора, который сам собой завязывается в дороге, у них не пошло. Но осталось приятное воспоминание, которое быстро переросло в симпатию, когда они стали встречаться: вначале случайно, потом — как будто случайно. Они не торопили событий и не выдумывали несуществующих препятствий, были честны, свободны, духовно независимы и раскрепощены. Поэтому все совершилось естественно и просто, как редко удается в юности. Не было возвышенных слов, скоропалительных обязательств, но зато было другое, на что они и надеяться не могли: неподдельная нежность, радостное волнение, благодарность. Она осталась у него до утра, и они вместе, не таясь, пошли на работу: он — в свой поисковый цех, она — в легочный диспансер, где заведовала хирургическим отделением. Расстались в самом конце Главного проспекта, преисполненные удивления и теплоты. На новую встречу решились не сразу, а через несколько дней, словно боялись, что давешнее наваждение внезапно развеется. Но не развеялось. Хмельные друг другом, прожили они несколько счастливых, безоблачных месяцев. А в отпуск почему-то поехали врозь… Обещались писать чуть ли не ежедневно и, конечно, звонить — она оставила материн телефон. Даже всплакнули оба, так сердце рвалось от дурных предчувствий. Никто и ничто не заставляло их расставаться. Ее двенадцатилетняя дочь, которая, пока решался вопрос с квартирой, жила на материке, у бабушки? Санаторий в Гульрипше, куда ему дали путевку? Боже мой, как просто решались их псевдопроблемы! Они все могли сделать вдвоем, поехать куда угодно, с кем угодно. Или вообще никуда не поехать, хоть бы неделю побыть вместе, не расставаясь ни ночью, ни днем. Знали ведь, не могли не знать, что в сравнении с расставанием, которое вечно таит в себе грозную неопределенность, любые житейские затруднения выглядят пустяком. Быть может, она и ждала, что он скажет какое-то слово или сделает знак, позволяющий как-то переиграть эти их, совсем необязательные, планы, которые выглядели такими незыблемыми, нависали, как рок. Андрей ничего не сказал, и Валентина приняла это без тени неудовольствия. Не понимая, что с ним происходит, оглохший от горя, сошел он с трапа в аэропорту «Адлер» и не знал, что станет делать дальше. Какое-то мгновение готов был купить билет и, сломя голову, кинуться обратно, пока она еще в Заполярном, покуда не улетела на материк. Но пересилил себя, и это определило потом все будущие их отношения. Он вспоминал то кошмарное утро в Адлере, пока она вертела его в полутьме перед зеленовато светящейся рамкой скрина. Ее руки в холодных перчатках из предохраняющей от излучений резины, были налиты незнакомой ему силой и резкостью. — Локти вперед, — скупо бросала она, поворачивая его то левым, то правым боком. И он не узнавал ее мягких покорных рук, которые льнули, бывало, как лоза, обвивали его, когда он, шутя дразнил ее поднятым яблоком или смешным каким-нибудь пустячком. — Задержи дыхание, — приказывала, громыхая тяжелой кассетой. — Прижмись и не дышать, — заключала его в резиновые тиски. — Вот так, — ослабляя внезапно хватку и включала ток. Он приникал грудью к холодному — все теперь казалось ему холодным — стеклу и замирал, не узнавая ее. Пытался вспомнить, как горько дивился он на самого себя, когда понял впервые, что окончилась кружащая голову легкость и пришло страдание. Только думал об этом, как о чужом, постороннем. Ничего от так поразившего его смятения в душе не осталось. Даже эхо не пробуждалось. А ведь он любил ее. Очень любил, тогда, да и сейчас тоже любит. Наверное. Что же с ним происходит? Так думал он в то мгновение, когда мириады невидимых частиц, летящих со скоростью света, ливнем прошли сквозь его тело. Какую-то секунду что-то гудело и грозовой запах озона перебивал стойкий резиновый дух. В этом чужом для нее кабинете Валентина командовала, как у себя в диспансере. Недаром маленькая брюнетка, которую она ласково назвала Мери и Милочка, поспешила улетучиться. То ли из почтения к Вере Ивановне, то ли в знак признания высокого мастерства ее подруги, которая считалась в городе лучшим специалистом по легочным заболеваниям, оставила их вдвоем в своей рентгеновской преисподней, где окна и двери занавешены черным, а запах фиксажа и изоляции слезит расширенные во тьме зрачки. — Можешь одеваться, — сказал Валентина, захлопывая последнюю кассету, и села за скудно освещенный столик что-то такое писать. — Почему так строго? — впервые за все время поинтересовался Андрей Петрович. Его пронизывала дрожь, почти как там, на мысу, и слегка пошатывало. — Лучше поцелуй меня. А? — Ты с ума сошел, — буднично произнесла она, не отрываясь от письма. — Почему? — Нашел место. — А что? Превосходная хата! Можно сказать, сама Прозерпина предоставила ее нам для свиданий. — Не знаю никакой Прозерпины, — сухо ответила она на шутку. — Посиди здесь, — попросила, — пока буду проявлять, — и скрылась за перегородкой с кассетой под мышкой. — Неужели тебе не интересно? — продолжал он глупо настаивать, прислушиваясь к плеску раствора в кювете. Ставший отчетливым серный запах гипосульфита щипал ноздри. — Валь! — позвал заскучавший Мечов. — Откликнись… Ау! — Я занята. — Но говорить-то ты можешь? Неужели не интересно, спрашиваю? — Что именно? — Как что?! — он разыграл неподдельное возмущение. — Целоваться тут. Это ж экзотика! — Лично я такой экзотикой по горло сыта, — она усмехнулась, оттаивая. — Но у тебя, надеюсь, еще будет время на приключения в темноте. Не со мной, разумеется. — Ты это о чем? — насторожился он, хоть и не знал за собой неискупленной вины. — Я ведь один на рыбалку ходил. Взаправду. — На воре шапка горит, — она уже почти смеялась и затаенный смех смягчал ее низкий волнующий голос. — Просто я подозреваю, что тебе еще не раз придется побывать здесь, бедняжка. — Но ведь не с тобой! — продолжал он дурачиться. — А эта Мери не в моем вкусе. Я блондинок люблю. — На время забудь, — она прополоскала снимок и выскользнула из-за перегородки. — Ты болен. — А чего у меня? — играя, он напустил на себя мальчишескую развязанность. Подозревая, впрочем, что это ей никак не понравится. — Пневмония, мой дорогой, воспаление легких. Достукался. — Да ну! — присвистнул он, хотя диагноз отнюдь не явился для него неожиданностью. — И что же дальше? — Дальше? — она включила матовую панель, чтобы рассмотреть снимок по-сырому. Словно приняв предложенную игру, она говорила с ним, как с ребенком. Но, чуткий на интонации, он улавливал в ее словах скрытое напряжение, пугавшую его отстраненность. — Уколы? — он поморщился, притворившись, что страшно боится. — Не хочу! — и вдруг рассмеялся. — На будущей неделе сплошные заседания. Мне в президиуме сидеть. — Хорошо, — кротко согласилась она. — Пропишем тебе рондомицин. Будешь глотать капсулы. Ее покорность граничила с безразличием. Что-то было с ней не в порядке. — Ты сердишься на меня? — проникновенно спросил Мечов. — Не надо, родная, с каждым ведь может случиться. — Ах, Андрей! — она обреченно взмахнула рукой. — Ничего ты не понимаешь. — Тогда в чем дело? Чего ты так? — Ладно, — досадливо отмахнулась она. — Потом поговорим, в более подходящей обстановке. — Валь… — Андрей попытался что-то возразить, но она решительно затрясла головой, разметав золотые роскошные волосы, и, повесив сушиться снимок, увлекла его за собой. — Здесь не место выяснять отношения. Он попытался обнять ее, но она выскользнула, шепнув торопливо: — Пойдем, милый, пойдем, а то неудобно уже… В освещенном коридоре их встретили Мери и Вера Ивановна. Начался профессиональный разговор, с профессиональными шуточками, и было им уже негде поговорить с глазу на глаз. Мечов решил, что она просто перенервничала, когда завелась дурацкая свистопляска с вертолетами и из уст в уста стали передаваться самые невероятные слухи. Нужно успокоиться, прийти в себя, и постепенно их жизнь, непростые их отношения войдут в прежнее русло. Думая так, Андрей Петрович, был очень недалек от истины. Он лишь сознательно не принимал в расчет одной малости. Просто заставлял себя не вспоминать и не помнил поэтому о горьком осадке, который неизбежно остается после каждой размолвки и потаенно растет и уже как-то влияет на будущее. Любовь никогда не умирает сразу, ее сживают со света ежедневно и ежечасно. Винить хоть в чем-нибудь Валентину он, конечно, не мог. Но внутренне отчуждался от нее, когда страдал и казнился за собственную вину. Всем существом противился этому непрошеному незаконному ощущению, потому что никогда ничего не обещал ей, ничем себя бесповоротно не связывал. Понимая, что логика человеческих отношений сильнее и шире формальной логики слов, он противился собственному чувству, по-детски жестоко бунтовал. И тогда, в Адлере, он неосознанно затеял именно такой бунт. И выстоял. С тех пор каждый раз что-нибудь добавлялось по капле. Быть может, с той лишь разницей, что в последнюю свою эскападу он вообще не думал о Вале, не брал ее в расчет. Не из душевной черствости. Просто в голове не укладывалось, что она будет страдать. Ведь там, у костра, он уже знал, что с ним ничего не случится.ПЕРВАЯ БЕСЕДА
В гостинице Лосева ждали. Едва он назвал себя, как пожилая администраторша сама проводила его в двухкомнатный люкс. Судя по электрическому самовару и обеденному сервизу на шесть персон с соответствующим набором ножей и вилок, обосновались здесь обстоятельно и надолго. Повесив костюм и разложив по гардеробным полкам рубашки, твердые от вложенных внутрь картонок, Герман Данилович подошел к окну. Переставив с подоконника на телевизор вазочку, в которой сиротливо мокли иззябшие ветки багульника, раскрыл неподатливые рамы. Прохладный тугой ветерок, подхватив занавеску, закружился по комнате, навеки пропитавшейся затхлым табачным запахом. Внизу четко очерченным кругом лежала голая клумба с обтесанным монолитом, а за нею, словно по линейке проложенный, Главный проспект. Он начинался прямо со ступеней выстроенной амфитеатром гостиницы и уходил в туманную даль. Недаром Заполярный город считался одним из самых протяженных в мире. Зато любой, даже самый отдаленный квартал отстоял от проспекта метров на триста, не более. Ближние здания с магазинами, ресторанами и кино, возведенные на скальном основании, показались Лосеву, успевшему наглядеться на свайные опоры, особенно массивными и потому надежными, незыблемыми. Облицованные шершавым камнем, они выглядели в сущности обычными городскими строениями, отнюдь не бастионами цивилизации на краю гиперборейской ойкумены. Но в обыденности и проявлялось полностью победное величие замысла. Даже в лютую полярную ночь человек мог чувствовать себя дома на этой широкой улице, застроенной без особых выдумок, но со столичным размахом. В смежной комнате зазвонил телефон. В полной уверенности, что звонят кому-то из бывших жильцов, Лосев снял трубку. — Герман Данилович? — прозвучал приветливый, чуточку вкрадчивый бас. — С вами Кусов говорит, из городского комитета. Добро пожаловать в наши края. Как долетели, Герман Данилович? — Самым благополучным образом, — Лосев сделал выжидательную паузу. — Не очень устали? — Помилуйте, с чего? — Вы уж простите, что так получилось. Мы, признаться, вас почему-то вчера ожидали. К тому же тут небольшое ЧП случилось, и товарищ Логинов был вынужден заняться лично. В суматохе, знаете ли… — Пожалуйста, не беспокойтесь. А что за ЧП? — Пустяковое дело, — сразу же дал задний ход Кусов. — Совершенно не для печати. Мы тут для вас материал подготовили. Настоящий, масштабный. — Напрасно беспокоились, — Лосев непроизвольно поморщился. — Я пока и сам не знаю, что мне может понадобиться. Сначала освоиться надо, оглядеться. — Конечно, конечно, — голос в потрескивающей мембране благодушно потеплел. — Предоставим вам такую возможность непременно. На сегодня у вас какие планы? — Ничего определенного. — Тогда, может быть, встретимся? Побеседуем предварительно? — Буду только благодарен. — Вот и лады. Сейчас подошлю за вами машину.Горком, судя по всему, лишь недавно въехал в новое помещение. Внутри продолжались отделочные работы. Пахло сырой штукатуркой, карбидом. Забрызганную известкой парадную лестницу загораживали грубо сколоченные козлы. По пустым коридорам гулко разносились шутки и смех мастеров. Лишь на втором этаже, куда шофер провел корреспондента по угловой лестнице, стояла относительная тишина. На свежевыкрашенной стене висели портреты в золотых рамках, отциклеванный, но еще не натертый паркет покрывала малиновая ковровая дорожка. Ни табличек, ни номеров на дверях пока не значилось. Петр Савельевич Кусов оказался человеком весьма пожилым, с нездоровыми мешками под глазами и лихорадочно румяными в склеротических жилках щеками. Бегло глянув на командировочное удостоверение, передал ого для регистрации секретарю и придвинул к столу кресло поудобнее. — Присаживайтесь, — пригласил, церемонно склонив голову. — Для начала ознакомлю с одним документом, — вынул из папки заранее приготовленные бумаги и без всякого предуведомления начал читать, многозначительно акцентируя отдельные фразы. Лосев вскоре догадался, что это была речь, которую произнес на торжественном митинге видный работник Совмина, посетивший комбинат в конце прошлого года. В ней должным образом отмечались успехи заполярного гиганта, героизм и самоотверженность рядовых тружеников и руководителей. Перечисляя фамилии, то бегло, то с расстановкой, Кусов даже легонько всхлипнул, когда назвал себя и, залившись краской, поспешно скомкал оставшуюся часть речи. Закинув ногу на ногу и сцепив на колене пальцы, Герман Данилович едва удерживался от резкого замечания. Речь, которую его вынудили прослушать, безусловно содержала интересные для него идеи. Была она яркой, взволнованной и, вместе с тем, глубоко аргументированной. Можно было бы от души поблагодарить Петра Савельевича, если бы тот ознакомил его с подобным документом в более деликатной форме. Но это демонстративное прочтение, как бызакрывавшее раз и навсегда возможность любой дискуссии, показалось столь несвоевременным и неуместным, что Лосев почувствовал себя уязвленным. Такого, признаться, он никак не ожидал. Было смешно и стыдно. Прослушав в полном молчании декламацию Кусова, он не проронил ни слова и после того, как Петр Савельевич бережно упрятал в папку сколотые скрепкой листы. Кусов, однако, расценил это молчание по-своему. — Какие будут вопросы, Герман Данилович? — осведомился ом. — А никаких! — Лосев вызывающе весело вскинул голову. — Поживем, увидим. Для начала я бы хотел договориться о встрече с Логиновым. Где он сейчас? — Вероятно, у себя, — Кусов снял трубку. — Где Владлен Васильевич? — спросил, машинально рисуя цветочки на перекидном календаре. — Ах, на Хантайку вылетел! Ясненько. И когда ожидается?.. После шести, — значительно кивнув Лесеву, записал для него номер телефона. — Рабочий день до скольких? — поинтересовался Герман Данилович. — Ничего, звоните, — покровительственно заметил Кусов. — Он обычно допоздна задерживается. В чем, если не секрет, основная цель вашей командировки? — Основная? Затрудняюсь пока сказать точно, но, видимо, прежде всего меня будут интересовать вопросы управления. — Вам, конечно, известно, что наш комбинат назван в Письме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в числе лучших? За короткий срок нам удалось накопить ценнейший опыт комплексного решения вопросов производительности труда, эффективности и качества производства. — Что за вопрос? — пряча улыбку, кивнул Лосев. Он уже понял, с кем имеет дело, и ожидал лишь удобного момента, чтобы закончить беседу. Эта встреча не дала ему ровным счетом ничего, а материал, якобы подготовленный Кусовым, едва ли мог дополнить редакционное досье. — Вы, надеюсь, обратили внимание, что «Правда» уделяет комбинату самое пристальное внимание? — спросил Герман Данилович, давая понять, какого рода публикации следует ждать от него, специального корреспондента. Прежде чем проститься, ему хотелось успокоить Кусова. — Да-да, очень положительные выступления. В целом, я имею в виду. Конечно, попадаются и отдельные критические замечания, не без того, — Кусов снисходительно махнул рукой. — Но в основном, пишут достойно. В позапрошлом году, например, Константин Михайлович Симонов побывал… Масштабно осветил! Стратегически. — Превосходный очерк! Читал. Но не по моей части. — Поднимать героизм — почетная задача. Это касается всех. — Совершенно с вами согласен, Петр Савельевич. Но, кроме героизма, есть ведь и другие составляющие успеха. Не так ли? В минувшей пятилетке, если не ошибаюсь, комбинат на шестнадцать процентов увеличил выпуск цветных металлов, а в текущем пятилетии предусмотрен еще более высокий рост. За счет чего, интересно? — Как намечено, так и будет. Месячные планы перевыполняются. — Не сомневаюсь. Но мне как журналисту важно проследить роль каждого фактора. Сколько, к примеру, может дать реконструкция производства и модернизация оборудования, сколько — интенсификация основных процессов. Или возьмем развитие рудной базы. Оно опережает сейчас производственные мощности. Хорошо это? А может, не очень? И до каких пор возможен дальнейший рост? И насколько эффективны методы управления? — Вы полагаете, что ответ на все вопросы лежит в сфере управления? — Не знаю, на все ли, но на многие — наверняка, — и, словно ставя последнюю точку, Лосев устремил на собеседника нарочито незаинтересованный взгляд. — На «Надежде», если мне память не изменяет, темпы возведения новых цехов отстают от плановых? — Кто вам успел сказать? — Помилуйте, Петр Савельевич, перед отъездом я внимательно проштудировал подшивку вашей городской газеты. — Основательно подготовились. — А как же иначе? — Строительство Надеждинского завода, не скрою, наша главная забота. К сожалению, не все здесь зависит от нас, заполярцев. Генеральный подрядчик, Минэнерго то есть, не позаботился заблаговременно о создании собственной производственной базы. Вот и пришлось «Таймырэнергострою» довольствоваться нашими харчами. Комбинат взял их, можно сказать, на полное боевое довольствие. Что же касается жилья, материально-технических ресурсов, то, как говорится, по одежке приходится протягивать ножки. Самим не всегда хватает. Темпы! — Вот мы и подошли с вами к вопросам управления, Петр Савельевич. Темпы, ресурсы и, между прочим, ситуацию с подрядчиком и со смежниками, которые тоже не всегда выполняют взятые на себя обязательства, — все это можно было предусмотреть, заранее спланировать и даже проиграть на ЭВМ, — Лосев замолк, осуждая себя за излишнюю запальчивость и вообще за то, что дал втянуть себя в этот никчемный спор. Кусов бросил на него быстрый оценивающий взгляд и, словно выкладывая карты на стол, заметил! — Я, извините, четвертый десяток работаю в Заполярье. Пока хозяином всему считался комбинат, все было, как штык. Вопросы решались оперативно и четко, без всяких компьютеров, — он осуждающе покачал головой. — Но жизнь идет, развивается… Проблемы, которые можно было разрешить простым поднятием трубки, — тронул ближний, нежно-розового оттенка телефон и не удержал вздоха, — обрастают ненужными сложностями. Доколе, как говорится? — Отныне и присно, — кивнул Лосев. — Боюсь, что к простым рецептам возврата не будет. Дальше — сложнее. — Похоже, вас это радует? — Я, видите ли, по специальности социолог, — улыбнулся Лосев. — Независимые от людской воли экономические процессы не могут меня ни радовать, ни огорчать. Я лишь констатирую, что в развитии общества каждый новый шаг достигается ценой все больших и больших усилий. Другое дело, что планирование и научная организация труда позволяют нам свести до возможного минимума лишние издержки. Вы согласны? — Не знаю, — вновь покачал головой Кусов. — Многие сложности представляются мне надуманными, — его широкая, сохранившая давние трудовые отметины рука непроизвольно сжалась в кулак. — Просто нужен крепкий хозяин. У нас некоторые думают, что стоит комбинату получить права главка и все трудности разрешатся, как по щучьему велению. Как бы не так! Не то, что у главка, у министерства нет настоящей власти. Все приходится согласовывать, до бесконечности утрясать. — И это тоже характерная черта развитого социализма. Власть, уважаемый Петр Савельевич, и управление — понятия совершенно неоднозначные. — Вот и скверно, что так. В войну мы здесь все сами делали — от станков до ходиков, и давали, как надо, легирующие на броню. Время, конечно, было исключительное, я понимаю, но вместе с тем и показательное. Люди довольствовались минимальным. Производство, быт — все подчинялось главной задаче. Сдается, порой, что кое-кто с жиру беситься начинает. И готов большие средства на ветер пустить во имя достижения второстепенных, мягко говоря, целей. — Каких именно? Любопытно? — быстро спросил Лосев. Разговор начинал становиться интересным. — Не посчитайте меня за ретрограда, Герман Данилович, но я не любитель крайностей. Затронем хотя бы вопрос окружающей среды. Своевременно он поднят? Безусловно, своевременно. Самое время браться нам теперь за природовосстановление. Когда решалась судьбы угольных шахт, я первый поднял руку за консервацию, потому что преимущества газа были налицо. Газ не только оздоровил атмосферу, но прямо-таки преобразил город, обеспечил его второе рождение. Но в последнее время пошли разговорчики, что и газ не так уж хорошо, что, дескать, напортачили мы с трубами и оттого, мол, страдают олени да песцы. Во-первых, нужно доказать, верно ли это. Я, например, сомневаюсь. Во-вторых, сама постановочка вызывает удивление. С одной стороны, индустриальный гигант, производство общегосударственного значения, с другой — сотня-другая диких оленей. Нонсенс! Дамский каприз… Вы не поверите, но нашлись у нас мудрецы, готовые чуть ли не отказаться от третьей, до зарезу необходимой городу, нитки. Представляете себе? Как видите, я не скрываю от вас наших недостатков. Напротив, по мере сил, ориентирую на них, потому что партийная печать — огромная сила. — Все, что вы рассказали, очень интересно. Но надо выслушать и другую сторону. Кто конкретно предлагал отказаться от газопровода? — А, задело за живое? Очень хорошо! Нужную, значит, подкинул темку. Уверен, что вы быстро сумеете сориентироваться и сделать верные выводы. Ну, да мы еще не раз с вами потолкуем… Но об одном хотелось бы с вами сразу договориться, Герман Данилович, — Кусов неуловимо перевел разговор в иное русло. — Прежде чем печатать статью, дайте пробежать взглядом… А? И вам страховка от непроизвольной какой опечатки будет и нам спокойнее. Я, как видите, тоже за всяческое согласование. Дело-то у нас общее. Лосев начинал понимать, что Кусов совсем не так прост, как показался сначала, и, по-видимому, глубоко предан своему Заполярному городу, точнее, тому неизменному образу, который раз и навсегда запечатлелся в памяти. Было в этом что-то от слепой родительской ревности. От бессильной и горькой обиды на то, что дети зажили своей отдельной жизнью и строят ее совсем не так, как хочется отцам. По-человечески оно было понятно, социально — не внушало никакого сочувствия. — Едва ли я смогу показать вам свой опус, — сказал после продолжительного молчания Лосев. — Я ведь не репортер и писать стану уже по возвращении. Он видел, что его объяснение никак не удовлетворило Кусова, но не счел нужным ничего добавлять. — Кем вы работали раньше, Петр Савельевич? — спросил, чтобы разрядить обстановку. Да и возникший в воображении типаж уже требовал уточняющих черт. Но Кусов ответить не успел. Широко распахнув дверь, в кабинет заглянул худощавый человек, лет тридцати, не более, в отлично сшитом костюме. Лосев успел отметить депутатский значок на лацкане и чрезмерно яркий безукоризненно повязанный галстук. — Наш первый, — Кусов поднялся, представляя вошедшего гостю, — Веденеев Игорь Орестович… А это товарищ из центра, специальный, — сделал на этом слове непроизвольный нажим, — корреспондент. — Догадываюсь, — кивнул Веденеев, крепко пожимая протянутую руку. — К вашим услугам. — Я вот просил только что Германа Даниловича проконсультировать с нами свое выступление… На всякий пожарный случай. — Полагаете, редколлегия без нас не разберется? — спросил Веденеев и довольно жестко отрезал: — Я так думаю, разберется. С Владленом Васильевичем уже виделись? — обратился он к Лосеву. — Мой вам добрый совет: идите к нему с готовой программой. А мы, со своей стороны, позаботимся, чтобы вам показали наиболее интересные объекты. — Для начала я бы хотел поговорить с людьми, с самыми разными. Наметить, хотя бы ориентировочно, узловые пункты, узкие места. — Узкие места? — на выразительном и подвижном лице Веденеева промелькнула лукавая усмешка. — Этого добра хоть отбавляй. К сожалению, самое большое беспокойство внушают участки, которыми мы особенно гордимся. Именно там, где, по сути, решается будущее Заполярного, и наблюдаются сбои. — Как раз об этом мы и толковали с Петром Савельевичем, — Лосев достал записную книжку. — Трудности возрастают прямо пропорционально масштабу. В известной мере это статистически обусловлено. — Я такой точки зрения не разделяю, — произнес Кусов, упрямо поджав губы. — Я бы тоже не стал возводить ее в принцип, — согласился с ним первый секретарь. — Если взять для примера горнодобывающую сферу, то здесь мы страдаем в кавычках, только от нежданно свалившейся на нас щедрости природы. Металлургические заводы просто не подготовлены к переработке такой богатой руды. В десять раз более богатой, чем та, которую давал «Маяк». Пришлось чуть ли не в корне менять все технологические процессы. Перестраиваться на ходу. В целом с этой задачей комбинат справился. Во всяком случае уже ясно, что основные трудности позади. Мы имеем дело с детской болезнью роста. По сравнению с добавочным потоком цветных металлов любые временные затруднения выглядят мелочью. Зато ситуация, сложившаяся в строительстве, куда сложнее. — «Надежда»? — спросил Лосев. — Не только. Причины замедления строительства новых цехов в общем ясны. И если мы не располагаем реальной возможностью выправить положение уже сегодня, то наверняка сделаем это в ближайшие месяцы. А вот диспропорция, наметившаяся в шахтном строительстве, — орешек покрепче… — И что же там? — Побывайте на Красной скале, сами увидите, лично мне будет очень интересно побеседовать с вами на эту тему. — Едва ли я смогу сообщить что-то новое, — Лосев скептически пожал плечами. — И вообще, я совершеннейший профан в горном деле. — Не скажите, Герман Данилович, не скажите… Тут, знаете ли, важен не конкретный подход, а более общий, системный. Я в свое время внимательно проштудировал вашу монографию и очень жду от вас помощи. Так и знайте. — Монографию? — недоверчиво заинтересовался Кусов, покосившись на щуплого моложавого корреспондента. — Да, Петр Савельевич, — с невинным выражением подтвердил Веденеев, — я имел в виду последнюю книгу профессора Лосева «Социология науки». Помните, я еще говорил о ней на партактиве? Кусов побагровел и ничего не ответил, а Герман Данилович почувствовал себя крайне неловко.
ДУДИНСКИЙ ПОРТ
Не пробыв в больнице и пяти дней, Мечов возвратился в холостяцкую однокомнатную берлогу. Жил он в стандартном вибропанельном доме свайной конструкции. Вся улица Прончищева, одним концом упиравшаяся в Главный проспект, другим — в тундру, была застроена точно такими же семиэтажными зданиями, поставленными для лучшей ветрозащиты в каре. Но, когда задувал северо-восточный, под фундаментами беспрепятственно гуляли поземки и дымными спиралями завивались вихри на широком, как плац, внутреннем дворе. Впрочем, так оно и было задумано. Выдувая застоявшееся под домом тепло, ветры сберегали от таяния верхний подвижный слой. Беспросветным неуютом повеяло на Андрея от родимых, малость покореженных после осадки стен. Меж оконными рамами скопилась угольная пудра, в раковине громоздилась вымытая — не иначе Валя поработала, — но успевшая запылиться посуда, тусклая пелена пыли покрывала и телевизор, и хельгу с разномастными чашками и бокалами. В недопитой бутылке на подоконнике гнойно желтело пиво. Мысль о том, что нужно навести хоть какой-нибудь порядок, показалась ему омерзительной. В суставах еще пряталась неуверенная скучная ломота. Клонило ко сну. Немного побаливали глаза. Прикорнув на раскладном диване, с пачкой газет, которую нашел в ящике по возвращении, Мечов чувствовал, как его, почти против воли, засасывает тревожное забытье. Испуганно пробудившись среди ночи, не сразу понял, где он и что происходит. Комната предстала чужой, настороженной. Взволнованно трепыхалось отравленное ночной тоской сердце. Мутным приливом прихлынули дурные предчувствия, запоздалые сожаления и прочие тяжкие думы, от которых наутро обычно не остается следа. Но до утра было далеко. Андрей Петрович понимал, что уснуть теперь не удастся. Зависнув прямо под форточкой, воспаленный пузырь залил противоположную крышу тягучим сиропом. Малиновые полосы освещали боковую стену, где на старом текинском ковре висели ружья, кинжалы и прочие охотничьи принадлежности. Свернувшийся трубкой кончик обойного листа искрился засохшими каплями клея. Мечов ощутил себя чужим в этой полупустой квартире, которая, не ведая стыда, демонстрировала собственное убожество. Словно на месте преступления подстерег он свой дом в разоблачающие минуты весенней бессонницы. Убогими предстали перед ним и те немногие ценности, которыми он, возможно по привычке, еще дорожил. Подчеркнутая независимость, свобода и легкость ненужных, в сущности, развлечений и кратковременных связей — все потеряло прежнюю притягательность. Под размалеванной карнавальной маской обнаружилась зияющая пустота. На поверку выходило, что жил он одной работы ради. Казалось, это могло успокоить Мечова, окончательно примирить с самим собой. Но внутренняя честность не позволяла принять облегченное и потому ошибочное решение. Он-то знал, что даже работа, будь то срочное архиответственное задание освоить новые руды или отвлеченная тема по фазовым равновесиям, никогда не захватывала его целиком. Он увлекался очередным исследованием, словно разгадыванием кроссворда, — и только. Кому не любопытно узнать, как взаимодействует материя на том или ином уровне? Сознание значимости разработки, требования производства и жесткий график лишь подстегивали воображение, заставляли собраться. Но вдохновенной, всепоглощающей жажды не было никогда. Временами хотелось, очень хотелось пережить острое, лишь понаслышке известное ощущение. Вначале он даже мечтал о нем, как мечтают подростки о любви, горячо и нетерпеливо, потом махнул рукой и выбросил из головы. Может, задачи доставались слишком облегченные, может, от природы недоставало подлинной увлеченности. Внешне это никак не проявилось. Выручали недюжинные способности, солидная школа и безошибочная быстрота реакции. К внешним проявлениям успеха Мечов оставался довольно равнодушным. Знал, что стоит большего. Но был достаточно умен, чтобы держать свое знание при себе. Его самоуверенность проявлялась иначе. Не страдая комплексом перестраховки, он многое брал на себя и, сделав молниеносную прикидку, принимал решение. Подчас неожиданное, даже рискованное. Отвечать за ошибки не боялся, но и осложнений отнюдь не искал. Поэтому гибко отступал, когда обнаруживались серьезные препятствия, с удивительной легкостью переключался на другое. Тупиковых ситуаций он не переносили всегда держал про запас альтернативное решение. Одни видели в этом проявление беспринципности, другие — творческую одаренность. Столь же полярным оценкам подвергалась и его сугубо личная жизнь. Внешне весьма привлекательный, он нравился многим и, мягко говоря, не отличался склонностью зарывать талант в землю. Но и на галантном поприще не умел полностью отдаваться даже самому сильному увлечению. Возможно потому, что не хотел слишком крепко привязываться, страшился новых потерь. Казалось бы, грех жаловаться Андрею Петровичу на судьбу. Поисковый цех, которым он руководил, последние три года выполнял важные производственные задания в масштабах всего комбината. Промышленный атомный реактор, автоклавы, новейшие руднотермические печи — все это стало возможным лишь благодаря цеху: научным разработкам, стендовым испытаниям, по меньшей мере, доводке. Не удивительно, что Мечова выдвигали, он был на подъеме, ни одно мало-мальски значительное решение не принималось без его ведома. При всем этом у него еще оставалось время на «чистую» науку — на теорию, которая поздно или рано тоже приносила свои плоды. Постепенно накапливался интересный материал для монографии по физико-химической механике металлических расплавов. Вырисовывалась и тема докторской диссертации. Если принести в жертву длинные отпуска с их почти стандартным набором скоропалительных удовольствий, ре можно было бы осилить годика за четыре. Но Мечов ничем не желал жертвовать: ни югом, ни охотой в тундре, ни, тем паче, рыбалкой. Редкие минуты полного довольства, когда без особых на то причин, нисходит блаженный покой, он ценил превыше потенциальных, узаконенных ВАКом благ. — Мозгу тоже требуется холостой ход, — отшучивался на упреки коллег, — должен я дать ему возможность заприходовать информацию? Рассовать по всяким ячейкам? Так и жил, большей частью плывя по течению, не предъявляя непомерных требований ни к себе, ни к ближним. И в мыслях не держал, что его, такого спокойного, такого безразлично-доброжелательного, цепко захватит тоска. Вероломно, внезапно, как тать в ночи. С бесстрастием исследователя попытался Андрей Петрович подвергнуть анализу собственные потаенные ощущения. Растревоженная мысль сама собой блуждала по сумеречному лабиринту. Приблизительно знакомый с принципами системного анализа, Мечов подозревал, что особого откровения «изнутри» не обретет. Требовалось выйти «вовне», подняться на более высокий системный уровень. Но именно тут таилась безотказно действующая ловушка. Угрожавший Мечову-личности тупик оказывался на поверку чистейшим вздором, как только этот мыслящий, с кандидатским дипломом, индивид занимал подобающую ячейку в системе «эн плюс один порядка» — города, страны, человечества. Логические узлы развязывались с удивительной легкостью, а на душе почему-то легче не становилось. Пустота маячила впереди, как только Андрей Петрович пытался довести мысль до логического конца. Естественная жуткая пустота, с которой так легко мирится человечество и так болезненно — его отдельные представители. Ничего не проглядывало в ее занавешенных зеркалах, поглощавших любые лучи по законам абсолютно-черного тела. Стократно усиленный неусыпным малиновым светом нескончаемый день коварно подтачивал бастионы духа, выворачивал наизнанку, расчленял на элементы. Трудно было выбрать худшую пору для внутренних поисков, чем эта. Безмерно одиноким осязал себя Андрей Петрович, потерянным. Он пытался выскочить из игры, прихлопнуть единым разом доводы и контрдоводы, которые сам же не уставал выдвигать. «Все равно, — убеждал он себя, — дальше немудреного парадокса, что смысл жизни в ней самой, научная мысль не продвинулась: ни философия — царица наук, ни геронтология, врачующая старость, ни сулящая вечную молодость шарлатанская ювенология. Природа мудра, и перехитрить ее невозможно. На каждый ход у нее припасен ответ. Она терпелива и может ждать бесконечно долго, чтобы поступить по-своему, когда вымрут последние оппоненты. Нужно просто жить, радоваться каждому дню и обязательно кому-то принадлежать. Без остатка, самозабвенно. Иначе нельзя… Иначе не сохранишься». Нехитрая диалектика, но ничего лучшего люди так и не выдумали. Потому что ни радости нет, ни покоя без неусыпной тревоги, без высокого страха за близкую, слепо доверившуюся душу. Мечов встал, рванул штору, заслоняясь от настырных, высвечивающих до дна лучей. Притихший заколдованный двор расстилался мертвой пустыней. Лихорадочным глянцем отсверкивали отвалы почерневшего снега. Танцевали обрывки бумаги на ветру, сонным кругом гулявшие за трансформаторной будкой. Тощая кошка с отстриженными стужей ушами заполярным сфинксом сидела на детских качелях. Он прошел в кухню, где на полке, рядом с нехитрой посудой, стоял много раз битый, подлеченный эпоксидным клеем телефон. Более не раздумывая, хоть часы показывали четыре, набрал ее номер. Вслушиваясь в редкие замороженные гудки, заново переживал смятение, охватившее его четыре года назад у самолетного трапа. Теперь он, наконец, решился. Летел назад, торопя минуты. Ледяными шариками выкатывались и падали гудки. Кажется, он безнадежно опоздал. Возвращаться было некуда. Неделей раньше и вообразить было трудно, что это может доставить такую боль. Неужели он просто не знал себя? Значит ли это, что он любит и любил всегда? Или всему виной только бессонница, насылающий полуночное безумие липкий малиновый свет? Зыбко было ему, неуверенно… Оборвались внезапно томительно длившиеся гудки, словно заполнили отведенное для них вымороченное пространство. Настороженная слабо потрескивающая тишина почему-то больше всего напугала Андрея, и он поспешил опустить трубку. Стараясь не гадать, где могла быть сейчас Валентина, — дежурство в диспансере? — Мечов рухнул ничком на диван и накрылся подушкой. Уснуть, во что бы то ни стало уснуть, ни о чем не думать, ничего не решать. Но он упорно вспоминал, мысленно перебирая последние встречи, толковал и перетолковывал ее уклончивую, необычно кроткую покорность. Это было так неожиданно для него, так ново, что даже не удивлялся. Принял как свершившийся факт. Оба они переменились за эти дни, и он не знал, к добру это или к несчастью. Подозревал, что к худу, потому что плохо, когда уходит радость и легкость и остается затаенная грусть. Валентина что-то обдумывала, что-то решала. За себя, за него? За обоих?.. Бог весть. Ее движения, слова, а еще более недоговоренности, раскрывались Мечову с теневой неожиданной стороны, наполнялись беспокойным смыслом, который требовалось разгадать. Казалось, невидимый свет, пронзивший его во мраке черного кабинета, высветил нечто очень важное для него, идущее из самых недр его существования, о чем и сам он дотоле не подозревал. И это нечто исподволь изменило всю их дальнейшую жизнь. Подвергло ее полному пересмотру. Мечова грызло раскаяние. Он страдал, впервые в жизни отчаянно страдал, и оттого, что не находил действительных поводов, мучился еще больше. Это было так непривычно для него, что он, вконец обессилев, незаметно уснул. Разбудил его настойчивый телефонный звонок, прорвавшийся сквозь наркотическую завесу сна и толщу подушки. Мечова, как взрывом, швырнуло с дивана. Он рванулся в кухню, зацепив и опрокинув торшер, нетерпеливо схватил трубку. Едва сумел скрыть разочарованный вздох, когда узнал приглушенный, с характерным «оканьем» голос Логинова. — Проснулся, дезертир трудового фронта?.. Давно пора! — Я, между прочим, еще на больничном листе, — ворчливо, в тон директору, пошутил Андрей Петрович. — Имею право? — Не уверен. Будь моя воля, я бы такой бюллетень не оплатил. — Что так? Или диагноз не нравится? Болезнь, как болезнь. — Я бы приравнял ее к нетрудовой травме. — А я бы кое у кого вычел из зарплаты деньги за вертолеты и прочую шумиху. — Мечов с трудом подлаживался под разговор. Мысль работала заторможенно, скупо. Вместо задорного юмора выходила вульгарная перебранка. Владлен Васильевич, по-видимому, это тоже уловил, потому что круто сменил тему. — Свежий воздух вам, надеюсь, не противопоказан? — осведомился он. — Видимо, нет, а что? — Хочу предложить чуток проветриться. Ледоходом полюбоваться… Заодно и о деле поговорим, много всякого накопилось. — Пошел, наконец? — Вскрылся, — удовлетворенно подтвердил Логинов. — Сейчас только звонили из метеослужбы… Ну, так как? Лады? — Когда надо быть? — Собирайтесь в темпе и подходите прямо к дрезине. Перед тем как уйти, Мечов присел на табуретку возле телефона. Все происшедшее представилось ему кошмарным сном, не более. Он подумал-подумал и не позвонил. Мутной несмешивающейся струей изливался Енисей в ледяной мешок Карского моря. Грязный от чернотала речной покров рассыпался соляным крошевом и таял в пузырях и кофейной пене. Сшибались освобожденные бревна, круша чудом уцелевшие ледяные плиты, в брызгах коры и перемолотой древесины бешено вращались стволы дремучих елей и пихт. Широкое половодье выносило в океан застигнутых врасплох животных, щиты снегозадержания, пустые канистры и целые плавучие островки с чахоточными березками на зыбком коврике из осоки и мхов. Прозрачной голубизной и зеленью отсвечивали морские льды, желтоватые огоньки дрожали в дымчатой глубине речных осколков. Хмельная от сладости талых вод, сыто играла веселая нерпа. Гнала к берегу скачущую над волнами треску. В блеске полярного дня взбудораженная дельта переливалась нестерпимой муаровой сеткой, слепила вспышками, убаюкивала ленивыми радужными пятнами. На судах, дожидавшихся открытия навигации в шести милях от кромки, завыли, наконец, дружные тифоны. Утробный исстрадавшийся клич прокатился над лагуной, вспугнув крикливую стаю гагар на скалах, насторожив моржей в укромной галечной бухте. С той поры, как утонули в болотах последние мамонты, не помнила тундра столь оглушительной громкоголосицы. И приумолкла, не услыхав за железным ревом собственного весеннего зова. Вместе с гудящими караванами потянулись стаи поморников и моёвок, бессчетные косяки рыбы. Чуть дымили трубы на рейде, где меж оплывшим припаем и сверкающей стеной проходного льда, качались на волнах сгустки ряпушки. В бледно-зеленой, отливающей пепельным шелком воде свинцово синели налитые жиром спинки, приманивая из глубины пучеглазых хищников. Зубастые рыбы рвали мечущийся пульсирующий, как сердце, косяк. На лету раздирали его трепетное серебро крикливые истеричные чайки. Неодолимому ликующему призыву, летевшему с океана, вторили дудинские буксиры, перезимовавшие в затоне рудовозы. Даже городская электричка, набитая по случаю субботнего дня жаждущей полюбоваться на ледоход публикой, откликнулась короткой пронзительной трелью. Народу перед ограждением с надписью «Запретная зона» скопилось видимо-невидимо. Под треск костров и сигналы порта летели в воздух пушистые шапки. Искрился мех, громыхало дружное, по чьей-то команде «ура», радостно хохотали ребятишки, оседлавшие плечи отцов, заливались лаем собаки. В пестром, оглушительном гомоне отчетливо различался хрустальный шорох, звонкое дыхание проносящихся льдин. Енисей в этом году покрылся спокойно, без пушечной пальбы, треска, громоздящихся торосов и прочих шумовых эффектов. Тем внушительнее казался глухой ледовый исход. Единым строем, почти не смещая узора разводий и трещин, бежало мозаичное полотно. Глаз с трудом выхватывал из сплошного потока отдельные плитки. Геометрически точные, словно вырезанные алмазом, они походили на пристыкованные панели, заготовленные для сборки типовых бесконечных конструкций. Не верилось, что эти образцово расчерченные детали несутся к тотальному уничтожению. С пугающей быстротой и безразличием несла их к вечной купели, где даже бессмертные воды теряют память о бывшем, конвейерная лента реки. Сама собой приходила мысль о неодолимом круговращении. Жутко и весело было следить за обновлением ледяного купола планеты. Сквозь натянутую для безопасности проволоку, приоткрылся лишь ничтожней фрагмент, но и он бросал намек на грандиозность всего замысла. Ради такого стоило вытерпеть и долгую зиму, и слепую гнетущую ночь. Дух захватывало, в невесомость бросало, когда пробуждалась спящая в человеке сопричастность космическим актам творения. Не каждому удавалось ее осознать и понять, но стихийная взаимосвязь с ликующей даже в мельчайшей капельке жизненной силой ощущалась всеми. Как запах таяния, как горячая ласка солнца, заступившего на шестинедельную бессменную вахту, как предчувствие счастья. Из глубин выплывала, манила, мерещилась разгадка непостижимой северной власти. И с ней, с ее сокровенным призывом никак не соотносились всякого рода надбавки, коэффициенты и прочие заполярные льготы. Просто сосуществовали на различных уровнях, как низшее и высшее в человеке. Зоркий Мечов первым углядел в речном хаосе ветвистые оленьи рога. Целое стадо, запоздавшее пересечь Енисей по тропе исконных миграций, уносило в море. Обдирая бока о шершавые кромки, животные еще пытались взобраться на неустойчивые льдины, но тяжелые плиты качались под копытцами и опрокидывались, мозжа трепещущую плоть. Адскими челюстями сомкнулись кромки и всколыхнувшаяся на мгновение лента, не останавливая бега, обрела прежнюю сплошность. Кое-где промелькнули отдельные рожки, набухшие кровью весны, но вскоре исчезли под лавой. — Видели? — спросил Андрей Петрович, непроизвольно поежившись. — Видел, — кивнул Логинов. — И не один раз… Между прочим, мы виноваты, — обломив ячеистый фильтр, вставил сигарету в мундштук, сухо клацнул зажигалкой. — Почему? — спросил Мечов, слегка отстраняясь от дыма, ставшего для него неприятным. — Лично я тут ни при чем. — И вы, и я, и все мы, — отрицательно покачал головой Логинов. — Невольно, конечно, зато неуклонно и с молодецким размахом тесним и губим дикую природу… Куда податься зверю? Мы же всю тундру опутали, перекроили на свой лад. — Давайте остановим заводы и аккуратненько эвакуируемся на материк, — после откровенного обмена мнениями в дрезине, когда Логинов зарубил, по сути, его предложение использовать серу и окись железа, остающуюся в хвостах, Мечова так и тянуло на спор. — Не кажется ли вам, Владлен Васильевич, что во всех этих разговорах о дикой природе есть некоторый оттенок сиюминутности? Вроде погони за модой? Поговорили — и разошлись. — Как? — поднял брови директор. — Вы что, газет не читаете? Или это так, шутка? — А зачем? Разве мы хоть на шаг отступили от прежнего курса? Вы же сами сказали: «Молодецкий размах»! И верно: махаем, как бог на душу положит. Можно, конечно, возразить, что охрана среды возведена на уровень закона… — Именно, — Логинов с некоторым удивлением глянул на Мечова и поспешно перевел взгляд на причал. — И, скажем прямо, кое-какие достижения налицо. Есть чем похвастаться. — Только не нам, Владлен Васильевич — запальчиво возразил Мечов. — На Кавказе, в пустыне, даже в тайге, возможно, и удалось что-то наладить. Точно не знаю, специально не интересовался… Но здесь? — он пренебрежительно махнул рукой. — Топки, которые перевели с угля на газ, по-вашему не в счет? — с мягкой усмешкой подсказал Логинов. — В счет. Весь вопрос в том, почему мы так сделали? Не ради оленей, во всяком случае. Даже не ради себя, хоть и живем в городе без озеленения. — Верно, — признал Логинов. — Так продиктовала экономика. Газ дешевле, с ним проще… Но разве плохо быть в союзе с экономикой? — Газопроводы, — напомнил Мечов, — скоро третью нитку проложим. Уверен, что олешки, — он кивнул на реку, — заблудились как раз из-за них. Приняли трубы за ограждение. Боюсь, им просто не объяснили, что есть специальный проход. — И нельму забыли предупредить про рыбоподъемники? — лукаво прищурился Логинов. — Как же, помню ваши остроты на последнем активе. — Что? — Андрей Петрович удивленно раскрыл глаза. Директор явно вызывал его на спор. В разговоре сразу обозначилось двойное дно. Затея с прогулкой, как и следовало ожидать, возникла отнюдь не случайно. Они неторопливо прошлись вдоль широкой колеи контейнерных кранов, обрамлявшей железнодорожные рельсы, и повернули обратно. Первый состав с комбината, терпеливо дожидавшийся подхода судоц, хорошо защищал от речного ветра. — Ваши предложения, повторяю, мне нравятся, — директор вернулся к вопросу, на котором, по крайней мере так показалось Мечову, поставил крест еще в дрезине. В мягком уютном салоне, где они так крепко поговорили под привозное пиво «Будвар» с малосольным тающим во рту муксуном. — Поэтому вы их и отвергли? — пустил пробный шар Андрей Петрович, заподозрив, что еще не все потеряно. — Нет, не поэтому. От человека вашей квалификации, — директор определенно пытался подсластить очередную пилюлю, — иного я и не ожидал. Пока вы хлебали больничный харч, я еще раз внимательно проглядел вашу записку. Выглядит вполне благопристойно. Точное инженерное решение, обоснованные научные рекомендации, оптимальные экономические показатели — казалось бы, какого еще рожна? — Вот именно, — счел нужным ввернуть Мечов. — Но, милый мой, — директор не обратил внимания на реплику и даже потрепал дружелюбно Андрея Петровича по плечу, добавив многозначительно: — Это же норма! Не более! Надо, чтоб было не только правильно, но и хорошо. Со всех сторон хорошо. Только теперь стало понятно, куда гнет Владлен Васильевич. Неужели он потребует от цеха переработать проект с учетом экологических требований? Для этого у Мечова не было ни соответствующих специалистов, ни времени, потому что все сивы он сосредоточил на освоении новых, с повышенной концентрацией железа и селена сульфитных полиметаллических руд. Разъяснять положение Логинову не имело смысла. Едва ли он заблуждался на сей счет, На новой территории, которую предполагалось органически пристегнуть к комбинату, проходка ствола продвигалась с завидной быстротой, строились новые заводы, прокладывались дороги, газопровод, высоковольтная линия. И на этой определяющей стадии следовало изменить проект. Причем самым коренным образом, но, разумеется, не касаясь уже возведенных сооружений. Характерный стиль, неповторимый почерк Заполярного, где каждый сданный объект сразу же становился полигоном для следующего — более мощного, более производительного, более… Конечно, все не беспредельно во Вселенной, описываемой формулами Эйнштейна — Фридмана, в том числе — интенсивный рост. Рано или поздно круто взвивающиеся отрезки парабол выходят на плато насыщения. Но пока комбинат не достиг точки перегиба, Мечов не питал иллюзий, стратегия едва ли изменится. Доработать проект, безусловно, придется. Следовало лишь трезво прикинуть, что в такой ситуации можно выторговать для цеха: только новые договорные работы и, соответственно, единицы или же нечто большее — новую финансовую структуру. Торопиться ни в коем случае не следовало. Пусть директор первым приоткроет свои карты. Разомлев на припеке, Андрей Петрович размотал мягкий мохеровый шарф и разнеженно запрокинул лицо. Не переставая следить за Логиновым, смотрел, как мечутся над загнутыми клювами кранов ошалелые чайки. — Людей я вам подкину, — прервал затянувшееся молчание, немой, точнее, диалог Владлен Васильевич. — Единиц, в смысле. — Этого мало. Единиц у меня хватает, с излишком даже. Мне реальные специалисты нужны, но они у нас не задерживаются. Вы знаете. Пока не выбьем научные ставки, хотя бы по второй категории, дело не сдвинется. Ученым нужно платить за степень. — Не за труд? — Праздные слова. Пока ВНИИ кандидатам и докторам будут платить больше, чем на заводе, настоящей науки нам не видать, Перемещение в сторону более высокого потенциала — объективный закон природы, Владлен Васильевич, можете мне верить. — Вы же, однако, не переместились? И Багрецов, и Эйтин, и Копытко… — Они — пылкие энтузиасты, я же, как начальник цеха, получаю больше любого старшего научного сотрудника. — К энтузиастам, стало быть, себя не причисляете. — Видимо, так. — И даже готовы сменить работу на более высокооплачиваемую? Мечов метнул на директора настороженный взгляд, но ответил без промедления: — С превеликим удовольствием. Готов верой и правдой служить герцогу, который побогаче, как итальянский кондотьер… Одна беда, — он улыбнулся немного натянуто, — в нашем заполярном городе комбинат — монополия. От него никуда не денешься. — Хоть на этом спасибо. — Так как же, насчет структуры, Владлен Васильевич, можно же предусмотреть двойную сетку: для научного и для производственного персонала? — Шутки шутками, Мечов, но не в моей власти менять. Тарифы всякие, штатные расписания — это, брат, крепость. Железобетон. Не то, что из пушки, лазерным лучом не прошибешь… Придется приспосабливаться, другого выхода не вижу. Подберите подходящие кандидатуры, обсудим, подумаем… Не исключено, например, совместительство. Тот же хоздоговор дает известный простор. — Все равно, в рамках цеха такую задачу не поднять. В Канаде над ней бьются десятки научных коллективов. — Нам Канада не образец, мы для нее — другое дело. — Однако для открытых разработок вы предпочли закупить канадское оборудование, — неожиданно Мечов засмеялся. — И правильно поступили: что хорошо, то хорошо… Сметную стоимость проекта, видимо, придется пересмотреть? — он дал понять, что готов сдаться на почетных условиях. — Не исключаю, — одобрительно кивнул Логинов. — Из тех нескольких миллиардов, что выделили нам на пятилетку, миллионов двести, или, скажем, двести пятьдесят сможем выделить. — Смехотворная сумма! Давайте сразу договорился по опорным точкам, иначе ничего путного не получится… Насколько я понимаю, вас не только олени волнуют или, к примеру, овцебыки, которых мы так гордо демонстрируем приезжим знаменитостям? Я верно понял? — Безусловно, речь пойдет о всем комплексе проблем. К этому нас обязывает Конституция. Отныне и работать, и строить мы должны так, чтобы не страдала окружающая среда. Прежде всего подумайте о летнем транспорте. В вашем проекте это самое слабое звено. Невозможно и далее мириться с тем, чтобы какой-нибудь трактор на десятикилометровом проходе оставлял за собой три гектара бросовых земель. А эти катания по тундре на железных листах? Сплошное безобразие… Если сегодня еще нельзя обойтись без тягачей, санных поездов и прочих бронтозавров, то совсем необязательно тащить их в будущее. Так? — Совершенно с вами согласен, Владлен Васильевич. Но прикиньте, хотя бы на глазок, во сколько обойдутся английские эйркрафты, полагаю, их понадобится не меньше тысячи и… — Вот и прекрасно, — Логинов остановил его жестом. — Подумайте, подсчитайте, а у меня своих дел по горло… Кстати, не стоит забывать про вертолеты и, если хотите, дирижабли. Пока это более реально. Тем паче, что надежного эйркрафта в северном исполнении я просто не знаю. — Освальд сказал, что будущее — это специализация. И был прав. — К чему это вы? — Просто так, к слову пришлось. Мы с вами специалисты широкого профиля. Ничего не знаем обо всем, чем и отличаемся от узко нацеленных товарищей, которые знают все ни о чем, Вас такое положение устраивает? Меня не очень. — Конкретней, пожалуйста. — Я понимаю, Владлен Васильевич, у вас просто не хватает рук. Но и я не танцующий Шива. Плавка, обогащение, электролиз, автоклавы — все же это остается на моей шее. Я взорвусь от переизбытка информации. — «Учитель, воспитай ученика…» Не помню, кто это сказал. Неужели не вырастили подходящую смену, быть того не может. Мечов внутренне вздрогнул. Такого оборота он никак не ожидал. Оставалось одно — молча выслушать и сделать вывод. Возможно, прямо здесь, не отходя от кассы. — Владлен Васильевич! — из-под вагона вылез машинист директорской дрезины. Чтоб сократить путь, он, видимо, взял напрямик от тупичка к причалу. — Вас из горкома по радиотелефону спрашивают. — Сейчас иду, Петя. — Логинов запахнул кожаное пальто. — Двинем до дому, Андрей Петрович? Они обошли состав и направились к дальнему ответвлению, где у тупиковой платформы с песком стояла дрезина. — Чем порадуешь, Игорь Орестович? — спросил Логинов, кивком приглашая Мечова занять свое кресло. — Ладно, — сказал, выслушав пространное сообщение, — сейчас возвращаюсь. Заработал мотор, и дрезина со скоростью сто километров понеслась через тундру. — Вы как в воду глядели с этими овцебыками, — кивнул он Мечову. — Канадцы нагрянули. Я там совершенно не нужен, но неудобно, знаете, старый знакомый — Стюарт Кембелл… Так как, найдете себе замену? — Безусловно, — Мечов пренебрежительно дернул плечом. — Тут, думаю,трудностей не возникнет… Но своего отношения я пока не определил. Меня, надеюсь, спросят? — Само собой… — Тогда, боюсь, что не дам согласия на уготованную мне роль. Лучше сконцентрируюсь на расплавах. Как узкий специалист. Иногда это тоже приятно. — Откуда вы знаете, что я собираюсь вам предложить? — Новое подразделение, полагаю, можно назвать ЦОПСом? — с безразличным видом поинтересовался Мечов. — Звучит неплохо: «Цех охраны природной среды». — На первых порах ограничимся отделом в поисковом, — в тон ему ответил Логинов, — а вам, Андрей Петрович, я хочу предложить должность заместителя директора по развитию… Подойдет? Такого Мечов никак не мог ожидать. Даже дух захватило, и горячая предательская краска прихлынула к голове. — Заманчиво, но нужно подумать, — с усилием выдавил он, покусывая губы. — Зачем же думать, если согласны? Ведь согласны? — Согласен, Владлен Васильевич! Спасибо. Я вас не подведу. — Значит, на том и порешили, а проект я вам возвращаю. — На доработку? — На коренную переработку. — Почему вы сразу не сказали, что он никуда не годится? — Новая должность, Андрей Петрович, даст вам широкие возможности. Ваш проект не плох, я уже сказал это, не узок. По сути это цеховые предложения. Собственно так они и войдут в более общий план, как один из его разделов. Вы меня поняли? — Кажется, теперь понял. Логинов вопросительно кивнул на холодильник, но Мечов отрицательно покачал головой. — С меня тоже хватит, — согласился Владлен Васильевич. — Но блеск пиво. А? — Блеск. — У меня те олешки перед глазами стоят! Дело не только в том, что, не найдя «утки», они запутались в трубах и упустили время для перехода реки. Меня еще другое заботит… Когда будете знакомиться с предложениями транспортников, очень прошу обратить внимание именно на экологию. — Вы насчет навигации? — догадался Мечов. — Совершенно точно. Сама идея круглогодичного плавания представляется мне чуточку преждевременной. Несмотря на грандиозный поход «Арктики» к полюсу. Это, конечно, колоссальный рывок. Но готово ли производство? Там же придется коренным образом перестраиваться. Произвести полную переоценку всего рабочего цикла. — Согласен. Нужно все спокойно обдумать, изучить. Торопиться не будем. Продлить навигацию месяца на два — другой вопрос, если, конечно, это возможно. — В «Главсевморпути» считают, что возможно. Дорогу во льдах проложат атомоходы и дизель-электрические ледоколы типа «Капитана Сорокина». Уже в этом сезоне они выгрузили на припайный лед у Ямала весь необходимый нам груз. — В Карское море атомоход, конечно, войдет, но по Енисею ему не подняться. Глубины малы. А речной лед не чета морскому — кремень! — Для того и предусмотрены дизельные ледоколы. У них небольшая осадка, а мощность двадцать две тысячи сил. Как раз эта часть проекта мне нравится… Сами, впрочем, увидите, Мне не столько важны эти лишние месяцы навигации, сколько уверенность, что в случае крайней необходимости в любое время могут прийти суда. — Высокая степень надежности? — Мечов скептически пожевал губами. — А вообще-то вы правы, Владлен Васильевич, без нее в наших условиях планировать ничего нельзя. Все может ветром развеять, — он разнял дребезжащие стаканы. — Дайте, пожалуй, еще пивка. Когда еще такое завезут… — За смелость, — пошутил Логинов, поднимая переполненный пеной стакан, — но без прожектерства, за трезвый реализм.РУДНИК
Дожидаясь возвращения Логинова, который вышел на несколько минут из кабинета показать корреспонденту оборудованный машинами третьего поколения вычислительный центр, Андрей Петрович рассеянно прихлебывал остывший кофе. Мысленно перебирал события и встречи последних дней. Пока все выходило кругло. Приказ о его назначении еще не был подписан, когда он, сдав дела заместителю по научно-поисковому цеху, начал ознакомительную поездку по точкам, разбросанным чуть ли не по всему Таймыру. Несмотря на скоростной вездеход, гидропланы и персональный вертолет, который Логинов буквально выбил для него у начальника авиагруппы, работа продвигалась довольно медленно. А ведь Мечов носился с места на место и делал много больше, чем было в человеческих силах. Чтобы мало-мальски разобраться в специфических проблемах газовиков Соленинского месторождения, прокладывающих третью нитку газопровода, ему понадобилось всего три дня. Зато целых две недели пришлось изучать вместе с охотинспекторами и эвенками-старожилами пути сезонных миграций диких оленей. Коренные изменения, которые он внес в проект прямо на месте, директор утвердил по радиотелефону. Без обсуждений, с ходу. Несмотря на самые решительные возражения промысловиков, которые вполне обоснованно отвергли дорогостоящий дюкерный вариант прокладки труб через таймырские реки. Мечов, в сущности, подавил возражения авторитетом Логинова. Был ли он прав тогда? Пожалуй… — Триста тысяч сверх? — переспросил, набирая на калькуляторе итоговую сумму. — Это полностью окупится за десять лет, если хотя бы лишней сотне оленей удастся спокойно перейти весной через реку. Потомство, которое они, возможно, дадут, я уже не считаю. — А рыбьи нерестилища? — выдвинул контрдовод главный инженер газоподготовительной станции, страстный рыбак. — Вы учитываете, что майна, как ножом, перережет русло? — Нельма выметывает значительно ниже, — мгновенно нашелся Мечов. — Я ловил и на Малой и на Большой Хенте, знаю. Но оставшись один, сделал пометку в блокноте: «Выяснить насчет нерестилищ». Тогда он еще не знал, что никто на Таймыре подобными сведениями не располагает и начинать придется на голом месте. Находясь в пути из Мессояхи в Снежногорск, он узнал, что приказ утвержден и можно теперь уже своей властью вносить изменения в любые проекты, за которые отвечал непосредственно комбинат. И хоть на смежников, к его великому сожалению, это не распространялось, он успел вложить свою лепту в плацы развития на Вальке и на Хантайке. Заскочив в управление по дороге на рудник «Комсомольский», он доложил Логинову, что первый месяц деятельности нового зама обошелся комбинату в четырнадцать миллионов. Против ожиданий директор отнесся к сообщению довольно спокойно. Возможно, из-за корреспондента, которого, как показалось Мечову, поспешил унести. — Пока доходы покрывают непроизводительные затраты, — пошутил, возвратившись, Владлен Васильевич. — Эксплуатационники на «Октябрьском» освоили проектную мощность третьей очереди на полгода раньше и добыли сверх плана почти сто тысяч тонн руды. — А строители обещали сдать четвертую очередь на год раньше, — подсказал Мечов. — Верно, — согласился директор, — считать умеешь. Только помни, Андрей Петрович, что живешь ты пока полностью за чужой счет. — Рад бы забыть, — устало отмахнулся Мечов, — да не дадут. Прессинг, должен отметить, невиданный, жесточайший. Того и гляди, хребет переломят. — Ничего, он у тебя крепкий. Отдача хоть ожидается вскорости? А то, гляди, вместе с твоей головой и моя покатится, — Логинов выразительно похлопал себя по затылку. — Боишься? Ну то-то, — удовлетворенно ухмыльнулся Мечов, — значит, не одному идти на заклание… Ничего, Владлен Васильевич, все затраты окупятся сторицей, теперь у меня нет никаких сомнений, — он ободряюще потрепал директора по плечу. За последние денечки, напряженные лихорадочные, они как-то удивительно сблизились и незаметно перешли на «ты». Без уговоров и брудершафтов, хотя и распили бутылку «Двина», прямо здесь, в кабинете, где Владлен Васильевич встретил день своего рождения. Случилось это как раз вчера, в золотой беззакатный вечер, когда помощник Виктор Ильич расстарался дефицитным лимончиком, а машинистка Вера принесла редкостную, истекавшую перламутровым жиром белорыбицу. Даже подарки были. Вера Петровна, ко всему привыкшая директорская жена, привезла из дому традиционный пирог с капустой и горшок цикламенов, а главный инженер презентовал роскошные унты с чукотским узором из разноцветной оленьей шерсти. — Может, душ хочешь принять, побриться? — предложил Логинов, кивая на незаметную дверь в дубовой панели. — Твой кабинет пока не оборудован. — Помоюсь на руднике, — Мечов огладил щеки и подбородок. — А насчет побриться, спасибо. С благодарностью принимаю… У тебя электрическая? — Подымай выше! — горделиво усмехнулся директор. — «Жиллет-супер». Канадец подарил. — Черт с ним, давай «Жилет». — Ты сейчас на Красную скалу? — Да, к Вагнеру. — Может, захватишь с собой корреспондента? Он тоже туда собирается. — Почему бы нет? Парень он, вроде, не вредный. Мы с ним уже на Хантайке встречались, беседовали… Ничего, головастый. — Головастый!.. Он, между прочим, доктор философских наук и вообще светило в своей области. Так что полегче на поворотах. — А мне без разницы, — блеснул улыбкой Мечов, исчезая за дверью. — Я ведь тоже не лыком шит. Оставшись один, Владлен Васильевич неуловимо осунулся, сник. Бросив под язык крупинку нитроглицерина, который всегда держал при себе, закрыл глаза, откинув голову на спинку кресла, расслабил отяжелевшие руки. — Знаешь, — сказал, когда подступивший вплотную спазм изгладился. — Я нынче забавную карикатуру видел в «Америке». — Ну? — прервав беззаботное насвистывание, отозвался из-за перегородки Мечов. — Вообрази наклонную плоскость, по которой чешет во все лопатки субъект вроде нас с тобой, а за ним катится здоровенная болванка с часовым циферблатом. Здорово? — И что бы это значило? — А то, что по психологическому складу мы принадлежим к самой опасной в отношении инфаркта категории «А». Нам вечно не хватает времени, но мы, знай, наваливаем на себя сверх всякой меры, торопимся. Куда только?.. — Видимо, иначе не умеем, — беззаботно фыркнул порозовевший Мечов, вытираясь на ходу казенным вафельным полотенцем. Он был настроен приподнято и слушал вполуха. — Зато и сгорим в одночасье, без долгих мучений. Тоже неплохо, ежели разобраться. — А вдруг инсульт? — Владлен Васильевич пожевал пересохшими от лекарства губами. — Рано или поздно болванка все равно догонит, так под коленки и даст. — Чему быть, того не миновать. Где твой корреспондент? — продев голову в черную петлю галстука, Мечов затянул узел и накинул на плечи щеголеватую кожаную курточку. — Вернусь, скорее всего, завтра и тогда дам тебе полный отчет по всем позициям. У меня созрела одна неплохая идея. Если удастся ее провернуть, будет и для нас передышка. Возьму тебя с собой на рыбалку. На Пясинское озеро махнем, с пятницы аж до понедельника. — О таких вещах, брат, я давно уж забыл, — отмахнулся директор. — Скоро и ты забудешь, — кротко пообещал он. — А может, и нет, — добавил после некоторого раздумья. — У молодости есть неоспоримые преимущества: быстрота, легкость… О прочем я уж и не говорю.Лосев уже привык к тому, что за последним домом, за какой-нибудь белой панельной башней, стоявшей особняком, распахивалась зеленеющая тундра. Город обрывался внезапно и резко. Какое-то время «Волга» еще неслась по гладкому асфальтированному шоссе, но уже через пять минут в поддон начинали стрелять гранулы шлака. На этом нормальная дорога кончалась. Переваливая с холма на холм, как лодка в семибалльную волну, машина то и дело надсадно взрыкивала шестернями передач, оставляя за собой облако сухой удушливой пыли. Мелькали поднятые над дорогой арки трубопроводов, провисший кабель в резиновой изоляции, сваленные в штабеля щиты снегозадержания. Нельзя было разобрать, где кончались отвалы породы, поросшие цепкой арктической зеленью, и начинались исконные тундряные сопки. Зеленые, желтые, синие пятна. Ворожили, обманывали глаз. Из-за лиловой зубчатой стены выступали казавшиеся неестественно низкими горы, а пихты и лиственницы в распадках выглядели немощными и ломкими, как сухостой. До Красной скалы было неблизко, километров двадцать, и Лосев мужественно приготовился к долгой тряске. Но, как всегда неожиданно, дорога то ли причесанная грейдером, то ли укатанная катком стала ровнее. — Атомный реактор оказывается проще построить, чем приличную трассу, — обратился Лосев к задремавшему на заднем сиденье Мечову. — Мерзлота корежит. Скоро ремонтировать начнем. — И ничего поделать нельзя? — Можно, но дорого. — Дороже ремонта? — Пока так. — А реактор? — Построили на скале. Впрочем, теперь это не проблема. Горячие цеха, и те ставим на мерзлоту. Научились предохранять деятельный слой. С дорогами, конечно, сложнее. Они все равно как голенькие под открытым небом. Со всех сторон стихия: сверху, снизу. Речки опять же, ручьи. Чем длиннее путь, тем больше неожиданностей. Одна наледь ползучая такого натворит, что не расхлебаешь во век. Сквозь пылевую завесу, оставленную встречным самосвалом, заблестела вода. Переждав тепловоз, тянувший бесконечную вереницу думпкаров, «Волга» въехала на грохочущий, пронизанный звонкой металлической дрожью мост. — Зимой возводили, — пояснил Мечов. — Тоже недешево достался. — Ого-го! — поддакнул шофер с русалками и якорями на обеих руках. — Могу смело сказать, что на материке, как мы, копытить не умеют. — Копытить? — не понял Лосев. — Вкалывать изо всех сил, может, видали, как олень долбит смерзшийся наст? В кровь издерется, пока до лишайника доколупается. — А что ему остается? — лениво возразил Мечов. — Не из-за высокой же сознательности выкладывается? Пустой разговор. — Все же на материке не могут, как мы, — стоял на своем шофер. — Видимо, нет такой острой необходимости? — заметил Лосев. — Конечно! К тому же и платят у нас соответственно, — поддержал его Мечов. — Люди едут сюда именно за этим. Работай, как нужно на Севере, и зарабатывай. Не копытить, а именно зарабатывать. Лично я ничего плохого в этом слове не вижу. Вы не согласны со мной, Герман Данилович? — Напротив, — подтвердил Лосев. — Да, четыре сотни в месяц на материке мне не выколотить, — неожиданно согласился шофер. — А работа такая же. Дорожки я и почище этой видел. — Нормальная дорога, — дернул плечом Мечов. — Подлатаем маленько, будет совсем хорошо. И, словно в подтверждение его слов, пошла бетонка, заляпанная окаменевшими отпечатками широких гусеничных траков. Слева расстилалась мокрая блестящая тундра, где по бездорожью, ломая кусты тарахтел тракторный поезд, справа — сквозь лиственничное редколесье белели стандартные городские дома. — Вот и он, наш город-спутник, — шофер притормозил у бетонной стены с лаконичной надписью «Первым» и пирамидой на переднем плане. — Палатка тут стояла, — пояснил Мечов, — с нее пошло. Фантастически богатые руды! Но Лосев смотрел в другую сторону, где громыхал окутанный чадом солярки гусеничный прицеп с трубами большого диаметра. — Я слышал, вы с Владленом Васильевичем объявили решительную войну? — ткнул он пальцем в приспущенное стекло. — Почему? — Насчет войны, пожалуй, чересчур громко сказано… — И все же? — Слыхали термин такой «гусеничная эрозия»? «Термокарстовая»? Погубим же тундру кругом, к чертовой матери. Что тогда? — Тем не менее трактора ходят. Разве слово директора не закон? — Слово всего лишь слово… Приказ нужен. — А приказ отдать нельзя, ибо требуется и трубы прокладывать, и высоковольтные вышки ставить, — заключил Лосев, — причем по старинке, поскольку новая техника еще в проекте. Так? — Сами видите, — задорно подмигнул Мечов, всем своим видом показывая, что дело делом, а на сердце он ничего брать не желает. — Не трогать существующее, но по-иному планировать будущее, — как бы размышляя вслух, протянул Герман Данилович. — Разве плохо? Настоящий успех приносят лишь радикальные меры. Проще построить новый КамАЗ, чем перестраивать старый ЗИЛ. — Похвальная идея, хотя и не бесспорная, — Лосев всем корпусом обернулся к Мечову, чьи разнообразные уловки уходить от прямого ответа всерьез не принимал. — Не понятно, почему при таком образе мыслей вы умудрились снискать славу отчаянного реформатора? Прямо второй Лютер и северном исполнении. — Хуже! — засмеялся Мечов. — Потенциальный террорист. В стенгазете на меня даже шарж нарисовали. Одной рукой засыпаю рудничный ствол, другой — прикармливаю ястребов да куропаток. — Вы это уже говорили мне там, на Хантайке. Помните? — Значит, забыл. Виноват… — Ничего, не в том суть. У меня еще тогда мелькнула мысль, что вы совершаете тактическую ошибку. — Интересно, какую же? — Какую?.. Скажу, но только не сейчас, позже. Хочу кое-что уточнить, проверить. — Глядите, — Мечов мотнул головой на ветровое стекло. — «Комсомольский»! Вагнер хлебом-солью встречает, небось. Лосев, как привороженный, уставился на быстро приближавшиеся бетонные монолиты копровых вышек. Их узкие, редко прорезанные оконца напоминали бойницы, а сами они — исполинские башни-донжоны. И аранжировка была соответствующая. Суровые горы, темные пихты, рассекавшие наклонно опустошенный горизонт. Лишь административный корпус, с вентиляционными грибками на плоской крыше, широкий, длинный, придавал вневременным фантастическим сооружениям индустриальный облик. Стрелы кранов в сравнении с ними и зеленый электровоз, толкавший стотонный думпкар, доверху нагруженный рудным выколышем, казались совсем игрушечными. — Одна — восемьдесят, другая — шестьдесят метров, — пояснил Мечов, считавший, что корреспондентов прежде всего следует напичкать цифрами. — Чтобы ускорить проходку вертикальных стволов, Вагнер решил собрать всю конструкцию копра прямо возле пробиваемой скважины. А тогда уже зима вовсю лютовала, полярная ночь опять же. Пурга, помню, прожектора так и слепила. В двух шагах ничего не видать. И все же пошли на риск. Едва закончили проходку, стали натягивать ферму на ствол. А весил копер шестьдесят тонн и был почти с Московский университет. — Вы тоже участвовали? — Самым косвенным образом. По линии поискового цеха… Короче говоря, выгорело дело. Можно сказать, что вырвали из рабочего цикла время, необходимое на целую операцию. Не удивительно, что горизонтальная выработка началась задолго до намеченных сроков. Так и гонят с тех пор с опережением. — А нынешний праздник? — Годовой план, дружище. В июне месяце! Останови здесь, Коля, — сказал шоферу. — Приехали — не запылились. Вагнер, директор рудника, вопреки обыкновению, гостей не встречал, так как закрутился в столовой, где накрывали стол для торжественного обеда. Блюдо с румяным караваем на украинском рушнике вынесла озорная раскрасневшаяся от волнения девушка в легоньком крепдешиновом платьице, дерзко затрепетавшем на весеннем ветру. Смущенный, растроганный Герман, не узнавая, скользнул поверхностным взглядом и, лишь склоняясь над хлебом, вдруг вспомнил свою недавнюю попутчицу. В порыве вдохновенной импровизации чмокнул заодно и прохладную свежую щечку. Нежась под душем, Лосев переживал радостное ожидание. Он едва ли надеялся, что это упоительное полузабытое чувство еще может вернуться. Ожечь памятью о жаркой бессоннице в канун праздника. Самого пустякового, глупенького, но запомнившегося остротой предвкушений. Надежды почти никогда не сбывались. Воображение обкрадывало действительность, самонадеянно торопило, проглатывало время. Но так уж он был устроен, что понятие «счастье» неуловимо сливалось для него с завтрашним днем. И сейчас Герман Данилович поймал себя на том, что, едва намылившись, поспешил стать под горячие приятно щекочущие струи. Словно что-то торопило его, как в детстве, отдать поскорей сиюминутную дань и самозабвенно ринуться навстречу долгожданному счастью. Что же случилось, господи? Шахта? Подумаешь, невидаль! Ну, не был он никогда глубоко под землей и не очень рвался туда, потому что успел повидать в жизни достаточно и не ждал особых открытий. Любопытство, конечно, осталось, иначе бы он давно забросил хлопотные командировки от газет и журналов, удивлявшие, кстати сказать, маститых коллег. Но разве можно было назвать любопытством то, что с ним творилось сейчас? Горячую нетерпеливую волну, которая подхватила и несла его на радужном гребне, черт знает куда. Наваждение да и только! Выйдя из кабинки, он с наслаждением надел свежее заботливо согретое белье, ощущая во всем теле бодрящую приподнятость, отер туманную дымку с зеркала и вынул расческу. Причесывался обстоятельно, долго, упиваясь каждым мгновением бездумного, нежданно нахлынувшего блаженства. Комната отдыха, куда он вышел из душевой, ослепила стерильным блеском. Все — от чехлов на креслах до веселеньких занавесочек и телефона — сверкало снежной белизной. Даже легкий озноб пробегал по разгоряченной коже. Мечов уже ждал, потягивая дрожжевой витаминный напиток, мутно опалесцировавший в зеленоватом стекле графина. — Порядок? — спросил, вытирая ладонью обветренные резко очерченные губы. — Тогда пошли. За чистилищем следует не рай, но преисподняя. — А, может, я тоже хочу пойла? — Лосев потянулся к чистому перевернутому стакану. — Нечего, — с бесцеремонностью давнего приятеля отрезал Мечов и толкнул дверь в раздевалку. — Времени нет. Вагнер слезно просил не опаздывать к обеду. Отомкнув отведенный для него шкафчик, Лосев снял с крючка брезентовую робу, спецовку. Сбросив тапочки, натянул литые резиновые сапоги. Портянки наматывать не захотел. Остался как был, в шерстяных носках. — Каску, — напомнил ему Мечов, надевая пластмассовый шлем. Потом они прошли в ламповую, где взяли аккумуляторы, респираторные сумки и специальные номерки. С этого мгновения, еще и шагу не сделав вниз, они уже считались находящимися в подземном царстве. — Если в пятнадцать ноль-ноль жетоны не будут висеть на доске, поднимется тревога, — то ли в шутку, то ли всерьез предупредил Мечов. — Вагнер отпустил вас под мою ответственность. Учтите! — Что так строго, Андрей Петрович? — неуверенно улыбнулся Лосев. — Существуют правила, не знающие исключений, Герман Данилович, — Мечов еще раз проверил напряжение батарей и кивком указал на длинную обшитую вагонкой галерею. — Без сдачи экзамена по технике безопасности туда, — он указал себе под ноги, — дороги нет. — Ценю, что подобное исключение сделано, — все еще храня выжидательную улыбку, заверил Лосев. — Примите мою благодарность. — Не стоит. Но я вас очень прошу не отходить ни на шаг. Григорий Ефимович занят, иначе бы он обязательно спустился с нами. Галерея все не кончалась. Мягкий стук рифленых подошв отчетливо разносился по дощатому коробу, освещенному жидким расплывчатым светом, скупо сочась из матовых, защищенных проволочным каркасом плафонов, он словно обозначал переходную зону меж дневным сиянием и сумраком подземелья. «И впрямь чистилище», — подумал Герман. У скоростного лифта их встретила крепенькая старушка в завязанном на груди пуховом платке. Ласково кивнув, толкнула решетку и пропустила в железную клеть. Зажглись два световых глаза, ударил колокол. — Триста пятый, — сказал Мечов. — Почему не на самую глубину? — поинтересовался Лосев. — Зачем? Там сплошная закладка. Жила-то снизу вверх вырабатывается. Бетонный колодец, в который падала клеть, заблестел водяными струйками. Сливаясь, они растекались ржавой слизью по кольцевым швам, мелькавшим перед глазами, словно полосы на экране забарахлившего телевизора. Теплый дождик заливал деревянный затоптанный пол, стучал по каске, отмечая зеркальным глянцем складки робы. — Мерзлота тает? — спросил Лосев, застегивая верхнюю пуговку. — Артезианские воды. Много хлопот было с ними. Да и теперь много. На «Маяке» ствол на четверть километра углубился, когда хлынуло из-за тюбинга. Как ударило с самого верха, с отметки тридцать метров. Ребят пришлось в бадье на канатах опускать. Прямиком в ледяной водопад. — И что? — Заделали, конечно. Пружинно покачиваясь, клеть остановилась по вызову. — Вниз? — вошли четыре горняка с запорошенными каменной пылью блестящими лицами. — Вниз, — кивнул Мечов. — Это какой горизонт? — Двести десять. — Значит, прошли мерзлоту, — понизив голос, наклонился Андрей Петрович к корреспонденту. — А на том же «Маяке», на двести девятнадцатом метре клетевого ствола, впервые жила блеснула. Так и засияла под лампой рассыпными искрами. Век не забуду. — На «Маяке» у вас тоже свой штрек был? — Обязательно. На каждом руднике оставляется участок для науки. Обобщаем опыт проходчиков, анализируем успехи, неудачи. Но темпы такие, что практика опережает исследования. Рекомендации, выработанные на «Маяке», Вагнеру, пожалуй что, и не пригодились. Оно и понятно. Горное дело не знало таких скоростей. А ведь условия на «Комсомольском» оказались куда труднее, чем на «Маяке». Большие глубины, высокое давление пород, повышенное содержание метана… — Все заново пришлось начинать после шестой сотни, — подал реплику один из горняков. — Я же работал на «Маяке». — Как ваша фамилия? — спросил Мечов. — Ковалев, маркшейдер. — Помню, — кивнул Мечов. — На «Октябрьском» тоже, едва дошли до горизонта тысяча сто, начались сюрпризы. Никто не знал, как поведет себя порода на такой глубине. — Не знали, но продолжали бурить, — уточнил Лосев. — А что делать? — пожал плечами Мечов. — Кто-то должен начать? Мы, вернее, уже не мы, а мои бывшие сослуживцы проектируют сверхглубокий рудник с нижней отметкой две тысячи. Темный лес, Терра Инкогнита. — Если я вас правильно понял, — нахмурился Лосев, с трудом ориентируясь в незнакомой сфере, — научные рекомендации почти ничего не дают строителям будущих рудников? Меняются условия, резко возрастают масштабы… — Так тоже нельзя говорить, — несколько смешался Мечов. — Но от неожиданностей, действительно, не застрахуешься. — Еще как дают! — подал голос маркшейдер Ковалев, когда клеть остановилась на его горизонте. Пропустив товарищей, он задержал на мгновение решетку. — Помните, какие обвалы тут были? Бывало, крепили чуть ли не через каждые двадцать сантиметров… Ну, бывайте, — он зажег фонарь и отступил в красноватый сумрак, где шатались мутные огни. — И вам счастливо, — приветливо попрощался Мечов. — Слыхали, что рабочий класс говорит, Герман Данилович? Не знаю, кто кому помог тогда разработать способ поддержания кровли — ученые им или они ученым, по насчет сопряжений можно сказать с уверенностью: целиком паука сделала. А сопряжения, развилки всякие, в такой породе… — он только рукой махнул. Под бетонированным сводом, куда они ступили из клети, дышалось затрудненно. Паркий спрессованный воздух попахивал горелой резиной и кислотой, от которой слезились глаза. — Вот она, кстати, развилка, — Мечов указал на жерла туннелей, где зеленым зраком горел светофор и глянцевито отсвечивали обычные дорожные знаки. — Пошли? Закрепив, по примеру Андрея Петровича, фонарик на каске, Лосев двинулся следом по рельсовой колее. То, что он успел за короткое время увидеть, никак не согласовывалось с его представлениями о шахте. Больше всего рудник походил на метро. Те же рельсы, те же проложенные в несколько рядов кабели. Даже в фонарях не было надобности. Голубоватые и желтые трубки равномерно изливали трепетный неживой свет. Дождя, струившегося по стволу, здесь не было и в помине, хоть под настилом журчала и хлюпала черная, как мазут, вода. Когда сквозь стальную сетку на потолке сыпалась потревоженная дальним взрывом бетонная крошка, в темных щелях вспыхивали золотые змейки. Возле дрожащего неонового язычка аппарата громкоговорящей связи («Внимание! При аварии сорви пломбу и нажми кнопку») Мечов подождал приотставшего корреспондента. — Сюда, — завернул за угол в темный зев панельного штрека, отмеченного цифрой «5». — Только не споткнитесь о камень. Не успели убрать. — Все еще случаются обрушения? — Изредка. Незначительные… Совсем не то, что при строительстве. Тогда четыре месяца завал разбирали. На сто сороковом, на сто семьдесят пятом. Тут еще вода непрерывным потоком хлынула. Светопреставление да и только. — Скажите, это всюду так или только ваша заполярная специфика? — Шахта везде шахта. Но есть и специфика. Уникальная наша руда. Богатая и имеете с тем злокозненная. Тяжелая, влагоемкая, она, если намокнет, то держись. Все на своем пути сметает, стойки, окованные двутавром, ломаются, как спички. Путь сузился, и Мечов для удобства взял фонарь в руку. Ступавший по пятам корреспондент тоже открепил лампу от каски. Светить прямо под ноги оказалось куда спокойнее, хоть мрак впереди как бы приблизился, слился в неразличимую массу. Только спина Мечова маячила в скупом ореоле. В ушах стоял сплошной шумовой фон. Шипел сжатый воздух, хлюпала вода, скрежетала и лязгала где-то над головой техника. Сюда же добавлялись, наверное, грохот выколыша в рудоспусках и утробный рев закладочной жидкости, которую гнал по трубам сжатый воздух. Звуки шли со всех сторон, создавая обманчивое впечатление, что стены и потолок штрека вот-вот обрушатся под напором стихийных сил и все, как говорится, будет сметено могучим ураганом. Только внизу, хоть и бежал там темный ручей, было покойно. Затвердевшая закладка навеки запечатала выработанные лабиринты. «Куб руды отработал — куб закладки в шахту загнал», — из торопливых объяснений Вагнера, увлеченного в тот момент расстановкой бутылок с венгерским бренди «Будафок», это почему-то запомнилось лучше всего. Выхватывая из темноты, то доски настила, то концы штанг крепежа, Лосев наткнулся на жестянку с предупреждением: «Помни, курение на руднике — преступление». В кромешном, богом забытом отводе, оно показалось ему очередной потугой на остроумие, которое особенно бережно пестуют за Полярным кругом. Но тут же вспомнилась читанная в детстве книга — кажется, Стивенсона, про «кающихся» и взрывоопасный газ.
«ЧЕРНАЯ ИНДИЯ»
Стираясь показать как можно больше, Мечов вел гостя самыми разнообразными ходами, выбирая, разумеется, пути полегче. Молниеносно ориентируясь по цифрам и стрелкам на указателях, он сворачивал в узкие, всегда неожиданно возникавшие лазы, спускался вниз, чтобы вскоре вновь вернуться на прежний уровень. Лосев вскоре потерял всякую ориентировку и начал «узнавать» коридоры, в которых никогда не бывал. Интуитивно почувствовав, что корреспондент устал, Мечов вывел его по доске из уклона в разрезной штрек 5/6. — Хотите отведать артезианской водички? — предложил, подставляя рот под тонкую струйку, выклинившуюся из грубо обтесанной лавы. — Прелесть! Стерильная чистота. Лосеву вода показалась теплой и сладковатой. — Что бы еще хотелось вам поглядеть? — спросил радушный хозяин. — Не знаю… Делайте свою работу, а я буду смотреть, мотать на ус. — Работу? — не понял Мечов. — Вы же не только из-за меня приехали на рудник? Вот и собирайте нужную информацию. Помнится, говорили про какую-то диспропорцию? — Э, моя работа наверху ждет, — Мечов бросил световой эллипс на облитый бетоном свод. — В управлении. А в шахте мне делать нечего, — он взглянул на часы. — У нас есть минут девяносто. — Тогда покажите мне взрывные работы. — Вот уж скучная материя. Забурят сорок шурфов на дна с половиной метра, забьют в каждый по два кэ-гэ скального анганита, шестой номер, и дело с концом. — И тем не менее… — Нервы у вас хорошие? — Был во Вьетнаме в разгар эскалации, — не без гордости откликнулся Герман. — Я не про взрывы, — затаил улыбку Мечов. — Отколет кусок стены — эка невидаль? Но сверление настоящая пытка. Без антифонов всего тебя так и перекорежит: мощная пневматика, высокие частоты. — Семь бед — один ответ. — Дело ваше, — Мечов показал фонарем ходовые восстающие под номером 14/15. — Нам туда. Какими-то ему одному ведомыми лазами и переходами они пробрались в пещерную галерею. Мощные прожектора на треножниках били дымящимися лучами в исковерканную каменную нишу, сверкавшую зеркалами вкраплений. Седой от пыли бульдозер, лязгая отвесом, тяжело ворочал бесформенные острогранные глыбы. Минеральная пудра забила ноздри, навязчиво осела во рту. — Расчищают для нового взрыва, — пояснил Мечов. — Основной выколыш машина уже ссыпала в бункер и отправила в рудоспуск, — он поднял кусок руды. Под фонарем буровато-коричневый камень заблестел серебристой пленкой. — Вот она, свеженькая… Чертовски быстро окисляется. Возьмите на память. — Руда, значит, ссыпается вниз? — Лосев сделал пометку в блокноте. — Угу. Ее подхватывает электровоз и к подъемнику. На-гора… Заскочим в управление горизонтом, узнать, где будут рвать. Через очередной уклон, чьи угловатые своды синели потеками купороса, а в кавернах осел ядовито-зеленый снежок медной окиси, они спустились на рельсовый путь. Остановив электротележку, которая везла ящик с забойкой для взрывов, Мечов попросил подбросить до управления. И вновь Лосеву показалось, что он в метро, на подъезде к узловой станции, где многократно пересекаются, расходясь по туннелям, натруженные колесами колеи. Тележка катила довольно медленно, и он успевал замечать пожарные краны вдоль стен, кабельные ящики, трансформаторные шкафы, помеченные черепами, хранилища кислоты. Разветвленный подземный полис с удивительно разнообразным и сложным хозяйством словно приоткрыл на мгновение свои потаенные кладовые. Что-то таинственное, влекущее чудилось в пролетавших огнях, заливающих бессонным светом склады горюче-смазочных материалов и отгороженные решеткой ниши, где за стальной дверью хранилась взрывчатка. — Стволовая, — моторист остановил тележку перед освещенным окном. — Спасибо, — Мечов распахнул дверь в уютную отделанную кафелем комнату. — Прошу, — поклонился с утрированной учтивостью. Сидевшая за рабочим столом юркая смазливенькая брюнетка оживленно бросилась навстречу. — Андрей Петрович! А я уж вас заждалась, — залебезила она, капризно надув в меру подкрашенные губки. — Куда пропали, думаю? Не случилось ли чего? — Что может случиться? — стащив каску, Мечов тыльной стороной ладони отер лоб и присел на кушетку. — Да вы садитесь, садитесь, — стреляя карими хитренькими глазенками, она освободила для Лосева стул, на котором стоял ящичек с резиновыми трубками, и целиком переключила внимание на Мечова. — Разве нельзя было сразу прийти? — Откуда вам вообще известно, что я здесь? — равнодушно спросил Мечов. — То есть как? — не переставая играть богатой мимикой, она удивленно захлопала ресницами. — А это? — показала на массивный телефон, похожий на аппараты начала века. — Не балуете вы нас вниманием, Андрей Петрович, не балуете. — Где начальство? — спросил Мечов, не обращая внимания на кокетливую игру. — На первом участке, позвать? — грациозно выгибаясь, она потянулась к тяжелой трубке, мимоходом демонстрируя безупречный маникюр. — Погодите, Галя, — Мечов хоть и назвал ее по имени, не сумел скрыть раздраженной гримасы. — Зачем отрывать человека от работы?.. Лучше скажите мне, почему простаивает электровоз? Лосев насторожился. Лично он никакого электровоза не заметил, что было, впрочем, вполне естественно. — Глаз — алмаз, — она развела руками и наморщила лобик. — Ничего от вас не укроется. Как есть ничего! Придется сказать. — Придется, — подтвердил Мечов. — К сожалению, хвастаться нечем. Не добрались до первого веера. Не сдетонировал заряд. А там нужен хороший взрыв! — молниеносно войдя в роль компетентного специалиста, которого ничто не волнует, кроме производственных тонкостей, она вся подобралась и посуровела. — Только куда спешить, Андрей Петрович? — спросила с непритворной скорбью и прямотой человека, для которого нет тайн. «Хорошенькая ловкая обезьянка», — подумал Герман, чувствуя себя нежеланным свидетелем. То, что Мечов никак не реагировал на откровенный призыв, ощущавшийся в каждом слове и жесте, лишь увеличивало неловкость. Раскрыв ящичек, оказавшийся анализатором метана, Лосев сделал вид, что целиком поглощен созерцанием шкалы с подрагивающей на нуле нитевидной стрелкой. Даже отпустил замечание насчет того, что, мол, не только в угольных шахтах, оказывается, скопляется рудничный газ. Галя, теперь она воплощала почтительную предупредительность, не замедлила дать разъяснение. — Видите ли, Герман Данилович, — оказывается, Галя знала его имя и отчество, — газ просачивается из осадочных пород — песчаников и углистых сланцев. Мы замеряем три раза в смену и еще перед каждым взрывом, — она озарилась нежной улыбкой и вновь сосредоточилась на Мечове. — Спешить-то нам некуда, Андрей Петрович. Думпкаров-то не хватает, заместителю директора, — погрозила пальчиком, — следовало бы знать. Ну, скажите, когда, когда они будут? — Вот вам и диспропорция, — Мечов наклонился к корреспонденту. — Спешить, видите ли, им некуда! Рудник, дескать, и так дает больше руды, чем нужно. — Разве нет? — вызывающе усмехнулась Галя. — Нет, — отрезал Мечов и объяснил, по-прежнему обращаясь к Лосеву: — Теперь, когда возобновилась навигация, можно больше отправлять на материк. — И думпкаров хватает? — она хитро прищурилась. — Хватает. Нельзя лишь допускать, чтобы они простаивали в ожидании разгрузки. Будь то в порту или на обогатительной фабрике. Вот если бы разработать единый жесткий график… — Гениально! Потрясающе! Ну как это вы все видите, Андрей Петрович? — всплеснув руками, она мягко признала свое поражение. В споре, разумеется, больше ни в чем. — Чушь, — Мечов упрямо проигнорировал столь неприкрытую лесть. — Бредовая идея, — он весело потер ладони. — Но почему? — воскликнули в один голос Герман и Галя. — А потому, что нужна железная дорога или круглогодичная навигация, иначе не избежать лихорадки. И еще необходимо, чтобы каждый рудник заранее знал, сколько будет выдано на-гора тогда-то и тогда-то. Даже, перевыполнение следует планировать, чтобы другие подразделения были готовы принять продукцию. Тогда все точки можно будет замкнуть на АСУ. Пока мы не готовы к этому ни промышленно, ни социально. Полностью автоматизировать удалось только отдельные производственные процессы. — Не поэтому ли на руднике предпочитают не особенно лезть вон из кожи? — спросил Лосев. — Своего рода стихийное планирование, — заключил он. — Ничего, скоро войдут в летний ритм, — деликатно возразил Мечов. — Их ведь тоже понять можно. Руда сульфитная, подверженная самонагреву, кому охота держать? Хочется отгрузить целиком, без остатка. — Сложная у вас задача. — Сложная. Но стране нужна медь, легирующие, и этим все сказано. Тихо ждать пока наш заполярный остров соединится с общей железнодорожной сетью, сами понимаете, никто не позволит. — А разве заполярцы умеют ждать? — улыбнулся Лосев. — Я что-то не заметил. — И хорошо, что не умеют. Иначе бы «Правда» едва ли проявила к нам интерес, а вы бы так и не повидали тундру. — Ой, товарищи! — Галя поспешила напомнить о себе. — У нас же в пятницу поездка на Ламу! Начальство четыре парохода выделило по случаю досрочного завершения. Поедемте с нами, Андрей Петрович, — она умоляюще прижала руки к груди. — Там ведь так красиво. Уху будем варить. — Уху? — Мечов с сомнением глянул в потолок. — Едва ли вырвусь. Забот полон рот. — Выходной же! — она продолжала настаивать. — У меня теперь выходных не бывает. На будущую пятилетку перенесли. — А Герман Данилович, — она нетерпеливо притопнула ладным резиновым сапожком, — дали свое согласие! — Ну? — Мечов выразил непритворное удивление. — Вот вам и ну! Если девушка вас приглашает, неэтично отказывать. Верно, Герман Данилович? — А вас кто пригласил, герр профессор? — с деликатным безразличием полюбопытствовал Мечов. — Люся Огарышева и вообще… народ, — улыбнулся Лосев. Мечов, присутствовавший при вручении каравая, только головой покачал. — Ну, даешь, спецкор, — процедил сквозь зубы. — Вот это темпы! — Мы же с ней вместе на самолете летели, — попытался было оправдаться Герман Данилович, но лишь рукой махнул. — Короче говоря, еду на Ламу, остальное — неважно. — Владлен Васильевич, признаюсь, поручил мне позаботиться о вашем уик-энде, но коли все устроено, я умываю руки. — Тем более вам следует поехать из уважения к гостю, — проявила завидную напористость Галя. — Отдохнете на свежем воздухе, — она вынула из сумочки зеркальце. — Нате, полюбуйтесь на себя! Осунулся, посерел. Разве так можно? Молодой ведь человек! Андрей Петрович обнаружил некоторое замешательство и был близок к падению, но его выручил телефон, заполнивший вынужденную паузу низкими, прерывистыми гудками. — Слушаю вас! — Галя с досадой схватила трубку, но тут же удовлетворенно прояснела. — Ты, Людок? — и закрыв микрофон, многозначительно шепнула: — Легка на помине. Выслушав новости, протянула с неподражаемо певучей интонацией: — Здесь, здесь, дорогая… Где же им еще быть?.. — скользнула тягучим взглядом по лицам мужчин и, словно вручая себя на танец, протянула трубку. — Помощник товарища Логинова срочно разыскивает товарища Мечова. — Здесь я, Виктор Ильич! — отозвался Мечов. — Что случилось? — Тут на ваше имя радиограмма поступила, Андрей Петрович, — доложил помощник. — Из совхоза «Коммунист Заполярья». Вам подослать или так зачитать можно? — Давайте, — разрешил Мечов. — «Все благополучно задержимся еще две недели у оленеводов работы уйма скучаю целую В.» Мечов с клацанием опустил трубку на рычажные рогульки. С тех пор как Валентина без предупреждения уехала в длительную командировку — местные власти настаивали, чтобы именно она приняла участие в флюорографическом обследовании оленеводов, — он не имел от нее вестей. Радиограмма была первой, если, конечно, не считать случайного привета, переданного каким-то летчиком. Помедлив в угрюмом молчании, Андрей Петрович разжал пальцы, оставив на матовой поверхности трубки влажный, быстро испарившийся след. — Ладно, — сказал он, обнажив крепкие зубы в безразличной улыбке. — Уговорили! В пятницу махнем на Ламу… Может, хоть чир заловится. — Обожаю ловить рыбу! — Галя, как девочка, закружилась на одной ножке. — Прелесть! — Пошли, —Мечов поманил за собой Лосева. — А то борщ простынет. Герману Даниловичу так и не суждено было увидеть, как производят мощный подземный взрыв: шестьдесят два шурфа, по восьми патронов на каждый. Особого сожаления он не испытывал. И без того нашлось над чем поразмыслить. Шумовые эффекты могли только помешать.НА СТОЙБИЩЕ
Через черную палатку с флюорографическим аппаратом жителей Китовой балки пропустили за полдня. Еще три часа ушло на проявление снимков. Если бы Валентина Николаевна Звонцова могла заранее знать, что в низине за дюнной грядой окажется всего девять чумов, то наказала бы летчику вернуться еще сегодня. Ночь, вернее отведенные для сна часы беспокойного полярного дня, могли бы встретить тогда на соседнем стойбище, затерявшемся в междуречье Соленой и Большой Хенты. Но вертолет ожидался только завтра, в лучшем случае к середине дня. Доктор Звонцова переоделась в тренировочный костюм и забралась в дюны, где устроилась с книжкой на полузасыпанном древесном стволе. Для полного блаженства она прихватила кулечек жареных семечек, которыми щедро снабдил ее моторист Сережа. Валентине Николаевне не читалось. Смежив веки и подставляя лицо солнечному потоку, она с блаженной улыбкой поглаживала теплое и гладкое, как моржовая кость, дерево. Выскользнувшая из рук книга валялась на песке, и налетавший изредка ветерок резко листал страницы, пересыпая их белыми, как манка, крупинками. Пронзительно пахло гниющими водорослями, древесными почками и тонким будоражащим хмелем болотных проталин. Вспоминалась молодость, сырые весны в Приозерске, шелест прошлогодней метлицы на озябшем песке. Невыразимо потянуло куда-то далеко-далеко. Таял на языке привкус соли. Перекликались чайки. Вкрадчиво шуршал сухой вейник. Не оставлявшее Валентину предчувствие неотвратимой беды впервые ослабило мертвую хватку. С робкой радостью она пробовала дышать полной грудью, словно вышла на улицу после долгой болезни. Да так оно, собственно, и было. Поездку по стойбищам она восприняла как дар свыше. Последние месяцы, отравленные неизбывной тоской, дались особенно трудно. Бывали дни, когда она чувствовала себя такой одинокой, такой потерянной, что тошно было возвращаться домой. Потому и засиживалась допоздна в диспансере. Ее незаурядный врачебный опыт и самоотверженность сделались притчей во языцех. Друзья считали ее святой, завистники — действующей исподволь карьеристкой. Почему-то никто не задумывался, что главной причиной бессонных бдений было вечное, как мир, святое и горькое бабье одиночество. Было невдомек, что, соглашаясь чуть ли не с радостью подменить на дежурстве любого из коллег, она бежала от опостылевшей тишины собственного жилья. Сперва копила отгулы, чтобы в любой момент «подстроиться» к запутанному распорядку Мечова, потом привыкла и даже стала находить известное удовлетворение в вынужденном подвижничестве. Тем более, что и для руководства оно не осталось незамеченным. В горздраве врача Звонцову ставили в пример другим. Второй год ее портрет висел на доске Почета в самом центре города. И нельзя сказать, чтобы это ей не нравилось. Совсем напротив. И все же, просыпаясь по утрам, она не чувствовала себя счастливой. Ее до тошноты изнуряло тревожное ощущение сжимавшегося вокруг кольца. Она смертельно устала от вечного ожидания. Ожидая с волнением Андрея или хотя бы вестей от него, она заранее готовила себя к неудаче. Оттого и редкая радость была не в радость. Переполненная горечью очередной обиды или разочарования, она все думала и собиралась раз и навсегда оборвать, вырваться из капкана. Понимала, как непозволительно, как преступно сжигать свое невозвратимое сегодня, которое только и есть жизнь, во имя смутных обманчивых упований. Видимо, к тому и шло, ибо Мечов приходил все реже, исчезая часто без всякого предупреждения на много дней. Может быть, ездил куда-нибудь по работе или охотился, или рыбу ловил с приятелями — она перестала спрашивать. Оставаясь в одиночестве на выходные и праздники, когда на город нисходит ни с чем не сравнимая тишина, Валентина Николаевна возненавидела эти неприкаянные дни. Не зная, чем заняться, чем отвлечься от одиночества, подступившего к горлу, то затевала никому ненужную перестановку, мебели, то отправлялась бродить по опустевшему проспекту. Из освещенных окон долетали музыка, смех, и некуда было свернуть, некуда деться от чужого тепла и веселья. Разве что в тундру, затаившуюся в тумане коротких переулков. С той поры, как умерла в августе прошлого года мать, а дочка Ирочка вернулась в Ленинград, где училась в Академии художеств, Валентина Николаевна поняла, всем существом ощутила, что вновь стоит на неведомом рубеже. Закончился период, долгий и не слишком удачливый, ее несложившейся жизни. Опять приходилось что-то решать для себя, продумывать далеко вперед. Но не было ни прежних сил, ни желания. Она не сразу поняла, что пустота, сменившая боль и горечь утраты, принесла ей новую свободу и новую печаль. Освобожденная от вечных страхов за мать, не осознала еще себя полновластной хозяйкой собственной судьбы и пребывала в полной растерянности. Не знала, на чем остановиться. Хотела уехать, но медлила, не решаясь. Ирочка собиралась на зимние каникулы выйти замуж. Слишком рано, по мнению Валентины Николаевны, потому что в ее студенческие годы первокурсники бегали по театрам и вечерам, а не стирали пеленки. Но девочка выросла самостоятельной и меньше всего была готова следовать наставлениям матери. Да и что можно было сказать? Валентина Николаевна не забыла, как двадцать лет назад ей самой советовали не торопиться, подождать годик-другой и-все такое прочее. Она послушалась, подождала. Только зачем? Чтобы выскочить за другого? Диплом, который она уже к тому времени получила, не спас ее от крушения. Ирочка, во всяком случае, выросла без отца. Грош цена такой мудрости. Человек ничего не знает заранее. Мысль о том, что можно как-то застраховать от падения, соломки, как говорят, подстелить, способна только отравить счастье. Пусть короткое, легкомысленное, но что вообще есть вечного в человеческой жизни? Нет, она ни в чем не станет мешать своей девочке. Валентина Николаевна вспомнила студенческий семинар по философии и свой реферат о свободе воли. Она уже не помнила, кто и зачем подсказал ей такую тему, и лишь пожалела, что бездумно переписала все из книг. В памяти уцелело только само понятие: свобода воли. Такое емкое, обязывающее. По-настоящему помочь, значит, помочь ненавязчиво, не посягая на свободу близкого тебе существа. Не подменяя ее ни своей мудростью, большей частью мнимой, ни любовью, потому что и любовь может перерасти в тиранию. Каждое новое поколение не устает упорно отстаивать право на собственные синяки. Что ж, пусть набивают сами, без чужой подсказки. По крайней мере, научатся осмотрительности. Наверное, так только и нужно: следовать первому зову, самому сумасшедшему, самому чистому. Вопреки премудрым наставлениям и печальной статистике ранних браков, Валентина Николаевна заставляла себя верить, что дочь найдет счастье с первой попытки, как было задумано когда-то на небесах. Средства, слава богу, позволяли ей поддержать молодых. Иначе зачем они нужны, северные надбавки и коэффициенты? Полностью погруженная в себя, Звонцова невольно вздрогнула, когда ее тихо позвали: — Можно мне побыть с вами, доктор? Приоткрыв глаза, увидела в головокружительной синеве широкоскулое, золотисто-смуглое лицо. — Спартак? — удивленно подняла брови, сразу узнав красивого мальчика, у которого обнаружила вчера очаги болезни. — Конечно, присаживайтесь. Что за вопрос? — слегка подвинулась, освобождая место на гладком выбеленном бревне. Ответив на его широкую обезоруживающую улыбку, с грустью вспомнила снимок: две черные взаимопроникающие туманности в левой верхней доле. — Дедушка сказал, что в город ехать надо. — Вот видите! И ваш дедушка так считает. Другого выхода действительно нет, милый Спартак, — почти механически повторила слова, сказанные в пропахшем дымком и ягодами чуме…
Жарко дышало пламя, льнувшее к жирным камням. Комариным роем танцевали жгучие звездочки, уносясь в открытый дымник, где сходились острия закопченных шестов. Поджарый старик с ремешком вокруг лба и в расшитой бисером камлейке встретил ее настороженным молчанием, не проронил звука, пока она объясняла, зачем пришла. Только сосал длинную с медным запальником трубку и время от времени оглядывался на меховой полог. Хотя из-за оленьих шкур не доносилось ни шороха, ни вздоха, Валентине Николаевне показалось, что там кто-то, затаив дыхание, прислушивается к каждому слову. Скорее всего, за пологом скрывался сам Спартак. Как только проявили снимок, она вызвала его к себе и предложила лечь на исследование. Но он лишь молча покачал головой и ушел в чум. Похоже было, что старый оленевод целиком встал на сторону внука. Так она и не дождалась от него никакого отклика. Хотя проговорила без малого час. По глазам, в которых переливалась темная влага, видела, что старик все понимает, но допроситься хоть какого-нибудь ответа никак не могла. Когда, отчаявшись, решилась, наконец, уходить, из-под ворсистого летнего меха выползла рябая старуха в ситцевом сарафане. За очагом, где раньше прятали хозяина чума Мяпонга, а ныне стоял на сундуке транзисторный телевизор, нашла банку с вареньем из поздней морошки. — Возьмите, пожалуйста, товарищ доктор, — заговорил внезапно старик. — Чай пить на здоровье, — и присовокупил неведомо как оказавшуюся в руках песцовую шкурку. Валентина Николаевна только головой покачала и, обращаясь уже больше к старухе, вновь принялась объяснять, почему мальчика необходимо как можно скорее отправить в больницу. Старуха, между тем, поставила на очаг большой никелированный чайник, куда бросила, не дожидаясь, пока закипит вода, черную листовую заварку и несколько веточек сушеной брусники. — Не обижайтесь, товарищ доктор, — хозяин упрямо совал ей играющую морозцем белоснежную шкурку. — Попьем чаю, подумаем. Погостите у нас, — стащив через голову ставшую жаркой камлейку, он остался в застиранной тельняшке. Валентине все больше начинали нравиться эти спокойные тихие люди и душистое жилье, устланное циновками из стланика и белой сухой травы. Что-то вечное, неподвластное времени мерещилось в пучках веток, заткнутых за жерди, и плоских обугленных камнях, удерживающих неугасимый огонь. — Что я могу вам сказать? — старик осторожно выколотил трубку, вырезанную из твердого, как камень, березового корня, и опустил глаза. — Спартак — не ребенок. Будущей весной он закончит школу и уедет в город учиться на капитана. Так ему хочется. Я тоже был капитаном вельбота. — Но он серьезно болен, — в который раз повторила Валентина Николаевна. — Он приехал провести каникулы в тундре. Говорит, что и так поправится, не хочет в больницу. — Чудес не бывает. Если мальчика не лечить, болезнь только обострится. Потом будет труднее с ней справиться. Можете мне верить. Старик ничего не ответил, по таинственный полог за ним опять всколыхнулся и вытянулась всклокоченная мальчишеская голова. — Я знаю, что поправлюсь! Собачьего жира попью, теплой оленьей крови. Вот увидите, доктор, вылечусь от хвори, — его раскосые глаза нетерпеливо блеснули, четче обозначились упрямые скулы. — Мы травы целебные знаем, коренья. Из рода в род. В больнице я умру от тоски. Хоть до снега хочу пожить на приволье. — Ты сам себя обманываешь, милый Спартак, — чуть ли не взмолилась тогда Валентина Николаевна. — Вы мудрый, знающий жизнь человек, — обратилась она к старику, — и обязаны воздействовать на внука. Понимаете, что зима может убить его? — Нет, — упрямо стоял на своем юноша. — Дед тоже болел легкими, но излечился в тундре. Скажи ей, дед. — Это правда? — недоверчиво спросила Звонцова. Старик молча кивнул. Валентина Николаевна усталым жестом убрала выбившиеся из-под белой шапочки волосы. — Такое случается единожды на тысячу, — терпеливо принялась объяснять заново. — Болезнь — болезни рознь. Различные формы туберкулеза имеют свое специфическое течение. Особенно теперь, когда современные лекарства смазали типичную картину, изменили весь ход заболевания. Она достаточно знала жизнь и свое дело, чтобы не верить старому эвенку. Ей и самой приходилось наблюдать поразительные случаи самоизлечения. Свежая кровь, сушеные коренья или личинки овода в оленьем мясе порой творили чудеса. Скудная, оглушенная долгой зимой тундра, где все приходилось выколачивать чуть ли не с боем, оказывается тоже хранила природные снадобья исключительной силы, о которых не ведают в других, не столь обделенных природой краях. Она подсказала коренным обитателям, как сохранить жизнь и здоровье. Иначе бы люди не поселились в этих суровых и диких местах. Сперва Валентина Николаевна пришла и ужас, когда узнала, что енисейские эвенки и ненцы, вспарывая желудок забитого оленя, съедают, чуть ли не с жадностью, его содержимое. Но ужас перешел в восхищение, когда ей объяснили, какие биологически активные вещества и витамины содержатся в обычном ягельнике. Они не только спасают от цинги и весенней слабости, но и с успехом противостоят многим инфекционным заболеваниям. Если бы только олений мох усваивался человеческим организмом, о многих лекарствах можно было бы навсегда позабыть. Потому и укоренился обычай есть полупереваренный ягель, что в желудке оленя он раскрывал всю свою богатейшую фармакопею. Это был опыт веков. Но и другое знала доктор Звонцова. Не могла, не имела права не знать, что всего несколько десятков лет назад инфекционные заболевания буквально опустошали целые стойбища. Лишь современная медицина со всем ее арсеналом спасла народы Севера от вымирания. Навсегда ликвидировала жуткую сибирскую язву, косившую без разбора людей и скот. Но туберкулез оставался все еще грозным противником. В эру антибиотиков он, как и многие другие инфекционные заболевания, образовал устойчивые формы и приспособился к лекарствам. Было преступно надеяться на то, что болезнь исчезнет сама по себе. Чтобы человек мог выздороветь действительно, его необходимо было лечить, порой достаточно долго, не ослабляя усилий и бдительности. И чем скорее удавалось начать лечение, тем успешнее были результаты. Повторив в десятый, наверное, раз эти азы врачебной науки, доктор Звонцова пришла к выводу, что зря потратила силы, убеждать старика не было никакой нужды. Он превосходно ее понимал и со всем соглашался. А вот на современного культурного юношу, который учился и жил в новой школе-интернате с математическим уклоном, ее доводы почему-то не оказали ровно никакого воздействия. — Знаете что? — предложила она, круто меняя тактику. — Не желаете в больницу — не надо. Мы только хорошенько осмотрим вас, сделаем анализы и отпустим. Лечиться будете амбулаторно, на дому то есть… Можете пожить у меня это время. Только не стесняйтесь. Мне вы ничем не помешаете. Большую часть дня меня просто не бывает дома… Звонцова выжидательно глянула на мальчика. — Ну, как, договорились? — спросила, надеясь прочесть согласие в настороженном блеске умных красиво очерченных глаз. Твердо встретив ее взгляд, он молча отвернулся и спрятался за пологом. — Где родители мальчика? — спросила Звонцова. Старик коснулся березовым мундштуком груди, затем показал на жопу, собиравшую в банку мозг из раздробленных оленьих костей. Закончив работу, она вытерла руки сухой травой и споро разлила по кружкам пенистый чай, в котором кружились лакированные брусничные листья. — Пей, — пододвинула Звонцовой исходящую душистым паром кружку и горшочек с вареньем. — Одни мы у него, — пожевав губами, ответил старый оленевод. — И он у нас тоже один… Не хочет ехать. — Скучает без вас? — растрогалась Валентина. — Какой тонко организованный мальчик. Очень способный, наверное? — В совхозе у нас тоже поликлиника есть. Раз в неделю важный доктор из города прилетает. Операции делает… Туда нельзя? — Спартаку не поликлиника требуется, а специализированная больница. — Долго лечить будут? — Трудно сказать, — Звонцова считала, что успокаивать следует только больных, а близким необходимо говорить одну правду. — Вначале провести тщательное обследование… По-моему, случай тяжелый. — Помрет без больницы? — не дрогнув спросил старик. — Тосковать он в городе начнет. От лекарства толку не будет. — Пожалуй, что так, — сочувственно вздохнула Валентина. — Дети обычно легко свыкаются с новыми условиями, но не такие, как ваш внук, — она замолчала, невольно залюбовавшись игрой угасавших угольев. — Как бы там ни было, его нужно хорошенько посмотреть… Может быть, вы сами свезете? Или вот что, — она сосредоточенно прищурилась, обдумывая, как сделать лучше, — завтра будет вертолет, и я возьму вас с собой. — Домой улетаешь? — В соседнее стойбище, но я попрошу, чтобы вас потом забросили в город. — Без тебя? — Найдутся и получше специалисты, — улыбнулась Валентина и с жадностью набросилась на варенье. Теперь она знала твердо, что ее усилия не пропали даром. — До чего вкусно!.. Вот уж не думала, что у эвенков бывает варенье. — Мы не делаем, — покачал головой старик. — Спартак варил. В школе научился… Бери, — бросил ей на колени пушистую шкурку. — Шапку сошьешь. — Спасибо, — покорно согласилась Валентина. Обидеть старика отказом было теперь совершенно немыслимо. Да и мех ей понравился очень. — Она повезет, — старик важно кивнул на жену. — У меня олени. Валентина Николаевна услышала, как горестно всхлипнул у него за спиной мальчик. А может быть, это только послышалось, потому что плотные шкуры лучше всякой изоляции поглощали звук…
Теперь Спартак сидел рядом, на краешке выброшенного давним разливом ствола. Сосредоточенно пересыпая из горсти в горсть песок, следил за ней внимательными не по-детски всезнающими глазами. — Я буду лежать в той больнице, где вы? — спросил он, сдувая песчинки с ладони. — Обязательно. — Тогда мне незачем жить у вас. Ведь я и так смогу вас видеть? Верно? — Я всегда буду рядом с вами, — подтвердила она. А дедушка, как только сможет, приедет навестить. — Нет, он должен остаться с оленями. И бабку я не возьму в город. Пусть смотрит за дедом. Я сам полечу на вертолете. — Как захотите, так и будет, — пообещала она. — Что это? — заинтересовалась, различив внезапно рокочущий гул. — Олени. Вон там, смотрите, — он указал на пыльное вытянутое облачко. Клубясь над землей, оно медленно распространялось к востоку. — Ваши? — заинтересованно спросила Валентина. — Дикие. Материковые… По весне они покидают тайгу и всем стадом бегут к океану. — Зачем? — Как зачем? — удивился Спартак ее недогадливости. — Так им надо. Комариную пору пережидают в прибрежной тундре, а осенью возвращаются назад к лесной границе. — Смотри, как все у них целесообразно… Я и то наметила, что тут комаров меньше, а ведь сейчас самое их время. — Морской ветер разгоняет. Потому и зверь жмется поближе к берегу. Островные олени вообще всю зиму в тундре проводят. По распадкам держатся, где много ягеля и снег не так глубок. Весной они тоже на север несутся, прямо по льду на острова. — Как вы великолепно во всем разбираетесь! — восхитилась Валентина. — Настоящий оленевод. Может, вам лучше на зоотехника пойти учиться? Или на ветеринара? — Я море люблю. И математику. Мы уже дифференциальные уравнения второго порядка решаем. — Но ведь вы и оленей превосходно знаете. Наверное, потому, что дедушке помогать приходится? — Отчасти… Вообще мы, эвенки, охотники. И отец мой и мать промышляли зверя: песца, соболя… А оленей на поколюгах били, где они через море переправляются… Их на льдине унесло, отца и мать, я их не помню. Совсем маленький был. — Дедушка тоже охотился? — Он шаманом смолоду был, потом бросил, на капитана выучился. — Как интересно! — Интересно, — согласился Спартак. — Теперь шаманов совсем не осталось. Последний, говорят, где-то в горах век доживает, а жаль. — Жаль? — удивилась Валентина. — А почему? Разве они не обманщики? — Обманщики, конечно, и вообще никаких духов нет. Но встречались и среди них настоящие люди, такие, как дед. Эти не обманывали. Не по своей воле в шаманы шли, зову следовали. Болезни умели излечивать, тоску изгоняли. — Тоску? — Не верите? — он нашел ее глаза и, словно преодолевая внутреннее сопротивление, заглянул на самое дно, но тут же скользнул в сторону, как на невиданную преграду натолкнулся. Валентине Николаевне даже не по себе как-то стало. — Дед говорил, что и меня голоса звали, — Спартак виновато улыбнулся. — Только он не пустил, прогнал… Иногда я сам чувствую, как вроде занавеска какая-то приоткрывается, но понять, что за ней, не могу… Да и проходит быстро. — Какая занавеска? — в тревоге за мальчика Валентина легко провела по его жестким коротко остриженным волосам. — Все это выдумки, Спартак, болезненные фантазии. С ними надо бороться. — Я знаю, — обеими руками он задержал ее пальцы на своей голове. — Какая вы добрая, тетя Валя, — произнес хриплым изменившимся голосом. — И какая несчастная… — Почему ты так думаешь? — нахмурилась она, вырывая руку. — Тоска у вас. Я чувствую, я знаю, что это тоска. — Никак ты не можешь этого знать, — заключила она, стараясь вложить все свое убеждение. — Может, и не могу, а все же знаю… Помру я в городе, тетя Валя. — Вздор, — поймав его покорный умоляющий взгляд, она едва удержалась от слез. — Ничего такого не будет, — отчеканила по складам. — Запомни накрепко. Я тебя вылечу.
ОЗЕРО ЛАМА
Темные рои комаров рваной завесой простерлись над речкой. Порывы ветра относили их под защиту юров, но едва наступало затишье, возвращалось и кошмарное марево, танцующее над оловянной зыбью. Ветер хоть и выдувал стремительно опадавший на палубу рой, но отдельные кровососы ухитрялись запутаться в волосах, проникали в одежду, прятались в люках и подволочных углах. Даже под рындой роился реденький столбик, наполняя тончайшим звоном надраенную медь. Видавший виды буксир, на котором вместе с бригадой проходчиков обосновались Лосев и Мечов, развил невиданные обороты. Оглашая притихшие дали победным ревом гудка и лихо огибая окаймленные пеной каменистые мысы, торопился вырваться из узкого фарватера на озерный простор. Косая волна заливала валуны и долго качала ольховые ветки, отчетливо видимые издалека. Скупо роняя тяжелые капли, они сверкали каждой шишечкой, каждой мокрой сережкой, словно вобрали в себя весь разлитый в безбрежности свет. Одинокое облачко таяло в отрешенной пустоте желтого неба. Чуть подсвеченное ослепительным рефлектором солнца, где перебегали и корчились зеленоватые вспышки, оно казалось инопланетным гостем, зависшим над зачарованной далью. Прошло почти четыре часа, как пароходик отвалил от пристани, но ничего не изменилось вокруг. Не стали ближе приземленные черно-фиолетовые горы. Все тот же низкорослый лес то расходился, то смыкался в извивах суровой и быстрой реки. За кормой, где надрывался кассетный магнитофон и лихо отплясывали чуть захмелевшие горняцкие жены, кипела лиловая, как от марганцовки, пена. Лосев не мог понять, откуда возник этот изощренный больной колорит. Он был столь же нереален, как остановившееся на ночь солнце, холодный пар над цинковым плесом, застывшее облако. Как облачная тень, угольным эллипсом пятнавшая синий отрог Путорана. «Вечная печать», — подумал Лосев. Он сидел в одиночестве на передней скамье, пришибленный скупым великолепием неизменного дикого мира. Пытаясь определить суровые тона реки и бескрайнего неба, не находил ни точных названий, ни метафор, чтобы хоть обходным путем запечатлеть ускользавшие образы. Противостоя окружающему оцепенению, немоте, заливающей горло, безуспешно искал слова, чтобы выразить несказанное. До рези в глазах вглядывался в туманную полосу, разрезавшую горы, и что-то несвязно бормотал, не пытаясь удержать и запомнить едва народившийся образ. «…Бесчеловечная красота. Пустыня вод, пустыня гор. Обнаженное мироздание. Одинокая природа. Такой и была она за миллионы лет до ящеров и пирамид. Бесприютен лес на другом берегу, низкий, как мох. И эти лиственницы и пихты, мелькающие светотенью стволов, дурманят одичалым бредом. Обманчиво золото, полыхающее по зазубренным контурам гор. Ничего нет за ними. Откуда тогда растерянность? Предощущение слез? Невозможно ни высказать, ни понять. Немота, неподвижность. Все притихло и замерзло — лес, берега, дисковидное облако, горы и свет за горами. Только волны бегут. Волны… И встречный ветер. И слезы от встречного ветра…» Герман Данилович поднял воротник, до отказа застегнул молнию, поплотнее упрятал в карманы руки. Стало совсем свежо. Обнаглевшее комарье жгло уши и веки. Нестерпимо чесались искусанные сквозь носки ноги. Их не мог спасти даже репудин, плескавшийся в литровой банке, заткнутой комом гигроскопической ваты. Ежась от холода и почесываясь, Герман Данилович незаметно задремал. Было далеко за полночь и приуставшие матери в нижнем салоне давно спали на кожаных подушках, прижимая к себе посапывающих ребятишек. Разметав локтями костяшки, заснули, не отходя от стола, любители домино. Разбрелись по теплым, попахивающим соляркой углам танцевавшие под магнитофон юные пары. Только общительный Мечов, привыкший быть в центре любого веселья, никак не желал угомониться. Не обращая внимания на музыку, летевшую над бессонной водой, топтался в несусветном без конца и начала танце. Он смертельно умаялся и уже не танцевал, а только покачивался, обнимая за плечи верных партнерш, видимо, поклявшихся выстоять до конца. Дабы избежать всяческих пересудов, Андрей Петрович оказывал обеим дамам равное внимание и вообще предпочитал держаться у всех на глазах. Танцевальное трио составилось таким образом несколько вынужденно. Разочарованная очевидным равнодушием московского гостя, Люся Огарышева волей-неволей держалась возле подруги, а Гале приходилось с этим мириться. Непривычно молчаливая и покорная, она ни на шаг не отходила от Мечова. Пока длилось общее застолье и взлетали кружки с разбавленным спиртом, шампанским и красным вином, она с женской мудростью держалась в стороне. Но стоило палубе опустеть, прильнула к нему с тихим стоном. — А как насчет вздремнуть, красавицы? — спросил Мечов, выключая магнитофон. — Лично я не откажусь. — Все места, небось, заняты, — Люся откровенно зевнула. — Попробуйте все же где-нибудь приткнуться, — он ласково подтолкнул их к трапу. — А я москвича поищу. Неудобно как-то: бросили человека. — Вялый он какой-то у вас, — посчитала нужным заметить Люся. — Совсем на себя не похож. — Устал, надо полагать, — вздохнул Мечов и, как подрубленный, рухнул на скамейку. — Ничего, отведает ушицы, как огурчик станет. Ну, двигайте… Как только подруги сошли вниз, он с трудом поднялся и, обогнув рубку, пробрался на бак, где, сжавшись в комочек, спал на скамейке Герман. Мечов сочувственно улыбнулся и, с трудом передвигая отяжелевшие ноги, поплелся к капитану за одеялом. Раздобыв два роскошных шерстяных пледа, накрыл Лосева и расположился на соседней скамье. Лена-гора вынырнула из расцвеченной радугой дымки, когда солнышко тронулось к обратный путь, стремительно набирая высоту и уменьшаясь в размерах. На пароходе застопорили машину, и он по инерции проскользнул в узкую продолговатую бухту. Над тишайшей гладью пресмыкался летящий к берегу пар. Заволакивая бурую гальку и низкорослый рябинник на склоне, он незаметно смыкался с молочной пленкой, сползавшей с плоской вершины, где цеплялись за скалы одиночные пихты. Ткнувшись железным носом в гремящую каменистую россыпь, суденышко взбурлило воду за кормой и замерло возле почерневшей от времени сваи, на которую после нескольких безуспешных попыток закинул, наконец, веревочный гаш неопытный матросик. С носа, прямо через фальшборт, спустили дощатый, пружинящий под ногами трап. Первыми соскочили на берег парни с орущим магнитофоном, гитарой и цинковыми ведрами. Образовав цепочку, живо перетаскали нехитрую туристскую кладь. База находилась в глубине острова, на самой вершине, где темнели выгнутые постоянными ветрами тонкоствольные пихты. Неуютный бревенчатый сруб с запутанными переходами и сумрачными комнатами прятался в чаще. С берега были видны лишь дымы костров на поляне и круто забиравшая кверху тропа. Пахло багульником, грустной озерной прохладой. — Удить пойдете? — спрыгнув на берег, поинтересовался Лосев. — Здесь? — Мечов оглянулся на сваленные в кучу рюкзаки и сумки. — Вы шутите! Я даже снасти не прихватил. — А как же обещанная уха? — Насчет этого не сомневайтесь. Два ведра чира с собой привезли. Осталось только костер развести. Рыбу женщины в пути выпотрошили. — Вот как? А я, признаться, даже не заметил. — Вы много чего упустили, пока впитывали в себя северную печаль, — кивнул Мечов. — Природа природой, но без человека она только вместилище. Не храм и не мастерская. — Чира, выходит, загодя наловили? И кто, если не секрет, спроворил? — Понятия не имею, — Андрей Петрович снял с трапа мальчугана с сачком и поставил его на твердую землю. — Никак бабочек ловить собрался? — спросил он с веселым удивлением. — Были бы тут бабочки, — пренебрежительно скривился малыш. — Мне стрекозы нужны. — Смотри в болото не провались, кузен Бенедикт… — Андрей Петрович! Герман Данилович! — оживленно подскочили к ним Галя и Люся. — Считайте себя мобилизованными на лесозаготовки! Для костра дрова требуются. — Обе были в элегантно потертых джинсовых костюмчиках с яркими небрежно повязанными шарфиками. Умело подведенные глаза искрились смехом и ожиданием. — Топор найдется? — Лосев проявил живейшую готовность блеснуть удалью. Словно воспринял неуловимое дуновение молодости. — Не нужно, — остановил Мечов. — Весь берег плавником завален. Собрать пара пустяков… Может, к водопаду прогуляемся? — И мы с вами! — просияла Галя. — Стоит ли? — смягчая отказ дружеской улыбкой, покачал головой Мечов. — Вы лучше женщинам подсобите… Мало ли что? И не забудьте про колбасу в моем рюкзаке. Ясно? — Правильно Андрей Петрович говорит, — обернулась к подруге Люся. — Нужно нашим помочь, а то неудобно получится… — Ну, пожалуйста, — умоляюще заморгала Галя, состроив горестное личико. — Мы будем скучать без вас. Он не хочет, — указала она на себя. — Это ему не нравится. — Отдыхайте, девушки, веселитесь, — невозмутимый Мечов прощально взмахнул рукой. — «Не плачь девчонка — пройдут дожди». Мы скоро вернемся… У Германа Даниловича как-никак сегодня рабочий день, так что не обессудьте. — Пойдем, — настойчиво позвала Люся. — Неудобно. — А нам удобно? — спросил Лосев, забираясь вслед за Мечовым в плотные заросли ивы и черной ползучей ольхи. — Безусловно. Полно ж молодых парней, которым ничего не стоит навалить гору плавника… В противном случае мы бы, конечно, взяли заботу о костре на себя, — добавил Мечов с затаенным ехидством, — как подобает суровым мужчинам. — Боитесь показного демократизма? — спросил Герман, склоняясь над удлиненными стебельками бледного колокольчика. Растительность оказалась не столь уж скудной, как думалось. В жесткой траве, пробившейся из каменных щелей, даже розовели гвоздички, а у самой воды белела скромная кашка дудника. — За столом я этого почему-то не замечал. — Все должно быть естественным, профессор, органичным, — не оборачиваясь, бросил Мечов. — Тогда не называйте меня профессором. — Почему? — Неорганично как-то. Проще обращаться по имени. Как-никак мы с вами почти однолетки. — Идет. Я даже готов пойти дальше и предложить брудершафт? — За время наших совместных скитаний выпито было предостаточно, — карабкаясь в гору, Лосев изо всех сил старался не отставать. Дыхание с непривычки сделалось учащенным. — Поэтому обойдемся без церемоний. Лады?.. — Как хочешь, Гера, — чуткий на слух, Мечов задержался возле бурого валуна, забрызганного ярко-желтыми мазками лишайника. В распадке, открывавшемся сверху, пряталось осоковое болотце. На затененной крутости еще лепились грязные полосы снега. — Люся, между прочим, превосходно разбирается в травах, — отдышавшись, Герман Данилович погладил упругий хлыстик рябинки. От камня, на который он было присел, тянуло лютым холодом. — Это нынче чуть ли не всеобщее поветрие. Прямо помешался народ на траволечении, знаках зодиака и прочей муре. Под Новый год даже лошадь на эстраду вывели, в честь Черного Коня, значит. — Откуда в Заполярном городе? — вяло поинтересовался Лосев, тронув резиновую губку лишайника. — Цирк как раз гастролировал, — рассмеялся Мечов. — Вот директору нашего дома культуры и ударило в голову… Восторг бешеный! — Не сомневаюсь, — кивнул Герман Данилович, машинально срывая желтую нашлепку. — Только не такая уж это чепуха, — смахнув бурую пыль, он принялся энергично расчищать валун, на котором обозначился затейливый рисунок. — Отнюдь! — Что это? — заинтересовался Мечов, всматриваясь в обнажившуюся причудливую фигуру, как бы сплетенную из одной многократно изогнутой нити. — Балбэ, — восхищенно прошептал Лосев. — Вот уж не думал наткнуться… И главное, где? На четыреста километров севернее Полярного круга! — Какое еще «балбэ»? — Так его именуют монголы. Это древнеиндийский знак, символизирующий линию жизни, судьбу. Тибетцы несколько непочтительно называют его «кишками Будды». — У нас-то он какими судьбами оказался? — Мечов поплевал на платок и до блеска вытер глубоко врезанную в камень эмблему. — Из Индии сюда едва ли кто мог добраться. — Лично я встречал этот знак на церковной фреске в Ростове Великом, на мраморном саркофаге мусульманского святого в Хиве, на финских монетах, на царских банкнотах, даже на стальных латах немецкой работы в Рыцарском зале Эрмитажа. Переходя от народа к народу, как некое зашифрованное послание, он скоро утратил конкретный смысл и превратился в самый обыкновенный орнамент. И совершенно не важно, что прочитать узор могут теперь далеко не везде. Сам факт его поразительного распространения крайне интересен для историков. Едва ли можно найти более убедительное и вместе с тем простое свидетельство обширности контактов древнего мира. — Но в Заполярье, на диком острове, где никто и не жил, как он мог очутиться? — Ничего удивительного. Якуты и чукчи до сих пор используют узор плетенки для украшения всевозможных изделий. Они свободно могли заимствовать его у бурятов, калмыков или тувинцев, воспринявших тибетскую веру. — Зачем? Какой во всем этом смысл? — Да просто так. Понравилось и захотелось повторить. Разве не интересно? Смотри, как переплетается нить? — Лосев обвел рисунок пальцем. — Запоминающаяся штука… Но могло быть и иначе. Известно, например, что буддийские проповедники забирались далеко на север. Даже вступали в контакт с эвенками. — С эвенками? — не поверил Мечов. — Так ведь у них шаманы! — Шаманы? Да будет тебе известно, что первоначальное слово шаман, — Герман Данилович сделал упор на первом слоге, — санскритского происхождения и означает ни много ни мало — монах. От эвенков, кстати, оно перешло во все сибирские языки. Так что не будем спешить с выводами, ибо наше прошлое — загадка. Темна вода во облацех. Я не удивлюсь, если этот знак окажется причастным к тайне Золотого идола. — Ты веришь? — Почему бы нет? — Сказки. — Бывает, что и сказки становятся былью… Кстати, что означает название Лама? — Кто его знает. Одни говорят — озеро, другие — вообще вода. — Скорее всего, что так, — Лосев с трудом оторвался от вещего камня. — Но, с другой стороны, лама — буддийский монах, или буквально «выше нет», по-тибетски. Такие дела… Однако мы засиделись. Все равно всех загадок не решить. Двинем дальше? — Отдохнул уже? — А я и не устал. — Ну-ну… Взобравшись на плоскую подковообразную вершину, они обогнули заболоченную осоковую падь. Кустарник поредел, тропа расширилась и повела под уклон, вихляя меж ржавых сухостойных лиственниц, обезображенных мертвым мохом и паутиной. Под ногами лопались и рассыпались в пыль высушенные до черноты мухоморы. Отчетливо различался гул падающей воды, заглушенный дотоле горой. — Кажется, дело идет к тому, что я застряну у вас до осени, — сбивая очередную шляпку, заметил Лосев. — Увижу грибы, растущие выше деревьев… — Эка невидаль! Мы с тобой еще на буровые махнем, на стойбищах побываем. Найдется, на что поглядеть, о чем рассказать… Статьи в Москве писать будешь? Когда вернешься? — Почему так думаешь? — Был вроде такой слушок… — У нас, как и деревне, все про всех известно, — усмехнулся Герман Данилович, прислушиваясь к нараставшему с каждым шагом шуму водяного каскада. — Два материала я уже отправил на прошлой неделе, с самолетом. — Ну! — то ли удивленно, то ли с разочарованием воскликнул Андрей Петрович. — Даешь прикурить!.. А показать? Просто так, по-товарищески? — В газете прочтешь… Под рубрикой «Письма с заводов и фабрик». — Перед свершившимся фактом ставишь? — Мечов задержал шаг и, оглянувшись, с треском сломал качавшуюся перед глазами ветку. — Красиво! — Перестань. Неужели ты думаешь, что я приготовил тебе неприятный сюрприз? — Не о том речь, — с напускным безразличием отозвался Мечов. — Не о себе пекусь, о деле. Все-таки мы посвятили тебя в самые сокровенные, так сказать, планы и нам, естественно, не безразлично, какое они получат освещение. Тем более, что от этого многое зависит. Слишком многое. — Доверяй и надейся, — добродушно пообещал Лосев. — Главное, как всегда, впереди. Итоговый очерк, где все будет разложено по полочкам, я пока не написал. — Тебе виднее, — отчужденно отозвался Мечов, перепрыгивая через ручей. — Осторожно, здесь топкое место, — предупредил. — Со стороны всегда виднее. — Лосев благополучно миновал поросшую болезненно-сизым мохом ложбинку и остановился на краю каменистого каньона, где бушевал, срывающийся с вертикальной скалистой стены, поток. Вывороченные с корнем деревья образовали внизу завал, в котором металась, не находя выхода из теснины, яростная пена. — Тут бы турбинку поставить, и остров оживет, — Лосев тихонько толкнул ногой лежавшую у самого обрыва сланцевую плитку. — Мало ли где можно построить электростанцию. Пока нам хватает. По крайней мере так видится изнутри. — Поверь, Андрей, что я очень старался сделать ваши проблемы своими, личными. Собственно, так оно и случилось в конце концов. Но стать чьим-то рупором я, откровенно говоря, не желаю. Это противоречит самой сути профессии журналиста. А я горжусь своей причастностью к ней и хочу сохранить за собой право на собственный взгляд. В особенности здесь, в заполярном городе, где так легко соскользнуть на привычную стезю бездумного восторга. Из-за грохота водопада говорить было почти невозможно, и они, незаметно для себя, перешли на крик, сопровождаемый энергичной жестикуляцией. Так уж случилось, что разговору, назревавшему неделями, суждено было завязаться в самом неподходящем месте, на краю ревущего сырого ущелья, где только пена взлетала клочьями и клубился холодный туман. — За идиота меня считаешь? — наступал со сжатыми кулаками Мечов. — От такого человека, как ты, я меньше всего ожидаю барабанной дроби. Нам она совершенно без надобности. Иное дело серьезный, философский, между прочим, анализ. Здесь мы вправе ожидать не только постановки каких-то наболевших вопросов, но и конкретной помощи. — В чем именно? Хотите заполучить на постоянное владение атомный ледокол? Но вы сами пока не решаетесь говорить о круглогодичной навигации, поскольку еще не готовы к ней, не все учли, продумали… Считаете, что комбинату следует дать статус главка? Но ты сам говорил мне, что это лишь полумера, — кричал в ответ Лосев. — Не вижу пока предмета для спора. — О чем же ты пишешь тогда в своих очерках? — О невиданных темпах, о широком размахе и одновременно о проистекающих отсюда сложностях. — И даешь конкретные рекомендации? — Пока только поднимаю вопросы. — Но ответы на них содержатся в моем плане. — А ты разве заявил о нем во всеуслышание? — Но послушай, Герман, с твоей помощью было бы значительно легче пробить любой вопрос! — Допустим, — поторопил Лосев. — Что с того? — Мне же ставят палки в колеса. Я скован по рукам и ногам. — Ничего удивительного. Элементарная диалектика жизни. — Строители, и Кусов в этом полностью их поддерживает, считают, что все силы должны быть брошены на «Надежду». — А ты? — Я полагаю, что одновременно следует реконструировать существующие цеха. По нашим расчетам мощность медно-никелевого производства может быть увеличена на пятнадцать процентов. Пока этого хватит. А когда пойдет руда «Глубокого», подоспеет рудник «Надежда». — Логично. Но это ведь не твоя идея? Ты просто следуешь прежнему курсу, сохраняешь преемственность. Логинов и первый секретарь горкома, кстати, тебя поддерживают. По-моему, это немало… — Для начала. Но ни одно мое предложение не принимается в чистом виде. Всегда приходится идти на компромиссные поправки. Усреднять противоположные мнения. — Иначе и быть не должно. — Почему? Разве я не прав? — Хочешь продолжать разговор? С полной откровенностью? — Безусловно, — резким жестом Мечов указал на каньон. — Самое место для дуэли со смертельным исходом. Интересно даже. — Помнишь, я обещал сказать тебе, в чем твоя ошибка? — Это когда мы у Вагнера гостили? Как же, помню… — Ты слишком торопишься, а нужно уметь ждать. Даже самые радикальные перемены требуют постепенности. — Согласен, — энергично тряхнул головой Мечов. — Я и сам сознаю, что главный мой враг — нетерпение. — Не только это… У меня создалось впечатление, что излишне темпераментными выступлениями по части экологической гармонии ты нарочно вызываешь огонь на себя. — Зачем, хотелось бы знать? — В самом деле не знаешь? — недоверчиво прищурился Герман Данилович. — Или только делаешьвид? — Решай сам. — Тогда ответь мне, почему ты отклонил проект бетонного завода непрерывного действия? — Ух ты! — непритворно восхитился Мечов. — В самое яблочко!.. Это тебе Кусов напел? — Я жду ясного исчерпывающего ответа, — напомнил Лосев. — Иначе откровенного разговора у нас не получится. — Хорошо, — Андрей Петрович присел на корточки и острым обломком кремня начертил на земле круг. — Здесь строится новый комплекс, — пояснил. — Тут — угодья колхоза «Таймырские зори», — изобразил большой прямоугольник. — А несколько в стороне, — нарисовал еще один круг, — выбранная для бетонного завода площадка… Теперь смотри, — стремительная прямая, соединив оба кружка, по диагонали пересекла колхозные владения. — Так пройдет дорога… Все понял? — Давай-давай, — подбодрил Лосев. — Пока все ясно… — Тогда постарайся понять и другое, — Мечов выпрямился и отшвырнул камушек. — За последние годы поголовье колхозных оленей выросло в несколько раз. Благодаря новым методам подкормки телята появляются на десять дней раньше, а весят на двадцать процентов больше. Поверь мне, что это очень важные показатели. Во-первых, остается больше времени для подготовки к зиме, во-вторых, снижается заболеваемость. В первый год она была в шесть раз меньше по сравнению с контрольной группой, во второй — в двадцать. Колоссально ведь! Верно?.. А вес убойных телят возрос на пятнадцать процентов. Многие тысячи тонн мяса, кстати сказать. Такими вещами не пренебрегают. Согласен? — Дорога, по которой бетон повезут на строительство, — Лосев наступил ногой на чертеж, — угрожает, если я правильно понял, мясному изобилию? Шум? Загрязнение? — Не только… В окрестностях кочуют несметные стада диких оленей. По самым скромным подсчетам, полмиллиона голов. Дикие же, как известно, уводят с собой одомашненных. — А нельзя, чтоб наоборот? — Нет. У дикого оленя характер другой. Они даже на приплод не годятся. Это тебе любой эвенок скажет или ненец. — Приму к сведению. Давай дальше. — У меня, собственно, все. Бетонная трасса перережет исконные пути сезонных миграций, и колхозным стадам может прийти конец. Я на такое своего согласия не дам. — Только может или наверняка придет? — Наверняка тебе никто ничего не скажет. Откуда я знаю, куда побежит дикий олень? — Чем же тогда руководствовались авторы проекта? — Наиболее короткий путь, относительная дешевизна… Критерии, в общем, известные. Тоже свой резон есть. — Но ты против? — Против. — А Логинов? — Не знаю, — уклончиво отозвался Мечов. — Иногда он берет сторону Кусова. Игорь Веденеев тоже далеко не однозначно относится к моей деятельности. Будем решать, спорить… — Где, по твоему мнению, следует построить завод? — За рекой, а дорогу проложить в обход оленьих кочевий. Оно, конечно, обойдется дороже, но, в конце концов, себя окупит. — Но сроки пуска новых металлургических цехов отодвинутся? — Не обязательно. Тут вопрос сиюминутной тактики, не стратегии. Если строить завод, согласно проекту, средства следует отпустить незамедлительно, если на другом месте — можно обождать до следующего финансового года. Понимаешь? Нам ведь ничто не мешает отпустить потом денег побольше, чтобы компенсировать, значит, задержку. — А как ты намерен распорядиться высвобожденными ассигнованиями? — Брошу на реконструкцию, — Мечов вызывающе вскинул подбородок. — Разве нельзя? — Теперь все ясно. — По сомневался, что ты разберешься. — Но до норы до времени ты почему-то темнишь? Рассуждаешь о телятах, важенках, карбамиде, приплоде и нее такое прочее. Об истинных намерениях — ни полслова. Ловчишь, Андрюша? — Олени и есть истинные намерения. — Позволь тебе не поверить. Дело совсем не в тактике, а именно в стратегии. Твой план развития натолкнулся на упорное сопротивление строителей. Я так понимаю? Им выгоднее как можно скорее и с минимальными затратами успеть к этому времени расширить старые мощности. — Естественно. Иначе мы будем вынуждены временно приостановить прирост добычи. Такое, мягко говоря, не в традициях комбината. — Что ж, — Лосев задумчиво огладил лоб. — В твоих рассуждениях есть известный резон. — И только-то? — Я по-прежнему считаю, что, играя втемную, ты совершаешь ошибку. Не нужно хитрить с людьми, болеющими за производство. Твоя аргументация от этого только выиграет, приобретет вес. — В нужный момент я выложу карты на стол. Будь уверен. А пока следует укрепиться, подтянуть тылы, накопить резервы. Не скрою, что надеялся и на твою помощь. — По-твоему, мне следует поддержать твои широковещательные намерения, умолчав о том, что ты решил пока попридержать за пазухой? — Не вижу ничего страшного. Теперь-то ты все знаешь? — Хорошего же ты мнения о нашей прессе, — Герман Данилович машинально подкрутил усы. — Нет, брат, если ты действительно уверен в том, что дальнейшее развитие комбината требует пересмотра устоявшихся представлений, изволь выступать с открытым забралом. Если понадобится, предложи даже пойти на временное снижение производительности. На конкретных цифрах покажи, какой прибылью оно потом обернется. — И это будет его лебединая песня, — Мечов ткнул себя в грудь и поник головой. — Я нарочито утрирую, — не принял шутки Лосев. — Раз в твоем плане заложено не снижение, пусть временно, а неуклонное повышение, тайная дипломатия не нужна. Больше того — вредна. Чего ты боишься? — Разве не ясно? Открытого конфликта с великой державой по имени Стройуправление. На это и Логинов никогда не пойдет. — И выдвигаешь на первый план экологическую полумеру? — Закон об охране среды и над ними и над нами. Хочешь не хочешь, его следует соблюдать, даже если кому-то это грозит потерей премиальных. — Кому-то! Строителям, надо понимать? Не тебе? — Они получат свое на другой год. — Теперь я окончательно убедился в твоей принципиальной ошибке, Андрюша. Логически, даже чисто экономически твоя уловка имеет много привлекательных сторон. Одно в ней плохо. Изначально заложенная, тщательно закамуфлированная цифрами аморальность. — Эк куда хватил! — Мечов схватился за сердце и сделал вид, что падает. — Вы сразили меня, поручик. Выстрел оказался смертельным. — Постарайся понять меня, Андрей. Ты решительный, смелый, талантливый человек и, хочется думать, сумеешь далеко пойти. Я отлично понимаю, почему именно тебе доверил Логинов развитие комбината, его, в сущности, будущее. Но смотри, не сломай шею. Грань, где кончается хозяйственная изворотливость и начинается чистой воды авантюра, ой как тонка. Охранять природу — твоя обязанность, но спекулировать на этом — недостойно, мелкотравчато, можешь мне верить. — Ты сгущаешь краски, — Мечов нахмурился и сделал отстраняющий жест. — Я верю в твою искренность, но ты сильно сгущаешь краски. Для нас олени значат куда больше, чем коровы на материке. — Предположим, хотя я видел у вас и ярославских коров… Но ты уверен, что существующий проект бетонного завода никак нельзя сочетать с интересами оленеводов? С учетом специальных мероприятий, может быть, существенных дополнительных затрат?.. Молчишь? Вся беда в том, что ты заранее решил наложить лапу на эти ассигнования, а остальное приплюсовал, чтобы оправдать, так сказать, задним числом, Поэтому и не выглядят достаточно убедительными твои рассуждения, что зиждутся на заведомо скользкой основе. Цель никогда не оправдывает средства. — Куда ты клонишь? — К элементарной честности. Без нее нет высокого интеллекта. — А если мой вариант единственный? — Тогда отстаивай его с присущей тебе энергией и изворотливостью. Он действительно единственный? Но просто конъюнктурно удобный? Мне можешь и не отвечать, себе ответь. Лосев отступил в сторону, чтобы прокашляться. Незаметно для себя он, кажется, надорвал голосовые связки. — Пора возвращаться на базу, Герман, — крикнул ему в самое ухо Мечов. — Ушица, надо полагать, клокочет вовсю… В общем, спасибо тебе за откровенность. Не знаю, что получится, но я подумаю над тем, что ты сказал. — Одно это уже оправдывает мою командировку. Понимаю, что зову тебя на трудный путь, но альтернативы не вижу. — Не знаю, не знаю, — упрямо нахмурился Мечов. — Боюсь что-либо обещать… — он озадаченно покачал головой. — В крайнем случае стану для тебя отрицательным персонажем. — Такого просто не может быть. — Почему, собственно? — Та же элементарная честность. Простая порядочность. — Черт тебя знает! — в сердцах выругался Мечов. — Умный вроде мужик, а живешь в идеальном, выдуманном мире. Форменный детский сад! — Бранишься? Значит, задело за живое. Я ведь ничего тебе не навязываю. Устраивает тебя твой стиль поведения, ради бога! Дело хозяйское. Но себя-то самого обманывать зачем? Вымышленный мир с этого и начинается, с самообмана.Мечов и Лосев возвратились на базу, когда осмелевшие кровососы целиком завладели тенистой поляной. Переждав дневные часы под сенью одряхлевшей хвои, назойливое комарье мельтешило перед глазами, выискивая, где бы присосаться. Но не тут-то было. Запах репеллента удерживал маячивших насекомых на самом ничтожном расстоянии, когда ощутимы не только касания, но и трепет легчайших крыльев. Пообвыкший заполярный люд не обращал особого внимания на неизбежное бедствие лета. Кое-кто отмахивался, конечно, всплескивая неразбавленную влагу на донце эмалированной кружки, когда смолкала песня и только угли потрескивали под гитарный раздумчивый перебор. Лоснились от репудина тронутые жаром костра пунцовые лица. Сыпалась прямо в кипящие ведра одуревшая мошкара, и бдительная повариха снимала вместе с пеной черный налет. — Пиршество в самом разгаре! — отметил Мечов, опускаясь возле Гали, ревниво сберегавшей для него место. — Ну-ка, поглядим, что у вас получилось, — ловко взболтнув уполовником, зачерпнул погуще и выплеснул в алюминиевую посудину. — Продегустируй, корреспондент! Пристроившись на расстеленном одеяле, Герман Данилович поставил на колени горячую миску и отмахал от ржаной буханки ноздреватую, дышащую кориандром горбушку. Жирные куски белой рыбы, мелко порубленная картошечка, горошины перца и сваренная в шелухе луковка выглядели необыкновенно привлекательно. А парок обволакивал столь духовитый, что сладкой болью сводило челюсти. — Не разбавляя? — спросил Мечов, протягивая над догоравшим костром кружку. Лосев только кивнул в ответ, впиваясь зубами в слегка зачерствевший хлеб. Вот уже много лет, как он не был так упоительно голоден. Стряхнув в зашипевшие угли лавровый листок, подцепил деревянной ложкой прозрачные рыбьи кости, отвалившиеся от сладкой наперченной мякоти, выпил на полном выдохе и сразу заел опалившую сухость. Вкуса почти не разобрал. Кто-то подсунул ему зеленую черемшу и ключевой воды на запивку, а после откупорили банку с персиковым компотом и все окончательно перемешалось. Зато было чертовски весело и возвратилась бодрящая легкая радость, которая нахлынула на него еще утром, на берегу, а после улетучилась в стычке с Мечовым. Он пел в полный голос вместе со всеми, смеялся почти до слез, рассыпая импровизированные шутки и анекдоты. Словом, пребывал на полном подъеме, какого не ощущал со студенческих лет. Ему восторженно аплодировали и даже выбрали Полярным Нептуном. Люся Огарышева, ставшая Нереидой Ламы, привесила ему бороду и расцеловала в обе щеки. Выпито было в общем немного. Наверное, поэтому никто не спешил уйти от костров. Не чувствуя усталости, затевали до ужаса наивные игры, вроде «Садовника» или «Испорченного телефона», танцевали. Заслонив собой магнитофон и делая вид, что поет, Галя беззвучно аккомпанировала себе на гитаре. В мужской кепке, лихо надвинутой на самую бровь, она выглядела исключительно привлекательно и пользовалась шумным успехом. Но что бы она ни делала, с кем бы ни танцевала, глаза ее всюду искали Мечова. Лосев утратил ощущение времени. Перестав, повинуясь привычке, поминутно смотреть на часы, проникся странным очарованием неподвижности, снизошедшей на окрестные дали. Длился и длился нескончаемый солнечный свет, хоть и распространилось в воздухе тончайшее зеленоватое сияние, от которого гуще очертились геометрически строгие тени, а водное зеркало заволокла лиловая дымка. Чудовищная рефракция перекраивала пространство, и озеро выглядело вогнутым, как чаша с халцедоновым ободком, слипавшимся с низкими облаками. Пребывая в состоянии непреходящей эйфории, Герман Данилович не заметил как остался с Люсей вдвоем. Они вяло болтали о том о сем, замолкая надолго, думая о своем. — Помните, вы обещали погадать мне на картах? — спросил Герман Данилович, разгребая прутиком голубоватый пепел. Выкатив испекшиеся сохранившие жар картофелины, бросил тонкую веточку в дотлевающую россыпь. — Разве? — Люся устремила на него невидящий сосредоточенный на каких-то внутренних переживаниях взгляд, и, будто бы снимая паутину, провела рукой по лицу. — Не помню. Да и не умею, по правде сказать. Просто так, наверное, сболтнула. — Хотите? — предложил он, сдувая с картошки тонкую пудру. — Нет, — передернулась Люся невольной гримасой. После танцев и шумной возни с причащением новичков к гиперборейским водам она никак не могла отдышаться. Под глазами выступили подчеркнутые застывшим светом круги, и темная кровь лихорадочными пятнами вспыхнула на щеках, хоть пламя в костре давно приугасло. Обмахиваясь сложенной вдвое бумажной бородой, еще недавно красовавшейся на Лосеве, она, как рыба, глотала воздух открытым ртом. — Вам нехорошо? — озабоченно нахмурился Герман, разом освобождаясь от разнеженности и расплывчатых, немного сентиментальных воспоминаний. — Кажется… Немного, — точно защищаясь, она прижала руки к груди. — Не надо было мне пить вино. Я так и знала, — и тут же, противореча себе, добавила: — Да и сколько я там выпила? Только так, пригубила. Вода есть? — Хотите родничковой? — Лосев поднял крышку с ведра, в котором еще оставалась кристальная вода из местного источника, считавшегося целебным. — Холодная очень, противная, — пролепетала она, кутаясь в одеяло. — Не обращайте на меня внимания. Это скоро пройдет. У меня уже так было. — Дайте-ка, — он взял ее за руку и уверенно нащупал пульс. — Частит, и, кажется, у вас небольшая температура. Пойдемте, я провожу вас в дом. Выспитесь хорошенько в тепле, а завтра, как рукой снимет. Она попробовала встать, но вынуждена была вновь опуститься на колени. — Погодите немного, пожалуйста… Мне нужно собраться с силами… Что за напасть такая? Ничего не пойму… Извините. — Что вы, Люся, какие могут быть извинения. Может быть, вас отнести? — Нет-нет, ни в коем случае. Сейчас станет легче, я чувствую… Лучше расскажите что-нибудь. — О чем? — О чем хотите. Вы же столько знаете, столько видели… — Не получается, — принужденно рассмеялся Лосев, ничего не надумав. — Так всегда бывает, когда просят рассказать о чем-то вообще, все равно о чем. — Ну хоть про себя. Это каждый может, — она устроилась поудобнее и, опершись на локоть, подвинулась к костру, защищая от наседавших комаров руки. — У вас есть жена? — спросила без особого интереса. — Нет, но была. — А дети? — Дети есть… Мальчик и девочка. — И что за мода пошла такая? — опустив веки, слабо улыбнулась Люся. — Кого ни возьми, все разведенные: Андрей Петрович, вы, моя Галка. Лучше б и не женились вовсе. — И Галя тоже? — В позапрошлом году разошлась со своим летчиком. Уж больно ревнивый оказался. Никакого с ним сладу не было, — она замолчала, прислушиваясь к себе, затем доверчиво протянула Лосеву руки. — Кажется, теперь я смогу дойти, помогите мне, пожалуйста. Ощущая в ладонях влажный холодок Люсиных пальцев, он поднял ее с земли, подхватил одеяла и бережно повел к почерневшему от снегов крылечку. Путаясь в полумгле переходов, где звенело изголодавшееся комарье, нашел незанятую комнатенку с тремя железными кроватями, на которых валялись скатанные матрасы. Тронув ржавую, засверчавшую сетку, расстелил наиболее симпатичный на вид и укутал дрожавшую в ознобе девушку одеялом. Бросив свой плед на другую кровать, задернул полинявшие занавески на запотевшем оконце, с обеих сторон которого клубились черные точки. — Отдыхайте, — сказал, остановившись в кромешном провале двери. — А я, пожалуй, ведерко с водой прихвачу… Возвращаясь с ведром, Лосев случайно уловил торопливый задышливый шепот. — …а комары как же? — спросил мужской, знакомый как будто, голос. — Ну и пусть, — жарко откликнулась женщина. — Теперь навряд ли почувствуем, а после — неважно. «Вечное, как мир, заблуждение, — с тихой улыбкой подумал Герман Данилович, осторожно проследовав мимо. — Великолепная слепота…»
АТОМНЫЙ РЕАКТОР
Канадских гостей оказалось двое: профессор Риво из Квебека и мэр заполярного города Инуика Дин Дональдсон, седой краснолицый здоровяк, напоминавший простодушных шерифов в голливудской интерпретации. Между собой они вначале почти не разговаривали, может быть, потому что Дональдсон изъяснялся только по-английски, а подвижный и юркий Риво, представлявший франкофонную провинцию, из принципа не желал говорить на языке Шекспира. Чтобы соблюсти протокол, свои вопросы он задавал по-французски, но вполне благосклонно выслушивал разъяснения на английском, которые давали Мечов и Логинов. Языковый барьер, таким образом, удавалось успешно обходить, и молоденькая переводчица принимала самое минимальное участие в ученой беседе, смысл которой улавливала с известным усилием. Особенно трудно ей приходилось, когда речь касалась специфических проблем, вроде активационного анализа. Но тут на помощь приходил сам Риво, раздираемый противоречиями между сепаратизмом и профессиональным интересом. Поскольку мэр Инуика разбирался в масс-спектрометрах и реакторах не лучше переводчицы, любопытство радиохимика, как правило, перевешивало чашу весов. Кончилось тем, что Риво, иезуитски улыбаясь, начал переводить сам себе. Дин Дональдсон расхохотался, хлопнул тщедушного профессора по плечу и провозгласил шутливую здравицу в честь британской королевы. Сидя за длинным столом, уставленным неизменными бутылками минералки и хрустальными пепельницами, он курил трубку за трубкой с откровенной симпатией поглядывая на начстройупра Валюжного, столь же заядлого курильщика. Когда закончился предварительный обмен мнениями и оживленная вначале беседа стала медленно угасать, Логинов предложил начать осмотр комбината. — Что бы вам хотелось повидать в первую очередь? — спросил он, предупредительно наклоняясь к профессору. — Безусловно, атомный реактор. — Не возражаете? — Владлен Васильевич перевел взгляд на Дональдсона. — О’кей, — рослый канадец лихо выколотил трубку о каблук, ухитрившись не уронить на пол ни крупинки, и первым направился к двери. — Хотя, видит бог, мне это ни к чему, — бросил он на ходу. Риво выразительно заморгал и тоже поднялся. Кусов, председатель горисполкома и начальник авиагруппы, на которого была возложена обязанность показать гостям дальние объекты, заторопились по своим делам. — Поедешь? — спросил Логинов, пропуская Мечова вперед. — Пожалуй… Этот Риво толковый малый и с ним интересно поговорить… Я только к себе заскочу, кое-куда звякнуть. Войдя в неустроенный, пахнущий свежей побелкой и древесностружечными плитами кабинет, Мечов присел на угол письменного стола. Небрежно придвинул к себе телефон и набрал номер Лосева. — Ты у себя, старик? — спросил, листая перекидной календарь с пометками. — Придется внести некоторые коррективы. — Непредвиденное осложнение? — поинтересовался Лосев. — Канадцы, понимаешь, опять прилетели… Нет, не по поводу овцебыков… Хочу съездить с ними на реактор. Не желаешь присоединиться? — Я уже видел. — Знаю, что видел, а все-таки?.. — Нет, лучше поработаю дома. На буровую-то когда собираешься? — Точно сказать пока не могу. Попробуем созвониться завтра. Лады? — Лады. Едва Мечов опустил трубку, раздался звонок. — Наконец-то! — узнал он томный, с капризными нотками, голос Гали. — А я вам второй день названиваю… Совсем не бываете в кабинете. — Занят, Галочка, занят… Что-нибудь срочное? — Срочное? — она выдержала долгую паузу, — срочного нет ничего. Когда мы увидимся? — спросила быстро и глухо. — Не знаю. Я же заранее предупреждал, что ничего обещать не могу. Простите, Галочка, но я себе не хозяин. — Мне позвонить вам еще? — Конечно, когда хотите… А знаете что? Лучше я сам вас разыщу, когда буду свободен. Опустив трубку, Мечов облегченно вздохнул, снял плащ с вешалки и выбежал из кабинета. Послав секретарше воздушный поцелуй, сбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Успевшие привыкнуть к мальчишеской манере нового замдира сослуживцы, уступая дорогу, жались к стене. Отвечая мимолетной улыбкой на приветствия, он спешил и радовался, погруженный в себя, словно парил в поднебесье. Даже если бы и не ждали его сейчас канадцы и Логинов, он едва ли сумел заставить себя идти помедленнее, как все. Упоение собственной быстротой подымало жизненный тонус, подхлестывало и будило мысль, и порождало неожиданные идеи. Он фантазировал на бегу, не зная преград, перепрыгивал через невозможное. В машине — Мечов сел рядом с шофером — разговор зашел об Инуике. Увидев надземные желобы, Дональдсон обрадовался, как ребенок. — Ей-богу, парень, который додумался проложить водопровод вместе с отоплением, заслуживает золотого памятника! Мы бы просто погибли без такой штуки… Вообще-то один раз мы уже погибали. Да, джентльмены, вполне серьезно. Мы не только поставили крест на собственном городе, но даже заставили себя вычеркнуть из памяти его имя. Хотите узнать, почему? — Разумеется, господин мэр, — вежливо откликнулся Логинов. — Очень интересно, — без особого воодушевления поддержал его Мечов. Оба были превосходно осведомлены насчет печальной эпопеи Инуика. До последнего времени этот город, выросший из пушной фактории, называли Аклавиком. Он стоял на мысу, сложенном из смерзшегося ила и льда, огибаемый стремительным током реки Маккензи. Одинокий, заброшенный, фактически никому кроме местных жителей ненужный, влачил свои дни средь моховых болот и голой тундры, где бесчисленные озера чередовались редкими островками елового леса. В Заполярье есть много городов, которые могли бы позавидовать климату Аклавика. Семь месяцев зимы, малоснежной и не очень суровой, короткое и довольно теплое лето. Можно ли желать большего на такой широте? Отнюдь не морозы и не огромные грязные лужи, затоплявшие улицы и летнюю пору, когда оттаивал грунт и воды искали стока, заставили жителей покинуть насиженные места. Река, подарившая жизнь, размывая сезон за сезоном смерзшимся грунт, положила предел дальнейшему существованию города. Спасти его можно было лишь ценой фантастических затрат, и правительство приняло решение пожертвовать Аклавиком. — Мы были вынуждены переехать на новое место, — объяснил Дональдсон, — примерно в шестидесяти милях от прежнего. Специальная изыскательская партия нашла более подходящую территорию. Как вы догадываетесь, новый участок должен был обеспечить удобную и экономичную планировку. И, главное, хороший грунт, пригодный для прокладки коммуникаций, сооружения фундаментов и так далее. Пришлось разработать сложную систему удаления сточных вод, разыскать залежи песка и гравия, не забыть о переброске грузов с речных судов на морские, по возможности обеспечить себя местным углем, древесиной, гидроэнергией. Кроме того, городу срочно требовался аэродром. Ведь у нас не менее двух месяцев в году ледостав и таяние льда прерывает всякую связь с внешним миром. Суда зажаты льдами и даже собаки не в состоянии преодолеть путь до Инуика… Я знаю, у вас аналогичные проблемы, и мне крайне важно узнать, как вы их разрешаете. — Вы все увидите собственными глазами, господин Дональдсон, — скрывая улыбку, пообещал директор. — Наш мэр ничего от вас не утаит. — Безусловно, у нас с вами аналогичные проблемы, — с непроницаемым лицом поддакнул Мечов. Во избежание международных осложнений, он не решился провести параллель между бывшей пушной факторией, которая и в лучшие годы не насчитывала пяти тысяч жителей, и своим четвертьмиллионным индустриальным центром. Хватит того, что на банкете в честь мэра норвежского города Хаммерфеста, претендовавшего на звание самого северного, он уже пытался однажды доказать, что лишний градус к полюсу еще не делает город городом и, уж если на то пошло, самым северным будет Диксон. Ничего путного из этого не вышло: норвежец остался при своем, но обиделся смертельно. — Как похоже на Инуик! — не уставал поражаться Допальдсои, прильнув к оконцу. — Мы тоже ставим дома на сваи или защищаем грунт шлаком. Превосходная новинка, ребята, должен вам сообщить! И хворост, обычный лесной хворост, очень способствует сохранению верхнего слоя. — Это так же похоже на вашу эскимосскую дыру, — не выдержал темпераментный радиохимик, — как Шартрский собор на вигвам! — он ткнул кулаком в стекло. — И тот и другой остроконечные, понимаете ли… Мы едем на атомный реактор, достопочтенный сэр, на атомный, а вы толкуете про ездовых собак! — Атомы меня не волнуют, — невозмутимо отмел Дональдсон. — Вам они нужны? О’кей! Я не протестую и еду с вами! Пусть вас тоже не трогает мой хлеб. Так будет справедливо. Я рад, однако, что вы, наконец-то, заговорили нормальным человеческим языком. Прошу принять мои поздравления. Джентльмены, полагаю, тоже довольны, — он обернулся к Логинову, сохранившему полную безучастность. Мечов едва удерживался от смеха. Канадцы ему понравились оба. Впрочем, и тот норвежец, говоря по правде, оказался неплохим парнем. Хоть и не преминул всучить на прощание проспект, где крупными буквами значилось на трех языках: «Хаммерфест — самый северный город в мире». Реакторный зал с окнами от пола до потолка и бесшумной автоматикой поразил флегматичного старину Дина в самое сердце. — Вот это отгрохали, должен сказать! — восхищенно поцокал он языком и, проявив практическую сметку, осведомился. — На сваях? На шлакобетонной подушке? — Скальный грунт, — ответил директор. — Если бы под Инуиком была такая скала, я бы построил плавательный бассейн, — с этими словами он грузно опустился в операторское кресло и остался там почти до конца экскурсии. Но когда, по просьбе Мечова, включили тельфер и инженер в белом халате показал, как осуществляется замена твэлов, Дональдсон подобрался поближе. Привалившись бедром к ажурному ограждению реактора, с нескрываемым любопытством осмотрел толстостенный контейнер с пробой, аварийную сигнализацию, боксы и даже примерил на себя антирадиационный скафандр. Оборудованная по последнему слову технической эстетики, лаборатория произвела на него ошеломляющее впечатление. Мигающие глазки регистрирующих блоков, алюминиевые цилиндры, которые выбрасывала безотказная пневмопочта, и окрашенные в яркие тона обтекаемые поверхности фантастических непонятных устройств совершенно заворожили простодушного канадца. Не зная, на каком свете находится, он как-то сразу сник от избытка впечатлений и заскучал. Ни боксы с манипуляторами, свободно орудующими шприцем и ампулами тончайшего стекла, ни ЭВМ, которая сама печатала на большой каретке результаты вычислений и даже чертила графики, уже не могли его поразить. Но и Риво, вопреки ожиданию Мечова, откровенно гордившегося оснащением своей любимой лаборатории, не выказал особого удивления перед техническими новинками. Для него они явились лишь необходимыми аксессуарами, не больше. Видимо, у себя в Канаде или в США, где работал по совместительству, он видел и не такие машины. Зато прикладные результаты, которые выдавал самый северный (тут уж без спора) промышленный реактор в мире, его занимали до крайности. Вежливо выслушав все пояснения Мечова и потрогав руками все, что ему было предложено, он сорвал с каретки разграфленный бланк с длинными столбцами чисел и на обратной стороне нарисовал огромный вопросительный знак. — Я понял, мосье, что у вас активационный анализ стал индустриальным методом исследования, — ухватил он самую суть. — Это главное. Остальное — ясно. Как загружаются и облучаются пробы, как по спектру излучения ваша ЭВМ определяет редкие элементы, я знаю, а мощность и время облучения — детали. Скажите мне лучше, сколько металлов вы определяете? — Семь, — с некоторой неохотой ответил Мечов, ибо самое важное приберегал для эффектного финала. — В любой породе? — В любой. — Это колоссально! Примите мое восхищение. — Производительность раза в три-четыре выше, чем при обычных методах анализа. — Само собой разумеется, — кивнул Риво, — если вы повысите мощность реактора до ста киловатт, она возрастет еще больше. Повысится чувствительность, сократится время облучения. — Мы так и хотим. Причем надеемся достигнуть большей мощности без особых капитальных затрат. Все же у себя делается, на комбинате. — Во сколько обходится одна проба? — Сто четырнадцать рублей. Но это сегодня, завтра мы надеемся снизить до сорока. — Примерно сто пятьдесят долларов? Невероятно! Почему так фантастически дешево, мосье Мечов? — У нас вообще жизнь дешевая, — пошутил Андрей. — Пробы, меха, бананы. Зато женские колготки ни за какие деньги не купишь или, там, сапоги… У пульта ЭВМ, возле застекленных шкафов, где вращались залитые люминесцентным светом бобины с перфорированной лептой, закончилась, к обоюдному удовлетворению, научная часть программы. Ровно в четырнадцать часов, как условились, приехал предисполкома и увез гостей в профилакторий «Валек», где вызревали под искусственным солнцем лимоны.— Пообедаем у нас? — предложил Логинов, открывая дверцу машины. — Дел невпроворот, Владлен Васильевич. Перекушу где-нибудь накоротке. — Поедем, потолковать нужно. Однако ни по дороге, ни за обедом, которым потчевала домовитая Вера Петровна, Логинов разговора не начинал. Со смаком хлебая щи из глубокой тарелки, расписанной синим кобальтом в английском кантри-стиле, даже намеком не обмолвился, о чем собирался поговорить. Мечов догадывался, что это неспроста. Домашний обед в элегантно обставленной, но немного казенной гостиной, где висели ковры машинной работы и поблескивал чешский хрусталь, был, очевидно, задуман, как прелюдия. Директор обычно редко обедал дома и вообще умел ценить время: чужое и, в первую очередь, собственное. Но всему было видно, что он не знает, как подобраться, с чего начать. «Хорошо, хоть апельсиновой настойки не предложил, — подумал Мечов, следя за тем, как Владлен Васильевич катал хлебные шарики. — Значит, не очень надолго, значит, и сам собирается вернуться на комбинат». Нельзя сказать, чтобы он не ждал этого обещавшего быть не столь уж легким разговора. Еще как ждал! И в тайне готовился. Не знал, единственно, откуда подует ветер. То ли о строителях сперва речь пойдет, то ли Логинов ударит прямо по наметкам плана. Для десерта Вера Петровна накрыла столик в эркере, где в зеленых кадках стояли фикусы и китайские розы. Гостю, чей вкус успела узнать, предложила крепко заваренный индийский чай, мужу подала пиалу с зеленым среднеазиатским, лучшего номера девяносто пять. Поставила кекс, лапочку с вареньем, тонко нарезанный лимон и ушла. — Повод нашего тет-а-тет, в сущности, пустячный, — начал с места в карьер Логинов. — Но, как говорится, в капле воды отражается мир. Одним словом, на тебя поступило письмо. — Не первое и не последнее. — В горком. — Скромный, очевидно, товарищ, Чаще в Москву пишут. — Письмо передали мне, — продолжал директор, стараясь не обращать внимания на привычные комментарии Мечова. — Поручено разобраться? — Нет. Просто передали и все. Для сведения. — И тебя это так взволновало? — Андрей поспешил выразить крайнее удивление. — Ты знаешь, взволновало. Как ни странно. — Почему? О чем хоть письмо? — Как я уже сказал, в капле отражается мир, — Логинов отодвинул недопитую пиалу. — А письмо — о волках. — О волках?! — Мечов даже привстал от неожиданности. — О каких еще волках? Вот не было печали на мою голову! — Ты отдал распоряжение прекратить отстрел полярных волков? — Распоряжение? Да у меня и прав таких нет… Просто в беседе с товарищами я посоветовал временно приостановить… Вот и все. — Почему? На каком основании? — Во-первых, мне отвратительна эта бойня с вертолетов, во-вторых, без волков страдают олени. — Ах, олени! — передразнил Логинов. — Скажите, пожалуйста. — Волки играют в природе роль санитаров, — эрудированно объяснил Мечов. — Уничтожая слабые или больные особи, они способствуют росту популяции. Спроси хоть канадца этого, Дина… В прошлом году канадское правительство специально завезло в тундру шестьсот волков. — Следишь, вижу, за литературой. — А что? Слежу. — Тогда, может, ответишь мне, почему вместо того, чтоб оздоровлять, — произнес по складам Логинов, — дикие стада, спасенные тобой волки начали вовсю резать домашний скот? — В самом деле? — Я тебя очень серьезно прошу, Андрей Петрович, — доверительно снизил тон Логинов. — Не лезь не в свое дело. У тебя и своих трабло[3] до сих, — показал он себе на горло. — Не подменяй существующие органы, к которым ты не имеешь никакого отношения. — Не помню, чтобы подписывал подобный приказ. — Этого еще не хватало! Пойми, что даже слово твое может многое значить для людей. И не потому, что ты такой умный. Совсем не потому. Оно опирается на авторитет должности. Тебе дана власть, большая власть, но, тем не менее, с очень четко обозначенными границами. — Я либо с самого начала плохо тебя понял, Владлен Васильевич, либо ты проявляешь, прости, непоследовательность. Ты говорил мне об экологии? — Говорил. — Принял мою программу? — Принял… В общих чертах. — В общих! А конкретно, как только дело дошло до волков, идешь на попятный? Но ведь волки — это случайность. Почему не песцы? Не собаки? — Постарайся меня понять, Андрей Петрович. Комбинат стоит на пороге новой невиданной реконструкции, нового взлета. За это целиком несем ответственность мы с тобой. В более узком смысле — ты. Тебе, в частности, поручена разработка плана перспективного развития. С учетом, как требует от нас законодательство, экологической стабильности. Короче говоря, в своих планах мы должны исходить из того, что окружающая среда не должна нести урона от хозяйственной деятельности. Так? — В идеале, который недостижим, так. — Вот и превосходно. Впредь прошу тебя не выходить в своих действиях за указанные рамки… О том, полезны волки для человечества или вредны, ведут дискуссии специалисты. Если желаешь, можешь и ты высказать свое мнение в печати. Мнение свое личное, а не замдиректора комбината Мечова. Договорились? — Это все? — Пока все. — По плану у тебя вопросов нет? — Есть, как ни странно, и много. Но это особь статья. — Можно подумать, что история с волками выпела тебя из равновесия, — приободрился Мечов. — Тоже мне горе! Я так уверен, что волки и для домашнего поголовья полезны. На больного оленя у них око наметано. А пастухам я бы посоветовал стеречь получше, вот что… Извини, но мне не нравится, когда из мухи делают слона. Капля, мир… К чему все это? — К тому, Андрей Петрович, что из всех человеческих испытаний самое беспощадное это испытание властью. Между нами скажу, что выдерживают его очень и очень немногие. Мне хочется, чтобы ты оказался в их числе. Говорю это, как друг. Попробуй заглянуть в себя, пересмотри систему устоявшихся ценностей. — Последнее время, Владлен Васильевич, меня только и делают, что учат. — Может, недаром? К двадцатому мне нужен не только технически обусловленный документ, но и человек, способный провести его в жизнь, — Логинов выплеснул остывший чай в фикус и первым поднялся из-за стола. — Ты на работу сейчас? — Куда же еще? — Тогда поехали, хватит лясы точить. — Кусов на пенсию не собирается? — с невинным видом поинтересовался Мечов, надевая в прихожей плащ. — Пусть тебя это не волнует, — замкнувшись в лице, отрезал Логинов. — Когда пойдет, тогда пойдет. Он человек заслуженный и много претерпевший. Оставь его в покое, по-дружески прошу. — Я? Его?! — Андрей изумленно раскрыл глаза. — Меня бы кто в покое оставил. — Нечего казанской сиротой прикидываться. Не лучше ль, как сказано в бессмертной басне, на себя, кума, оборотиться? С цемзаводом ты сам виноват, подставился. — Отдаешь на съедение? — Напоминаю, что нужно советоваться, предварительно. Особенно, когда дело касается крупных объектов. — Значит, берешь сторону Валюжного? — В этом вопросе, безусловно. — Кусов уже знает твое мнение? — Пока нет… Кстати, Андрей Петрович, дать себя переубедить отнюдь не значит потерять лицо. Напротив. Советую использовать шанс и наладить с Кусовым отношения. Нам всем еще долго, надеюсь, придется работать вместе, — Логинов отомкнул замок и крикнул жене. — Уходим, Веруша, скоро не жди.
БУРОВАЯ
Июля двадцать пятого дня, как и положено по календарю, солнце впервые нырнуло за горизонт. С белоночьем в тундру, где на озерах так и не стаял до конца лед, пришла осень. Взыграл своенравный восточный ветер, раздувая жар, обметавших небосклон закатных перьев, дохнул холодком дальних кочевий. И враз поредели комариные тучи. Затрепетали жалко неброские смолевки и поздние лютики. Утки-морянки, гагары и прочие транзитные водоплавающие встретили первую зорю протяжным кличем. А после время, словно под уклон, покатилось. Белые мухи по утрам замелькали. Напитались жидкой синькой блеклые сумерки. Вертолет, на котором Мечов с Лосевым вылетели из Мессояхи, шел на одной линии с солнцем, насквозь пронзавшим незащищенные светофильтрами прямоугольнички окон. Даже здесь, в золотой высоте, оно выглядело багровым, как на закате. «МИ-8» опускался прямо в ночь, точнее, в полуночную сыворотку, когда зелень кажется серой и, как степные курганы, неясно темнеют усеченные сопки мерзлотных бугров. Вызванный по радио вездеход уже помигивал противотуманными фарами. Раздутые баллоны повышенной проходимости и округлый фургон делали его похожим на дирижабль. Под колесами блестела грязь, а в воздухе плавал мелкий сухой песок, взбаламученный затихающими винтами. В распахнутую дверцу просочилась сырая прохлада. Неуемная птица пеночка печально попискивала где-то в подножном березнячке. С ближайшей буровой доносился приглушенный визг вращающегося ротора. Невидимая вышка была помечена сигнальным огнем на крон-блочной площадке. Дальней незнакомой звездочкой прокалывал темноту тонкий заостренный рефракцией лучик. От места посадки до буровой вертолет мог доставить за несколько минут, но Мечов, хоть ночь застала в пути, пожелал покрыть последние километры на машине. Хотелось своими глазами увидеть, как легла в мерзлотный грунт третья нитка газопровода. Строительство станции для охлаждения нагретого до пятидесяти градусов газа решили осмотреть на следующий день. Собственно, только за этим Мечов и прилетел в Междуречье. Сама по себе Восьмая буровая ничем особенным его не привлекала. Ни трудовыми достижениями, ни по части удобств не выделялась она среди прочих вышек, разбросанных по мессояхским болотам. Те же вагончики с телеантенной, рация для связи с базой, добавочный комплект труб под навесом и цистерна с аварийным запасом горючего. На случай плохой погоды, когда вертолет не сможет своевременно доставить ни бочки с соляркой, ни сменную бригаду. Одним словом, совсем не обязательно было ночевать именно на Восьмой. В любом стандартном балке из сборного дюраля всегда отыщется свободная койка для бродячего человека. Остановив свой выбор на самой далекой буровой, Мечов исходил из того, что оттуда было рукой подать до стройплощадки. Чтобы не тратить попусту драгоценное время, он надумал сделать небольшой крюк и пройти вдоль трубы. Засыпку можно было превосходно разглядеть и в сумерках. Зато весь следующий день высвобождался для Евражкина Кута, где взрывники заложили под холодильную станцию котлован. Намеченный маршрут сулил выгоду чуть ли не в целые сутки, и Лосев его горячо одобрил. В желтом пронзительном свете свежая полоса грунта над трубами показалась ему почти черной. Вывороченный гусеницами вязкий суглинок сохранил рельефные траковые отпечатки, в которых сумрачно поблескивала вода. — Остановите, — Мечов тронул водителя за плечо и приглашающе кивнул Герману. — Хочешь размять кости? Они спрыгнули на волглую пружинящую под ногой землю. — Метров тридцать, — прикинул на глаз Андрей ширину коридора. — Еще куда ни шло… — Это и есть прогресс, который вы несете? — недоверчиво хмыкнул Лосев. — Ничего себе, впечатляет… Сколько лет понадобится, чтобы все опять заросло? — Десять. А то и двенадцать… Ягельники трудно восстанавливаются. — А деревья? — Еще дольше. Холод, мрак… Растут медленно. Деревце толщиной в палец вытянется лет за пятнадцать. Не нравится? — Почему? Не так уж и плохо. Пусть через двадцать лет, но все-таки сюда вернется нормальная жизнь. И зверь будет бродить, не ведая препонов… — Чтобы вырастить более-менее приличный лес, нужно лет семьдесят, не меньше. Работаем, можно сказать, на правнуков. — Уверен, что им леса будут нужнее нашего. Сей спокойно, дорогой товарищ, разумное, доброе, вечное. — Я-то тут при чем? Траншею проложили еще в прошлый сезон, когда я ни сном ни духом не ведал, что Логинов имеет на меня виды. И вообще, насколько мне известно, газовщики меньше всего руководствовались экологическими соображениями. На данном этапе такой вариант надежнее. Вот и весь сказ. — Но тебя он устраивает и чисто экологически? — Опять же на данном этапе… Так уж сложилось, что темпы освоения Заполярья существенно опережали уровень знаний. О природе вообще и Севера в частности. Отсюда и постоянные огрехи и одновременно неуклонное стремление к совершенствованию. Я понимаю, что метод проб и ошибок — не самое лучшее, но так было.Теперь, надеюсь, все пойдет иначе. Как-никак пытаемся решать задачи в комплексе. — Освоение нового региона становится по-настоящему комплексным, — Лосев поднял и растер пальцами затвердевший кусочек грунта. — Когда все планируется заранее, в том числе и неизбежные издержки, — он решительно сдул пепел. — Полностью защитить природу от вмешательства человека нельзя. Никакие законы тут не помогут. Не обольщайся поэтому и насчет комплексного подхода. — Не только нельзя, но и не нужно. Иначе придется прекратить всякую деятельность, что изначально абсурдно… Мы вынуждены вмешиваться в экологическое равновесие. Более того, расширять с каждым годом масштабы вмешательства. На это следует смотреть открытыми глазами. Человечество не только не может позволить себе повернуть вспять, но и малейшая остановка чревата для него самыми непредвиденными осложнениями. — Кто спорит? — согласился Лосев, прислушиваясь к напеву пуночки. — Кто спорит? — нетерпеливо переспросил Мечов. — Если хочешь знать, я. Учитывать интересы природы мы обязаны? И, когда это жизненно необходимо, вносить коррективы? — Так и надо говорить. По-деловому, с полным осознанием ответственности и, главное, честно. Нельзя же, на самом деле, всю землю превратить в заповедник? Какой, к чертям собачьим, может быть заповедник? Хотя бы здесь? — Герман кивнул на искореженную землю. — Оттого и встречают с недоверием иные предложения, что от них, несмотря на безупречность технических выкладок, попахивает липой. Выгодно зарывать трубы? Делай. — Но зачем обещать, что через сто лет тут будет рай? Не будет. — Если не жалеть средств — будет, — уверенно заявил Мечов. — К сожалению, закрытый вариант много дороже. Хотя, в конечном счете, окупится с лихвой. Нужны сложные анкерные крепления, чтобы удерживать трубы в земле. Газ опять же придется охлаждать, иначе поплывет мерзлота. Технологически мы вполне созрели для грамотной эксплуатации природных богатств. Но нужны принципиально иные решения. Научно-техническая революция — это, прежде всего, революция. Делать по старинке, но на базе новой техники, куда как удобно. Успевай премиальные подсчитывать. Любо-дорого. — Строители сопротивляются, что ли? — попал в точку Лосев. — А то нет?.. Все инстанции письмами засыпали. Логинов, бедняга, даже поседел преждевременно, — Мечов в сердцах поддел пустую консервную банку, с грохотом шмякнувшуюся о вывороченное корневище. — Он не рассказывал тебе про китобоя? — Про китобоя? — удивился Герман Данилович. — Нет. — Поучительная история… Один наш рационализатор, понимаешь, в недалеком прошлом китобой, предложил использовать гарпунные пушки для крепления труб. — То есть? — Очень просто. Нацелил вертикально вниз и выстрелил. Анкера трубу намертво схватывают… Идея в стиле века. С сумасшедшинкой. — Легко представить себе, как ее встретили… — И не говори! Но китобой упорный попался. Пробился со своим рацпредложением к самому. А у Владлена Васильевича нюх на новое — будь здоров! Он сразу и командировал парня в Мурманск за пушками. Что тут началось, Гера, — Мечов даже за голову схватился, — уму непостижимо. Но ничего, выдержали, гнем, как видишь, свою линию. — Какие существуют нормативы на закрытый вариант и какие на надземный? — Как всегда, смотришь в корень. Строители смирились только после того, как Логинов утряс вопрос с планирующими организациями. — С этого и следовало начинать, — наставительно заметил Лосев. — Кто задним умом не крепок? По крайней мере теперь мы хоть знаем, что и как следует менять. Владлен Васильевич собирается на будущей неделе в Москву. Хочет провентилировать в министерстве, Госплане. Для того он и взял меня, чтобы высвободить руки. Будем надеяться… По бревенчатому полузатопленному подсыхающей жижей настилу они свернули к кустарнику, над которым воспаленно светилось неподвижное небо. Четкими силуэтами вырисовывались оставленные на ночь трелевочные тракторы. — Обидно, что многое мы могли бы сделать и сами, не дожидаясь благословения центра, — продолжал Мечов. — Взять хоть эти лежневки, — он указал на бревна, которые медленно, но верно засасывала подтаявшая мерзлота. — На первом этапе без них, видимо, обойтись было нельзя. Не спорю. Но теперь?.. Вместо бесконечных лесоповалов можно сразу прокладывать современные дороги. Бетонки. В перспективе выйдет намного дешевле. И для природы не так губительно. Я уж не говорю о том, что перебрасывать технику с участка на участок будет значительно проще. — И что же мешает? — Разъединенность усилий. Газовики тянут в одну сторону, дорожники — в другую, строители — еще куда-то. Как в басне дедушки Крылова. А у лесного ведомства вообще интересы специфические. Стараются выбрать меньшее из зол. Вот и танцуй, как можешь. Казалось бы, у нас, в Заполярном, все в одном кулаке, ан не тут-то было. С огромным трудом добиваемся согласованности… — Опять все упирается в управление. — Опять, — Мечов устало зевнул и посмотрел на часы. — Чертовски спать хочется. Мочи нет… Поехали, что ли? — Хозяин-барин, как скажешь. — Поехали… Раньше двенадцати завтра не встану. Должен я компенсировать недосып или нет? — Должен, — заверил Лосев, — но не за один раз. У вездехода дожидался бородатый парень в штормовке и высоких резиновых сапогах. К его патронташному поясу были привешены на ремешках стреляные птицы. Слегка опираясь на двустволку, он жадно курил сигарету. — Ну и трофей у вас, — протянул Мечов, вперясь взором в бессильно свисавшие головки, оперенные нежным каштановым пухом. — Четыре штуки, — небрежно заметил охотник. — Можно было больше набить, но зачем? — докурив до самого фильтра, он щелчком отправил окурок в колдобину. — Не подбросите на Восьмую? — Вы с буровой? — спросил Мечов, тронув перепончатую черную лапку. — Из геологического отряда, нефть у вас ищем. Переночую в балке, а утром к своим подамся. Побалую ребят свежей убоинкой. Тушонка поперек горла стоит. — Вы хоть знаете, что настреляли? — Вроде гусей, — неловко улыбнулся геолог. — Помельче только… А что, несъедобные? — шутливо встревожился он. — Это краснозобая казарка, — отчеканил Мечов. — Она внесена в международную Красную книгу исчезающей фауны. Прежде чем брать в руки оружие, вы были обязаны ознакомиться со всеми запретами и ограничениями. — Но я же не знал… — Это не извиняет, — решительно пресек оправдания Андрей Петрович. — Давайте сюда птицу, — он требовательно выставил раскрытую руку. — Почему? — Давайте, давайте… — Вы что, охотинспектор? — Неважно. — Но вы превышаете власть! — геолог сердито прислонил ружье к колесу и принялся отвязывать от колечек окровавленные слегка тушки. — Все! — бросив наземь последнюю казарку, вытер руки о голенища. — До Восьмой как-нибудь и без вас дотопаю. На своих двоих. — Зачем? — холодно остановил его Мечов. — У меня нет намерения бросить вас в тундре. Сейчас поедем. Отлей немного солярки, — обратился он к водителю. — Идиотизм! — негодуя, развел руками геолог, когда понял намерения владельца вездехода. — Чистой воды идиотизм. Можно подумать, что вы верите в огненное воскрешение. — Не верю, — отрезал Мечов, чиркнув спичкой. — Птиц, к сожалению, не воскресить, но оставить их вам было бы аморально. Ведь так? — обернулся он к Лосеву, ища подтверждения. — Не знаю, — медленно покачал головой Герман Данилович, отворачиваясь от неистового жаркого языка, с треском и копотью слизавшего перья. — Возможно. — Теперь поехали, — спокойно сказал Мечов, гостеприимно распахивая дверцу. — Между прочим, — заметил он, когда машина свернула с лежневки и, слегка приминая кустарник, двинулась по целине, — краснозобые казарки гнездятся под защитой хищных птиц: сапсанов, канюков, белых сов. По странному капризу природы те охраняют своих беззащитных соседей от песцов и поморников… Информация к размышлению, — заключил после короткой паузы. — Идите со своей информацией, знаете куда?.. — вяло огрызнулся геолог. — Дерзить вовсе необязательно, — одернул его Лосев. — После столь героических деяний в особенности. Плоская с виду тундра, где подобно маякам возвышались редкие сопки, увенчанные причудливыми останцами, обернулась сущим наказанием. Переваливая через ямы и мочажины, машина крутилась волчком, только вверх дном не переворачивалась. Сидеть приходилось, сжав зубы, намертво ухватив поручни и упираясь ногами. Разговаривать и то было рискованно, так трясло и бросало из стороны в сторону. К счастью, водитель вскоре выбрался на проторенную дорогу, и впереди замерцали огни буровой. В белой, зеленоватой точнее, ночи они казались крестами, заключенными в световые круги. Мертвым инеем серебрилась плоская, словно прорезанная по хрусталю конструкция фермы. Мечов еще издали понял, что на буровой не все благополучно. Несмотря на поздний час, возле освещенных вагончиков суетился народ. Три темные фигурки неподвижно маячили у таль-блока. — Что случилось? — высунулся он, стараясь перекричать надсадный вой лебедки, когда вездеход выбрался на расчищенную площадку. — В чем дело?! Ответа так и не дождался. То ли не расслышали, то ли было не до него. — Обожди здесь, — кивнул он Лосеву и побежал к вагончикам. — По всему видать, инструмент у них прихватило, — определил геолог. — Солярку закачивать надо, иначе нипочем не выдрать. Только скважину запорят. — Солярку? — заинтересовался корреспондент. — В пласт? — Какой, к черту, пласт? — выругался геолог, но, видимо, поняв, что имеет дело с человеком несведущим, снизошел до объяснения. — Глинистые сальники в трубах образовались. Понятно? Обыкновенная вещь. — Допустим, — предпочел не уточнять Герман Данилович, с любопытством озирая фургоны электростанции и яму с раствором, над которой стлался гонимый ветром выхлопной газ. Мастера буровой Мечов застал у радиотелефона. Задержавшись в тамбуре, слушал, пока не надоело, как тот бабьим голосом пререкался с базой, требуя вертолет. Затем вошел, ногой пододвинул табурет и сел, иронически окинув взглядом огненно-рыжего щуплого человечка с печальными всезнающими глазами. Из-под ног шмыгнула, хищно прижав обмороженные уши, тощая дымчатая кошка и спряталась за этажерку, забитую технической литературой. — Прихватило? — спросил Андрей Петрович, сняв с подоконника раковину морского гребешка, служившую пепельницей, и коробок спичек. — Прихватило, — опустив трубку, кивнул начальник буровой и выплюнул изжеванную папиросу, которую, видимо, забыл прикурить. — Вы Мечов? — Так точно… А вы, стало быть, Прохор Леонтьевич Крот? — Дадите вездеход слетать на соседнюю буровую? У меня горючего часов на семь осталось, не более. Все в скважину ушло, будь она трижды неладна. — Семь часов — тоже время, Прохор Леонтьевич. Давайте сперва разберемся, как и почему вы оказались в столь критическом положении. Где ваш аварийный запас? — Соседу отдал на прошлой неделе. Перебои у них были со снабжением, — бесстрастно ответил Крот, вновь прижимая к уху оглохшую трубку. — Почему не возобновили с тех пор? — Так вертолет теперь только раз в день прилетает. Солярки хватает ровно на одни сутки. Не могу же я остановить дизеля? Вы, говорят, такой порядок установили? Ради экономии, хотелось бы знать, или, так сказать, НОТ в действии? — Так сказать, — расщепив спичку на зубочистку, ответил Мечов. — Не надо было соседей выручать, раз они у вас такие бессовестные, что не возвращают долгов. — Подумаешь, четыреста литров! Стоит ли машину гонять? — Однако вы просите у меня вездеход. Значит, нужны они вам, эти четыреста литров? Начальник буровой потупился и ничего не ответил. — Остается лишь пожалеть, что вы так легкомысленно распорядились аварийным запасом… Почему перестали закачивать? — Так экономим, говорю, на семь часов осталось. Дежурного вертолета и то не допросишься. — Распорядитесь возобновить перекачку. У меня есть с собой литров двести, а там что-нибудь придумаем. — Вот спасибо! — Крот благодарно заморгал и даже сделал попытку раскланяться. — Выручили, — он отключил питание, но трубку почему-то не положил. — К сожалению, — уточнил Мечов. — Следовало бы вас проучить, но скважину жалко, себе дороже. — Вот именно, — махнул рукой начальник буровой. — Мне тоже лишь бы инструмент высвободить, а к выговорам я привык. Даже скучно без них, — бросив трубку, он выскочил на крыльцо и заорал, срываясь на визг. — Давай! Качай еще, сколько надо. — Минорное у вас настроение. Что так? — спросил Мечов, когда хозяин, отряхнув по привычке обувь веничком, вернулся в помещение. — Трудно работать стало производственнику, товарищ Мечов, вот что. Загоняете вы нас в самый что есть угол. Я пятнадцать лет комаров кормлю, и то выть начал. — Нельзя ли конкретнее? Какие у вас претензии? — Вот она мне где, ваша экономия, — Крот чиркнул по горлу ребром ладони. — Каждый раз приходится дрожать, что не хватит. Солярку вы бережете, не спорю, а нервы человеческие? — Для чего же нервничать, товарищ Крот? Право слово! Разве были случаи, когда вас оставили без горючего? Или ваших соседей? Так зачем, спрашивается, нервы трепать? Вы же знаете, что на самую крайность имеется «Т-100» с цистерной. Что же касается экономии, то на это у нас есть особые основания. Солярку, как известно, получаем морским путем. Лично я вполне доволен, что только за прошлый месяц удалось сберечь одиннадцать тысяч тони. Одиннадцать тысяч, Прохор Леонтьевич! И без всякого ущерба для производства, позвольте вам заметить. Пронзительный вой за стопой вагончика достиг самой высокой, продирающей до костей поты и оборвался внезапно, сменившись мерным рокочущим скрежетом. — Все. Отпустила, проклятая, — Крот перевел дух и мелко перекрестился. — Одна забота осталась: лишь бы горючее к утру подвезли. — А что там у них случилось на базе? Где вертолет? — Вот вы и узнавайте, а я — пас. Не докричишься. — Ну, если вы, Прохор Леонтьевич, заговорили карточными терминами, то и я позволю себе заметить, что у вас перебор, — усмехнулся Мечов. — Явный! Посему попрошу связаться с базой и выяснить насчет горючего. Это входит в ваши обязанности. — Да ладно вам, — страдальчески поморщился Крот. — Не сердитесь на меня, дурака. Переволновался очень… Нет у них сейчас вертолета, и дело с концом. Срочно в Ары-Мас перебросили, докторов каких-то вытаскивать, что ли… — В Ары-Мас?! Докторов? — Мечов метнулся к рации и схватил трубку. — Но у них же своя машина имеется, собственная? — В том-то и дело, что каюк ей пришел. Летчик, я слышал по радио, не заметил скрытую наледь и опустился чуть ли не в самый кратер. Ну, лед и рванул, как положено, и грунтовая вода соответственно. Шасси-лыжу оторвало, и винт погнулся. — Кто-нибудь пострадал? — процедил Мечов сквозь зубы и, сдерживая усилием воли дрожь, включил радию. — «Северное сияние»? — вызвал он Мессояху. — У микрофона замдиректора комбината. Прием. — Чего не знаю, того не знаю, — прошептал Прохор Леонтьевич, наливая бледному, как стена, Андрею стакан воды. — «Северное сияние» слушает, Андрей Петрович, — обозначился в шорохе помех женский голос. — Откуда вы говорите? Прием. — С Восьмой, — Мечов привычно передвинул рычаг передачи. — Что там у медиков в Ары-Масе? — Прорвало погребенную наледь. Летчик, по всей вероятности, проглядел. — За каким чертом их туда понесло? — Не знаю… Может быть, на экскурсию? — Пострадавшие есть? — Сам летчик и еще кто-то из медперсонала получил травму средней тяжести. — Откуда вы знаете, что средней тяжести? — раздраженно спросил Мечов. — Они сами так сообщили, — в голосе женщины промелькнула удивленная нотка. — А в чем дело? — Вертолет послали? — Конечно. Часа через два будет на месте. — А мой где? — Ждет ваших указаний. — Ждет? — нервно и коротко рассмеялся Мечов. — Это хорошо, что ждет… Вы меня слышите? Прием. — Слышу прекрасно, Андрей Петрович. — Скажите пилоту, чтоб захватил, сколько надо, солярки и сразу ко мне, на Восьмую буровую. Если поступят сведения от медиков, прошу немедленно связаться со мной. У тебя найдутся три свободные койки, Прохор Леонтьич? — не глядя выключив передатчик, обернулся Мечов. — Что за вопрос? Сколько надо, столько и дам. — Тогда, будь добр, размести товарищей, а я пока тут у тебя подежурю… — Мечов кивнул на радиотелефон и неожиданно для самого себя тихо добавил: — Жена у меня там, Леонтьич, на Ары-Масе этом. Я мигом обернусь. Только не говори никому, ради бога. Скажи, что заснул в балке и все тут. С дороги умаялся… Видеть никого не хочется. Понял? Прохор Леонтьич заморгал воспаленными веками и тихонько спросил: — Туда полетите? — А ты как думал? — отвернулся Мечов.ДИСПАНСЕР
Как всегда по утрам Люся включила электрическую кофеварку и встала под душ. Но едва упругие струи, хлестнув по занавеске из голубого веселого пластика, щекочущим холодком ожгли кожу, возвратилось непонятное изнеможение, которое все чаще охватывало ее под вечер. Угадав приближение озноба, Люся поспешила завинтить краны и насухо вытерлась махровым полотенцем. Стащив резиновую шапочку, смахнула туманный налет с зеркала и поднесла к голове упругую щетку с резиновыми пупырышками. Но даже причесываться стало теперь неприятно. Прикосновение к волосам пробуждало неясную ломоту, прячущуюся где-то глубоко в лобных пазухах. Только чашка горячего крепкого кофе, наполнившего крохотную кухоньку вкусным бодрящим ароматом, помогла избавиться от ощущения притаившейся в теле неотвратимой беды. Прогнав скверные мысли, она подкрасила губы и, запахнув поплотнее стеганый халатик, сбежала за почтой. В жестяном покореженном ящике, однажды подожженном мальчишками, лежала газета и сложенный вдвое журнал «Знание — сила». Из него и выпала, спланировав полукругом к ногам, белая открытка с лиловым штампом легочного диспансера. Горячий жар прихлынул к щекам, и на какое-то мгновенно тоскливо сжалось сердце. Само по себе приглашение посетить диспансер — следовали дни и часы приема врача — еще ни о чем не говорило. Люся даже не успела сопоставить это с флюорографическим обследованием, которое вместе со всеми работниками «Комсомольского» прошла в феврале и о котором сразу же позабыла. Медленно переставляя отяжелевшие ноги, поднялась по ступенькам. Преодолев первый натиск неосознанного до конца и потому всколыхнувшего столь глубоко страха, механически раскрыла газету. В глаза бросился крупно набранный заголовок «Как управлять комбинатом» и знакомое имя под большой, в четыре колонки, статьей. Чтобы хоть как-то отвлечься, сразу принялась читать. Сперва стоя посреди комнаты, лишь пробежала глазами, зачем прилегла на диванчик и, как когда-то в школе, начала водить пальцем по строчкам. Не потому, разумеется, что была целиком захвачена содержанием. В статье щедро перечислялись фамилии, и потому хотелось поскорее узнать, что написано про Мечова, Вагнера или Логинова. Незаметно для себя она увлеклась и, дойдя до авторской подписи, тоже отнюдь небезразличной, взялась перечитывать заново. Испытав щекочущий прилив гордости, позабыла на время тревогу. Может быть, впервые она столь отчетливо осознала собственную причастность к делам воистину государственного значения. Затронутые в статье проблемы отнюдь не явились для нее открытием. Она не раз присутствовала на производственных совещаниях, где на различных уровнях и с разных сторон обсуждался примерно один и тот же круг тем. Еще больше, наверное, узнала из бесед, которые вели в ее присутствии наезжавшие к Вагнеру специалисты. И тем не менее, основные положения статьи воспринимались как откровение. Было ли это специфическим секретом журналистского мастерства или неосознанно сказывалась магия печатных строк, подкрепленная высоким авторитетом центрального органа, Люся разобраться не пыталась. Тем более, что личная, в некотором роде, причастность к творческому процессу приятно ласкала ее самолюбие. Читая и перечитывая отдельные фразы, она явственно слышала голос Германа, мягкий, спокойный. Вспомнился костер на Лене-горе, когда Лосев употребил так понравившееся ей название «мультикомплекс». Почти наверняка именно там и созрели у него эти выделенные жирным шрифтом строки: «Комбинат превратился в индустриальный сверхгигант, в мультикомплекс, насчитывающий десятки тысяч человек. И он продолжает расти стремительными темпами…» Люся вынула из сумочки шариковую ручку и подчеркнула, особенно понравившееся ей место: «У кибернетиков и социологов есть такое понятие — управляемость системы. Система становится трудно управляемой или неуправляемой, когда она чрезмерно разрастается и уровень организации начинает отставать от степени сложности. Нечто подобное имеет место и в промышленности. Существуют определенные оптимальные границы цеха, на которыми он вырастает в самостоятельное предприятие с иной уже структурой. Существуют они для завода, когда он перерастает в комбинат, и, конечно же, — для самого комбината…» Люся глянула на часы и заторопилась. Рудничный автобус отправлялся через двадцать минут. Хоть без нее и не уедут, неудобно все-таки заставлять себя ждать. Но то что опаздывать, но даже последней прийти не хотелось, когда все сидят на привычных местах и нетерпеливо поглядывают на часы. — Можно трогать? — спросит водитель. — Погоди! — откликнутся со всех сторон. — Раз, два, три, пятнадцать, двадцать… Одного не хватает. Кого же это, интересно? Никак Огарышева задерживается?.. Молниеносно одевшись, Люся метнулась к двери и только тут вспомнила про злополучную открытку. Как раз сегодня в диспансере был приемный день. Следующий приходился только на пятницу. Дожидаться в неизвестности целых два дня показалось невыносимым. Она вновь посмотрела на синий циферблат часиков, крабьими клешнями охватывавших запястье, и позвонила Гале. — Ты еще дома, Галюш? Какое счастье! Скажи нашим, чтоб не ждали. Я сегодня не выйду. — Чтой-то ты надумала? — жуя и проглатывая, поинтересовалась Галя. — К врачу надо. — Заболела никак? — недоверчиво оживилась подруга. — Или?.. — Не знаю, — с напускным безразличием откликнулась Люся. — Вызывают зачем-то. — Делать им нечего. А ты не ходи! Больно уж ты добросовестная у меня, Люш. Кому че в башку взбредет, а ты рада стараться… Может, отдохнуть захотела? Так учти, что сегодня в клубе концерт. Хоть к обеду управишься? — Там видно будет. Постараюсь, — неопределенно пообещала Люся, чтобы поскорее закончить ненужный разговор. — Ну, тебе видней, ты девушка самостоятельная… — уловив какую-то недосказанность, разочарованно протянула Галя. — В отдельной квартире живешь. — Да брось ты, Галка, свои намеки, — возмутилась Люся. — Сказано тебе, что надо к врачу?! — Кто вызывает хоть? — Звонцова какая-то, — Люся с трудом разобрала неразборчивый почерк. — Ничего себе какая-то, — передразнила Галя. — Ха-ха! Это же бывшая Андрюшина краля. Змея подколодная. — Серьезно? — А то нет?.. Думаешь, почему он мне не звонит? Почему вечно занят? Это она его с толку сбивает. Будь уверена. Вцепилась мертвой хваткой и не пускает. Еще бы — последний шанс. Она ведь старуха. — Ты же говорила, что они разошлись? — Я говорила? Привет! Это Светка из горздрава напела. Помнишь? Мы тогда у Вадика собирались, перед Ламой? — Да-да, — чтобы поскорее отвязаться, поторопилась согласиться Люся. — Тебе, наверное, бежать надо? После поговорим. — Погоди! — вскрикнула Галя. — Не вешай трубку!.. Ты в самом деле собираешься пойти к этой?.. — Мне-то какая разница? — Хороша, мать! А еще подруга любимая… — Ну, если ты так ставишь вопрос… — Люся не успела договорить. — Я шучу, Люш! — мгновенно переменила тон Галя. — Конечно же, сходи к ней, — сказала почти сердечно. — Говорят, она ничего, разбирается… Думаешь, у тебя с легкими что-нибудь? — Ничего я не думаю, потом созвонимся. — Целую тебя, Людок, не волнуйся. Вот увидишь, все обойдется. А на нее взгляни. Это даже полезно. Вдруг узнаешь чего? Чем черт не шутит? Приемная радовала обилием зелени. Мягкие кресла и журнальные столики из стекла и гнутых никелированных трубок терялись среди причудливых филодендр, фикусов и пальм, касавшихся перистыми опахалами потолка. Это порождало иллюзию уединения. Низенький, обрамленный каменными плитками бассейн, в котором журчал фонтанчик и плавали жирные золотые рыбки, лишь довершал успокаивающую, нацеленную на бездумное созерцание обстановку. И все же больница всегда остается больницей. Горьковатый унылый запах, которым на веки вечные пропитались стерильно белые стены, напрочь глушил целебные отрицательные ионы, исходившие от рукотворного водоема, где чья-то умелая рука укоренила невиданные на семидесятой широте гиацинты. Перед кабинетом Звонцовой скопилась небольшая, но устойчивая очередь. Настроившись на долгое ожидание, Люся расправила газету, чтобы спокойно и обстоятельно еще раз проглядеть статью. Заняв на ближайшем к кабинету диванчике свободное место, обратила внимание, что сосед, седоусый пенсионер, которого часто видела сидящим в президиумах, мусолит пальцами тот же бросающийся в глаза заголовок. Приход нового человека старик воспринял с откровенной радостью. — Читали? — он победно потряс сложенной в гармошку газетой. — Читала, — опустила веки Люся. — И как? — По-моему, великолепно. — Даже так? — старый рабочий столь решительно придвинулся к собеседнице, что звякнули его многочисленные медали. — Чем же, если не секрет, вам понравилось? — А всем, — вызывающе улыбнулась Люся. — Вы разве противоположного мнения? — Почему? Матерьялец подходящий. Крепко сбито, утверждаю. Как рабкор с сорокалетним стажем. И верный глаз чувствуется. Хотя бы вот, — старик быстро отыскал нужное место, — «Зеленый дымок над изложницами с медным расплавом…» Очень правильно подмечено. Так и ощущается вкус меди на языке. Учуешь однажды — вовек не позабудешь… Про душную муку после взрыва тоже со знанием дела упомянуто. Душная и есть, — он трудно прокашлялся в платок. — Замах, в общем, подходящий, а результаты того, слабые… — Почему же слабые? — Люся со всей горячностью встала на защиту статьи. — Безупречная по логике и лаконизму постановка задачи, — она почти на память процитировала полюбившееся место. — Точные, научно обоснованные выводы. — Насчет постановки не спорю: что хорошо, то хорошо, а относительно выводов — не согласен, девонька, швах. Очень слабо, — отмахнулся он, заранее отвергая любые возражения. — Гора родила мышь. Пустяковые рекомендации. — Придать комбинату права главка по-вашему пустяк? — Милая моя, — укоризненно покачав головой, старик прижал к сердцу сухую жилистую руку. — Я двадцать лет оттрубил на медном и пятнадцать лет на никелевом производстве. Кому ты говоришь про главк? Да я всех директоров знал, с первого до восьмого, Владлена Васильевича Логинова то есть. Сколько про это говорено было и не сосчитать. — Теперь об этом написано в центральной газете. Разница, по-моему, существенная. — Так-то оно так, только поздновато маленько… Не находишь? Мы сейчас даем стране металла больше любого главка, больше иных министерств, если хочешь знати. И директор наш на министра выходит, а то и повыше. — Но Герман… товарищ Лосев ясно указывает, что комбинат можно приравнять к таким объединениям, как «Сигма» или «Северо-восток»? — Ишь ты, «Сигма»! Да нам она, «Сигма» эта, и в подметки не годится. Тоже сравнил! И «Северо-восток» для нас не эталон. Мы одних редких земель похлеще любого золота даем. Притом, попутно. — Это в вас местный патриотизм говорит. — А в тебе, дочка, не говорит? По материку скучаешь? — Материк тут ни при чем! — обиделась Люся. — Что же касается статьи, то она, по-моему, очень правильная. — Может, и правильная, — старик лукаво прищурился и пошел на попятный. — Только нет в ней заполярного размаха, северной удали не чувствуется. Все оговорочки, осторожные замечаньица, если б да кабы… — дальнозорко отставив газету, он прочел отмеченный ногтем абзац. — «Почему горнорудное управление, например, не имеет своего фонда материального поощрения, почему оно не вправе вести свою планово-финансовую работу?» — В самом деле, почему? — воспользовавшись риторической паузой, ввернула Люся. — Погоди, — поморщился рабочий. — Вопрос верно поставлен, ответ мне не нравится. Послушай, что дальше сказано: «Может быть, дать ему, как и другим крупным единицам, права самостоятельной организации? Превратить их в своего рода федерацию под единой крышей?» — он победоносно взглянул на девушку. — Сплошные вопросы. Ничего конкретного. Какую «крышу», какую «федерацию»?.. Не ясно. — В том-то и ценность статьи, что она поднимает вопросы, а решать их уж нам самим придется, как же иначе? — Вот я и говорю, что смелости не хватает, размаху, — упрямо стоял на своем ветеран. — Северной удали нет. — По-своему вы, быть может, и правы, — кивнула Люся. — Но со времени, когда вы тут, на мерзлоте, первые колышки забивали, многое изменилось. Теперь одной удалью ничего не достигнешь. Трезвый научный расчет требуется. Одно слово — НТР… Отсюда и осторожность. Из кабинета вышла женщина, и кто-то из ожидающих окликнул старика: — Петр Фомич, теперь ваша очередь. — Идите, идите, — замахал он руками. — Мое дело пенсионное, торопиться некуда, — и задорно подмигнул Люсе. — Даже совсем наоборот. Сидевший у самой двери мужчина в кителе с готовностью прошмыгнул в кабинет. — Почему на материк не уезжаете? — спросила Люся, меняя тему. Поднявшееся было настроение увяло, и продолжать спор расхотелось. — Некуда податься, дочка, — беспечально ответил старик. — Вся жизнь с Заполярным прошла. Это понимать надо… Тут меня каждая собака знает, ценят, советуются, а там, — он с улыбкой поморщился. — Кому я нужен? — С легкими-то у вас как? — осторожно поинтересовалась она. — Ничего особенного. Валентина Николаевна, — он почтительно кивнул на дверь, — беспокоится, а я ничего, привык. Она мне и не присоветовала климат менять. «Поздно, — говорит. — Сидите лучше Петр Фомич, на месте, а я вас до кондиции доведу». Вот и хожу, как в военкомат по повестке. Да и климат у нас, в сущности, не хуже, чем на материке, и болеют реже. Недаром, значит, докторам такая власть предоставлена. Я вот также поначалу ворчал на всю ихнюю профилактику, на вызовы не являлся, а после, как меня Валентина-то с того света возвернула, осознал, даже стыдно стало. — Она хороший врач? — Замечательный! — с чувством произнес старый рабочий. — Большой души человек. И с юморком… Прихватило меня, значит, зимой, думал — каюк. Так и сказал ей тогда. Оставь, мол, дочка, напрасные труды, побереги себя для других, а мой час пробил. Она все это выслушала и говорит эдак, с улыбочкой: «Не знаю, когда он пробил, ваш час, но одно могу сказать твердо: умрете вы не от этой болезни, когда и от какой, не знаю, но не от этой и не сейчас». И так мне смешно сделалось, что и в груди полегчало… Мужчина в кителе обернулся на диво быстро, и Петр Фомич, чуть сгорбившись, засеменил к заветной двери с верхом из матового стекла. Люсе пришлось ожидать довольно долго, а когда, наконец, наступила ее очередь, в кабинет без стука влетела сестра с рентгеновским снимком и поманила за собой мальчика в больничной пижаме. — Опять своего провели, — вздохнул кто-то из ожидающих. — Не переждешь… — Никакого не своего, — мгновенно последовало возражение. — Не видите разве: больной из стационара? И меня так водили, когда я прошлой зимой здесь лежала. Как же иначе? — Вот я и говорю, своего… Люся, чтобы убить время, прочитала все внешнеполитические сообщения, которые обычно только проглядывала, и принялась следить за пучеглазыми рыбами, влачившими непомерно разросшиеся вуалевые хвосты.— Разденься, Спартак, — ласково кивнула Валентина Николаевна и, продолжая прерванный разговор, протянула сидевшей напротив девушке больничный лист. — Значит, мы обо всем договорились? С никелевого завода придется уйти. Если хотите, я сама поговорю с вашим начальством? — Спасибо, доктор, только они и так все понимают. Ведь четыре месяца на бюллетене! — К сожалению, пары тяжелых металлов являются для вас аллергенами и никакое лечение тут не поможет. Как только вы перемените обстановку, все пройдет. Практически вы здоровы. — На материк, значит, не обязательно возвращаться? — Не вижу никакой необходимости. Наш климат для вас вполне подходящий. — Не знаю уж, как и благодарить вас, Валентина Николаевна… — Пустое, милочка… В приемной много больных? — Человек восемь. — Следующего попросите пока не входить. Я вызову, — взяв со стола фонендоскоп, Звонцова прошла за ширму, где, сиротливо сжавшись в комочек, сидел на кушетке мальчик. — Ну-ка, вставай, — ласково взъерошила ему волосы. — Послушаем, — прижала ухо чуть ниже остро обозначенной лопатки. — Покашляй, — озабоченно распрямилась и вставила в уши трубки фонендоскопа. — Дедушка не приезжал? — тихо спросил Спартак, когда Валентина Николаевна закончила прослушивание. — Как только приедет, я тут же провожу его к тебе. Не сомневайся, — она коснулась висевшего у него на шее кожаного мешочка с витиеватым узором из разноцветной оленьей шерсти. — Не расстаешься со своим амулетом? — Дедушка сказал, от груди помогает. Трава там такая, целебная. — Да, помню, ты говорил. — Только не верю я в эти травы. Может, снять? — Зачем? Носи себе на здоровье. Но и лекарства не забывай принимать, — Валентина Николаевна погрозила пальцем. — А то на тебя жалуются. Одевайся, — звонко шлепнула мальчика по спине и, включив матовый экран, закрепила снимок. Границы пораженного сегмента явно расширились. — Дела наши идут неплохо, Спартачок. Будем готовиться к операции, — решительно щелкнула выключателем и подсела к мальчику. — С первым снегом на нартах домой уедешь. — Какие нарты? — невесело улыбнулся мальчик. — У меня снегоход на тридцать пять лошадиных сил. — Я забыла, прости, — она вновь потрогала мешочек с душистой травой авагангой. — Дедушка не говорил тебе, почему счастье всегда избирает запутанные пути? — попробовала проследить глазом извивы узора. — Не счастье, Валентина Николаевна, жизнь. — Это одно и то же, Спартак. Когда Люся пошла и, робко присев на круглую тумбочку, положила на стол открытку, Валентина Николаевна дописывала историю болезни. Не поднимая глаз от разграфленных страниц, заполненных крупным размашистым почерком, рассеянно ответила на приветствие. Люся видела доктора Звонцову, о которой была столько наслышана, впервые. В модных больших очках, красиво оттенявших энергичные скулы, она производила сильное впечатление. Ничего не скажешь. В сравнении с ней, властной, уверенной в себе и как-то особенно одухотворенной, Галка показалась жалкой пигалицей. Это приходилось признать, невзирая на дружбу. Нужно быть круглым идиотом, чтобы бросить такую женщину, решила Люся. Не удивительно, что Андрей Мечов постарался поскорее развязаться с Галюшей. Одно дело просто так погулять и разойтись, другое — серьезные встречи. Галюша-то на серьезное претендовала, да, видно, ошиблась. Жалко, конечно, девку, но ничего не поделаешь. Никакие ухищрения тут не помогут. Звонцова, конечно, не ей чета. Такие из мужиков веревки вьют. Сразу видно. Да и Мечов Галюше не пара. Он и на Лене-горе держался своеобразно. Снизошел, эдак, нехотя и тут же забыл. Смешно было надеяться. Хоть Галка и говорит, что геологи женятся на коллекторшах, а директора — на секретаршах, здесь не тот случай. И как это люди не могут взглянуть на себя со стороны? Она, Люся, смотрит очень даже критически. Ей и в голову не пришло закрутить мозги Герману Лосеву. Хоть тот и разведен и чувствует себя одиноко. А вот Галка, бедняжка, слишком много о себе вообразила и страдает теперь… — Что у вас? — Валентина Николаевна покончила с писаниной, которую считала ненужной помехой в работе, и взяла открытку. — Огарышева Людмила Анатольевна?.. Сейчас поглядим, — повернув к себе вращающуюся тумбу с картотекой, выдвинула ящичек. Перебирая карточки, краем глаза взглянула на посетительницу. Где-то она ее определенно видела. Но где? Несомненно связано с отрицательными эмоциями. Иначе необъясним спонтанный импульс антипатии, мгновенно вспыхнувшей в сердце. Явно неспроста, потому что внешность, скорее, располагает к обратному. Довольно миленькая, по-видимому, скромна, сплошное олицетворение здорового счастья. Но это обманчиво. Румянец чересчур яркий, не по сезону, коварный румянец. Да, так и есть. Звонцова нашла карточку, пробежала ее глазами и медленно сняла очки. — Как вы себя чувствуете? — спросила мягко и доверительно. — Не заметили последнее время никаких неприятных симптомов? — Месяца три, пожалуй, мне немного не по себе. Я перенесла сильный грипп и думала, что это последствия. — Температуру измеряли? — Как-то померила — тридцать семь и одна — и перестала. Участковый врач сказал: субфебрильная. — Кашель? — Не замечала. — Отделение мокроты? Озноб? — Познабливает порой. Чаще всего с утра и перед вечером, а после легкая дурнота… — Слабость? — Вот именно — слабость. — На аппетит не жалуетесь? — Как будто нет. — Легкими никогда не болели? Туберкулез? Бронхоаденит? — Нет. — И в семье никто не болел? Отец? Мать? — Не знаю точно, но вроде бы нет. — О реакции Пирке когда-нибудь слышали? Манту? — Никогда. — Вам не делали? Может быть, в детстве? — Не помню, Валентина Николаевна, а что со мной? — Вы меня разве знаете? — ушла от ответа Звонцова. — Слышала, как больные вас называют. — Больные? — Ну, которые в приемной сидят. — Не все среди них больные… Разденьтесь-ка там, пожалуйста, я вас послушаю, — Валентина Николаевна вымыла руки и прошла за ширму. — Вы, надеюсь, не под землей работаете? — В патентной библиотеке. А что, нельзя? Пока девушка снимала с себя тонкую, отделанную кружевами комбинацию, Звонцова вспомнила, когда и где промелькнуло перед ней это румяное миловидное личико. Не далее, как на прошлой неделе она ехала по Главному проспекту вместе со Светой Оглоблиной. — Смотри! — нехорошо оживилась вдруг Светка, когда автобус остановился у кафе «Айболит». — Вон те самые крали, которых Андрей Петрович возил на Ламу, пока ты трудилась за донора на комарье… Не знаю, конечно, может у них там и не было ничего, но хорош субчик, правда?.. Совсем опупел в одиночестве, что ли? Ты только взгляни на этих. Я как только узнала про столь странное предприятие, так сразу сказала железное «нет». Меня ведь тоже приглашали… Звонцова не спросила, кто. Она вообще ничего не спросила, но промелькнувшую в толпе бело-розовую мордашку заметила. Вспомнила и другую, чернявую, с прической «сессон», бойко стрелявшую глазками по сторонам. Валентина Николаевна как только увидела ее лисьи ужимки, так сразу решила про себя, что хватит, конец. Неважно, правда или неправда, но с нее довольно. Как счастлива она была там, в Ары-Масе, когда из вертолета выпрыгнул жалкий перепуганный до смерти Андрей и вдруг увидел ее, живую, невредимую и беспомощно опустил руки… Все простила ему за этот опустошенный, потерянный взгляд, за робкую неуверенную улыбку. Поверила без объяснений и жалких слов, что ничто и никогда не сможет заставить его страдать сильнее. Значит, нужна, значит, не умеет жить без нее, а это самое главное. Подумать только, как подло, как пошло ее разом лишили всего: счастья, легкости, смысла… Если, конечно, Светка не солгала… А может, врет она? Чужое горе ей слаще меда. Никогда не уподобляться такой, пожелала себе Валентина, не радоваться ничьей беде, не мстить за себя ни виноватым, ни правым. Иначе сгоришь от собственного яда, почернеешь от горечи. Отведя с усилием взгляд от этой молодой груди с нежным соском, заклинала себя не думать, не вспоминать об Андрее, о его чутких и милых руках. Усилием воли гнала прочь упрямое наваждение, боясь, что вот-вот потеряет сознание. Только отдаленные хрипы, идущие из глубины, ловила с беспощадной точностью профессионала. И это помогло ей. Картина, несмотря на совпадение многих клинических признаков, не выглядела достаточно ясной. Данные флюорографии позволяли предполагать очаг Гона — пропитавшийся известковыми солями заживший рубец. Вероятно, больная, сама того не ведая, перенесла несколько лет назад кратковременную вспышку. То ли под влиянием общей изменчивости палочки, то ли еще по каким причинам, но произошло не столь редкое, как это принято думать, самоизлечение. Если бы не румянец, — кажется, и тогда в автобусе Валентина отметила чрезмерно пылающие щеки, — и не смазанные симптомы недомогания, девку можно было бы посчитать выздоровевшей. По крайней мере, временно. Прослушивание в таких случаях часто ничего не показывает и нужно детальное рентгеновское обследование, чтобы установить, как протекает сейчас процесс. Но Звонцова шестым непостижимым чувством нащупала тончайшую, на грани слуха, не понравившуюся ей глухоту. Почти наверняка следовало предполагать рецидив, если, конечно, точен диагноз. О самом худшем — опухоли иногда давали флюорографически близкую к очагам Гона картину — думать было преждевременно. — Можете одеться, — Валентина Николаевна опять тщательно намылила руки, испытывая нечто вроде жжения от невидимых капель чужого пота и подвинула к себе микрофон. — Заполните карту на Огарышеву, — распорядилась она. — Полное обследование, как обычно. — У меня туберкулез? — спросила Люся, застегивая вязаную кофточку. «Моли бога, чтобы так», — подумала Звонцова. — От меня не нужно скрывать, Валентина Николаевна, я ничего не боюсь. — И очень плохо, что не боитесь. Страх, между прочим, охранное оружие жизни… Пока у вас нет причины бояться. А вот в прошлом вы, кажется, ухитрились заполучить маленький очажок. Раньше испытывали нечто подобное? Озноб, слабость, незначительную потливость? — Не помню, — Люся виновато пожала плечами. — Разве что в Гаграх? Но тогда мне казалось, что это от перегрева… — О Гаграх,вообще о Кавказе, придется забыть. — Навсегда? — Скажем лучше, на неопределенное время… Пока же, Людмила Анатольевна, вам нужно лечь к нам. Посмотрим вас на рентгене, проведем анализы, а там решим, как быть дальше… Ваши дела позволяют? — Когда надо ложиться? — Чем скорее, тем лучше. Это общее правило. Сейчас как раз есть место, и поэтому лучше всего приходите завтра, с утра… Соберите все необходимое и приезжайте. Направление получите в регистратуре. Я распоряжусь. Люся вышла на улицу в полной растерянности. Мостовые были мокры от растаявшего слога. Холодный норд гнал низкие тучи с туманной бахромой от выпавшего заряда. Увидев автомат, Люся полезла в сумочку за двушкой, чтобы без промедления позвонить Галке. С кем еще могла поделиться внезапно свалившимся на плечи несчастьем самостоятельная девушка с высоким заработком и однокомнатной отдельной квартирой?.. Она сняла трубку, торопливо набрала номер, но вдруг передумала и резко надавила рычаг. Оставив монету, выскочила на черный, отуманенный сыростью тротуар и заспешила к остановке, чтобы укрыться, как можно быстрее, в своих четырех стенах.
ВЫСТАВКА
Город под куполом напоминал скорее южный курорт, нежели промышленный центр. Особенно празднично выглядела белая набережная с ее пластмассовыми пальмами, бассейнами и дворцами в стиле Немейера. Даже индустриальные сооружения, полностью лишенные труб, обрели неожиданное сходство с бальнеологическими здравницами. Лишь нарочито куцые лиственнички и довольно условные заструги снега за границей стекла намекали на некую высокоширотную привязку. Лосев невольно замедлил у стенда шаг. — Главный архитектор развлекается, — небрежно объяснил Мечов. — Таким он видит Заполярный город будущего. Высокочастотное солнце, — Андрей Петрович указал на висевшую над гипсовыми крышами звездочку из золотистой фольги. — Подземные коммуникации… Ерунда, одним словом… — Так уж и ерунда? — осведомился подошедший сзади Веденеев и дружески кивнул Герману Даниловичу. — Кто знает, что будет через пятьдесят лет… Фойе дворца культуры постепенно наполнялось принаряженными по случаю выходного людьми. Вопреки скептическому прогнозу Мечова, выставка «Таймыр вчера, сегодня и завтра» привлекла много желающих. — Я всегда за научную фантастику, — сказал Андрей Петрович. — Но в реальной жизни для нее нет места. — Не нравится, значит? — Игорь Орестович указал на макет. — Купол? — уточнил Мечов. — Самым решительным образом… Галерея из бытового комбината в цех — ничего не имею против, зимние сады — пожалуйста, но отделять человека от природы — извините… Чай, не на Луне живем, на своей земле. — Полярная ночь, пурга, жесткость под сто баллов[4]… — подзадорил первый секретарь. — Лучше всеобщий отгул по радио объявить, чем жить под этаким колпаком. — А если все-таки можно? — подал реплику Лосев. — Так ведь делаем, — без особого оживления отозвался Мечов. — Живем ведь как-то, работаем… — Одно дело преодолевать вынужденные трудности, другое — искать их, — возразил Веденеев. — Меня жизнь в банке, честно говоря, тоже не особенно привлекает, но огульно отрицать саму возможность глобального кондиционирования я бы не стал. Будущее, как правило, опровергает именно самые категорические «нет». Согласен, Петр Савельевич? — он подозвал Кусова. — Вы насчет этого? — тот огладил стеклянную полусферу. — Пустое дело. Человек отвыкнет от единоборства со стихией, выродится и окажется в итоге совершенно беззащитным. Всю тундру, как ни старайся, в тепличку не запихнешь, и, хочешь не хочешь, придется вылазить на свежий воздух. Кто, по-вашему, станет тогда осваивать новые районы?.. То-то! — Петр Савельевич назидательно поднял палец. — Кстати сказать, не холод — главный враг человека на Севере. К холоду привыкнуть можно. Солнышка нам зимой недостает, вот что. В фотарии ваши и лампы всякие специальные я не шибко верю. Природу не обманешь. На себя надо надеяться, постоянно поддерживать спортивную форму и бойцовское настроение. — Да-да, — с отсутствующим видом согласился Мечов, напряженно отыскивая кого-то взглядом. — Вы совершенно правы. — Вот и у вас нашлась точка соприкосновения, — одобрил Веденеев. — Хоть тут никаких разногласий не выявилось. — Вчерашнее, что ли, имеешь в виду? — озабоченно прищурился Кусов. — Так у нас и на активе кое-какая общая платформа наметилась. Андрей Петрович, к примеру, согласился пересмотреть свой проект размещения цементного завода. Может, все-таки к старому возвратимся? — оглядываясь на Лосева, он показал на схему цементных коммуникаций. Возле макета, изображавшего в разрезе новый вариант утепленного вагончика, он пренебрежительно поморщился и махнул рукой. — Подумаем, Петр Савельевич, — нехотя выцедил Мечов. Выставка, которую он сам же задумал и организовал, утратила для него всякий интерес. Погруженный в себя, бродил он среди экспонатов, бросая время от времени ищущий взор на лестницу, по которой поднимались все новые и новые посетители. Экспозиция явно пользовалась успехом. Вокруг портативного снегохода даже образовалась небольшая толпа, где знатоки оживленно обсуждали достоинства и недостатки машины. — Старое-то оно вернее, — стоял на своем Кусов. — Надежнее. — Смотря какое старое, — заметил Веденеев. — Верно, — по-своему понял его Петр Савельевич. — Я и сам забивал колышки, где теперь медный завод. Никому не пожелаю. Но в основе… — Не об основах речь, — резко обернулся Мечов. — Что же касается цементного, то, думаю, у нас найдется время обсудить все по-деловому. — А насчет новых причалов как, товарищ Мечов? Продление навигации еще в далеком проекте, а здесь, на выставке, вы показываете прямо-таки Архангельск или Мурманский порт. — Не все сразу, — вмешался Веденеев. — У нас сейчас не производственное совещание. Пройдем лучше балок поглядим, — поспешил переключить внимание со спорного плана на уютный вагончик с электроотопительной панелью. — Вроде ничего, — неуверенно похвалил Лосев. — Интерьер вполне современный. — Никуда не годится, — с присущей ему категоричностью отверг Кусов. — А если, паче чаяния, вырубят электричество? Или медведь долбанет лапищей по окну? Настоящий балок, в каком долгане живут или эвенки енисейские наши, этому его очков вперед даст. Подумаешь, невидаль: сборно-разборная конструкция. Чум тоже можно на нарты уложить в два счета. — Как вам нравится наш ревнитель старого уклада? — Игорь Орестович догнал Лосева. — По-моему, здесь, — Герман Данилович позволил себе мимолетную улыбку, — он абсолютно прав. По собственному опыту знаю, что в Хорезме ничего нет лучше глинобитного домика с дувалом и куполом, а в Гоби — монгольской юрты. Север, очевидно, не исключение. — Разумеется, — кивнул Веденеев. — Жилище, вообще уклад, создавались веками. Выявило лишь самое лучшее, совершенное. — Я так и пищу местную всем городским деликатесам предпочитаю, — гнул свое Петр Савельевич. — Олений желудок да корешки из мышиной норы мне, можно сказать, жизнь подарили… К вам, Герман Данилович, — он доверительно взял Лосева под руку, — у меня тоже разговор имеется. Хочу поспорить кое в чем с вашими утверждениями. — Я ничего не утверждаю. — И все-таки напрасно не показали мне предварительно вашу статью, — Петр Савельевич вытер платком слезившиеся глаза. — Помнится, вы говорили, что дома писать будете? Я не ошибаюсь? — Нет, — улыбнулся Лосев, припомнив первую их встречу в горкоме. Несмотря на категоричность суждений и очевидную ограниченность, кряжистый независимый северянин внушал уважение. — Нет, — повторил с расстановкой. — Вы не ошиблись. Уж так вышло, что я застрял дольше, чем мог предполагать. — Он улыбкой дал понять, что шутит. — Но ничего, скоро уеду. — Так-то вы привечаете гостей? — Веденеев едва заметно нахмурился и встал между Кусовым и Лосевым. — Мы все очень вам рады, Герман Данилович. Больше того, ваше пребывание, вся, так сказать, деятельность, оказали самое благотворное влияние на текущую работу. Будем вспоминать вас с благодарностью. Что же касается статьи, то мое мнение вам известно. Очень своевременная, правильная и ко многому обязывающая… — Но не бесспорная? — Петр Савельевич загнул палец наподобие знака вопроса. — Есть, разумеется, и дискуссионные положения. Профессор Лосев, надеюсь, имеет право на собственное мнение? — Безусловно. — Вот и превосходно. — Но теперь оно стало официальной точкой зрения. — Ничуть не бывало! — возразил Герман Данилович. — Следует отличать постановку вопроса от директивы. Тем болте что это не редакционная статья. — Вот и хорошо, — включился в общий разговор Мечов. Поняв, что Валентина так и не придет, он неожиданно успокоился и словно пробудился для деятельности. Даже шутить начал, скрывая горькую пустоту. — Если кто и будет возражать автору, то уж никак не мы, — заявил он с победным видом. — Пусть в министерстве теперь поразмыслят… Продолжение когда ждать, Герман Данилович? — Не знаю. Наберемся терпения… Честно говоря, я намереваюсь еще один материал подготовить. Пока свежи впечатления и не остыл запал. Дома на меня такое навалится, — Лосев смущенно почесал затылок. — Отпуск, можно сказать, кончился, и аспиранты скоро возжаждут крови… Тут уж не до писаний. — Будем только рады… — наклонил голову Веденеев и проницательно осведомился: — Помощи никакой не требуется? — Спасибо. Ровным счетом ничего. Разве что покоя немножко? Так это не в вашей власти. Сам виноват, остановиться никак не могу — езжу и езжу. — В нашей, — многообещающе заверил Мечов. — В случае чего и арестовать можем… Недели хватит? — Всего каких-нибудь три дня и термос чая. — На «Валек» отправьте товарища, — посоветовал Кусов. — Там и передохнуть можно и погулять есть где. Места отменнейшие. — А что? — Мечов выжидательно склонил голову набок. — Это идея!.. Организуем отдельные апартаменты. Будет сделано! — «Надежда»? — остановился Лосев перед макетом будущего металлургического гиганта. — «Мой компас живой», — ответил Мечов словами популярной песни. — Вместе с обогатительной фабрикой и второй шахтой «Октябрьского» она удвоит мощность комбината. Грядущая пятилетка обеспечит самый высокий прирост за всю историю. В будущем году мы только за один месяц дадим больше металла, чем когда-то за год. Лосев понимающе кивнул. Он уже привык, что заполярцы почти по-королевски титуловали бывших директоров комбината. Чаще всего, и всегда восторженно, отзывались о Первом — основателе, и о Шестом, который занимал ныне в Москве видный партийный пост. — В одиннадцатой пятилетке, однако, планируется меньший прирост, — Петр Савельевич всем своим видом выразил неодобрение. — Вам-то это известно, Герман Данилович? — Знаю, — продемонстрировал полную осведомленность Лосев. — Мне показывали цифры. — Горком поддерживает основные позиции плана, — счел нужным заметить Веденеев. — Производство по-прежнему будет развиваться, хотя и не столь бурными темпами. Надо подтягивать тылы: жилищное и культурное строительство. Не одним металлом жив человек. Даже когда последняя тонна руды будет выдана на-гора, Заполярный город останется на своем месте. Такова реальность. — И по перестанет расширяться, — высказал убеждение Мечон, увлекая Германа Даниловича к схеме, наглядно подкрепленной шлифованными образцами. — Видишь речку, Хараелах?.. Здесь на левом берегу вырастет новый спутник. Автодорога и рельсы уже проложены. Если строители не подкачают, то недалек день, когда десятки тысяч новоселов поднимут бокалы с шампанским. Чудесное место! Воздух свежайший, ничем практически не омраченный. ТЭЦ работает на природном газе, а металлургических цехов поблизости нет. Только рудники, обогатительная фабрика и авторемонтный завод. До работы рукой подать. Живи — радуйся… — А там что? — спросил Лосев, показав на заштрихованный прямоугольник, непосредственно примыкавший к будущим кварталам города-спутника. — Здесь? — усмехнулся Мечов. — Поле грядущей сечи, где от меня останутся рожки да ножки. Дождись Владлена Васильевича из Москвы и увидишь Куликовскую битву. Весь план перспективного развития сфокусирован именно на этом месте. — Тут, действительно, есть над чем поразмыслить, — дипломатично отметил Веденеев. — Не исключено, что придется и копья поломать. — Резерв, что ли? — догадался Герман Данилович, успевшей довольно подробно изучить перспективный план. — Он самый, — подтвердил Кусов. — Андрей Петрович намерен создать резерв жилой площади примерно на шестьдесят тысяч человек. Это в наших условиях, когда жилья и без того не хватает, а стройпроблема по-прежнему остается самым узким местом. Если хотите знать мое мнение… — Идея, в принципе, перспективная, — одобрил Веденеев, пресекая преждевременную дискуссию и с легкостью профессионального дипломата поспешил успокоить другую сторону: — Но поспорить есть о чем, безусловно, есть. — Согласен, — Мечов почти машинально воспользовался временным преимуществом, чтобы обкатать предварительные наметки. — Спорить не только можно, но даже необходимо. Главное — принять, действительно, в принципе, — он одарил Веденеева благодарной улыбкой. — Потому что прежние принципы нас уже не устраивают. Чем мы руководствовались прежде?.. Планировали небольшой поселок, а создали великолепный город… — Потом появился спутник, — мгновенно уловил его мысль Лосев. — Верно!.. А завтра что? Вдруг нефть откроют? Или алмазы? Будущее необходимо предвидеть, обдуманно и целенаправленно строить его. — Поэтому вы с такой иронией отнеслись к проекту вашего товарища, — подытожил Игорь Орестович. — Пусть наивному, но так или иначе, предвосхищающему будущее. — С иронией? Да, я в принципе отрицаю подобные идеи. Стеклянный колпак означает, что развитие остановилось, а я уверен в обратном. Освоение Севера только теперь и начинается. Обдуманное, социально обусловленное, экономически обеспеченное. — А это? — Петр Савельевич угрюмо кивнул на свои руки. — Нет, Андрей Петрович, не начинается, продолжается. — Я другое имел в виду, — поправился Мечов. — В наше время, в теперешнее, впервые стало возможно комплексно охватить всю систему: техника — человек — среда. Жесткая специализация нас уже не удовлетворяет даже с точки зрения чистой экономики. В хозяйственный оборот должны быть включены все ресурсы Таймыра. Не только руды. Мы у себя хоть и не занимаемся хлебопашеством, но могли бы, например, наладить производство удобрений. Они нужны стране, особенно двойной суперфосфат. — Видите, куда гнет? — чуть ли не восхитился Кусов. — Однако, размах! — Дорога? — пожал плечами Лосев. — Транспортные расходы? — Когда-нибудь и дорога будет. Не только на Уренгой — Сургут — Тюмень. Жизнь подскажет, где строить. Может, даже на БАМ выйдем… В план мы это пока не закладываем, но в голове держать невредно. — А удобрения? — быстро спросил Петр Савельевич. — Это как, ближняя перспектива или же дальняя? — Ближайшая, — Мечов упрямо сдвинул брови. — Я знаю, что навлеку на себя целый шквал обвинений, но добьюсь включения этой позиции в план… Честно говоря, мне не столько суперфосфат нужен, сколько чистый воздух. Новое химическое предприятие позволит нам полностью утилизировать сернистые газы металлургического производства. Только тогда проблема охраны окружающей среды будет окончательно решена. Можете не сомневаться, Петр Савельевич, все подсчитано и разложено по полочкам. С технической или экономической стороны не подкопаешься. Это я как химик говорю, как профессионал. — Допустим. А повезете как? Неужто Севморпутем? Дорого обойдется государству подобное удобрение. — Может быть и так, для начала… Тем скорее проложим дорогу. Навигацию опять же продлим. — Пока каравана дождешься, весь суперфосфат с черноталом в реку утечет. Последняя рыба передохнет, чего доброго. — Право, товарищи, — Игорь Орестович обнаружил признаки нетерпения, — нам еще не раз представится возможность всесторонне обсудить перспективы развития комбината. В более подходящей обстановке. — К тому времени Герман Данилович третью статью выпустит и спорить нам с товарищем Мечовым будет намного труднее, — собрав губы ниточкой, высказал свое опасение Кусов. — Лично я не считаю себя знатоком во всех областях промышленного производства, — твердо сказал Веденеев. — Конечную оценку дадут, как и положено, специалисты. Андрей Петрович показывал вам проект, разработанный поисковым цехом? — спросил он Германа. — Для меня это темный лес, — признался Лосев, — сернистый газ, суперфосфат, утилизация… Но даже если бы я и решился поддержать без оглядки подобные начинания, последний аргумент все равно, вы правы, остается за практикой. Сила печатного слова велика, но не беспредельна, — обратился он к Кусову. — Цифры подчас убеждают больше любых слов. — Поживите с мое, — проворчал Петр Савельевич. — Ну, мы еще увидимся… Поехали, Игорь Орестович? — Да, пора. Счастливо отдохнуть и поработать в «Вальке», — радушно простился секретарь горкома. — В чем дело? — спросил Герман Данилович, когда остался наедине с Мечовым. — Старый же человек! Зачем ты даешь втянуть себя в бесплодные споры. Так серьезные вопросы не решаются. Веденеев, кстати, явно на твоей стороне, по крайней мере в главном, но ты и его временами ставишь в трудное положение. Они оделись и вышли на улицу. Было холодно, накрапывал мелкий дождик. Сумеречное небо дышало туманом предзимья. — Не знаю, — сказал Мечов. — Что именно? — не понял Лосев. — Не пришла Валентина. — Куда? — Я просил ее зайти за нами, но она не пришла. — И только-то? — Все очень плохо, Гера. Вчера я сделал ей предложение, а она ничего не ответила, — Мечов скользнул потухшим взором по уходящим в бесконечность фонарям. — И не пришла. — Это что-нибудь значит? — Думаю, очень многое… Именно теперь… — Почему? — Последние дни меня не оставляет чувство, что в ней идет какая-то мучительная переоценка. Не знаю, как объяснить, но… Одним словом, впервые в жизни от меня почти ничего не зависит. Я не могу достучаться. Любая попытка помочь ей или же помешать оборачивается против меня. Без слов, без упреков, но необратимо. Я потому и предложил пожениться, что не мог выдержать этой молчаливой, подвергающей сомнению каждое слово и каждый шаг переоценки. И сразу понял, что сделал только хуже. — Это настолько подкосило тебя? — Не подкосило. Я лишился чего-то необыкновенно важного. Это глупо, и ты не обращай внимания, но я чувствую себя чуть ли не голым. Исчезла внутренняя основа и все, почти все, потеряло свою притягательность. — Что я тебе могу сказать? — Ничего. — Переболей. — Придется, Гера. — Ты знаком с фрейдовской теорией замещения? — Весьма отдаленно. — Я тоже. Но упаси тебя господь, Андрей, от подобного. Не пытайся прикрыть свои внутренние трудности чрезмерной экспансией в делах. — Ты замечаешь? — Как будто. — А другие? — Не знаю. Веденеев сейчас, по-моему, заметил. — И что надо делать? — Думаешь я знаю? — Но ты ведь философ? — Лично мне это мало помогло. Когда бывает тяжело, я вспоминаю японскую пословицу: «Жить всегда трудно, просто лишь умереть». — Ну и..? — Иногда подбадривает. — Не густо, однако, профессор, но и на том спасибо… Правда, спасибо. Другой бы на твоем месте наворотил кучу ерунды. — От Логинова что-нибудь есть? — Да. Он встречался с министром морского флота, и тот определенно обещал атомоход. Следующую навигацию начнем на месяц-другой раньше. — Поздравляю, дружище! — Лосев довольно потер руки. — Вот это новость! И ты молчал? — Не сердись, Гера. Я и сам себя убеждаю, что должен радоваться, но не могу. — Зайдем ко мне? Отметим удачу? — Можно, — вяло согласился Мечов. Конец белых и сумеречных ночей Герман встретил на «Вальке». Вопреки ожиданию, он прожил здесь целую неделю и не заметил, как наступил предотъездный денек.«ВАЛЕК»
С утра повалил снег, опушая желтые лиственницы и замшелые ели. К обеду, однако, пробилось солнце, и началось гнилое промозглое таяние. Статья была закончена и перепечатана на портативной машинке, которую Лосев всюду возил с собой. Делать было нечего, и он решил на прощание проторить новый неизведанный маршрут. Застекленное прибрежным ледком озерцо курилось темными лентами уснувшей воды. Полоненное в тесных клетках зверье встречало зиму простуженным плачем. Лаяли облезлые лисы, от которых шел стойкий остроудушливый запашок, ревел, грызя железо, исхудавший медведь и только старая волчица безмолвно моталась из угла в угол, презрев заиндевелую кость с махрами синюшного мяса. Лосев с первого взгляда невзлюбил этот мини-зоопарк над озерным обрывом. Животные напомнили ему старинных колодников, которых, прежде чем предать муке, выставляли на всеобщее обозрение. Прекрасный суровый лес подковой охватывал горизонт, а его свободные некогда дети корчились в отвратительных ящиках. Только стальные прутья отделяли их от вольной тропы, помеченной явным и тайным следом, но тяжкий дух свалявшегося меха забивал невидимую мету, и призрачный лес за снежной завесой казался недостижимой мечтой. Столь откровенное надругательство над природой приводило и уныние. Герман Данилович однажды попытался поделиться сомнениями на сей счет с главным врачом профилактория, но приятная дама в голубом парике встретила его энергичной отповедью. Не ведая сомнений и с абсолютно железобетонным апломбом, изложила свое кредо. Коротко оно сводилось к тому, что для полноты отдыха рабочему человеку необходимо, хоть ненадолго, окунуться в дикую природу, с которой его раз и навсегда разлучила цивилизация. Эту, не столь уж революционную идею, она унаследовала от своего наставника, старого доброго доктора, обосновавшегося в рабочем поселке «Валек» еще в двадцатые годы, когда там возникла пушная фактория. Именно он и замыслил основные контуры «оазиса среди вечной зимы», который рисовался ему гигиеническим филиалом парадиза в стиле Руссо. Так и возник через полвека оборудованный по последнему слову медицинской науки и техники профилакторий. Полоса леса, подступавшего к самой реке, задумчивое озеро и, соответственно, зверинец призваны были загодя настраивать на нужный лад. Основное же слияние с одушевленным миром достигалось за счет внутреннего убранства. Бананы, пальмы, сладкоголосые канарейки и дивные цветы, умело декорированные обломками камня, причудливыми корнями и мохом, воссоздавали атмосферу субтропиков. Отдавая должное энергии и вкусу главврача, Лосев мысленно простил ей даже клетку с печальной обезьянкой. Что там ни говори, но залитая ртутным сиянием оранжерея была поистине великолепна. Сумасшедший запах цветущего апельсина, птичий щебет и журчание ручейков среди гротов и папоротников действительно вырывали душу из тисков повседневности. Особенно зимой, когда за прозрачными стенами неделями цепенела непроглядная ночь. Манящей сказкой должен был казаться этот чудный оазис, затерянный среди снегов и последних на семидесятой широте елей. Особенно издали, из самых недр ночи. Тоска по солнцу, понять которую могут только северяне, полностью оправдывала очевидный для постороннего перебор по части растений и всякой домашней живности. Ведь и впрямь теплели сердца при виде всех этих белочек, морских свинок и хомячков. В лютый мороз, когда седой от инея ворон одиноко кружит, оставляя, как лайнер, инверсионный серебряный след, даже спящая черепаха в террариуме способна вызвать умиление. Самый закаленный полярник нуждается порой в маленьком подтверждении, что жизнь, как всегда, восторжествует и солнце брызнет в урочный час. Недаром ведь совершенно незнакомые люди бросаются друг другу в объятия, когда воспаленное око проблеснет ненадолго над погруженной во мрак и молчание тундрой. Что перед этим чудом крылатый диск Аммона-Ра, дракон, расправивший остроперый гребень, Аматерасу, замкнутая в недрах горы, или окровавленное сердце на ладони ацтекского жреца? В краю, где проносится Олень — Золотые Рога, высекая копытами трепещущие сполохи сияния, солнце чтут с восторгом и искренностью, достойной древнейших цивилизаций. Ни синим вспышкам электросварки, ни кадмиевым лампионам Главного проспекта не развеять языческое колдовство заполярной тундры. Ее последнюю тайну, спящую в крови людей и оленей. Всем хороша была оранжерея, но не мог Герман забыть желтые тоскующие очи волчицы. Каждый раз, проходя над обрывом, гадал, как звери перезимуют в открытых ветрам и морозу узилищах. Под конец вообще перестал появляться на озере. Избрал для прогулок другую часть леса, где вдоль тропы стояли сколоченные из бревен лавки и жестяные коробы для шашлыка. В хорошую погоду, когда проглядывало солнышко и стаивала пороша, он с самого утра забивался и уединенный уголок и работал до обеда. Профилакторий, с его стерильными салфеточками и чайниками, до краев налитыми дрожжевой жижей, Лосев воспринимал как неизбежное наказание. Иначе и не может реагировать абсолютно здоровый мужчина на больничный распорядок. В процедурных кабинетах он не нуждался, спал без подушки, нашептывающей приятные радиосны, и не ходил на массаж. Попробовав разок поплавать в знаменитом на весь Таймыр бассейне с океанской водой, махнул рукой и на прописанные ему оздоровительные купания. Вода оказалась слишком холодной, а привыкать исподволь не было смысла. Авиабилет лежал, можно сказать, в кармане. Пляж, с настоящей крымской галькой и кварцевым облучением, Лосеву тоже не слишком понравился. Нарисованная на стенах морская волна и грохот прибоя, записанный на магнитную ленту, невольно вызывали снисходительную улыбку. Словно на звездолете из научной фантастики все было «почти», как в жизни. Загар, по крайней мере, получался самый настоящий, хоть запах краски и перешибал целебные отрицательные ионы. В известном смысле, убеждал себя Лосев, профилакторий действительно напоминал космический корабль, заброшенный во враждебное человеку пространство. Ценой невероятного труда и выдумки удалось свести до минимума основные недостатки здешнего климата. Без отрыва от производства «Валек» мог предоставить отдыхающим (слово «больной» решительно изгонялось из обихода) грязь из Мацесты, любую из наиболее известных в стране минеральных вод и даже последнюю медицинскую сенсацию — ушную древнекитайскую иглотерапию. Для того чтобы не иссякали запасы целебных грязей, приказом директора — кажется, Шестого — за профилакторием закрепили специальный рейс. С социальной точки зрения это была бесспорная победа, и главврач могла с законной гордостью демонстрировать восторженные отзывы именитых визитеров. Но всякий раз, когда Герману приходилось знакомиться с новыми чудесами гигиены и быта, вспоминался макет под стеклянным куполом. Что-то общее, то ли в методе, то ли в случайных деталях, несомненно проглядывало. Максимализм голубоволосой начальницы, возможно, тоже накладывал некую печать заданности. Искоренив алкоголь, табак и карты, она и для игры в домино приспособила специальные столики, обтянутые звуконепроницаемым поролоном, а заодно приказала снести мостки на изобильном непуганой рыбой озере. Не то что с «торпедой» либо «мордой» туда была дорога заказана, но даже с обычной удочкой. Пусть не стеклянная стенка, но какая-то искусственная граница ощущалась определенно. Природа, как вольная, так и замкнутая в клетку, представала объектом для любования, не более, а люди, которые, сменяя друг друга, появлялись в «Вальке», привыкли перекраивать ее самым решительным образом. Тем более что за редким исключением это были здоровые энергичные ребята, нуждающиеся лишь в кратковременном отдыхе. Оттого, верно, и возникло ощущение несоответствия, неявный, но настораживающий диссонанс. База на Лене-горе, хоть и звенела от комаров, надо думать, больше отвечала идеалам старого доктора. Но кормили и, главное, лечили в профилактории превосходно. Люди возвращались на работу окрепшими. На данном этапе, вынес окончательное заключение социолог Лосев, это главное. Уже смеркалось, когда он совершенно случайно набрел на тихую поляну, где росли подберезовики и мухоморы фантастической величины. Привезти в Москву подобную диковинку показалось заманчиво, но едва рука коснулась прохладной коричневой шляпки, гриб скорчился и опал, словно из него выпустили воздух. Точно так же повел себя и другой подберезовик, когда Герман Данилович попытался выдернуть его из розового моха. Припорошенная снежком поляна, где на багульниковых кочках блестела обледеневшая лапчатка и голубика, оказалась заколдованной. Она пережила свое время и только холод поддерживал призрачное существование ее эфемерных даров. Золото ведьм под ногами превращалось в золу. Хрупали кристаллы сухого льда, и от ягод оставалась лишь раздавленная оболочка, словно клочья резины от лопнувшего воздушного шарика. За два с половиной месяца Лосев ухитрился перелистать весь календарь на глазах угасавшей тундры. Промелькнули, как на киноэкране, и весна, и лето, и осень, на крыльях ночи неотвратимо летела зима. Главное, точнее, единственное время заполярного года. Она никуда и не уходила с болотных пустошей и чахлого редколесья. Напоминая о себе то снежным зарядом, то паковым льдом, таилась в непотревоженных недрах или бушевала от избытка сил, когда корежили землю морозобойные трещины. Самое жестокое и самое великолепное оставалось за белым кадром снегового покрова, за черным кадром ночного неба. Лосев корил себя, что уезжает, в сущности, очень не вовремя. Он слишком глубоко для рядовой журналистской командировки влез в чужие проблемы, слишком сжился с чужими судьбами, чтобы так вот сразу, на резком подъеме, оборвать живые человеческие связи. Без боли и сожаления это сделать было невозможно. Раз уж не сумел уехать месяц назад, следовало дождаться хотя бы полярной ночи. Увидеть, почувствовать, пережить то, о чем нельзя судить по рассказам других, кинофильмам и книгам. Но все отпускные резервы были исчерпаны, и ректор через редакцию напомнил об этом весьма недвусмысленной телеграммой. Свой долг перед газетой Герман Данилович выполнил, но беспокойное ощущение незавершенности не давало ему покоя. Лучше, чем кто бы то ни было, он понимал разницу между поставленной и решенной проблемой. И тем острее переживал свой неумолимо приближающийся отъезд, что не находил единственно верного рецепта. Да и был ли такой вообще? Думая о Мечове, он чувствовал себя чуть ли не дезертиром, который бежит с переднего края перед решительным, долго и тщательно подготовляемым боем. Доводов для самооправдания нашлось бы сколько угодно, но вопреки логике, которой не всегда удается объять глубину человеческих отношений, чувство вины не проходило. Тогда, на выставке, Мечов раскрылся ему совсем с иной, неожиданной стороны. Незащищенный, растерянный, он молил глазами о помощи, понимая, что никто не в силах ему помочь. С запоздалым раскаянием вспоминал Герман свой жалкий лепет насчет замещения и прочей подсознательной ерунды. Человек един, и жизнь его, окрашенная иллюзией бессмертия, творится в едином потоке. Все свое он несет с собой. Душу и ум, что работают, не подчиняясь служебному распорядку. Никто не мог подсказать Мечову, как быть и что делать. И все же на крутых поворотах так нужно, чтобы кто-то был рядом. Порой слово сочувствия значит больше многих премудрых слов. Но он и его не сказал, сбежав зачем-то в профилакторий, где смертная скука помогла оглядеться и упорядочить мысль. Но зачем?.. Вновь и вновь он мысленно возвращался к заголовку своей первой статьи. В самом деле: как управлять этим невиданным в истории заполярным гигантом, где от мелочей быта, от погоды, от окружающей суровой природы более чем где бы то ни было зависит большое современное производство. Алое пятно, мелькнувшее в неживом сумраке тонкоствольного леса, невольно привлекло его внимание. Он вгляделся и, признав знакомое пальто и спортивные брюки, обрадованно позвал: — Люся! Она испуганно замерла и медленно обернулась на зов. — Какими судьбами, Люсенька? — крикнул он на бегу. — Я живу здесь, Герман Данилович, — без улыбки ответила она. — Вот уже третий день. — Как странно, что я вас не видел! — сказал Лосев, приноравливаясь к ее шагам. Девушка показалась ему немного похудевшей. Это ей было определенно к лицу. Ранее расплывчатые черты обрели одухотворенную четкость, а чрезмерно яркий румянец приглушил загар. Только глаза, хоть и темнела под ними усталая тень, сохранили прежнее доверчиво-удивленное выражение.
— Очень странно, — повторил он. — Тут все на виду. — Мне только сегодня разрешили немного погулять, а я вон куда забралась. — Вы были больны? — удивился Лосев. — Что с вами? — Что со мной, Герман Данилович? — беспомощно дрогнули ее губы. — Мне и самой это хочется знать, — она прислонилась щекой к деревцу. — Или не хочется? — спросила, прислушиваясь к себе. — Давайте присядем, — Лосев бережно увлек ее в сторону тропы, где на каждом шагу встречались бревенчатые лавки. — Подумаем, как нам быть. Они нашли защищенное от ветра местечко, окрашенное последними лучами грустного солнца, расплющенного над ржавой каймой леса. Снег вокруг изрядно подтаял, и было почти тепло. Расстегнув верхнюю пуговицу, Люся принялась рассказывать о том, как получила открытку и легла затем на исследование, но так до сих пор и не знает, что у нее нашли. — Помните тот случай на Ламе, когда мне стало плохо? — Неужели с тех пор? Назавтра ведь у вас все прошло. — Валентина Николаевна сказала, что лучше немного передохнуть от всяких анализов. Поэтому меня и отправили сюда, сил поднабраться, — заключила Люся. — Недели через две опять лягу. — Туда же? — Говорят, снова на исследование. Будут окончательно решать, что со мной делать, — она потянулась застегнуть пуговицу, но почему-то никак не могла совладать с петлей. — Давайте помогу, — предложил Лосев. — Это что у вас, амулет? — спросил, коснувшись кожаного мешочка. — Вроде, — она попыталась улыбнуться. — Мальчик один подарил на счастье. Умненький такой, красивый… Тоже у Валентины Николаевны лежал. Операцию ему сделали. — Удачно? — Да, все в порядке, выписался. — Вот видите! — Ах, какой Валентина Николаевна замечательный человек!.. Не знаете, как у них с Андреем Петровичем? — Не знаю, Люся. Хочу верить, что хорошо. Он очень ее любит. — Любить это ведь так мало, — Люся покачала головой, — я много чего в палате передумала по ночам. Нужно жить для другого. Полностью. Только не жертвовать собой, а радоваться, что есть у тебя такое. Понимаете? — Понимаю, хоть и не могу во всем согласиться. Любовь, конечно, каждый по-своему чувствует, но это совсем не мало — любить. Гораздо больше, чем вам сейчас кажется. Вот увидите. — Увижу ли? — Обязательно. Недаром же нить счастья надели? Все у вас, Люсенька, будет великолепно. Я знаю, что говорю. — Помните, вы нам на Лене-горе такой же знак показывали? Наскальный? — Как же! На полпути к водопаду. — Спартак, мальчик тот, говорил, что весь Путоран помечен. Вы верите? — Не только верю, но даже надеюсь когда-нибудь пройти этой славной дорогой и отыскать Золотого бога. — Идола? — Каждый идол был для кого-нибудь богом. Помните афоризм Гейне: «Бог создал человека по своему образу и подобию, а человек отплатил ему тем же»?
Они добрались до профилактория, когда лихорадочные синие сумерки густой тушью залила ночь. Далекие бледные звезды, и те едва проглядывали сквозь волокнистую мглу. Но внезапно резко и сильно задул пронизывающий северный ветер, и стало почти светло. Тусклым перламутром обозначился отсвет далеких арктических льдов. Словно ледовая полоса прочертила таймырское небо. Чистым листом бумаги проглянула в темноте.
К ЮГУ ОТ ЛИНИИ
(Повесть)
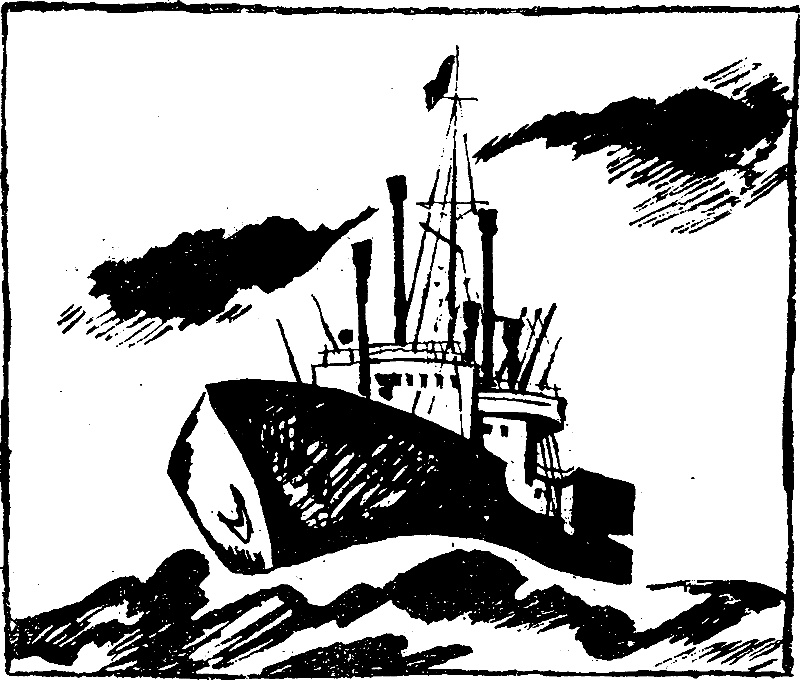
СУДОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
На тридцать четвертые сутки теплоход «Михаил Лермонтов» находился в семистах примерно милях к юго-западу от Азорских островов. Благополучно доставив контейнеры в порты Канады и США, судно с полной загрузкой возвращалось в Италию. По существу, это был его первый линейный рейс, хотя вне строгого графика контейнеровоз и ранее ходил из Ильичевска в Нью-Йорк, а по Сивею — через систему Великих озер — до самого Детройта. Когда минутная стрелка судовых часов приблизилась к красному сектору, начальник радиостанции Василий Михайлович Шередко, человек на судне новый, а потому особенно ревностно выполняющий свои обязанности, подменил помощника и занял место у пульта. Начинался сайлинг-период для радиотелеграфии, когда все судовые радиостанции и береговые центры обязаны вести «слуховое наблюдение» на международной частоте вызова и бедствия 500 килогерц. В эти минуты — от пятнадцатой до восемнадцатой и от сорок пятой до сорок восьмой каждого часа вахты — прекращаются все передачи, кроме обмена, связанного с сигналами бедствия, срочности и безопасности. Глянув на циферблат, крестообразно разделенный узкими клиньями секторов, Василий Михайлович надел обруч и откинулся в поворотном кресле. В наушниках, потрескивая дальними разрядами, плескалась тишина. Настороженная, глухая, похожая на мертвую воду, скупо мерцающую лунными бликами в прямоугольнике иллюминатора. Опускаясь в шуршащий, завывающий случайными помехами омут, Шередко непроизвольно задерживал дыхание, и когда истекали минуты молчания, словно выныривал на поверхность с последним пузырьком воздуха в легких. С годами острота этого вначале столь необычного ощущения сгладилась. Оно как бы ушло в подсознание, размытое обыденностью, низведенное почти до рефлекса. И все же, подобно врачу, который, несмотря на профессиональную привычку к чужому страданию, нутром отзывается на людскую боль, радист испытывал беспокойство когда наступал срок вновь нырнуть в немоту эфира. И всегда облегченно переводил потом дух и, как аквалангист тесную маску, стаскивал обтянутый кожей обруч. Минуты прослушивания в режиме радиотелефона — от нулевой до третьей и от тридцатой до тридцать третьей — переживались легче. Возможно потому, что взрывавшиеся в тишину голоса всякий раз были непохожими и говорили о разном, хотя и начинали с общего для всех слова «иси», за которым следовали позывные или трижды повторенное название судна. Лишь короткая очередь морзянки, хоть и был свой почерк у каждой руки на ключе, неизменно взывала все об одном:… ――― … … ――― … … ――― …За двенадцать лет, проведенных в дальних походах, не помнил Шередко такого рейса, когда бы чей-то взволнованный ключ или отчаянный голос не врезался в оглохшую пустыню, дробя ее зовом о помощи. Порой такие Сигналы приходилось принимать чуть ли не каждое дежурство. Чаще всего бедствие терпели бесчисленные яхты и катера: то вблизи берегов, то в оживленных проливах или трудных узкостях, где способен пройти только профессионал с высокой мореходной квалификацией. Ночью, а тем паче в туман, когда маневры по расхождению требуют искусства, столкновения случались особенно часто. Впрочем, не о них речь, потому что в таких случаях обычно не выходят в эфир. Разве что на УКВ-диапазоне, предназначенном для обмена в условиях прямой видимости.
Закончив прослушивание, Шередко выдвинул пишущую машинку, подключился к магнитофону, где уже стояла бобина с ускоренной радиозаписью, и принялся за расшифровку навигационного предупреждения, именуемого кратко НАВИП. Несмотря на пробелы, возникшие при приеме, оно оказалось длинным и малоинтересным. По мнению Василия Михайловича, должного внимания заслуживали лишь оповещение о военных маневрах в квадрате 41 и сведения о передвижении бочки из-под горючего, которая за истекшие сутки прошла без малого тридцать миль. Вот уже третий день злополучная бочка попадала в сводки НАВИПа. Подхваченная Канарским течением, она неуклонно спускалась к югу от Гибралтара, постепенно заворачивая на запад. «Лермонтову», который по дуге большого круга шел к Сеуте, до встречи с дрейфующим предметом было еще ой как далеко. Не говоря уже о ничтожной ее вероятности. Но почти маниакальное упрямство НАВИПа, который точно помешался на бочке, невольно настораживало. Утром Василий Михайлович заметил, хотя и не подал вида, что капитан нанес последний координаты злокозненного барреля на карту. Очевидно, чем-то не понравилась ему эта штуковина, притопленная и потому особо опасная. Перепечатав НАВИП, Шередко выключил магнитофон, с наслаждением потянулся и освободился от наушников. Привычную дрожь стального корпуса, шипение разрезаемых вод и вздохи океана он ощущал как полную тишину. Как непохожа она была на глухой рокот эфира, насквозь пронизанного электромагнитными волнами, отголосками взрывающихся в атмосфере космических ливней и солнечной радиацией. Достав из обитого жестяной полосой грубого ящика бутылку «куяльника», Василий Михайлович выпил полстакана солоноватой одесской минералки, которая, если верить медлительным старикам, дремлющим под сенью каштанов, излечивала любые желудочные болезни. Он потянулся, привстал и, сделав несколько приседаний, прошел в смежный отсек. Окинув привычным глазом установку, рисующую карты погоды, беспроволочный телетайп и металлический шкаф с клавишами, в котором скрывались блоки аварийного передатчика, склонился над таблицей станций обслуживания. «Лермонтов» приближался к зоне, в которой «Сюрфей анализис кортен» уступает свою роль «Сюрфей прогнозис»[5]. Включив машину, подождал, пока резиновый валик выдаст белую кромку бумаги, и вернулся к пульту. Светящиеся часы на среднем блоке напомнили, что по судовому времени наступил новый день. Через несколько минут в радиорубку должен был подняться практикант Валера, выполнявший обязанности второго радиста. Оставалось лишь принять очередные радиограммы. Настроившись на нужнуючастоту — длина волны увеличивалась от утра к ночи, — Василий Михайлович вышел в эфир. Отстучав на скоростном ключе, работающем в горизонтальном режиме, свои позывные, перешел на прием. Пульт, на который были выведены клавиши приемных и передающих устройств, хоть и не слишком радовал глаз угловатыми формами, отличался безусловным удобством. Все находилось под рукой: переключатели диапазонов, верньеры, телефонная трубка. Выдвижная доска с бланками была приспособлена как раз под правую руку, а карандаши, шариковая ручка и ластик висели на прочных лесках и не терялись, как это обычно им свойственно в самый неподходящий момент. Качавшая теплоход зыбь несколько улеглась. Перестали звенеть бутылки в ящике, утихомирилась дребезжащая панель, за которой перекатывалась какая-то отвинтившаяся гайка. Зато явственнее зазвучала натянутая струна океана. Низкий рокот, переходящий в неслышимый, но пронизывающий все клетки тела инфразвук. Ветер, от которого то надувались парусом, то опадали и втягивались наружу занавески, дышал прохладой, солью и немного отдавал лавандой. Откуда лаванда, когда еще так далеко до берега? Усилив звук динамиков «Шторма», Шередко приготовился записывать на слух. Вскоре помещение наполнила прерывистая мелодия морзянки, тревожная, как гудок электрички, замирающий в кромешной тьме полынных степей. Прохлада, посвист ветерка в проводах, непонятная волнующая дрожь. Тире и точки, как дальние огни убегающих станций, словно освещенные окна поездов. Записав последнюю передачу, Василий Михайлович вновь выдвинул машинку и заправил в каретку бланк с грифом министерства морского флота и государственным гербом СССР. Перепечатав сообщения особой важности, остальные сложил в ящик. Они могли подождать. Прежде чем вручить радиограммы капитану, снял с обрезной линейки уже готовую карту погоды с координатной сеткой, электрографическими контурами материков, завитками циклонов, флажками и рисками, указывающими скорость ветра, числами давления и температуры. Перфорация с одного боку, оказалась слегка порванной, а дальний угол Атлантики — чуточку срезанным. А так ничего: вполне приличная карта. Выключив грохочущую машинку, которая уже начала выдавать новый лист, Шередко возвратился к пульту. Стрелка подходила к трехминутному сектору, отведенному для радиотелефона. Едва он успел переключиться на соответствующую частоту 2182 килогерц, как в микрофонах зазвучало «иси», потом пошли позывные и отчетливая русская речь: «Внимание, советским судам, плавающим в районе…»
НАВИГАЦИОННАЯ РУБКА
Навигационная рубка, объединившая ходовую и штурманскую часть, находилась на той же верхней палубе, что и радиостанция. Их разделял только трап, ведущий в нижние внутренние коридоры. В ночные вахты здесь было почти так же темно, как и на открытом просторе, где любой огонек отчетливо виден за несколько миль. Если не считать светящихся индикаторов и шкал, в рубке горела одна-единственная лампочка, затененная медным рожком. Пригнутая к штурманской стойке, она бросала на карту четко ограниченный круг. Не ослепляя глаз и не отблескивая на лобовом стекле, мягко оттеняла тихую полумглу. Покрытый черно-матовой, небликующей краской, потолок сливался с пустотой впереди, заполненной звездной пылью. Мачта с тифоном[6] на полубаке, нить передающей антенны и монолиты контейнеров, выстроенных в три этажа на грузовой палубе, казалось, падали в эту зияющую вселенскую пропасть, которая медленно покачивалась вокруг невидимой оси. Налитый красным накалом лимб главного компаса под потолком, словно преодолевая невидимое сопротивление, уходил влево, но тут же тяжело возвращался и, как бы по инерции проскочив румб, закатывался в другую сторону. Отметив положение судна на карте — очерченный остро отточенным грифелем безупречный кружок опять ушел в сторону от заранее проложенной по линейке прямой, — Вадим Васильевич Беляй, старпом, поморщился и, глянув на хронометр, записал время. Отметка, сделанная часом раньше, тоже лежала в стороне. Иного и быть не могло, потому что диск курсографа, повторяя перемещения прибора, установленного на рулевом автомате, направлявшем судно, то и дело отклонялся от заданного румба на семь-восемь градусов. В итоге это означало перерасход горючего и, главное, потерю времени. Впрочем, пока еще сохранялись хорошие шансы прибыть в итальянские порты тютелька в тютельку. Беляю нравились одинокие ночные вахты. Раскрыв бордовую с золотом коробочку «Данхилла» и поиграв бесшумной зажигалкой на пьезокристаллах, он со вкусом закурил, медленно выпустил из ноздрей дымок первой, самой желанной затяжки. Потеребив в раздумье серебряную цепочку на крепкой загорелой шее, вышел из-за стойки. Обогнув кронштейн с автоматическим блоком, который контролировал и записывал на ленту все маневры судна, ступил на открытую площадку. В лицо ударил бодрящий тугой ветерок. Оптический пеленгатор и поручни были влажными и мылкими от соли. Фосфоресцировал взлетевший от бульба[7] неистовый каскад, темнели силуэты шлюпок на рострах. Огней впереди не было. Вадим Васильевич полюбовался звездами, щелчком отправил за борт окурок, который, сверкнув печным угольком, пропал в тумане, колышущемся над взбудораженной водой. Он возвратился в рубку, включил локатор. Ярко-зеленый радиус принялся описывать круги в опалесцирующей глубине, где вот уже шестые сутки не рисовались контуры суши и только зыбкими тенями угадывались беспросветные тучи на горизонте. Точка на радиусе, вычерчивающая дымное кольцо, показывала положение судна. Других огоньков в линзе экрана не обозначилось. Бескрайняя пустыня простиралась вокруг. Тем и отличен океан от морей, что даже в наш век интенсивных передвижений суда в нем затеряны и предоставлены самим себе, точно космические капсулы на орбите. Беляя это вполне устраивало. Пустота на экране обещала полное отсутствие навигационных хлопот до конца вахты. Все делала автоматика. Авторулевой неуклонно возвращал судно на заданный курс, а оптимальные, выверенные в логическом блоке команды поступали на компоратор и расходились из ЦПУ — центрального пульта управления — по сложно разветвленным системам пневматики и электроники к движителям и рулевым механизмам. Только опознавательные огни по курсу могли заставить вахтенного взять управление на себя. И Вадим Васильевич для очистки совести извлек бинокль из фанерного, выложенного изнутри замшей ящичка и обозрел горизонт. Вещие иероглифы зодиака и тусклые вспышки пенных барашков виделись в овале. Воистину в дороге через океан было нечто от космического полета. Что ни ночь, то иначе рисовалось небо. Запомнив непривычное положение Веги и Волопаса, Вадим Васильевич удовлетворенно потянулся. «Стругаем мало-помалу, что ни день, то ближе к дому. Как только вышли из Балтимора в Чесапикский залив, так время на нас заработало. Если бы еще обороты, — глянул он на танцующую стрелку тахометра, — сто тридцать пять — это не обороты». Трудно выгребая против волны, судно ощутимо рыскало. Противный ветер и парусность, которую создавала контейнерная надстройка, существенно отягчали ход. Работая на полную мощность, машина могла бы сообщить приличную даже для такого неблагоприятного случая скорость, но развить обороты не удавалось вот уже четвертые сутки. Беляй снял телефонную трубку, набрал номер: — ЦПУ слушает. — Приветствую вас ЦПУ, старпом, что-то плоховато с оборотами? — Стармех находится здесь, — с достоинством, чуть помедлив, ответили из судовых недр. И тотчас же послышался раздражительный запальчивый голос деда: — Делаем все, что можем, Вадим Васильевич! Я третью вахту отстаиваю. Не надо нас нервировать. — Тринадцать узлов, Андрей Витальевич, это не ход, — прервал Беляй. — К тому же рыскаем, зарываемся. — Вадим Васильевич, вы не хуже меня знаете, что нужно останавливать машину. На ходу ничего сделать нельзя. Поговорите лучше с мастером[8]… У меня все. Беляй медленно опустил трубку. Дед был по-своему прав и, действительно, вкалывал до потери сознания. Очевидно, нельзя спрашивать с человека свыше его возможностей. Другое дело, что прежний стармех, до тонкостей изучивший каприз своенравных дизелей, умел развить ход и не в таких условиях. Зато и сам отличался норовом, почему, собственно, мастер и поспешил списать его на другое судно. «Потому и маемся теперь, — пожалел Беляй, — что не сошлись характерами титаны. А с Загороша что взять, слишком молод. Пока он лишь по судовой роли дед, а по уровню, как был вторым механиком, так и остался…» Вадим Васильевич привычно тронул свою серебряную цепочку, которая якобы предохраняла от острых прострелов. Мысленно разделывая на все корки Загороша, он как-то забывал, что оба они однолетки и тридцать пять — уже не молодость. Сам он ходил старпомом последний, на худой конец предпоследний рейс. В кадрах его уже давно готовили на капитана. А для мастера такой возраст — безусловно юношеский. Особенно в наше время, отмеченное усиленным интересом к проблемам геронтологии. С неожиданной четкостью выплыл каменный забор на дальнем конце улицы Нахимова и запруженный шумной, вечно куда-то торопящейся плавбратией особняк, где на некотором отдалении от пароходства разместилось управление кадров. Мелькнула смешливая мордочка пухленькой секретарши Жанны, чьи по-южному щедрые формы непременно вспоминаются на вахтах как к западу, так и к востоку от Суэца. Беляй попытался сосредоточиться на таблице, хорошо знакомой всем одесским морякам. Прикнопленная над картотекой плавсостава, она наглядно показывала, какие судовые роли на пароходах заполнены, а какие еще вакантны. Его, разумеется, волновала только первая, капитанская вертикаль. Пока там не было ни одной свободной клетки. Возможно, именно поэтому Вадим Васильевич упрямо думая не о будущем капитанстве, и не о старшем инспекторе Жоре Петрове, от которого оно во многом зависело, а о смуглянке в цветастом крепдешиновом сарафане. Дурацкое наваждение! И в самом деле, почему он должен вспоминать посреди полуночной Атлантики о девице, с которой едва обмолвился парой слов. Не о законной жене, к тому же вполне любимой? Беляй вернулся за стойку, вынул из ящика очередной лист карты и перенес последние координаты. Затем взял штурманские линейки и проложил курс. Шли, как положено, по дуге большого круга, которая в меркаторной проекции выглядела откровенной прямой. Складывая листы, заметил на самом последнем нестертую пометку и механически нашарил ластик. Но присмотревшись, обнаружил на короткой траектории вдоль Западного побережья Африки свежие даты, проставленные рукой Дугина. «Интересно знать, чей это путь прослеживает мастер, — подумал старпом. — Судя по пройденным расстояниям, объект плывет по течению. У каждого, в конце концов, свои заскоки. Но капитанские чудачества следует по меньшей мере уважать, если не брать их себе за образец». Резко толкнув дверь, в рубку вошел Анатолий Яковлевич Мирошниченко, третий помощник. Потягиваясь после сладкого сна, с хрустом размял кости. В облегающих джинсах с широким, украшенным металлическими кольцами ремнем и полосатой «бобочке» он выглядел типичным одесским живчиком, который своего не упустит, весельчаком и жуиром. — Привет, Васильич. — Привет, привет, — поднял голову Беляй. — Как спалось?
— Дом снился, — Мирошниченко сделал несколько энергичных приседаний. — Чайку бы с лимончиком и докторской колбаской, — заметил без всякой связи. — Смотри, как бы швы не полопались, — пошутил Беляй. — Уж больно упитаны-с, в теле, как говорится. — Не больше твоего… Сколько прошли за сутки? — Сейчас, — Беляй склонился над картой. — Триста десять, — сообщил, прикладывая измеритель к масштабной линейке, — не дотягиваем маленько. — Эдак мы до Сеуты и за шесть суток не дойдем. — Учти, что еще придется останавливаться. Дед намерен основательно покопаться. — Ничего себе! — Мирошниченко присвистнул. — А что мастер? — Спроси у него, — пожал плечами Вадим Васильевич, подвигая вахтенный журнал. Он зажег сигарету и педантично набрал новые координаты на панели аварийного автомата-передатчика. Можно было отправляться на боковую. Но согласно этикету следовало задержаться минут на пять и потравить. Мирошниченко, сложив руки на выпирающих из джинсов ягодицах, хозяйственно прошелся вдоль рубки. Включил на дальнюю дистанцию радар, проверил курс и, словно дачник, скучающий перед сулящим ненастье барометром, постучал в стекло, за которым трепыхалась стрелка оборотов. — Не нравится мне эта штукенция. Не позже двенадцатого, кровь из носу, треба в Одессу. — Что так строго? — от нечего делать поинтересовался Беляй, хотя был прекрасно осведомлен о видах третьего на текущее лето. Мирошниченко заочно кончал судоводительский факультет мореходного училища и в мае ему предстояла последняя сессия. — Я уже радиограмму на отпуск отправил, — с готовностью пояснил тот. — Сдаю экзамены и на персональных колесах и Крым. — С парой хорошеньких чудачек? — подыграл Беляй. — Чудачки подождут до счастливого возвращения из Ялты, следую с личной пантерой. Уверен, что в данный момент она уже точит коготки, — Мирошниченко мечтательно вздохнул, — придем в Геную, приобрету для нее в Колбасном переулке целую коробку разноцветного лака. Во шара ей будет! Представляешь, Васильич, синий, как море, маникюр с серебристыми блестками? — Как рыбья чешуя? — Шо? — не понял третий. — Блестки, — пояснил старпом. — Только не надо строить преждевременных планов. Даже если и придем в срок, я не поручусь за то, что синьор Туччи не подсунет нам десяток контейнеров на Стамбул. А что такое стамбульский терминал, ты знаешь. — Избави бог, тьфу, чтоб не сглазить, — Мирошниченко постучал по деревянному ящику с биноклем. — Хотя Эдик очень опасается. Беляй кивнул. Он уже обсуждал эту проблему с Эдуардом Владимировичем, вторым помощником, ответственным за груз, и мысленно примирился с задержкой рейса. Лишь бы итальянские порты обслужить точно в срок. Тогда они на коне, тогда золотая американская линия у пароходства в кармане. Собственно, это и явилось основной причиной спешки, из-за чего, не щадя ни сил, ни цилиндров, они гнали пароход[9]. Впервые для Черноморского пароходства, где только-только начал развиваться контейнерный флот, обозначилась благоприятная конъюнктура. Энергетический кризис, потрясший западный мир, привел к резкому увеличению цен на горючее и, как одно из следствий, фрахтовых ставок. Лабиринты, составленные из неотправленных контейнеров, превратили фешенебельные, столь похожие на международные аэропорты терминалы в некое подобие трущоб, где стаями бродили собаки и беспрепятственно плодились корабельные крысы, которых не брали даже фосфорорганические ядохимикаты. Существующие компании не располагали необходимым тоннажем судов, чтобы разгрузить эти эфемерные города, построенные из двадцати- и сорокафутовых дюралевых блоков. Именно тогда Одесса получила несколько теплоходов, способных перевозить контейнеры больших габаритов. Мысль о том, что они когда-нибудь бросят вызов таким гигантам, как всемирно прославленная компания «Си лэнд» — «Морская страна», казалась нелепой. Но реальность порой опережает любую фантазию. О том, что цены на сырую нефть вырастут в несколько раз, в докризисную эпоху тоже не заикались даже самые пессимистические предсказатели. Победив в честном соревновании другие суда, «Лермонтов», «Михаил Светлов» и еще три контейнеровоза получили линию, а вместе с ней и жесткий график грузовых перевозок. Невзирая на превратности морских дорог, лайнер обязан прибыть в намеченный порт день в день. Это не только требование, диктуемое экономикой, но и вопрос престижа. Впрочем, одно трудно отделить от другого, потому что экономические выгоды достаются только хорошо зарекомендовавшим себя фирмам. На море, как и везде, успех часто зависит от дебюта. И хотя Черноморское пароходство ожидало со дня на день новую партию контейнеровозов, превосходящих по своим качествам даже суда «Болт-Атлантик лайн», для первого рейса был выбран именно «Лермонтов». Точнее, его капитан. Начальник пароходства и секретарь парткома были уверены в том, что Дугин при любых обстоятельствах обеспечит своевременную доставку грузов в порты назначения. И невзирая на то, что Атлантика — в роковой точке «сорок норд, пятьдесят вест» — подвергла стальные борта и силовые установки весьма суровому испытанию, команда тоже не сомневалась в успехе. Подытожив на миниатюрном калькуляторе количество недоданных тонно-суток, Беляй прикинул имеющийся резерв и безмятежно потянулся. В общей сумме все выглядело не так уж плохо. Приоткрылась дверь, осветив локатор и тумбу подруливающего устройства. — Мастера нет? — спросил начальник радиостанции, ослепленный резким переходом от света к тьме. — Спит и просил не беспокоить без крайней нужды, — сказал старпом. — Кажется, настал именно такой случай.
КАЮТА КАПИТАНА
Шередко сбежал по трапу, едва касаясь голубого пластика, прутов, и, склонив по обыкновению голову к плечу, что делало ого похожим на птицу, зорко выглядывающую, куда клюнуть, энергично постучал в дверь капитанской каюты. Выждав немного, постучал еще. Но прошло несколько минут, прежде чем Дугин, щелкнув замком, приоткрыл дверь. Щурясь и оглаживая заспанное лицо, молча кивнул, приглашая войти. — Присаживайтесь, я сейчас, — бросил он, скрываясь в спальню. За переборкой, на которой была прикноплена карта мира, зашумел душ, и вскоре капитан вернулся, розовый, благоухающий английскими духами, в своих неизменных шортах и белой рубашке с погонами в четыре нашивки. Как обычно, этот внешне добродушный и уверенный в себе человек был деловит, собран и снисходительно невозмутим. — Желаете пива? — спросил Дугин, указывая на уютный диванчик в углу. Не дожидаясь ответа, который подразумевался сам собой, поставил высокие бокалы, корзину с бумажными салфетками, достал из холодильника заиндевелые жестянки датского пива. Критически оглядев сервировку, добавил пакетик соленого миндаля. — Прошу, — широким жестом обвел столик и, грузно опустившись на поролоновые подушки, уронил скучающим тоном: — Ну, что там у вас… Шередко молча протянул отпечатанный на машинке бланк. Капитан бегло проглядел, нахмурился и, мрачнея с каждой секундой, углубился в текст, словно надеялся вычитать между строк нечто обнадеживающее. Но содержавшаяся в радиограмме информация не подлежала двоякому истолкованию. Сухогруз «Оймякон», следуя из Америки в родной порт приписки Ильичевск, при неуказанных обстоятельствах потерял лопасть гребного винта. Авария произошла далеко от африканского берега, где-то на траверзе Вилья Сиснерос за сотни миль от Канарских островов. В результате ход упал до трех узлов и судно практически сделалось игрушкой волн. Обращаясь ко всем находящимся поблизости советским судам, капитан сухогруза Олег Петрович Богданов запросил помощь. Было совершенно ясно, что поврежденный теплоход нуждается в буксировке. Причем срочно, поскольку поступило штормовое предупреждение и дожидаться в открытом море судна-спасателя Богданов не мог. Из всех плавающих в Атлантике советских судов ближе всех к нему находился именно «Лермонтов». Но крайней мере предположительно. Вывод напрашивался сам собой. — Он что, «SOS» запросил? — не поднимая глаз, хрипло спросил Дугин и, кашлянув, прочистил горло. — «Иси». Радист вызывал только наши пароходы. По радиотелефону… «Что ж, — подумал Константин Алексеевич, — в действиях Богданова, хотя непонятно, почему у него так резко упал ход, есть известный резон. Пока не налетел шторм и ситуация не сделалась непосредственно угрожающей, он не паникует, хочет «сохранить лицо». Видимо, не сомневается, что это ему удастся. Да и может ли быть иначе, если рядом наверняка окажется простак, вроде него, Дугина. Хочется этому дуралею или не хочется, но он вынужден будет выручать Олега Петровича, хотя тот без зазрения совести всего за день до отхода перехватил предназначенные «Лермонтову» запчасти. Ценой, как говорили злые языки, ящика с греческим коньяком «Метакса». Но бог с ними, с запчастями этими, не в них дело. Дугин и без того хорошо знает Олега Петровича. Имел, как говорится, несчастье дважды ходить с ним вокруг Африки, когда был закрыт Суэцкий канал. И вообще судьба не раз сталкивала их на узкой дорожке. По-видимому, в жизни есть некий квазипериодический закон, повторяющий неприятные встречи. Дешевый эффект заезженной пластинки. Чего же удивляться, если в этот самый момент, когда, кажется, все идет хорошо и ты близок к финишу, на горизонте возникает Богданов и его «Оймякон». Это считается в порядке вещей. А ведь ежели хорошенько разобраться, порядком тут и не пахнет. На пароходах, которыми командовал Богданов, о нем и слыхом не слыхивали. Почему вообще на Черном море должно быть судно с таким заполярным названием?» Ответа на свои вопросы Дугин так и не нашел. Впрочем, все это была лирика, всплески эмоций. С первого же момента, едва пробежав глазами принятый по радио текст, Дугин знал, что пойдет к «Оймякону». Собственно, иначе и быть не могло. Тот же Богданов Олег Петрович, окажись он на месте Дугина, принял бы точно такое решение. Не только личные взаимоотношения, но даже деловые соображения в подобной ситуации отходят на второй план. Трудность заключалась не в том, чтобы найти принципиальное решение — оно было налицо, одно-единственное, — а в том, как его осуществить. — Карту погоды, — сказал капитан, — и последний НАВИП. — Сейчас, — начальник рации сорвался с места. Оставшись один, Дугин в раздумье прошелся по каюте, присев на краешек стола, снял трубку. — Анатолий Яковлевич? — осведомился он, набрав мостик. — Рассчитайте мне, голубчик, расстояние до… — заглянув в бланк, назвал координаты. — Будет сделано, Константин Алексеевич, — солидно, со сдержанной готовностью, пообещал третий. Потянув за кольцо, Дугин открыл банку. Из отверстия горьковато и нежно дохнуло туманом. Наполнив бокал, жадно втянул мылкую, отдающую хмелем пивную пену. — Разрешите войти? — проскользнул в каюту Шередко. В руках у него были листы навигационного предупреждения и электронно-графическая карта погоды. Не получив приглашения садиться, он остался стоять возле ящика с землей, где росли чахлые бегонии и зеленый лук. — Быстро спроворил! — неопределенно улыбнувшись, покачал головой Дугин. — И карту снял, и контакт с богдановским маркони установил. Небось, кроме нас, никто на их вызов и не откликнулся? Могу себе представить! Одни наши позывные в их журнале и значатся… Шередко почел за благо промолчать. Он чувствовал, что капитан расстроен и предельно озабочен, а потому бесполезно спорить. Сам успокоится. — Так, — Дугин машинально допил пиво и отложил карту. — Шторм в том районе может разыграться не ранее, чем через двое суток. Разумеется, если ветер не переменится. Так что есть время покумекать… Свободны, Василий Михайлович! — Ответа не будет? — удивился Шередко. — Пока, — со значением сказал Дугин, — не будет. Работайте только на прием. Время как следует поразмыслить у Дугина действительно имелось. Общая картина ветров и течений складывалась так, что можно было не спешить с маневром. Вступать в непосредственный контакт с Богдановым, пока все до конца не продумано, он не хотел. Позвонил третий помощник и доложил, что до указанной точки четыреста двадцать миль. — Ход? — спросил капитан. — Двенадцать с половиной узлов. Старпом звонил в ЦПУ… — Знаю. Ветер? — Ветер, Константин Алексеевич, порядка пяти баллов. Идем под острым углом, но если забрать к югу, то скорость еще больше упадет. Ранее, чем за сорок часов, нам туда не добраться, — Мирошниченко умолк. По его учащенному дыханию можно было догадаться, что он одновременно беспокоится и сгорает от любопытства. — Ложимся на другой курс? — не выдержал третий помощник. — А, Константин Алексеевич? — Сорок часов, говоришь? — задумчиво протянул Дугин. — Так, так. Это, конечно, долго, но все-таки мы успеем подойти раньше шторма. — Какого шторма? — удивился третий. — Крадемся позади циклона, Константин Алексеевич, как велели. — Вот и идите, — жестко бросил Дугин. — Курс прежний. — Есть прежний курс. Дугин лишний раз убедился, что нужно все как следует взвесить. Ситуация оказалась куда более сложной, чем он думал в первую минуту, когда прочел радиограмму. Конечно, «Лермонтов» принадлежал к последнему поколению автоматизированных, отличающихся высокой надежностью контейнеровозов. Но даже самым современным судам не рекомендуется идти к центру циклона. Напротив, все мореходные инструкции настоятельно предписывают как можно скорее покинуть опасную зону. Положение складывалось незавидное. Под полной нагрузкой судно едва выгребало при семи-восьми баллах. О том, чтобы подцепить «Оймякон» на буксир, нечего было и думать. В лучшем случае придется сопровождать его до Сеуты или до Канар, чтобы забрать, если дело примет крутой оборот, команду. Впрочем, взять людей на борт тоже не так просто. По всем объективным показателям «Лермонтов», как, впрочем, и любое другое специализированное судно, на роль парохода-спасателя не очень подходит. Тем более в штормовых условиях, когда понадобится трос никак не менее семисот ярдов. Не говоря уже о машине, грузе и габаритах, что трудно вписываются в океанскую волну. Одним словом, и так плохо, и этак нехорошо. Все зависело от циклона. Иначе говоря, от стихии, капризной, неуправляемой. Нужно было не только поспеть к поврежденному сухогрузу до шторма, но и выскочить из опасного района прежде, чем начнется круговерть. Напряженно вглядываясь в изолинии атмосферных фронтов, Дугин пытался предугадать тот единственный путь, который наберет для себя депрессионная воронка. Ее траектория могла быть крутой или пологой, сжатой и расширенной, как отработавшая стальная спираль. И от этого зависело, в сущности, все: курс, скупо отмеренное время, может быть, жизнь. В море прямая редко бывает кратчайшим расстоянием между двумя точками. Пока выходило, что «Лермонтову» лучше держаться прежнего курса, оптимального, выверенного. Дугин знал, какие суда уже ходят на ленинградской линии и вскоре придут на смену контейнеровозам типа «Лермонтов» и здесь, в Черноморском пароходстве. Его задача продержаться лишь этот, единственный рейс, застолбить место для скоростных лайнеров с горизонтальной разгрузкой. Тем обиднее было выходить из игры под самый занавес. Но беда на то и беда, что выбирает самое неподходящее время. Покосившись на нетронутую банку «Карлсберга», Дугин отправил пиво назад в холодильник, затем включил кофеварку и налил себе рюмочку рубинового и горького, как хина, «кампари». Приготовился бороться со сном. С запоздалым раскаянием подумал, что радист так и не притронулся к пиву.* * *
Начальник радиостанции находился в это время в навигационной рубке и со всеми подробностями рассказывал о принятой радиограмме третьему помощнику. — Считай, что будешь сдавать экзамены осенью, Яковлич, — заключил он. — Две недели псу под хвост. Это самое меньшее, помяни мое слово. И так-то еле тянемся, а то три узла. Подумать и то страшно. Кошмар! — Вот не было печали… Неужто кроме нас некому? Ты бы поискал. — Попробую пошарить, — с сомнением покачал головой Шередко, — может, кто и объявится. — Сделай доброе дело, — продолжал, заискивая, Мирошниченко. — В первый же вечер в «Украину» пойдем: шашлычок, шампанское, коньяк «ОС». — Та мне нельзя, — отмахнулся Василий Михайлович. — Диета, — он тихо засмеялся, сморщив нос и зажмурив глаза, отчего лицо его приняло по-детски трогательное и беззащитное выражение. — Я и так уважу тебя, Яковлич, не журись! — А капитан что? — продолжал допытываться третий. — Он-то как собирается действовать? — Молчит пока, — Шередко махнул рукой, — только и так все ясно. Сам понимаешь, что иначе он поступить не может. И никто бы на его месте не смог. Одним словом, прокладывай курс на «Оймякон», вот тебе мой добрый совет! — Оно, конечно, морской закон, — согласно кивнул Анатолий Яковлевич, — свой долг мы исполним… Но что если какой иной выход отыщется? — не желал он расставаться с надеждой. — Капитан у нас жох. Кстати, Михалыч, ты радиограмму в пароходство отбил? Это ведь первое дело в таких случаях. — Капитан мне пока ничего не говорил… да оно и понятно. Надо же изучить обстановку, прикинуть, как следует… А в Одессе сейчас дрыхнут, — он сладко потянулся, — у них там сейчас пять, не более. Так что берись за линейку, штурман. — Это дело недолгое, новый курс проложить, — вздохнул Мирошниченко. — А вот как «Оймякону» помочь и груза не лишиться, тут есть над чем покумекать. Позвоню-ка старпому. Небось, не успел лечь… Беляй действительно еще не ложился. Постояв после вахты под душем, выпил бутылочку испанского пива, похожую на пузырек из-под микстуры, и занялся выпиливанием рамки. Это было его хобби. Подбирая в портах бруски драгоценного дерева, он делал из них превосходные декоративные рамки, которые затем тщательно полировал наждачной бумагой и покрывал лаком. Один такой шедевр с четырьмя латунными болтами в углах украшал капитанскую каюту. Резкий звонок судовой АТС застал Беляя в ответственный момент, когда полотно лобзика мягко входило в розовую древесину американской секвойи. Новая рамка предназначалась для фотопортрета жены с сыном Игорем на руках. — Старпом, — недовольно буркнул Беляй в микрофон. Молча выслушав сообщение Мирошниченко, сопровождавшееся крайне эмоциональными оценками ситуации, Вадим Васильевич выкурил сигарету, вытряхнул пепельницу в иллюминатор и бросил пустую бутылку. Прежде чем войти в спальный отсек, придирчиво огляделся — все ли на месте — и спрятал орудие ремесла. Распахнув платяной шкаф, снял с плечиков синюю куртку с черными в три нашивки погончиками старшего офицера. Через две минуты он поднялся в навигационную рубку. — Проложил курс? — бегло осведомился, проходя за стойку. — Где мы сейчас? — Приблизительно вот тут, — Мирошниченко направил свет на центр карты и сомкнутыми иглами измерителя указал положение теплохода на карандашной прямой. — До шторма определенно поспеем, а как выбираться будем, пока неясно. Включив тумблеры навигационной системы «Лоран», Беляй склонился над картой. — Константин Алексеевич подтвердил прежний курс, — со значением заметил третий помощник. — И вообще никаких официальных сведений пока не имею. — По-твоему, начальник рации принес сплетни с толкучки? Нечего тянуть резину, попробую вычислить обходный маневр, — сказал Беляй, подвигая к себе лоцию, таблицы и подшивку принятых по радио навигационных извещений. — Когда капитан отдаст приказ, у нас все должно быть готово. — Оно-то верно, — с некоторым сомнением протянул третий. — Ты полагаешь, что моряк может поступить иначе? — Нет, разумеется, — Мирошниченко на секунду смешался, — такого у меня и в мыслях не было, но видишь ли, Васильич, в пароходство он пока не радировал, а без согласования… Сам понимаешь.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ
Сменив третьего механика Дикуна, на вахту заступил Юра Ларионов. По обыкновению он взял с собой в ЦПУ[10] книгу. На сей раз это была «Жизнь взаймы», в которой вместо закладки лежала засушенная глициния, сорванная в Неаполе, последнем итальянском порту. Не в пример навигационной рубке, недра теплохода круглые сутки озарены резким светом люминесцентных ламп. На стальных платформах, расположенных в три этажа и соединенных между собой крутыми решетчатыми трапами, относительно свободно размещены дизельные двигатели, генераторы, вспомогательная паросиловая установка, опреснитель и прочие жизненно важные органы налитого могучей дрожью судового организма. Здесь, словно в цехах завода-автомата, редко увидишь людей. Только ряды окрашенных в яркие тона машин, над которыми взлетают коромысла рычагов, где неистово снуют шатуны, истекающие горячей смазкой, и воют размазанные в жарком воздухе шкивы. Даже сквозь сон моряк ощущает слитный рокот машины. Стоит ей сбросить обороты и замереть, как люди начинают просыпаться и тревожно вслушиваться в непривычную тишину. Все механизмы: от гребного вала на дейдвутах[11] до заботливо выкрашенной серебрянкой ассенизационной цистерны, где собираются судовые отбросы, — так или иначе связаны с ЦПУ, который как и положено мозгу, находится на верхней платформе. Это единственный отсек, который никогда не пустеет. В любое время суток за пультом можно застать как минимум одного из четырех судовых инженеров. Обычно сюда забредают перевести дух и другие, занятые на вахте, механики, а то и электрики, когда возникают какие-нибудь неполадки по их части. На центральный пульт выведены датчики и пусковые кнопки всех судовых систем. Справа от кресла оператора находится наборный диск и утопленная в панель телефонная трубка, слева клавишное устройство, с помощью которого в электронно-вычислительную машину вводится программа. Над строгими пунктирами кнопок и эбонитовыми ручками переключателей мерцают индикаторные глазки, в которых дрожит неяркое неоновое свечение. Сложнейшей системой кабелей и пневматических шлангов, подобной солнечному сплетению, пульт связан с высокими, в рост человека, блоками, где за дюралевыми панелями скрываются бесчисленные реле и электронные схемы. От этих вечно бодрствующих нервных узлов командные сигналы расходятся в самые отдаленные закоулки. К ним-то в виде электрического импульса стекается информация от всех, без исключения, работающих устройств. Резервные системы, подобные противопожарной, тоже выходят на пульт и могут быть приведены в действие простым нажатием кнопки. Впрочем, стоит повыситься температуре в каком-нибудь из отсеков, как противопожарная система сработает без всякого вмешательства. Так же автоматически включится и станет вырабатывать ток запасной генератор, если вдруг остановится основной. На долю человека остается не столько управление, сколько контроль и, конечно, непредвиденные ситуации, которые могут поставить в тупик любой электронный мозг ограниченной емкости. Но в обычное время сидящий за пультом оператор не управляет судном, которое, повинуясь заданной программе, ведет себя, как живой и, главное, разумный организм. Он лишь наблюдает за показаниями приборов и ожидает приказов навигационной рубки, чтобы в любую минуту нажать соответствующую кнопку, передвинуть необходимый рычаг. В центре пульта смонтирован барабан машинного телеграфа, чья указательная стрелка обычно нацелена на «полный ход». В отличие от прошлых поколений судов, машинный телеграф автоматизированного теплохода тоже соединен с ЭВМ, которая, прежде чем принять к исполнению очередную команду, проверяет ее на «разумность», сравнивает с режимом всех работающих систем. Когда по приказу капитана или вахтенного помощника, штурвальный передвигает медную ручку машинного телеграфа, включается зуммер электронного блока и под щелканье реле осуществляется невидимый для глаза перебор, вариантов. Затем через две-три секунды звук умолкает, и тогда можно быть уверенным, что машина приняла сигнал к исполнению. Она же рассылает его по бесчисленным разветвлениям электрических артерий и наполненных воздухом жил. Устроившись с ногами в операторском кресле, второй механик Ларионов раскрыл «Жизнь взаймы». С того утра, как «Лермонтов», покинув Балтимор, вышел в Атлантику, передохнуть можно было только на вахте. С удивительным постоянством машина чуть-чуть не дотягивала до нужных оборотов. На мостике нервничали, дед пребывал на грани истерики и вообще не стало никакой личной жизни. Даже во сне преследовали производственные видения. Бесшумно вращался маховик гребного вала, и было до безнадежности ясно, что он оборачивается медленнее, чем нужно, стучали в висках клапана, не давая забыть про лабрикатор, какие-то дурацкие прокладки, про вечный, как мир, нагар на поршневых кольцах. Мало того, что жизнь действительно дается человеку как бы взаймы, она еще требует от него ежедневных жертв, своеобразной выплаты процентов. Толкнув плечом застекленную дверцу, вошел Загораш. Бросил на полку асбестовые рукавицы и молча нацедил полстакана газировки. Выдав чахлую струйку — очевидно, кончилась углекислота в баллоне, — автомат с печальным вздохом иссяк. — Все разладилось, — стармех жадно опрокинул стакан и сразу же налил еще. — Не доливают, не додают, — он отер жирный от нигрола лоб. — Останавливать надо, к чертовой матери. А так ничего не сделаешь — мартышкин труд… Что читаешь, Юр? Ларионов показал Загорашу обложку. — Перечитываю со скуки. И библиотеке ничего путного нет. Когда думаешь останавливать? — Да я хоть сейчас. Но мастер чего-то тянет. Не пойму его, честное слово! Ну, не додаем мы, ну, набегает тридцать миль в сутки… Что же, кровью теперь блевать? Остановка предусмотрена графиком. Ее все равно придется сделать. Верно говорю? Так лучше раньше, чем позже, я так понимаю. Нет, Юра, не выйдет из меня стармеха. Вторым я был на месте, это точно. А здесь… Железную хватку надо иметь и луженую глотку. Иначе ничего не получится. Да разве втолкуешь? — Попробуй потверже, — посоветовал Ларионов. — Дед — полный хозяин в машине, и его слово — закон. — А ты бы сумел? — вздохнул Загораш. Ларионов ответил ему понимающей улыбкой. Возразить было нечем. — Так-то, друг, — Загораш хотел было похлопать товарища по плечу, но, глянув на замасленную ладонь, махнул рукой. — Сам все понимаешь. Мы ведь даже внешне с тобой схожи. Высокие и худощавые, с романтической небрежностью подстриженные под битлов, механики в самом деле во многом походили друг на друга. Обоим была присуща та особая внутренняя деликатность, которая дается человеку с рождением и не покидает его до последнего дня, невзирая на все превратности жизни. На этом, собственно, сходство кончалось. Ларионов, казавшийся более утонченным и даже ранимым, удивительно легко, с непоказной и потому особенно подкупающей небрежностью переносил как физические, так и моральные испытания. Ему были чужды лихорадочные метания Загораша, который с поразительной быстротой то воспламенялся безудержным восторгом, то впадал в глубокое уныние. По-настоящему сильно он страдал лишь от разлуки с женой, которой сохранял редкую верность. Она, видимо, платила ему тем же. Во всяком случае, когда судно вставало к причалу, первой взбегала по трапу именно Люся Ларионова. Оставалось лишь удивляться, как она ухитрялась опережать власти. Портовикам и плавсоставу это казалось совершенно непостижимым. Дед тоже испытывал к законной супруге нежные чувства. Но по-своему. Он буквально засыпал ее взволнованными радиограммами, зачастую превышая положенный лимит в пятьдесят слов, поскольку вообще был не чужд сочинительству и в свободные от работы минуты кропал сентиментальные лирические стишки. Пребывая в перманентном состоянии влюбленности, он не оставлял без внимания ни одной представительницы прекрасного пола и, закончив очередной поэтический опус, никогда не забывал снабдить его соответствующим посвящением. По этой причине избегал приносить тетради со стихами домой. Любовная хроника, в основном платоническая, но способная составить документ эпохи, сохранялась в сейфе вместе с техническими паспортами и прочей скучной материей. Посидев в молчании, — обоим казалось, что они удивительно понимают друг друга в такие минуты, — механики обменялись сочувственной улыбкой. — Ну что, полегчало немного? — спросил Ларионов. — Отлегло малость от сердца, — прояснел взором Загораш. — Посижу чуток и пойду к себе в преисподнюю. — Да не надрывайся ты так. Кому это надо? Лучше поставь вопрос ребром. Поверь моему опыту, мастер не станет тебе перечить, если поймет, что положение действительно сложное. Ты сам во многом виноват. — Интересно, в чем же? — Хотя бы в том, что не умеешь настоять на своем. Мы должны были начать ремонт еще вчера. Так? Значит, никаких разговоров. Кровь из носу. — Они же вдвоем на меня насели! — с запоздалым сожалением защищался Загораш, который, как ребенок, мог вновь и вновь переживать уже отыгранные сцены. — За горло взяли: давай-давай. Привыкли выжимать до последней капли. Им что механик, что механизм, без разницы. Между прочим, Юра, эта традиция еще от старого флота сохраняется, — вильнул он в сторону, чувствуя слабость своих аргументов. — Штурмана́, дескать, белая кость, а мы, механики, черная, и нами можно помыкать как угодно. Черта с два! Машина — не человек, ее за горло не возьмешь. — А тебя, выходит, взяли? — Меня взяли, — честно признал Загораш. — Потому что вдвоем. У Беляя хватка будь здоров! Пока своего не добьется, не отпустит. — Прости, Андрей, но ты и в самом деле недозрел, — холодно бросил Ларионов. — Тут я с тобой не согласен. Да разве старпом тебе указ? Старший механик — второй человек на пароходе. Так и держись, иначе, верно, каждый штурман станет из тебя веревки вить. Я Беляя знаю, — смягчился он несколько. — Вадик парень свой, и с ним ладить можно. Но он службист до мозга костей, и если в ком чувствует слабину, то вцепляется, что твой клещ. — Во мне, значит, чувствует. — Выходит так, Андрюша. Прежний дед был как кремень. Его не сдвинешь. Наш Костя на нем не раз зубы обламывал. — А где он теперь, этот твой кремень, знаешь? — Знаю. Плавает себе преспокойно на «Колхиде». И еще двадцать лет будет плавать, потому что такие люди на улице не валяются. Ты тоже не бойся, без работы не останешься… Разве что канадскую линию потеряешь, так аллах с ней. Независимость дороже. Главное — себя по потерять, не разменяться на дешевку. Это не значит, что обязательно надо идти на конфликт. Совсем напротив… — Ах, напротив! — вспыхнул было Загораш, но тут же сдался. — Вообще-то я согласен с тобой. Только, знаешь, в чем моя основная слабость? — Знаю, — Ларионов доверительно наклонился. — Вот уже четвертые сутки мыне умеем развить положенные обороты, а прежний это умел. Отсюда и уязвимость. Положение, что и говорить, незавидное. А кто виноват? Пароход-то у нас преотличный! Думаешь, мастер машину не знает? Ого-го, еще как! Просто он думает, что дело не только в ней и не только в штормах, но и в нас с тобой тоже. Как же тут не жать? Не доводить до нужной кондиции? — А то они не видят, как мы выкладываемся? Все на пределе: и дизеля и ребята. Куда же тут давить? Замкнутый круг получается. Что я в истерике должен биться? Или, может, самовольно двигатели глушить? — Не надо этих глупостей, как говорит артельщик, — поморщился Ларионов. — Прояви хоть раз в жизни твердость. Но только без нервов, только очень спокойно. Понял? А потом мы своими руками переберем каждый узел. Не может быть, чтобы не докопались. Все-таки нас здесь четыре дипломированных инженера, Андрюшка. По-моему, это кое-что значит. — Инженеры! — усмехнулся Загораш. — Нет в наше время более жалкой профессии. Недаром все одесские умники подались в парикмахеры да в официанты. Сфера обслуживания надвигается, как чума. В мировом масштабе. Только я что-то не вижу, чтобы стали лучше обслуживать. Ты не находишь? По-моему, нас просто пожирают, с косточками, как отживающий класс. Но вообще-то ты верно говоришь. Я так и сделаю. Решено, утром иду к мастеру. — Не спеши, — остановил его Ларионов, — погоди, пока он сам к тебе обратится. — Зачем? — Из тактических соображений. Небось, слыхал поговорку «Нашла коса на камень»? Так будь лучше камнем. Можно даже точильным. — Ладно, твоя правда. — Имей в виду, что это ты, по сути, сдаешь сейчас экзамен на деда. Мастер-то наш свое право на капитанство давно доказал. — Кстати! — спохватился Загораш. — Схожу-ка я в мастерские. — Чего вдруг, на ночь глядя? — удивился Ларионов. — Хочу чертежи для Гени подобрать. Пусть он прямо с утра и начнет вытачивать. Всего, конечно, не предусмотришь, но кое-какие детали явно придется заменить. После обеда и станем.МАСТЕРСКИЕ
Судовые мастерские находились на соседней платформе. Пройти в них можно было по узкому мостику, скобкой огибавшему одетый теплоизоляцией паропровод. Когда же требовалось доставить крупную деталь, пользовались люком, который выходил прямо на полубак. Как и другие службы «Лермонтова», мастерские были укомплектованы добротно и со знанием дела. Возле каждого станка — токарного, сверлильного, фрезерного — стоял свой металлический шкаф с полным набором инструментов. В специальном отсеке, где разбирались и ремонтировались тяжелые узлы, был смонтирован электротельфер с выносным пультом. Солидный запас стальных и бронзовых болванок различного диаметра позволял, в случае необходимости, повторить по чертежам любую деталь сложного судового хозяйства. Разве что гребной вал или якорь не сумел бы выточить на своем токарном станке Геня. Благо и разряд у него был подходящий. Поскольку на судне работали по знаменитому щекинскому методу, обязанности токаря и полновластного хозяина мастерских Геня сочетал с должностью моториста. Как и у других членов команды, времени на личные нужды у него оставалось не так-то много. Когда капитан, первый помощник и второй электрик приобрели в Генуе кальмарницы, Геня, не будучи страстным рыболовом, не выразил особого желания последовать примеру старших товарищей. Теперь он об этом сожалел. Кальмарницы, хотя каждая и стоила около трех тысяч лир, с лихвой окупили себя на первой же стоянке в открытом море. После того, как Паша угостил команду жаренным в оливковом масле сердцевидным кальмарьим хвостом и пупырчатыми щупальцами, Геня поклялся, что приобретет себе на обратном пути такую же игрушку. Но в Нью-Йорке, где он истратил на Орчард-стрит всю наличную валюту, благо попался некомплектный японский магнитофон, покупка кальмарницы сделалась несколько проблематичной. Тогда Геня принял соломоново решение. Осмотрев люминесцирующее веретенце с двойной коронкой острейших игл, Геня решил, что вполне может изготовить такое же. Дикун, которому тоже страстно хотелось ловить кальмаров, горячо поддержал смелое начинаний и даже достал флакон светящейся краски. Практически все упиралось в колючие коронки, что для Гени было парой пустяков. Поторчав минут тридцать на палубе под приоткрытым иллюминатором каюты, в которой теплился с каждым днем все более манивший его огонек, он вздохнул и поплелся к себе. Но по дороге передумал и решил спуститься в мастерские, рассудив, что сейчас самое время — готовить кальмарницу. Со дня на день теплоход мог стать на ремонт, а другого случая выловить в океане десятирукого моллюска уже не представится. По крайней мере в этом рейсе. Возле автомата с опресненной, но холодной, как лед, водичкой его окликнул приятель-матрос, возвращавшийся к себе в каюту после вахты на мостике. — Слыхал новость, кореш? Ну, я тебе доложу, дела! Не быть нам к сроку в родной Одессе, чтоб меня родная мама не узнала. — Это почему же так? — слегка встревожился Геня. — Да где-то там у Канар пароход наш повредился, мудреное такое название, даже не выговоришь, — бурно жестикулируя, придыхая и трагически закатывая глаза, матрос изложил суть спора, который завязался в рубке между Беляем и третьим помощником. Сам он стоял в это время на площадке у левого пеленгатора с биноклем в руке и все прекрасно слышал через открытую дверь. Информация была не секретная, но доверительная, почти что из первых уст. — Ну, мы-то их выручим, — Геня нетерпеливо потер руки. — А что сказал мастер? — поинтересовался Геня, сосредоточенно почесывая макушку. — А я знаю? Я с ним по корешам? Я бы на его месте не особенно спешил. Что я рыжий в самом деле или мне больше всех надо? Люди, слава богу, не тонут, а у меня, кажется, есть свое дело. Я бы так решил, приблизительно, и поискал более подходящий пароход. Мало ли их ходит через Атлантику? Вот если окажется, что кроме нас никого нет, тогда, конечно, тогда точка. — К счастью, не тебе решать за мастера, — внимательно оглядев товарища, Геня деликатно отвел глаза. — Помощь терпящему бедствие — первейший долг моряков. Запомни на всякий случай, — он хотел пройти мимо, но матрос загородил ему дорогу. — Одну минуточку, — он сделал попытку взять Геню за грудки. — Разве я сказал что-нибудь против? Извиняюсь! Пускай меня не узнает родная мама, но ничего против я, кажется, не говорил. И что такое моряцкий долг и, между прочим, этика, не надо меня учить. Я правильно говорю? — подступил он еще ближе. — Правильно, — через силу выдавил из себя Геня. — Тогда в чем дело? А дело в том, что все должно быть разумно и всем должно быть хорошо. Так и третий считает. И я тоже разделяю его мнение. Имею права? — Имеешь, имеешь, — поспешил заверить Геня, чтобы скорее отделаться, и скользнул вниз по трапу. В мастерских он застал Загораша, который рылся на полке с чертежами. Несколько засаленных, потертых на сгибах синек уже лежали на верстаке, придавленные плашками для нарезания резьбы. — Геня? — удивился Загораш. — Ты чего не спишь? А я задание для тебя подбираю… Завтра, если, конечно, ничего не случится, будем останавливаться. — Случится, Андрей Витальевич, — тихо ответил Геня. — Уже случилось. Чует мое сердце, что не придется нам вставать на этот ремонт, — и скупо, как подобает мужчине, он рассказал стармеху про случай с «Оймяконом», умолчав, однако, об источнике информации. — Ничего не значит, — отозвался после долгого молчания Загораш и облизнул пересохшие губы. — «Оймякон» мы, конечно, выручим, и ремонт все равно делать придется. К ободу изготовишь деталь номер тридцать, — вынув шариковую ручку, он сделал галку на спецификации, — сорок один и сорок два. По шесть штук, — и, резко повернувшись, вышел. «По-видимому, весь пароход осведомлен, — с горечью думал он, пробегая по звенящим прутьям мостков, — только я вынужден узнавать о таких событиях от своего токаря, от мальчишки! В этом вся суть нашего штурманского корпуса, его стиль». Распаляясь на бегу, взволнованный и хмурый, ворвался он в ЦПУ. — Тебя просят к мастеру! — встретил его стоящий у пульта Ларионов и протянул трубку.КАЮТА КАПИТАНА
Эдуард Владимирович видел десятый сон, потому что его вахта давно закончилась. Дугин не дергал людей без особой необходимости, но когда, по его мнению, было надо, не признавал снисхождения. В принципе он бы вполне мог обойтись без второго помощника, но для успокоения души требовалось прояснить грузовые дела. В какой-то, пусть незначительной, мере это могло сказаться на его решении, а он привык все делать с открытыми глазами. Точнее, предпочитал, потому что всегда присутствует неопределенность и связанный с ней элемент риска. Рассудив, что второй все-таки ему нужен именно сейчас, он преспокойно набрал номер его каюты. — Простите, что разбудил, Эдуард Владимирович, — сказал Дугин, когда услышал в трубке заспанный голос. — Зайдите ко мне. Раздвинув занавески, он выглянул наружу и зажмурился, подставляя лицо теплому ветерку. Ночь пребывала еще в самой глухой поре, и особенно яркая в этих широтах Вега торжественно сверкала прямо по курсу. Ее двойник, вместе с россыпью других звезд, слабо покачивался в мазутном зеркале присмиревшего океана. Роскошная, навевающая несбыточные мечтания ночь. Дугин знал, по крайней мере, так можно было заключить из карты погоды, что циклон широкой дугой забирает к югу, чтобы вновь устремиться на север, где-нибудь вблизи Африки. Перемена курса поэтому обещала встречу, вполне вероятную, с фронтом депрессионной воронки. Часов эдак через тридцать с чем-то или чуток побольше. Перспектива малоприятная. Особенно для Дугина, который всегда предпочитал уступать непогоде дорогу. Даже ценой небольшой задержки. Неизвестно что труднее: пойти на заведомый риск или отказаться от давнем привычки, превратившейся в своего рода магический ритуал, оберегающий от напастей. И, конечно, совсем никуда не годится, если одно так тесно связано с другим. Дугин представил себе исполинскую лохматую спираль — так выглядит циклон на фотоснимке с метеорологического спутника, — нечто среднее между галактикой и часовой пружиной, разметавшей свои облачные витки над бескрайними пространствами океана и суши. Нет, что угодно, только не переть навстречу циклопу. Пусть накроет с кормы, уже на обратной дороге, когда можно свернуть, не торопясь разойтись с центром. — Позвольте? — заглянул в каюту второй помощник, кудрявый, неизменно улыбающийся, чем-то похожий на молодого сатира. — Прошу, Эдуард Владимирович, — Дугин обернулся, кивнул на диванчик, но сам остался стоять. — Мне бы хотелось уточнить следующее, — начал загибать пальцы, — насколько тесно мы связаны сроками. Знаю, знаю, — досадливо отмахнулся он, когда второй скорчил страдальческую физиономию. — С Генуей все понятно, а вот как остальные порты? Чем мы рискуем, если пропустим, скажем, Неаполь или Ливорно? Это первое. Далее, меня интересуют накладные, страховки и все такое прочее. Ясно, Эдуард Владимирович? — Вполне, Константин Алексеевич, разрешите, захвачу документы? — согнав с лица озабоченность, еще лучезарное заулыбался Эдуард Владимирович и спросил, поднимаясь: — А что случилось? — Вот возвращайтесь с бумагами и обстоятельно доложите по каждой позиции. Тогда и будем решать, что случилось, а чего не случилось… Захватите с собой схему. Хочу знать, где что: какие контейнеры к трюмах, какие на палубе. — Все понятно, Константин Алексеевич. Сей секунд! «И чего он все улыбается, — раздраженно пожал плечами Дугин, — просто не понимаю. Уж больно это не по-мужски…» Он, естественно, не видел, как молниеносно, едва затворив за собой дверь, Эдуард Владимирович изменил выражение лица. По ярко освещенному и оттого казавшемуся еще более пустынным коридору шел враз постаревший на несколько лет человек, отягченный невеселыми раздумьями и тревогой. Быть может, оттого он и улыбался на людях, что знал, как молодила его улыбка. Опытный моряк, поднаторевший в хитрой механике грузовых распасовок, Эдуард Владимирович сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Капитан никогда, без особой нужды, не вникал в круг проблем, которыми занимается второй помощник. При погрузке его не заботили даже такие сугубо мореходные категории, как остойчивость и парусность, потому что он вполне полагался на своего суперкарго[12]. Взвесив все за и против, Эдуард Владимирович рассудил, что Дугин, получив, очевидно, сообщение из пароходства, вынужден как можно скорее закончить рейс. По логике вещей это могло быть связано с внезапным изменением деловой конъюнктуры. То ли новая линия открылась, и у пароходства недостает наличных судов, то ли итальянские докеры объявили очередную забастовку. Но почему тогда только в Неаполе и Ливорно? Не в Генуе? Нет, забастовка тут ни при чем. Но мастер явно предпочитал выгрузку в Генуе. Эдуард Владимирович без всяких схем помнил, где у него что лежит. Поскольку первый заход планировался именно в Геную, все адресованные в этот порт грузы были закреплены на палубе. Остальные контейнеры лежали под ними, в трюмах, в шести глубоких нишах, запечатанных массивной стальной плитой. Извлечь их можно было только в порту, разгрузив предварительно палубу. И хотя на «Лермонтове» имелась грузовая стрела, перегруппировка контейнеров в море была немыслима. У мастера не могло быть на этот счет никаких сомнений. Эдуарду Владимировичу, который сохранял, несмотря на весь опыт и природную хитрость, наивность одесского вундеркинда, как всегда, не пришло на ум, что самые сложные загадки могут иметь простое объяснение. Назад он возвращался чуть ли не бегом, озаренный дежурной улыбкой. И как ни странно, несмотря на совершенно механическую природу, улыбка эта изменила душевный настрой. Словно и впрямь случилось просветление, зависящее, как учат проповедники системы буддийского созерцания — «дзен», от выражения лица. Вопреки явно тревожным признакам, Эдуард Владимирович почему-то уверился в том, что все разрешится самым наилучшим образом. С тем он и вбежал к капитану, неся бумаги в руках. Дугин, только что пригласивший к себе стармеха, разговаривал в этот момент с радиорубкой. — Какая служба будет давать карту погоды? — поинтересовался он, краем глаза глянув на вошедшего. — Давайте, — требовательно протянул руку к документации. — Как? «Эйч армид сюрфей прогнозис»? Снимите, пожалуйста, Василий Михайлович, и сразу ко мне… Вас понял. Когда начнут передавать, тогда и снимите.Поднявшись в каюту, двойную и такую же просторную, как у капитана, Загораш скинул спецовку, стащил тренировочные брюки и встал под горячим дуга. С минуту нежился под щекочущей лаской тугих обжигающих струек, ощущая, как вместо с водой, завивающейся воронкой у слива, смывается усталость. Закутавшись в махровую простыню, босиком прошлепал к холодильнику. Вынул оплетенную соломой бутыль терпкого, пахнущего солью земли, къянти, включил вентилятор и, прихлебывая ледяное винцо, которое рекомендовалось подогревать, подготовил все для бритья: собрал фирменный жилет с узкими, самозатачивающимися лезвиями, выдавил колбаску крема. Как-никак, а для него наступало утро, хотя поспать так и не удалось. Закончив туалет, он протер лицо лосьоном и поспешил к капитану. — Вот и вы, наконец, — встретил его Дугин, не скрывая неудовольствия. Но вглядевшись в гладкое, распаренное лицо стармеха, сменил гнев на милость. — Успели побриться? — коснулся ладонью своей неизменно розовой щеки. — Молодцом, Андрей Витальевич, молодцом… А у нас, знаете, такие дела, — кинул взгляд из-под колючих бровей на притихшего, но все так же улыбающегося Эдуарда Владимировича. — Серьезные можно сказать дела. Эдуард Владимирович поежился, как бы давая понять, что лично за ним никакой вины нет. — Знаю, — кивнул Загораш и взял предложенную сигарету. Второй помощник, вот уже пять лет бросивший курить, предупредительно щелкнул зажигалкой. — Откуда? — вяло поинтересовался капитан, не выказывая особого удивления. — Кто вам сказал? — Как любит выражаться наш почтенный Иван Гордеич, — Загораш откинулся в кресле и, маскируя сладкую зевоту, потянулся. — Пароход только с виду железный. Секретов на нем нет. — Какие уж тут секреты, — согласился Дугин. — Значит, обстановка вам в принципе известна… — В принципе, Константин Алексеевич. — А то, что в районе, где находится «Оймякон», в ближайшие двое суток ожидается сильный шторм, знаете? Стармех молча повел бровью. — Нетрудно догадаться, — поспешил ответить за него Эдуард Владимирович. — Ну, я бы не сказал, — ворчливо пробасил Дугин. — Погода штука переменчивая, особенно в этих широтах, так что всякое может случиться. Но обстановка сложная. — Так и я о том же! — почему-то обрадовался второй помощник. — Как говорится, одно к одному. Если уж не повезет, так не повезет. — Типун вам на язык, — дернул щекой Дугин и повернулся к стармеху. — Так что нам скажет машина? — с несколько наигранной бодростью подмигнул он Загорашу. — Каков будет вердикт силовых установочек? По всему было видно, что капитан чувствует себя не совсем ловко. Скорей всего раскаивается в том, что не послушал стармеха и не встал на ремонт вчера, позавчера, а то и третьего дня. Сделай он так, положение сложилось иное, безусловно более благоприятное для «Лермонтова». Особенно в свете последующих событий. Почувствовав, что в нем зашевелилась мстительная радость, Загораш внутренне устыдился. Для «Оймякона», которому был жизненно важен каждый лишний час, такая остановка могла стать роковой. «Один к себе за рукоять, другой к себе за острие», — пришли на память слова песни. «Какое противоборство, — подумал романтик-стармех, — какое жестокое противоборство, словно в любви или смерти». — Чего молчите, Андрей Витальевич? — нетерпеливо спросил Дугин, машинально разминая сигарету над пепельницей. — Сможете обеспечить нормальный ход еще в течение сорока часов? — заметив, что весь табак выкрошился, смял пустую гильзу с длинным ячеистым фильтром. — Да и потом тоже сколько потребуется? — Вы мое мнение знаете, — не отрезал, как думал вначале, а протянул, интонационно не закончив фразы, Загораш, припомнив все наставления Ларионова. Сейчас ему давался именно тот шанс, когда коса могла найти на камень. Тогда бы он получил бесспорное право продиктовать свои условия. Дугин, конечно же, вполне это осознавал. Более того, Загорашу показалось, что капитан с нетерпением ждет от него самого решительного приговора, которому готов теперь подчиниться, быть может, с облегчением и тайной благодарностью. Что и говорить, это был трудный момент, когда они молча смотрели друг другу в глаза. Эдуард Владимирович, инстинктивно сознавая, что ему выпала роль нежеланного или, напротив, чересчур желанного свидетеля, вжался в податливый поролон диванчика, словно рассчитывал потонуть в нем. Все подводило стармеха к естественному итогу молчаливого поединка. От него не требовалось ничего нового, ничего такого, о чем бы он не талдычил денно и нощно всем и каждому. Остановка явилась бы естественным завершением всех предыдущих деяний, его бесспорной победой, причем такой, которая не взывает о мести. Наконец, это стопроцентно диктовалось состоянием машин, выдержавших несколько крепких штормов. Дышащие на ладан прокладки, подгоревшие кольца и металл, появившийся в отработанной смазке цилиндров, — все это было легко поправимо, но требовало времени. Восемь или, быть может, десять часов. Такой профилактический ремонт не является чем-то необычным. Более того, он даже предусмотрен графиком почти в каждом рейсе, потому что противоборствуя напору стихий — особенно в штормовой сезон, — двигатели работают с постоянной перегрузкой. Все, таким образом, было на стороне Загораша, кроме одного. И это единственное, которое было стеснительно произнести вслух, но от чего — он знал это абсолютно — никак нельзя отмахнуться, перевесило. Когда, пусть даже случайно, льется на твою мельницу горькая вода чужой беды, нельзя радоваться вращению жерновов. Помол будет горек и не принесет счастья. Еще там, у верстака, едва Геня успел сказать про «Оймякон», Загораш почувствовал первый толчок неуемного беспокойства, которое теперь росло и ширилось, несмотря ни на что. Он ошибался, полагая, что всем распорядится Дугин. На судне, хочешь того или нет, все судьбы сливаются в одну, нераздельную. И то обстоятельство, что кто-то несет ответственность за других, отнюдь не снимает личной ответственности каждого перед самим собой. Стармех, пришедший по вызову в сущности лишь за тем, чтобы выслушать высшую волю, выстрадал и целиком принял простую мысль. Нет, не одному только Дугину дано решать чужую судьбу. Такое решение с полной мерой ответственности должен вынести и он, Загораш, а вместе с ним и остальные члены экипажа. Поскольку каждый, хоть и в разной степени, отвечает за собственное судно, а это значит и за себя. Таковы изначальные законы профессии, где много брать на себя — не более, чем норма. Потому-то, наверное, и Дугин не спешил заручиться советами, что всем естеством ощущал полноту своей личной ответственности. — Мое мнение, вам известно, — повторил Загораш, с трудом, ворочая враз пересохший язык. — Остановка необходима. Как минимум на двенадцать часов, — он облегченно сморгнул и отвел остекленевшие глаза, ибо не боялся уже, что его сочтут малодушным и был уверен в собственной правоте. — Но положение сложилось особое, Константин Алексеевич, так что я больше не настаиваю на срочном ремонте. — Вот как? — Дугин тоже отвернулся и провел по глазам тыльной стороной ладони. — И за этим стоит объективная, так сказать, реальность? Вы можете предложить какое-то техническое решение? — Пока нет. Просто не вижу иного выхода. Мы обязаны как можно скорее оказать помощь пароходу Богданова. Со своей стороны хочу заверить, что машинное отделение выложится сполна. Резервы для этого имеются. Постараемся не подвести. — Одного старания мало, — невесело побарабанил пальцами Дугин. — Да и то верно: что еще можно сказать? Полной гарантии никто не даст — ни ты, ни я, ни вот он… Верно я говорю, Эдуард Владимирович? Второй помощник расслабился и закивал, не переставая улыбаться. — Ладно, — устало махнул рукой капитан. — Ступайте к себе. Отсыпайтесь, пока возможно. Для него почти ничего не изменилось. О том, что всякие манипуляции с грузом не могут оттянуть срок прибытия в Геную, он знал и без того, а благими намерениями, вроде тех, что выдал сейчас дед, как известно, вымощена дорога в одно малоприятное место. В сущности, оба сказали лишь то, что могли или, точнее, должны были сказать. Но, как говорится, и на том спасибо. Из чистого суеверия Дугин боялся признаться себе, что у него чуточку полегчало на душе и вообще обозначились некие дополнительные степени свободы, которые до поры до времени лучше держать в резерве. Погасив свет, он полностью распахнул иллюминатор и, не снимая ботинок, прилег на диван. Спать не имело смысла, потому что в любую секунду мог прийти радист с картой погоды. Но незаметно для себя Константин Алексеевич заснул. Карту погоды принесли лишь в пятом часу, когда на вахту заступил Эдуард Владимирович и дипломник мореходки Сергей Сизов, исполнявший роль четвертого помощника. Копстантин Алексеевич сумел поспать чуть более часа, но чувствовал себя отдохнувшим и на редкость бодрым. До начала сумерек оставалось минут двадцать, и ночь казалась особенно непроглядной. Скорее всего потому, что набежавший туман погасил звезды. Теплый туман над более холодной поверхностью океана, столь характерный для Северной Атлантики. На фоке гудел тифон. Ход «Лермонтова» ощутимо замедлился. — Сколько по лагу? — запросил Дугин в трубку, глянув на свой курсограф. — Двенадцать, — доложил Эдуард Владимирович. — Кто приказал снизить ход? — Я, Константин Алексеевич, — после непродолжительной паузы ответил второй помощник. — Поскольку вошли в туман. — Вижу. И давно? — Минут сорок. — Полный ход и включить оба локатора. — Есть полный и оба локатора… Курс прежний, Константин Алексеевич? — Прежний… Я сейчас поднимусь. Он поежился от сырости, что заползла с моря, задраил иллюминатор. Наскоро умывшись, натянул шерстяной, домашней вязки джемпер. Перед тем как выйти, плеснул в стакан крепкого чая, рубинового, горького, как хина, «Антико россо». Стало теплее. Новая карта лишь незначительно отличалась от прежней, хотя и была сдвинута дальше к востоку. Распределение термических областей пониженного и повышенного давления выглядело довольно типично для Атлантики на данное время года. Исландский минимум[13], как прикованный, торчал на обычном месте. Вторая депрессия — антарктическая, хотя и не вызрела еще окончательно (так, по всей видимости, будет оставаться до лета), тоже не предвещала никаких неожиданностей. Зато центральный циклон, от которого помалу отставал «Лермонтов», выглядел по-прежнему угрожающе агрессивным. Вторгнувшись между знаменитым Азорским максимумом[14] и постоянными областями высокого давления, которые развивались в субтропических широтах, он вдребезги разнес всю кухню погоды, «небесный камбуз», как говорят канадские моряки. По всем признакам следовало ожидать сильных ветров в нижних слоях атмосферы и облачности до восьми баллов. Штормовая угроза в районе западного побережья Африки становилась все вероятнее. — Рассчитайте курс на «Оймякон», Эдуард Владимирович, — распорядился Дугин и, сунув руки в кармашки джемпера, начал прохаживаться вдоль рубки. — Уже сделано, Константин Алексеевич! — Не прямой, а с некоторым уклонением к югу от центра циклопа. Миль эдак на пятьдесят. — Беляй предусмотрел и такой вариант… Потеряем на этом больше полусуток, — прикинул на глазок Эдуард Владимирович. — Ничего? — А что делать, милейший? Все-таки это лучше, чем потерять пароход. Притом мы бы все равно были вынуждены преодолевать почти лобовое сопротивление ветра. Думаю, так на так получится. Глянув на экран и убедившись, что никаких судов в сфере действия радара нет, Дугин возобновил хождение. Курсируя от одного подруливающего устройства к другому, он на секунду задерживался у штурвального пульта и вглядывался в притаившуюся за стеклом непроницаемую мглу. И хотя локатор не показывал никаких осложнений прямо по кругу, на душе было тревожно и муторно. — Просчитайте все до каждой мили, — бросил он на ходу. Когда все необходимые вычисления были проделаны, Константин Алексеевич набросал тексты радиограмм. Одна на них предназначалась капитану теплохода «Оймякон», другая была адресована Боровику, начальнику пароходства. — Сейчас и передайте, — сказал он Шередко, заглядывая в радиорубку. И пока Василий Михайлович, оставшийся из-за серьезности дела на вторую вахту, отстукивал сообщения, Дугин — руки по-прежнему в карманах — не уходил из радиорубки. Стоя за спиной Шередко и покачиваясь с каблуков на носки, вслушивался в приглушенный писк ответной морзянки, в треск и завывание эфира, который представлялся Константину Алексеевичу таким же непроницаемым, как туман вокруг «Лермонтова». Ответ с «Оймякова» был получен молниеносно. Капитан Богданов и экипаж благодарили моряков «Лермонтова» за предложенную помощь и выражали надежду на скорую встречу. Поврежденный теплоход по-прежнему шел на север со скоростью три узла. Возвратившись на мостик, Дугин сам снял штурвал с автомата и положил судно на новый курс. — Так и держите, — проворчал он. Постояв в полном молчании у столика с подсветкой для номограмм, совершенно неожиданно пришел в крайнее раздражение и начал кричать: — Где штурвальный? Почему не вижу штурвального? — Штурвальный, на мостик! — поспешил объявить по трансляции Сергей Сизов. — Не имеет никакого значения, в каком режиме идет судно. Пусть хоть трижды автоматически, — менторским, не терпящим возражения тоном отчеканил капитан, когда тень вахтенного матроса неслышно проскользнула в рубку. — Штурвальный обязан находиться на месте. Распустили людей, Эдуард Владимирович! Второй помощник вздохнул тяжко и укоризненно. — Больше не повторится, Константин Алексеевич, — выдавил он через силу. При других обстоятельствах он бы нашел, что возразить, за словом в карман не полез. Капитан и сам допускал подобные послабления. По крайней мере смотрел на них сквозь пальцы. Конечно, если все шло чин чинарем. Да и кто не позволит себе полиберальничать в тихую ночь, когда видимость отменная, вокруг ни суденышка и машина не барахлит. А сегодня, как любил выражаться Эдуард Владимирович, все обстояло «обратно тому». В такие минуты лучше не держать тигра за усы, а то он начнет рычать. Сказанное поперек слово дорого обойдется. Всяким бывает мастер. Утром — душа человек, снисходителен и по-королевски небрежен, а в обед зверем на тебя смотрит. Но и это еще не беда, был бы отходчив, так и тут бабушка надвое гадала. Выдаются дни, хоть и нечасто, когда изведет мелочными придирками и на тебя же зло затаит. Да и то сказать, у кого нет недостатков? Перемелется — мука будет. — Чего молчите? — не выдержал капитан. — Жду распоряжений. — Без меня курс не меняйте. — Хорошо, Константин Алексеевич, я вам сразу же позвоню. «Зачем тогда прокладку доверил?» — удивился Эдуард Владимирович. Туча тучей покидал рубку Дугин. Даже волосы вздыбились. Несмотря на выговор, Эдуард Владимирович сочувствовал капитану. Ничто так не бесит моряка, как ощущение собственного бессилия. А погода явно против них с Богдановым играла, и ничего с этим поделать было нельзя.
КАЮТ-КОМПАНИЯ
По понедельникам на флоте завтракают селедкой и картошкой в мундире. В океане, где нет выходных и все дни похожи один на другой, как близнецы, сельдь — заметная веха. Почти что мера времени. Во всяком случае она дает повод побалагурить насчет того самого. Дескать, под такую закусь да еще с лучком и уксусом… Одним словом, любо-дорого. Только где ж ее взять на тридцать пятые сутки плавания? Кто тайком пронес, так давно уж забыл, когда спустил стеклотару за борт в средиземноморскую лазурь. На рассвете «Лермонтов» вошел в ореол циклона и вторично изменил курс. Он пробирался теперь вдоль самой кромки в зоне временного затишья. Видимость была минимальная, зато полоса воды, словно обрезанная молочной завесой, темнела тихая, тихая, как в каком-нибудь лесном озере, и ничего не отражала, потому что зеркальную глубину тоже скрадывала волокнистая дымка. Через каждые две минуты тифон издавал простуженное гудение. Тревожный вскрик на низких тонах, угрожающий и жалобный одновременно. Казалось, что предупредительный сигнал, заставляющий встречные суда менять курс, безнадежно взывал совсем о другом. Словно оставшийся в одиночестве последний на планете динозавр, молил о встрече, хоть и чуял, что ее не будет никогда. И никто не откликнулся на одичалый призыв. Если и проходили мимо какие суда, то далеко, и потому не слышали зова. Их гудки тоже тонули в глухом киселе. Вращался сегмент радара над ходовой рубкой, прощупывая исчезнувшее пространство. Не встречая препятствий, в зияющую за кривизной земли бесконечность утекали электромагнитные волны. Как вода в ненасытный песок. Потому ни единого светлого пятнышка не загорелось в бархатистом зрачке экрана. Кают-компании, в каноническом значении понятия, на «Лермонтове» не существовало. Вместо непременного, освещенного традицией табльдота, в офицерском салоне, как и в расположенном под ним салоне команды, стояли обычные столики на четверых. Концертного рояля из розового дерева, декоративных ваз, серебра, хрусталя и прочих анахронизмов, доживающих свой романтический век на судах старой постройки, тоже не было и в помине. Но несмотря на очевидный аскетизм, просторный и светлый салон, отделанный под ясень, выглядел вполне благопристойно: накрахмаленные скатерти, шелковые занавески, буфетчица Лариса в кружевном передничке — одним словом, обычная столовая в доме отдыха средней руки. В смежном отсеке, где после чая забивают «морского», стояли мягкие кресла, телевизор, оживавший с приближением очередного порта, всеволновый приемник и шахматный столик, заваленный абсолютно не читанными журналами, о которых понятия не имеют на твердой земле. Чтобы хоть на короткое время отвлечься и отдохнуть, из салона изъяли все приборы, даже барометр. Исключение сделали лишь для телефона, неприметно подвешенного в уголке. Противопожарные индикаторы и те скрыли под золоченым багетом вездесущей картины Шишкина, попавшей на борт усилиями первого помощника. (Иностранцам — стивидорам, агентам, шипчандлерам, которых иногда оставляли к столу, картина нравилась. На вопрос: «Много ли в России медведей?» — старпом всегда отвечал утвердительно и сулил привезти шкуру. В следующий раз.) В море, где особую цену имеют такие общечеловеческие категории, как постоянство, за каждым закреплено свое нерушимое место. Казалось бы, неизменное чередование вахт и незыблемость распорядка должны были толкать к разнообразию, пробуждать жажду хоть каких-нибудь перемен. Ничуть не было. Даже на киносеансе, когда ставят кресла вдоль стен и затаскивают из коридора зеленые лавки, люди рассаживаются в одном и том же порядке, который стихийно сложился в первые дни рейса. А уж про кают-компанию и говорить нечего, здесь место за столом определялось не личностью, а судовой ролью. Вместе с капитаном обедали стармех, старпом и первый помощник; начальник рации делил стол с гм гурманами; врач Аурика — с механиками и т. д. Собственно, всего было пять столов: офицеров на автоматизированных судах примерно столько же, сколько матросни. В отличие от военных кораблей, где за табльдотом священнодействует старший помощник, на торговых судах хозяином салона считается капитан. У него всякий раз просят разрешения войти или встать из-за стола, когда окончена трапеза. Кормили, разумеется, одинаково и «внизу» и «вверху», из одного камбуза. Вся разница в одном заключалась: Тоня, обслуживавшая команду, брала тарелки с плиты, а буфетчица Лариса снимала их с подъемника. Но в понедельник утром, когда на всех морях наши ребята дегустируют одно и то же блюдо, подъемник не запускали. Бак с картошкой стоял в закутке у Тони, другой помог занести в Ларисин буфет пекарь Ося, и одинаковые чайники кипели на хромированных электроплитках. К началу завтрака в кают-компании собрались те, кому более или менее удалось поспать. За исключением первого помощника, который хотя и выспался, но зато последний узнал о событиях истекшей ночи и бегал теперь между капитанской каютой и радиостанцией. Поскольку все было в общем ясно и довольно обыденно — какой же рейс обходится без происшествий, — штурманы и механики лишь обменялись мнениями да поинтересовались друг у друга: нет ли; каких дополнительных новостей? — Все новости теперь только у радистов, — сказал электрик Шимановский. — No news — good news[15], — заметил старпом Беляй, в одиночестве пребывавший за командирским столом. — А все потому, что традиции перестали блюсти, — достаточно громко, чтобы слышали за соседними столами, бросил Мирошниченко. — Ишь, обрадовались, что домой идем! Понаписали, мол, буду тогда-то, встречай тогда-то, и миллион поцелуев. А какое имели право? — резко как в каратэ, он рубанул ладонью о край стола. — Полагаю быть такого-то! Вот что может сообщить о себе моряк. И все, и точка. Сколько надо учить? — К кому вы, собственно, обращаетесь? — поинтересовался щупленький с веснушчатым личиком пожилого лилипута Шимановский… — Думаете, среди нас таких нет, Петр Казимирович? — Анатолий Яковлевич, хоть и находился не в духе, не забыл любовно огладить заметно выпиравший — живот. — Дрянная, однако, картошка. — Чего ты хочешь? — засмеялся Эдуард Владимирович. — Она ж еще с Одессы. А видели, какая картошка в Балтиморе? — он поцеловал кончики пальцев. — О, мама миа! Уже молоденькая… А зелени сколько! — Где ж посередь океана свежие овощи покупать? — прогудел непоседливый, мгновенно сметавший свою порцию, Дикун. — Теперь до самой Италии никаких витаминов. Все из холодильника. Валюту зато сэкономим, — огладив скатерть массивными натруженными ладонями, он вскочил, обвел остальных шалыми, до белизны выцветшими, голубыми глазами и кинулся к дверям. — Куда это он? — безучастно поинтересовался Мирошниченко. — Дикуна не знаете? — так же вяло бросил Шимановский и, заложив руки за голову, мечтательно вздохнул: — Да, не скоро теперь она будет, Италия… — Почему же не скоро, Петр Казимирович? — возразил всегда оптимистичный Беляй. — Ну, задержимся на несколько суток. О чем речь? — Не следует забывать, что это несколько суток не где-нибудь, а в Атлантике, — многозначительно произнес Мирошниченко. — Они свободно могут вырасти в хорошую пару недель. — Типун тебе на язык, — кротко пожелал Эдуард Владимирович. — Сейчас главное к «Оймякону» дойти вовремя. — Верно! — поддержал Шимановский. — Об остальном потом думать будем. Толкнув двухстворчатую стеклянную дверь, забежал за своей порцией Шередко. На второго радиста он не полагался и предпочитал завтракать у себя в рубке. — Доброе утро, приятного аппетита, — произнес он скороговоркой установленную формулу. — Ого, селедочка! — радостно потер руки, словно и впрямь это был для него сюрприз. Выглянув на голос, Лариса, хрупкая химическая блондинка, вынесла тарелку манной каши. — Диета, будь она неладна, — махнул рукой Шередко. Размешав шарик масла, он накрыл все перевернутой тарелкой и положил сверху пару кусочков хлеба и сахар. — Когда по телефону говорить будем, Михалыч? — поинтересовался Мирошниченко. — Та далековато ще… Может, денька через два. — В те разы уже давно говорили, — возразил Эдуард Владимирович, — и слышимость была превосходная. — Мне до зарезу надо, — блаженно потянулся Мирошниченко. — Не, — сморщив нос, отмахнулся радист. — Ничего не выйдет. Циклон, понимаешь, вражина, так и стоит, так и маячит. Не проходит сквозь него, хоть режь. Ну, я пийшов до хаты, бывайте здоровы! — Погодите, Василь Михалыч, — остановил его Эдуард Владимирович. — У вас ничего нового? Как там «Оймякон»? У них все в порядке? — Здоровы! Идут себе понемножку. Разговариваем с ними. Держим друг дружку в курсе. Тут еще один пароход появился… «Роберт Эйхе». С Кубы идет. — Ну? Ну? — заинтересованно привстал Мирошниченко. — И что он? Все взгляды устремились на Шередко, Даже невозмутимый Беляй явственно навострил уши. — Та неизвестно пока… Побачимо, — радист решительно уклонился от объяснений. Вставив стакан в мельхиоровый подстаканник, налил чаю и отбыл к себе, на самый верх. — Интересно! — почесал затылок Мирошниченко. — Я же говорил, что не надо волноваться, Анатолий Яковлевич, — дружески пожурил старпом. — Как-нибудь все образуется, и вообще, чему быть, того не миновать. Пора, одначе, и мне к станку… Приятного всем аппетита. Столкнувшись в дверях с завитой, ослепительно красной от хны Аурикой Кодару, судовым врачом, он вежливо отступил в сторону и, страдальчески зажмурившись, схватился за лоб. — Доброе утро, доктор, опять голова болит, — чуть переигрывая в интонациях, пожаловался он. — Это у вас от давления, — невозмутимо поставила излюбленный диагноз Аурика, как всегда, принимая все за чистую монету. — Зайдите ко мне, Вадим Васильевич, витаминчиков дам. Сакраментальная фраза, как и ожидалось, была произнесена. Неизменно улыбчивый Эдуард Владимирович задышал, высунув язык, словно овчарка. Остальные просто потупились и стиснули челюсти, чтобы не расхохотаться. Первым не выдержал, как обычно, Мирошниченко и откровенно заржал, как только Беляй заковылял к трапу, согнувшись, как от животной колики. — Спасибо, доктор, — подражая артисту Папанову, просипел напоследок старпом и зацокал по ступеням подковками. — Как там наши? — поинтересовалась Аурика, зайдя, по обыкновению, в буфет проверить санитарное состояние. Пробу блюд она сняла еще в камбузе в семь тридцать. — Все у них хорошо, — сообщила Лариса. — Василь Михалыч сказал. — Молодцы! — белизна занавесок и платиновое сияние сковородок пробудили на вечно озабоченном лице судового врача удовлетворенную улыбку. Веселое, в общем, настроение установилось с утра на теплоходе. И хоть никому не улыбалось застрять на неопределенный срок в океане, весть об изменении курса восприняли с радостью. Теперь уже точно было известно, что значит каждая пройденная миля, каждый прожитый час. Что бы там ни случилось, это святое дело, с прочими заботами несравнимое. Груз, линия, сроки — на то и начальство, чтобы ломать голову над подобными материями. Ни на зарплате, ни на душевном спокойствии они не отражаются. Разве что премия… Ну так хрен с ней, с этой премией. Чистая совесть дороже, да и за лишние дни золотые копейки все равно набегут. Хоть и не сомневался никто в окончательном решении своего капитана, но, когда, обогнув заворачивающий к весту циклон, судно легло на прямой к Богданову курс, все облегчение почувствовали. Решение капитана — закон, а следовать закону всегда легче, чем изнурять себя поисками альтернатив. Рандеву с «Оймяконом» представлялось теперь всего лишь одним из этапов рейса, его неотъемлемой составной частью. Пусть наиболее трудной, что из того? В море вообще трудно, и только спасительная привычка позволяет это не всегда замечать. Появление Дугина встретили улыбками. Как там ни говори, а он снял тяжесть с моряцкой души. Без лишней канители принял все на себя и, можно не сомневаться, наилучшим образом подрассчитал. Как положено. — Картошка? — удивился капитан, словно ожидал увидеть по меньшей мере омара, и с воодушевлением принялся снимать отмокшую шелуху. — Доброе, — дружелюбным кивком ответил на приветствие Ивана Гордеевича Горелкина, первого помощника, пришедшего с каким-то листком. — Что это у вас? — Да объявление хочу повесить. Беседу думаю перед кино провести. — Я думал, радиограмма. — Так все новости теперь у вас… Нет еще из пароходства? — Пока нет… Шередко вроде пароход какой-то запеленговал. — Далеко? — Порядочно. — Надо бы в Одессу сообщить. — Погодим пока, Иван Гордеевич… Чего суетиться перед клиентом? Пусть уж они сами о себе заявляют, а нам неэтично. — Ну вам виднее, вам виднее… Неохота мне что-то селедку эту. Пойду лучше объявление повешу. — Успеете, Иван Гордеевич, чайку хоть попейте. — Не, душа не лежит. Все из рук валится. — Что так? — Вчера же «Черноморец» с «Торпедо» играл, а я в полном неведении. Как тут быть? — изображая простака, Горелкин вскинул, но сразу опустил поникшие руки. — Уж я этого змея Васыля просил-просил с Одессой связаться, да он ни в какую. Так и промаял весь день. А теперь уж ему не до того. — Сегодня у него забот хватает, — поймав иронический взгляд Шимановского, капитан понимающе подмигнул. — Сочувствую, Иван Гордеевич. — Э, разве вам понять? Вы ж не болеете. — Отчего же? Болею. Мне доктор даже витамины прописала. Правда, Аурика Игнатьевна? — «Декавит» три раза в день, — с олимпийским спокойствием подтвердила Аурика. — Э, ладно, — Горелкин махнул рукой и шаркающей походкой поплелся в смежный отсек за кнопками. — Не в настроении человек, — поцокал языком Шимановский, — сразу чувствуется. — А с утра бегал, волновался, — не то с одобрением, не то осуждая, сказал Дугин. — Где Вадим Васильевич? — поинтересовался он у второго помощника. — На вахте. А так заходил, позавтракал. — У вас все спокойно прошло? — Вполне, Константин Алексеевич. Кругом никого, хоть пляши. Около семи одного рыбачка по левому борту встретили. Пустячный траулер. — Пустячный? Ошибаетесь, милейший. Рыбак — это всегда серьезно. Ибо сказано: бойся пьяных рыбаков и военных моряков, — довольно прищурился Дугин. «Великодушным и общительным восстал ото сна, — отметил зоркий Эдуард Владимирович, — и очевидно вполне доволен собой». И вчерашний выговор представился ему уже совершеннейшим пустяком. Он окончательно понял, о чем передумал в тот вечер и как пережил ночь капитан. Немного даже стыдно сделалось за себя. — Рыбки не догадались у него попросить? — на полном серьезе спросил Дугин. — Не останавливаться же… — Ради такого дела можно было бы и остановиться. Прошлым рейсом нам полпалубы засыпали. Неделю ели. — Скумбрия, обжаренная в оливковом масле с лимонным соком и отварной спаржей, — мечтательно цокнул зубом Шимановский. — Почему нет? — пожал плечами Дугин. — Самодуры[16] есть, а спаржу возьмем в Сеуте. — Это хорошо, — сказал Эдуард Владимирович. — Что именно? — не понял Дугин. — А все хорошо. Будьте уверены, Константин Алексеевич, что у ребят душа горит… Одним словом, каждый хочет сделать свое дело как можно лучше. — Мало хотеть, Эдуард Владимирович, а вот сделать действительно надо. Капитан далеко не разделял природного оптимизма своего улыбчивого суперкарго. Кое-что, по его мнению, было не только не хорошо, но куда как скверно, и он пытался проанализировать почему. Мысленно возвратился к истокам: к первому дню рейса и к нулевому — накануне отплытия. Рейс на линии Ильичевск — Северная Америка длится в среднем пятьдесят пять суток. Психологи подсчитали, что по частоте встреч эти два месяца равны двум годам нормального человеческого общения. Океан резко обостряет созревание отношений. Ни от постороннего глаза, ни от чужой неприязни или нежеланной симпатии никуда не денешься на плавучем острове. Незаметная в обычных условиях мелочь может стать на борту причиной острейшего конфликта, который повлияет и на успех рейса, и на людские судьбы или станет поводом для постоянных шуток. Как получится. Но как ни ускоряет океанский простор людские взаимоотношения, как ни обостряет конфликты, истоки их нужно искать на берегу, на твердой земле. Теперь, на тридцатые сутки плавания, Дугин отчетливо сознавал, во что вылилась межрейсовая спешка и чем обернулись пустячные, как казалось тогда, недоделки. Когда «Лермонтов» после выматывающего душу похода по зимней штормящей Атлантике вернулся в родной порт, капитан получил три дня передышки. Если все идет как по маслу, этого достаточно, чтобы подготовить судно к новому рейсу. Тем более такое автоматизированное, созданное по последнему слову техники. Но обыденная реальность несколько расходится с идеалом. По крайней мере в двух средах: в воздухе и на воде. Судно лишь на конструкторском ватмане представляется безупречным. Со стапелей оно сходит, неся в себе явные и тайные пороки, которые дадут знать далеко не сразу. Ведь даже серийные автомобили, ежеминутно сходящие с конвейера, требуют, пусть незначительной, но отладки. Но теплоход — не автомашина, и в открытом море нет пунктов техобслуживания. Все, что потребуется, команда должна сделать своими силами. И как можно быстрее, ибо сутки простоя контейнерного лайнера обходятся во сколько-то там тысяч золотом, да каждый недоданный узел хода добавляет хорошую толику. И это без учета других, не поддающихся калькуляции затрат: нервных, физических и т. д. Ведь, в конечном итоге, все неожиданности оборачиваются избыточным напряжением для команды. Хочешь не хочешь, а приходится преодолевать не предусмотренные трудности. Одним словом, после зимнего перехода трех дней Дугину никак не хватало. Судно возвратилось с разболтанными двигателями и на шрамах, полученных в обледенелых шлюзах Сивея, еще не успела высохнуть краска. Да и к причалу его поставили только вечером в четверг. Практически для решения наболевших вопросов оставался всего один день. Но, как показала мировая статистика, учреждения в канун уик-энда подвержены лихорадке. Одним словом, назначенный на понедельник выход в море, ни при каких условиях не мог состояться. Какой уважающий себя моряк согласится выйти в понедельник? Можно сколько угодно высмеивать суеверия, в том числе и профессиональные, но море есть море. И морские традиции, освященные нелегким опытом поколений, заслуживают по крайней мере понимания. Наверное, такая аргументация не очень убедительна и вообще не выдерживает научной критики, но и она сгодится, если найдется на берегу оригинал, который захочет выпихнуть моряка в дальнее плавание в день, издревле посвященный богине-девственнице, покровительнице охоты и тайны. Бесполезное дело. Само собой так получится, что пароход просто не успеет сняться с причала в назначенный срок. В самом крайнем случае отчалят через минуту после полуночи, т. е. уже во вторник. Получив предписание выйти в понедельник, Дугин сообщил о том команде и наказал быть на борту к вечеру указанного дня. Тут и ежу стало бы ясно, что отход перенесут на следующий день. Поэтому наиболее опытные ребята заявились в порт затемно, к самому началу погрузки. Некоторые приехали с семьями, чтобы урвать лишний часок. Пробыв два месяца в море, они вновь уходили в рейс, так и не успев вкусить берега за короткие считанные деньки. Утешались тем, что копятся длинные отпуска, четыре, а у кого и больше месяцев. Вахту на стоянке как раз и несли такие отпускники. Для них желанная пора наступала с отходом. Уж им-то, счастливцам, сам бог велел потерпеть. Другие, вон, даже из порта не могли отлучиться — с машиной маялись. Хоть и рвались на берег, остались на борту. Разместив жен и детишек в просторных, как номера «люкс» в межрейсовой гостинице «Якорь», каютах, почти безвылазно сидели внизу, спешно заканчивая начатый еще в море ремонт. Ругались, конечно, и кляли судьбу и все-таки были рады. Как-никак ощущение дома, без которого нельзя жить человеку, коснулось и их. И они глотнули щемящей нежности. Хоть размывала ее суета, разъедала щелоком неотвязная торопливость. Неспокойное, ненасытное ощущение унесут они с собой в море. Не успев согреться, станут вспоминать о нем в темноте опустевших кают, ощущая с запоздавшим удивлением, что только таким и бывает счастье. Каждый рано или поздно привыкает к разлукам. Иначе не было бы в мире ни путешественников, ни геологов, ни моряков. Дугин тоже привык. Быть может, скорее многих, поскольку имел за плечами трудный опыт войны. Во всяком случае, он сам так считал, пока не выяснилось однажды, что у него нет ни этой привычки, ни иммунитета от мыслей, укорачивающих жизнь. И случилось такое не далее как год назад, когда он женился на Лине, женщине умной, красивой на пятнадцать лет моложе его. Каким беззащитным, каким уязвимым чувствовал себя Константин Алексеевич в первой разлуке. Прежняя жена все вспоминалась, Анна Васильевна, и тот день, когда так неожиданно рухнула его двадцатилетняя с ней жизнь…САЛОН КОМАНДЫ
Часам к девяти по бортовому времени все уже знали, что судно переменило курс и, презрев туман, пилит на полных оборотах через Атлантику, склоняясь к югу от традиционных судоходных путей. В ритме биения, постоянно пронизывающего стальные недра теплохода, дрожала на иллюминаторных стеклах причудливая клинопись капель и колюче отсверкивали кристаллики соли. А солевую пудру, которая в жаркий день обычно оседает на открытых солнцу местах, начисто высосала сырость. Несмотря на туго закрученные иллюминаторные барашки и теплый воздух, поступающий из отводов кондиционера, гнилостные сквозняки гуляли по коридорам. И словно морось какая просачивалась сквозь заплаканные стекла кают. В нижнем салоне давным-давно позавтракали. Только токарь Геня за столом мотористов еще гонял чаи. После солененького хотелось вволю напиться, и Тоня выставила полный чайник прямо с плиты. В ее закутке, между камбузом и салоном, уютно лучился залитый светом кафель, по-домашнему позвякивала посуда. Украдкой ловя Тонино отражение в выпуклом зеркале хромированного титана, Геня делал вид, что рассматривает стенд на дальней стене, посвященный мятежному поэту, подарившему свое великое имя скромному кораблю. Со школьных лет влюбленный в Печорина, Геня искал в себе и, естественно, находил схожие черты. На генетический феномен — темные, хотя и тощие усики при льняных волосах — обратила внимание еще одноклассница, удивительно похожая на Тоню. Тогда Геня не сумел развить первоначальный успех и, переборщив по части демонических борений, вынужден был уступить свой предмет более удачливому сопернику из десятого «Б». Уйдя в воспоминания, но продолжая краем глаза наблюдать за Тоней, он равнодушно уставился в иллюминатор, едва она появилась в освещенном проеме. — Как это в тебя столько влезает, — усмехнулась Тоня, сверкнув золотом коронок. Длинноногая, легкая, в изящном холщевом передничке, она так напоминала ту девочку в школьной форме, что Гене всякий раз становилось немного не по себе. Вот только коронки… И еще голос, в котором проскальзывали металлические нотки. Чем пристальнее Геня вглядывался в ее лицо, тем очевиднее становилось, что произошла досадная ошибка. Эта женщина явно не заслуживала душевных переживаний. Разоблачение кумира совершалось с поистине космической скоростью. Все начинало работать против Тони: и вульгарные словечки, слетавшие с неумеренно ярких губ, и синева под глазами, с которой не мог справиться нежно-розовый тон фирмы «Макс-фактор». Но за временным отрезвлением следовал обратный процесс, который Стендаль метко назвал кристаллизацией. Все ее признаки были налицо. По ночам Геня долго ворочался на койке, прислушиваясь к неясным звукам за отделанной пластиком стальной переборкой. Там, в точно такой же каюте, на такой же койке лежала она. И, наверное, тоже не могла заснуть, потому что огонек в ее иллюминаторе часто горел до рассвета. Слоняясь по палубе, Геня, как завороженный, крутился возле светлого квадратика, бросавшего неяркий блик на клюзы, в которых сквозил беспросветный мрак. Узкая лампочка, зажженная над изголовьем, и беспокойное море вокруг. Что-то вечное чудилось в этом, безутешное и вместе с тем нестерпимо желанное. Этой ночью Гене показалось, что в Тониной каюте есть кто-то посторонний. Вроде бы даже он узнал глуховатый воркующий голос Загораша. Конечно, мог и спутать, потому что несколькими минутами раньше застал деда за чертежами в мастерских. Впрочем, это туфта. Ведь и сам Геня тоже только что околачивался у станка, собираясь выточить кальмарницу, но раздумал, потому как расстроился из-за разговора с Петей. Так что вполне мог быть и Загораш. Много ли надо, чтобы взбежать на ют? Решив выяснить все раз и навсегда, Геня вернулся в машину, но деда там уже не было: ни в мастерских, ни в ЦПУ. Пришлось украдкой прильнуть ухом к зашторенному иллюминатору. Сквозь узкую щель явственно различался и мужской голос, и ее чуть хриплый, совершенно бесстыжий смех. Геня вконец приуныл, но не нашел в себе сил уйти с палубы. К счастью, в каюте хлопнула дверь и все стихло. Лишь тусклый клинышек света все падал и падал в неукротимый ночной океан. Было противно и стыдно. Печорин наверняка не стал бы подслушивать под окном. Или стал? — Ты что, оглох? — подойдя к столу, Тоня попробовала чайник на вес. — Поди стаканчиков пять выдул? — и уже мягче, теплее осведомилась: — Хочешь компоту из холодильника принесу? Геня покачал головой и скользнул по ее лицу нарочито незаинтересованным, даже несколько рассеянным взглядом. — Может, присядете на минутку? — плавным жестом указал на соседнее полукресло из хлорвинила и металлических трубок, которое, как и прочая обстановка, пристегивалось к полу могучей пружиной. — Тебе что, на вахту не надо? — она для порядка обмахнула клеенку влажной тряпкой и, плотно сомкнув ноги, чуть бочком, как кинозвезда в лимузине, опустилась напротив.
— Вы же знаете, — отмахнулся он небрежно и вяло. — Когда все в порядке, у меня не так уж много обязанностей. Вот если что случается, тогда я всем нужен, тогда без меня не могут. — Да, работа не пыльная. — Не скажите, Тоня, — он снисходительно улыбнулся. — Вынужден с сожалением констатировать, что неполадки, требующие моего личного вмешательства, случаются довольно часто. Я даже удивляюсь, как с этим мирятся наши хваленые инженера. На мой взгляд, проще брать запчасти, чем каждый раз вытачивать детали в экстремальных условиях. Я уж не говорю о том, что работа, которую приходится при этом выполнять, не соответствует моей квалификации. С ней легко справится любой щенок из ПТУ. Так что я большей частью скучаю. — Скучаешь? — удивилась Тоня. — Сходил бы, книжку какую в библиотеке взял. — Это в нашу-то библиотеку? Да там, кроме военных мемуаров и сочинений на производственную тему, нет ни одного мало-мальски приличного произведения. А то, что есть, я давным-давно прочитал. Нет, в нашей избе-читальне мне делать нечего. Пусть первый помощник туда ходит. Он, кстати, и книги подбирал в соответствии с личным вкусом. С присущим его возрасту крайним максимализмом Геня обрушился на Горелкина, хотя и сознавал, что все дальше отходит от истины. Первый помощник не только создал настоящий музей, посвященный Лермонтову, но и постоянно переписывался со многими известными литераторами, в том числе Ираклием Андрониковым. Поэтому и библиотека на «Лермонтове» была подобрана так, что ей могли позавидовать иные дома культуры. Но, что правда, то правда, ни Швейка, ни фантастики, которых Горелкин терпеть не мог, а Геня обожал, тут не было. — А почему, собственно? — Геня поставил вопрос ребром. — Да не ори ты, чумной! — шепотом одернула его Тоня. — Легок на помине. Иван Гордеевич, прикнопив к доске объявление, заглянул в салон. Сухощавый и загорелый, он выглядел значительно моложе своих лет. Косая, падавшая на лоб челка придавала ему дерзкий, вызывающий вид. В ней не было ни одного серебряного волоса, тогда как растительность, курчавившаяся над вырезом майки, изрядно побелела. Сегодня, вопреки обыкновению, Иван Гордеевич вместо майки надел под форменную курточку водолазку. Очевидно, по случаю прохладной погоды. — Секретничаете? — бросил он с порога. — Ну, ну… — Уж вы скажете, Иван Гордеевич, — надменно вскинула голову Тоня. — Какие про меж нас секреты? — Верно подмечено, — лихие, цыганские глаза Горелкина блеснули в улыбчивом прищуре. — На пароходе секретов нет. Это только с виду пароход представляется железным, а на самом деле он сквозной. Каждый сквозь переборки виден. Укромных уголков тут не найдешь, — развел он руками. — Даже искать нечего. — О чем это вы, Иван Гордеевич? — вежливо, но со скрытым вызовом спросил Геня. — Точнее: о ком? — А не о ком, Жильцов. Просто сентенция. Ты парень молодой, в загранплавании впервые. Так что на ус наматывай. А вот красавица наша постарше тебя, ей мои слова не в новинку. Так? Тоня молча встала и ушла к себе. — Какую ленту крутить сегодня будем? — как ни в чем не бывало спросил первый помощник. — Мне все равно, как прикажете. По списку, — Геня махнул рукой в сторону коридора. — «Черноморочка» значится, только ребята ее уж видели. — Ладно, в обед устрою опрос общественного мнения… Не балует кинопрокат моряков, что и говорить. Шедеврами для четвертого экрана перебиваемся. И поменяться не с кем. Особенно теперь, когда идем, как говорится, в стороне от проезжих дорог, — Горелкину явно хотелось поговорить. — Мастер наш любит по второму разу смотреть, а я не могу. С души воротит. — Далеко до «Оймякона»? — через силу выдавил из себя Геня. Он чувствовал, что за словами Ивана Гордеевича скрывалась не просто бесцеремонность, но и некий потаенный смысл, обращенный лично к Тоне, обидный или даже вовсе оскорбительный для нее. Вступать в беседу никак не хотелось. Но и уклониться возможности не было. Поэтому и спросил, чтоб не идти на конфликт, про «Оймякон», о местонахождении которого знал не хуже штурманов. — Не так, чтобы очень, только еще окончательного решения нет. Ждем радио из пароходства. Может, еще и без нас обойдутся. Тогда ляжем на прежний курс. — А если не обойдутся? — Значит, завтра будем на месте, к ночи дойдем. Тогда и картинами поменяемся. Пока будем тащить на буксире, всю ихнюю фильмотеку проглядим. — На буксире! — Геня пренебрежительно фыркнул. — Для этого мы, Иван Гордеевич, физиономией подкачали. Кто бы нас на трос подцепил. — Парень ты грамотный, да только мало для настоящей жизни твоих десяти классов, дорогой товарищ Жильцов, и пятого разряда тоже. Уж поверь мне на слово. — Чего же недостает? Диплома? Поступлю на заочный. И университет марксизма-ленинизма тоже, между прочим, могу одолеть, — добавил с явным намеком. — Надеюсь, тогда вы сочтете меня достаточно экипированным для жизни? — Поглядим, каким станешь, Жильцов. Если не будет в тебе стержня, так никакие знания, никакой диплом не помогут… Давай, брат, выйдем на палубу, подымим на ветерке. Иди-ка вперед, а я тебя догоню. Геня догадался, что его просто-напросто выставляют. Сунув руки в карман, медленно приподнялся и, сохраняя уныло безразличный вид, вышел из-за стола. Заглянув к себе в каюту, находившуюся тут же на юте, захватил шарфик. Меньше всего ему хотелось сейчас выслушивать нудные нравоучения, ставшие притчей во языцех у всего экипажа. Заранее поеживаясь, он надавил ручку и толкнул тяжелую дверь с круглым, на уровне лица глазком. Переступив через высокий камингс, прислонился к фальшборту, за которым висел складной трап. Выкрашенные зеленым сварные пупырчатые; листы ощутимо вибрировали под ногами. В перерывах между гудками на барабанные перепонки давил непривычный шелест, словно за туманом шли льды. Скорее всего это лопались стеклянные шарики брызг, вихрем летевшие из носового каскада. Упруго подскакивая на мертвой воде, они долго не растворялись в пузырящихся шапках, беспрерывно всплывавших из взбудораженных омутов. Но к этому шипящему шелесту добавилось еще и явственно различимое зудение, которое источал сырой воздух. Штыри приемных антенн, изливавшие в атмосферу статическое электричество, и мачта с громоотводом были высоко на марсе. Едва ли звуки тлеющего разряда могли достигнуть прогулочной палубы. Если, конечно, электричество не истекало из каждой выпуклости, каждого сварного шва. Легко и красиво скользил «Лермонтов» над черно-дымчатой, как обсидиан, глубиной. Шумы двигателей неразделимо сливались с многосложной акустикой океана, с его до предела натянутой басовой струной, вибрирующей на последней границе слуха. Геня прошел на корму и уселся в затишке на кнехте, таком же зеленом и влажном, как и все вокруг. От машинного люка шло попахивающее соляркой тепло. Полоскалось отяжелевшее от сырости шерстяное полотнище флага, за которым терялся в невыразимой белизне укороченный кильватер, тяжело отливавший распластанным свинцом. — Подсаживайся, — поманил Геню Иван Гордеевич, опускаясь на широкую лавку между брашпилем и автолебедкой. — Угощайся, — достал из нагрудного кармашка пачку «Примы». — Могу предложить «вражеские», — Геня протянул коробку импортных сигарет. — Давай, — охотно согласился Горелкин. — О чем это мы с тобой толковали? — спросил он, щелкая зажигалкой. — Начали с буксира, а кончили стержнем, насколько я мог понять. — Вот именно! — первый помощник назидательно поднял палец. — В войну мы, когда надо было, на катерах вытаскивали из боя потерявшие ход эсминцы. Понял? — Так то в войну! — Да, в войну. Будем надеяться, что не понадобится, но в случае чего, мы не только вытащим «Оймякон» из шторма, но и благополучнейшим манером проведем его через Гибралтар. И не надо мне заливать про машину и контейнера. Понял? — Понял. — И знаешь, почему? — Наверное потому, что вы так считаете. — И это имеет значение. Но главное, Жильцов, в том, что ни у нас, ни у капитана Богданова нет альтернативы. А раз так, то что? Раз так, напрягаемся и совершаем рывок. Даже через невозможное. Так уж привыкли и стержень в нас такой. Появится он у тебя, станешь настоящим моряком, не появится… — Горелкин сделал выжидательную паузу и неожиданно тепло заключил: — Станешь. Еще на доске Почета будешь висеть в непосредственной близости от дюка Ришелье. — Как Богданов? — А что Богданов? Прекрасный моряк! Подумаешь, лопасть потерял, с каждым может случиться. — Может, и так, — отчужденно согласился Геня. Из духа противоречия он готов был опровергнуть то, что отстаивал вчера. Лишь бы не соглашаться с Горелкиным. — Но лучше не ломать винт. Тогда бы нам вообще не пришлось никого брать на буксир. Вы не думайте, Иван Гордеевич, я не против героизма. Я за то, чтобы каждый хорошо, нет, просто-таки виртуозно делал свое дело. Может быть, героев тогда будет и поменьше, но жить станет лучше. Логично? — Логично-то оно вроде логично, с сомнением покачал головой первый помощник, — да не очень привлекательная у тебя философия. Какая-то не моряцкая. Или, может, обиделся на меня? — поднявшись, он небрежно коснулся носком клепаной плиты в основании лебедки. — Я ведь правду говорю, что пароход только с виду железный. Учти. — Нельзя ли более конкретно? — Подрастешь, сам разберешься, — бросил Горелкин, уходя. А чего разбираться, если все и так ясно? Заскучал Геня, внутренне поник. Горячей тошнотной волной прихлынуло к сердцу щемящее ощущение обиды. Знакомое чувство, с которым он никогда не умел справиться. Вспомнился первый самостоятельный рейс, в КБТЖ[17] от Одессы до Керчи. Он тогда загляделся на дневальную Зину, которая, подоткнув юбку, швабрила палубу. Так и выкатил шары на заголенные много выше колен крепкие ноги, поразительно белые и, теперь можно признаться, довольио некрасивые. «Шо вперился, салага? — высокий приблатненного вида матрос ткнул его под ребра ороговевшим пальцем. — Не советую, мальчик, нарываться на большую неприятность. Все чудачки на пароходах расписаны. Улавливаешь?» — «Улавливаю, — ответил тогда застигнутый врасплох Геня и, заливаясь краской, спросил: — А как это, расписаны?» — «Ну ты даешь! — ощерил металлическую челюсть матрос. — Неужто и вправду не знаешь?» — «Нет», — покачал головой Геня, хотя уже все понял в ту минуту, захлестнутый такой же тоскливой и жаркой волной. Ее неотвратимый прилив он ощутил и там в салоне, когда Горелкин выдал свою сентенцию. А может, и еще раньше, когда впервые сверкнула для него Тонина улыбка. «Поживешь, сам узнаешь», — матрос несильно подтолкнул его и, покосившись на белые, в венозных разводах ляжки дневальной, нехорошо улыбнулся. Как третий механик еще там, в Ильичевске, когда увидел на борту принаряженную, обильно надушенную кандейшу Ванду, хозяйку камбуза. Не такие уж это были тайны, чтобы в них запутаться. Геня все понимал и всему находил надлежащее объяснение, хоть и горели у него кончики ушей от подобных мыслей. Одно не понятно было: при чем здесь Горелкин. Он-то чего встрял? Или тоже свой интерес преследовал, несмотря что старый? Да нет, быть того не могло! Никогда его с Тоней не связывали и вообще ни с кем. Вот о деде, точно разговоры такие ходили, хотя Геня их избегал, не хотел верить. И снова противные мысли. Сколько ни думай, выхода из липкого, бесконечно повторяющегося круга нет. Лучше сразу из головы выбросить. Или напрямую спросить? Перепрыгнув через натянутую цепь, он обежал корму. В распахнутом иллюминаторе камбуза увидел Тоню. Она беззвучно плакала возле посудомойки. Заметив Геню, вздрогнула и отвернулась. — Послушай, — просунувшись внутрь, он впервые обратился к ней на «ты». — О чем говорил с тобой Горелкин? — Больно много знать хочешь, — отчужденно отозвалась она, и лопатки настороженно обозначились под легкой тканью ее итальянского батника. — Зачем он разговор этот дурацкий затеял, — закипая обидой, выкрикнул Геня, — про сквозной пароход? — Почем я знаю, — она устало опустила руки. — Не надо орать. — Я не ору, — он заговорил тише, но с тем же обидчивым напором, — и вообще никто ничего не услышит. Ты мне только скажи, почему он так себя вел? На что намекал? — Иди-ка ты, Геня, подобру-поздорову, — Тоня локтем отерла слезы и, обернувшись, потянулась захлопнуть иллюминатор. — Это правда, что про тебя говорят? — спросил он, бледнея, и схватился за откидной барашек. — Я не знаю, что про меня говорят, — отчеканила она. — И знать не хочу. Я о тебе лучше думала, Геня, только ты вон какой оказался, как все, — и вдруг выкрикнула с ненавистью: — А ну отвали! — и захлопнула иллюминатор. Прижавшись к фальшборту, неприятно холодившему спину, Геня увидел, как она рванула вниз клеенчатую шторку. — Судовое время передвинуто на час вперед, — объявили по трансляции. — Сейчас десять часов двенадцать минут. «Целый час выкинули из жизни за здорово живешь», — подумал Геня. О том, что когда шли на вест, стрелки назад передвигали, он и не вспомнил.
БЕРЕГ (ОДЕССА-ПАРОХОДСТВО)
По всему свету разбросаны агентства, обслуживающие «Black sea shipping company», или попросту Черноморское пароходство. Его характерную эмблему — лайнер под красным флагом на фоне земного шара — знают в Торонто, Монреале, Чикаго, Кливленде, Нью-Йорке. И в Северной, и в Южной Америке, и в любом портовом городе Средиземноморья — от Стамбула до Барселоны, от Латакии до Марселя — советские суда встречают доверенные представители, которым поручено охранять интересы крупнейшей морской компании мира. Короче говоря, амбициозные претензии одесситов на глобальную роль родного города имеют под собой солидную почву. Здесь, где каждый второй мальчик мечтает стать капитаном, понимают, чему обязана своей всемирной известностью красавица Одесса. Не случайно управление пароходства расположено в ее лучшей культурнейшей части, в непосредственной близости от знаменитого театра оперы и балета, как раз напротив морского музея с его чугунными якорями возле дверей. Впрочем, каменный особняк по улице Ласточкина, окруженный высоким забором, и пристроенные к нему старинные флигеля больше напоминают монастырское подворье, нежели штаб-квартиру могущественной компании. Динамизм и современность сочетаются, таким образом, с традициями и пленительным местным колоритом. Одно другому не очень мешает. И когда в главном здании, отличающемся от современных построек широкими лестничными пролетами и высоченными, с обильной лепниной, потолками, приступают к побелке, это никак не сказывается на производственной деятельности. В аппаратной, связанной с несколькими десятками зарубежных портов, ни на секунду не перестают стучать телетайпы, а радиограммы исправно ложатся в предназначенные для доклада папки, несмотря на то, что сотрудникам приходится добираться до кабинетов начальства, расположенных в бельэтаже, по каким-то запутанным коридорам и боковым лестницам. Новый начальник пароходства Владлен Афанасьевич Боровик получил сообщение Дугина и Богданова в 9.30 по местному времени. Проработав несколько лет замом по кадрам, он лично знал многих капитанов, в том числе и этих. Как всякий профессиональный моряк, он не слишком удивился тому, что судьба вновь столкнула их на океанских дорогах. На море это было в порядке вещей и вообще не выходило за пределы статистики. Когда люди по три-четыре раза в год идут из Гибралтара в Западное полушарие, а потом возвращаются обратно, их пути рано или поздно пересекаются. Причем самым непредвиденным образом. Всякое может приключиться. Этот случай еще не из худших. Обогнув длинный полированный стол для заседаний, уставленный хрустальными пепельницами, Владлен Афанасьевич подошел к большой карте Атлантики. С минуту задумчиво смотрел на индиговую, пересеченную судоходными линиями поверхность, затем, продолжая сосредоточенно думать о своем, повернулся к окну. Знакомая до мельчайших штришков панорама открылась ему. Унизанные трубами крыши, каменные лестницы, уводящие вниз, полинявшие за зиму стены. В лабиринте улочек уже зацветали деревья. По дороге, ведущей в порт, тянулся поток машин и над мостам витала дымка отработанных газов. Только небо, разграфленное переплетами высоких окон, казалось, вечно новым. Сейчас оно блистало такой же глубокой, как на карте, океанической синевой. Боровик нажал на кнопку рядом с селектором и вызвал помощника. — Неужели нет других судов поблизости? Оживленнейшее же место! — кивнул он на карту. — И ленинградцы там ходят, и рижане. Надо выяснить. — Я скажу, Владлен Афанасьевич. — Не верю, чтоб никого не нашлось. Что я не знаю «Лермонтов»? Он даже не может буксировать. Это так, на крайний случай… И Дугин прекрасно понимает, что нам все известно. — Что ему ответить? — С решением согласны, — пожал плечами Боровик. — Как будто можно сказать иначе. Пусть сопровождает до Сеуты. Насчет буксировки ничего пока не давайте. Попробуем поискать более подходящий пароход. Не такой нагруженный, и машина чтоб была помощнее. Тем более «Лермонтов» на линии. У него сроки. М-да, ничего не скажешь: удружил нам Богданов… И как это он ухитрился? Небось, о риф где-нибудь задел. Дело знакомое. Бронза дала трещину, а дальше — больше. Кто у них капитаном-наставником? — Терпигорев Сергей Ильич. Третьего дня на «Светлове» пришел. Я его с утра здесь видел. — Давайте сюда раба божьего… минуток через десять, — Боровик взял со стола радиограммы и еще раз пробежал их глазами. — Пусть пока ознакомится. Оставшись один, повернулся к селектору и взялся было за рычажок прямой связи с Москвой, но вызывать не стал, передумал. Генеральный директор Совинфлота, словно нарочно, вчера интересовался линией. А с ней вон как обернулось. Если дело не поправится, придется доложить. Никуда не денешься. — К тебе можно, Владлен Афанасьевич? — заглянул из тамбура в кабинет Терпигорев. — Конечно, Сергей Ильич, заходи, — Боровик вышел из-за стола навстречу гостю. Оба рослые, статные, в безукоризненных черных костюмах с шевронами на рукавах, они казались однолетками, хотя Терпигорев был лет на пятнадцать старше. Когда Владлен Афанасьевич только еще начинал свою морскую карьеру, он уже был капитаном дальнего плавания. — А ты все такой же, — Боровик крепко пожал сухую сильную руку Сергея Ильича. — Совершенно не меняешься, ну совершенно. И как это тебе удается? — Законсервировался, — меланхолично ответил Терпигорев. — Придет срок, сгорю в одночасье, как лампочка. — А что? Так оно по-моему даже лучше, — и на подвижном лице Боровика мелькнула удивленная улыбка. Он словно долго сомневался в чем-то, а потом враз уверился. — Ей-богу, лучше! Терпигорев вынул стальной портсигар военных времен и принялся обстоятельно разминать папироску. — Главное, чтобы не так скоро, — он резко продул мундштук и, без лишних слов, сразу заговорил о деле. — Воображаю, как чувствует себя сейчас Константин Алексеевич. Богданов же его, как липку ободрал, все запчасти под себя загреб. А тут такой камуфлет. — Ты-то откуда про запчасти знаешь? Я так первый раз слышу. — Да перекинулся я с ним парой слов у Джорджес-банки, по телефону. — Рыбу, небось, удил. Знаю я его, хитреца. А Богданов что? Запчасти тоже надо уметь выколотить. Кто половчее, тому и почет. Ты тоже так действовал, Сергей Ильич, я помню. — Посмотрел я богдановские реляции и, скажу по чести, удивился. Все может, конечно, случится, но чтобы из-за одной лопасти так ход упал, никогда не поверю. Я две терял, и то восемь узлов выгонял. Что-то тут не то… — Оснований не доверять сообщениям капитана у нас нет, — осторожно заметил Боровик. — Едва ли он станет преувеличивать свои осложнения. — Это я понимаю. Если бы мог идти быстрее, то, надо полагать, и шел. Но объективная реальность свидетельствует об обратном. И не могу взять в толк, по какой причине. — Признаться, меня это тоже несколько удивило, — согласился Боровик. — Видимо, разница между тобой и Богдановым как раз и заключается в том, что ты и прежде терял лопасти, а с ним такое приключилось впервые. Он был удачливый капитан. — Интересная у тебя, Владлен Афанасьевич, точка зрения, словно лопасти — это вроде молочных зубов, — старый капитан отрицательно помотал головой. — Думаешь, растерялся Богданов? Не решается на полный врубить? — Это первое, что может прийти в голову, — озабоченно кивнул Боровик. — Но не берусь судить, поскольку не знаю всех обстоятельств. — Надо бы поговорить с ним. — Так ты составь радиограммну, Сергей Ильич, а потом мы попробуем на телефонию его вывести. И вообще, сделай одолжение, вникни. Целиком на тебя полагаюсь. — Это моя работа, Владлен Афанасьевич. — Значит, договорились, — Боровик решительно поднялся и проводил Терпигорева до дверей.БЕРЕГ (МОСКВА-РАДИОЦЕНТР)
В радиоцентре Министерства морского флота приступили к поискам подходящего буксировщика. Последние координаты «Оймякона», полученные по телексу из пароходства, ввели в ЭВМ, где с недоступной для человека быстротой начался перебор вариантов. Ответ был получен через четыре минуты. Кроме «Лермонтова», чей ход, естественно, тоже никак не мог миновать электронной выборки, машина назвала еще несколько судов. К сожалению, все они отстояли довольно далеко от искомой точки. Ближе всего к «Оймякону» находился сухогруз «Роберт Эйхе», следовавший из Гаваны в Лас-Пальмас. По дедвейту, скорости и мощности силовых установок он лучше отвечал предъявляемым требованиям, нежели «Лермонтов». Наконец, его не приходилось снимать с рейса, что тоже являлось безусловной удачей. Груз, который судно намеревалось по пути домой взять в Лас-Пальмасе, вполне можно было переложить на кого-нибудь другого. Впрочем, все эти обстоятельства станут обсуждаться несколько позднее и не здесь. В задачу машины и соответственно оператора входит одно: как можно скорее выдать название и координаты. Поэтому, сняв с печатающего устройства отрезок перфорированной ленты, оператор сразу же принялся за новое задание. Задача, которую ему предстояло решить, математически была аналогична предыдущей. Научно-исследовательское судно «Сапфир» срочно запросило квалифицированного врача, чтобы оказать помощь мотористу, у которого начался перитонит после резекции аппендикса, проведенной в трудных условиях семибалльного шторма. «Сапфир» находился в Индийском океане в шестистах милях южнее Кейптауна, вдали от обычных судоходные путей, и помочь ому было трудно. Ждали своей очереди и другие запросы плававших на бескрайних просторах Мирового океана кораблей. ЭВМ, для которой разница между сотней и тысячей миль заключалась лишь в порядке чисел, переведенных в двоичную систему, всегда давала положительные отвесы. Ей не дано было различать, какие из чисел действительно обещали надежду, а какие ее отнимали. Ведь расстояние между искомой точкой и ближайшим к ней судном могло стать и смертным приговором. Как для терпящего бедствие парохода, так и для человека, которого нежданно-негаданно подстерегло несчастье. Разделенное на скорость в узлах, это расстояние превращалось во время, исчисляемое часами и сутками. Порой вовсе счет шел на секунды. О таких мгновениях лучше не вспоминать, потому что нет для человека ничего обиднее и страшнее собственного бессилия перед бедой. Но и всевластное время не всегда становилось решающей ставкой в незримой битве за жизнь, которая денно и нощно велась в эфире. Случаи полной оторванности судна сравнительно редки. Гораздо чаще наблюдаются ситуации несколько иного рода, когда друзья спешат на выручку со всех сторон и есть время ждать. Кажется, все благоприятствует удаче и можно не сомневаться в благополучном исходе, но исход получается иным, потому что чего-то недоставало. Совсем немногого: может быть, знания, может быть, точности рук. Эта ничтожная малость, которую не предусмотришь и не захватишь с собой, на манер аварийного комплекта, переиначивала все на свой лад. На банановозе «Свирь», который шел из Коломбо в Баб-эль-Мандебский пролив, тоже ждали помощи из радиоцентра. Ждали матрос, которому вонзилась в глаз металлическая стружка, и судовой врач, который не решался сделать операцию, так как случай оказался сложным. Вокруг плавало сколько угодно судов, своих и иностранных, и любое из них могло подойти к «Свири» в течение считанных часов. И тем не менее, шансы на то, что матросу удастся сохранить глаз, с каждой минутой падали. Ни на одном пароходе не нашлось медика, который бы разбирался в глазном деле лучше, чем врач «Свири». Оставалось только одно: срочно найти опытного окулиста и дать консультацию по радиотелефону. Само собой понятно, что такие дела тоже не входили в компетенцию оператора ЭВМ, который ограничился тем, что назвал десяток пароходов, плававших в Индийском океане и Красном море. Наверное, ему казалось тогда, что на «Свири» вскоре будет полный ажур. Зато положение механика «Сапфира» представлялось куда как неважным. Помощи ожидать было в сущности неоткуда. А там не о глазе забота была — о жизни. Что же касается случая с «Оймяконом», то он рисовался оператору совершенно элементарным: раз ближе всех находится «Лермонтов», значит, ему и выручать. Дежурный оператор вычислительного центра ничего не решал, но мнение для себя составил, потому что человек, в отличие от машины, не может мыслить одними цифрами. Особенно когда знает, что за ними стоит. Другое дело, что эти побочные мысли никак не сказываются на результатах, поступающих в узел связи. Данные выборки, в которых «Эйхе» значился под номером два (после «Лермонтова»), попали к начальнику смены, когда на всех столах горели красные лампочки. Был сайлинг-период, когда радиоцентр прекращал передачи на средних волнах. Радисты в глухих наушниках, чуть подавшись вперед, настраивались на торжественную тишину, которую прослушивали вместе с ними все, без исключения, судовые рации. В известной мере радиоцентр уподоблялся погруженному в невидимые волны лайнеру. Может быть, с той лишь разницей, что свирепствовавшие вокруг него ветры и шквалы не подчинялись шкале Бофорта. Для них существовали особые мерки: частоты и амплитуды, особый первозданный хаос, который именовали «уровнем помех». И хотя бортовые часы показывали для каждого свое время, единое радиоморе плескалось теперь в наушниках москвичей и Василия Михайловича Шередко, его коллеги по «Оймякону» Заречного и неизвестного пока маркони на сухогрузе «Роберт Эйхе». Ребята с «Эйхе» полтора месяца провели в кубинских портах, и Лас-Пальмас маячил для них желанной приманкой, где каждый надеялся потратить заработанные за долгий рейс золотые копейки. Недаром райскую столицу, легендарный остров одесские моряки именовали не иначе, как «Лас-Пальтас», ибо пальто на Канарах, где летом и зимой почти одинаково тепло, и впрямь стоили дешево. Впрочем, дерибасовские модницы, которым товар в «комисах» показывали только из-под прилавка, пренебрегали вещами с пальмовой этикеткой. Предпочитали американские нейлоновые шубки. Но аллах с ними, и вообще не шмутками занята голова, если до земли еще трое суток, хотя первые ее вестницы кружатся над палубой! Чувство, которое переживает моряк, когда видит сидящую на кнехте или на какой-нибудь стеньге береговую птичку, объяснить невозможно. Здесь и общность судьбы и единство ощущений. Пароход — тот же остров, улететь с которого некуда. И потому унесенная от родины птаха остается в гостях до той желанной поры, когда почует близкую землю. Однажды утром ее не найдут ни на марсе, ни возле камбуза, где каждый привык потчевать гостью рубленым мясом и ягодами из компота. Это случится много раньше, чем на экране локатора возникнет подобный облаку контур со стрелками молов. Вот когда задумается моряк о тряпках и прочем фуфле, ощутит властный зов и знакомое нетерпение берега. Пусть приборы показывают все, что им заблагорассудится, и суша обозначена на листе, за который еще не брался штурман, — не имеет значения. Пичуга не обманет, она знает свой берег. Чайка — ворона морей — и та не отлетит от земли дальше, чем на шестьсот миль. Из всех пернатых одна только ласточка не веселит матросскую душу. Без улыбки следят моряки за тем, как мечется над кораблем черно-зеленая чемпионка трансатлантических перелетов, как беспокойно носится от носа до кормы. Встретившийся ей железный грохочущий остров бесплоден и не сулит передышки. Напрасно отбившаяся от стаи беглянка чертит за кругом круг, облетая идущий корабль. Ни у штевня, вздымающего буруны, ни над взбаламученным клином кильватера не найти ей желанных комаров да мошек. Она неизбежно погибнет от голода. Трупы ласточек на палубе — неизменная примета океанских дорог. О чем думал радист с «Роберта Эйхе», когда прослушивал эфир на частоте бедствий? О доме, о стоянке в Лас-Пальмасе? Или о вестях, которые надеялся принять по истечениисайлинг-периода? Во всяком случае, он с облегчением потянулся и сделал соответствующую запись в журнале. Все у него обстояло прекрасно: Одесса подтвердила заход в Лас-Пальмас, а маленькая коноплянка, залетевшая третьего дня в рубку, весело рубала компот прямо из кружки. В зале радиоцентра тоже повеяло мгновенной беззаботностью. Напряжение требовало разрядки, к которой примешивалось естественное облегчение, потому что ничего нигде не случилось. Даже опытные, с двадцатилетним стажем радисты, которые работали на вызывных столах, позволяли себе в такие минуты расслабиться. Записка с координатами и позывными «Роберта Эйхе» попала к Егору Мелехову, вызывному оператору, который пришел в радиоцентр после сверхсрочной службы на военно-морском флоте. Его стол находился в самом центре зала и был защищен от посторонних шумов плексигласовыми экранами. Профессиональным взглядом радиооператор охватил стрелки на циферблате и карту часовых поясов. До начала сеанса оставалось еще достаточно времени. — Займусь пока пострадавшим, — сказал он начальнику смены, проглядев задания. — Тут время действительно не терпит, переведите на меня «Сапфир» и «Свирь». — Вас понял, — сказал начальник смены. В отличие от радистов, обслуживающих рабочие столы, вызывной оператор не занимается приемом и передачей текущих радиограмм, которых за смену набирается несколько сотен на брата. В его задачу входит одно: установить надежную связь с судном и обменяться с ним особо важной информацией. Только в чрезвычайных случаях вызывной может взять на себя судно целиком, и тогда все радиограммы будут проходить только через его руки. Это делается для того, чтобы по возможности избежать потерь при радиосеансе, потому что одних профессиональных навыков бывает недостаточно. Необходимо еще несколько редких человеческих качеств, таких, как изощренный слух, интуиция и быстрота реакции. Поразительные успехи современной техники только повысили значение подлинного мастерства и таланта, с которыми пока еще не научились соперничать приборы. Служба в радиоцентре требует нечто большего, чем просто усердие и расторопность. Тем более, что автоматы почти целиком взяли на себя всю механическую часть многогранной работы радиста. За невысокими стеклянными перегородками круглосуточно отстукивают строчки буквопечатающие аппараты — беспроволочные телетайпы. Человеку остается только следить за режимом и время от времени производить настройку. Даже радиограммы, предназначенные для судов, отбивает теперь не рука на ключе, а специальный трансмиттер, способный передавать тысячи слов в минуту. Такие ускоренные автопередачи сначала записываются на магнитофон, а уж потом расшифровываются. И не беда, если что-то затерялось, в эфире. Электронная память позволяет восстановить утраченные слова. На больших судах расшифровка осуществляется в автоматическом режиме. Казалось бы, во всем обошла кибернетика человека. Но стоит заявить о себе капризной природе, как тут же возникает потребность в пальцах пианиста и ухе композитора, способном выявить хрупкую мелодию морзянки в какофонии магнитных бурь. А поскольку плохая слышимость на море — обычная вещь, принимающий оператор еще многие годы останется главной персоной в любом радиоцентре. Да и от азбуки Морзе, по-видимому, еще не так скоро откажется флот, потому что морзянка слышна намного дальше, чем человеческий голос. Обработать кипы радиограмм и по кабельным телетайпам передать в министерство данные о работе экипажа, погрузке и выгрузке могут и автоматы. Но держать на связи весь шар земной, способен только человек. Когда диспетчеру удалось наконец-то связаться с дежурным в госпитале Мелехов установил радиотелефонный контакт между кабинетом главврача, куда срочно вызвали ведущего окулиста, и «Свирью». Медицинские рекомендации на «Сапфир» пришлось передавать ключом. Информация дошла в обоих случаях, а последствия уже не зависели от вызывающего. И то, что моторист в конце концов выздоровел, а парень со «Свири» остался без глаза, было делом рук судовых врачей. Десятки радиограмм, в основном личного характера, адресованных родным и близким, прошли через рабочие столы, прежде чем радист «Роберта Эйхе» вышел на связь. В течение нескольких минут Одесса-радио переключила его на московский центр, и Мелехов, отстучав подтверждение, передал приказ оставаться на связи. Теперь дальнейший маршрут сухогруза зависел от начальника пароходства.СУДОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
После полудня океан раскачало. При полном безветрии в правый борт грузно била крутая, темная, как антрацит, волна. Тарелки приходилось наливать едва до половины. При очередном крене у кого-нибудь обязательно выплескивалось. Когда Шередко забежал перекусить, скатерти в кают-компании уже стали розовыми от борща, а на полу застывали жирные лохмы капусты. — Тю, вражина! — поскользнувшись, он ухватился за кресло с штормовым креплением. — Прямо Саргассово море. — Клевещете на водоем с идеальной прозрачностью, — меланхолично заметил Беляй, уписывая липкие от чеснока пампушки. — Белый круг заметен на глубине шестьдесят шесть метров. Это вам не Каролина-бугаз. — Чем порадуете, Василий Михайлович? — поинтересовался Дугин. — В пятнадцать часов попробуем выйти на телефонию. — Ну-ну, — капитан скептически прищурил глаз. — А как насчет — позвонить домой? Вы хоть на очередь стали? — Та, шестая. Пока докричался до той фифы с Одессы-радио, трошки потеснили другие пароходы. — Нам всегда не везет, — сказал Дугин. — Хотел бы я знать, кто первый? — Конечно, Богданов, — гордясь своей догадливостью, выпалил Мирошниченко. — Он после каждого рейса заявляется на радио с конфетами и прочей косметикой. Первая очередь «Оймякону» навсегда обеспечена. Автоматически. — До чего примерный семьянин, — съехидничал Эдуард Владимирович, которому даже длинные макаронины не мешали улыбаться. Дугин ответил ему беглым непроницаемым взором. — И правильно делает, — отрезал Беляй. До него доходили слухи о том, что капитан оставил первую жену именно из-за Богданова. Неосторожная реплика Эдуарда резанула по сердцу. Стало неприятно за Дугина. — Как, Василий Михайлович, — поинтересовался он, чтобы разрядить обстановку. — Бочка еще на плаву? — Плывет, железяка, — добродушно тряхнул челкой Шередко. — Красная, небось, вся от ржавчины. — Будь у меня оружие, я бы с наслаждением ее расстрелял, — сказал Дугин. После того, как Беляй случайно проник в его тайну, он благосклонно разрешал позубоскалить на предмет бочки. Это не мешало ему скрупулезно отмечать ее извилистую траекторию. Когтя линолеум, к столу, за которым сидел второй электрик, проковылял зеленый попугай Юрочка. Он плавал на «Лермонтове» со дня приемки судна и считался полноправным членом экипажа. На него был даже выписан специальный санитарный сертификат. Взлетев к хозяину на плечо, вещая птица проскрипела: — Вторрник. — Ошибаешься, Юрочка, понедельник, — заворковал электрик Паша. — Ну скажи: по-не-дель-ник. — Уберите эту ворону! — прояснел ликом капитан. — Пусть в каюте сидит. Разумеется, никто не пошевелился. Затаив дыхание, все ждали продолжения спектакля. — Четвер-р-рг! — явно подначивая, прокартавил Эдуард Владимирович. — Не сбивайте его, — буркнул Дугин, косясь на дверные створки, которые дребезжа раскрывались и захлопывались при очередном крене. — Может, кто-нибудь все-таки закрепит дверь? — С удовольствием! — вызвался неунывающий Эдуард Владимирович. — С удовольствием дороже, — буркнул Дугин. — Ворона молчит? Эй, Юрочка!.. — Вадик, наливай, — грустно молвил попугай, помянув кого-то из прежних владельцев. Несмотря на ежедневный тренинг, он упорно отказывался заучивать новые имена и лишь однажды, это было на рейде Валенсии, случайно обмолвился, к вящему восторгу кают-компании, скомандовав: «Костя, наливай!» — Ни к черту не годится, — капитан разочарованно скомкал бумажную салфетку. — Пошли, что ли, Василий Михайлович? Пол под ногами плавно проваливался и уходил вверх. Кренометр показывал до двадцати градусов, но качка после горячего обеда не вызывала неприятных ощущений. Хватаясь для надежности за траповые пруты, Шередко и Дугин поднялись в радиорубку. Валера с готовностью снял наушники и уступил поворотное кресло Василию Михайловичу. Потоптавшись немного возле капитана, он ушел в соседний отсек, где беспроволочный телетайп выстреливал последние международные новости и вести по стране. Президент США склонял налогоплательщиков к экономии горючего, а «Черноморец» опять проиграл на своем поле «Кайрату». «Накрылась высшая лига, — подумал Валера, — вот «обрадуется» Иван Гордеевич». Шередко настроился на условленную частоту и взялся за ключ. Вслушиваясь в трепетную пульсацию вызова и комариный напев ответной морзянки, Дугин думал о крайнем витке завернувшего к Северной Америке стремительного циклона. Судя по быстро падавшему барометрическому давлению, «Лермонтов» уже вклинился в опасную зону. Метровая зыбь, переваливавшая теплоход с борта на борт, не сулила особо радужных перспектив. Часов через восемь — десять следовало ожидать первых порывов ветра. Потом, скорее всего, наступит короткая, давящая в затылок тишина, а там ветер изменит направление и разыграется шторм. Да еще какой! Если верить погодной карте, сила ветра местами достигнет ураганных градаций. — Говорите, — кивнул капитану Шередко. Константин Алексеевич взял трубку. — Говорит теплоход «Лермонтов», — внятно прогудел в микрофон, надевая наушники. — День добрый, Олег Петрович! Как самочувствие? — нажал кнопку. — Прием! — Константин Алексеевич? — неожиданно близко прозвучал голос Богданова. — Приветствую вас, приветствую. Самочувствие отличное. Продвигаемся помалу указанным курсом. А как у вас? — Вашими молитвами, Олег Петрович. — Значит, совсем замечательно. Шередко врубил динамик, чтобы слышать весь разговор. Как и положено, оба капитана говорили неторопливо, с легким оттенком небрежности, словно ничего не случилось и их не ожидает в ближайшие сутки рандеву, за которым начнется, требующая обоюдного напряжения, страда. Обычно в таком сдержанно дружелюбном тоне, в котором ощутимо проскальзывают самодовольные нотки, ведут беседу вахтенные штурманы встречных судов по каналам УКВ. Подбадривая друг друга легкими шутками и не всегда интересными для собеседника новостями, они со спокойным сердцем прерывают связь, как только разойдутся, приветственно просигналив кормовым флагом, случайно встретившиеся суда. У каждого своя дорога, у каждого свой замкнутый в себе мир. Инстинктивно чувствуя неуместность дежурного оптимизма, Дугин, в то же время не решался взять обычный деловитый тон. Щадя и без того уязвленное самолюбие Богданова, он вначале ронял ничего не значащие слова и междометия. Затем, после особенно долгой паузы, небрежно бросил: — Если ничего не помешает, ждите нас завтра. — Есть такое дело, — с подчеркнутым безразличием отозвался Богданов. Дугину показалось, что обе стороны достойно выдержали трудный экзамен. Теперь можно было спокойно перейти на повседневный треп. — Может, фильмами обменяемся? — Отчего ж? С превеликим удовольствием… Как вообще жизнь, Константин Алексеевич? Груз не слишком великоват? — Ничего, выгребаем помалу… Кстати, вам сообщили, что пароходство дало добро? — Как же, Константин Алексеевич, наслышан… Вопросы будут? — По-моему, дело ясное, как полагаешь, Олег Петрович? Готовь все необходимое для буксировки, чтобы время зря не тратить, а мы завтра к ужину подгребем. Не оставим вас на произвол судьбы, не надейся. — Добро… Если произойдут изменения, дам знать. — Будем держать связь. Наши радисты, надеюсь, не подкачают. А мы с тобой давай часа через три побеседуем. Подходит?.. — Лучше в двадцать. А то у меня разговор с пароходством. — По радиотелефону? Молодец твой радист. А мы вот никак не можем пробиться. Разрешишь, как говорится, поприсутствовать? — Добро, если, конечно, Одесса не воспротивится. По долгой паузе и ощутимой сухости интонации Константин Алексеевич догадался, что согласие было вынужденным. Вероятно, Богданов подумал при этом, что не только не имеет морального права отказывать, но и не в его власти вообще помешать кому бы то ни было настроиться на разговор. — Вот и отлично, — закончил Константин Алексеевич. — Один ум хорошо, а два лучше. Итак, в двадцать выходим на связь. Всего тебе наилучшего. Конец, — он с облегчением перевел дух. — Как только начнут говорить, кликните меня, — кивнул радисту. — Не мешает и нам с берегом посоветоваться. — Удастся ли? — с привычным сомнением отозвался Шередко. — Другие почему-то умеют, — многозначительно намекнул капитан. — Постарайтесь, может, и у вас получится… А теперь давайте Одессу. Василий Михайлович переключил диапазон, не глядя на шкалу частот, подстроился к невнятным голосам, выплескивавшимся из шелестящей завесы. Для лучшей слышимости поменял гнезда приемных антенн. С сочувственной улыбкой Дугин прислушивался к словам, которые изредка ронял хорошо различимый мужской голос. Да и не нужно было никаких слов, чтобы полной мерой ощутить радость, нетерпение и беспокойство, которые дышали в коротких всплесках, неожиданно вырывавшихся из шумового фона, смягченного торопливой и очень далекой женской речью. Женщина, казалось, не обладала никаким опытом в радиоперекличке, не понимала, что нужно говорить коротко и строго поочередно. Ее характерный тембр тонкой ниточкой трепетал где-то на другом конце мира по ту сторону ревущего занавеса. Она не умолкала ни на минуту и потому никак не могла слышать своего далекого друга, которому оставалось только молчать. Отчаянно и нетерпеливо звала его, слезно жалуясь, что он куда-то пропадает и решительно ничего невозможно понять. — Вот дура баба! — в сердцах взмахнул кулаком Шередко. — Хоть бы хвылынку передохнула. — А они иначе не могут, женщины, — снисходительно усмехнулся Дугин. — Им лишь бы излиться. Моя, кажется, огонь, воду и медные трубы прошла, а все никак не научится. — Так человек же переживает. — Ничего, успокоится. Разговор-то у них самый обыденный, — Дугин смущенно почесал переносицу. — Ну люблю, ну целую, и я люблю, и я целую, дома все благополучно, и у меня тоже, надеюсь быть такого-то… и далее в том же духе. Как-нибудь разберутся. Тут лишь бы голос услышать, — он затуманился и вздохнул. — Великая, конечно, штука этот радиотелефон. И как мы раньше без него плавали? Непостижимо… Только слышимость никудышняя. — Так нам же самые плохие частоты достались. — Да, к шапочному разбору пришли. Несколько односторонний разговор, наконец, закончился и, как только возникшую паузу заполнил голос радиотелефонистки, Шередко поспешил включиться с вызовом. — Одесса-радио, Одесса-радио, я теплоход «Лермонтов», — монотонно взывал он, не уставая повторять одну и ту же, похожую на заклинание фразу. Казалось невероятным, что невыразительный тихий зов может быть кем-то услышан, что он не затеряется в бескрайней бездне, наполненной сплошным грохотом, прорезаемой музыкой, разноязыкой речью, грозным завыванием каких-то потусторонних сил. И тем не менее сигнал, испущенный полуторакиловаттным передатчиком «Лермонтова», не потонул в стонущем эфире. Заклинание и впрямь совершило чудо. — Вас слышу, «Лермонтов», — вполне буднично отозвалась Одесса-радио. — До вас еще не дошла очередь. — А долго ждать, дорогая Одесса? — торопливо спросил Шередко. — Мы уже месяц, как с домом не разговаривали, девушка. — Перед вами еще три парохода. — Часа два, не менее, — пояснил радист, оглянувшись на капитана. — Все зависит от того, сколько вызовов, — кивнул Дугин. — Давай прикинем… Три парохода, и на каждом по меньшей мере пять гавриков жаждут пообщаться именно сегодня, итого выходит пятнадцать… Да, два часа — это только-только. А то и все три, потому что четыре минуты — это не разговор. Притом на вызовы какое-то время тоже уйдет… Может, Москву попробуешь? Шередко нагнулся над таблицей, на которой были указаны часы и частоты московского радиоцентра. Соединиться с Одессой через Москву часто удавалось значительно легче, нежели напрямую. Иногда он ухитрялся дозваниваться через Ленинград, Туапсе, а то и Мурманск, достававший любую точку Северной Атлантики. Главное было влезть в рабочие часы, что не всегда выходило, так как разница во времени постоянно менялась. Когда «Лермонтов» работал в американских портах, она составляла семь часов, ныне сократилась до четырех. — Есть еще пятьдесят минут, — объявил Василий Михайлович, — попытка — не пытка. Как? — Давай-давай, — подбодрил Дугин, механически употребив емкое словообразование, вошедшее в сложный лексикон докеров полумира, и взял свою пару наушников. — Шестнадцать — тридцать два — сорок семь, — на всякий случай напомнил номер домашнего телефона. Но его надеждам поговорить с женой не суждено было сбыться. Хотя Шередко, на удивление быстро, договорился с Москвой, абонент, как сообщила московская радиотелефонистка, не отвечал. Дугин сам слышал редкие гудки, чем-то напоминавшие ему цепочку пузырей, пробивающихся сквозь толщу воды из какой-нибудь донной трещины. Следуя друг за другом по колышущейся кривой, они лопались и исчезали, едва достигнув поверхности. Дома никого не было. Сделав мысленную поправку на одесское время, Константин Алексеевич попытался представить себе, где могут находиться его многочисленные домочадцы. Старший сын, конечно, отправился на Приморский бульвар, где останется до позднего вечера бренчать на гитаре в компании таких же беспутных сверстников; младший Алеша, скорее всего, гоняет на велосипеде по Пушкинской или Карла Либкнехта, а теща, возможно, пошла в кино, если, конечно, не жарит бычков во дворе на примусе послевоенных времен, который давным-давно стосковался по свалке. И только Лину никак не умел он вообразить вне домашней, до последних мелочей памятной, обстановки. Отгоняя вздорные мысли, заставил — себя думать, что она задержалась на работе и идет теперь, не спеша, по улице Ленина, мимо голых деревьев и пивных ларьков на перекрестках мостовых, круто сбегающих к морю. — Имеем еще двадцать пять минут, Константин Алексеевич, — сказал Шередко. — Может, повторим вызов? — Не стоит, — Дугин устало зажмурился. — Отложим лучше на завтра. После чая всем командирским столом сели забить «козла». С ловкостью фокусника Горелкин перевернул футляр и смешал кости. — У кого один-один? — обвел он партнеров придирчивым взглядом. — Шевелись! — Трус не играет в «козла»! — пропел Беляй на мотив песни о хоккее и со стуком выставил дупель. Как обычно, он играл в паре с Загорашем против Горелкина и капитана. Игра протекала в быстром, почти автоматическом темпе, благо партнеры понимали друг друга с полуслова. Появление бланша и двойной шестерки, которую Горелкин почему-то называл Гитлером, встречали смехом и день ото дня повторявшимися шуточками. В неизменности почти ритуального распорядка кроется особая прелесть, по достоинству оценить которую можно только на судне, где все подчинено строгому чередованию одних и тех же действий, а иных развлечений попросту нет. Да и быть, в сущности, не должно, потому что рейс — это одна сплошная работа, рассчитанная на много дней. Немудреный «козел», таким образом, не только дарует минутную разрядку, но и позволяет спокойно поболтать на самые разнообразные темы. Конечно, такое возможно и за картами, но по традиции карты на советских судах не поощряются. Да и нет настоящего удовольствия без залихватского стука, от которого содрогаются переборки и помигивают подволочные плафоны. — Ишь, разбежались! — Загораш спешно восстановил порядок, когда после очередного глубокого крена с полированной столешницы соскользнули кости. — Неиграцкая погода. — Давай-давай, — поторопил его Горелкин. — Сейчас мы возьмем реванш за поражение «Черноморца»! — Трус не играет в «козла»! — Беляй отдуплился с обоих концов. — Все, рыба! Это вам не футбол, Иван Гордеевич! — Говорили с Богдановым? — спросил Загораш, начиная новый заход. — Имел удовольствие, — постучав, о край стола, Дугин пропустил ход. — Просил его подготовиться. — Пароходство же не подтвердило буксировку? — поднял глаза Горелкин. — Приказано только сопровождать. — Так ли, Иван Гордеевич? — возразил Дугин. — Не подтвердило, но и не опровергло. Слыхал такое дипломатическое выражение? — Выискивают другие возможности? — с надеждой поинтересовался Горелкин. — Что-нибудь светит? — Там поглядим, — уклончиво протянул капитан. — Мало ли что может произойти… Чей ход? Но закончить партию не пришлось. Позвонил Шередко и пригласил Дугина в радиорубку. — Играйте за меня, — предложил капитан. Когда он пошел в рубку, в динамике уже рокотал, перекрывая помехи, незнакомый начальственный голос. — Кто это? — спросил Дугин, усаживаясь рядом с Шередко. — Какой-то Сергей Ильич. — Сергей Ильич? — капитан на секунду задумался. — Может, капитан-наставник Терпигорев? Неужели шарманка так искажает? — он любовно погладил деревянное обрамление пульта. — Скажи, пожалуйста, Сергей Ильич! — …все-таки не даешь оборотов? — продолжал расспрашивать Тернигорев. — Почему не попробуешь? Прием! — Пробовали уже, Сергей Ильич, пробовали, — объяснил Богданов, — как только начинаем прибавлять, появляется вибрация, прямо всю душу вытрясает. Того и гляди пойдет вразнос. — А ты пробовал довести до полного? — Не пробовал, потому что боюсь, говорю тебе как на духу: опасаюсь, — уверенный голос Богданова, создавал в рубке почти стереофонический эффект. До «Оймякона» было уже недалеко, и радиотелефония действовала отлично. — Вибрация нарастает по экспоненте. — Все равно, советую развить обороты. У тебя какие вкладыши в подшипнике, из бакаута? — Так точно, бакаутовые, но это ничего не значит. — Еще как значит, Олег Петрович! — Ладно, Сергей Ильич, уговорил, попробуем еще. — Наращивай, не бойся… На полном дашь двенадцать узлов, не меньше, помяни мое слово. Конечно, будет трясти, но не до потери сознания. Чем больше обороты, тем меньше вибрация. По себе знаю, да и с народом советовался. Не ты первый, не ты последний. Дождись Дугина и начинай. А то шторм надвигается, вам обоим уходить нужно. — Кстати, Сергей Ильич, «Лермонтов» нас, возможно, слышит. Я говорил с Константином Алексеевичем. Дугин счел момент подходящим и схватил трубку. — Говорит теплоход «Лермонтов», — он нажал кнопку передачи… — Рад приветствовать тебя, Сергей Ильич, еще раз здравствуй, Олег Петрович! Я в курсе ваших переговоров. — Привет, Константин, привет, — оживился Терпигорев, — можно сказать, пулька составилась, эдакий радиотреугольник… Как, одобряешь мой совет? Слыхал, на что подбиваю Богданова? — По-моему, очень дельная мысль. Мои ребята тоже высказали нечто подобное. Я бы рискнул. Хотя, не скрою, Сергей Ильич, положение на «Оймяконе» несколько особое. Не должно быть такой вибрации, как тут не колдуй. Без лопасти, конечно, трясет, но не столь сильно. Очевидно, что-то еще есть. Так мне представляется… Слышишь меня, Олег Петрович? Прием! — В том-то и дело! — мгновенно прорезался Богданов. — Не столько вибрация меня напугала, сколько этот ее экстремальный рост. В чем тут дело, не пойму… — Прибавь обороты, и все станет на место, — упорствовал Терпигорев. — Не развалишься, не опасайся. Но Дугина на всякий случай дождись. Вдвоем оно поспособнее. — Есть такое дело, Сергей Ильич, уговорил, — как-то уж очень бодро согласился Богданов. Дугину показалось, что он просто устал и не хотел больше спорить. — А как у тебя с загрузкой? — продолжал допытываться капитан-наставник. — Может, это какой-нибудь резонанс? Не пробовал переместить груз? — Не думаю, но твое предложение изучим. Спасибо. — Значит, будем считать, что обо всем договорились, — подвел итог Терпигорев. — Предлагаю завтра в это же время выйти на связь. Опять втроем. Нет возражений? — Добро, — подтвердил Дугин. — Хорошо, спасибо, — заключил Богданов. — Конец. — У меня еще несколько слов для Константина, раз уж он здесь оказался. — Слушаю тебя, Сергей Ильич, — ответил Дугин. — Хоть мне никто этого не поручал, но скажу тебе, Костя, чтоб ты не слишком переживал за сроки. Ничего не поделаешь, раз уж так получилось. Выкинь на время из головы. — Я понимаю. — Нет-нет, именно выкинь из головы! Я же тебя знаю… Не надо, не переживай. Может быть, еще все образуется. О тебе тут думают, заботятся, ты, как говорится, не одинок. — Никогда в этом не сомневался. — Вот и превосходно. Жди сообщений. Ты меня понял? — Спасибо за все… У меня к тебе маленькая просьба, Сергей Ильич, сугубо личная. Позвони ко мне домой и скажи, что я вызову их завтра в ночь. Ладно? — Тебя понял, завтра в ночь. Будет сделано… Как там Беляй поживает? Не засиделся в старпомах? Передавай ему пламенный привет. У меня все. До встречи! Но заключительных слов Дугин уже не расслышал. Голос Терпигорева отшатнуло куда-то в сторону, словно пламя под резким порывом ветра, и он окончательно затих. Циклон, который пытался обойти «Лермонтов», в эту минуту окончательно сформировался и завис над доброй третью Африки и Западным Средиземноморьем. — Хорошо, хоть поговорить успели, — Дугин удовлетворенно щелкнул пальцами. — Молодцом, Василий Михайлович. Все прошло отменно. — Так я ж говорю, от погоды зависит. Если циклон встанет на одном месте, так пиши пропало. Но когда безоблачно, а солнце так и шпарит, тоже ничего хорошего ждать не приходится. Лучше всего легкая хмарь. Я это давно приметил. — Карту погоды, — сказал Дугин.БЕРЕГ (ОДЕССА-ПАРОХОДСТВО)
— Нашли? — спросил Боровик. — Вроде так, Владлен Афанасьевич. «Роберт Эйхе», — помощник извлек из папки календарный листок с пометками. — Дедвейт тринадцать тысяч шестьсот, скорость шестнадцать с половиной. — Знаю. Сухогруз типа «Бежица». И далеко? — Восемьсот семьдесят миль. — Порядочно. Почти трое суток. Но на безрыбье и рак рыба. Пусть берет на буксир. Срочно радируйте. — А как же Дугин? Задержать радиограмму? — Постойте, — Боровик на секунду задумался. — Дугину пока приказа не отменяйте. Пусть сопровождает «Оймякон» до подхода «Эйхе». Мало ли чего… В конце концов, это только сутки. Как-нибудь перетерпим, а то рисковать, себе дороже… Кстати, кто капитан? — Нестеренко Нил Павлович. С Кубы идет. — Так чего ж он, сукин сын, Нил этот самый отмалчивается. Богданова не услышал, так там Дугин, парень себе на уме, вовсю шурует? — Боровик рассеянно взял и тут же выпустил листок с пометками, который медленно спланировал на ковер. — Вообще-то циклон свирепствует, могли и не проходить волны… Пусть составят полную метеосводку по району.КАЮТА НА ЮТЕ
Тоня занимала каюту матроса второй статьи. Присущая Морфлоту спартанская рациональность нашла в этой сверкающей больничной белизной келье со скошенным правым углом свое крайнее выражение. В отличие от офицерских апартаментов санузла здесь не полагалось, но был умывальник с нажимным краном, отгороженный полиэтиленовой занавеской и высоким пеналом, придвинутым к рабочему столику. Второй, разделенный на такие же полки пенал находился в противоположном углу, возле кушетки, поставленной под иллюминатором. Вся мебель, в том числе и койка за шторками, была отлита из белой пластмассы. В подкоечном ящике лежал спасательный жилет с красной лампочкой, которая загоралась, когда в элемент проникала морская вода, а вентилятор и полка для книг были принайтовлены прямо к переборке. Вот и вся обстановка, разве что грибок кондиционера торчал в подволоке и динамик трансляции светил дырками на жестяной панели. Педантичный старпом, обеспечивший весь экипаж именными наклейками с выпуклыми латинскими литерами, и на Тонину дверь налепил соответствующую полоску, на которой белым по синему значилось: «Antonina Polosowa». Только ни к чему была Загорашу эта наклейка. Он и так бы не заблудился. Незаметно протиснулся в тихий коридорчик на юте и, воровато оглянувшись, проскользнул в эту самую, чуть приоткрытую дверь. Едва переступив через камингс, поспешил повернуть ключ с номерной биркой, предусмотрительно торчавший в замке. Она метнулась навстречу, с жадным нетерпеливым вздохом прильнула к нему и, прижавшись горячей щекой, замерла. Он неловко обнял ее, и она, наливаясь упругой силой, приподнялась на носки и потянулась к его губам, дыша прерывисто и часто. Целуя влажный раскрытый рот, Загораш ощущал, как трепещет под пальцами ее гибкая податливая спина и, проникаясь ответной дрожью, словно в танце, шагнул вбок, рванув на себя шторку. Он уже не услышал, как зазвенели сорванные кольца. — О, как долго ты не шел! — опускаясь, выдохнула она с облегчением и стоном. Потом, примостившись на тесной койке, Загораш думал только о том, как бы поскорее уйти. Было темно, хотя он не помнил, кто из них двоих и когда вырубил свет. Следуя за креном, раскачивались почти невидимые шторки. Смутная рябь металась на подволоке, и он гадал, откуда может пробиваться огонь: то ли с палубы через щелку иллюминатора, то ли из коридора через вентиляционную решетку двери. Просто так встать и удалиться он не решался, было стыдно. Приходилось подстерегать подходящий предлог. Обычно таковой вскоре находился, хотя бы потому, что его не приходилось особенно изыскивать. Служба требовала, чтобы Загораш пребывал возле своего телефона, потому что его могли поднять в любой час дня, а также ночи. Да и есть ли они, эти ночи у моряка, чья жизнь поделена на четырехчасовые вахты? Во всяком случае, на утро, когда можно незаметно прокрасться к себе, ему лучше не рассчитывать. Вот и лежал он рядом с ней, притихшей и сонной, украдкой посматривая на светящийся циферблат. Поджидал подходящий момент. Так с ним было почти всегда. В ту первую ночь, когда он жарким самозабвенным напором победил ее не слишком стойкое сопротивление, желание немедленно сбежать оказалось настолько сильным, что он даже симулировал острый приступ люмбаго — профессиональной болезни моряков. С той поры, навещая украдкой Тоню, он почти всякий раз возвращался к ощущениям той, во всех отношениях странной ночи. Приняв сорок тонн мазута и залив баки двойного дна топливом, они описали прощальную дугу на черном зеркале сеутской бухты и взяли курс на Гибралтар. С приближением к проливу посеребренная луной гладь покрылась рябью, начал задувать ветер с оста и чуткий на волну контейнеровоз ощутил первый приступ качки. Сколько не плавай, а выход в океан всегда отзывается легким обмиранием сердца. По сути только после Гибралтара и начинается настоящий поход, потому что на Средиземное море привыкаешь смотреть почти как на пригороды Одессы, на ее прибрежные форпосты, знакомые до последнего навигационного знака. По крайней мере, цветность воды в Ионическом море такая же, как где-нибудь в Затоне или на Сухом лимане. Вот и получается, что Сеута — это как бы еще дом, а молы на Джебель-Муса — уже последний знак, за которым простирается неизвестность. Голос океана ни с чем не спутаешь, всем своим существом отзовешься на его беспощадный призыв. В считанные часы, которые нужны пароходу, чтобы от маяка Альмина дойти до скалы, происходит в душе моряка глубокая, незаметная постороннему глазу, перестройка. Люди как бы настраиваются на океан, подчиняют привычные ритмы своего естества его властному переменчивому нраву. Обычно начинают с того, что, разбившись на небольшие тесные кружки, устраивают прощание с берегом. Настоящее прощание, резко отличное от беззаботного веселья первых часов плавания, когда еще и чары домашнего застолья не успели развеяться и у каждого припасено, что надо, и все друг другу рады до невозможности. Ничего подобного перед Гибралтаром уже не бывает: ни одиночных возлияний, ни, тем более, коллективных пирушек. К Сеуте все уже более или менее ясно на борту. Определились симпатии, и каждому известно, кто к кому ходит в каюту, а кто не ходит. Это очень важный момент моряцкого быта, потому что нигде так не дорожат минутами полного уединения, как на пароходе, когда каждый на виду и все у всех общее. Приглашение разделить короткие часы морского досуга значит много больше, чем любой дружеский визит в семейный дом, и стакан красного вина, которое в Неаполе дешевле минералки, становится знаком особого расположения, словно это вино причастия. Загораш и Шимановский так и не заметили, как прошли Гибралтар, противостоя нагонной воде Атлантики, которой вентилирует себя море среди земель. Только на другой день, когда Шередко объявил, что Одесса-радио уже не слышит вызова и о звонках домой лучше на время забыть, поняли, что оборвалась еще одна очень приметная нить. Много ли хмеля в стакане сухого вина? Выпьешь и не заметишь. Нет, не вино зажгло Загораша в этот вечер, когда он принимал у себя друга-электрика. Не оно отуманило голову, когда над овеваемым берберским ветром спардеком кружились созвездия и метеоры прочерчивали в невыразимой бездне наклонные фосфорические следы. Так уж получилось, что Тоня тоже поднялась на палубу полюбоваться мерцающей пылью Молочной реки, перед которой человек, наверное, ничего не значит, ибо каждая пылинка в ней равнозначна солнцу. Страшно подумать, что вокруг каждого из светил тоже могут вращаться планеты, быть может, такие же, как Земля. И вообще: «Уходит род, и приходит род». Сам собой завязался философский диалог о вечности, а когда Шимановский незаметно слинял, случилось то, что должно было случиться, ибо Тоня с Загорашем и раньше обменивались долгим, все открывающим взглядом и были подчеркнуто дружелюбны. Не вино, а беспокойная кровь тяжко ударила Загорашу в виски. Все на свете он забыл, летел, как в межзвездную бездну, где вспыхивали миры и лопались метеоры. А когда наступил отлив, стало так беспокойно и тошно, что хоть руки на себя накладывай. Даже слезы подступали, когда о доме думал, о жене. За те дни, что простояли в Ильичевске, Загораш виделся с ней только дважды, но так размяк сердцем, так умилился, — что поклялся себе хранить ей, такой беззащитной и чистой, нерушимую верность. И вот, на тебе! На одиннадцатый день плавания… А ведь стоит только начать — и пошло, поехало. Неловко повернувшись, когда высвобождал руку из-под ее, почему-то враз отяжелевшей головы, он и ощутил тогда легкую боль в пояснице, воистину спасительную боль… Мучительно застонал, но, как подобает мужчине — сквозь стиснутые зубы, скупо цедя слова, в ответ на Тонино беспокойство, он поспешно оделся и позорно бежал, что-то такое лопоча про люмбаго, ишиас и прострел, от которых страдали даже лихие флибустьеры Морган и Кидд. Закрывшись в каюте, долго стоял под теплым душем, смывая с себя навязчивый запах духов, липкий пот и, хотелось думать, душевную накипь. Два дня после этого избегал показаться ей на глаза, пропадая без особой надобности в машине. Потом, как это бывало не раз, смятение чувств улеглось и собственное раскаяние показалось наивным, почти смешным. Зато память о чутких округлых линиях и удивительно гладкой разгоряченной коже начала жечь руки. Так с той ночи и повелось. Счастье еще, что Тоня не проявляла особой склонности к разговорам. Хоть удавись, он был не в силах выдавить из себя ни одной мало-мальски подобающей фразы. Только усиленно гладил ее по голове, внутренне отчуждаясь, словно кошку какую-нибудь. Вот и теперь, приблизив к глазам циферблат, не смог сдержать нетерпеливого вздоха. И тут выяснилось, что Тоня вовсе не спит, как это ему казалось, а тоже смотрит в подволок, на котором играют отсветы, о чем-то усиленно думает. — А ведь ты меня ни капельки не любишь, — совершенно спокойно, без всякого осуждения сказала она, — тебе просто женщина нужна. — Ну, Тонь, ты что? — Загорашу захотелось вдруг стать нежным и искренним, но он по-прежнему не находил подходящих слов. — Ты же знаешь, — легонько касаясь ее губами, лепетал он, — ты сама знаешь, что это, не так… И вообще… — Что не так? — спросила она. Его охватило раздражение. Чего она в самом деле от него хочет? — А все не так, — он едва сдержал готовую сорваться с языка грубость, но заметил, что она плачет. — Ты чего, Тонь? — Загораш вновь осыпал ее быстрыми поцелуями. Он окончательно запутался и не понимал, что с ним происходит. Ощутив теплоту и горечь ее совершенно неожиданных слез, прижался к ее плечу и жарко зашептал, что полюбил с той самой минуты, как только увидел, а сейчас уж вовсе не может без нее жить, и вообще она самая прекрасная девушка в мире… Кажется, он и сам поверил своим клятвам. Во всяком случае беспокойное ощущение, толкавшее поскорее уйти, исчезло. Он уже не тяготился ни собственной немотой, ни этой, переставшей волновать близостью. Вместе с тем краешком сознания понимал, что делает глупость за глупостью и скоро начнет жалеть и о словах, и о поступках. Особенно о словах. — Все крайне сложно, запутанно, — он вдруг, как от внезапного испуга, смешался и замолк. — Понимаю, — после долгого молчания произнесла Тоня, и Загорашу почудилось, что голос ее оттаял, во всяком случае утратил присущую резкость. — Думаешь, у меня не сложно? Для меня каждый рейс, как каторга, денечки считаю, все страдаю, как там без меня мой сыночек, сиротинка моя? — Почему ж на берегу не устроишься? Ведь и вправду не женское это дело, днем и ночью находиться среди голодных мужиков. Не для тебя это, Тонь, ты нежная, ранимая и вообще… — Была такой, — она покачала головой, не отрываясь от подушки. — Теперь не такая… А что до берега, Андрюша, то кому я нужна без специальности? Сто двадцать, ну сто сорок — красная мне цена. Разве что в официантки пойти, так я уж лучше на пароходе останусь. Я, Андрюша, чужие страны видеть хочу, людей… Но это так, романтика. А романтика теперь чуть ли не бранное слово у моряков. Конечно же, я бы осталась на берегу, свети мне хоть какой огонек, а так — нет, лучше не надо. И еще я хочу, чтоб мой сыночек ни в чем не нуждался, чтоб у него все-все было, как у самых счастливых детей, у которых и мамочка и папочка есть. — Ты была замужем? — он впервые прямо спросил ее об этом. — Я и теперь замужем, — невесело вздохнула она. — Только что толку? — То есть как это что? — Загорашу опять стало неловко. Осторожно, чтоб она никак не смогла почувствовать, он отодвинулся на самый край. Он ни о чем еще не жалел, но ему уже был странен сентиментальный порыв, толкнувший его чуть ли не на признание в любви. Не только Тоню, но и себя самого он видел сейчас как бы со стороны. Себя не понимал, а эта не такая уж и красивая женщина была ему и вовсе чужой. — И где же он теперь, этот твой муж? — Штурманом на «Тридцать лет комсомола». Собирался прийти в Одессу аккурат вместе с нами: десятого или одиннадцатого. Да вот, запаздываем мы из-за «Оймякона», наверное, опять не свидимся. — Так значит у тебя муж… — протянул Загораш, почему-то приободрясь. — Так сказать семья — ячейка общества. — Семья, — она утрированно воспроизвела пренебрежительную интонацию. — Ячейка… Только одно и связывает, что развестись никак не можем, — она засмеялась и, подперев щеку кулачком, повернулась к Загорашу. — Больно заняты оба, не до того… Видел такую ячейку? — Да, ничего не скажешь, — вздохнул он, ощущая на себе ее невидимый в полутьме взгляд. — Не просто у тебя получилось. — А у кого просто? — Я в том смысле, что неблагополучно. — Так и я в том же смысле. Разве у моряков может быть нормальная семья?.. У тебя, например? Ты любишь свою жену? — Ну, люблю, — с усилием выдавил он, презирая себя за то, что не может оборвать этот никому ненужный разговор. Обсуждать свои отношения с Лерой — здесь, сейчас — было равносильно предательству. — И она меня тоже любит, — закончил с вызовом. — Врешь, Андрюшенька. Не любишь ты ее, иначе б не лежал тут со мной, как какой-нибудь… И говорить-то не хочется! Да разве такая бывает любовь? — она вновь рассмеялась тем хриплым вульгарным смехом, который всегда настораживает, а то и вовсе отталкивает мужчин. — Где она, эта самая любовь? Так, одни только сказки для детей дошкольного возраста… Чего молчишь? Может, не нравится? — Нет, почему?.. Просто не в том дело… — В чем же? — А в том, моя хорошая, что в отношении меня ты, видимо, права. Сукин сын я, Тоня, и все такое… Но ведь и другие есть, не такие, как… я, — он запнулся, собираясь сказать «мы», но вовремя понравился, — и то, что у нас, моряков, с семейной жизнью не всегда ладится, тоже, конечно, верно. Никакого секрета тут нет. Не всем дано обуздать себя, Тоня, и ждать, по-настоящему, как о том пишут в романах, тоже умеет далеко не каждый. Люди есть люди, и это надо понимать… Да и природа тоже жестоко мстит, ой, как жестоко. Знавал я хороших ребят, которые умели держать себя в узде. Настоящие парни. Во всех смыслах. Стокилограммовую штангу по утрам выжимали… Только не помогла им она, эта самая штанга. Возвращались настоящие парни к женам после пятимесячного рейса и… одним словом, ничего не могли. Атрофировалось у них, вот какая штука. У кого проходило потом, а у кого и оставалось. Только все равно куда ни кинь, всюду клин. Короче говоря, душевная травма. Как ты думаешь, легко им было в новый рейс идти? В какой-нибудь треклятый чартр, когда каждый раз не знаешь, куда тебя зашлют и насколько? — Жалко, — тихо сказала она и мягко придвинулась к нему. — Даже очень… Конечно, им было трудно. — Сама можешь догадаться, о чем они думали после вахты, — Загораш, сам того не желая, разволновался. — Конечно, так случается далеко не со всеми, но тяжело, Тоня, всем. И женщинам нашим тоже не позавидуешь. Оттого и зарплата такая идет. У простого матроса на круг девятьсот в месяц набегает. Если хочешь знать, больше, чем у министра. Как полагаешь, задаром это или же нет? Очевидно, не задаром, а за наш героический труд, за лишения всяческие, за отказ, за терпение. — Я понимаю. — Конечно, понимаешь, потому что сама в этой шкуре побывала. Только одного понимания тут мало. Надо еще и верить. Во что верить? А во все хорошее. В настоящую любовь, например. Потому что настоящая любовь существует. Правда! Я знаю людей, простыеморяцкие семьи. Знаю, где она есть, несмотря ни на что, любовь. Знаешь, как хорошо бывает в такой семье? Как легко на душе. — Греешься у чужого огня? — Может, так, а может, и нет, — он начал одеваться. — Иногда мне кажется, что я просто учусь. — Чему, интересно? — Любить, если хочешь… Настоящая любовь, она ведь тоже просто так никому, наверное, не дается. Постепенно приходит, как всякий другой опыт. — Уходишь? — Пора мне. — И у меня чему-нибудь научился? — Возможно, — Загораш наклонился, ища ее раскрытые губы. — Даже наверняка… Что же это? — он резко выпрямился и прислушался. Привычная вибрация, пронизывающая весь пароход вместе с плавающими на нем людьми и неодушевленными вещами, внезапно изменила свою тональность. Чуткое ухо стармеха, приученное даже во сне ловить биение судового пульса, ухватило это в то самое мгновение, когда всюду погас свет и пропали волнистые тени на подволоке. Было ощутимо слышно, как машина сбросила нагрузку и явственно изменился стук движущихся частей. Черпая энергию, запасенную в маховике, еще вовсю продолжал вращаться гребной вал и ходили поршни и взлетали коромысла над клапанами, но животворящее начало уже покинуло теплоход. Лишенный тока, он превратился в железный короб, который по инерции еще продолжал рассекать волны. Это продолжалось какой-то миг, потому что тут же сработали реле, включился аварийный движок и потухшие было лампы вновь налились голубовато-белым дневным сиянием. Загораш осторожно выглянул в коридор и, никого не увидев, бросился к трапу, ведущему в машину. Пока он грохотал по окованным дюралевой полосой ступенькам, автоматика запустила главный генератор, и силовые установки возобновили свои возвратно-поступательные такты.СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Через три часа после ночной тревоги, вызванной невыясненными пока неполадками в системе электроснабжения, «Лермонтов» вновь лег на другой курс. Теперь судно шло на северо-восток под острым углом к центру циклона. Перед самым рассветом оно пересекло невидимую границу, где в упорном противоборстве столкнулись массы теплого и охлажденного воздуха. Как обычно, фронтальные явления сопровождались обильными, хотя и не слишком продолжительными дождями, смывшими с окраски всю соляную пудру. Ливень иссяк на рассвете, причем так же внезапно, как и начался. И когда всплыло похожее на радиобуй оранжевое солнце, палуба засверкала, словно какой-нибудь заливной луг, зеленый, прохладный, весь в парной и медвяной росе. Она высохла прямо на глазах, выпитая сухим холодным дыханием Ледовитого океана. Арктический воздух вообще отличается примечательными свойствами. Он на диво прозрачен, отчего небесный купол и предстает глубоким и синим, словно его наполнили сжиженным кислородом, который тает на солнце, курясь едва уловимым студеным дымком. В океане, повторяющем малейшие изменения небесных оттенков, это явление многократно усиливается. Напитанная светом синь, которая проблескивает в волнах под линзой арктического ветра, не имеет названия даже на языке художников, потому что синий кобальт и берлинская лазурь лишь бледные тени в сравнении с ней. Даже сугубо практичные товарищи, вроде боцмана Снуркова, давным-давно переставшие замечать краски заката и моря, невольно залюбовались невиданной игрой тонов. Ленивые вспышки, вскипающие из самых недр, слепили и завораживали совершенно необычным, тягучим, как мед, переливом. Безотчетно хотелось зажмуриться и с радостным воплем сигануть в прохладные целительные глубины. По крайней мере так мечталось Гене, когда он дремал в холодке, утомленный зеркальным мерцанием и вполне ощутимой бортовой качкой. Мысль искупаться пришла и еще кое-кому из ребят, так что у крана с забортной водой, которая была сейчас намного теплее воздуха, образовалась небольшая очередь. До сих пор регулярными обливаниями занимался только боцман. Раскрутив до отказа вентиль, он подставлял спину широкой струе и сразу же принимался визжать, словно его щекотали. Вдоволь наоравшись, ложился прямо на залитую водой палубу отдыхать. Это называлось у него морской ванной. — Для укрепления нервов, — объяснял он каждому, кто появлялся на палубе, и, щурясь на набиравшее высоту солнце, с наслаждением колотил себя в изукрашенную затейливой татуировкой грудь, которая гудела не хуже, чем у разгневанной гориллы. Нужно было ловить последние часы тишины и хорошего загара, потому что контейнеровоз неуклонно сближался с зоной депрессии. Перистые, разметанные вдоль горизонта облачка сулили затяжное ненастье, и барометр падал на миллибар чуть ли не с каждой пройденной милей. Свободные от вахт матросы надели плавки и расстелили полотенца на кормовых лавках, а женщины расположились на самой верхней палубе, которая к полудню становилась горячей, как сковорода. То и дело кто-нибудь бегал на ют напиться из автомата. Судовое время перевели еще на час ближе к московскому. И поскольку завтрак соответственно сдвинулся, приходилось успокаивать аппетит, не ведавший о подобной перемене, опресненной водичкой. Особенно страдал второй электрик Паша. Он находился на ногах с самого рассвета — искали причину ночного инцидента — и успел облазить с тестером весь теплоход. Неисправностей в электросистеме он не обнаружил, зато подобрал возле мачты несколько летучек, привлеченных на свою беду топовым огнем. На Пашину долю приходилась всего одна штука, поскольку нужно было угостить свой стол и, разумеется, капитана, но это лишь разжигало жажду поскорее отведать редкий в этих широтах деликатес. Снабдив камбуз банкой испанского оливкового масла и выпросив у артельщика лимон из капитанского НЗ, Паша доверительно сообщил Ванде рецепт. Тайну кулинарного шедевра электрик почерпнул у одного писателя, который сделал на «Лермонтове» свой первый и, кажется, последний трансатлантический рейс. Никто не знал, насколько плодотворной окапалась для него такая не совсем обычная командировка — как-никак книги пишутся не в один год. Во всяком случае, прощаясь с экипажем, писатель восторженно клялся, что обогатился морской тематикой на всю жизнь и никогда не забудет друзей по плаванию. Наверное, ему было бы приятно узнать, что его тоже помнят или, во всяком случае, вспоминают, когда выдается удачная рыбалка и возникает вопрос о том, как лучше всего приготовить очередной морепродукт — «фрутто ди маре», как говорят итальянцы, «плоды моря». По всему было видно, что летучки станут последним подарком судьбы. Как бы ни сложились дела с «Оймяконом», порыбалить до Сеуты вряд ли удастся. Время подгоняло, и нечего было мечтать о профилактическом ремонте. Даже если и возникла бы вдруг надобность в остановке, про настоящую ловлю говорить не приходилось. Все банки остались далеко позади, и поэтому шансы наткнуться на рыбу посреди океана казались ничтожными. Особенно в этом районе, где до известкового дна четыре тысячи триста метров. Что и говорить, странное утро выдалось на «Лермонтове» в преддверии циклона. То ли особая сочность и глубина красок сказывались на настроении, то ли давал о себе знать голод по самым обычным радостям жизни, о котором не ведают свободные люди на твердой земле. В настороженные мгновения короткого затишья, когда какие-то чувствительные сосудики уже ловят штормовые сигналы приближающейся непогоды, он вырывается из неведомых закоулков и принимается томить душу несбыточными желаниями. Хороший завтрак и стакан горячего крепкого чая — лучшее лекарство в таких случаях. Ну и, конечно, работа, которая требует от человека полной отдачи, не оставляя ни времени, ни сил на самокопание. Но пока завтрак не начался, каждый, как мог, справлялся с электромагнитной бурей, обрушившейся на теплоход при ясном небе: кто загорал, кто обливался забортной водой или выжимал штангу в спортуголке, рядом с рацией. Только олимпиец Снурков спокойно прилег подавить перед завтраком ухо. А старпом Беляй, тоже человек без нервов, покончив с бритьем, взялся за новую рамку. Шимановский, как и Паша, которого несколько размагнитили безуспешные поиски и мечты о жареных летучках, с трех часов, не приседая, искал повреждение или ошибку в схеме. Он начал с ЦПУ и постепенно продвигался к менее крупным узлам, где от бесчисленных конденсаторов, реле и сопротивлений во все стороны расходились разноцветные жилки кембрика[18]. То и дело сверяясь с обширной, как простыня, светокопией, изредка подключал переносной осциллограф. Вглядываясь в очертания бегущей по экрану зеленой синусоиды, замыкал цепь на мост, чтобы снять параметры, а то просто тыкал пробником или проверял контакты на ощупь. Все было в полном порядке. Лишь на распределительном щите под одной из нижних площадок обнаружилась обуглившаяся на клеммах муха. Разумеется, не она явилась причиной вчерашнего замыкания. Так, на всякий случай, Петр Казимирович зачистил контакт и пустил в дело паяльник, которым орудовал, как виртуоз смычком. Лет сорок назад Петрик Шимановский слыл на четвертой станции вундеркиндом и под недреманным оком мамы действительно готовил себя к скрипичной карьера. Хоть что-то пригодилось из детства… Обойдя машинные отсеки, он проследовал прямо в навигационную рубку, чтобы так же вдумчиво и с удовольствием покопаться на пульте. Озабоченный запутанными линиями электронных схем, он не учел настроения Дугина, которого ночная история совершенно вывела из себя. Смерив маленького, коротко остриженного электрика неодобрительным взглядом, Константин Алексеевич покосился на его защитного цвета спецовку, пятнистую от смазки, ржавчины и расплавленной канифоли. — Ишь, зеленый берет выискался, — призывая в свидетели помощников, капитан театрально простер указующую длань. — От кого это вы маскируетесь? — он брезгливо насупился. — Сколько раз говорил, чтоб не являлись на мостик в затрапезном виде. Вы офицер, как-никак… — Я работать пришел, — с достоинством ответил Шимановский, кротко моргая красными от хронического конъюнктивита, гноящимися веками. — Ах, работать! — всплеснул руками Дугин. — Скажите, пожалуйста, — он повернулся к Беляю, по-прежнему играя на публику. — Когда на пароходе неизвестно почему отключается ток, все почему-то дрыхнут, а теперь, видите ли, поработать захотелось. Что ж, и на том спасибо… И где же вы намереваетесь работать? Не здесь ли? — Здесь, Константин Алексеевич. — Так-так, — капитан неторопливо прошествовал к пульту и нажал кнопку тифона. Надтреснутый утробный рев необычно глухо прокатился над разомлевшей голубизной. — Слыхали? Так вот, постарайтесь, чтобы к четырнадцати часам тифон был в порядке. По вашей милости отключился гирокомпас, и я не желаю, чтобы в довершение всего какой-нибудь идиот врезался мне в борт. Потому что скоро войдем в туман, Петр Казимирович, в туман, а этой гармошке, — он похлопал по черному тубусу на экране локатора, — я пока доверять не могу. Капитан, конечно, явно преувеличивал. Вчерашний случай можно было сравнить разве что с коротким замыканием в городской квартире, когда на секунду гаснет свет и тут же загорается вновь, потому что сработали реле на лестничной клетке. Совершенная автоматика «Лермонтова» мгновенно отключила микроскопический неисправный участок, и все системы теплохода продолжали работать в привычном ритме. Но и тут Дугин полностью прав — неисправность необходимо было устранить. Даже самую незначительную, потому что не бывает мелочей посреди океана. — Почему молчите? — спросил Дугин. — Не слышу ответа. Шимановский виновато заморгал и поставил тяжелую сумку с контрольными приборами. Хотя он и отвечал за всю электротехническую часть, говорить о какой-то личной его вине за вчерашнее, пожалуй, было несколько рановато. Для начала все-таки следовало установить причину. Как и большинство низкорослых мужчин, Петр Казимирович отличался болезненным самолюбием и не боялся постоять за себя в споре с любым начальством. Но сейчас он счел за лучшее промолчать, потому что, как и капитан, терпеть не мог загадок. Конечно же, дело прежде всего в гирокомпасе. Когда выключился ток, этот точнейший, но весьма капризный прибор перестал работать, как, впрочем, и все остальные. Но в отличие от других агрегатов, которые тут же закрутились в полную силу, как только возобновилось питание, гирокомпасу понадобилось еще какое-то время, чтобы выйти на меридиан. Пока этого не случилось, на приборы ориентации полагаться было нельзя, поскольку от гироскопного волчка, вращающегося со скоростью тридцать тысяч оборотов в минуту, ко всем компасам шли репитеры. Когда он встал, стрелки соскочили с истинного меридиана и стали указывать магнитный. Это, конечно, не лишало ориентации, поскольку можно было рассчитать поправку, но локатор самое большее будет давать немного искаженную картину. Пусть практически это ничем не грозит судну и отнюдь не делает его более уязвимым в шторм и туман, но, таков закон моря, на борту все должно находиться в идеальном порядке. Шимановский понимал своего капитана, а, как говорят французы, понять значит простить. — Чего молчите? — вновь буркнул Дугин и, не выдержав грустного, чуть укоризненного взора, отвернулся. — Жду разрешения произвести осмотр пульта. — Разбирать будете? — Если придется. — И, конечно же, попросите остановить пароход? — Надеюсь, этого не потребуется, Константин Алексеевич, разрешите переключить управление на ЦПУ? — Тогда валяйте, — устало отмахнулся Дугип. — Потому что останавливаться мне никак невозможно. Всякий раз, когда он сталкивался с этим рыженьким щуплым человечком, похожим на рано состарившегося мальчика, у него почему-то пропадала охота спорить. Бросив из-под насупленных бровей взгляд на подволок, где над штурвалом покачивался лимб главного компаса, Константин Алексеевич взял бинокль и вышел на площадку. — Когда устраните неполадки, прошу не забыть про тифон. — Досталось? — виновато спросил Беляй, как будто это он, а не Дугин ни за что ни про что отчитал электрика. — Ничего не попишешь, «Оймякон» ждет, Петя! Тот молча дернул плечом и склонился над сумкой, где в кожаных гнездах покоились всевозможные отвертки, пассатижи, безотказные монтерские резаки, выточенные из ножовки и любовно обернутые изоляцией. Работал Петр Казимирович ловко, быстро и почти бесшумно, ничем не мешая ни штурманам, ни матросу Пете, который встал у штурвала, когда автоматику пришлось отключить. — Докопался, где собака зарыта? — полюбопытствовал Беляй, заметив, что электрик поставил на место панель и завинтил болты. — Ничего не понимаю… Остается только две возможности: либо случайность, либо какая-то незамеченная утечка. — Случайность? — с сомнением переспросил Беляй. — В сложных системах, где сотни тысяч деталей, такое возможно, — кивнул Шимановский, — но мне почему-то кажется, что здесь утечка. Придется облазить все дыры. — Трюма? — насмешливо поинтересовался Беляй, вспомнив старую курсантскую покупку, когда неопытного «салагу» посылали в трюм за потерянной искрой. — И трюма, на всякий случай, — на полном серьезе ответил Шимановский. — Чем черт не шутит, вдруг где-то что-то замкнулось на корпус. — Прежде чем лезть в этот дурацкий аварийный лаз, проверьте у радистов, — посоветовал Мирошниченко, который и сам избегал лишней работы и других от зряшных усилий по-дружески предостерегал. — А то вываляетесь в грязи, да в паутине, а толку нисколько. У Михалыча же полно всяческих причиндалов. Свободно могла перегореть какая-нибудь малюсенькая проволочка. — На пароходе нет ни грязи, ни паутины, — категорическим тоном, но с улыбкой, так что все можно было принять за шутку, поправил Беляй. — Так значит, ржа, — стоял на своем третий помощник. — А уж это откровенная клевета. Утверждаю, как старпом, — Беляй тронул свою цепочку. — Потому что не забываю своевременно производить окраску. — Знаем, знаем, — рассмеялся третий, — зачем нужен пароход? Второй помощник говорит, чтобы возить грузы, а старпом — чтобы красить. Так? Старая хохма. За нее даже на привозе не подают. Пошукайте лучше у радистов, Казимирович. — Думаю, они и сами в своем хозяйстве разберутся, — Шимановский методично собрал инструменты. — А вот у деда я, пожалуй, помощи попрошу, потому что вдвоем с Пашей нам никак не управиться. Шимановский знал, что пока не выяснится причина вчерашнего инцидента, капитан не успокоится. Да и его самого не перестанет точить забота. Для загадок на борту нет места. Оставалось продолжать поиски. — Приветствую вас, Василий Михайлович, — сказал Шимановский, появляясь в радиорубке. — Как живете-можете? — Жить-то можно. Связи только никакой нет. — Погода? — А то ж шо? Як ножом отрезало. — И «Оймякон»? — Та не, он близко, балакаем помаленьку. Ихний маркони тоже жалуется, что ничего не слышит. Вот же циклон, клятый! — А так у них в порядке? — Без изменений, шторма ждут. А у вас шо? — Никак не найдем, — Шимановский присел на кончик кушетки, на которой стоял разобранный магнитофон. — Может, что по вашей части? — Ни, — радист залился добродушным, почти беззвучным смехом. — Тут же все на виду, смотрите. — Вы бы сами взглянули для очистки совести. — С радостью, только трошки попозднее. А то меня Москва зачем-то вызывает. Через пять минут прием. — Выходит, есть все-таки связь? — Та разве то связь? — Шередко брезгливо наморщил нос. — Передали на якой-то пароход, а те доложили дежурному. И де я буду шукать того дежурного? Может, и его уже не слыхать, — он озабоченно взглянул на часы и надел наушники. Шимановский понимающе кивнул и поднялся с кушетки. Радисту действительно было не до него. Многоступенчатый радиомост, когда сигнал передается с судна на судно, дело крайне ответственное и нервотрепное. Ошибки при передаче возрастают почти в геометрической прогрессии. Радист из московского радиоцентра, взявший операцию с «Оймяконом» под свой контроль, с пяти утра по местному времени не мог связаться ни с одним из трех опекаемых судов. Потеряв надежду пробиться через свирепейшую магнитную бурю, он запросил ЭВМ о всех находящихся в зоне пароходах и установил в конце концов связь с дежурным. Дежурство в определенном районе мореплавания обычно несут по очереди наиболее опытные радисты. В их обязанность входит обеспечить связь между судами и берегом. Каждая радиограмма должна найти своего адресата и, по возможности, без потерь информации. В наиболее ответственных случаях дежурный может взять на себя командование над всеми радиостанциями и выстроить с их помощью радиомост большой протяженности. Именно так и пришлось поступить Шередко, когда он, будучи дежурным, помог центру найти танкер «Щорс», пропавший для связи в районе пресловутого Бермудского треугольника. Теперь ему самому неожиданно выпала роль разыскиваемого. Из радиотелеграфии дежурного выяснилось, что «Лермонтов» в течение сорока минут сумел обнаружить начальник рации теплохода «Заря коммунизма», идущего из Бостона в Рио. Этому современному сухогрузу типа «Ро-ро» с горизонтальной разгрузкой и назначено было стать последним связующим звеном радиоцепи в восемь тысяч морских миль. В радиограмме пароходства значилось:КАПИТАНУ Т/Х ЛЕРМОНТОВ ТЧК ВО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА СОПРОВОЖДАТЬ Т/Х «ОЙМЯКОН» СЕУТУ ЗПТ ПРЕДЛАГАЮ СОПРОВОЖДАТЬ ДО ПОДХОДА Т/Х «РОБЕРТ ЭЙХЕ» ТЧК СРОКИ ЗАХОДА ПОРТЫ ИТАЛИИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗПТ ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ ТЧК БОРОВИКОт себя Мелехов передал начальнику рации Шередко следующее:
РАД НОВОМУ СЛУЧАЮ СОВМЕСТНО ПОРАБОТАТЬ ТЧК ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ПОМОЩЬ РОЗЫСКАХ «ЩОРСА» ТЧК ВСЕГДА ТВОИМ УСЛУГАМ МЕЛЕХОВ МОСКВА-РАДИОШередко отстучал слова ответной благодарности. Он был явно польщен и даже покраснел от избытка чувств. Немногие радисты могли похвастаться личной благосклонностью Москвы-радио. В превосходном настроении он перепечатал сообщение для Дугина и вышел на площадку, где возле пеленгатора стоял с биноклем в руке озадаченный капитан. — Очень мило, — сказал Дугин, прочитав текст. — Сроки остаются без изменения! Сутки я уже потерял и еще потеряю, как минимум, сутки. Что они там, белены объелись на Ласточкина?.. Установите связь с «Робертом Эйхе», Василий Михайлович! — Попробуем, — Шередко по привычке склонил голову к плечу. — Хозяин — барин, Константин Алексеевич. Как-нибудь выдюжим. — Вы это о чем, собственно? — капитан подозрительно покосился на радиста. Шередко указал на радиограмму. — Сроки. — Не вам обсуждать приказ начальника пароходства, — проникновенно, словно набедокурившему ребенку, объяснял Дугин. — Да и не мне, — добавил он сухо, как бы принимая на себя долю чьей-то вины. — Лучше свяжитесь с «Эйхе», — он вдруг улыбнулся несколько смущенно. — Знают, небось, что есть у нас кое-какие резервы, вот и требуют. А что? Правильно. Пошли завтракать, — бросил он, заглянув в рубку.
— Прошу разрешения, — Шимановский помедлил на пороге кают-компании и, не дожидаясь ответа, шагнул к столу. — Приятного аппетита. — Пожалуйста, — с нарочитым запозданием, в котором сквозило неодобрение, ответил капитан. Несмотря на твердый характер, Шимановский был ему, в общем, симпатичен. Дугин уважал независимость, если она не бросала вызов внешним проявлениям моряцкого быта, равнозначный в глазах капитала непререкаемому табу. Пусть на «Лермонтове» нет табльдота, но это не значит, что каждый может заявляться в кают-компанию в рабочей одежде. Он и сам занят не меньше других, но все же нашел время переодеться к завтраку в свеженакрахмаленную сорочку. Отчего же Шимановский не переменил свою кошмарную спецовку? Или эта фифа Аурика, которая позволяет себе садиться за стол в белом халате?
АВАРИЙНЫЙ ЛАЗ
Проверить электропроводку в аварийном лазе вызвался Дикун. Как всегда, сам напросился, едва только электрик поведал свои заботы Загорашу. — Какой может быть разговор? Лично для меня это пара пустяков, — заявил Дикун и уже вполуха выслушал дальнейшие пояснения Шимановского. — Так я на вас надеюсь, — заключил Петр Казимирович. — Дело хоть и муторное, но, по существу, пустяковое. Мы бы и сами с Пашей могли, по ведь не разорваться же… — Не надо лишних слов, — нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, заверил Дикун. — Давайте сюда инструмент и будьте покойны. Сказано — сделано, — его белесые, не знающие угомона глаза уперлись в Загораша. — Правильно я говорю, Андрей Витальевич? — Конечно! — выразительно глянув на электрика, поспешно подтвердил стармех. Шимановский понимающе отвел глаза. Себя не обманешь. Оба они не питали особых иллюзий насчет заверений третьего механика, который хоть и нес исправно вахты, когда кругом были люди, но предоставленный самому себе развивал такую сокрушительную инициативу, что оторопь брала. Чисто формально придраться к Дикуну было не так просто. Машину он знал до мельчайшего винтика, не чурался никакой работы, а его совершенно искренняя готовность оказать услугу старшим товарищам просто-напросто обезоруживала. Несмотря на неприязнь многих, Дикуна приходилось принимать таким, как есть, потому что он крепко сидел в седле. Восемь лет протрубив в должности моториста, он нашел в себе упорство и силы заочно выучиться на судового инженера. В глазах начальства это кое-что значит, хотя сам Дикун почти ничего не выиграл от перемены статуса: ни в зарплате, ни, тем более, в валюте. По правде сказать, он не очень к этому и стремился. Не меркантильные интересы заставили его зубрить теплотехнику и судовые механизмы, урывая часы у сна и отдыха. В основе всего лежали чисто престижные соображения. Пусть высшее мореходное училище выпускало не только хороших штурманов, но и знающих инженеров, была все-таки ризница между вчерашним школьником и опытным мотористом, который по одному лишь звуку мог определить любую неисправность. Дикун лучше других понимал, что разница эта была. Курс, таким образом, был взят правильный. Лишь одного он не учел, некоей трудноопределимой малости, которую работающие в пароходстве социологи, за отсутствием более строгого термина, именуют «чисто человеческим фактором». Едва защитив диплом, Дикун получил должность четвертого, а через каких-нибудь полгода и третьего механика. И хотя дальнейшее продвижение на этом застопорилось, он уже почувствовал неодолимую потребность в непрерывном восхождении. Словно стремился во что бы то ни стало наверстать упущенное. Это, скорее всего, и помешало ему наладить правильные отношения с коллегами, которые были старше по положению, но младше по возрасту. А от вчерашних друзей он и вовсе отдалился. Сделался суетливым, придирчивым, а его бьющая через край инициатива стала вызывать насмешки и опаску. Особенно боялся ее Загораш, предпочитавший, по мере возможностей, держать третьего механика в поле зрения. Стармех вполне справедливо полагал, что за деятелем, который в угоду любому приказу ходовой рубки готов изнасиловать машину, нужен глаз да глаз. Так кого же еще из своих инженеров он мог выделить в помощь Шимановскому? Конечно же, Дикуна, который, к тому же, сам напросился. Петру Казимировичу не оставалось ничего другого, как согласиться. Он, конечно, и мысли не допускал, что тот и в аварийном лазе сумеет выкинуть какой-нибудь фортель. Однако, как часто случается, действительность опрокинула благие надежды. Если бы Дикун сам, как намеревался, отправился в лаз, ЧП, наверно бы, не случилось. Но вся беда в том, что в его беспокойной, одолеваемой честолюбивыми заботами голове загорелась новая идея. Вернее, он просто вспомнил, что обещал Горелкину отпечатать фотографии для судовой газеты и даже развел с утра проявитель и фиксаж. Замерев в полете, как птица, у которой неожиданно перебили крыло, Дикун схватился за прут и перепрыгнул на трап, ведущий в мастерские. На его счастье, Геня пребывал на своем месте. Стоя у станка, он обтачивал болванку под вкладыш для подшипника опреснительной установки. Эмульсия тонкой молочной струйкой стекала на свежую золотистую поверхность, от которой удивительно мягко отслаивались бесконечные завитки стружки. Шпиндель вращался на самой высокой скорости, и потому Геня был в предохранительных очках. Он следовал не столько инструкции по технике безопасности, сколько настоятельному совету Шередко, который от своего нового приятеля из Москвы-радио знал о печальных последствиях глазной операции. — А ну бросай свою канитель, — не терпящим возражения тоном распорядился Дикун, подбоченясь в дверном проеме. — Есть срочное задание начальства. — Какое еще задание? — Геня нажал красную кнопку и выключил станок. — Дед приказал вкладыши точить. — Вкладыши обождут. Ты в электричестве кумекаешь? — Ну? — Тогда живо, берись за дело. Учти, что от этого зависит живучесть парохода. Объяснив Гене, что требуется сделать, если обнаружится неисправность в проводке, он бросил на верстак рукавицы и инструмент. — Справишься? — Постараюсь, — Геня отвел в сторону резец и пошел к рукомойнику. Самолюбие не позволяло ему признаться, что он спускался в аварийный лаз только однажды, когда проходил ознакомительную экскурсию по теплоходу. — Ляжешь спиной на тележку, — счел нужным пояснить Дикун, — и пошел. Только не очень разгоняйся, а то мигом слетишь с рельсов, — покровительственно похлопав Геню по плечу, он с проясненным лицом поспешил в фотолабораторию, которая размещалась рядом с библиотекой, в горячей кладовке, где в три ряда были проложены трубы с вентилями, идущие из машинного отделения. Дикуну к жаре было не привыкать. Раздевшись до трусов, он включил красный фонарь, настроил увеличитель на формат 9×12 и принялся делать отпечатки. Трудился до самого обеда. На скорую руку перекусив, отглянцевал фотографии, развесил их на шкерте и завалился спать, накрыв по обыкновению голову подушкой. Будь на месте Гени другой, менее интеллигентный одесский мальчик, он бы знал, куда следовало послать третьего механика вместе с его поручениями. Впрочем, Геня тоже знал, но помешала природная деликатность. А еще он не успел пригреться к загранке и хотел показать хамовитому придире, на что способен токарь пятого разряда. Кумекаешь, видите ли, в электричестве! Чья бы корова мычала… Упоминание о живучести не произвело на Геню ни малейшего впечатления. Это была чистейшая травля, рассчитанная на дураков. Он спустился на нижнюю площадку машинного отделения и, поплевав на руки, раскрутил массивную крышку люка. Нашарив коробку, к которой были подведены несколько многожильных кабелей, включил освещение. Начинать, пожалуй, следовало именно с этой коробки, выкрашенной, как и все вокруг, в огненно-красный цвет. Убедившись, что тут все в порядке, нырнул непосредственно в люк. Теперь Геня находился в самом глубоком туннеле судна. Намного ниже ватерлинии. Коснувшись ладонью вогнутой стенки, он ожидал почувствовать чуть ли не обжигающий холод. Может быть, потому, что от океанской воды, сжатой избыточным давлением в добрую атмосферу, его отделяло только несколько сантиметров стали. Но обмазанный суриком металл оказался не более прохладным, чем резиновая оплетка проводов. Да и могло ли быть иначе, если температура забортной воды достигала 22 °C, а тепло мерно рокочущих машин тяжело оседало в нижних отсеках. Тележка, о которой упомянул Дикун, стояла в самом начале узкого рельсового пути, проложенного вдоль всего судна: от кормы до бака. Она напоминала платформы, на которых катили в первые послевоенные годы безногие инвалиды. Мысль о том, что сюда нужно лечь, показалась Гене дикой. Сесть на тележку тоже не представлялось возможным — мешала голова. Она как раз пришлась на уровне верхних швеллерных ребер, разделивших узкую трубу на многочисленные отрезки. Кое-как устроившись, Геня оттолкнулся рукой от одного такого ребра и к своему удивлению покатил ногами вперед по лазу. В затхлом воздухе, настоенном на железе и резиновой изоляции, дышалось затрудненно. В глаза посыпалась шелушащаяся краска и ржавая пыль. Рыжеватый налет осел и на ламповых плафонах, утопленных в межреберных нишах, отчего свет в туннеле тоже казался ржавым, больным. Помня совет Дикуна, Геня старался не разгоняться. Удары колес по направляющим, и без того весьма ощутимые, отдавались в позвоночнике. Что и говорить, нужен был особый навык, чтобы, прижав подбородок к груди и залихватски вытянув ноги, бездумно лететь, черт знает куда, под металлический стук и мелькание огней, исходящих тоскливой сукровицей. Но если бы даже Геня и обладал опытом третьего механика, для которого пролет по трубе был всего лишь забавой, ему все равно следовало поспешать медленно. Только обследовав двадцатую или двадцать первую лампу, он понял, какую ему подкинули работенку. Удружили, что называется, по высшей категории. Ведь одно дело подгонять бегущую платформу, когда швеллера так и мелькают под руками, другое — каждый раз заново сдвигать ее с места. И откуда в ней эта непомерная тяжесть, словно в дрезине какой? Да и держать на весу руки делалось все труднее. Геня не проделал и трети пути, как пришлось устроить продолжительный передых. Наверное, полчаса прошло, не менее, пока он отдышался, пока отошла дрожь от напряженных мышц, налитых болезненным ломотным теплом. Но едва двинулся дальше, как все возвратилось: и сводящая судорогой ломота, и эта противная дрожь, когда отвертка неожиданно вываливается из посиневших пальцев. Ищи ее всякий раз между рельсов. Однажды, шаря так в ржавой пыли, он нащупал нечто податливо омерзительное, но не стал доискиваться, что именно. Скорее всего, дохлая крыса, проникшая в баковый люк. Несмотря на резиновые заслонки, которые цеплял на швартовые канаты боцман, крысы изредка ухитрялись забираться на палубу. Боцман клялся, что сам видел, как в Неаполе, где они, как известно, кишмя кишат, один громадный пасюк лез на военный корабль по якорной цепи. Переключившись с плафонов на другое, пусть даже на крыс, Геня перестал замечать, как мелькают клеммы, и дело пошло быстрее. В руках появился некоторый автоматизм, а тележка научилась двигаться с места. Примерно до пятьдесят пятого шпангоута все шло чин чинарем. Темное пространство, кольцевой тенью разделившее сужающуюся на конце трубу, Геня заметил еще издали. Если неисправность действительно произошла в лазе, то искать ее, конечно же, следовало именно там, вблизи сгоревшей лампы. Он лишь подивился тому, что столь незначительное замыкание заставило сработать главную блокировку. По соображениям живучести выход отдельных узлов из строя не должен сказываться на всей системе. Включив фонарик, Геня внимательно осмотрел обуглившуюся изоляцию и черное пятнышко обгоревшей краски. Ему пришло в голову, что изоляцию могла повредить обезумевшая от жажды и голода крыса. Скорее всего, так оно и случилось. А потом проскочила искорка и проволочка сгорела. Он осветил номер на стенке — шпангоут шестьдесят три — и натянул перчатки. Дело было пустяковое. Предстояло зачистить нагар, удалить поврежденный отрезок и тщательно заизолировать концы. Остальное сделают электрики, когда спустятся сюда с паяльником. Обрабатывая шкуркой законченную поверхность, Геня думал о том, как неладно получилось у него с Тоней. Раскаивался, что не сумел сдержаться. В ее отношении к нему сомневаться не приходилось. Сколько Геня ни пытался завязать непринужденный разговор, ничего путного не выходило. Она явно избегала его с того мерзкого утра, когда Горелкин влез со своими нравоучениями. Хотелось думать, что во всем виноват именно Иван Гордеевич, а сам Геня лишь пошел на поводу у событий. Так было спокойнее и что-то светило впереди. Зато о деде, вернее о них обоих — Тоне и деде, — даже мысль одна нестерпимой казалась, словно удушье подступало к горлу. Учащенно дыша и поминутно отирая саднящий глаза пот, Геня вырезал поврежденный участок. Сгорело совсем немного, отчего не сработала, вероятно, спринклерная противопожарная система. Осталось последнее — обмотать оголенную проволоку липкой лентой. Покончив с ремонтом, Геня полежал без движения, расслабив обессилевшие руки. Теперь он мог позволить себе небольшое развлечение: понестись по пням и комкам, как сказал на той экскурсии «дракон»[19]. Для этого надо резко, изо всех сил, оттолкнуться и поджать ноги. Так оно и получилось, как мыслилось. Замелькали пальцы вверху, едва касаясь швеллерных ребер, и тележка грохоча набирала скорость, и со звоном подскакивали ее чугунные колеса. О том, что обследовал только часть туннеля и впереди, возможно, тоже есть повреждения, Геня как-то не задумался. Полностью уверенный в том, что с блеском выполнил трудное поручение, он испытывал скорее гордость. Такое не каждому по плечу. Теперь можно было расслабиться, отдаться позабытому ощущению полета. Вспомнилось детство, дача Ковалевского, захватывающая жуть падения с откоса, когда над головой взлетел вырвавшийся из рук самокат и в небе жужжали разогнанные подшипники. Сокрушительный удар развернул Геню поперек платформы и бросил на рельсы. Задев за шпангоут плечом, он едва не размозжил голову об острый выступ. Лишь рваная борозда обозначилась от виска до щеки. Но все это — прошло уже мимо сознания, погашенного нестерпимой, всепоглощающей болью в ноге. Последнее, что запомнилось Гене, был рокот укатавшей тележки, замирающий в ржавой мгле.СРТ[20]
Обнаружив на экране светлое пятнышко, третий помощник подкрутил дистанционный верньер. Следя за цифрами, мелькающими в прорези счетчика, подвел радиус к точке, одинокой звездой сиявшей на пустынном горизонте локатора. Размытый след, сохранившийся от предыдущего включения, показывал, что судно идет навстречу. — Пароход какой-то по левому борту, Васильич, — доложил Мирошниченко старпому. — Четыре мили один кабельтов. Мы больше не одиноки, братцы. Еще один идиот забрался в эту пустыню. — Рыбак какой-нибудь, надо полагать, — без особого интереса отозвался Беляй, наблюдая за тем, как одограф, связанный проводом с лагом и гирокомпасом, автоматически пишет курс. — Вдруг наш? — насторожился Мирошниченко. — На Бебеля жил до войны один знаменитый репортер, — начал издалека Вадим Васильевич, — виртуоз заголовков. Знаешь, как он назвал статью про старушку, которую сбил мотоциклист? — «Бац! И нет старушки», — сказал третий, слышавший эту историю «дцатый раз». — А статью о семье, отравившейся несвежими бычками? — «Рыбки захотелось». В море не только фильмы, но и шутки приходится прокручивать не один раз. С каким грузом поднялись на борт, с таким и остались. Анекдотами в иностранных портах не разживешься. Это не мороженое мясо, не топливо, не вода. В радиогазете, которую ежедневно отстукивает беспроволочный телетайп, тоже по части юмора слабовато. Разве что радист обменяется хохмой с коллегой. Такое, конечно, не поощряется — засорение эфира, но и не пресекается излишне рьяно. Во-первых, одесситы просто иначе не могут, во-вторых, смех, как известно, витамины души. Диалог между старпомом и третьим продолжал развиваться по неизменным канонам. В реестре Эдуарда Владимировича он значился под рубрикой «рыбачок-землячок». — Для каждой рыбы существует своя приманка, — меланхолично уронил Беляй. — Ставрида и скумбрия идет на луженый крючок, — тотчас же подыграл Мирошниченко. — Тунец — на ставриду. — Акула — на любую тухлятину, лишь бы нашелся кованный крючок. — Но любая рыба… — Мирошниченко сделал вкрадчивую паузу, — даже рыба в консервных банках… — Идет на краску, — закончил Беляй. — Безотказно! — подсказал третий. — Совершенно справедливо, — понравился старпом. — Безотказно идет. До встречи с рыбаком оставалось минут семь-восемь, и Вадим Васильевич потянулся к большому восьмикратному биноклю. — Наш! — торжествующе объявил он, когда стало возможно различить широкую красную полосу на трубе. — СРТ… Зови мастера. — Мурманский, скорее всего, — сказал Мирошниченко, снимая телефонную трубку. — А может, латыш… Константин Алексеевич? Идите сюда! Рыбачок появился! — с капитаном он говорил так же напористо, как и с любым другим членом экипажа. К всеобщему удивлению, это сходило с рук. — Что за рыбачок? — Беляй стоял рядом и слышал ответы Дугина. В голосе капитана слышалась заинтересованность. — Какая нам разница? Лишь бы наш. — Собираетесь останавливаться? — Конечно! — Мирошниченко радостно подмигнул старпому. Вопрос мастера предопределял ответ. — Подумаешь, каких-нибудь пять — десять минут. Наверстаем, Константин Алексеевич. — Положим, не десять, а все двадцать, а то и полчаса, но аллах с вами!.. Валяйте. Тут меня как раз Загораш одолевает, тоже короткую остановочку просит. — Добро, — Мирошниченко весело потер руки и выскочил на пеленгаторную площадку. СРТ был уже виден невооруженным глазом, крохотной белой чертой выделяясь на графитовом диске помрачневшего океана. Настраивая бинокль, третий помощник отметил, что ветер усилился и появились одиночные всплески пены. И верхушка волны смутно просвечивала недоброй желтизной. Того и гляди мог хлынуть дождь. На юго-востоке, где обтрепанные кромки грозовых облаков тяжело и косо льнули к горизонту, он уже начался. — Я — теплоход «Лермонтов», — щелкая переключателем каналов, старпом вышел на УКВ-связь, — я — теплоход «Лермонтов». Рад приветствовать соотечественников в этих пустынных водах… Как меня слышите? Прием. — Слышим вас хорошо, — пробился сквозь шумы и неожиданно сильно прозвучал в динамике голос с мягким латышским акцентом. — И тоже рады встрече. Моя фамилия Круминьш, старший помощник. — Добрый день, добрый день! С вами говорит старпом Беляй. Домой идете? — Совершенно, точно, товарищ Беляй, в Ригу. — Завидуем вам… Рыбка хорошо заловилась? — Ничего. Не жалуемся. Можно отвалить немного для вашего камбуза. Желаете? — Спасибо, товарищ Круминьш. Весьма вам благодарны… А что за рыба? — Рыба хек. И окуня взяли немножко. — Хек, так хек, — согласился Беляй и передвинул ручку машинного телеграфа на «малый ход». Прозвенел звонок, взыграли сервомоторчики в логическом блоке, защелкали контакты. — Дареному коню в зубы не смотрят… Стопорите свою машину, будем подходить. — Есть такое дело… У вас случайно краски не найдется? А то наша вся вышла. Четвертый месяц в море. — Краски?.. — Беляй выдержал четко отработанную паузу. — Попробуем поискать. — Поищите, пожалуйста. Все-таки домой возвращаемся. Хочется войти в порт в приличном состоянии. — Понятно, понятно… Думаю, дадим вам бидончик-другой. Кинофильмами тоже не грех обменяться. — Ну, что ж… Мы, правда, из разных ведомств, но, как говорят, двум смертям не бывать. — Вот и я так думаю, товарищ Круминьш. Начальство как-нибудь между собой договориться. Вас по имени-отчеству? — Ян Янович. — Очень приятно, Ян Янович. Начинаем стыковаться? — У вас имеется подходящая емкость? — Не стоит возиться, времени нет. Валите прямо на палубу, мы кормой подойдем. — Тогда майнайте вашу сетку. — О'кей, Ян Янович! Стрела у нас вполне подходящая, хоть куда достанет. Незадолго до того, как на ЦПУ поступила команда сбавить ход и начались маневры по сближению с траулером, Дикун сменил на вахте Загораша. Первым делом он наведался в отсек, куда поступало с цилиндров отработанное масло. Подставив ведро под ближайшую трубу, повернул кран и взял немного на пробу. Вязкая с синеватым отливом жидкость взъерошилась на бумажке мохнатыми иглами, едва приблизился магнит. Во избежание неприятностей нужно было стопориться и чистить дизели. Так Дикун и доложил Загорашу, который, оставшись за пультом, играл с Шимановским в дорожные шахматы. — Как, Петр Казимирович, выяснили, что стряслось? — поинтересовался он, когда блиц завершился благополучным матом. — Это я у нас хотел бы спросить, — отчужденно цедя слова, откликнулся Шимановский. — Почему не доложили, чем закончилось обследование? — Какое обследование? — не понял Дикун, критически оглядев замасленную ладонь, он вытер ее о спецовку и вдруг все вспомнил: — В лазе, что ль? В полном ажуре. — Так нужно было сказать, а то я звоню вам, звоню… — Не слыхал, Петр Казимирович, бо спал. Когда сплю, так хотьиз пушки пали… Верно я им кажу, Андрей Витальевич? Загораш кивнул и спрятал шахматы в нагрудный карман. — Пойдем, что ли, и мы вздремнем, Казимирыч? — предложил он, поворачиваясь в операторском кресле. — Можно, — согласился Шимановский. — С чистым сердцем, что называется. Значит, в лазе порядок? — Ну? — развел руками Дикун. Шимановский сосредоточенно подпер кулаком подбородок. Оставалось предположить, что виновником ночного происшествия была насыщенная электричеством атмосфера и еще забортная вода, которая постоянно разъедает наружные механизмы кораблей. — Ничего не понятно, — Петр Казимирович устало зевнул. — Не могла же блокировка сработать только из-за одной лебедки? Или это лебедка плюс тифон? — Тебе виднее, Казимирович, заражаясь зевотой, промямлил стармех. — Сил моих больше нет, так спать хочется. — Идите, лягайте, — ласково сделал ручкой Дикун. — Так зато в лебедке опять законтачило, Петр Казимирыч? Вот же бог послал наказание. То искрит, то дымит, то вообще не контачит. Надо рекламацию писать. Лучше совсем их не надо. Обойдемся. — Вы, может, и обойдетесь, — остановил бессмысленные словоизлияния стармех. — А как насчет швартовой команды? Счастье еще, что «дракон» у нас богатырь. Выбирает конец лучше любого шпиля. Но разве это дело? Занялись бы вы ею, что ли… — Пожалуйста! — Дикун выразил полнейшую готовность сейчас же броситься на корму. — Особенно с ними, — обвел он Шимановского ласкающим взором. — Может, после вахты? — Какое там, — отмахнулся электрик. — Неисправность мы ликвидировали, а остальное не в нашей компетенции. Дефект конструкции. Менять их нужно ко всем чертям. — Мастеру сказал? — Загораш невольно радовался тому, что неисправность обнаружилась не в машине. — Он-то понимает, почему отключилось питание? — Он понимает, зато я никак понять не могу. До конца, по крайней мере… Ты идешь? — Сейчас, — стармех сидел, как приклеенный. — Только пару слов скажу. — Он снял трубку. — Константин Алексеевич?.. Загораш говорит… У нас тут вот какое дело приключилось: металл обнаружился. — Тоже мне новость, — после непродолжительного молчания ответил Дугин. — И это все? — Нет, не все. Сразу в трех цилиндрах и много. Почистить надо… — Сколько потребуется времени? — Часа четыре, потому что прокладку тоже давно пора сменить. — Да, помню, вы говорили… Только ничего не выйдет, Андрей Витальевич. Ужо потерпите как-нибудь несколько часов. Вот подойдем к «Оймякону» — тогда и решим. Глядишь, и запчастями какими разживемся. Продержитесь? — Попробуем, Константин Алексеевич. — Значит, договорились. Этой ночью и станем. Получите восемь, а то и все десять часов на профилактику. — Но это уже точно? — Я слов на ветер не бросаю. — Все-таки придется сделать маленькую остановку. Минут на тридцать. Хочу проверить как следует. Для верности, Константин Алексеевич. — Ладно… Я вас предупрежу.Когда ударил звонок и стрелка машинного телеграфа передвинулась на «тихий ход», Загораш и электрик шли к трапу. — Это еще что за новости? — стармех поспешно вернулся к пульту. — Мостик?! Почему заранее не сообщили? — закричал он в трубку. — В чем, собственно, дело? — Не сердись, Витальевич, — весело успокоил его Мирошниченко. — Ничего особенного. Ты же сам хотел стопориться… А тут как раз случай такой… рыбки, понимаешь, захотелось. Свеженькой. Сейчас подруливать начнем, — и уже другим, дикторским нарочитым голосом объявил по трансляции: — Команде аврал! Команде аврал! Занять места по швартовому расписанию. После того, как, работая левым подруливающим, «Лермонтов» медленно приблизился к СРТ, боцман Снурков с бака и матрос Петя с кормы бросили «легкости» на шкертах, привязанных к канатным гашам. Подобрав упавшие на палубу мешочки с песком, рыбаки подтянули легкие полипропиленовые концы и закрепили их на кнехтах. — Пошел! — махнул рукой Ян Янович, румяный молодец с шкиперской рыжеватой бородкой. На «Лермонтове» загрохотали лебедки. Точнее, якорный брашпиль на баке и та самая кормовая автолебедка, откуда еще час назад Шимановский выгреб сгоревшие предохранители и графитовые щетки. Пока, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, мотала исправно. Второй электрик Паша, соколом взлетел на солнечную палубу, закрепил сетку на крюке и забрался в застекленную кабинку крана. Лихо развернув ярко-желтую, как наисвежайший желток, стрелу, смайнал сетку. На корме уже лежали жестянки с кинолентой. Пока сеть не сделалась скользкой от рыбьей слизи, следовало совершить обмен пищей духовной. Не глядя на названия, потому что все было видено-перевидено, кассеты перекинули на палубу латышам. Пока они подбирали замену, Беляй сбегал на бак — в кладовую тросов, фонарей и красок. Забрав у боцмана ключи, вошел в стальную сокровищницу, где, как в банковском сейфе, хранились эмали и краски. Усилиями старпома «Лермонтов» выглядел настоящим щеголем: надстройка белая, борта черные, ватерлиния и трюмы ярко-красные, как адское пекло. На поверхности поменьше пошел уже весь спектр. Палубы и внешние устройства густо покрывал зеленый хром, приемные антенны и катер на солнечной палубе — серебрянка. Поскольку на СРТ колер был поскромнее, Вадим Васильевич остановил выбор на цинковых белилах и черной ацетатной эмали и указал матросу бидоны, предназначенные к отправке. Уверенно орудуя рычагами, Паша уже вирал сетку с бидонами, когда Беляй дал знак отставить. Круминьш удивленно поднял брови, и даже попугай Юрочка, сидевший на Тонином плече, беспокойно захлопал крыльями. Не говоря ни слова, старпом вновь отомкнул замок и самолично добавил две здоровенные банки сурика, словно от себя оторвал. Это был хорошо продуманный, рассчитанный на благодарную аудиторию жест… Во всяком случае, понят он был правильно. После того, как сетка, набитая серебристым хеком и багряным пучеглазым окунем, дважды тяжело плюхнулась на палубу, последовал ответный дар для высшего комсостава: омар с клешнями, что твои боксерские перчатки и здоровенный палтус с мраморно-белым брюхом и крапчато-бурой спиной. Дугин, как и капитан траулера, не счел для себя удобным присутствовать при взаимовыгодном обмене. Удалился скромно в каюту, чтобы следить за всеми перипетиями действа в иллюминатор. Поведение своего старпома он полностью одобрил, хотя омар и показался сверху мелковатым. Но как бы там ни было, прилив бодрости ощущался совершенно определенно. Кратковременная встреча посреди океана оживила монотонные будни. Вся операция, капитан засек время, продолжалась ровно двадцать четыре минуты. — Как там у вас? — позвонил Константин Алексеевич в машину. — Заканчиваете? — Еще минуток десять, — оживленно доложил Загораш. — Ну и?.. — Выдюжим, надо надеяться. Не подведем. Когда теплоход вновь лег на курс, палубу уже вовсю поливали из шланга забортной водой, а сложенную в ящики рыбу рассовали по холодильным камерам. Ближайший четверг — на море, как и на берегу, соблюдают рыбный день — обещал быть обильным. Не дожидаясь щедрот камбуза, электрик Паша выбрал подходящих окуней на вяление, а замороженного омара, чей панцирь казался матовым от инея, само собой, отдали капитану. Твердо усвоив писательские уроки, Дугин решил сварить некоронованного владыку класса членистоногих на отработанном высокотемпературном пару. Приправ, разумеется, никаких, только кипящее сливочное масло, по-ньюбургски. Ради такого дела не грех запустить аварийный котел. Проверить, какой он может дать пар. Но привычные заботы вскоре отвлекли от лукулловых мечтаний. Ближайшим вечером будет явно не до застолья, а что потом может случиться, один аллах ведает. Даже задумываться не стоит: сперва надо шторм пережить. Короткий отдых, который позволил себе капитан, нарушил первый помощник, заглянувший полюбоваться на омара. — Дайте хоть посмотреть, — напрямую заявил он, сделав недвусмысленный нажим на слове «хоть». — Давненько они мне не попадались. Последний раз, помню, Туччи в Неаполе угощал. Вку-усно! — Ладно вам, Иван Гордеевич, — несколько принужденно улыбнулся капитан. — Пусть себе лежит в морозилке. Без вас не съедим. — Так я не про то… — А я про то. Бутылку компари выставлю перед Гибралтаром, если все кончится благополучно. — Да на кой ляд она сдалась, эта горечь?! Лучше «Столичную» под винтом. А? Крабы особенно хороши под водочку. Валютная закусь! — Омары, Иван Гордеевич, омары. — Один черт! — Горелкин зачем-то притопнул и залихватски взмахнул рукой. — До чего же все-таки подвезло нам с этим рыбачком. Хорошие ребята! — Они тоже в накладе не остались, — проворчал Дугин, мысленно соглашаясь с Горелкиным. — А вообще-то здорово, приятно как-то особенно. Может, скажете несколько слов перед фильмом? Про родной флаг? Одним словом, сами понимаете. — Обязательно, — согласно кивнул Горелкин. — Сижу тут, а на душе праздник, будто на родине побывал. Сегодня и проведем политбеседу. — Собственно, так оно и есть. В каюту заглянул стармех. — Разрешите, Константин Алексеевич! — Еще один пожаловал, — капитан со значением подмигнул Горелкину. — Вас что, тоже мой омар волнует или опять в машине что стряслось? — В машине все по-прежнему, — покачал головой Загораш. — Токарь наш пропал, Константин Алексеевич, — едва шевеля губами, выдохнул он, — Геня. — То есть как это пропал? — с ходу завелся мастер. — Вы в своем уме, Андрей Витальевич? Что значит пропал? — С утра его не видели, — робко пояснил стармех. — И на обед тоже не вышел. — Я вроде видел его, — Горелкин нахмурился, припоминая. — Да погодите, Иван Гордеевич! — нетерпеливо отстранился капитан. — А вы давайте по порядку. Кто поднял тревогу?.. Да не маячьте перед глазами — вон кресло. — Я поднял, — трудно сглотнув, кивнул Загораш. — Но лучше действительно по порядку, — он на мгновение замолк, отрешенно уставившись на парусник «Фермопилы» в новой рамке. — С утра я дал ему задание выточить вкладыш, а потом он исчез, пропал, одним словом, потому что незаконченная деталь так и осталась в патроне. Такого за ним раньше не водилось. Может, отлучился куда? По всему видно, что думал вскоре вернуться, но не вернулся… — Это все? — Вдруг его за борт смыло, Константин Алексеевич. — Чем смыло? Святым духом? Поглядите на море, — Дугин кивнул на иллюминатор. — Разве это волна? — Какая там волна, — досадливо отмахнулся Горелкин. — Вспомнил, где видел вашего Геню, — он хлопнул себя по лбу, — по палубе слонялся, голубчик, вот где. Под окошком своей Дульцинеи. — Какой еще Дульцинеи? — яростно закусил губу капитал. — Ну, Сильваны Пампанини, — рассыпался мелким смешком Иван Гордеевич, — секс-бомбы нашей. Он там частенько прохаживается. — В самом деле? — думая о чем-то своем, машинально спросил капитан. Загораш и глазом не повел в сторону Ивана Гордеевича. Только вытер платком внезапно вспотевшие руки. — Схожу-ка я к этой цаце, — нехотя поднялся Горелкин. — Может, он у нее застрял? По всему видно, уговорил он ее. Стиснув зубы, Загораш медленно распрямился в кресле, ощущая, как прилипает к спинке ставшая горячей и влажной сорочка. Он и сам не понимал, что мешает ему вскинуться и резким ударом сбить Горелкина с ног. Или все-таки понимал, потому что в глубине души знал, что никогда такого не сделает. — Постойте! — Дугин повелительно вернул Ивана Гордеевича. — Мне нет дела, — зло отчеканил он, — до того, кто с кем и почему. Вам понятно?.. Всех, кто сегодня его видел, ко мне! — Хорошо, — обиженно вскинул плечи Горелкин. — Коль вы так считаете… — Да, считаю… — тряхнул головой капитан и пригладил рассыпавшиеся волосы. — Будьте готовы к перемене курса, Андрей Витальевич, — кивком отпустил он бледного от волнения Загораша. — Если токарь не отыщется, придется повернуть. Другого выхода не вижу. Хотя ни на грош не верю, что такой шмындрик способен продержаться на воде. Не та закваска…
АВАРИЙНЫЙ ЛАЗ
Едва по судну разнесся усиленный до пределов слышимости голос Ивана Гордеевича, Дикун кинулся в аварийный лаз. Он сразу все понял и подосадовал, что связался со слабаком. Иди гадай, что с этим Геней приключится несчастье и он застрянет в железном колодце, где, кричи не кричи, никто не услышит. Не обнаружив тележки на месте, Дикун засеменил на корточках, изредка припадая на руки, когда терял равновесие в спешке. Только увидев у шестьдесят третьего шпангоута свежезаизолированный кабель, он встревожился теперь уже по-настоящему. Вот тебе и ажур. Стало до слез обидно, что все, чего достиг упорным трудом и терпением, пойдет прахом из-за какого-то пустяка. Ведь ничего не стоило перед тем, как завалиться на боковую, разыскать этого недотепу. А еще лучше самому было слазить в туннель, а не корпеть в горячей кладовой, дыша всякой дранью. Горелкин даже спасибо не сказал за фотографии. Принял, как должное, и тут же уселся сочинять нравоучительные подписи. Тоска и горькая обида на собственную беспросветную глупость разом обрушились на Дикуна. Утратив сноровку, он скоро выбился из сил и уже не пробирался, а полз по туннелю, рассаживая колени и локти об острые углы. Дыхание сделалось прерывистым и неглубоким, словно у загнанной лошади, готовой пасть при первой же остановке. Торопясь поскорее добраться до лаза, он едва ли сознавал, что самое страшное, возможно, ждет его именно там, в конце пути. Проклиная себя за то, что поторопился и, никому ничего не сказав, бросился за Геней, упорно карабкался, оглушенный гулкими ударами сердца, колотившегося где-то у самого горла, ослепленный колючей пылью и едким потом. Лишь когда до проема, ведущего в вертикальную шахту, оставалось несколько последних метров, различил ритмичные удары железа по железу. — Это ты, Геня? — хотел он позвать, но только хрип вырвался из пересохшего горла. Тогда и рванулся из последних сил, еще не веря, что самого плохого, о чем и задумываться-то до отчаяния жутко, кажется, не случилось. Ощупав Генину голову и закаменевшую руку, в которой намертво были зажаты пассатижи, он взялся за первую скобу и полез наверх. — Не боись, Геня, я мигом, — крикнул он токарю, начавшему вновь выстукивать «SOS». Откинув тяжелую крышку и ухватившись руками за камингс, долго глядел, запрокинув голову, в мятущееся дымное небо. Когда дыхание выравнялось, легко подтянулся и выбросил ноги на мокрую палубу. За леерным ограждением на носу неслись все те же размочаленные облачные волокна и катили барашки, с которых ветер срывал холодный парок. Дикуну показалось, что целая вечность прошла, прежде чем он опять увидел литые курящиеся волны, эту запертую на стопор цепь и заляпанные мазутом зеленые кнехты. Словно очнувшись от долгого мучительного кошмара, он обернулся, махнул рукой в сторону таких крохотных отсюда, стеклянных квадратиков рубки и побежал в проход между контейнерами. И это было лучшее из всего, что он сделал за сегодняшний день, потому что Дугин, закончив опрос очевидцем, намеревался повернуть теплоход. Команда лечь на обратный курс могла последовать с минуты на минуту, и четвертый помощник уже приготовил флажок, именуемый «червем», который вывешивают на ноке на весь период поисков упавшего за борт. Склонившись над картой, капитан сосредоточенно изучал записанный одографом курс. Судно существенно рыскало и потому не было возможности повторить пройденный путь. Если токарь на самом деле упал за борт — иного объяснения не существовало, — шансов на спасение практически не было. Шторм ожидался самое позднее через восемь часов, а с того момента, когда видели Геню последний раз, прошла уйма времени. Если даже он жив, то непогода накроет его раньше, чем поспеет помощь. И вообще отыскать человека в шторм, да еще ночью мало кому удавалось. Это азбука. Но какой капитан станет руководствоваться азбучными истинами, когда пропадает член экипажа? — Свяжитесь с «Оймяконом»… и «Робертом Эйхе», — сказал радисту Дугин, — и сообщите им о нашем решении. Радиограмму в пароходство я составлю попозже, а пока дайте карту погоды. На Дикуна, чей красный от сурика и ржавчины лик напоминал маску устрашающего тибетского демона, он не обратил внимания. — Нашелся! — облизывая запекшиеся губы, с превеликим трудом вымолвил Дикун, — в баковом лазе сидит. Ногу, понимаете, опять свихнул, а высота там дай боже, с трехэтажный дом, вот ему и не выбраться… Такое дело. — Позовите боцмана, Вадим Васильевич, — Дугин застонал как от зубной боли, — и немедленно вытащите этого идиота! За каким чертом его туда понесло? — Та я виноват, Константин Алексеевич! — Дикун опустил голову и обреченно махнул рукой. — С меня и спрос. А Геня, он чего? «SOS» выстукивал пассатижами, чудак! Разве кто услышит?.. — Вы? — без удивления спросил капитан, только теперь разглядевший неподражаемое лицо и перепачканную одежду третьего механика. — Сперва сходите умойтесь. Такую разукрашенную рожу как-то не очень сподручно бить, — рука Дугина непроизвольно сжалась в кулак. Но каким-то шестым чувством Дикун догадался, что гроза чудом миновала. — Отставить связь! — выйдя на площадку, Дугин заглянул в иллюминатор радиорубки. — Все отставить, кроме карты погоды! Чего вы носитесь с вашим «червем»? — вспылил он, натыкаясь на четвертого помощника. — Не вертитесь под ногами и вообще ничего не делайте без приказа. Хватит с меня инициативников! — вырвав флажок, засунул его в гнездо, взял мегафон и выбежал на площадку — проследить за спасательной операцией. Геню вытащили с помощью шкертов, которые боцман ловко завязал двойными беседочными узлами, бережно уложили на носилки и отнесли в медсанчасть, где Аурика спешно готовила портативную рентгеноустановку. — Перелома, кажется, нет, — не слишком уверенно объявила она, разглядывая на свет мокрый, не профессионально сделанный снимок. — На всякий случай пусть полежит недельки две в полном покое. — Так долго? — удивился старпом. — Наверное, у него сильное растяжение, Вадим Васильевич, — объяснила Аурика. — Сухожилия очень медленно восстанавливаются. Так считают авторитеты. — Ну, если авторитеты, тогда конечно. Против них не упрыгнешь, — старпом напрасно расточал запасы иронии. Аурика все принимала всерьез. — Болит? — наклонилась над все еще бледным от пережитого волнения Геней. — Побаливает, — признался Геня. — Когда не шевелишься, то не очень. — А вы его, гада, витаминчиками, — пошутил Беляй. — Попробуем УВЧ. — У вас разве есть? — удивился старпом. — У нас все есть, — категорично отрезала Аурика. — Но вы правы, витамины при таком астеническом сложении тоже не повредят. — Тогда я окончательно пас, — старпом поднял руки и дал задний ход. — Поправляйся, Геня, и не волнуй доктора. — Две недели?! — возмутился Константин Алексеевич, выслушав доклад Беляя. — Только этого не хватало! Мне токарь может потребоваться уже сегодня. Скажите боцману, чтобы приспособили кресло какое-нибудь или что-то вроде. Думаю, ничего не случится, если этот штукарь часок-другой проведет у станка? — О чем разговор? Ему лишь бы на ногу не опираться… Только зря вы его штукарем обзываете, Константин Алексеевич. Геня парень тихий и работящий. — Знаем мы этих тихонь, — проворчал Дугин. — Нечего было слушаться Дикуна, прохиндея болотного, так его перетак. У нас есть апельсиновый сок? — Даже ананасный. — Скажите артельщику, чтоб отнес несколько банок в медчасть. А вообще я сам туда заскочу. Хочу с докторессой нашей крупно побеседовать. Ни черта девка не понимает. Зачем, спрашивается, перевязку сделала? Пароход все-таки не санаторий. Гипсом надо залить, спокойнее будет. Как считаете? — Вполне согласен, Константин Алексеевич. Вдруг действительно на станке придется поработать… Да и шторм на носу. Может так шваркнуть… — Вот и я о том же. Как не крути, а судовой врач в первую голову должен быть моряком. Мужик мне нужен на этой роли, Вадим Васильевич. Неужели у Петрова хорошего мужика не нашлось? Удружил, нечего сказать. На этом инцидент с Геней был исчерпан. Предстояла веселая ночка, и капитану хотелось хоть немного поспать. Всех дел не переделаешь, а на рандеву с Богдановым следовало явиться в лучшем виде. Тем более, что первый помощник все равно снимет стружку с виноватых и правых. Хорошо хоть радиограммы в эфир не пошли, и теплоход ни на йоту не отклонился от рассчитанного курса. Что и говорить, вовремя Геня нашелся, хоть за то спасибо!СУХОГРУЗ «ОЙМЯКОН»
Береговые станции, обслуживающие квадрат, где находился «Оймякон», послали сигнал безопасности. Вслед за троекратно повторенной группой «ТТТ» в эфир полетело штормовое предупреждение, переданное, как обычно, на международных частотах бедствия. Синоптическая служба предсказывала волнение восемь баллов. Расхождения с последним прогнозом получились весомыми, можно даже сказать, роковыми. — Хоть на балл больше, — грустно пошутил Богданов, прочитав сводку, — зато на два часа скорее. Плевать, все равно перед смертью не надышишься. Выдюжим! Радист не оценил юмора и не проникся оптимизмом. Он слишком хорошо знал море, чтобы не видеть различия между волной в семь и восемь баллов. С восьмибалльной волной, да еще усиленной ветром, сухогрузу не совладать. Даже на буксире у «Роберта Эйхе». Все диаграммы буксировки, заранее рассчитанные для различных вариантов, можно было спокойно отправить в утилизатор. Равно как и стальной трос, подогнанный в мехмастерских под длину ожидаемой штормовой волны. В течение считанных часов, оставшихся до подхода «Лермонтова», Олегу Петровичу предстояло решить беспощадную дилемму: либо пересадить экипаж на чужое судно, либо все же попытаться спасти «Оймякон». Оценить последствия буксировки не представляло труда. Направление ветра и волн в море обычно совпадает. Поэтому, если буксировщик возьмет насупротив, его неизбежно собьет носом под ветер, и легко догадаться, что произойдет с ведомым пароходом, когда лопнет, не выдержав динамических усилий, трос. Это один вариант, самый очевидный. Но можно пойти и по волне, чтобы поскорее выскочить из опасной зоны. В этом случае судно, как бы подгоняемое сзади, начнет рыскать, вилять кормой, обнажая руль и винты. Кое-какие шансы тут, конечно, есть, хотя настоящий моряк на многое пойдет, только бы не видеть бешеного вращения лопастей, взлетевших в непривычную воздушную стихию. Впрочем, своего винта не увидишь. Только каждой кровинкой ощутишь истерический взвой двигателей и мгновенный удар о воду, неистовую и плотную, словно клокочущая лава. Такого и злейшему врагу не пожелаешь. Мысленно поставив крест на буксировке в откровенно штормовых условиях, Богданов прикинул вероятность разойтись с циклоном. «Если Дугин поспеет до шторма, такое может и выгореть, — решил он, — по крайней мере удастся хоть чуть-чуть увильнуть в сторону. Конечно, тогда на Дугина ляжет ответственность за оба судна. А он с грузом и потому сам выгребает против волны с трудом. Тут любой поостережется, тем более, что риск неоправданно велик, а шансы на удачу сомнительны. Как ни верти, а на чужую шею свои грехи не навесишь». Критически взвесив все за и против, Олег Петрович вынужден был расстаться и с этой идеей. Даже могучий «Эйхе», так счастливо, так своевременно подвернувшийся под руку, оказывался теперь практически ненужным. Непогода его опередила, а людей, если не найдется иного выхода, мог снять «Лермонтов». Собственно, ради этого Дугин и шел в опасный район, ломая сроки, подвергая риску дорогостоящий груз. Можно ли было требовать от него большего? Прежде чем принять окончательное решение, Богданов решился опробовать на повышенных оборотах гребной вал. Этот последний резерв он приберег на крайний случай. Винт «Оймякон» повредил, скорее всего, во Флоридском проливе, когда среди ночи натолкнулся на притопленный баркас. Унесенная ураганом от берегов Южной Америки пустая посудина несколько суток крутилась в Саргассовом море, пока не попала в один из рукавов Гольфстрима. С той минуты путь баркаса был предопределен. То ненадолго выплывая, то уходя в глубину, он устремился к северу вдоль одной из самых оживленных трасс судоходства. Так уж случилось, что течение вынесло его наверх прямо под киль сухогруза «Оймякон». Вины Олега Петровича в том не было. Да и с вахтенных спрашивать не приходилось, потому что радар никаких препятствий по курсу не показал. Вообще поломка лопастей, принимающих на себя многолетнее давление водной толщи, происходит довольно часто. Случись такое в спокойных условиях, капитану Богданову стало бы лишь досадно, не более. Без особой нервотрепки и спешки «Оймякон» дошел бы до Генуи или Триеста и сменил винт. Но лопасть отлетела именно теперь, когда береговые станции передали штормовое предупреждение. Жизнь, особенно морская, любит преподносить сюрпризы. После многих дней относительного покоя она, словно пробудившись от спячки, принимается восстанавливать равновесие, наверстывать упущенное, нагнетать ситуацию. Сразу же после столкновения Олег Петрович приказал обследовать винт, когда водолаз доложил, что повреждений не обнаружено, думать забыл о пустячном, как казалось тогда, происшествии. Попусту опасаться того, что в бронзе могли образоваться микроскопические трещины, было не в его правилах. Все равно в морских условиях дефектов не разглядишь. Дни проходили за днями, винт работал исправно, и никаких оснований для тревоги не возникало. И вдруг, как запруду прорвало: сюрприз за сюрпризом. Сначала лопасть, потом шторм и, наконец, Дугин. Меньше всего хотелось Олегу Петровичу быть хоть чем-нибудь обязанным этому человеку. Твердо веря в принцип, что победителей не судят, капитан «Оймякона» еще лелеял надежду дойти до Ильичевска своим ходом. А уж тогда пусть выносят заключения о его работе, обследуют вал, дейдвуты, копаются в журнале, где, между прочим, инцидент с лопастью положен подробно и объективно. Но не только такими, весьма резонными соображениями объяснялось промедление капитана, которого в пароходстве считали, быть может, излишне самоуверенным, но безусловно смелым. Беда, если это можно назвать бедой, заключалась в том, что Богданову всегда и во всем везло. Он не знал поражений и психологически не был к ним подготовлен. Растерявшись на первых порах, когда случилась поломка, он не сразу сумел собраться, и дальнейшие осложнения только усугубили его растерянность. Казалось, еще немного, и он окончательно надломится, утратит инициативу, авторитет, навсегда потеряет лицо. Но вышло иначе. Штормовое предупреждение, сводившее на нет любую возможность буксировки, пробудило в Богданове холодную расчетливую ярость. Стиснув зубы, он поклялся, что все вытерпит, но выйдет победителем. События последних дней он воспринял чуть ли не как заговор, направленный против него лично. Даже капризы стихий странным образом слились в его сознании с интригами реальных и мнимых врагов. Пользуясь тем, что океан впервые за четверо суток утих, Олег Петрович спустил аквалангиста. Словно разведчика заслал во вражеские тылы. Он ощутил истинное удовлетворение, когда матрос в гидрокостюме и ластах решительно бросился спиной вперед в удивительно спокойную воду. В глазах Олега Петровича это было равносильно ответному действию на враждебные происки. Борьба началась. Погода как нельзя более благоприятствовала осмотру. Невозмутимая поверхность, пронизанная косыми лучами, отсвечивала нежной зеленью. Казалось, «Оймякон» парит в невесомости, потому что дрейф был незаметен, а облака на горизонте неразличимо сливались с собственным отражением. Только по ним и можно было догадаться, что наступившая тишина не только обманчива, но и является верным предвестником бури. Оставляя зенит чистым, эти неяркие, пыльно-розоватые облака сплошной цепью окаймляли горизонт, отдаленно напоминая руины сказочных замков. Олегу Петровичу, который откровенно презирал всяческую романтику, подобное сравнение едва ли пришло бы на ум. Но составители лоций, к счастью, не чурались образного языка, и поэтому поколения мореплавателей руководствовались безошибочным признаком: если во второй половине дня облака похожи на развалины замков, следует ждать сильного ветра. В эпохи, когда не было ни радио, ни синоптических оповещений, это служило серьезным указанием. Ныне ж только лишний раз подсказало капитану Богданову, что время на исходе, попусту царапнуло душу. Когда у спущенного с борта лоцманского трапа всплыл черный с желтыми баллонами за спиной разведчик, Богданов непроизвольно зажмурился и по итальянскому обычаю изобразил пальцами рожки. Если бы кто знал, как чертовски хотелось ему немножко удачи! Должен же обозначиться хоть какой-нибудь поворот к лучшему! Обязательно должен, а уж потом пружина раскрутится и дело пойдет. Стараясь не смотреть на матросов, окруживших неловко переступающего мокрыми ластами пловца, Олег Петрович пытался предугадать результаты. Краем глаза видел, как упал пояс со свинцовыми бляшками и засверкали лужи, натекшие с гидрокостюма, который спал и съежился, словно змеиная кожа. Казалось, что матрос валяет дурака, нарочно медлит, растираясь полотенцем, массируя багровый овал, оставленный присосавшейся маской. Едва достало выдержки дождаться. Капитан болезненно ощущал, как утекают секунды, но не позволил себе ни единого лишнего жеста. Демонстрировал легендарную богдановскую выдержку. — Ну как? — небрежно поинтересовался он, когда аквалангист поднялся, наконец, в рубку. — Не замерз? — Так вода теплая, Олег Петрович, как парное молоко. Зря на меня хламиду надели, все равно что не купался. Только зажарился. — Тебя не на пляж посылали, — напомнил Богданов, судорожно пряча за спиной рожки. — Как винт? Богданов непроизвольно закрыл глаза. Палуба под ним зашаталась. — Нормально. — Все обследовал? — спросил, с трудом ворочая языком. — Трещин нет? — Вроде не видно, — пожал плечами матрос. — Не видно или действительно нет? Тогда тоже говорил, что винт в полном порядке. — Так разве увидишь на глаз? — пожал плечами матрос. — Оно-то верно, конечно, — протянул капитан. — Как следует все осмотрел? — А то как же, Олег Петрович, не сомневайтесь, я пальцами ощупал. Нигде ни заковыринки. Скол у лопасти чистый, только острый очень, оттого, может, и бьет. — Так и следовало доложить с самого начала, — Богданов окончательно обмяк, и головокружение усилилось. — Замерз, бедняга? — пробормотал он, вцепляясь в подруливающий штурвал, — скажи буфетчице, чтоб дала стакан водки, и сам возле нее погрейся, — он уже не соображал, что несет. До крови прикусив губу, попытался собраться с мыслями. Невзирая на дурноту, понимал, что от того, как поведет себя в этот, быть может переломный, момент жизни, будет зависеть то дальнейшее, о чем сейчас лучше не думать. Теперь все глаза устремлены на него, и, если он окажется на высоте, многое простится. Прежде чем начать, захотелось опрокинуть стопку коньяку, но Олег Петрович знал, что именно это для него невозможно, потому что ни одна мелочь не останется незамеченной в такую минуту. Вспомнилась чья-то глупая фраза: «Ставка больше, чем жизнь». Или не фраза — заглавие? В общем, какая разница! Главное, что очень похоже. Сейчас единым духом можно отыграть все потери последних дней. Не оттого ли и оттягивал он до последнего, что заранее задумал эту эффектную ставку, которая и в самом деле значит больше, чем жизнь. Конечно, все обстояло значительно сложнее. Ни проклятую вибрацию, ни шторм предупредить было нельзя. Глупый случай закручивал пружину часов, дурацкое невезение нагнетало обстановку. Но вера, что самого худшего не произойдет, и в ту самую минуту, когда ухнет последний козырь, обозначится просвет, такая вера была. Она-то и побеждала теперь, творя невозможное. Все остальное — фуфло, жалкие сантименты, рассчитанные на доверчивых юнцов. «Ставка больше, чем жизнь»… Ладно же! Бред собачий. Ничего в мире нет, кроме жизни. Она одна и дает счастливые билетики тому, кто до конца верит в себя. Правильно говорят англичане, что счастлив тот, у кого всегда есть лишние пятнадцать минут. Олег Петрович быстро обрел присущую ему самоуверенность и даже налился румянцем, словно впрямь принял чарку. — Машине аврал! — прочистив горло, негромко скомандовал он. — Залить ахтерпик! Он давно замыслил поиграть с дифферентом. Меняя разницу в углублении кормы и носа, надеялся поймать положение, когда вибрация окажется минимальной. Сейчас, на спокойной воде, создалась особенно подходящая обстановка для эксперимента. В обычных условиях наилучшим считался небольшой, в два процента дифферент на корму, когда судно не только обладает высокой скоростью и мореходностью, но и хорошо слушается руля. «Оймякону» же, по всей видимости, придется еще больше заглубиться кормой, набрав воды в задний балластный отсек, чтобы компенсировать асимметрию винта. По крайней мере Терпигорев высказался именно так, и Олег Петрович это крепко запомнил.БАК
Электрик Шимановский шутил, что коллекционирует закаты. Свободное время между ужином и кино он проводил на баке, завороженно следя, как погружается в океан воспаленный солнечный сегмент и разворачивает свое неповторимое чародейство заря, угасая зелеными вспышками, поджигая края застывших облачных гряд. Потом холодела многослойная синева, в которой печными угольями дотлевали последние жгучие полосы. Чем выше широта, тем томительнее казался вишневый накал, суровый и душераздирающий, как перед кончиной мира. Теплоход сопровождала шестерка дельфинов, которые так и льнули к скулам, словно стремились притронуться на лету к чему-то близкому, родному. Стремительные серо-зеленые тени играли в кипящей воде, то вырываясь вперед, то нарочно приотставая, чтобы ввинтиться в сумрачную глубину и выскочить у самого бульба, сверкнув оловянным бочком. Им, очевидно, нравилась эта завораживающая игра, да и людям, следившим за всеми ее подробностями, казалось, что судно идет все быстрее, стремясь не оторваться от нежданных лоцманов, которые словно вели его на невидимой нити. Они исчезли так же внезапно, как и появились, сделав напоследок рывок, которому мог позавидовать самый быстроходный катер. Перегнувшись через леер и ничего не увидев, кроме потемневшей воды, Шимановский на какое-то мгновение почувствовал себя осиротевшим, и пароход показался ему медлительной неуклюжей махиной. Словно чары неожиданно спали с глаз. Кто может знать, отчего вдруг сгинули чудные морские звери? Быть может, пресытились однообразной игрой или просто пожелали уйти от шторма, чей нарастающий голос распознали задолго до синоптиков береговых радиостанций. Померкла малиновая дорожка, едва чудовищно сплющенный диск завяз в непроницаемой пене зубчатого, как крепостная стена, облака, и сразу пахнуло знобкой свежестью. Шимановский поежился и обхватил ладонями голые локти, покрывавшиеся при малейшем ветерке гусиной кожей. — Озябли? — услышал он за спиной неподражаемый тембр Дикуна. — Если солнце село в тучу, ожидай покрепче бучу, — слегка исказил механик канонический текст, сочиненный легендарным капитаном Лухмановым. — Заметно свежеет. Сбегать за пиджаком? Шимановский, которому претила любая угодливость, покачал головой и спросил напрямую: — Вам что-нибудь нужно от меня? — Да нет, собственно, ничего особенного, — смешался Дикун. — Просто я подумал, что нам следует договориться, как отвечать, если начнется разбор… — Какой там разбор, — нетерпеливо повел плечом Петр Казимирович. — Успокойтесь, Дикун, все и так предельно ясно. — Но как же?.. Ведь, наверное, будет собрание? — Ну и что? Получите выговор по профсоюзной линии за халатность. В следующем рейсе искупите вину честным трудом, и судовой комитет скостит вам былые грехи. Или хотите, чтобы я все взял на себя? — Нет, я уже сказал мастеру, что сам виноват, — понуро выдавил Дикун. — Тогда в чем дело? Спокойно идите себе в кино. — Мне на вахту, — как всегда после беседы с Шимановским, Дикун почувствовал себя одураченным. — Тем более, — электрик, которому и впрямь были непонятны терзания Дикуна, вообразившего, что загубил карьеру, бросил последний взгляд на зубчатое облако, ставшее сумрачно-синим, и поспешил в салон команды. Картина «Два билета на дневной сеанс», взятая с рижского траулера, уже началась, и он пригнувшись пробрался в свой угол. Но стул, на котором обычно сидел, оседлал кто-то из палубных. — Не положено занимать штатных мест, — достаточно громко произнес Петр Казимирович, устраиваясь на лавке поблизости. Детектив, который стремительно разворачивался на скромном экране столовой, он уже видел, когда ходил позапрошлым летом в Бразилию. Поверхностно следя за поворотами сюжета, мысленно проанализировал электросхему лебедки. Чтобы вчерашнее больше не повторилось, следовало предусмотреть специальное реле. За разработкой новой схемы не заметил, как пропустил эпизод с тканью, носящей красивое название «элан», и пожалел, что не запомнил кино еще с того, первого раза. Следующий важный момент с рестораном и дочкой тоже проскочил мимо сознания, потому что вошел Шередко с пачкой радиограмм. Вручив капитану штормовое предупреждение, он роздал заодно и частную корреспонденцию. Шимановскому тоже достался бланк с тремя строчками. Проглядеть их можно было за секунду, даже в полутьме кинозала. Но весточка из дома требовала соответствующей обстановки. Петр Казимирович выбрался в коридор и поднялся к себе, чтобы за рабочим столом бережно вникнуть в каждое слово. Писала жена: все было дома благополучно. Захотелось есть, хотя на ужин давали жирные вареники с кислой капустой. Шимановский вскрыл банку ветчины и налил стакан кьянти.МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заступив на вахту, Дикун, как обычно, начал с обхода. Инстинктивно недолюбливая дистанционные датчики, хотя на то не было никаких оснований, он доверял только собственному глазу. Неторопливо, со вкусом, словно совершая вечерний променаж, слонялся с площадки на площадку, прислушиваясь к слитному гулу силовых установок, пронизанных могучей дрожью, которая передавалась бесчисленным манометрам, где дергались черные стрелки, замасленным стеклянным трубкам с трясущимися менисками уровней. Пробы из лабрикатора третий механик брал на палец или на ладонь, вечно темную от въевшейся смазки и почти не чувствительную к ожогам. Лишь с обонянием у него обстояло не совсем ладно. Хотя система кондиционирования на «Лермонтове» находилась на уровне мировых стандартов, на нижних внутренних палубах жаркое дыхание машин и сладковатый угар отработанных газов ощущались довольно явственно. Но именно этого, столь характерного душка, к которому примешивались запахи горячей смазки и сухого перегретого пара, Дикун абсолютно не замечал. Сжившись с машинами, чутко улавливал каждую постороннюю ноту в слитном оркестре, наполненном металлическим лязгом, шипением сжатого воздуха и хлопаньем приводных ремней, он до неразличимости пропитался специфическим машинным духом. Обойдя по первому разу все площадки, спустился проверить масло на металл. Порошок выявился и в седьмом цилиндре. Пришлось забежать в ЦПУ, позвонить Загорашу, но тот что-то невнятно промычал и положил трубку. Оставалось пожать плечами и возвратиться в зал. Прокручивая в голове разговор с Шимановским, Дикун терзался запоздалыми сожалениями, что чего-то там не сказал или забыл спросить. Больше всего опасался, как бы в беседе с мастером электрик не обрисовал его в невыгодном свете. Собственно, поэтому он и пытался объясниться, но, к сожалению, бестолково. А ведь все ясно, как день. Он хотел сделать как лучше и меньше всего думал о том, что из-за какого-то нелепого случая может выйти жуткое дело. Хорошо еще, что мастер не успел повернуть пароход. Впрочем, потому и не успел, что Дикун проявил расторопность. Хоть бы это учли… Миновав отключенный балластный насос, он вновь возвратился к установке и ладонью попробовал, как действует охлаждение. Невеселые раздумья не мешали зорко приглядываться к мельканию стальных шатунов и выполнять привычную до автоматизма работу. Она тоже не радовала сегодня третьего механика, хотя обычно он забывал здесь любые неурядицы. Едва уловимый разлад во взаимодействии движущихся частей определенно усилился за последние сутки. К мерному стуку клапанов примешивался какой-то чужеродный свист. Методично обследовав двигатель от форсунок на верхотуре до подшипников, куда смазка пока поступала исправно, Дикун добрался до крышки клапана. В том, что звук исходит оттуда, он убедился, когда отключил шипящий компрессор, предназначенный для продувки. Так и есть! Шпилька, крепившая крышку, оказалась начисто сорванной, а посторонний звук издавал просвистывающий воздух. Щелочка, очевидно, образовалась микроскопическая, но в любую минуту двигатель мог захлебнуться. Требовалась немедленная остановка. Ремонт хоть и пустяковый — от силы на час, — но на ходу его не произведешь. Это был как раз тот случай, когда вахтенный начальник обязан действовать решительно и быстро. Пробежав над гребным валом, Дикун влетел в ЦПУ. — Стопори машины! — отрывисто бросил напарнику и схватил трубку. — Мостик? Вадим Васильевич? — узнал голос старпома. — Будем останавливаться. Клапан разгерметизировался. — Ты бы хоть деду доложил, — упрекнул четвертый механик. — Ага, сейчас! — исполненный кипучей жажды действовать, Дикун дал отбой и потянулся к наборному диску, нажимая попутно бесчисленные кнопки. Однако позвонить Загорашу не успел — вызвал капитан: — Вы в своем уме? Это что еще за художества? Кто позволил? — Извините, Константин Алексеевич, — сдержанно, с чувством собственного достоинства возразил Дикун, — но действую точно по инструкции. Он удовлетворенно прислушивался к относительной тишине, наступившей после отключения силовой установки. Попыхивая на спадающих оборотах, машина облегченно замедляла бег. — Сейчас же запустить резервный! — задыхаясь от ярости, распорядился Дугин. — Вы слышите меня? Не-мед-ленно! — Запустить резервный, — как ни в чем не бывало ответил Дикун, как по клавишам пробегая по кнопкам. Если мастер хочет, чтобы судно тащилось, пока будет производиться ремонт, это его право. Сказано — сделано. Запустим резервный. — Сколько времени вам нужно? — голос вмембране звучал по-прежнему раздраженно, но уже без гнева. — Минут сорок, Константин Алексеевич. — Сделайте за двадцать, — приказал капитан. — Я не могу ждать.* * *
Предельно лаконично Богданов радировал о том, что сумел развить ход в девять узлов и в сопровождении более не нуждается. Дугин прочитал радиограмму со смешанным чувством обиды и облегчения. Оставалось плюнуть и забыть, потому что основная забота, точившая его последние несколько дней, неожиданно отпала. Все разрешилось к всеобщему удовлетворению, но Константин Алексеевич почему-то не мог радоваться. Он чувствовал себя опустошенным, можно сказать, одураченным. Все оказалось напрасным: напряжение, бессонные ночи, и эта гонка из последних сил в опасной ауре тропического циклона. Дугину было даже немного стыдно перед своими людьми. — Хотите пива, Василий Михайлович? — предложил он, кинув радиограмму на стол. — За счастливую развязку. — На радиотелефонию не вышел, — осуждающе скривил губы Шередко. — Дескать, благодарю за помощь и баста… Дугин бросил колючий пристальный взгляд. — Формально он прав. — Так то формально! Конечно же, все замыкалось именно на Богданове, на его нетерпимой манере. Шередко уловил очень чутко. Обхамить можно и благодарностью. Особенно благодарностью за помощь, которая не успела реализоваться. Богданов передал свое сообщение, когда между судами оставалось всего сто двадцать миль. Ему ничего не стоило воспользоваться радиотелефоном и в личной беседе, согретой живым дыханием, сообщить об успехе, — единственно возможного в данных условиях маневра, подсказанного капитаном-наставником. Но он не снизошел, не посчитал нужным. Спасибо, мол, за благородные намерения, но справился и без вас, а как да почему, не ваше дело. Он разом отбросил чисто человеческие связи, как только минула надобность в деловых. Собственно, это единственное и было оскорбительным, разобрался, наконец, Дугин. Радист совершенно точно определил: «Даже на радиотелефонию не вышел…» Скорее всего потому и не вышел, что Дугину привелось быть участником терпигоревского радиотреугольника. — Трое суток псу под хвост, — скупо уронил капитан, помешивая пиво соломкой, облепленной зернами соли. — С нас за эти сутки не спросят, Константин Алексеевич, — откровенно высказался Шередко. — Ладно, Василий Михайлович, — Дугин допил остатки и решительно поднялся. — Спасибо вам на добром слове да и за работу… Идите отсыпайтесь. — Сразу на Гибралтар возьмем, Константин Алексеевич? — Обмозговать нужно… Сейчас для нас самое главное от циклона удрать. Любой ценой.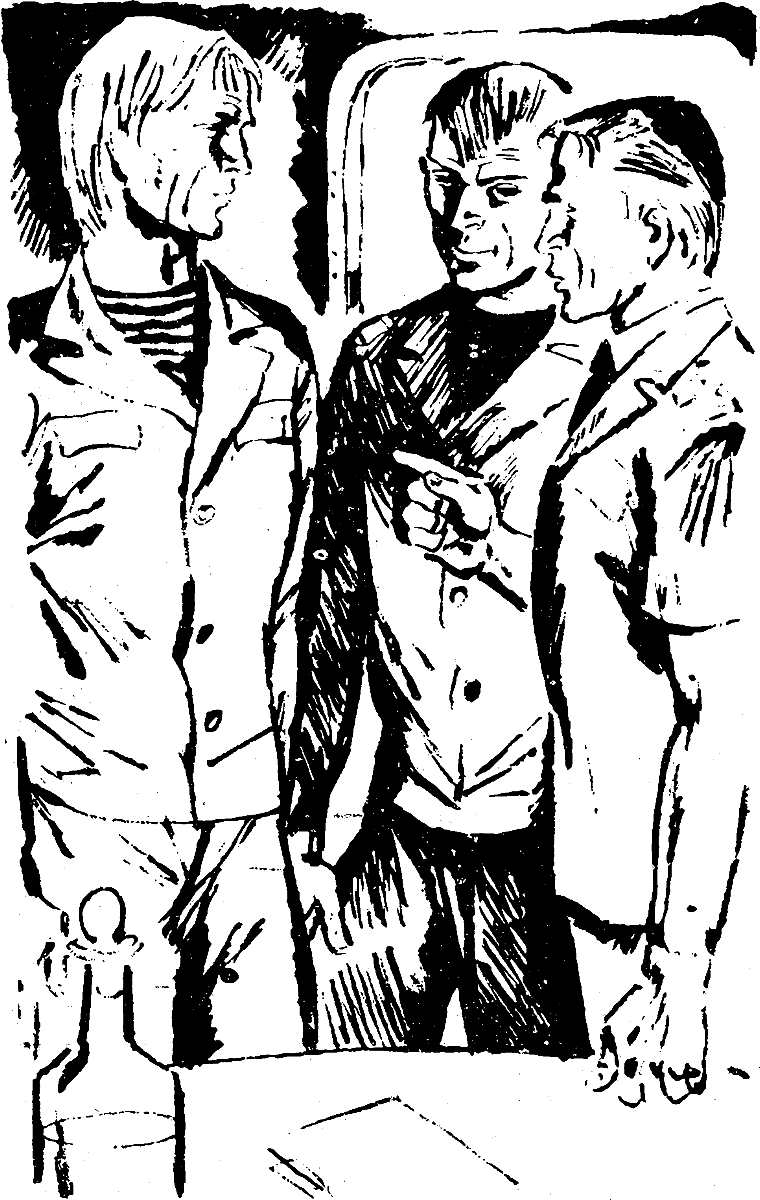
НАВИГАЦИОННАЯ РУБКА
В северном полушарии угрожающей считается правая часть циклона, где ветер, мешая расхождению, неуклонно сносит судно к центру. «Лермонтов» начал менять курс, когда ветер крутил против часовой стрелки, а циклон, соответственно, находился слева, то есть в наилучшей позиции. Дугин предпочел провести ветер справа по носу и вновь описать широкую дугу. В сравнении с прямым направлением на Гибралтар это давало проигрыш в пятнадцать часов. Беляй быстро проделал на электронном калькуляторе предварительные расчеты. — Устраивает? — спросил он, доложив результаты. — Устраивать может квартира или жена, — в обычном стиле отреагировал Дугин, уже радуясь, что с нервотрепкой покончено и можно спокойно заняться привычным делом. — А тут суровая необходимость. Выбирать не приходится. — Почему? — возразил старпом. — Есть еще один вариант. В случае удачи теряем часов восемь, не более. — Знаю я ваши варианты! Лучше не спешить. По крайней мере зубы целы будут, — капитан покосился на Мирошниченко, которому позапрошлой зимой крепко досталось в Японском море. — Предпочитаю пропускать циклоны, тайфуны и прочие ураганы на некотором отдалении, — он включил второй локатор. — Вахтенного к штурвалу! А где четвертый? — Сейчас вызову, Константин Алексеевич, — сказал Мирошниченко. В сложных ситуациях Дугин предпочитал иметь штурманов под рукой, невзирая на очередность. Сцепив за спиной руки, он мерил шагами рубку, то останавливаясь возле экрана, то пристально вглядываясь в кромешную темень, где не было и не могло быть ничего, кроме волн. Задавая самые разнообразные вопросы, он надолго замирал у курсографа, следя за тем, как плавает из стороны в сторону диск, затем выходил на площадку, чтобы самому взглянуть на термометр. Помощники знали, что сейчас капитана лучше не трогать. У него был свой отработанный метод накопления информации, и пока не достигалась полная ясность, он требовал лишь быстрых и точных ответов и мгновенного исполнения приказаний. Любое некстати оброненное слово или шутка могли вызвать крайнее неудовольствие. А уж о возражениях и вовсе нужно было забыть. Когда капитан, словно профессор на обходе, сопровождаемый почтительной свитой врачей и ординаторов, метался от площадки к площадке, спрашивая то карту погоды, то какой-нибудь пеленг, перечить ему мог только заведомый камикадзе. По крайней мере, так утверждала молва, которую старпом всячески поддерживал. Но, уяснив для себя обстановку, Константин Алексеевич вновь становился душа-человеком. Рассыпал прибаутки, предавался романтическим воспоминаниям, одним словом, вел судно с легкостью виртуоза. В такие моменты работать с ним было одно удовольствие. Это слово, кстати, поскольку весь набор хохм был известен, кто-нибудь обязательно вставлял в разговор, на что следовал неизменный ответ: — С удовольствием дороже! Первым, как правило, смеялся сам Дугин. Но и остальным тоже было нескучно. Судя по барометру, который начал медленно подыматься, «Лермонтов» уверенно уходил из опасной зоны. Но сила ветра росла, и волна тоже набирала баллы. Дугин обернулся к кренометру. Его беспокоил не столько размах качки, сколько нарушение закономерности. В наш век глобальных климатических сдвигов, когда не только на суше, но и в море погода перестала подчиняться привычному распорядку, гигантские атмосферные фронты распространялись чуть ли не на все полушарие. Штормовая зона, в которую угодил теплоход, явилась лишь случайной флюктуацией в глобальной системе, ничтожным, непредсказуемым всплеском. Чисто физически от этого было, конечно, не легче. — Дайте свет! — скомандовал капитан. В белом снопе прожектора вздыбленный океан показался светящимся, а может, он и вправду фосфоресцировал, потому что и широта, и сезон для этого были вполне подходящими. Крутые хребты, в которые глубоко зарывался нос, налились зеленой опалесценцией и, конвульсивно полыхнув, взметнулись вверх, обдавая меркнущей дробью. И всякий раз это было похоже на взрыв, за которым следовал гулкий удар и отвратительный скрежет сотрясаемого металла. Обрушенная на палубу волна не успевала стекать через клюзы, и нескончаемо хлеставший пенистый поток казался застывшим, словно нарост из сосулек, и тоже мерцал, но только пепельным потусторонним светом. Да и все судно, вместе с контейнерами облепила какая-то мертвенно-фосфористая слизь. Зрелище по высшему классу, если б не качка. Беляй, успевший в свои тридцать пять всякого наглядеться, такое видел впервые. Вцепившись в поручень, как завороженный приник к стеклу. Ему померещилось, что теплоход давным-давно погрузился и вертится в придонных водокрутах. Вспомнилось, как у Азорских островов эхолот нарисовал контур затонувшего корабля, наверное, с острым бушпритом и сломанными мачтами. Фрегат, на котором вполне мог ходить адмирал Нельсон, завис на глубине в семьдесят метров. Чтоб не всплыл кому-нибудь под киль, его тут же включили в навигационное предупреждение. Беляй не заметил, как рядом с ним возник матрос, и вздрогнул, когда тот заговорил: — Боцман просил передать, что затанцевали бочки с машинным маслом и ослабли крепления шлюпки. — Раньше надо было позаботиться, — гаркнул капитан. — Скажите боцману, чтобы никто и носа не высовывал на палубу, а то смоет к чертовой матери. — Боцман! — объявил по трансляции Вадим Васильевич. — На палубу никому не выходить, — и он представил себе, как раскачивается и бьется о шлюпбалку пластмассовая лодка, и мысленно поставил на ней крест. — Барометр? — спросил Дугин. — Продолжает идти вверх, — ответил помощник. — ЦПУ! — последовало новое распоряжение капитана. — Прибавить ход. Начинаем ворочать под ветер. Расходясь с циклоном, суда обычно сохраняют взятое направление, пока барометр не начнет подниматься. Сейчас у Дугина были все основания взять круче к норду, потому что в условиях жесткого шторма лучше держаться на курсах против волны или близких к ним. Но поворот в штормовую погоду — маневр довольно опасный. Ворочая по волне, судно должно резко увеличить скорость, чтобы поскорее пройти положение «лагом к волне». Все зависело от того, насколько быстро сработает машина. — Готовы, Константин Алексеевич, — прозвучал в динамике голос деда. — Курс семьдесят восемь помалу, — сказал капитан. — Пусть буфетчица сварит кофе, — кивнул он Мирошниченко. — Семьдесят восемь помалу, — повторил штурвальный. Бухание волн сразу усилилось, и теплоход, принимая все больше воды, стал зарываться глубже. Веер пены взлетал чуть ли не выше контейнеров. — Семьдесят восемь на румбе, — доложил штурвальный, не отрывая взгляда от красного лимба над головой. На десяти узлах «Лермонтов» еще продолжал зарываться, но руля слушался хорошо и без особой рыскливости держался на курсе, несмотря на сокрушительные удары волн, от которых, казалось, полопаются сварные швы. Чтобы ослабить броски тысячетонных валов, Константин Алексеевич начал изматывающую игру в переменном режиме: стопорил машины при подходе высокой волны и давал полный ход, когда судно начинало всходить на очередной гребень. Сбитая с толку автоматика лишь жалобно выла, не успевая следить за лихорадочными бросками теплохода. — Плачет кибернетика, — шепнул Мирошниченко и потянулся за сигаретой. — Дай-ка и мне аглицких. — А что поделаешь? — Вадим Васильевич подвинул ему зажигалку. — Машинная логика не может понять логику моря. — Какая к шуту у моря логика? — неожиданно возмутился третий помощник. — Это ж сплошной кошмар. — Не скажите, — не повернув головы, подал реплику Дугин. — Как накатит восемьдесят первая, так на собственной шкуре испытаете всю прелесть морской логики. — Девятью девять, — сказал Беляй. — Девятый вал в квадрате. — Три звездочки в четвертой степени, — неуклюже сострил четвертый помощник и надолго умолк, сконфуженным неодобрительным молчанием. — Если ничто не помешает и благополучно придем в Ильичевск, запишусь в альпинистскую секцию, — сказал капитан, когда понял, что самое трудное осталось позади. — Что там боцман насчет бочек говорил? — С бочками, полагаю, обойдется, — ответил Беляй, припомнив, когда в последний раз проверял крепление. — Трос стальной, новехонький. — Смотрите, — предупредил Дугин. — За лабрикаторное масло валютой плачено.КОРМА
Первый помощник был разбужен деликатным прикосновением Дикуна. — Вставайте, Иван Гордеевич, рыбку ловить. Горелкин испуганно встрепенулся и, натыкаясь в темноте на кресла с разбросанной одеждой, кинулся к шкафу, где хранил спиннинги, катушки и богатейший набор крючков. — Та не торопитесь, — Дикун догадался включить лампу. — Мы еще идем порядочно, минут десять как застопорились. — А что случилось? — щурясь на свет, осведомился Горелкин. — Прокладки чертовы полетели и палец менять надо. Работы часов на шесть. Одеваясь на ходу, Горелкин нашел пенопластовые мотовильца со ставками и поднял шторку иллюминатора. Еще не светало. Протяжно вздыхая, океан гнал частую зыбь. Было непривычно тихо. — Не могли лучшего места найти! — проворчал Горелкин, разыскивая бушлат. — До шельфа нельзя было погодить? — Так уж получилось, — прикинулся виноватым Дикун. — Делали, что могли, но машина — не человек, ей не прикажешь. Хорошо хоть из шторма успели выскочить. — Какой там шторм? — Иван Гордеевич, ожесточенно мял припухшее лицо. Рассеянно выслушав объяснения Дикуна, он нагнулся над умывальником и пустил сильную струю из нажимного крана. Рыбалки он ждал чуть ли не месяц и, как все остальные, мечтал о коротком отдыхе. Понимая, что первый помощник неконтактен, Дикун счел свою миссию законченной и тихо исчез. В отличие от других, он не позволял себе шуток по поводу горелкинской страсти, хотя своими глазами видел, как на Сивее тот пытался прогнать канадского лоцмана, причалившего в самый неподходящий момент бешеного клева. К счастью, они говорили на разных языках и обошлось без конфликта. Надев бушлат прямо на тельник, Иван Гордеевич вышел на палубу, которая мерно вздымалась и опадала. Лишенное подвижности судно сразу же развернуло лагом к волне, вполне умеренной, и покачивало не меньше, чем в шторм. Бортовые танцующие огни скупо освещали угрюмую непроницаемую воду. Перебравшись на подветренную сторону, Иван Гордеевич окинул горизонт. На ноках реев крутились по ветру два черных шара, вывешенных по случаю остановки. Луна еще светила в полную силу, но звезды побледнели, и небо в иссиня-черных разрывах казалось серым. Опустив для пробы грузило и убедившись, что сильно несет и ловить пока рано, Горелкин потащился на корму, где боцман уже рубил на кнехте наживку — мороженое мясо. Приготовления к рыбалке были в самом разгаре. Паша-электрик смайнал люстру на длинном резиновом кабеле и врубил ток на распределительном щите. В кромешной тьме под кормой таинственно засиял сине-зеленый ореол, пронизанный золотистыми искрами. Люстру покачивало, и свет в озаренном круге клубился, как дым. Сразу же откуда ни возьмись появились креветки и зашныряли под рефлектором, переливаясь, как драгоценные камни. Казалось, даже зыбь улеглась, зачарованная нежданно расцветшим в ночи праздничным оазисом. Растопырив колючие плавники, стрельнула в жидкий огонь летучка, и сразу за ней еще одна. Нарядными, светло-васильковыми бабочками закружились они на дармовом пиру, куда стекался со всего океана завороженный светом планктон. Наживив крючки, Горелкин опустил грузило на всю длину лески. — Какую глубину ставить? — спросил он капитана, который тоже не замедлил явиться со спиннингом. — Отпускайте смелее, Иван Гордеевич, — пошутил Дугин, пристегивая к карабину поводок с кальмарницей. — До дна еще далеко. — Вы разве на кальмаров? — Горелкин ревниво покосился на изящную игрушку, лучившуюся тихим зеленоватым светом. — А то как? — задорно ответил Паша, прилаживая к универсальному многоколенному удилищу с агатовыми кольцами точно такое же зеленое веретенце. — Было б вам купить. Всего две с половиной тыщи лир, а удовольствия — на миллион. Звездно блеснув, кальмарница плюхнулась далеко за размытую световую границу, где затаилась первозданная мгла. Капитан и электрик забрасывали в разные места, но безуспешно. Иван Гордеевич повеселел и с большим оптимизмом продолжал подергивать свою наживленную обескровленной говядиной ставку. Он даже не заметил, как Снурков опустил за борт две проволочные «донки», после чего преспокойно отправился спать. Как всегда неожиданно, появилась акула. Голубоватая и обтекаемая, словно подлодка, она прошла под кормой и, обогнув теплоход, застыла на рубеже света и тени. Горелкин, на всякий случай, начал поспешно выбирать леску, но это только привлекло вечно голодную хищницу. Едва заметно вильнув хвостом и выставив боковые рули, она сделала мгновенный рывок. Удилище тут же согнулось дугой, а многоцветная японская жилка натянулась и ослабла. Походя скусив свинцовое грузило и не обнаружив ничего достойного внимания, великолепная рыба исчезла, как призрак. — Потолще леску надо было захватить, Иван Гордеевич, — даваясь от смеха, посоветовал Дугин, — и крючок побольше… Горелкин, чертыхаясь, крутил катушку. — Чтоб она сдохла, проклятая! Два рубля на конном рынке за ставку отдал… Паша, у тебя запасного грузила не найдется? Но Паша не ответил, потому что увидел, наконец, долгожданного кальмара, бурой нечеткой тенью проскользнувшего в темноте. Чудовища возникали из мрака одно за другим. Предпочитая держаться подальше от люстры, они шныряли где-то поблизости, подстерегая летучек или еще какую добычу. Судя по всплескам, их стремительные броски достигали цели. С кормы было хорошо видно, как один полуметровый кальмар пролетел над водой, меняя цвет с перламутрового на пурпурный, и плюхнулся у самого борта, где резвилась лохматая рыбка. Выбросив хватательные щупальца, он впился в летучку и ушел вместе с нею куда-то под киль, в несказанную глубину. Тут-то и пошла сумасшедшая невиданная охота. Едва мастер выбросил первого моллюска на палубу, как заловилось у Паши. И пошло, и поехало. Не успевая подзаряжать кальмарницы возле люстры — свечение быстро ослабевало, — они азартно хлестали воду грузилами, а кальмары шли неистощимой жадной волной, словно какие-нибудь марсиане, окружившие чужой звездолет. Будто наполненные водой грелки шлепались на палубу и, скребя коготками присосков неподатливую краску, испускали потоки чернил. Пульсируя, как живые сердца, и многократно меняя оттенки, бились и прыгали между кнехтов, пока ликующий пурпур окончательно не исчезал из пигментных желез. Вначале бледнел, обретая сиреневые оттенки смерти, стреловидный хвост, затем тускнели мутные светящиеся глаза и закрывался хищный, как у попугая Юрочки, клюв. Выскочив на воздух передохнуть — в машинном был аврал, — Шимановский чуть не поскользнулся в чернильной луже. Столько кальмаров зараз ему доводилось видеть разве что на рыбных рынках Токио или Бангкока. — Ну вы даете! — восхитился он, приседая на корточки.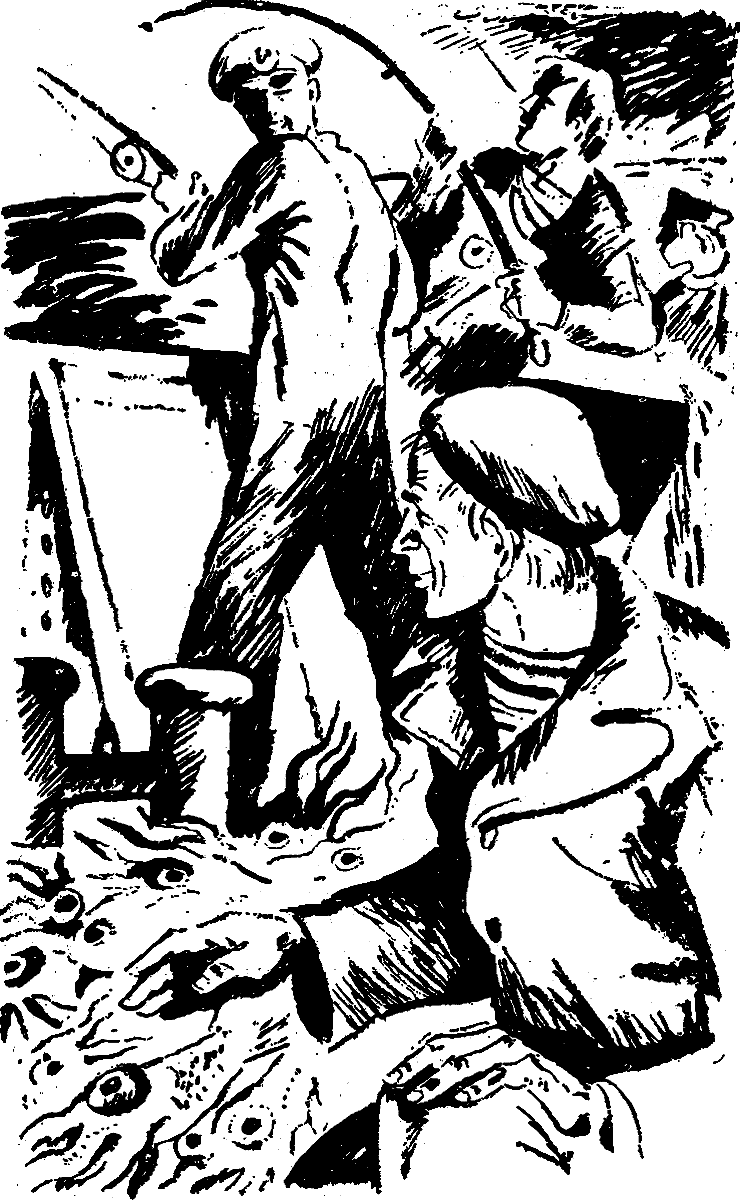
— Аск[21], — Дугин торжествующе прищелкнул пальцами. — Беляй грозился, что целую неделю будем лопать одну краску, то бишь рыбу. Черта с два! Кальмарины хватит до самой Генуи. — Надо будет Ванде сказать, чтоб пожарила в сливочном масле с желтками, как писатель любил, — пробормотал в конец униженный Горелкин. — Может, хватит, Константин Алексеевич? — предложил Шимановский, следя, как меркнет красноватый, почти человеческий глаз. — Шли бы лучше поспать. — Спать? Сорокового вытащу и пойду, — легко взмахнув удилищем, он отпустил катушку. Но выловить сорокового так и не привелось. Приплывшая на огонек рыба-молот, страхолюдная, как химеры Иеронима Босха, живо сделала укорот кальмарьему пиршеству. Всю живность как ветром сдуло. — И на том спасибо, — перевел дух капитан, с трудом разгибая занемевшую спину. — А то б ни за что не ушел… Горелкин куда подевался? — обратился он к Паше. — Пошел передачу для трансляции писать. Просил одолжить спиннинг, забросить раз-другой, но я не дал. Еще акуле скормит…
МЕДСАНЧАСТЬ
К семи утра состояние силовых установок в общих чертах прояснилось. Объем ремонтных работ оказался не столь велик, как это предполагал первоначально стармех. Впервые за весь поход у него появилась уверенность в том, что рейс пройдет, как положено. Несмотря на незапланированный отход от линии, показатели выходили приличными. Наскоро вытерев ветошью нагар и масло, Загораш выскочил на палубу глотнуть свежего воздуха. Спать хотелось до звона в ушах. Только теперь он почувствовал, насколько вымотала его незаметно пролетевшая ночь. Голову поламывало, точно с похмелья, и в суставах ощущалась расслабляющая ломота. Теперь он мог себе позволить теплый душ и два часа беспробудного сна. Сперва только нужно было решить вопрос с токарем. Большую часть потребных деталей выточили сами механики, но там, где требовался высокий класс точности, без Гени не обойтись. Артельщик, неплохо владевший плотницким ремеслом, еще ночью сколотил специальные козлы, к которым штормовым креплением пристегивался стул. Обойдя корму и подивившись черным несмываемым пятнам, Андрей Витальевич потрогал миллиметровую леску боцманской донки. Она легко подалась и пошла вверх. «Кто-то будет сильно разочарован», — подумал он, взбегая по внешнему трапу. Увидев пустые ростры, с которых вместе с брезентом сорвало закрытый катер, стармех от неожиданности присвистнул. У себя в машинном он так и не почувствовал, в какой переделке побывал теплоход. Качало, конечно здорово, но чтобы так… Океан внизу расстилался присмиревший и голубовато-серый, как ожившая к вечеру полынная пустошь, и сразу вкус вспомнился горьковатый, влекущий, измученных Тониных губ. Его опять неудержимо потянуло к ней и, как всегда в такие минуты, угрызения совести, которыми он терзал себя, показались детскими, высосанными из пальца. Размышляя о том, как наладить отношения, Загораш вошел внутрь и неожиданно увидел ее. Судя по всему, она недавно вышла из душевой и почти излучала розовое сияние. Под мягкой ее косынкой молодыми рожками топорщились бигуди, а ногти покрывал свежий фиолетовый лак. С внезапной остротой, перехватившей дыхание, на Загораша повеяло свежестью и теплотой. Забыв про свои сальные от нигрола руки, он потянулся ее обнять, но она увернулась, выскользнула неуловимым движением. — Оставь… И вообще не лезь ко мне больше. — Но почему? — он беспомощно опустил руки. — Сам знаешь. — Как хочешь, — Загораш быстро оглянулся, тяготясь объяснением, но не решаясь оборвать его первым. — Ты сюда? К Гене? — А ты? — равнодушно спросила она, берясь за ручку. — По работе, наверное?.. Так я могу подождать. — Зачем же?.. Можно и вместе. — Нет, — она медленно отпустила ручку, выпрямившуюся с глухим щелчком. — Я лучше одна. — Как хочешь, — он поспешил войти, ощущая скорее облегчение, слегка омраченное неловкостью, нежели разочарование. Обижаться не приходилось. Уж он-то знал, что Тоня права, даже больше, чем ей это казалось. Ему и в самом деле была нужна не она, а просто женщина, все равно какая, лишь бы не страхолюдная и ласковая. Кажется, он даже не особенно пытался это скрыть. Значит, все к лучшему. Тем более и рейс, кажется, подходит к концу. Самое время развязывать узел. Присев возле белоснежной Гениной койки, Загораш глянул на свое отражение в кривом зеркале никелированного стерилизатора. — Просыпайся, голубок, пора, — он осторожно коснулся Гениной руки и скорчил страшную рожу, которую тут же повторил с многократным усилением расплывшийся на выпуклой поверхности монстр. — Ишь, разоспался! — Почему тихо? — Геня сразу открыл глаза. — Машины застопорены? Я сейчас, — он попытался вскочить, но стармех удержал его. — Много надо точить? — спросил Геня, стряхивая сон. — Я думал, вы меня ночью позовете, и вот заснул. — И правильно сделал. Тебе отдыхать надо, набираться сил. Мы сами кой-чего на станке выточили, короче, пока могли, не трогали. Но тут другого выхода нет… — Так разве я не понимаю? — Геня боязливо спустил забинтованную ногу и потянулся за одеждой. — Пароход-то стоит. — О том и речь… Болит? — Если не шевелить, нормально. — А наступить можешь? — Только на пятку, но все равно отдает. По всему телу. Будто током. — Три недели отдай, как положь. Загипсовать бы надо, — сочувственно вздохнул стармех. — Оно бы, конечно, лучше, но не получилось у ней, у Аурики. Боль такая, что хоть на стенку лезь. Пришлось снять. — Во всяком деле необходима квалификация, — кивнул Загораш. — Вот и мы тоже, инженеры, — он помог токарю одеться и встать, — по третьему классу точности еще куда ни шло, а дальше: извини-подвинься. Так что прости, Геня, но надо, давай, покрепче на меня обопрись… Палку возьмешь или костыль? — Лучше костыль, для верности. Поддерживаемый стармехом, Геня неуверенно заковылял к двери. Эти первые шаги для него были самыми трудными. Ни на трапах, ни в коридорах, где вдоль переборок тянулись поручни, костыль уже не понадобился. Его, словно оруженосец, нес стармех, бережно страховавший Геню, пока тот неуклюже скакал на одной ноге. — Тебе даже стоять не придется, — подбадривал Загораш. — Посидишь у станка пару часиков — и все. А назад мы тебя на руках отнесем, чтобы по ступеням не карабкаться. В мастерских Геню усадили на приготовленный стул и, на всякий случай, пристегнули поясным ремнем, почти как в самолете. Он отдышался, подождал, пока утихнет растревоженная нога, и повернул к себе пюпитр с синькой. Изучив чертеж, проверил, как закреплена заготовка, и привычно запустил станок. Обнажая матовую поверхность стали, побежала завитая фиолетово-синяя стружка. «Как Тонин маникюр», — пронеслось в голове. Через двадцать минут на токаря перестали обращать внимание. Работает человек на своем месте, значит, порядок. В девять часов мотористы принесли ему завтрак: жареного окуня и кружку кофе, а потом Паша-электрик лично от себя поднес нежнейшего кальмара в «писательском» соусе. Пока в машинном продолжался ремонт, Шередко через Москву-радио установил связь с Одессой и объявил по трансляции запись на разговор. Тут же образовалась очередь человек на десять, которую возглавил расторопный Мирошниченко. Капитан, само собой, шел вне конкуренции. Но Дугину опять не повезло. Он услышал только редкие гудки и голос телефонистки, возвестившей, что номер не отвечает. Несмотря на героические усилия радиотехники, Лину никак не удавалось застать дома. Это ровно ничего не означало, но настроение, хочешь того или нет, испортилось. Не помог даже кальмар и роскошный шашлык из палтуса на настоящих железных спицах. А связь, как нарочно, оказалась превосходной. С пеленгаторной площадки Константин Алексеевич слышал не только указания, которые давал своей «пантере» третий помощник, но и ее встречные требования по части водолазок, джинсовых туфель и гибкой антенны для «жигуленка».БЕРЕГ (ГЕНУЯ)
Пассажирский электроход «Микеланджело» — краса и гордость итальянского флота — второй год стоял на приколе в генуэзском порту. Рядом с мрачным фронтоном хлебного склада и бетонными опорами эстакады многопалубный, белоснежный гигант казался мимолетным гостем, случайно залетевшим в порт из какого-то сказочного мира вечной праздности и беззаботного веселья. Но это было обманчивое впечатление. Несмотря на мажорную музыку, льющуюся из салонов и баров, электроход плотно прирос к причалу. Его топливные баки были так же сухи, как и плавательные бассейны на палубах, а команда давным-давно разбрелась по другим пароходам. Как и прочие левиафаны, «Микеланджело» вот уже несколько лет приносил судовладельцам одни убытки. Собственно, поэтому его и сняли с трансатлантической линии, что, конечно, никак не решило финансовую проблему: одно содержание в порту обошлось уже в полмиллиона долларов. Однако, несмотря на энергичные усилия компании сбыть нерентабельное судно, покупателей не находилось. И все же совет директоров не терял надежду и не поскупился на очередной прием, куда в качестве особо почетных гостей были приглашены несколько видных американских дельцов и два заезжих шейха из нефтяных эмиратов. Как обычно, коктейль-парти состоялся на борту, для чего на верхнюю палубу спешно вернули вазы с тропическими растениями, старинный фарфор и столовое серебро. Борис Петрович Слесарев, представлявший Совинфлот в морском агентстве «Нарвал», тоже получил пригласительный билет с объемной цветной фотографией лайнера. Он уже второй год жил в Генуе и знал, что самые сложные деловые вопросы быстрее всего решаются в непринужденной обстановке. Переменив рубашку и галстук, запер кабинет и, насвистывая песенку из последнего фильма, сбежал по лестнице. Затем отыскал среди припаркованных к тротуару автомобилей свой «Фиат» и не без труда влился в сплошной поток, медленно продвигавшийся по улице Двадцатого сентября. Как всегда в часы пик, где-то случился затор. Выли гудки, надсадно трещали моторы на перекрестках, где метались близкие к инфаркту регулировщики. Прямая просторная улица, застроенная эклектичными особняками в стиле начала века, плавала в сизых клубах выхлопных газов. Вместо обычных двенадцати минут Слесарев затратил на дорогу почти час. Уже на нижней автостраде, когда проезжал мимо квартала Порто Веккьо, прозванного почему-то Колбасным переулком, заметил, что у ворот порта тоже образовалась изрядная пробка. Карабинеры в синей форме знали его в лицо и, взяв под козырек, пропустили без очереди. Еще минут семь он ехал по территории порта мимо бесконечных складов и почти игрушечных желтых тратторий, где перед рекламными щитами с «кока-колой» празднично цвели высокие кусты ромашки. Поднявшись в лифте красного дерева на верхнюю палубу, Борис Петрович понял, что явился чуть ли не последним, и поспешил затеряться в толпе гостей. Но не успел он положить себе на тарелку ломоть сочного стейка, как заметил шефа крупного неаполитанского агентства, с которым был связан тесными деловыми узами. Энрико Туччи улыбнулся, приглашающе помахал рукой и что-то шепнул стоявшей рядом хорошенькой женщине. Она обернулась и тоже взмахнула зазвеневшей браслетами кистью. Узнав Адриену Туччи, Слесарев радостно кивнул, схватил первый попавшийся бокал и, раскланиваясь со знакомыми, начал пробираться на другой конец палубы. — Давненько вы не были у нас в Неаполе, — крепким рукопожатием приветствовала его Адриена и спросила по-русски: — Как поживаете? — Вы делаете заметные успехи, — одобрил Борис Петрович. — Еще раз спасибо вам, синьора Туччи, за изысканное гостеприимство. — А вам за русские книги. — Адриена и в самом деле продвинулась в языке, — Энрико похлопал Слесарева по плечу. — Наши связи расширяются, и мне нужен надежный помощник, — он рассмеялся, лучась дружелюбием, радостью и довольством. — У нее богатая практика. — О, да! — понимающе кивнул Слесарев, проникаясь приятным ощущением легкости, которое находило на него всякий раз, когда он общался с чуткими и отзывчивыми людьми. — В Неаполе наши моряки частые гости… За дружбу? — он поднял бокал с красным «антико россо», не подозревая, что мельком увиденная реклама определила его выбор. — За дружбу! — в один голос ответили супруги Туччи. — Собираетесь приобрести? — пошутил Слесарев, указывая на мачту, с которой свисали лениво полоскавшиеся по ветру флажки. — Это не мой джоб, — с экспансивностью прирожденного неаполитанца затряс головой Энрико. — Да и не по карману. А жаль! Посудина превосходная!.. Может, ваша фирма заинтересуется, синьор Борис? — Не уверен, — Слесарев отставил пустой бокал и оглядел собравшихся. — Где же хозяева? — Уединились с шейхами, — Адриена иронически подняла брови. — Кажется, что-то вытанцовывается. — Сомневаюсь, — Энрико сделал отрицательный жест. — Не та сейчас конъюнктура. Даже для ОПЕК. Танкеры и те простаивают. Очень рад, что встретил вас, — он машинально притянул Слесарева за пуговицу. — Есть небольшой разговор… Ты разрешишь, Адриена? Вместо ответа она подняла стакан с виски, в котором качалась тающая льдинка. — Как там дела у Дугина? — осведомился Туччи, когда они отошли к бассейну, куда по случаю приема залили подцвеченную воду. — Насколько я понимаю, он запаздывает? — По всей вероятности так, — вынужденно согласился Слесарев. — Объективные обстоятельства… — Знаю, — с присущей ему прямотой кивнул Энрико Туччи. — Но это ничего не меняет, то есть почти ничего, — поправился он. — Не мне говорить, чего стоило получить эти грузы, синьор Борис. Отправитель очень пристально следит за сроками. — Ничего не поделаешь: море есть море. — Согласен… Но, простите меня дорогой друг, есть вещи, которые даже мне, вашему искреннему союзнику, трудно понять. Вы понимаете меня? — он обласкал Слесарева взором. — Не совсем, синьор Туччи. Разве вы не знаете, что «Лермонтов» пытался оказать помощь? — Вот именно пытался! — оживленно жестикулируя, взорвался Туччи. — Но зачем понадобилось представлять это в столь невыгодном свете? — О чем вы? — Слесарев по-прежнему не мог понять, чего хочет от него итальянец. — Кто представлял? Где? — Как? Вы ничего не знаете?.. Это же было напечатано в вашей морской газете! Я специально… захватил вырезку, — он полез за бумажником и жестом посла, вручающего верительные грамоты, торжественно передал наклеенную на перфорированную карточку заметку с характерным заголовком «Подвиг в океане». Слесарев пробежал газетные строчки и вновь внимательно перечитал текст. В заметке говорилось о том, как экипаж и, главное, капитан сухогруза «Оймякон» Олег Петрович Богданов в сложной штормовой обстановке сумел спасти судно. Несмотря на очевидные преувеличения, корреспонденция в своей основной части не содержала ничего необычного. Анонимному автору нельзя было поставить в вину даже дипломатичную интерпретацию событий, последовавших за поломкой винта, который якобы не выдержал «многомесячного напора воды». Что же, умалчивая об истинной причине аварии, можно было сказать и так. Тем более, что лопасть — Слесарев во всех подробностях знал о перипетиях с винтом — в конечном итоге срезал действительно напор воды. Если бы автор заметки, написанной, очевидно, не без влияния самого Богданова, этим и ограничился, не было бы никакой проблемы. В Одессе как-нибудь разобрались бы, в чем тут героизм. Но в своих попытках драматизировать событие автор пошел значительно дальше и в последнем абзаце, не жалея восклицаний, живописал самоотверженность капитана Дугина, готового ради спасения друга выбросить за борт свои контейнеры. Слесарев сразу понял, что именно взволновало Туччи, и проникся его беспокойством. — М-да, — протянул он, возвращая вырезку. — К сожалению, я еще не видел этой газеты и не готов прокомментировать текст. — О, мадонна! — возвел бархатные очи Энрико. — Какие еще могут быть комментарии? — он ударил себя кулаком в грудь. — Я целиком согласен с действиями капитана Дугина, который поступил, как настоящий моряк. Скажу даже больше. Если бы ему и в самом деле пришлось избавиться от контейнеров, мы бы и это как-нибудь пережили. Груз-то застрахован. Но зачем же теперь, когда все закончилось благополучно, писать такие вещи? Вот что не укладывается в бедной моей голове, синьор Борис. Думаете, наши с вами недруги оставят это без внимания? — Честно говоря, я не склонен драматизировать положение. Мало ли что пишут в газетах? Тем более, статья не подписана. Слесарев не сомневался в том, что основной текст передали по радио прямо с «Оймякона», а красок уже подбавили журналисты. — В наших — да, в ваших — нет, — отрезал Туччи. — У вас государственная монополия. Или я ошибаюсь? Учтите также, что капитан Дугин запаздывает, как минимум, на трое суток. Боюсь, что потребуется дать объяснение, синьор Борис. А оно вот где, — он похлопал по карману с бумажником. Слесарев выжидательно смолчал. — Мне нравится, когда моряки оставляют линию и идут на помощь друзьям, — Энрико прижал руку к сердцу. — Мне чертовски нравится, если ради спасения человеческой жизни жертвуют всем, — он вновь доверительно ухватил Слесарева за пуговицу. — Даже бизнесом. Но я не одобряю идиотов, которые очертя голову кидаются в самое пекло. А ведь именно таким идиотом рисует ваша газета капитана Дугина! Это тем более досадно, что мы с Адриеной хорошо знаем его. Уверяю вас, он совсем не такой. Прежде чем рискнуть контрактом, синьор Константин хорошенько подумает. — Собственно, он это и доказал. Уверяю вас, что груз в полной сохранности. — Именно! — Туччи схватился за голову. — Зачем же писать такое? Ведь получается, что Дугина в самый последний момент остановил капитан Богданов. Вы понимаете? Выходит, что если бы радиограмма опоздала на пять минут, судно окончательно сошло бы с линии. Так? Клянусь честью, грузоотправителю это очень не понравится. И получателю тоже. — Что вы предлагаете? — Если бы «Лермонтов» привел на буксире поврежденное судно, об опоздании, уверен, и речи не было бы. Более того, лучшей рекламы для линии я бы и не пожелал… А так мне рисуется лишь одна возможность с честью выйти из создавшегося положения. Капитан Дугин должен точно в срок доставить груз, — синьор Энрико трагически закатил глаза. — Но, увы, это немыслимо. «Лермонтов» отличный корабль, но он не может летать по воздуху. — Будут у нас и такие контейнеровозы, — с улыбкой заверил Слесарев. — И очень скоро. — Тем более обидно, что сами себе дали подножку. Говорю это на правах партнера, синьор Борис. Перспективы-то великолепные! Японцы, которые до сих пор отправляли в порты Западной Европы через Ленинград, всерьез заинтересовались Одессой. А это значит, новые линии в Южную Европу, на Ближний Восток, в Африку. Уверен, что они сейчас особенно пристально следят за обстановкой. И это только естественно. Ведь ваш транссибирский контейнерный мост вне всякой конкуренции. — Что вы предлагаете? — вновь напрямую спросил Слесарев, понимая, что за эмоциональными восклицаниями Энрико должно скрываться нечто сугубо конкретное. — Пока ничего. Но пусть синьор Константин дерется за каждую минуту. Даже в создавшейся обстановке двое суток задержки лучше, чем трое. — Резервы у него очень ограничены. — И все-таки! — настоятельно притопнул Туччи. — Пусть поспешает. На рейде ему ждать не придется. Об этом я позабочусь. — Спасибо, — Слесарев оглянулся по сторонам. — Вы не знаете, где здесь телефон? Хочу передать радиограмму Дугину. — Не нужно, — удержал его Туччи. — Я уже связался с ним. И с синьором Боровиком тоже. — Вот уж действительно верный друг! — Борис Петрович облегченно вздохнул. Ему показалось, что у Туччи действительно есть определенный план, который тот предпочитал до поры до времени хранить в секрете. — Что требуется лично от меня? — Давайте вместе поужинаем? — Энрико многозначительно опустил веки. — Говорить о чем-то конкретном еще очень рано, тем более, что у нас будет время все обсудить. Любое наше действие должно быть сто раз обосновано. Мы живем под постоянным прицелом общественного мнения. — Дугин сделал все, что было в человеческих силах, — твердо сказал Слесарев. — Едва ли нужны какие-то добавочные обоснования или объяснения. От финансовой же ответственности за нарушение срока пароходство, естественно, не уклоняется. — Ладно, — досадливо отмахнулся Туччи. — Не будем забегать вперед. Так как же насчет ужина? — Договорились, — Слесарев увлек Энрико к маявшейся от скуки и нетерпения Адриене. — Но с одним условием: сегодня вы мои гости.СУДОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
Азорский максимум мотался возле Терсейры, как на привязи. «Лермонтов» успел пройти от Гибралтара до Сент-Джона, посетил Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор и теперь вновь по дуге большого круга поднялся к сороковым широтам, а сезонный антициклон едва переместился на сотню миль. Так и кружил волчком, противостоя разрушающим вихрям. Да еще силу прикапливал — давление в эпицентре успело повыситься на несколько миллибар. Кровеносные сосуды почуяли такую прибавку задолго до барометра. — Все равно как кувалдой по затылку, — подытожил свои впечатления Горелкин. А Шимановский вообще слег и даже к обеду не вышел. Выбросив с отчаяния Аурикины таблетки в иллюминатор, спасался от головной боли крепким чаем. Только Мирошниченко, старпом и бывалый матрос Сойкин не почувствовали никаких в себе перемен, когда в раскаленном сиянии вод обозначился бледно-фиолетовый горный профиль. И повеяло лавром с берега, а в борт, как обычно, ударила мертвая зыбь. Весь путь между островами Корву и Санта-Мария солнце хлестало отраженным светом и напруженный воздух наполнял ясно слышимый звон. Даже перед закатом, когда посуровела и померкла блистающая фольга, а береговые полосы на горизонте неразличимо слились с лиловыми облаками, он еще отдавался в ушах, навязчиво и беспокойно. Не каждый различал его с достаточной четкостью, а иные и вовсе не замечали, но это ничего не меняло. Человеческая кровь, полностью подобная по составу солей Мировому океану, чутко отзывалась на малейшие сдвиги и колебания. Это только кажется, что погода действует избирательно, отмечая тяжким гнетом пасынков и обходя любимцев. Она не ведает исключений. Никуда не деться человеку от окружающей вселенной: от звездного шепота, игры пятен на солнце, затаенных минут полнолуния, когда по океану пробегает самая высокая приливная волна. Про атмосферу и говорить нечего. Она, как учат в школе, давит на каждый квадратный сантиметр нашего тела. Не избежал ее тайных влияний и Анатолий Яковлевич Мирошниченко, славившийся абсолютным здоровьем и неизменно бодрым состоянием духа. — Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова, — воспроизвел он где-то вычитанную фразу, входя в радиорубку. — Как нынче со слышимостью, Михалыч? — Пока неважнецки, но после Санта-Марии, думаю, будет о’кей. Хочешь поговорить, Яковлевич?.. Очередь я еще с утра занял. — Запиши, на всякий случай, — потянулся в истоме Мирошниченко. — Телефон прежний. — Дежурная реплика, — подал голос Эдуард Владимирович. — Можно подумать, что тебе есть дело до тех островов! Он записался первым и, мучась благодушием, дремал на диванчике, заваленном рулонами радиогазеты и непременными электронными блоками, которые в свободные часы паял и перепаивал Шередко. Почему-то именно сейчас уподобление быстротечности жизни туманным Азорам показалось ему удивительно неуместным, хотя фраза была дежурной, и Анатолий Яковлевич произносил ее из рейса в рейс. — Мы как-то воду брали на Терсейре, — подал реплику Шередко. — От же чистая! Родниковая прямо. — Воду? — Эдуард Владимирович залился смешком. — Нашли о чем вспоминать. Когда мы на «Ватутине» ходили, четверть белого портвейна разбили на пирсе, вот это да, это был смех… Помнишь, Яковлевич? — Ну и что? — Мирошниченко вызывающе вскинул подбородок. — Если ты думаешь, что это тебя касается, так ты глубоко ошибаешься. Пока все разыгрывалось по привычной схеме: Эдик подначивал, Толик отстреливался. В любое другое время инцидент на том бы и закончился, потому что оба знали, когда следует остановиться. Первым занесло Эдуарда Владимировича, заклинившегося вдруг на злосчастном портвейне, о котором все давным-давно и думать забыли. — Видели? — он призвал начальника радиостанции в свидетели. — Я же ему ничего такого не сказал, а он сразу лезет в бутылку, — последовал взрыв смеха, — прямо синдром какой-то! — Да тише вы! — шепотом взъярился Василий Михайлович. — И так ничего не слыхать. Но стычку между вторым и третьим помощниками остановить было невозможно. Под неразборчивое клокотание передатчика они, правда, на пониженных тонах, продолжали вспыхнувшую из ничего перепалку. Остался такой неприятный осадок, что даже пропала охота говорить с домом. Было невдомек, что основного жару нагнал антициклон. Теоретически они превосходно во всем разбирались, могли порассуждать и про избыточное давление, и про статическое электричество или широтный сдвиг, но в простейшей житейской ситуации оказались на удивление безоружными. Особенно удивляться, впрочем, не приходилось. Потому что далеко не каждому дано распространить на себя абстрактное знание. Даже столь очевидную истину, что люди смертны. На следующий день, впрочем, они встретились, как ни в чем не бывало. Поглощенный погоней за ускользнувшим пульсом Одессы-радио, Шередко не заметил, как его внезапно рассорившиеся гости один за другим покинули радиорубку. Только когда звук усилился и размытые биениями слова стали звучать четче, обратил внимание на пустой диван. — От же бисовы деты! — осуждающе поморщился он и спешно переключил приемные антенны. Дождавшись окончания разговора — капризная дамочка с пассажирского теплохода ревниво отчитывала легкомысленного мужа на берегу, — втиснулся со своим: — Я — теплоход «Лермонтов»… — Повремените немного, — чуть хриплым, волнующим голосом попросила Одесса. — Еще номера будут, «Аджария»? — и когда выяснилось, что желающих больше нет, устало снизошла: — Ну давайте свои телефоны. Четко артикулируя цифры, Шередко продиктовал номера. — Девонька, — умильно попросил он, называя телефон Дугина. — Тут особенно постарайтесь, а то никак не может поговорить человек. — Хороший хоть человек? — вопреки обыкновению пошутила радиотелефонистка. — Очень! — с полной убежденностью ответил Василий Михайлович. — А вы, наверное, красивая: голос такой. — Все мы для вас красивые, пока вы в море, — откликнулась она, приоткрывая свое собственное, выстраданное, возможно, знание, и сразу уже совершенно другим тоном повелела: — Говорите! — Секундочку! — взвился Шередко и, отшвырнув наушники, кинулся к аппарату судовой АТС. — Константин Алексеевич? Давайте скоренько: жинка!НАВИГАЦИОННАЯ РУБКА
Пользуясь попутным ветром и хорошей парусностью, возникшей при полной загрузке контейнерами, теплоход делал шестнадцать и семь десятых узла, что давало ежесуточный отыгрыш почти в три часа. Худо-бедно, но когда на локаторе обозначился Гибралтарский пролив, «Лермонтов» нагнал верных восемь часов. — Еще три недельки такого хода, и мы вернем свое, — пошутил Дугин. После беседы с женой он третий день пребывал в невыразимо приятном состоянии полного довольства. Пусть он не узнал ничего нового, помимо того, что она уже сообщала в радиограммах, сам факт состоявшегося, наконец-то, разговора уже означал нечто очень важное. Он и сам не понимал, почему. Живые слова могли лгать точно так же, как и отстуканные на машинке. Умолчать о том, что хотелось сохранить в тайне, Лина тоже могла с неменьшей свободой. Логически все это было так. Но вопреки этой рассудочной логике Дугии верил взволнованному теплу ее торопливой, мило картавящей речи. То, о чем он думал иногда в трудные для себя дни, разом схлынуло с сердца, интенсивно зажившего вдруг удивительно свободной, отдельной от мозга жизнью. Это было так необыкновенно, что хотелось запеть, особенно теперь, когда нее трудности остались, в сущности, позади, а желанные Геркулесовы столпы — скала Гибралтара на севере и Джебель-Муса на юге — уже отражали радиолокационный сигнал. — Да, еще три недельки, — повторил он, довольно потирая руки. — Но, к сожалению, их у нас нет. Через двое суток изволь быть в Генуе. Об осложнениях, которые наверняка ждали в Италии, даже думать не хотелось, так было хорошо. Словно в далеком детстве в любимом уголке за софой, пронизанном солнечными лучами, где весело танцевали пылинки. В довершение блаженства Дугин превосходно, разом за все пережитое выспался и после душа чувствовал себя совсем молодым. Он бы еще спал, и с неменьшей охотой, но приближение к узкости обязывало находиться в рубке. Реальная скорость судна увеличивалась, потому что его уже подхватило поверхностное течение, мощным — сто метров — слоем вливавшееся в пролив. Особой роли это, конечно, не играло, но все равно было здорово нестись вот так, на дармовщинку, возвращая потерянное в начале пути. Локатор рисовал сужающуюся воронку Джибралтара — как с шиком настоящего оксфордца произнес Беляй, отвечая на запрос службы Ллойда, бдительно следящей со скалы за прохождением судов. Галактической россыпью обозначились встречные и попутные корабли, большие и малые светочи мерцающего огнями морского Бродвея, отделившего Африку от Европы. — Запросите видимость в Средиземном море, — сказал Дугин, проникаясь сложностью нарисованной локатором картины. — Боцмана на бак и кого-нибудь — на корму. Теплоход вошел в пролив, где его тут же подхватила качка, в ту самую минуту, когда часы радиостанции показывали красный сектор. Прослушивая эфир, Шередко поймал интенсивный сигнал голландского танкера «Зюдерзее», налетевшего вблизи берегов на неизвестный плавающий предмет. В результате столкновения у голландца заклинило руль и повредило винты. Первым на призыв о помощи откликнулся рудовоз «Эльба», приписанный к гамбургскому порту. Он шел почти порожняком и находился всего в сорока милях от обездвиженного танкера. Василий Михайлович тоже передал свои позывные и, сделав в журнале соответствующую запись, заглянул в навигационную рубку. В «лавке», как выражался Беляй, был полный кворум: старпом с Эдуардом работали за штурманской стойкой, Мирошниченко стоял у главного локатора, а сам капитан, как обычно, сидел на платформе стремянки, безмятежно глядя в синюю дымку, в которой чарующе переливались зеленые, белые и красные самоцветы сигнальных огней. — Что я говорил? — воскликнул Дугин, выслушав сообщение. — Голову даю на отсечение, что это та самая бочка! Она мне сразу не понравилась, — не скрывая торжества, он наставительно погрозил пальцем. — Будьте уверены: эфэргешники отхватят приличный приз за спасение. И поделом — за беспечность надо платить. — После столкновения плавающий предмет исчез, — с ноткой сомнения заметил Шередко. — Радируют, что пошарили прожектором все вокруг. — Еще бы не исчез, — уверенно объяснил капитан, — они ее протаранили и окончательно затопили. Совершенно очевидно, что этот «Зюдерзее» шел с дифферентом на корму. — Во океан загрязнили! — вздохнул Беляй. — Проходу нет. Чего только не плавает. За долгие годы дальних походов Дугин научился воспринимать жизнь в неразрывном единстве противоположных начал и поэтому не верил в случайности. По его глубокому убеждению, чем-то близкому к симпатической магии первобытных племен, все висящие на стенах ружья рано или поздно стреляли. Избежать на море неприятных неожиданностей можно было только одним способом: заранее предусмотреть любую мелочь. И хотя в идеале этот принцип был, разумеется, невыполним, соблюдать его по мере сил и возможностей следовало неукоснительно. В случае с бочкой он увидел еще одно подтверждение мирового баланса, простегнутого бесчисленными стежками самых неожиданных, но всегда срабатывающих связей. Ведь не случайно даже в проливе, которым, снизив ход до четырнадцати узлов, следовал «Лермонтов», поверхностному течению соответствовал придонный противоток, выносящий в Атлантику избыточную соль Средиземного моря.СЕУТА (РЕЙД. ТОПЛИВНЫЙ ПРИЧАЛ)
Огни Сеуты обозначились по правому борту уже во тьме глухой африканской ночи. Успокоительно помигивали маяки на обоих молах, рубиновыми жгучими точками были обозначены шпили старинных построек на горе Аго: форта и монастыря Сан-Антонио на северном склоне. Для «Лермонтова», как и для прочих советских судов, регулярно курсирующих через Гибралтар, сеутская бухта была чуть ли не родным домом. Здесь запасались углем или жидким топливом, брали воду, а шипчандлер Диас, почти сорок лет проживший в Советском Союзе и лишь после смерти каудильо Франко выехавший на родину, поставлял продовольствие с максимальной скидкой. Это у него перед выходом в Атлантику старпом Беляй закупил говяжьи туши, картофель и сливочное масло, получив в качестве премии несколько банок маринованных артишоков, ящик пива и упоительные оливки, начиненные миндалем и красным перцем. На невидимой во мраке горе вспыхнула и колюче замигала голубоватая, как при электросварке, звезда: форт запрашивал по международному коду сведения о судне. Мирошниченко зажег фонарь и подвижными жалюзи просигналил с площадки ответ. Контейнеровоз застопорил машины и в ожидании лоцмана закачался на волнах, совершенно открытого с норда рейда. Отсюда была видна вся гавань от мыса Пунта-Пермеха до Санта-Каталины. Несмотря на позднее время, бухту во всех направлениях перерезали освещенные паромы, а на горе полыхали сполохи сварки. Связанный регулярным сообщением с Гибралтаром, Альхесерасом, Мальтой, Мелильей, город переживал строительный бум. Облитый мертвенным лунным воском, четко вырисовывался каркас первого его небоскреба в центральной части возле крытого рынка, похожего с моря на античный цирк. Подобно фантастическим грибам повсюду выросли серебристые цилиндры и сферы суперсовременных хранилищ мазута и дизельного топлива. Маленький город, где давным-давно причудливо перемешались испанская старина и мавританское средневековье, совершенно нежданно обрел характерный акцент индустриального века. Каким загадочным и манящим казался он после трансатлантического перехода! Окаймленная фонарным ожерельем, призывно переливалась в ночи дуга набережной, повторяясь в зеркале акватории, надежно защищенная молами. Словно полупрозрачная мерцающая линза парила в невесомости. Ночь скрыла не только лесистую гору с ее древними руинами, гротами и расщелинами, но и многочисленные узкие косы, далеко врезающиеся в залив, и скалы, и острые рифы, над которыми постоянно бушует вспененный накат. Показав белую вспышку, приблизился буксир с белым и красным огнями на топе мачты. Знакомый толстяк пайлот[22] в нейлоновой зюйдвестке и колпачке с помпоном приветливо помахал рукой. — Эдуард Владимирович, — напомнил мастер. Второй помощник побежал встречать лоцмана. Придерживая портативную рацию на груди, испанец ловко вскарабкался по трапу и, не принимая предупредительно протянутой руки, спрыгнул на палубу. Все разыгрывалось как по нотам. Не успел лоцман, почтительно сопровождаемый Эдуардом, подняться в рубку, как подоспела принаряженная — в передничке и с наколкой — Лариса. Сервировав на угловом с подсветкой столе кофе, она сделала книксен и мелкими шажочками удалилась, эдакая невинная крошка из хорошего дома. Услышав, как шуршат ее туго натянутые чулки, испанец плотоядно причмокнул и должным образом округлил глаза. — Will you take coffee with milk, sir? — Дугин собственноручно наполнил чашку. — Biscuit, sugar?[23] — Thanks, — равнодушно поблагодарил лоцман, припомнив, возможно, золотые времена, когда на русских судах первым делом наливали стакан водки. Наклонив голову, он дал команду по рации на буксир, где матрос, виртуозно словив конец, положил два шлага на кнехт. Буксир начал отваливать. Дугин возвратился к себе на стремянку, предоставив судно в полное распоряжение лоцмана. Пока пересекали опасную и неспокойную даже при самой благоприятной погоде бухту, Беляй связался по четырнадцатому диапазону с агентом. — Просьба поставить сразу на буксировку, — по-английски сказал он. — Крайне спешно. — Причал как раз свободен, но за ночную работу придется платить овертайм. — О’кей, — ответил Вадим Васильевич, поймав кивок мастера. — Воду брать будете? — Да, техническую и питьевую. Как только теплоход укрылся за мол разделенной надвое бухты, волна стихла, словно залитая маслом. Взрезав затянутую мазутной пленкой гладь, буксир повернул, туго натягивая канат, к западному молу, куда от береговой нефтебазы шли черные нитки трубопроводов. Привалившись к каменным стенам амбаров, дожидались докеры и полицейский в широкой фуражке, а вдоль бетонированного причала уже неслась, светя фарами, «Вольво» шипчандлера Диаса. — Вниманию команды! — объявил старпом. — Прекратить курение. В воду окурков не бросать. До конца стоянки огня не зажигать. С началом швартовки лоцман задвинул телескопическую антенну и залпом выпил остывший кофе. — Porcelain?[24] — поинтересовался он, разглядывая донышко с маркой Ленинградского завода и клеймом «2 сорт». Капитан понимающе улыбнулся, разрешил взять чашку в качестве сувенира и подписал счет на пятьдесят долларов. Агента, который вместе с властями поднялся на борт, Константин Алексеевич принял в своей каюте. — Имею срочный телекс для вас, — на ломаном русском языке объявил дон Фернандес, агент, раскрывая солидный адвокатский портфель с серебряной монограммой. — От Слесарева и Туччи. Внимательно проглядев сообщение, где ему предлагалось сначала зайти в Неаполь, а уж потом в Геную и Ливорно, капитан заботливо наполнил рюмки гостей. — Ну, как у нас говорят, со свиданьицем, — провозгласил он, обмениваясь с Беляем недоуменным взглядом. — В чем дело, Константин Алексеевич? — улучив момент, озабоченно спросил старпом. — А черт его знает, — шепнул Дугин. — Я же всегда говорил: на этом пароходе не соскучишься, — он встал, давая понять, что капитанские обязанности заставляют его прервать приятную встречу. — Проследите за перекачкой, Эдуард Владимирович, — кивнул второму помощнику, заслышав, что заработал насос. — В два часа снимаемся.НЕАПОЛИТАНСКИЙ РЕЙД
Прыгая по барабану брашпиля и стопору, стремительно полетела цепь. Всплеснув нечистую пену, гулко плюхнулся якорь, и ржавый ореол сыпанувшей из клюза пыли мельком обозначился на пузырях. «Лермонтов» встал на неаполитанском рейде в воскресенье после полудня. Не горя желанием платить высокий овертайм за работы в выходной день, Дугин решил подождать до понедельника. Спешить было некуда, потому что генуэзский порт был временно закрыт. В ночь с пятницы на субботу в Генуэзском заливе столкнулись авианосец «Саратога» и старый танкер империи «Роял датч шелл», плавающий, по обыкновению, под либерийским флагом. Стратегический авианосец шестого флота прошел мимо, даже не замедлив хода, а танкер, расколовшийся на две половины, изрыгнул в море сто тысяч баррелей нефти. Вязкий маслянистый поток все еще продолжил изливаться из проржавелых искореженных танков, загрязняя обширную акваторию. Работа порта была совершенно парализована. Пока суда-чистильщики вели неравную борьбу с нефтяной пленкой, на рейдах скоплялись все новые и новые пароходы. Судя по всему, очистные работы первой очереди могли закончиться никак не раньше вторника. — Синьор капитан совершенно прав, — сказал прибывший на катере агент. — Незачем бросать деньги на ветер… С одной стороны… — он выжидательно умолк. Этот лысеющий молодой человек с подвижным и до черноты загоревшим лицом придерживался принципа не спорить с клиентом и контрдоводы приходилось вытаскивать из него клещами. — А с другой? — поинтересовался Дугин, осведомленный насчет особенности неаполитанца. — Вам не придется дожидаться на рейде, — ушел от прямого ответа агент. — Синьор Туччи договорился, что вас поставят к причалу. Строго между нами, это не будет стоить ни одной лишней лиры. Можете стоять сколько угодно, хоть до вторника, а в среду, бог даст, будете в Генуе. — Грация, — поблагодарил Дугин, — синьор Туччи очень любезен. — Мы все рады, капитан, что вам удалось добиться победы, — агент пальцами показал «V». — Грузополучатель тоже весьма доволен. Смею полагать, что за дальнейшими контрактами дело не станет. Можете считать, что вы лично завоевали линию для своего флага. — Не будем преувеличивать, — запротестовал Дугин. — Нам способствовали некоторые обстоятельства. Синьор Туччи тоже сыграл заметную роль, вовремя переориентировав на Неаполь. Это была превосходная мысль. — Фирма уже была готова поставить ваши контейнеры на шасси… Но теперь, сами понимаете, этого не потребуется. К сожалению, должен сказать. — Я вас вполне понимаю, — сочувственно кивнул Дугин. — Да, синьор, да. Эти гориллы из НАТО совершенно бесцеремонны. Больше всего мне жаль генуэзские пляжи. — Полностью разделяю ваши чувства. — Но как бы там ни было, вы здесь, а не там, и поскольку капитан не может отвечать за положение в порту назначения… Опять же между нами, синьор Туччи сделал значительно больше, чем вы думаете, — агент достал плотную пачку газет, — почитайте на досуге, что пишут о «Лермонтове» и его капитане. Великолепное паблисити… Как вы, наверное, догадываетесь, оно возникло не по мановению волшебной палочки. Синьор Туччи… — Жаль, что не читаю по-итальянски, — Дугин небрежно перелистал газеты, не обратив внимания на вложенную в «Паэзе сера» вырезку «Подвиг в океане». — Но это ничуть не уменьшает мою горячую благодарность… У вас все, синьор Гарди? — Пожалуй, что так, — итальянец с сомнением наморщил лоб. — Да, деньги! — спохватился он, доставая из портфеля конверт с коричневыми двадцатипятитысячными купюрами. — Как вы просили. — Примите, — кивнул капитан третьему помощнику. Пока Мирошниченко пересчитывал потрепанные банкноты с портретом Микеланджело, капитан раскупорил несколько банок пива. — Прошу, — пододвинул агенту высокий бокал. — Может, пообедаете с нами? — Борщ? — просиял Гарди. — Это великолепно. — По воскресеньям всегда борщ, — Дугин не сумел скрыть довольную улыбку. — У вас сегодня, кажется какой-то праздник? — День тела господня, — подтвердил итальянец. — Магазины закрыты, Помпеи закрыты, только на Везувий можно подняться, да и то пешком, потому что фуникулер тоже не работает… Под разгрузку, значит, завтра? — А вы советуете сегодня? — вкрадчиво спросил Дугин, вызывая Гарди на откровенность. — Будь я на месте синьора… — он продолжил объяснение жестами, об истинном смысле которых капитан мог лишь догадываться. — Вы думаете? — Дугин сделал вид, что все понял. — Несомненно, — проникновенно вздохнул агент. — Сегодня большой праздник, а завтра профсоюз свободно может объявить забастовку. Ведь наши докеры вновь требуют повышения заработной платы. Что вы станете делать тогда? — Ничего, — Константин Алексеевич развел руками. — Буду ждать. Вы же сами сказали, что капитан не отвечает за порт? — он доверительно наклонился к Гарди. — Тем более, что, как коммунист, я солидарен с борьбой трудящихся за свои права. — Простойные сутки обойдутся вам дороже, чем овертайм. — Бог с ними, с тоннажесутками и судосутками, — махнул рукой Дугин. — Все равно мне придется идти на Геную. Так какая разница, где ждать? Свой долг перед владельцами груза мы выполнили? Выполнили… Значит, и о себе позаботиться не грех. — О да, капитан! — поспешно сдался агент. — Незачем выбрасывать деньги на ветер.Пока буксир тащил теплоход мимо бесконечных ковшей[25], где в подернутой нефтью недвижной воде дремали суда всех флагов, распространилась весть о том, что привезли деньги и готовится увольнение на берег. Вскоре не осталось на борту человека, которого бы не затронула поднявшаяся суматоха, наполненная радостными предчувствиями и скрытым нетерпением. Женщины спешно переодевались в лучшие платья, механики и мотористы яростно отдирали пемзой въевшееся в поры машинное масло, а артельщик Осипенко, отгладив на брюках безупречную стрелку, помогал прихорашиваться красавцу боцману. Даже Иван Гордеевич принял участие в этом суетном мельтешении. Еще не получив официального указания, начал колдовать со списками, выделяя группы и смены. Он и сам не мог дождаться, когда ступит на твердую землю. Как ни привыкай к зыбкой палубе, а после шестнадцати суток безумно хочется передышки, хотя бы короткой. Недаром говорят, что море прекрасно, только уж больно в нем много воды. Надев вышитый джинсовый костюмчик с фирменной этикеткой Ли, Тоня вышла на палубу полюбоваться раскрывшейся панорамой. Воспетый в песнях город с первого взгляда разочаровывал. Вместо ярко-синего открыточного неба над ним висело тусклое, приглушающее краски марево. Двугорбый Везувий, откуда тянуло чуть уловимой сладостью расцветшего дрока, едва проглядывал сквозь эту знойную дымку, а обращенные к морю фасады обшарпанных старых домов выглядели на редкость невыразительно. Не слишком улучшали общую картину и многочисленные палаццо с колоннадой и портиками. Равно как и средневековые замки, вроде окруженного грязно-желтыми башнями Кастель-дель-Ово. Они совершенно терялись среди новостроек. Шахматные кварталы одноликих, белых по преимуществу, корпусов напрочь уничтожали всякое своеобразие. Только характерный абрис гор и полукружие залива указывали на географическую принадлежность. Тоне вспомнилась телекомедия «С легким паром», где герой, пребывая «под газом», спутал московские Черемушки с ленинградскими. В Неаполе ему пришлось бы не легче. Почти по всему побережью строгими бездушными шпалерами выстроились точно такие же дома с балконами и лоджиями. Лишь западную часть холма Позиллипо, где в темной хвое бесчисленных пиний утопали белоснежные виллы богачей, Тоня нашла соответствующей усвоенным представлениям (кинофильмы «Неаполь — город миллионеров» и «Вернись в Сорренто»). Контейнерный терминал, в отличие от Генуи и Нью-Йорка, отстоял сравнительно недалеко, но «Лермонтову» все же пришлось пересечь всю до последнего предела замусоренную акваторию, прежде чем показались характерные П-образные фермы кранов. Опять это было где-то на задворках, за ржавыми стапелями заброшенной верфи и складом горюче-смазочных материалов на искусственном острове. В ковше, куда направили контейнеровоз, у двух причалов кисли на приколе итальянские пароходы-близнецы «Лациум» и «Капулия». Их зеленые борта создавали иллюзию, что вода цветет, как в пруду. Бесчисленными медузами плавали на ней вездесущие полиэтиленовые мешочки. Когда буксир подошел к свободному пирсу, один за другим стали появляться малолитражные «фиаты» и мотороллеры. — Команде аврал, — объявил старпом с верхней палубы, — занять места по швартовому расписанию. Неаполитанские докеры, чье время, очевидно, было расписано по минутам, подоспели точно к швартовке. Одетые по случаю праздника в яркие, модного покроя костюмы, они неторопливо вылезали из машин и натягивали кожаные перчатки. — Шпринг, прижимные, продольные, — скомандовал капитан, удерживая теплоход левым подруливающим. Через две минуты бело-голубые полипропиленовые гаши лежали на кнехтах, а на баке и на корме заработали шпилевые машины, выбирая канат. Судно неподвижно замерло как раз возле крана. Докеры расселись по своим малолитражкам и укатили в город. Высокая стена, составленная из контейнеров концерна «Си лэнд», полностью отгораживала от легкого ветерка, веявшего с зеленых высот Позиллипо. Жарко дышало асфальтом и раскаленным железом. Был самый разгар сиесты, когда в южных странах замирает любая деятельность. «Лермонтов» остался с глазу на глаз с обезлюдевшим, истерзанным солнцем портом, где беспощадно блестели стекла, отгороженные пирсами ковши и слюдинки в горах песка. Даже власти не появлялись. Только одинокий старичок в черной кепке, удивший серебристо-сиреневых морских карасей на куски помидора, несколько оживлял этот неподвижный ландшафт. С моря, где на базе НАТО вырисовывались серые ножи подлодок, доносились бравурные аккорды, а со стороны проходной, закрытой лабиринтом пакгаузов и контейнеров, гудели машины и наползала удушливая струя подгоревшего оливкового масла. — Не везет, — как ни в чем не бывало произнес Загораш, останавливаясь у Тони за спиной. — Терпеть не могу приходить в праздник. — А я люблю, когда людям весело, — вздрогнув, сказала она наперекор. — Не вижу что-то особенного веселья. Впрочем, ночью, наверное, будет фейерверк, карнавал… Не рано ли вырядились, синьорита? — Ничего не вырядилась, — повела плечом Тоня. — Просто в город иду. — Сегодня увольнения не будет. Завтра в кинишко заглянем. Хочешь? — Не знаю, — через силу промолвила она упавшим голосом. — Ничего я не знаю, — и побрела к трапу.
БЕРЕГ (НЕАПОЛЬ)
В неприметном с фасада ресторане «Корона», приютившемся в глухом переулке, струнный квартет наигрывал надрывные неаполитанские песни. Жмурясь в соловьиной истоме под рокот гитар, пожилой тенор с солидным брюшком так сладко стонал о любви безграничной, как море, что озноб пробегал по оголенным плечам внимавших ему матрон. Гудело пламя спиртовых горелок на шведском столе, роскошно декорированном ананасами и фрутто ди маре, и отблеск свечей подрагивал в темной влаге зрачков. Сентиментальный Горелкин, хоть и не понимал по-итальянски, пустил украдкой слезу. Вспомнил предвоенную весну, себя, свежеиспеченного лейтенантика, прощания и встречи на Французском — тогда еще — незабвенном бульваре. Потягивая терпкое, чуть горьковатой «корбо», невесело думал о беспутном сынке, который пришел из плавания по дальневосточным морям и окунулся в разгул, о дачке в Затоне, где в прошлогоднюю засуху сгорели все яблони и абрикосы. Зато Константин Алексеевич был оживлен на диво. Шутливо пикируясь с Энрико Туччи, подчеркнуто ухаживал за Адриеной, подкладывая ей то ложку плоских макарон лингуине с помидорами и крохотными ракушками туффо, то шарик нежнейшего овечьего сыра. Неожиданно расковавшись не столько от белого вина, сколько от старомодного уюта и непреходящей прелести блиставшей за окнами ночи, сыпал шутками, перемежая английскую речь внезапно всплывавшими итальянскими фразами. Когда же у столика остановилась хорошенькая цветочница, мастер по неожиданному наитию выбрал именно то, что нужно: изысканно скромный букетик фиалок, и целуя Адриенину руку, разразился высокопарной тирадой о нерушимости морской дружбы, суровой нежности и прочей романтической чепухе, которую высмеивал в обычное время. Польщенная синьора Туччи отвечала тщательно выстроенными русскими фразами, а Энрико делился с Горелкиным московскими впечатлениями, совершенно забыв про языковый барьер. Иван Гордеевич согласно кивал, изредка роняя немецкие слова из позабытого фронтового запаса. О делах заговорили, когда певец ушел на заслуженный отдых и в зале зажгли свет. Расторопные официанты задули свечи на столиках, переменили тарелки и приборы. Враз отрезвев, Дугин с некоторым удивлением взглянул на развешанные по стенам волынки и деревенские горшки. Впервые за долгое время ему удалось отключиться от обыденных забот и сосущей тоски по дому. — Я читал, что у вас в стране тоже начали выпуск контейнеров? — Туччи, скрупулезно следивший за мировой прессой, не доверял газетчикам и при каждом удобном случае старался перепроверить информацию. — А что мы, хуже других? — с непобедимой гордостью одессита ответил Дугин. — Скоро и у нас будут свои двадцатитонные. — За успех контейнерного флота! — провозгласил Энрико, подымая бокал. — Как насчет маленькой рюмочки водки? — поинтересовался он, отмеряя пальцами коротенький промежуток. — Под пармезанский сыр? — Не надо водки, — поморщился капитан. — Все и так было отменно, — он украдкой расстегнул чуточку тесноватый белый пиджак. — Да и жарковато. — Жарковато? — Туччи сделал большие глаза. — Это у нас? Что бы вы сказали про Геную. Вот там действительно жарко! Не успели очистить порт от нефти, как профсоюз объявил забастовку. — Синьора Дугина это не касается, — возразила Адриена. — Для контейнерных судов сделано исключение. — Ах, да, конечно… Итак, за успех? — продолжал Туччи, поднимая бокал. — В другой раз. — Константин Алексеевич перевел разговор на шутку. — Скажите откровенно, Энрико, это не вы устроили забастовку в Генуе? — О, если бы у меня была хоть какая-нибудь власть над профсоюзами! — с полной искренностью воскликнул Туччи. — Но увы, я всего лишь бедный миллионер. — Тем не менее сумели выбить преимущества для контейнерного флота. — Это не я, — вздохнул Туччи. — Просто вступило в силу международное соглашение. Я лишь приспосабливаюсь к обстоятельствам. — Ведь все-таки он миллионер, — смеясь, объяснила Адриена. — От стивидора я слышал, что в Ливорно вас ожидает груз на Стамбул и Пирей? — спросил Туччи, когда смолк смех. — Да, я получил радиограмму, — подтвердил Дугин. — Но, честно говоря, мне не очень хочется брать. Обстановку в Стамбуле, где только один кран, вы знаете, а в Пирее можно проторчать трое суток на рейде. Вот если бы разведать… — Загляните завтра к нам на виа Америго Веспуччи. Дадим запрос по телексу. — Если будет гарантия, что поставят к причалу хотя бы через сутки, я зайду в Пирей, — кивнул капитан, — а на Стамбул всего два контейнера. Нет смысла. Свалю в Ильичевске, кто-нибудь завезет. — Вполне разумно, — одобрил Туччи. — А как насчет личных планов, капитан? Не желаете съездить в Помпеи? Машина к вашим услугам. — Спасибо, но я уже видел. Вот если бы ребят моих свозить, — капитан вопросительно глянул на собеседника. — Электрик наш мечтает, старпом… — Сделайте одолжение — в машине четыре свободных места. Ровно в десять она будет ожидать у трапа. — Придете проводить нас? — спросил Дугин, когда подошла пора расстаться. — Едва ли, — Туччи показал, что дел по горло. — Встречаю клиентов из Греции… Но вы же скоро обратно? — Через пару неделек полагаем пойти в новый рейс… Что привезти из Союза? — Удачу, — улыбнулся Энрико. — Электрический самовар! — захлопав в ладоши, по-русски выпалила Адриена. — Есть такое дело! — оживился Иван Гордеевич, обрадованный случаю вставить слово.БЕРЕГ (ТЕРМИНАЛ)
Разгрузка началась точно в шесть утра. Пока Эдуард Владимирович показывал стивидору схему расстановки груза в трюмах, крановщик начал снимать верхний ряд, со снайперской точностью опуская раму перегружателя на очередной контейнер. Едва крышку обхватывали чуткие механические лапы, как портальная тележка начинала поднимать груз, одновременно перемещая его в сторону. Дойдя до назначенной точки, контейнер опускался прямо на шасси очередного автоприцепа, подогнанного по знаку тальмана к желтой черте. Кроме Эдика и стивидора на причале не было видно ни одного человека, потому что шоферы сидели в кабинах, а тальман — в застекленной будке на дальнем конце площадки. Сверху размеченный цветными стрелами и линиями бетонный овал напоминал стадион, на котором состязались лишенные воображения роботы, до того однообразно и неуклонно смыкали прицепы за кругом круг. Короткая остановка под тележкой, когда шасси превращалось в серебристый фургон, лишь подчеркивало механический характер происходящего, его конвейерную суть. Только на терминале «Мохер» в Нью-Йорке контейнеровозы обрабатывали с такой же быстротой. Да еще в Канаде, где на каждый контейнер отводилось две минуты. Когда все укрепленные на палубе блоки перекочевали на другой конец причала, где из них сам собой составился предельно компактный склад, кран легко сдвинул и подхватил многотонную плиту, добираясь до ящиков, скрытых в трюмах. На их место должны были лечь контейнеры, адресованные в Одессу, а также балтийские порты, куда они прибудут уже посуху на железнодорожных каретках. По случаю увольнения позавтракали на час раньше обычного. Первую группу, куда вошли Ванда, Лариса, Мирошниченко и еще семь человек, повел самолично Иван Гордеевич. Неаполитанский базар, растекавшийся по бесчисленным улочкам возле рыбного рынка, раскрывал свои лотки с первыми лучами солнца. Тоня, которой назначено было идти в город вместе с Аурикой, Сойкиным и Загорашем во вторую очередь, от нечего делать заглянула в санчасть. — Проведать пришла? — встретил ее настороженным вопросом Геня. — Жалеешь, небось? Напрасно. Через неделю начну бегать. — И бегай себе на здоровье, — примирительно улыбнулась она, присаживаясь на табуретку. — Что читаешь? — Энциклопедию на «Н», про Неаполь, — он сел выше, подоткнув под спину подушку. — Собор Сан-Дженаро, тринадцатый век. Когда туда шли, была ночь, теперь вот опять не увижу. — В следующий раз наверстаешь. — Ты тоже пойдешь в рейс? — спросил он с затаенной надеждой. — Не знаю еще, не решила, — ответила она неохотно, хотя все про себя обдумала и не подала, как собиралась, заявления о том, что хочет остаться на берегу. — В пятнадцать часов пойдем в город. Тебе что-нибудь купить? — Не нужно мне всего этого, — он отрицательно покачал головой. — Но если можешь, останься еще на рейс. Ладно? — Чокнутый ты какой-то, Генька, — Тоня отвернулась к иллюминатору, где один за другим проплывали золотистые в утреннем солнце контейнеры и небо наливалось лазурным лаком туристских проспектов. — Реальной жизни понимать не желаешь. Что тебе с того, есть я на пароходе или нет меня? — спросила с неожиданной резкостью. — В Одессе вон сколько невест подрастает… Поищи себе кого помоложе. — Ты чего? — робко спросил он, с болью видя, как затряслись ее плечи. Ничего не ответив, она сорвалась с места и выбежала за дверь. Да и что можно было ответить? Просто стало нестерпимо чего-то жаль, и сами собой потекли слезы.ЛИГУРИЙСКОЕ МОРЕ
Расстояние в триста тридцать четыре мили, отделяющее Неаполь от Генуи, Дугин, рассчитывал покрыть менее чем за двадцать часов. После замены прокладок и небольшой профилактики дизели работали бодрее и теплоход развивал скорость в шестнадцать с половиной узлов. Шли при полном безветрии и абсолютном штиле, не теряя из виду западное побережье, подернутое пыльной, приглушающей краски и ночные огни желтой дымкой. По правому борту уже тянулись однообразные зеленовато-коричневые склоны Лигурийских Аппенин, когда в безмятежно солнечно-бирюзовом просторе проскользнула унылой радугой маслянистая пленка. За истекшие сутки отдельные нефтяные пятна распространились далеко к югу от места катастрофы и на северо-западе достигли Ниццы. До открытия купального сезона оставались считанные недели, и весь эфир поэтому был забит взволнованными репортажами береговых станций, не на шутку обеспокоенных судьбой прославленных пляжей. — Вот оно как с окружающей средой, — посетовал Загораш, наклоняясь над бегущей от бульба пеной. — Слышите запашок, Константин Алексеевич? Даже сюда долетает. Они нежились на верхней, солнечной палубе, разомлев от весеннего тепла и непривычного досуга. — Керосин, — Дугин приподнялся, мельком глянул на взбаламученную воду, поигрывающую всеми цветами побежалости, словно отпущенный стальной лист. — Тут все до капельки в цистерны собираешь, чтобы, не дай бог, в воду не попало, а они — вот, полюбуйтесь, пожалуйста. Года не прошло, как собиралась конференция средиземноморских держав. Помните? — Вымрет море, пока договорятся, — надвинув на глаза жокейскую шапочку с зеленым светофильтром, капитан опустился на решетчатую ступеньку в тени трубы. — Отключимся минуток на двадцать пять — тридцать? — предложил он. — Мне назад надо, — сказал Загораш, не трогаясь с места. — Хочу еще разок масло с цилиндров проверить. Пока стругаем, что надо, — он бережно прикоснулся к горячей стене вентиляционного колодца. — Так и держите, — пробормотал Дугин, впадая в сонное забытье. Но вздремнуть не пришлось. Едва стармех сбежал по трапу к своим не знающим успокоения «духам», снизу, с правой открытой площадки, окликнул стоявший на вахте Беляй. — Вы где, Константин Алексеевич? — в голосе его явственно слышались озорные нотки. — Ну? — отозвался капитан, не размыкая глаз. — Слева по курсу «Оймякон»! — радостно выпалил старпом. — Надо полагать, тоже в Геную следует. Вот так встреча! — Вас это удивляет? — после непродолжительного молчания откликнулся Дугин. (Сон как рукой сняло.) Схватив рубашку с короткими рукавами, он натянул ее на чуть порозовевшие плечи. — Как идет? — поинтересовался, сбегая по трапу. — Не поймешь. Далековато еще. — Все закономерно. Можно сказать, жестко детерминировано, — Дугин подстроил «БМБ-100» — бинокуляр, дающий стократное увеличение, и приник к затеняющим раструбам. — Надо полагать, что в Генуе их уже новый винт дожидается. За кривизной моря «Оймякон» был виден не полностью. Лишь характерные очертания надстройки и грузовых стрел на длинной и плоской, как у баржи, палубе свидетельствовали о том, что Беляй не ошибся. Дистанцию в восемьсот сорок три мили от Гибралтара до Генуи «Оймякон» покрыл за восемьдесят четыре часа. Вместе с остановкой в Сеуте, где сухогруз пополнил запас дизельного топлива, это составило примерно четверо суток. То есть именно тот срок, который понадобился «Лермонтову» на стоянку в Неаполе и последующий переход в Лигурийское море. Рандеву, таким образом, было действительно предопределено и жестко детерминировано разницей — шесть и две десятых узла — в скоростях обоих судов.БЕРЕГ (ГЕНУЯ)
Купив в местном универмаге дорогую купальную шапочку с лепестками под цвет жемчужин, капитан завернул на рыбный рынок, где к нему примкнули боцман и электрик Паша. — Никак себе отопление не могу сыскать для заднего стекла, — пожаловался Снурков. — Может, знаете где, Константин Алексеевич? — В Нью-Йорке надо было соображать. Здесь в два раза дороже. — Так времени ж всего ничего, — пожаловался боцман. — Хорошо хоть магнитофон сумел для машины купить с лаутспикерами. От же шикарный! — Заглянем к югославу, вдруг у него есть, — сказал Дугин, замерев возле обезглавленной туши гигантского тунца, вываленной прямо на мостовую и обложенной кусками тающего льда. — Вот это да! Такую взять, до самой Одессы будет, чего жарить. Высохший старик с искалеченными морем пальцами безучастно отгонял от рыбы назойливых мух. — Может, приобрести? — с надеждой спросил Паша, не спуская зачарованного взгляда с крупной, как персики, чешуи, играющей радужными переливами. — Наверняка уступит задешево. Одного льду на такую нужно не меньше центнера, не напасешься. — У нас все холодильники окунем да кальмаром забиты, — нетерпеливо возразил боцман. — Перебьемся. К югославу пошли. Но как и заядлый рыболов Паша, Дугин не мог сразу оторваться от щедрых даров Средиземного моря. Только всласть налюбовавшись корзинами разноцветной рыбы, холмами живых ракушек и осьминогами, уныло сидящими на дне эмалированных чанов, Константин Алексеевич дал увести себя в узкую, сплошь занавешенную бельем щель, прямиком ведущую в припортовой квартал. Поминутно останавливаясь возле бочек, в которых извивались угри да стыли обсыпанные ледяной крошкой креветки, он приобрел под конец лукошко со свежей клубникой. В лавке, которую держал босняк, специализировавшийся исключительно на торговле с русскими моряками, Дугина встретили как родного. По знаку хозяина мальчик откупорил бутылки с ледяной кока-колой. Пока боцман рассматривал серебряные полоски для заднего стекла, а Паша лениво копался в залежах складных зонтиков и кримплина, босняк успел продемонстрировать все свои сокровища: чайные сервизы из закаленного стекла, платья и свитера узорной вязки, водолазки с капюшонами, бурно входившие в моду на Дерибасовской. — Мы еще задержимся в городе, — объяснил Дугин по завершении негоции, поглаживая присуслившегося к ногам щенка. — Может, отправить покупки на пароход? — Через час все будет на борту, капитан, — с готовностью пообещал радушный хозяин. — Собачку не возьмете? В виде премии? — Собачку? — Дугин критически оглядел щенка, самозабвенно покусывающего ласкающую его руку. — А ничего, веселая… Как раз под пару зеленой вороне. Пришлите и собачку, — бросил он в общую груду покупок маленький пакет с шапочкой. — Будет сделано, капитан! — отрапортовал осчастливленный югослав, прикладывая два пальца к засаленной феске. Паша многозначительно подмигнул боцману. Он ходил с Дугиным еще с приемки и знал, что капитан соглашался взять на борт животное, когда считал рейс оконченным. Собственно, так оно и было теперь. В полном соответствии с девизом контейнерного флота «From door to door», груз был доставлен от двери отправителя до двери получателя. — Подобрел, — шепнул Снурков. — А он всегда добрый, когда все нормально. Матерый мужик, — заново осваиваясь с твердой землей, Паша разнеженно прищурился на восходящее к зениту солнце. — У нас вообще народ славный, так что тебе повезло. Решив взять ласкового приблудного песика, капитан еще не задумывался о следующем рейсе, хотя и почувствовал на мгновение неострый наплыв беспричинной грусти.Средиземное море — Северная Атлантика
Последние комментарии
1 час 47 минут назад
2 часов 1 минута назад
3 часов 9 минут назад
14 часов 27 минут назад
14 часов 44 минут назад
15 часов 9 минут назад