Три весны [Анатолий Иванович Чмыхало] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Анатолий Чмыхало ТРИ ВЕСНЫ Роман
Сыну Борису
Весна первая

1
Ребят вынесло к Зеленому базару. Стояла ранняя весна. Теплый ветер гонял по улицам пьяные запахи талой земли. А над рогатками карагачей и пирамидальных тополей искрилось солнце, и сонные верблюды подставляли ему клочкастые бока. Из чайханы густо тянуло чадом. Чайхана гудела многоголосо, звенела пиалами. Ванек не утерпел, приподнялся на цыпочках и через решетчатое окно увидел бородатых смуглых людей в тюбетейках и пестрых халатах. И с нарочитым равнодушием шмыгнул вздернутым носом: — Чай дуют. — Шашлыки жрут, — сказал Алеша, с трудом глотая вязкую слюну. Они вышли к торговым рядам. У кулей с картошкой, у пестрых мешочков с красным перцем и семенами скучали люди. Покупателей почти не было. Это ведь не осень, когда со всей округи свозят на базар арбузы, яблоки, дыни. Ребята неторопливо шли вдоль рядов, провожаемые ленивыми взглядами торговок. Ребятам было наплевать и на перец, и на арбузные семечки. Алеша и Ванек завернули на базар случайно, от нечего делать. Просто он оказался у них на пути. Дойдя до конца торговых рядов, повернули к выходу. И тут столкнулись с Федей, кругленьким, смуглым учителем Федором Ипатьевичем Гладышевым. Он удивленно и часто захлопал ресницами. Торжествующе усмехнулся и цепко ухватил Ванька за рукав спортивной куртки: — Плануете? Федор Ипатьевич был рад такой неожиданной встрече. Будто ребята очень уж дороги его сердцу! Будто не видел он их много-много дней. А Ванек не радовался Феде. Ванек норовил улизнуть и тянул виновато: — Что вы, Федор Ипатьевич… — Плануете, — повышая свой тонкий, певучий голос, настаивал историк. — Я угадал. Плановать — значило не ходить на уроки. Кто-то когда-то пустил в оборот это словцо, и оно прижилось в школе. Федя не спеша достал дешевую папироску, разминая покатал ее в коротких пальцах. И смачно пыхнув дымом, повторил: — Я угадал, — и потащил ребят к трамвайным путям, за которыми начинался небольшой скверик, густо поросший молодыми кленами и акацией. Здесь он остановился и с укоризной посмотрел сначала на Ванька, потом на Алешу. Мол, как же это вы, а? Ученики выпускного класса! И ребятам стало жаль самих себя. Ванек не выдержал, тоскливо протянул: — Если б не приступ у химички… Ведь «скорая» ее увезла… — «Скорая»? И давно? — Федя откусил мундшук папироски и шумно выплюнул. — Утром, — невесело ответил Алеша. — Говорят, часов в одиннадцать. А точно мы не знаем. — Так-так… Приступ? — Валерьянкой поили. — А если я вам скажу, что сидел с нею рядом в учительской. Полчаса назад, а? — Мы ничего не знаем… — Ой, Мышкин! Мышкин — фамилия Ванька, и она у него, как у всех, — одна. А имени два. Для одноклассников он Ванек, а для всех прочих — Мишка. Мишка Мышкин! Звучит здорово. Но Ванек ему больше подходит. По крайней мере, так считают ребята. — Значит, вы все расскажете и нам влетит? — упавшим голосом спросил Ванек. — У каждого свой долг перед обществом, — убежденно проговорил Федя. — Это правильно, Федор. Ипатьевич, — согласился Алеша, щурясь от ослепительного солнца. — Я не пойму лишь одного: и чего нас потащило сюда! Будто мало других мест. — А куда б вы пошли? — с интересом спросил Федя. — У каждого свои места, — уклончиво ответил Алеша. — Я не Иосиф Флавий. — Не очень понятно, Федор Ипатьевич, — несколько осмелев, проговорил Ванек. — Учи историю, Мышкин, все поймешь. Алеша соображал: зачем Федя так поспешно вывел их в сквер? Уж не для того, чтобы читать мораль. Это он мог сделать и на базаре. — И все-таки куда б вы пошли? — снова спросил Федя. — По терниям — к звездам! — торжественно произнес Алеша. — Это уже нечто стоящее! Алеша приободрился и пристально посмотрел на Федю. На большую и круглую, как арбуз, его голову. На узкие плечи. — На площади рубят лозу! — сказал Алеша. Федя встрепенулся, живо заблестели серые глаза. Он сам служил когда-то в коннице. И еще говорили, что дома у Феди есть настоящий красноармейский клинок и сабля с черными арабскими письменами. — Мелкое плутовство. Шулерство, мой юный друг. — Должны рубить, Федор Ипатьевич. Ребята понимающе переглянулись и молча зашагали прочь. А Федя посмотрел им вслед оторопело, совсем по-мальчишески. — Куда же вы? Постойте! Мне нужен ответ на один вопрос. На чрезвычайный вопрос… Я иду с вами! — По четвергам рубят, — твердо сказал Ванек. — Но сегодня среда. — И по средам, и по субботам. — Я знаю: вы — обманщики, но, признаться, мне хорошо с вами. Честное слово. Уроков у меня больше нет. А дома скверно, — устало поморщился Федя. — Вам тоже бывает когда-нибудь скверно? — Еще как! — вздохнул Ванек. — Сейчас, например. — То-то и оно. А у меня сегодня такой день! Такой день!.. Рубки, конечно, не было. Втроем они пересекли безлюдную площадь, расчерченную утоптанными, успевшими подсохнуть тропками. И Федя молча показал на новое здание железнодорожного вокзала, что виднелось в конце проспекта. Позванивая, туда ходко катился полупустой красно-желтый трамвай. Там тупик. Трамвай, скрежеща колесами и искря, сделает разворот и снова уйдет вверх, к горам. К самому Головному арыку, где сжатая гранитными плитами шумит и пенится вода. «Хорошо бы прокатиться», — подумал Алеша. Но денег на билет не было ни у него, ни у Ванька. — Идемте к вокзалу, — сказал Федя. — Или вы в школу? Да-да, вам нужно сейчас в школу. — Нет. У нас контрольная по химии. А мы не готовы. — Ясно. Боитесь получить «плохо». Эх, вы, герои! Выпороть бы вас как следует. Потом они долго, словно на экскурсии, разглядывали новое здание вокзала с его непривычно огромными, полыхавшими на солнце окнами, с массивными дубовыми дверями, с электрическими часами у входа. И Алеша сказал: — Здание строили вредители. Видите вон ту трещину, которая в самом центре? Федя усталыми, тусклыми глазами поглядел на черную змейку трещины, подошел поближе, еще поглядел, склонив лысеющую голову набок. — Ты уверен? — медленно, как бы нехотя, спросил у Алеши. — А пошто щель? — вопросом ответил Ванек. — Законное любопытство. — Сначала было все как надо, а тряхнуло землетрясение… — увлекаясь, продолжал Алеша. — Да, да. А хотите, я угощу вас обедом? — мягко предложил Федя. — Хотите? — Не стоит, — сказал Ванек, забегая вперед. Ребята прошли в небольшой ресторан при вокзале. Остановились в растерянности. Им никогда не приходилось бывать здесь. Седобородый швейцар неотступно наблюдал за ребятами, пока не понял, что они с Федей. В ресторане было бело от скатертей, салфеток и шелковых портьер на окнах. Было так удивительно чисто, что ребята положили руки на стол и тут же отдернули их, будто ужалились. А Федя весело засмеялся, подмигнул: — Да вы что! Он долго рассматривал меню. А когда подошла официантка, заказал всем по борщу и котлете. И еще две бутылки пива. — Как вы насчет жигулевского? — спросил он. Ребята только усмехнулись. В душе они были очень рады Фединому заказу и еще больше тому, что пришли сюда. Когда принесли пиво, Федя налил стакан и взял его двумя руками. Потом он осторожно, боясь расплескать содержимое, поставил стакан, но снова поднял и выпил пиво залпом. — Сегодня ей было бы сорок. А была она рыженькая и светлоглазая. Комбриг Чалкин подарил ей браунинг, маленький, с костяной ручкой, да, — Федор Ипатьевич вздохнул и откинулся на спинку стула. — Кто это? — после паузы шепотом спросил Алеша. — И немножко картавила. Это мне нравилось в ней, да и не мне одному… Любил я ее, мои юные друзья. А она подшучивала надо мной. Веселая была, озорная. Да что там. А пуля ей прямо в переносье… Вот сюда. — Сразу насмерть? — зачем-то спросил Ванек. — Боги бессмертны, — задумчиво, с заметным внутренним напряжением сказал Федя. Его взгляд погас. А может, это и не взгляд помрачнел, а всего-навсего набежало на солнце облако, и все вокруг утратило свои яркие, весенние краски. — Читайте газеты. Там все расписано, ребята. Как в гороскопе, там ваши судьбы на двадцать лет вперед. Бомбы сегодня падают на Мальту, а в Абиссинии расстреливают детей. И это не так уж далеко. Совсем недалеко, — продолжал Федя, — Богам потому и не страшна смерть, что они никогда не жили. Люди, создавшие их, умирают. А боги живут. — Живут, — отозвался Алеша. Ванек осовело хлопал ресницами, не понимая, о чем говорит учитель. Нет, Федя недаром заставлял его учить историю. А Ванек не хотел. Ванек давно уже страстно мечтал стать футболистом. У него сильный удар левой. И еще у него будет лошадь, и поедет Ванек развозить саксаул по городу, как это делает сейчас его отец. Алеша же, слушая Федю, думал о том, что приятно вот так сидеть в ресторане, видеть себя в зеркалах, следить за суетой улыбчивых официанток и слушать, слушать Федю. А рассказывает он совсем не то, что на уроках. Ну разве так скажет в школе о бессмертии богов! Это же — вещь, как любит говорить Костя. Стихи Блока. — А где гуси? Те самые гуси… — обидчиво прошептал Федя. — Где они? А ваш Петька Чалкин… Что он соображает, в самом-то деле! Алеша посмотрел на учителя и улыбнулся. Федя прав: Петька больше форсит. На грудь значков понацепил, от ГТО до «Ворошиловского стрелка» — все есть. И еще Чалкин ребят на приеме в комсомол срезает. Вопросы-то задает какие! Кто секретарь компартии Чили? Кто — Аргентины? Сам где-то вычитает и спрашивает. А если ему не ответишь, тут же объявляет: политически безграмотен, воздержаться. — Гуси спасли Рим, — наклонившись к самому Алешкиному уху, доверительно сообщил Федя.2
Алеша жил за вокзалом, на далекой улице Болотной. В школу ходил по железнодорожному полотну или вдоль неширокого грязного ручья, у которого в беспорядке толпились приземистые, обросшие бурьяном избушки. Здесь не было ни дворов, ни огородов — все перемешалось, переплелось, запуталось. Эту окраину кто-то назвал Шанхаем, и имя прижилось. Никто не смог бы с уверенностью сказать, что было здесь от известного китайского города, но в России так не селились. Ванек и Костя тоже жили в Шанхае, но рядом с вокзалом, у саксаульной базы, высокий забор которой начинался сразу же за переездом. В этой части Шанхая уже наводился кое-какой порядок. Из глинобитных избушек люди переселялись в каркасные дома, а сами дома имели хоть маленькие, но приусадебные участки. Шанхай был совсем молодым. Пустырь здесь стали застраивать в тридцатые годы, когда после нескольких неурожайных лет крестьяне потянулись в города. Алешина семья приехала в Алма-Ату из Сибири всего три года назад. И ей пришлось селиться на дальнем краю Шанхая, в крохотной избушке с одним подслеповатым оконцем. Избушка стояла на болоте, в подполье была вода и водились зеленые пучеглазые лягушки. Мать у Алеши умерла, и теперь он жил с отцом и младшей сестренкой. Всем верховодила древняя бабка Ксения, мать отца. Она варила обеды, обычно картошку и постные борщи. Отец работал на складе километров за пять. На работу и с работы ходил пешком и так уставал, что рад был приткнуться где попало и уснуть. В избушке едва умещались железная кровать, топчан, стол с пузатыми ножками и два стула. Хотя стол и стоял возле крохотного оконца, готовить уроки на нем было темно. А по вечерам бабка рано тушила семилинейную лампу, чтобы зря не расходовать керосин. В этот день Алеша проснулся раньше обычного и пошел к Воробьевым. Ему не терпелось рассказать Косте о вчерашнем. Пусть узнает, что за человек Федя, а то Костя очень уж расхваливает математика Рупь-полтора, у которого он ходит в любимчиках. Правда, Костя в математике разбирается, в тангенсах и котангенсах. И вообще, он учится лучше всех. А лучше потому, что готовит все уроки. Ему никак нельзя плановать: одно, что он председатель учкома, а другое, что любовь у него — длинноногая Влада, тоже отличница, и они стараются друг перед другом. Тетя Дуся, Костина мать, широколицая, розовощекая женщина лет сорока, издали заметила гостя. Она стояла у калитки и терпеливо ждала кого-то. Она часто стояла вот так, положив локти на столбик ограды. — Здравствуйте, тетя Дуся, — сказал Алеша, подходя к ней. — Костя дома? Она улыбнулась ему тепло и спокойно, как улыбаются только очень добрые матери. И посторонилась, чтобы дать пройти Алеше. — Заходи, Леша. А Костик еще не выспался. Вчера со своей провожался до двенадцати, — мягко, со скрытой иронией сказала она. — С Владой? — живо спросил Алеша. Ему нравилось на равных разговаривать с тетей Дусей. — А и что ж она за красавица писаная, что сегодня с Костиком, а завтра с Илюшкой? У Кости был давнишний соперник Илья Туманов, высокий, под стать Владе, русый парень. Он тоже был без памяти влюблен во Владу и одно время даже дрался с Костей, потом они помирились. У Влады был крутой, вздорный характер. И если она ссорилась с одним, то приближала к себе другого. Потом другой попадал в немилость, и роли у парней менялись до новой размолвки. — Да ничего она не представляет, — пренебрежительно сказал Алеша. — Ну как все девчонки, так и она. Это была неправда. На Владу заглядывались, о встречах с нею мечтали ребята. И Алеша понимал, что она видная, симпатичная девушка. Но ему хотелось всегда быть с Костей, хотелось, чтобы у Кости никого не было ближе, чем он. — Садись, Алеша, хоть вот сюда, на крылечко. А уж я его сейчас подниму. — Тетя Дуся неторопливо зашлепала тапками по ступенькам, направляясь в дом, и немного погодя вышла обратно с деревянным, крашенным охрой стульчиком. Она поставила стульчик на посыпанную песком дорожку, напротив присевшего Алеши, тяжело села сама, упираясь руками в поясницу. — И что за девицы пошли? — Она покачала гладко причесанной головой. — В наше-то времечко мы не были такими. Родительского слова слушались, — она сделала глубокий горестный вздох и посмотрела грустными глазами. — А у тебя кто есть? — Никого нет, — смущенно ответил Алеша, взглянув на свои дырявые рабочие ботинки, на вытертые и собранные в гармошку простенькие брюки. Тетя Дуся поймала его взгляд и поняла Алешу. И невольно сопоставила свою судьбу с Алешиной, и нашла в них много общего. Он тоже растет сиротой и тоже беден. Но, слава богу, умный, рассудительный парень, он сумеет постоять за себя, сумеет пробиться в жизни. Все ведь идет теперь к лучшему. — Дуры девки. Была в ее словах давняя, затаенная, постоянно мучившая боль. И опять тетя Дуся тоскливо посмотрела на пустынную дорогу. И сказала в смятении: — Гордая. Это она о Владе. В общем-то, правильно: высокомерна, заносчива Влада. То говорит сквозь зубы, еле языком ворочает, то напускает на себя какую-то хмурь и заводит к потолку темные, сумеречные глаза. Костя беспокойно ерзает за партой, он на седьмом небе от такого, очень уж интеллигентного ее вида. И тогда он начинает быстро-быстро, с упоением рисовать пером на попавшемся под руку листке похожие друг на друга, как близнецы, тонкие женские профили. — Брось изводить бумагу, — говорил Алеша в таких случаях. — Под Пушкина работаешь. — Что? — Костя на минуту прекращал свое излюбленное занятие, показывал увесистый кулак, и снова чертил прелестные головки. В доме глухо стукнула дверь. Послышалось легкое покашливание, и Костя заспанный, в одних трусах появился на крыльце. Он словно нехотя подал Алеше большую теплую руку. — Вчера плановал? — Ну. — Скоро экзамены, так ведь? Зачем Ванька с собой водишь? Ты-то сдашь, а он завалит. — Критикуй меня, Костя. Я заслужил суровую кару. И еще — обсуди на учкоме! — Сколько тебя защищать! — возмутился Костя. — Надо же совесть иметь! Лариса Федоровна опять… — Хватит, Костя, — с трудом сдерживая растущее раздражение, оборвал его Алеша. — Уж ты над дружками не начальствуй, — певуче сказала тетя Дуся. — Оставь Лешу. А Ванек сам за себя ответчик. И не всем быть учеными. Профессоров, например, не заставишь сортир чистить. Золотари есть. Вот Ванек и станет золотарем. Алеша рассмеялся. Немного погодя пили густой и горячий чай. Тетя Дуся налила Алеше большую чашку, и он выпил ее одним махом. Можно было пить еще, да постеснялся лишний раз тянуться за куском сахара. Он вышел из-за стола, поблагодарил за угощение и проговорил как бы невзначай: — Мы вчера в ресторане были, с Федей. Пили пиво. — Врешь, — не отрывая ото рта чашки, сказал Костя. — А говорит он интересно. Про такие штуки рассказывал! — Например? — Ты ведь не веришь. Да знаешь ли, что у него орден? Комиссар полка! — сказал Алеша, ударив себя в грудь. — А его боевую подругу убили… — И чего ж это он в штатских? — недоуменно повела плечом тетя Дуся. — Значит, промашка у него какая ни то случилась. — Хватит, мама! — поморщился Костя. — Ты ничего не понимаешь! — Конечно, мы — темные люди. Мы не учились. А у вашего Чалкина отец тоже военный. Зачем же в тюрьму его посадили? Как это так? Костя махнул рукой и ушел в другую комнату. — Не хочет меня слушать, — заключила тетя Дуся, убирая посуду. Костя долго рылся в ящике скрипучего, самодельного стола, пока не нашел листок бумаги, по обычаю вкривь и вкось исчерченный ровными стрелками и кляксами женских головок. Он повертел листок в руках, с трудом разбирая собственный почерк. — Послушай. Вот.3
В классе было тихо. Слышалось лишь, как по доске негромко постукивал мелок. Математик Иван Сидорович, сутулый толстяк со скуластым лицом, что-то быстро писал. У него на уроках всегда было тихо. Его боялись. Он молчал-молчал, а потом вдруг взрывался. Но не это пугало ребят. Их пугала его сникшая фигура, когда Иван Сидорович брал свою тяжелую трость и, прихрамывая, выходил из класса. Класс замирал в безотчетной тревоге, и оцепенение продолжалось долгие минуты. Мелок постукивал. Рядом с Алешей, близоруко щурясь, сидел Костя. Он, как завороженный, неотрывно смотрел на доску. Когда объясняли материал, Костя не отвлекался. Именно за прилежание и любили его учителя. Как будто в жизни быть смирным, прилежным и слушаться старших — самое главное. Смешно! Алеша совсем не видел, что писал на доске математик. Алеша украдкой поглядывал на красивый, словно выточенный, профиль Влады. Брови вразлет, небольшой тонкий нос, милое лицо. Да, Пушкин понимал толк в девушках! Он рисовал что-то похожее. И тут же Алеша подумал, что этот вот нос брезгливо дергался, когда Владе что-нибудь не нравилось в людях. И еще представлял Алеша снисходительную полуулыбку Влады, с которой она обычно разговаривала с одноклассниками. Говорила и не в шутку и не всерьез. Жизнь баловала Владу. Каждое лето она уезжала на Черное море вместе со своим отцом. А потом жаловалась подругам на плохую погоду в Сочи, на духоту в поездах и дальнюю дорогу. Многие парни и девушки, что жили в центре города, держались особняком. Шанхайские ребята дружили своей компанией. Но были и исключения. Васька Панков, например, жил рядом со школой, а больше водился с шанхайцами. Был он первым хулиганом, гонял голубей. А Костя Воробьев был принят и там и тут. Как-никак, учился хорошо, у него списывали все. И совершеннейшей шантрапой считали и та и другая группы Митьку Кучера и Саньку Дугина, второгодников, «женихов». «А гордиться Владе нечем, — думал Алеша. — Ну что она? Капризная девчонка, любит, чтобы за ней ухаживали, чтобы все считали ее умной! Говорят, даже дневник ведет. И пусть ведет. А Костя дурак, вбил себе в голову, что он Ромео. Конечно, это же необыкновенно, поэтично. И еще у Влады красивая шея…». — Колобов, к доске, — угрожающе проговорил математик. Алеша ошалело вскочил. Гулко ударило сердце, предчувствуя провал. На доске — ни одного знака, все стер Иван Сидорович. Математик нарочно вызвал Алешу, он заметил, что Алеша не слушает урока. — Я… я нездоров… У меня болит голова… Костя предательски хмыкнул. Уж очень любит показать свою порядочность. Мол, я совсем не такой. А что в том толку! — Когда болеют, идут к врачу, — серьезно сказал математик, не сводя с Алеши тяжелого, осуждающего взгляда. — У него воспаление хитрости! — выкрикнул вечный двоечник Сема Ротштейн. — У меня кружится голова, — повторил Алеша. — Разрешите выйти? — Не разрешаю. Ставлю «плохо» в журнал. Принесешь справку о болезни — вернемся к нашему разговору, — сказал математик. Алеша сел. Его грызла обида. Ему ли объяснять, что это из-за Костиного смешка и Семиного выкрика он получил «плохо»! Ну Сема есть Сема. А Костя? И еще хочет, чтобы Алеша дружил с ним! Вот ни за что на свете! И сегодня спланует, сейчас же, на зло всем. Но следующий урок литературы. Его ведет классный руководитель десятого «А» Лариса Федоровна. Она сердится. Значит, надо высидеть литературу. На перемене Алеша не вышел из класса. С ним остался Ванек. Он назвал математика требухой и посочувствовал Алеше. Он даже согласился бы получить «плохо» за компанию. Одним больше, одним меньше — не все ли равно! — А мы Косте все припомним, — сказал Ванек. — Вот если бы темную ему устроить, а? Да ведь вызовут родителей, шум будет. Тоже мне — учком! — Отстань ты! — сердито отмахнулся Алеша. Ванек недовольно засопел, хлопнул крышкой парты и направился в коридор. У двери он на секунду задержался и посмотрел на друга с укором.Вечерело. На ровном, как стрела, проспекте зажглись фонари. Ребята шагали по проезжей части улицы, и Алеша (в который уж раз) наблюдал, как их тени то удлинялись, то исчезали совсем, то быстро убегали назад, словно играя в прятки. А Васька Панков курил подобранный в пути «бычок» и говорил: — Огольцы идут в летчики. Завтра на комиссию. — Кто? — Весь класс. Разве не слышал? — А кого берут? — спросил Алеша. — Повертят тебя на стуле, потом заставят идти по одной плашке. Как лунатика. Выдюжишь — твое счастье. Да чтоб полных семнадцать было. — А мне будет только осенью, — разочарованно протянул Алеша и его загоревшиеся было глаза погасли. — Это ничего, — сказал Васька. — Приноси метрику, обтяпаем. Хлоркой выведем. — А если испортим? — скорее с надеждой, чем со страхом спросил Алеша. — Новую запросишь оттуда, где родился. Они высылают. Да ты что? Да не бойсь. У меня есть дяхан, он даже печати подделывает. Получается натурально. — Я принесу, — радостно волнуясь, пообещал Алеша. — А если спросят паспорт? — Скажешь, что потерял. А уедем в училище, и экзамены сдавать не надо. Будем летчиками в одной эскадрилье. Голубые фуражки, голубые петлицы — шикарно! Завидовать нам все станут! Алеша проводил Ваську. Когда прощался, задержал крепкую, как камень, руку Васьки и спросил: — Как же тогда со спектаклем? В школе к Первому мая готовили чеховского «Медведя», и в постановке были заняты Алеша и Васька. Роли давно выучили, все было на мази. И вдруг ребята уедут. Да это же предательство! Нехорошо получится. — А что нам? Нас призывают, — как уже о решенном деле, равнодушно сказал Васька. — Может, к Первому мая мы будем уже там, — он вскинул глаза к пролегшей между вершинками тополей узкой дорожке неба. — Ты думаешь? — Иначе ехать не стоит. Иначе какой толк? Дома Алеша, забросив учебники подальше, думал о небе. И оно виделось ему все в огненных спиралях и крупных, таинственных звездах. Время от времени небо резали косые и острые лучи прожекторов. А самолеты шли и шли целыми армадами, может, в Арктику, может, в Испанию, в жаркую, объятую пожарами Абиссинию. А в самолетах сидели дюжие, плечистые летчики, почти такие же, как Васька, как Алеша. И метрики у многих, может, тоже были обесцвечены хлоркой, потому что везде придираются комиссии. — Тамара, иди сюда, — шепотом позвал он свою двенадцатилетнюю сероглазую сестренку. — Я тебе что-то скажу. По секрету. Тамара исподлобья недоверчиво посмотрела на него. В его словах почудился ей подвох. Никогда Алеша не открывал ей своих тайн. «А может, их у него и не было вовсе, а вот теперь появились?» — думала она, нерешительно останавливаясь у порога. — Ты поближе. Иди сюда, ко мне. — Зачем? Бабушка у соседей. Говори, Леша, я никому не расскажу. — Так вот, Тамара… Это будет скоро, очень скоро. На днях… Я ухожу в армию. Да-да, вот увидишь! — сказал Алеша, чувствуя, как его охватывает неуемный восторг. — И это вся тайна? Да про армию ты столько уже говоришь. Целый год! И даже побольше года! — Говорить все можно. А тут меня забирают. Пришлют повестку — и все. Поняла? — А тебя папа отпустит? — спросила Тамара, пугливым зверьком косясь на дверь. — А бабушка отпустит? Ведь это надо спроситься!.. — Глупая. Я ведь взрослый. И никого не надо спрашивать. Буду военным летчиком, как Валерий Чкалов. — Будешь бомбы бросать? — поинтересовалась она, оглядывая худощавую, нескладную фигуру брата. — Может, бомбы, а может, стрелять из пушки. — Пушек у самолетов не бывает. — Бывают. Точно. И еще какие пушки, если б ты знала! Тамара подошла вплотную к Алеше и прижалась русой головкой к его груди, и Алеша со сдержанной лаской погладил ее по кудряшкам. И подумал, что ему трудно придется без Тамары… А Тамаре будет еще труднее. — Я плакать буду, — тихо сказала она. Он невесело улыбнулся. Затем попросил ее до поры ничего не говорить отцу и бабке. Хлестал частый холодный дождь. Под окошком стояли серые лужи, раскисшая земля походила на антрацит. Накинув старую фуфайку, Алеша выскользнул под дождь. Он не мог ждать, когда кончится ненастье. Он спешил к Ваське Панкову. Нужно было поскорее все сделать с метрикой, чтобы уехать в один день и в одно училище с ребятами. Пока Алеша шел, дождь усилился. Мутные потоки змейками разбегались по глиняным дувалам, по мостовой. Васька жил в полуподвале старого каменного дома. В сени вела лестница, выложенная тонкими плитами рыжего песчаника. Алеша едва сделал по ней неуверенные три или четыре шага, как оказался в кромешной темноте. Он протянул руку вперед, захватил ею воздух, пытаясь поймать скобу двери. Но скобы не было. И тогда постучал. Ему открыл Васька. Видно было, что он недавно встал с постели. Круглая с жесткими волосами Васькина голова была растрепана, веки припухли, словно Васька только что плакал. А интересно, плакал ли он хоть когда-нибудь? Вряд ли. — Ну проходи, — приветливо сказал Васька, пропуская Алешу вперед. — Может, не выводить хлоркой, а попробовать как-нибудь по-другому, — не совсем уверенно проговорил Алеша, перед тем как достать метрику из кармана штанов. — Проверенный метод. Давай. Чего тебе тут поставить? — Год рождения. Надо двадцать третий. Вот тут. Может, вместе пойдем? — К кому? — Ну к твоему… — Да ты что? Он этого не любит. Я-то знаю тебя, а он нет… Ты не трусь. По его документу сам бог в рай примет, — Васька лихо подмигнул Алеше.
4
Костя сердился на Алешу. Ну разве это друг! Столько заступался за него перед учителями, а он не хотел понимать этого. На уроке, положив лохматую голову на парту, Алеша выговаривал: — Ты, Костя, скучный. Трудно будет жить с тобой Владе. Да она тебя бросит… И не надо мне от тебя ничего!.. Подумаешь, учком! Ну позовут в школу отца, а он не пойдет. — Как не пойдет? — раздувая ноздри, сурово прошептал Костя. — Почему? — А зачем? Учусь я знаешь как, а если планую, то в библиотеку. Возьму справку в публичке. — Это тебя не спасет! — жестко бросил Костя. — А что твой учком! Тоже мне, начальство! Сидят там четыре подлизы… — Значит, и я в том числе? — вспыхнул Костя, сжимая увесистые кулаки. Значит, и ты. А драться нельзя. Ты ж на уроке, товарищ Воробьев. — Слушай! Брось, Лешка. Я хочу как лучше, так ведь. — Слушаю и повинуюсь, как говорила Шахерезада. Костя понемногу остывал. Что ни говори, а он не мог сердиться подолгу. Особенно на Алешу, который, в сущности, не такой плохой парень. А на перемене Петька Чалкин из десятого «Б» с озабоченным видом подошел к Косте. Звякнув значками, уперся спиной в подоконник. Глухим баском, чтобы никто, кроме Кости, не смог услышать, сказал: — В комитете тревожный сигнал по вашему классу. Ты ведь дружишь с Колобовым? — Да. Живем близко, вместе готовим уроки, — насторожился Костя. — Понятно, — Чалкин слегка наморщил высокий лоб, напряженно размышляя о чем-то. Петька Чалкин, или как его называли ребята между собой — Петер, считался волевым и принципиальным. Случилось, что его отца, военного, комбрига, арестовали, и Петер наотрез отказался от него. На комсомольском собрании так и сказал: — Теперь это чужой мне человек, совсем чужой. Я не хочу его знать. Костя помнит, как зал тогда испуганно примолк. А дома Костя упрямо и яростно протестовал, когда родители, обсуждая эту новость, осудили Петра. — Я б ему голову оторвал! — гневно сказал отец. — Несмышленый он, ваш Петер, — с укором проговорила мать. — Ежели суда не было, то никто и не скажет, виноватый или нет. Да уж какой-то отец ни есть, а все ж кровь родная. — Петер прав! — упорно настаивал Костя. — Это и ты бы от меня открестился, случись что со мной? — спросил отец. — Я бы не отказался. — Почему же так? — А потому, что не смог бы. Нет у меня воли! — Ишь ты, какой умный!.. Выходит, была бы воля… — Хватит вам, — сказала ласково мать, ругая себя в душе за то, что поддержала этот разговор. Теперь примется отец пилить Костю. — Сопляки вы все безмозглые, и одна вам цена! — отец в сердцах сплюнул раз и другой на пол и схватился за сердце. — Ты, Костя, сбегал бы за хлебом, — мать вытолкала сына за дверь, чтобы положить конец этому разговору. Косте было известно, что не одобрил Петерового поступка и Федя, который хорошо знал Чалкина-отца. Они вместе воевали в гражданскую и против басмачей. Костя слышал своими ушами, как Федя говорил Петру: — Поспешил ты, Петька. Отец у тебя не тот человек, запомни! И я докажу это! Но чего натворил сейчас Алеша Колобов? Что за сигнал поступил в комитет комсомола? И почему с Костей разговаривает об этом Петер, а не секретарь комитета? Как бы угадав Костины мысли, Петер сказал: — Мне поручили выяснить и доложить. А ты не либеральничай, не отмалчивайся. Выступи, как положено комсомольцу. Будь выше личных симпатий. — А что такое? — Узнаешь на собрании, — уклончиво ответил Петер. Он явно не доверял Косте. Как-никак Костя — приятель Алеши. — Ладно. Я выступаю, — неохотно пообещал Костя. — А это уж очень нужно? — Вот ведь ты как… — Чего? — Пассивничаешь. А нам нужно драться за людей, Воробьев. За каждого комсомольца. «Все-таки жалко ему отца или нет? — думал Костя, глядя в широкоскулое лицо Петера. — Должно быть, жалко. Я бы все-таки действительно не смог… И потом ведь сам Петер не знает толком, за что посадили его отца. Говорят, за какую-то давнюю историю, когда комбриг Чалкин еще воевал в Средней Азии».Литератор Лариса Федоровна посмотрела на пустовавшее место, где должен был сидеть Алеша: — Я вас прошу, Воробьев, сказать о поведении Колобова его родителям. Еще один прогул, и педсовет не допустит его к экзаменам. Где он бывает? — В библиотеке, — солидно ответил Костя. — Читает стихи. — Он все врет, этот Колобов, — крикнул Ротштейн. — Заткнись, Сема! — не выдержал Васька, считавший своим долгом заступаться за всех. — Панков, выйдите из класса! — нервно сказала Лариса Федоровна. Она терпеть не могла жаргонных словечек. За них не раз попадало ребятам. Васька нехотя поднялся, стукнув крышкой парты, и направился к двери. Ему не хотелось уходить. Он шел не спеша, словно надеясь, что его остановят. Но Лариса Федоровна молча смотрела ему в спину до тех пор, пока за Васькой не закрылась дверь. Дальше урок пошел нормально. О Ваське и Алеше, казалось, все забыли. Однако, когда Лариса Федоровна вызвала к доске второгодника Саньку Дугина и он ничего не смог ответить, она едко заметила: — Мы говорили о Колобове. И вы, Дугин, посмеивались. Да-да. Конечно, вы аккуратно ходите в школу, но для чего ходите — непонятно. — Я учил… — подавленно вздохнул Дугин, отводя в сторону растерянный взгляд. — Плохо учили. Садитесь. Дугин понуро сел. О чем-то пошептался со своим соседом Митькой Кучером и процедил сквозь длинные и острые, как у крысы, зубы, чтобы слышала Лариса Федоровна: — Я тоже буду плановать. — Сделайте одолжение, — взглянув на Дугина, сказала Лариса Федоровна, и брови ее круто переломились. — Колобов идет в военное училище, — выкрикнул Ванек. По классу пробежал сдержанный смех. Кто примет Лешку в училище, когда ни возраста, ни силенки — ничего нет? Парнишка еще, а лезет туда же. Да таких-то близко не пускают к самолету! — Вы серьезно, Мышкин? — спросила Лариса Федоровна. — Но Колобов любит литературу. Передайте ему, что я хочу поговорить с ним. После уроков Костя остановил Ванька на крутой пыльной лестнице, когда тот сверху летел к раздевалке. Костя ухватил его за рукав куртки так, что она затрещала. И Ванек обозлился: — Чего лапаешь? — Слушай. Что Алеша наделал? — Не знаю. — А где он сегодня? Ванек неопределенно дернул плечами. Мол, откуда мне знать. Затем сказал с обидой: — Ты говори прямо… — Это я у тебя спрашиваю. Мне Чалкин сказал… — А иди ты со своим Чалкиным! — отрезал Ванек.
Из школы Костя вышел следом за Владой. Надевая демисезонное клетчатое пальто, она на минуту задержалась на ступеньках крыльца. Костя взял у нее черный кожаный портфель и ждал, когда она застегнет пуговицы. Затем они пошли по аллее пирамидальных тополей, мимо стриженых акаций. Было тепло, а Косте даже жарко. Но Влада куталась в воротник пальто: очевидно, боялась простуды. — Скоро мы уедем, — с грустью сказал Костя. — Всей компанией… — И ты в училище? Все с ума посходили!.. А я осенью поеду в Москву, в университет. Ты будешь писать мне? Каждый день? И даже тогда, когда станешь знаменитым летчиком? Костя не успел ответить. За спиной у них раздались торопливые знакомые шаги, и когда Костя резко повернулся, он увидел догонявшего их Илью Туманова. На Илье было напрочь распахнуто старенькое пальто, из которого он давно уже вырос, и полы развевались где-то сзади. Илья вытер веснушчатый нос платком и недобро посмотрел на Костю. И тут же смутился, согнал с лица выражение явного неудовольствия. — Вы о чем-то спорили? — спросил Илья лишь для того, чтобы как-то вступить в разговор. — Ты догадлив, — слегка усмехнулась Влада. — Ты будешь мне писать, Илья, когда уедешь? Ну хоть раз в месяц или чаще? — Каждый день! — Пожалуй, — спокойно согласилась она. — Ты будешь. А с Костей мы поссоримся в первых же письмах. — Нам недолго и помириться, — с иронией в голосе ответил Костя. — Верно? Но Влада думала уже о другом. Она не слышала, что сказал Костя, спросила: — А что такое настоящий человек? Я хочу быть настоящей, мальчики! Вот если бы девушек брали в военное училище!.. — В медсестры берут, — заискивающе сказал Илья. Он все принимал всерьез, даже сумасбродство Влады. И Костя знал, что это наигрыш, а уж такой он есть, Илья Туманов. — Нет, я хочу в танкисты или летчики, вот как Алеша Колобов. — Он трепач, он никуда не поедет, — убежденно, с явным превосходством проговорил Илья. — Ему трудно, — сказала Влада. — Он страдает, а хочет казаться беспечным. — Алеша — сирота. У него нет матери, — нахмурился Костя. — И у меня нет мамы, — тяжело вздохнула Влада. — Я страшно несчастна. — Ну ты — другое дело. — Илья осторожно взял ее под локоть. — Почему другое? — А потому, что ты девушка. — Ну и что? — Тебе труднее. — Вы молодцы, мальчики! В училище едете! — звонко воскликнула Влада. — Я буду гордиться вами. Вы — настоящие, вы не хлюпики. — Армия то, что надо, — медленно, сквозь зубы сказал Костя. — Мужчина должен воевать, быть защитником Родины. — Современные войны кончаются очень скоро, — с глубокомысленным видом заметил Илья. — Так было на Хасане, на Халхин-Голе, так было на финской и в Польше. И чтобы не опоздать, надо идти в армию сейчас. — Да, — живо согласился Костя, глядя куда-то в пространство. — Это великолепно! Я приду провожать на вокзал! — сказала Влада, поправляя упавший на лоб локон. Владины слова воодушевили Костю. Он почувствовал себя необыкновенно счастливым. Пусть рядом с Владой вышагивает долговязый Илья, пусть. Это еще ничего не значит. Влада останется с ним. Он никому не отдаст ее, потому что она для Кости самая дорогая, самая необходимая.
5
Возле трехэтажного белого здания школы был небольшой сквер. Лет пять назад здесь посадили приземистые клены и вязы, разлапистые карагачи и бронзовоствольную акацию. Деревца накрепко ухватились корнями за землю и так разрослись, что трудно было пролезть через тугие узлы колючих ветвей даже сейчас, когда сквер не закучерявился листвою. Алеша нетерпеливыми шагами мерял узкую тропку, протоптанную вдоль сквера. Он поджидал Ваську Панкова. Вот-вот должны начаться занятия во второй смене, а Васька все не появлялся. Сегодня было два урока математики. Иван Сидорович, которого ребята прозвали за хромоту Рупь-полтора, постарался наставить «плохо». У одного Ванька их хоть лопатой греби, а у Семы Ротштейна и того больше. А ведь станут ребята знаменитыми в стране летчиками-орденоносцами, и соберутся в школе, в бывшем своем классе, и пригласят всех учителей. Иван Сидорович тоже придет на вечер, и поймет тогда, что он не всегда и не во всем был прав… — Здравствуй, Колобов. — Здравствуйте, Федор Ипатьевич. — Историческая встреча! — всерьез констатировал Федя. — Но ты неправ, мой юный друг. — В чем? — Алеша удивленно разглядывал историка. — История не арифметика, в ней иногда бывает и дважды два — пять. Озадаченный Алеша хотел что-то сказать, но в вестибюле тонко заверещал звонок, и Федя заспешил в школу. Федю что-то очень взволновало, и он, может быть, больше говорил с самим собой. Васька Панков издали заметил Алешу, по-разбойничьи пронзительно свистнул, и Алеша увидел его. Они широко зашагали по тротуару вверх, к горам. А когда завернули за угол дувала, Алеша нетерпеливо коснулся Васькиного локтя: — Ну! — и насторожился в ожидании. — Чего нукаешь! — с нарочитой грубостью ответил Васька. — Ничего не вышло. Бумага слабая. Вот. Он порылся во внутреннем кармане выцветшего от времени пиджака и достал метрику. Он бережно развернул ее, и Алеша увидел большую дыру в середине листа, вокруг которой кругами расходились разноцветные подтеки. У Алеши упало сердце: теперь, прощай училище! Ничего уже не поделаешь, все кончено. — Как же это? — растерянно спросил он. — А так. У дяхана руки играют с похмелья. И что-то он тут напутал. Не туда макнул, что ли. Возьми. Алеша грустно взял злополучный радужный лист, слегка потянул его за края, и лист распался в руках, как пепел. Остались одни жалкие клочья. Алеша скомкал их и с досадой бросил на землю. — Я тебе что толкую… — заглянув в лицо дружка, сказал Васька. — Ты не горюй, сейчас мы с тобой потопаем. Я знаю куда. Они долго шли по улицам: Васька впереди, Алеша следом. И оба молчали. — Ты постой тут, а я смотаюсь, — остановил Васька Алешу у небольшого одноэтажного дома с выходящим на улицу ветхим крыльцом. Алеше было теперь все равно. Он чувствовал себя обреченным. От Васьки уже не ожидал для себя ничего хорошего. Да и кто выпишет Алеше новую метрику! И он поверил Ваське! Смешно даже. Это все равно, что без экзаменов, за здорово живешь выписать свидетельство об окончании школы. Васька смело вошел в дом. Видно было, что он здесь не впервые. Алеша поднялся на крыльцо и, перегнувшись через шаткие перила, наблюдал, как ветер кружил и гнал по улице бурые прошлогодние листья. То подхватывал их и нес на своих легких, невидимых крыльях, то озорно швырял наземь, где придется. Подумалось, что вот так же и жизнь носит людей.Давно ли казалось, что все — лучше не надо, и неожиданно, как снежная лавина в горах, рухнули все надежды. И виной тому какой-то совсем незнакомый Алеше мошенник. Васька ходил долго. И когда Алеше стало невмоготу ждать и он уже решил, что Васька обманул его — вышел из дома черным ходом, — дверь отворилась, и на пороге показалась курносая, милая девушка в белом халате. Она окинула Алешу пристальным взглядом маленьких острых глаз и оглянулась на появившегося следом за нею Ваську: — Этот? — Он, — кашлянув в кулак, вполголоса ответил Васька. — Скажешь, что писал на родину, а там книги за твой год не оказалось. Пожар был. Понял? — торопливо прошептала она. — И что метрика нужна для получения паспорта, который у тебя вытащили. Алеша согласно кивнул головой, не очень веря в успех. Они прошли мимо сидевшей в коридоре очереди, и девушка втолкнула его в длинную светлую комнату, где он увидел белые, горящие никелем медицинские весы, а на плакатах буквы — от самых больших до совсем крохотных. А еще в углу стояла белая ширма, за которой слышались негромкие голоса. Алеша нарочито кашлянул, но ему никто не отозвался. Он хотел было присесть на зачехленный белым стул, но передумал. — Можете одеваться, — донесся ровный мужской голос. И сию же секунду из-за ширмы появился высокого роста доктор в роговых очках и в белой шапочке. Он прошел мимо Алеши к столику, что был в углу комнаты, присел и что-то долго писал, беззвучно шевеля сухими, бесцветными губами. Затем отложил в сторону мелко исписанный клочок бумаги и вопросительно покосился на Алешу: — По какому случаю? Вас кто-нибудь побил? Нужна экспертиза? — Н-нет. У меня метрика… — Снимайте брюки, — приказал доктор, направляясь к Алеше и на ходу поправляя очки. — Зачем? — растерялся тот. — Это же… стыдно. — Вы куда пришли? И что вам нужно? — сурово спросил доктор. — Я насчет метрики… — Мне некогда. И вы у меня не один. Там очередь, — доктор кивнул на дверь. — Чего возишься! Снимай быстрее, — сказала выросшая рядом женщина в халате и в такой же шапочке, как у доктора. Алеша густо покраснел и отвернулся. — Так сколько же тебе лет? Когда родился? Алеша прикинул: нужно сказать, чтобы было никак не меньше семнадцати. Но поверят ли? — Родился я пятнадцатого декабря двадцать третьего года. — Покажите зубы, — сказал доктор в роговых очках. Алеша ощерился. Конечно, зубы показать можно. Пусть смотрят сколько угодно. — Я думаю, что можно согласиться, — сказал доктор. — Значит, пятнадцатого декабря? Он записал что-то в книгу, потом спросил фамилию и имя. Наконец протянул бумажку: — Комната напротив. Алеша с облегчением вздохнул и вышел в коридор. А затем они вместе с Васькой смотрели, как знакомая девушка выписывала справку. Затем она ходила куда-то, очевидно, к доктору в очках, подписывать документ. — Девочка сто сот стоит! — бросил ей вслед Васька. — А кто она? Ты ее откуда знаешь? — Не твое дело.Некоторые уже побывали на комиссии. Хоть медицинских карточек никому не вручили, ребята примерно знали, кто на чем срезался. Но забракованные все еще на что-то надеялись. Ждали чуда. Авось будет недокомплект, и тогда кое-кого могут взять. И, перебивая друг друга, честили Саньку Дугина: — Пижон! Глухим притворился. — Зачем тогда идти на комиссию? — Фрайер! — Да я передумал служить, — оправдывался Санька. — Я по натуре своей — штатский. Ну куда мне в армию! Ванек еще не был на комиссии и переживал. Это было видно по его тонким, бескровным губам, по суетливо бегавшим испуганным глазам. Алеша и Васька в регистратуре поликлиники записались у военкоматовского лейтенанта с малиновыми петлицами. Он развернул новенькую Алешину метрику, с интересом заглянул в нее. — Сегодня оформил? Оперативно, — с профессиональной проницательностью отметил он. Знаем, мол, ваших. Парни больше всего срезались на «чертовом колесе». Это было нехитрое устройство. Человека сажали в свободно вертящееся металлическое кресло, кресло раскручивали, а потом заставляли беднягу встать и пройти по одной плашке. Это редко кому удавалось. Проклятая плашка рыбкой выскальзывала из-под ног. Выходили после «чертова колеса» зеленые, с дикими глазами и хриплым, замогильным голосом сообщали: — Повело. Амба! Им от души сочувствовали, но что значило сочувствие тех, кто через несколько минут должен был разделить с ними постылую долю неудачников! «Чертово колесо» все крутилось и крутилось. И никто из ребят не мог миновать его. Увидев молчаливо ставшего в очередь Алешу, знакомые парни искренне удивились. Они знали, что он на год моложе их, а за возрастом здесь следили строго. И кто-то даже невесело сострил по поводу Алешиного малолетства. И Алеша смолчал, словно это его никоим образом не касалось. На «чертовом колесе» пролетел и Костя. Он вышел из кабинета шальной, с испариной на белом лбу. Тыкался из угла в угол, а когда его спросили, безнадежно повесил голову. Наконец вызвали Алешу. Врачи придирчиво щупали его, очевидно, искали какую-то болезнь, а когда не нашли, то били молоточком пониже коленного сустава, и нога у Алеши забавно прыгала. А еще его заставляли со всей силы дуть в какую-то трубку. Он дул, и тяжелый металлический поршень в стеклянном цилиндре поднимался все выше, пока в легких у Алеши был воздух. Когда же Алеша совсем выдохся, почувствовав себя пустым бурдюком, врачи посмотрели на цилиндр и сказали: — Норма. А кресло стояло у окна, то самое. Его сразу угадал Алеша. «Так вот где таится погибель моя», — стихами тревожно подумал он и уж больше старался не глядеть в ту сторону. — Теперь пройдите сюда. Он не стал уточнять, куда его посылают. Он прошел и сел на «чертово колесо», и оно обожгло его холодом, и холод поднялся выше, и Алеша зябко передернул плечами. Кресло плавно, как по маслу, тронулось с места, сделало один оборот, другой и пошло, покатило быстрее, еще быстрее. В глазах у Алеши враз зарябило, и он невольно закрыл их. И почувствовал, что ввинчивается в пространство, словно летящая стрела. Затем его прижало хребтом к спинке кресла, расплющило, и к горлу подступила противная тошнота. — Стоп, — сказал кто-то. Алеша встал и, собрав воедино всю свою волю, направился к двери. И после первого же шага к нему пришло ощущение полного провала. Ему показалось, что его резко бросило сначала в одну, затем в другую сторону. Но позади раздалось: — Норма. Алеше стало легко. И не так уж оно страшно, это кресло! Конечно, с непривычки немножко мутит, но терпеть все-таки можно. Алеша вытерпел, и теперь он непременно попадет в военное училище. И скоро будет летать выше облаков, и люди гордо станут называть его летчиком. Сталинским соколом! Это же черт его знает как здорово!
6
Алеша проснулся внезапно, как от толчка, и увидел большой золотой сноп света в избушке. А еще увидел в оконце голубой кусок неба, такой голубой, что даже не верилось, что это все настоящее. Необычными казались и сбрасывающие снежный покров близкие горы, и строй тополей, шагавших по обочинам Копальского тракта, и гулкий гудок паровоза у семафора. Было воскресенье. У приоткрытой двери, ссутулясь, кряхтел отец, починяя сапоги. Приятно, как в деревне, пахло кожей и дегтем. Отец загрубевшими пальцами ловко делал привычную ему работу. Прокалывал кожу шилом, откладывал шило в сторону и протягивал в дырочку иглу с дратвой, да время от времени любовался тем, что сделал: отставлял сапог на другой стул и разглядывал со всех сторон. А бабка Ксения варила завтрак. Над печуркой витал синий пар. Алеша ноздрями жадно потянул воздух: кипел борщ. А в армии, верно, не готовят таких вкусных борщей, как у бабки Ксении. — Вставай, Леша. Пора, — поднимая грустные глаза, сказал отец. Его поддержала властная, ворчливая бабка: — Любишь мокрым полотенцем утираться. Почему мокрым? А кто же вытирается сухим? Тот, кто встает раньше. Бабка Ксения мудра, она за словом в карман не лезет. Бабку никогда не переспоришь. Алеша вскочил с топчана, проворно натянул на себя штаны. Бабка зачерпнула ковшом воду в кадке и подала ковш. Вода была холодная и обжигала лицо. Умываясь, Алеша фыркал и покрякивал совсем так, как это делал отец. Еще вчера в Алешином сердце была одна неизбывная радость. Сбывалось его желание: Алешу брали в летное училище, на днях он должен был ехать в Ташкент. Наступала пора зрелости, полной самостоятельности, и это радостно волновало и немножко страшило его. А сейчас ему стало жаль и отца, и бабку, и Тамару. Теперь отец будет красить один, и некому сбегать за махоркой для него, когда она вдруг кончится. Но самое главное — не с кем будет отцу переброситься словом. Отец всегда беседовал с Алешей, как равный с равным. Это было заведено еще с той поры Алешиного детства, когда отец читал ему Есенина. Знал он стихов немного, но читал их выразительно, с чувством, как будто выносил в сердце и написал их сам. Из-за Есенина Алеша имел неприятности в школе. Еще в четвертом классе, когда учитель рассказывал о Пушкине, Алеша наивно спросил, кто лучше — Пушкин или Есенин? А учитель в те годы носил синюю блузу и читал со сцены Народного дома Демьяна Бедного. Других поэтов категорически не признавал. — Откуда ты знаешь, Колобов, о Есенине? Это ж кулацкий поэт. Алеша понял, что сказал не то. — Так откуда ты знаешь о нем? — Я слышал… И стихи мне нравятся. — Вот ты до чего докатился! На школьной линейке Алеше был объявлен выговор. А в селе шли разговоры, что очень уж легко отделался, что пусть спасибо говорит школьному директору, который за него заступился, а то быть бы за порогом школы. Тогда отец ничего не сказал сыну, не похвалил и не поругал учителя. И лишь как-то позже заметил мимоходом: — Конечно, Демьян тоже неплохой поэт. Алеша понял, что это он об Есенине, и о том случае. И еще понял, что говорить об этом где-то никак нельзя. Снова будет крик и скандал, и на сей раз выговором не отделаешься. Да, ему будет недоставать отца, которого Алеша любит, считая особенным, справедливым человеком. А ведь еще и не знает отец, что Алеша едет в училище. Тамара помалкивает. Нужно непременно сказать ему, сказать вот сейчас, сию минуту. — Вчера ходили на комиссию, — глухо произнес Алеша. — Всем классом. — Что? На какую комиссию? — отец удивленно вскинул светловолосую с большими залысинами голову. — На врачебную. Отбирали в летное училище. — Кого ж отобрали? — Илью Туманова и меня. Отец встретился взглядом с Алешей и насупил прямые мохнатые брови. Отложил работу. — Это добровольно? — спросил он. — Да. — Что ж, Леша, смотри, тебе виднее. Смотри сам, — дрогнувшим голосом сказал отец. — Я понимаю… — В германскую как нас поливало снарядами в окопах! Казалось, никому не быть живу. Потом смотришь: вылазят, копошатся. Земля от всего спасает. А в небе не спрячешься. Там ты всегда на ладошке. — Теперь война будет другая, — возразил Алеша, — Совсем другая! — Какая б она ни была, а страдать все тому же человеку. — Войны не будет. Побоятся нас тронуть. А если тронут, худо придется им. У нас же силища какая! — Русский шибко колется, его голыми руками не возьмешь. Если тебе по душе, иди в летчики, — и принялся не спеша крутить цигарку. — Скорее шею сломаешь, — вытирая о фартук жилистые синие руки, проворчала бабка Ксения. — Батька твой тоже ходил добровольцем, хватил мурцовки. Отец улыбчиво посмотрел на бабку и сказал: — Пусть идет. А насчет шеи — кому что на роду написано. Недаром поговорку придумали: грудь в крестах или голова в кустах. Такой уж он и есть солдатский фарт. — Была б жива мать — не пустила бы, — сердито сказала бабка. Алеша знал, что отцу в германскую пришлось несладко. Почти три года пробыл на передовой, ранен, лежал в тифу. Отцу известна цена воинской доблести. И Алеша в глубине души гордился этим. — Пусть идет, — повторил отец, и глаза его повлажнели. Бабка спохватилась, ругнула себя: завтрак готов, а хлеба нет. И тут же послала Алешу в магазин. Он взял линялую холщовую сумку, перебросил через плечо и торопливо зашагал вдоль железнодорожного полотна к вокзалу. Дорога здесь после прошедших дождей была грязной и скользкой. Комки земли липли, как смола, к Алешиным тяжелым «вездеходам». Оглянувшись — нет ли поезда, Алеша поднялся на высокую насыпь и пошел по шпалам. Весь путь до вокзала и обратно он думал о своем скором отъезде. Алеша сядет в поезд — и для него начнется новая, совершенно незнакомая жизнь. Не будет рядом ни родных, ни теперешних школьных друзей. Илья Туманов, конечно, не в счет, он никогда не был настоящим другом Алеше. Илья много фасонил, строил из себя этакого страдающего Вертера. Ему нравилось по временам грустить. Для Ильи важно, чтобы его кто-нибудь видел в такую минуту и чтобы сказал о нем лестное, как о взрослом и умном человеке. Пожалуй, Алеша простил бы ему и Вертера. Но Илья в компании ребят делал вид, что любит стихи и что-то в них понимает. И даже иногда читал какие-то строчки. Вот этого-то Алеша не мог вынести. Он в глаза смеялся над Ильей. А тот пунцовел и нервно грыз ногти. Алеша думал и об историке Феде, который воевал с басмачами и знал Петерова отца. Федя, несомненно, был человеком незаурядным. Заикнулся, что решает один вопрос, а что за вопрос, так и не сказал.. Алеша уже не застал отца дома. Отец ушел по каким-то делам в город. Тамара ждала брата. Она очень любила его и хотела сделать для него что-то такое, чтобы он в чужом краю всегда помнил о ней. А что именно сделать — этого Тамара еще не решила. — Может, ты будешь курить? Тогда кисет, — раздумчиво сказала она. — Нет, курить я не буду. — Тогда я подарю тебе платочек. Сама обвяжу.К Алеше пришел дружок Ахмет Исмаилов, парень из десятого «Б». Черноволосый, черноглазый и широкоскулый татарин. Он был одет совсем по-летнему: в белой рубашке с короткими рукавами, в кепке. А ведь только что начинался апрель, и северные ветры нет-нет да и приносили с собой издалека лютый холод, особенно по вечерам. Тогда город, вынеженный весною, зябко ежился и кутался потеплее. Ахмет был на редкость способным художником. На выставках в Доме пионеров его работы собирали возле себя толпы людей. Об Ахмете восторженно писала молодежная газета, и вот уже второй год, как с ним занимался известный в республике художник-пейзажист. — Слышал, что уезжаешь. Вот и пришел, — просто, как о самом заурядном, сказал Ахмет. — Я сам собирался к тебе. — А меня не возьмут. Что-то с легкими не в порядке. Я болел еще там… Там — это в Китае. Отец Ахмета, старый большевик, работал в торгпредстве в Синцзяне. В Кульдже и умер, от туберкулеза, которым заболел еще в царской тюрьме. А матери Ахмет лишился раньше, чем отца. Какая-то свирепая болезнь была тогда. Многие умирали. И приехал Ахмет на родину, и живет теперь у тетки, отцовой сестры. — Это бы хорошо, если бы взяли меня, — мечтательно продолжил Ахмет и вдруг рассмеялся веселым, дробным баском. — Чего ты? — недоумевал Алеша. — А то, что Петер тебя обсуждать собрался. Куда-то вы ходили с Мышкиным. В ресторан? В общем, какая-то комедия с выпивкой. — Ты серьезно? Да мы ж обедали в ресторане. Ну пусть обсуждает теперь… Они не спеша прогуливались по тропинке, которая, обегая ржавое болотце, вела к полотну железной дороги. Временами Ахмет останавливался и, сдвинув иссиня-черные брови, смотрел на тополя, что стояли вдали раздетые, похожие на скелеты каких-то доисторических чудовищ. И вот кивком головы показал на них Алеше. — Это я б написал! Последнее время не могу писать зелень. Цветение садов тоже. У меня есть много этюдов, но они все лежат. Дикость! Будто предчувствие какое-то… Совершенно необъяснимое… — Пустяки, Ахметка. Плюй на предчувствия и пиши-пиши. Тебе ведь столько дано, пойми! — Сколько же?.. Не так много, Лешка. И сложное, и подчас совсем непонятное это явление — искусство. Тут и школа, и своя манера письма. И требование времени. Да-да, социальный заказ. Как у Маяковского. — Но это ведь то, что нужно! Ахмет грустно улыбнулся и неожиданно повысил голос: — Я никогда не писал портретов и не буду писать! А мой шеф, он понимает социальный заказ до смешного примитивно. Он, например, сказал корреспонденту, что я уже заканчиваю портрет первого нашего лауреата… — Ах вот оно что! Присудили Сталинские премии, — вспомнил Алеша. — А ты напрасно отказываешься, Ахметка. Такая колоритная фигура!.. Надо ж соображать! — Я понимаю, Лешка. Я все понимаю. Для другого такой портрет — находка, настоящий клад. Можно попасть на республиканскую выставку, прогреметь на всю страну. Но я — пейзажист! — Да сделай ты ему этого лауреата! — Шефу? — А то кому же? — Не могу. Я часто с ним спорю. Я понимаю: сейчас — особое, героическое время. Но ведь он пишет людей плохо! — горько, словно от полыни во рту, поморщившись, сказал Ахмет. Алеша смотрел, как судорожно прыгал у Ахмета острый кадык, как скулы заливал нездоровый малиновый румянец. И Алеше было обидно за друга, так обидно, как будто речь шла о нем самом, об Алеше. — Ахмет, а нельзя сменить шефа? Найти другого! — Он чувствует пейзаж. Ты бы посмотрел, как у него играет свет! Он талантлив, как шайтан.
7
Пассажирский поезд на Ташкент уходил вечером. Было свежо. В прозрачном воздухе далеко разносились звуки, и Алеша ясно слышал, как где-то, почти в самом центре города, прозвенел трамвай, как у ворот саксаульной базы тяжело гудел грузовик. Возле входа в вокзал у брошенных наземь чемоданов и рюкзаков толпились ребята. К ним подходили и подходили провожающие. Толпа на глазах разбухала, и вот уже через нее трудно было пробиться. Провожать Алешу и Илью Туманова пришел чуть ли не весь класс. Ребята откровенно завидовали будущим летчикам. Да и девчата тоже. Худенькая, бледнолицая дурнушка Тоня Ухова, которая жила всего дома через три от Алеши, призналась: — Вот ничего бы мне так не хотелось, как стать летчицей! А в училище почему-то берут только мальчиков. Это несправедливо! Ведь летает же Полина Осипенко! А Валентина Гризодубова! И Тоня обидчиво поджала алые, пухлые губы. В ней, пожалуй, и были по-настоящему красивыми одни губы. Губы казались чужими на ее бесцветном лице с птичьими одичалыми глазами — это не раз отмечал про себя Алеша. Отъезжающих обступили со всех сторон. Девушки по-сорочьи трещали своей стайкой, ребята старались держаться как можно поближе к Алеше и Илье. И только «женихи» Митька Кучер и Санька Дугин не спеша прохаживались несколько в стороне, у самых трамвайных путей. Илья Туманов, радостно возбужденный, суетливый, несколько раз отходил к билетным кассам и возвращался с неизменным: — Все еще оформляют. Лейтенант пошел с литерами к военному коменданту. Оно было уже из новой Алешиной жизни, это короткое, звучное и манящее слово — «литер». Конечно же, оно не имело никакого отношения к литературе. Впрочем, литеры рифмовались с юпитерами, с пюпитрами и еще со многими-многими заведомо поэтическими словами. Жаль, что у Блока в стихах нет литеров. В его времена это было презренной прозой. Он больше писал о Прекрасной даме и Фаине, И еще Карменсите, перед явлением которой слезы счастья душили ему грудь. А с Костей Алеша, пожалуй, помирится. Ну погорячились оба и хватит. Всякое в жизни бывает. Может, больше и не доведется увидеть друг друга. Например, начнется война, должна она начаться. А Косте никто и никогда больше не принесет из библиотеки новых стихов. — У вас литер один на всех? — спрашивал дотошный Сема Ротштейн. — Нет, у нас несколько литеров. Я сам видел, — в тон ему, серьезно отвечал Илья. И все-таки это было хвастовством: столько раз повторять полюбившееся слово. Примитивностью мышления. Алеша никогда бы не стал жонглировать этим словом, стыдно. И Костя тоже. А Костя в общем-то умный парень, только Влада его подпортила. Правду говорят, что с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и ехидничает он и не очень дорожит мужской дружбой. Но помириться с ним все-таки надо. И Алеша порывисто подвинулся к Косте, и сказал: — Живут вместе, как мы, привыкают, а потом однажды расстаются… Это было сказано таким тоном, словно разлука Алешу нисколько не касалась, словно уезжал кто-то третий. И Костя почесал затылок, невесело улыбнулся. Он понимал Алешино состояние, потому что сам чувствовал сейчас примерно то же. И не выдержал, положил свою широкую ладонь на Алешино плечо: — Эх, Леша, Леша! Не поминай лихом! — Ладно, — с облегчением вздохнул Алеша, казалось, только теперь осознавший все, что происходит. — Я напишу тебе. Но ты отвечай подробно. Интересно ведь нам, что у вас тут. Костя по-дружески обнял Алешу за плечи, и они отошли от ребят, чтобы их никто не слышал. И тогда Костя наставительно сказал: — Ты не ругайся с Ильей. — Да-да! — вдруг вспылил Алеша. — Ты хоть здесь-то не играй, Костя, в рыцаря! Пижон твой Илья! И ты это сам знаешь. Уж как он тебе нравится! Великодушен? Не набил тебе морду? А ведь набьет, подожди немного. — Он честный и добрый, Илья. И вот Алешу неожиданно озарила мысль, что это никто иной, а Костя сказал Петеру о ресторане. Ведь только ему, Косте, говорил Алеша об этом. Какой же Алеша дурак, что подошел мириться и в момент раскис, когда надо было совсем не замечать Костю. Да и как же иначе поступать с предателями! Алеша уши развесил, слушая Костины советы. «Не ругайся с Ильей, он честный, он добрый»… А сам-то честен, Костя!? Еще и другом называешься! — Знаешь, знаешь!.. — смуглые щеки Алеши побледнели. — А ведь я тебе не прошу! Как хочешь, так и считай. Я ничего не боюсь… Но ты поступил подло! — Ты о чем это? — удивился Костя. — Сам знаешь! А дружить с тобой не стану! — Эх ты! Ну и не надо! — Костя плотно сжал сухие, запекшиеся губы. Примирение не состоялось. Они разошлись и уже не подходили друг к другу до самого отправления поезда. С огольцами подкатил на трамвае Васька Панков. Ватага с ходу шумно врезалась в толпу. Васька редко показывался одноклассникам со своими уличными дружками, стыдился он своей компании. И сейчас, заметив в толпе длинного Илью Туманова, он круто отвалил от огольцов. На какую-то минуту Васька совершенно потерялся из виду и подскочил к Алеше уже со стороны вокзала. — Привет славной советской авиации! — живо заговорил он. — А мы что? А я что?.. Кто любит ползать — летать не может. Разве не так? Но бог не фрайер, он правду видит. И я вот соберусь и рвану в Китай по следам старика Пржевальского! Девушки сдержанно рассмеялись. Влада кокетливо дернула розовым носиком: — Да ты уж лучше в Африку, на Замбези, например. На озеро Чад, к пигмеям. — А чем Китай хуже? Кашгария, Гоби, Лхаса! — сказал Васька, упиваясь звуками чужих названий. — Я всем докажу. Я побываю в этой варварской стране… Я пройду с караваном верблюдов по горячим пескам Синцзяна! Он потянулся к Алеше и горячо зашептал на ухо: — Не подумай, что треплюсь. Девушки потихоньку затянули подходящую к случаю песню:8
Перрон опустел как-то сразу, едва скрылся в пепельном сумраке последний вагон поезда. А Влада отошла к воротам и остановила Костю, чтоб им идти вдвоем. Проводив поезд, Костя почувствовал себя совсем скверно. Вот уехали в Ташкент Илья и Алеша, а он остался. Ему вообще не везет. Алеша набросился на него, а за что? Насильно мил не будешь — правильно говорят люди. Но жалко, что так вышло именно сегодня, в день Алешиного отъезда. А с Ильей Костя простился как положено. Илья не должен обижаться. Если б можно было что-то изменить в этой истории с военным училищем! Ведь Костя так надеялся, что его возьмут в летчики! Он говорил об этом, как о решенном деле. А теперь ему было и обидно, и неловко перед Владой за свою самоуверенность, словно Костя повинен в том, что не поехал с Ильей и Алешей. Илья, разумеется, был сейчас героем для Влады, она ведь не пыталась понимать того, что случилось. Костя во время проводов старался держаться в тени. Он не подходил ни к Илье, ни к Владе, хотя в душе был недоволен собой. Не трусость ли это, если уж говорить честно? А может, лицемерие? Все равно как это называется, но он не мог поступить иначе, такой уж он есть. Они медленно шли мимо спрятавшихся за тополями белых мазанок, мимо редких трамвайных остановок, которые угадывались по стоявшим у рельс людям. Шли по плохо освещенным сквозным улицам, убегавшим далеко-далеко в горы. И странно: эти, хорошо знакомые, места казались Косте совсем чужими, словно не он, Костя, восторженно и неизбывно любил свой город. Сейчас он не находил в душе даже слабого отзвука этому чудесному весеннему вечеру, желтым цепочкам огней, говорливым арыкам и тополям. В душе была какая-то ужасающая путаница чувств. И мысли его путались, словно распущенный клубок ниток. В памяти быстро мелькали вроде бы ничем не связанные картины, будто случайные кадры кино. То Костя вспоминал зеленые бахчи с осыпанными росой полосатыми арбузами, то пыльные машины, доверху груженные рогастым саксаулом. Чертовщина какая-то! Впрочем, это были куски все той же Костиной жизни. Она как мозаика: каждый камешек врозь ничего не значит, а все вместе имеют какой-то большой смысл. Влада шла неторопко, чуть впереди, устало переставляя ноги. Костя на ходу перебрасывался с ней малозначащими, случайными словами. Она сказала: — Все мы тщеславны. — Да, — рассеянно ответил он, но тут же спросил ее: — Это почему же? — А потому, что каждому хочется быть не как все. И даже не обязательно быть, а хотя бы казаться. Мы артисты. И ты артист, да-да, Костя, — она искоса посмотрела на него смеющимися глазами. Разговор был явно мелким для сегодняшнего вечера. И, может быть, даже не столь мелким, а, вообще, совершенно не тем, какого ожидал Костя. Ведь внезапный отъезд Ильи должен изменить отношения Кости с Владой. Или сблизить их навсегда или разъединить. И Костю страшила возможная размолвка. Он чувствовал, что нужно заговорить о самом важном или уж совсем молчать. Влада обычно не терпит пустословия. Но Костя остановился на минуту и спросил только: — Ты веришь в судьбу? — Я тебя не совсем понимаю, — продолжая думать о чем-то своем, с усилием сказала она. — В предопределение веришь? Чему быть, того не миновать — так? — Не верю. — И я тоже не верю, — сквозь стиснутые зубы медленно сказал он. Они вошли в зыбкую полосу света, отбрасываемого плафонами у подъезда большого черного здания. Влада остановилась, привычным жестом поправила коротко стриженные волосы. И Костя увидел, как ярко блеснули белки все еще смеющихся ее глаз. — Человек должен быть сильным, достаточно сильным, чтобы самому сделать свою судьбу, — негромко сказала Влада. — Конечно, — согласился Костя. — Но не всегда и далеко не все зависит от воли и желания человека. Есть объективные причины, так ведь? — Которые выдуманы людьми слабовольными, — отвернувшись от Кости, куда-то в сторону бросила она. Он уловил в ее мягком и милом голосе иронию. Но Влада тут же сказала, как бы извиняясь: — Кажется, я нагородила тебе всяческой чепухи. Хотя, откровенно признаться, мне импонируют сильные натуры. Им все возможно, все доступно. — Это что же, сверхчеловеки? — Да, такого бы я полюбила, пожалуй, — словно не расслышав, что сказал Костя, подумала она вслух. — Тебя временами не мучает ощущение пустоты? — В голове, что ли? — задиристо спросил он, хмурясь. — Да, если хочешь. Это бывает, когда теряешь цель. — А ты ее не теряй. Идем, — сказал Костя и осторожно коснулся рукой ее острого, точеного локтя. Она вздрогнула от этого короткого прикосновения и решительно высвободила руку. И Костино сердце ужалила обида. Первым желанием было покинуть Владу, никогда больше не быть с ней. «В чем я виноват? Что остался дома? Вздорная она и глупая. Вот возьму и сразу скажу ей все», — мстительно подумал Костя. Однако он ей ничего не сказал, а только замолчал, и они молча шли до самой калитки. И это еще больше злило его. Костя поздно вернулся домой. Не зажигая света лег в постель. И слово за словом перебрал в памяти весь разговор с Владой. И нисколько не пожалел о случившемся. Отъезд Ильи, разумеется, тут ни при чем. Владе просто скучно, она не может жить без этих сложностей, она сама создает их.Костя проснулся и увидел у своей постели мать. Располневшая с годами, она, скрестив руки на животе, устало и грустно глядела на сына. — Поссорились с Владой-то? Я так и рассудила вчера, когда ты тут охал. Уж и не ведаешь, где найдешь, где потеряешь. Может, оно и к лучшему все. Ну не бывает же так, чтобы одна девка гуляла с двумя парнями! Это же чистое позорище, когда вот так. Балованная, значит, она и в жены не каждому годится. — Хватит, мама, — нахмурился Костя. — Ты вот не слушаешь. А я вот желаю, чтоб тебе было спокойно и хорошо. — Да зачем он мне, твой покой? Зачем? — Сколько их ходит, умных да степенных, а вы с Ильей Тумановым как два дурачка. Да, она, наверное, и обеда приготовить не сумеет. И белье не постирает. — Брось, мама! Ты пошла бы в кухню. Там что-то кипит, — сердито проговорил Костя, подумав о том, что настоящей любви, очевидно, не бывает без вот таких душевных мук. Надо пройти сквозь это. И напрасно, совсем напрасно он обвиняет Владу. Ведь, в сущности, ничего не произошло. — Это у тебя кипит, Костик. Ну не буду, не буду. Не промахнись только, — и совершенно другим тоном спросила — Лешу-то проводили, чай? Костя утвердительно качнул головой, отбросил пятерней упавший на лоб вихор. — Илью тоже? — Да, да, да! Всех проводили! — грубо сказал Костя. Мать поспешно, как бы взбираясь по невидимой лесенке, замахала руками и подалась в кухню. А когда Костя несколько остыл, он понял, что мать не столько говорила о нем, сколько о себе, о своей жизни. Нет, она никогда не жаловалась сыну на свою долю. Но она не была счастливой — это знал Костя. Когда отец, жилистый мужик с длинными руками и маленькой головой, напивался, он любил куражиться и говорить, что взял за матерью приданого одних вшей, а ввел ее женою в дом крестовый. Отец хвастался, а мать, сощурившись, холодно смотрела на него или даже сквозь него. И не было в этом взгляде ни капельки уважения к нему, ни сочувствия, ни жалости. Вечером того же дня мать снова заговорила о Владе: — Модница она. Леша-то вот рассказывал, будто стриженая. Ну как же так? Девушка должна быть обязательно с косами, а не с сосульками на голове. — Не лезь, безмозглая женщина, — оборвал ее отец. — Пусть ухаживает, коли нравится. Ты же не знаешь про нее ничего. А у Костиной крали отец в начальниках. — Не с ним Костику жить. Если уж что, так к нам приведет жену, как положено. Костя решительно поднялся, чтобы уйти к себе в комнату. Как надоели ему эти разговоры о женитьбе! Невесту ему, видите ли, подыскивают с богатыми родителями, как в старые времена. И то им неладно во Владе, и другое. — Откуда вы взяли, что я хочу жениться? Да никогда я не женюсь, уеду в армию! Лешка уехал, и я уеду! — рубанул рукою воздух. — Коням хвосты крутить? — рывком повернулся к нему отец. — В летчики. — А учил я тебя зачем? У Алешки жрать нечего, вот и поехал. А тебе и котлетку подай, и маслица. А ты на курсы иди. На инженера или на бухгалтера. — Не хочу! — Ну это мы еще посмотрим! Меня на кривой не объедешь. Я тебе не манекент. — Манекен, — поправил Костя. — Выучился на собак брехать, — сердито проворчал отец. А мать про свое. Ее терзала мысль о своенравной Владе, которая помыкала Костей, таким умным, таким рассудительным Костей. — Видел ее в школе? Таки не помирились? Гордая. Куда уж барыне знакомство водить с тобою. А ты ведь отличник, председатель учкома. — Хватит, мама, о ней, — сказал Костя и ушел к себе. Всю ночь он писал стихи и негодовал. В самом деле, Влада всегда относилась к нему, как к мальчику. А он давно уже мужчина. Захочет и действительно уйдет в армию, хоть сегодня. В кавалерию, в пехоту — куда угодно. Человек и впрямь должен быть сильным. И кому сейчас нужно учиться, когда на земле идут войны и льется кровь. «И я хочу, хочу туда, где бой», — шептал он.
Назавтра Костя впервые ушел с уроков. Вместе с Ваньком. Прямо из школы они направились в военкомат, по пути горячо обсуждая, как добиться, чтоб их непременно взяли на службу. Во дворе военкомата какие-то люди, сбившись в кучку, по команде надевали на потные лица и снимали глазастые противогазы. У них это получалось сравнительно ловко. Видно было, что тренируются не впервой. — К соревнованиям готовятся, — заметил Ванек. Люди были в военной форме. Ими командовал высокий и костлявый мужчина с двумя шпалами на малиновых петлицах. Он-то и оказался районным военкомом, как объяснила ребятам девушка, наблюдавшая за учениями из распахнутого окна. Она была тоже в гимнастерке и пилотке. — Но вам, очевидно, нужен капитан. Это вот тот, большеносый, который слева, — сказала она. Костя и Ванек дождались, когда закончилась тренировка, и вошли в дом следом за капитаном. Он на ходу уложил противогаз в зеленую сумку и вытер руки носовым платком. Капитан принял их в крохотной комнатке с двойною решеткой на окне. Разумеется, он хранил здесь много разных тайн. — Вы ко мне? — К вам, товарищ капитан! — бойко ответил Ванек, поедая глазами командира. — Хотите в училище? — Мечтаем. — А мест нет. — Как же? — сказал Костя, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. — А в Ташкент, в летное набирали, так ведь? — Пришел запрос, вот и послали. — Может, еще куда… — попросил Ванек. — Нет, — отрезал капитан, углубляясь в бумаги. — Нынче много охотников. Всем надо в училище!.. Делать было нечего. Они вышли на крыльцо, опечаленные до крайности. Жаловаться-то некому — вот беда. Такие уж в армии порядки: сказано тебе и — валяй! А следом за ними из военкоматской двери вышел Федя. Ребята удивленно переглянулись. Как и когда он мог обойти их? И чего он здесь? Федя обрадовался им: — Не унывайте, мои юные друзья! Все образуется со временем. Только — т-с-с! — с таинственным видом он приложил к пожухлым губам короткий и толстый палец. — Меня тоже не берут. А я тоже есть человек, существо мыслящее, разумное.
9
Илье и Алеше казалось, что они еще не сходили с поезда. После суток пути их покачивало, и в ушах стоял дробный, клонящий ко сну перестук колес. А жара и духота была в Ташкенте похлеще вагонной. На улицах, в скверах ярко зеленели деревья. У кинотеатра веселые торговки продавали большие букеты красных полевых тюльпанов. Но цветы ребята увидели только назавтра, а в тот, первый, день они с поезда кинулись к трамваю, сколько-то ехали, потом слезли и долго шли пешком. По извилистому шоссе, по теплым его булыжникам — было где-то около одиннадцати утра. Но шоссе вдруг кончилось, и потянулась разбитая — яма на яме — грунтовая дорога. Ее покрывала подушка из серой, похожей на пудру пыли. У колонны новобранцев был довольно живописный вид. Строй совсем поломался, ребята, шагая в облаке пыли, наступали друг другу на ноги, чихали, плевались. А встретивший приезжих на вокзале маленький, верткий сержант, шагал стороной, то и дело покрикивая: — Не растягиваться! Разговорчики отставить! Ребята уже знали, что у сержанта фамилия Шашкин, что он сам ничего в авиации не смыслит, потому как до последних дней служил в пехоте. В училище приехал тоже добровольцем. И тут его, как и всех прибывающих, пока держали в казарме карантина, где Шашкин командовал не обмундированными и не принявшими присяги новичками. А до пехоты был Шашкин в кавалерии, а всего он служил в армии без малого пять лет. Выглядел он браво, как и положено бывалому бойцу. С завидной лихостью сидела у него на затылке поношенная шапка-маломерка, а перехваченная широким командирским ремнем гимнастерка была выутюжена, и подол ее щегольски собран сзади гармошкой. Когда подошли к будочке, у которой прохаживался разомлевший от жары часовой, сержант Шашкин пересчитал новобранцев, и колонна через узкие ворота втянулась в довольно просторный двор, сплошь застроенный низкими, словно вжатыми в землю, деревянными казармами. У одной из них Шашкин приказал строю разойтись. Пока он куда-то ходил, ребята приводили себя в порядок. Хлопали пропыленную одежду, мылись у арыка, а кое-кто уже, развязав сидора — мешки с харчем, — обедали. Алеша и Илья отошли подальше от толпы и расположились в тени старого мелколистного карагача. Усталые, потные, они были рады отдыху. Илья сразу же снял с себя тяжелые сапоги, прислонился головой к дереву. — Кажется, добрались, — сказал он. — Какое у нас сегодня? — Девятнадцатое. — Уже и апрель на исходе. Как думаешь, к празднику обмундируют? — Все может быть, — медленно, будто выдавливая из себя каждое слово, проговорил Алеша. — Только Шашкин сказал, что это не училище, а школа. — Какая разница! — Может, и нет никакой. Но, по-моему, школа в армии вроде курсов. Из нее выходят младшие командиры. — А зачем здесь Шашкин? Ведь он уже сержант. Алеша процарапал языком по вязким и соленым от пота губам: — Не знаю. Может, кого и переучивать будут. Авиацию укрепляют. Самолетов-то тысячи понастроили. — Конечно, мы теперь самая могучая страна, — сказал Илья. После некоторого молчания, когда казалось, что он уже спит, Илья принялся насвистывать мотив «Трех танкистов». Он был явно доволен жизнью и больше не вспоминал о Владе. Они еще долго говорили о чем придется — о погоде, о пыльных ташкентских улицах, о сержанте Шашкине, боевом, в общем-то, неплохом малом, с которым надо быть как-то поближе. И ни словом не обмолвились о школе и друзьях, как будто за эти двое, удивительно необычных суток стали намного взрослее и теперь стеснялись своего глупого и ничем не примечательного детства. По-летнему теплый день вскоре совсем разморил их. Глаза слипались, придавленные тяжестью век. И Алеша уже устраивался вздремнуть, когда к ним подошли и присели рядом на корточки два парня вмайках-безрукавках. Один из них — коренастый, с ежиком пепельных волос на голове — сорвал стебелек сухой травы, размял его пальцами на потной ладони и понюхал: — Мята. Вишь, сколько ее тут… Вы недавно приехали? — Да, — ответил Алеша. — И пожрать у вас есть? Тут, понимаешь, пшенный суп да каша. Да еще компот. И все. Илья молча развязал рюкзак и дал парням по пирожку с картошкой. Они тут же кинули пирожки в рот, прохрустели поджаренной корочкой и, как по команде, облизнулись. — А еще? — спросил другой. — Чего это ты дал нам? Только раздразнил. Мне их с полсотни надо на один зуб. — Давно здесь? — Да уже две недели. А вы у кого? У Шашкина? — Он нас встречал. Наверное, у него, — ответил Алеша. — Тигра он лютая. Перед командиром вьется, как змей, выслуживается, из кожи лезет, чтобы угодить. А вы знаете, что такое сачок? — Ну как же, — сказал Илья. — А все-таки? — коренастый хитро сощурил глаза. — Сачок и сачок. Парни в майках снисходительно заулыбались. Они считали себя уже посвященными во все тонкости армейской жизни и относились к новичкам с оттенком превосходства. — Да не совсем так. Сачок — это современный авиационный человек особой конструкции. В сокращенном виде. Вскоре Илью и Алешу устроили на ночлег, но в разные казармы. Они решили поменяться местами с ребятами, и мена продолжалась до самого вечера. А назавтра, чуть свет, новобранцев подняли мыть полы в карантине и приводить в порядок захламленный двор. Алеша и Илья сами вызвались подносить воду. Они отправились к водоразборной колонке с большим деревянным ушатом, который вручил им Шашкин. Идти было далеко, а посудина оказалась тяжелой. Они наполнили ушат до самых краев водой и осторожно, чтобы не расплескать, понесли к казарме. Но, пройдя всего несколько метров, остановились. — Тяжело. Руку режет, — сказал Илья, критически разглядывая заалевшую ладонь. И снова понесли. А когда остановились во второй раз, взяли да и выплеснули часть воды на землю. И увидели Шашкина, стоявшего у входа в казарму с пожилым капитаном в летной форме. Они оба — Шашкин и капитан — осуждающе смотрели в сторону Алеши и Ильи. И вот Шашкин что-то сказал капитану, сделал рукой под козырек и подозвал Алешу. — Зачем вылил? — А ты попробуй унести полный! Попробуй-ка ушат, какой он есть. — Придуриваешься? А ну марш по воду, и чтобы как положено! Кругом! — скомандовал Шашкин, еле сдерживая бушевавшую в нем ярость. Алеша пристально посмотрел в колючие, неопределенного цвета глаза сержанта и не спеша пошел прочь, к воротам. Чего хочет Шашкин? Он хочет, чтобы дрожали перед ним. Но ведь Шашкин несправедлив: ушат и в самом деле тяжел. Не надрываться же. — Кругом! — снова послышалась отрывистая команда сержанта. Алеша остановился, взглянул на стоявшего у ушата Илью и, стиснув зубы, направился к нему. Но тут же услышал пронзительный сержантский голос: — Кругом! Я научу, как вести себя в присутствии командира. Ты у меня будешь шелковым! Ты у меня!.. И Шашкин в запальчивости рванулся к Алеше, чтобы устроить еще больший разнос. Но сержанта спокойно остановил пожилой капитан: — Может, и в самом деле тяжело. — Да придуриваются они, товарищ капитан. «Правду сказали ребята о Шашкине. У этого не очень засачкуешь», — подумал Алеша. — Несите что есть, — сказал капитан. Завтракали и обедали призывники уже в столовой, куда их водили строем. Столовая была во дворе летной школы. И призывники видели, как маршировали на плацу курсанты с голубыми петлицами — будущие штурманы-бомбисты. Они шли словно на параде — четко, в ногу, — и лихо, с присвистом пели. Конечно, это была не пестрая команда сержанта Шашкина.Препоручив чемодан и рюкзак соседям по нарам, Алеша и Илья отправились смотреть Ташкент. Они не спросили разрешения, ибо знали, что их не отпустят, и вышли со двора через щель в дувале, следом за другими парнями. К центру города они шли узкими, как школьные коридоры, и грязными улочками. Справа и слева теснились бесконечные саманные дувалы. Ребятам встречались высокие, скрипучие арбы, запряженные верблюдами, степенно вышагивавшими и державшими высоко губастые головы. Мелко семенили игрушечными ножками ишаки, пронося на провисших спинах тучных всадников в полосатых, подвязанных платками халатах и белых шароварах. Спешили, прижимаясь к дувалам, темнокосые и синебровые женщины с позвякивающими монисто из продырявленных серебрушек. У некоторых лица были закрыты черной паранджой. Здесь, на далекой окраине старого города, казалось, что время еще никак не коснулось Азии, и она, пройдя через революцию, сохранила свое древнее лицо. Очевидно, ей трудно было вот так, сразу, стать иной. Но это впечатление рассеялось, когда ребята миновали белокаменный мост над бушующей горной рекой и вышли на мостовую. Мимо них теперь то и дело пробегали грузовики, мягко, почти бесшумно шуршали шинами быстрые «эмки». И когда улицы стали шире, светлее, и по их сторонам потянулись укрытые тополиным шатром асфальтовые тротуары, ребята поняли, что они приближаются к центру. Они шли теперь новым, современным Ташкентом, построенным в тридцатые годы. Алеша и Илья бродили по магазинам, часто останавливаясь у витрин, у прилавков, а еще чаще — у киосков, в которых продавали то папиросы, то морс и лимонад. Когда им очень уж хотелось пить, Илья шарил в карманах, доставал деньги, и они покупали газированную воду без сиропа. Иногда платил Алеша. Они бродили по площади, смотрели старинные позеленевшие от времени пушки у музея и до последней строки читали афиши у театрального подъезда. Тени деревьев косо расчертили улицу. А это значило, что команда новобранцев скоро должна была идти ужинать. Не опоздать бы. А то — придется ложиться спать с пустым желудком. В казарме их ждала новость, которая потрясла весь карантин. Школа штурманов-бомбистов закрывалась. Курсантов отправляли в кавалерию, а новобранцев распускали по домам. — Как же так? — разводя руками, скороговоркой проговорил Алеша. — Не надо было срывать нас с учебы! Ну зачем мы сюда ехали? — То-то и оно, — мрачно согласился коренастый парень в майке, один из тех двоих. — А мы-то чудаки. Думали, зачем нас в карантине держат? Оно вот зачем. А теперь езжай на все четыре стороны…
10
На вечер назначили репетицию «Медведя». После уроков, когда все разошлись, Алеша раскрыл истрепанную тетрадку с переписанной ролью и, охватив руками лохматую голову, углубился в текст. Еще в классе была Лариса Федоровна. Она, сидя за столом, неторопливо листала классный журнал, изредка поглядывая на Алешу. Он энергично гримасничал и бормотал, а ей было это немножко смешно. Она недалеко ушла от ребят, которых сейчас учила: им — по семнадцать, ей — двадцать четыре. Разница не так уже велика. И хочется ей подурачиться иной раз. А главное — не оглядываться, будь что будет. Алеша вдруг отложил тетрадку и, потягиваясь, сказал: — Пора бы начинать. Лариса Федоровна отвернула рукав бостонового пиджака, посмотрела на часы и перевела на Алешу спокойный взгляд. — Они вот-вот придут, — медленно, уставшим за день голосом проговорила она. Алеша и Лариса Федоровна ждали Ваську Панкова и Веру из десятого «Б». Вера еще была на уроке. А Васька побежал домой попроведать больную мать. Вера нравилась Алеше, хотя, если бы его спросили, что в ней хорошего, он затруднился бы ответить. Просто она красивая. Алеша не раз заглядывался на мягкий овал лица, на темно-синие ясные глаза. А еще у Веры были тяжелые косы, одну из них она забрасывала на грудь. Из-за Веры как-то обидел Алеша Ларису Федоровну, когда распределяли роли в «Медведе». Понятно, что все тогда волновались: ролей было мало, а каждому хотелось участвовать в спектакле. — Кто будет играть помещицу-вдову? — спросила Лариса Федоровна, оглядывая класс. Кто-то сразу назвал фамилию Веры. Вспомнили, что ее обычно ставили на главные роли. И ребята уже согласились: пусть будет Вера. Но вдруг поднялся Костя Воробьев. Он понял по голосу Ларисы Федоровны: она сама хочет сыграть эту роль. И Костя сказал, что лучшей помещицы, чем Лариса Федоровна, даже не придумать. Конечно, он был не очень далек от истины. Алеша же заупрямился. Роль Медведя ему была уже уготована, и он собирался играть ее в паре с Верой. А тут почему-то предлагают Ларису Федоровну. Это даже как-то неожиданно и не очень понятно. Алеша вскочил и в явной запальчивости бросил: — Лариса Федоровна? Надо бы помоложе, я так думаю. Ребята сперва притихли, но через минуту-другую поднялся невообразимый галдеж. А Лариса Федоровна пунцово вспыхнула и, призвав класс к порядку, сказала: — Колобов прав. Пусть будет Вера. Что и говорить, обиделась тогда Лариса Федоровна. В тот вечер она старалась совсем не смотреть в сторону Алеши. Да, не подумал он, а больше виновата Вера. Конечно, Вера равнодушна к нему, как все другие девчонки в классе, совершенно не замечает его. Вере нравился Сема Ротштейн. Он альпинист, хорошо ходит по горам на лыжах. Но это ведь еще не все, этого ведь так мало для человека, чтоб его уважать… Лариса Федоровна захлопнула журнал и встала. Поправляя руками прическу, прошлась до двери, повернулась, оперлась спиной о косяк. Затем пристально посмотрела на Алешу: — Колобов, зачем ты пошел в училище? Он не понял вопроса. Может быть, она спросила его, зачем ехать в такое училище, которое расформировалось. Может, она хочет услышать, почему он поступил так, а не иначе. Или она вообще против военного образования? — Я вас не понял. — В тебе нет военной косточки. — Вы так думаете? — Абсолютно уверена. — Ну, а если война? — Война — другое дело. Тогда и пойдешь на фронт, вместе со всеми. — Я как-то не думал об этом. В училище всем хотелось. Не отставать же мне от ребят. А получилось, что взяли именно меня. — Я рада, что ты вернулся. Кончай десятилетку, Алеша, — и она снова прошлась по классу от стены до стены. Васька, игравший слугу Луку, и Вера пришли почти одновременно. Сделали выгородки: стол вплотную придвинули к доске, вместо дивана поставили стул, а вместо комода — парту. Вера закрутила свои большие черные косы в тугой клубок на затылке и заколола его длиннозубым роговым гребнем. Предполагалось, что это приблизит ее к образу. Репетиция шла гладко. С первой же сцены Васька стал «откалывать» такого Луку, что Лариса Федоровна диву далась: натуральный старик. Вот только голос надо несколько приглушить. — И, пожалуйста, певуче, по-стариковски. — Это можно, — ответил Васька, но тут же переборщил. Речь Луки походила теперь на глухое рычание растревоженного зверя. В дополнение ко всему Васька делал совершенно свирепую, кровожадную гримасу. — Помягче, — подсказала ему Вера. — Лука — верный слуга мой. А ты почему-то хочешь меня съесть. Алеше не давалась никак сцена дуэли. И даже не вся сцена, а финал, когда «Медведь» целует вдовушку. Получалось как-то сухо и фальшиво. — Ну кто так целует! — искренне возмутилась Вера. — Он совсем не умеет целоваться. Лариса Федоровна смущенно засмеялась: — Ну что делать! Давайте повторим заключительный момент. — Другие-то ведь умеют, — старческим голосом сказал Васька. — А мы не горазды… — Да дома тебя кто-нибудь целовал? — все еще раздражаясь, спросила Вера. — Чего ты ко мне пристала! — поморщился Алеша и вдруг взорвался: — Не могу! И не хочу учиться! И не нужна мне эта роль! Берите кого-нибудь другого. Васька схватил Алешу за руку, чтобы тот не сбежал: — Брось трепыхаться. Почему-то я не сержусь, когда меня гоняют. Ну, поцелуй ты ее покрепче! Пусть отвяжется. — Становись сюда, а я вот так. Обними меня, ну! И целуй, — учила Вера. — Правильно ведь, Лариса Федоровна? — Пожалуй. Только подойди поближе, Колобов. Начали! — сказала Лариса Федоровна. — Да ты уже влюблен в нее. Влю-блен! Алеша покорно приблизился к Вере. Дрогнувшей рукой обнял ее за податливую талию, и Вера потянулась к нему. И он увидел совсем рядом ее алые губы, и поцеловал их. Алеша решил, что Вера рассердится, даст ему пощечину. Нужно было как-то по-иному, может, совсем не в губы. Но Вера искренне удивилась Алешиной смелости и кокетливо, совсем как помещица-вдовушка, проговорила: — Это уже ничего. Мне кажется, что ты понемногу входишь в образ. Лариса Федоровна сдержанно рассмеялась, но не сказала ни слова. Они тут же начали репетировать все сначала. А когда Алеша поздно вечером шел домой, он всю дорогу думал о непостижимой загадке любви и об этих в общем-то неумелых поцелуях. И было жаль, что все это только на репетиции. И если бы барина играл не Алеша, а кто-то другой, то он бы, этот другой, и целовал Веру. А Семка, тот целует ее совсем не так. Ведь она дружит с ним. Значит, нравится он Вере. Ну и пусть нравится!.. Эх, если бы Вера полюбила Алешу! Но она почему-то не видит в нем взрослого парня, с которым можно дружить. Алеша же робеет, теряется перед ней. Даже когда целовал ее на репетиции и то терялся. И сердился-то он на нее и на Ваську из-за своей робости. А ночью родились строчки:Радужным, росным утром, когда теплое солнце встало над тополями, Алеша тихонько постучал в окно Косте. Тот заскрипел койкой и тут же вышел во двор. Алеша не мог подолгу сердиться на людей. Помирился он и с Костей в первый же день, когда снова пришел в школу. Сейчас он с ходу прочитал стихи. И они прозвучали откровением. Алеша уже придумал для них довольно точное определение: поэтическая формула неразделенной любви. Так в журналах всегда пишут критики, когда их что-нибудь вдруг хватает за сердце. Разумеется, слова у критиков умные, изысканные, критики обязательно ввертывают что-то замысловатое, без этого они не могут никак. — Вещь, — протянул Костя. — Чувствуется… — Вот именно. Жизненный опыт, — с явной торопливостью подсказал Алеша. — И еще проникновение автора в сокровенные тайники экзальтированной человеческой души. Так, что ли? — Критики — гады. Их, пожалуй, нужно расстреливать, как Суворов советовал поступать с интендантами. Покритиковал пару лет и — к стенке! Без суда и следствия! Наверняка за это время ухлопает, да еще и ни одного, поэта. — Верно, — охотно согласился Алеша и вдруг спросил: — А как у тебя с Владой? — Поругались. На этот раз навеки. С меня хватит! — Может, передумаешь? Я ведь тебя знаю, — сказал Алеша, втайне радуясь очередной размолвке между Костей и Владой. — Нет, теперь — ни за что на свете! — Так уж и ни за что! Не сговариваясь, они пошли к Ваньку. Это было почти рядом, всего каких-то две улицы перейти. У Ванька есть настоящий футбольный мяч, а возле Ванька, между домом и железной дорогой, — пустырь, где можно свободно поиграть: ни воды близко, ни окон. По пути Алеша подробно, с юморком рассказывал о злополучной поездке в Ташкент. Костя то поддакивал, то возмущался, весело смеясь и вспоминая что-то свое. И ни капли не сердился он на Илью, словно они всегда были закадычными, искренними друзьями. Алеша не очень понимал, что же это. Если Костя в самом деле любил Владу, то не мог он ее усту пить Илье. А если не любил, то зачем столько трагических переживаний? Разве что для стихов о несчастной любви? Жалостливые стихи почему-то больше нравятся и себе, и людям. Особенно те, что с надрывом, со слезой. К Ванькову кряжистому дому они подходили в обнимку. И Ванек приметил их в окно за целый квартал. Он выскочил на пустырь в черных сатиновых трусах до колен, в бутсах и сильно пробил мяч ребятам. Костя рванулся ему навстречу, ловко, как пушинку, поймал мяч, подбросил его и принял на голову, на свою лопоухую умную голову. Ванек пружинисто запрыгал на месте, как это делают, разминаясь, футболисты. Затем нагнулся, стал поправлять шнуровку на бутсах: — Живем, робя! Отец дает коня на две ездки. По воскресеньям. Будем возить саксаул и пить пиво! — Не врешь? Вот это да! — Алеша от удивления раскрыл рот. — Нас опять продаст Костя. Ты ему, Алеш, как человеку сказал, а он… Ну чего на меня зенки уставил? Ты рассказал Петеру про ресторан? — наступал Ванек на Костю. — Да ты что! — не на шутку вспылил Костя. — Ты продал! — Подожди, Ванек. Это не он, — становясь между ними, сказал Алеша. — А я знаю кто! Точно знаю! — Кто? — Вас продал Федя! — озаренный внезапной догадкой, выпалил Костя. — Он! — Ерунда! Ни за что не поверю! Нет, — убежденно возразил Алеша. — Федор Ипатьевич ненавидит доносчиков, он правдивый человек. — Все это так. Только вы послушайте. Федя — старый друг Петерова отца. Они запросто с Петером. Федя мог все рассказать Петеру от чистого сердца, а тот дело завел. — Он не любит Петера. Не откровенничает с ним, — снова, еще решительнее, возразил Алеша.
11
Урок военного дела был общим для двух десятых классов. В небольшом школьном тире, недавно построенном ребятами, учились стрельбе из мелкокалиберки. Пахло порохом. С короткими перерывами тонко и протяжно похлестывали выстрелы да раздавался сухой старческий кашель много курившего военрука. Всякий раз на линию огня выходило по четыре человека, а остальные тесной группой стояли метрах в пяти позади и молча наблюдали за стрельбой. Если же кто-нибудь заговаривал в полный голос, военрук исподлобья строго смотрел в толпу, выискивая виновника. А когда находил, командовал «молчать!» и грозился доложить об этом директору школы. Но, на счастье ребят, военрук страдал склерозом и о своей угрозе тут же забывал. В тир пришел историк Федя. Все знали давно: когда Гладышев был свободен от урока и слышал стрельбу, он не выдерживал этого соблазна. Он давал здесь ребятам советы. Военрук иногда сурово хмурил брови, слушал Федю, но из уважения ничего не говорил. Вот и сейчас, пока смотрели мишени, Федя, размахивая руками, торопливо рассказывал Илье Туманову: — В тире стрелять можно. Здесь бьешь с упора. А попробуй ударить на полном скаку. Ряз, ряз, ряз! — И попада́ли? — спросил Илья. — А если бы мы, мой юный друг, не попада́ли, то не было бы и Советской власти. У Петькина отца… Петер сурово покосился на Федю, отошел в сторону. Но Федя продолжал, как ни в чем не бывало: — У Петькина отца был новенький английский карабин. Он его в бою добыл, когда Султанбека к границе гнали. Прыткий был такой Султанбек-курбаши, что дикая кошка, а бороду носил кучерявую и красную, как огонь… Заметив явное недовольство Петера, Федя смолк, повернулся и, не спеша, подался в школу, сникший, словно трава под набежавшим вдруг ветром. Всем стало не по себе. Ребята косо посмотрели на Петера. Федя — справедливый и смелый человек. И он что-то знает про Петерова отца, что неизвестно никому. Может, и в самом деле Петеров отец совсем не виноват. «Нет, Федя ничего не мог сказать Петеру о ресторане!» — с благодарностью думал об учителе Алеша. — Слушай… А мне не нравится… — сказал Ахмет и потянул Алешу за руку. Они протиснулись к двери и выскользнули из тира. Ахмет не договорил, что ему не нравится. Но Алеша понял, что это он о Петере. — И все равно нельзя вот так. Ну пусть Федя друг его отца, что ж из этого? — горячился Ахмет. На его смуглом лице снова проступил нездоровый румянец. Ребята прошлись по школьному двору до одиноко росшей у забора худосочной яблоньки и сели на лежавшую под нею запыленную гранитную глыбу. Камень в тени жег холодом, и Ахмет тут же привстал. Ему нельзя остывать, так, по крайней мере, говорили Ахмету врачи. — Скоро кончится урок, — показал Алеша на выходившие во двор окна второго этажа. И увидел, как в одном из них мелькнула круглая Федина голова. И взгляд у Феди был потерянный, а бесцветные губы плотно сжаты. — Мой шеф никогда не прорисовывает неба. У него и пейзажи без неба. В лучшем случае серая полоска — и ничего больше, — сказал Ахмет. — А я когда-нибудь напишу небо. Яркое, сочное, утреннее небо весны. Майское небо. — Ты нарисуешь, — согласился Алеша. — У меня будет все наоборот. Только небо. — Только небо, — задумчиво подтвердил Алеша. — Да, — вздохнул Ахмет, и тут же лицо его оживилось. Алеша ценил в Ахмете его скромность. И еще дьявольское упорство в работе. — Я не портретист, — сказал Ахмет. — Но у меня есть один давний замысел. Сила! Только мне нужны натурщики. Надо работать над этюдами, без них я не напишу картины. Это тема борьбы, тема гнева и презрения к врагу. Я говорил шефу. Ему очень нравится, и он даже обещает заплатить натурщикам. А я не хочу, чтобы он тратился. Он и так живет трудно. — Я помогу тебе. Возьмешь? Чем не натурщик? И еще можно поговорить с Ваньком и с Костей. Я сам поговорю, если хочешь. — Спасибо! — обрадовался Ахмет. — Это здорово. Мне троих и надо. Понимаешь, на фоне скалистых гор, на закате, три фигуры у ямы. Как изваяния. Через секунду они должны погибнуть. И лиц совершенно не видно — одни затылки. И руки, руки… Понимаешь? В руках все: и прошлое людей, и их души. — Руки? Слушай, да это же гениально, Ахметка! Ты сам не понимаешь, какая это находка! — Еще не находка, — медленно поведя головой, возразил Ахмет. — Но найду. Там, на натуре. На высоком, почти квадратном лбу Ахмета пролегли морщинки: две тоненькие и гибкие, как волоски. — Куда пойдем? — деловито спросил Алеша. — В горы. В воскресенье. Возьмем с собой обед и двинем на целый день. К дачам. Там есть одна рощица у речки. Ты видел мой «Обрыв»? — Да. — Там рисовал. А «Морену» видел? — Спрашиваешь! — И ее там. Везучее место! Сила! А вечером того же дня, когда ребята возвращались из школы, Алеша читал блоковских «Поэтов»:12
Ванек не был комсомольцем. Он считал, что в его положении есть немалые преимущества: не ходить на собрания, наконец, не получать выговоров по комсомольской линии. С него вполне хватало «неудов» и замечаний учителей. Провожая Алешу на собрание, Ванек, хитро играя глазами и морща нос, нашептывал: — Пусть они не шибко там… А ты говори, что нигде не были. Вот и все. И стой на своем. Это они тебя на пушку берут. Может, слышали звон, да не знают, где он. А ты, Алеш, не переживай. Мы уже не маленькие! Мы можем сегодня же нырнуть туда еще, — и он достал из кармана брюк свернутые в трубочку две новые десятки. — Гроши есть, понял?.. Я никуда не иду. Я тебя ждать буду у раздевалки. Алеша ничего не ответил. Это была какая-то бессмыслица. Зашли в ресторан. Ну и что? Почему его должны обсуждать сегодня? Пьяным Алеша не был. Он выпил всего стакан пива. Это же смешно: стакан пива — десятикласснику! Впрочем, об этом говорить совсем не обязательно. Можно сказать, что воды напиться зашел газированной, морсу. Нет, Алеша не будет врать, он признается во всем, он — комсомолец. Только о Феде умолчит. А если Петер знает, что Федя был там? Тогда Алешу обвинят в неискренности. Сказать о Феде? Нет, это уже — предательство. Лучше всю вину принять на себя: зашел один, пил пиво один. Как хотите, так и решайте. Только бы не исключили из комсомола. Что ж, Петер, может, подумывает сделать это, но ребята не проголосуют за исключение. Петер думает, что без проработки из ребят и людей не получится. Вырастут, мол, так себе, обыватели, мещане. А после накачек человек становится как стеклышко. Чистенький, гладенький, сознательный. Вот тебя бы проработать, а потом посмотреть, что из тебя получится, товарищ Чалкин! Комсомольское собрание проводилось в вестибюле первого этажа, где президиум обычно сидел на небольшой, сколоченной из плах сцене. Когда Алеша вошел в переполненный ребятами зал и остановился у двери, он увидел на возвышении коренастую фигуру Петера. Потом их взгляды встретились. На Алешу коротко посмотрели осуждающие глаза. «Ну, подожди, может, и ты когда-нибудь сядешь на эту самую первую скамеечку. Может, и твой час придет, Петер», — мысленно говорил Алеша. Не сядет он, не такой Петер, да и через два месяца выпуск. Пожалуй, это уже последнее собрание для десятиклассников. Пока секретарь комитета успокаивал зал, к Алеше подсел Сема Ротштейн. Петер заметил это, но его суровый взгляд не испугал Сему. — Я тут уютнее себя чувствую, на этой скамье, — сказал Сема. Действительно, ему частенько приходилось сидеть здесь. Но Сема искусно изворачивался, каялся и все еще ходил в комсомольцах… — Вчера был педсовет, Федю обсуждали за выпивку. И о вас с Ваньком говорили, — зашептал он на ухо Алеше. — Откуда ты знаешь? — А вот и знаю. Наверное, за это и тебя щекотать будут… Петер вышел на трибуну, оглядел зал и начал, четко выговаривая каждое слово: — Мы должны обсудить поведение комсомольца Колобова. Он систематически нарушает дисциплину. У него прогул за прогулом. — А еще что? — крикнул Сема. Петер удивленно посмотрел на него, пожал плечами: — Разве этого недостаточно, чтобы его наказать? — Ты подожди наказывать. Надо сначала послушать Колобова, — подал голос Костя. — Что его слушать! Будет изворачиваться и только! — заметил секретарь комсомольского комитета, жидкий, вихрастый паренек. — Вот именно! — подхватил Петер. «Начинают с прогулов. Скоро и до того дойдут», — тревожно думал Алеша. Но о ресторане никто не говорил ни слова. Значит, Петер разобрался во всем и понял, что ничего дурного там не было. Да и быльем поросло это: как-никак прошло полтора месяца. Но ведь, если верить Семе, то Федю-то обсуждали на педсовете выходит, что никто ничего не забыл. И Петер еще напомнит об этом. — Ну говори, Колобов, — над столом президиума поднялся секретарь комитета. Алеша тяжело встал со скамьи, повернулся лицом к залу. И его сердце сжалось от обиды: чего он сделал плохого, чтоб его прорабатывать? Будто другие не плануют… — Наказывайте, — глухо сказал он. — У тебя все? — Все. — Я думаю, комсомольцы выступят и дадут оценку поступкам Колобова, — бросил в зал Петер. И Алеше пришла мысль: Петер не напомнит ему о ресторане, потому что в этом замешан учитель. Подрыв авторитета и прочее. Что ж, тем лучше, хотя Алеше хотелось бы узнать, кто же доносчик. Ведь сначала собирались его обсуждать из-за выпивки. Выступал Ахмет, выступал Костя. Они не хвалили Алешу, но считали, что давать ему взыскание вовсе не обязательно. Колобов все уже понял, на экзаменах не подкачает. — А я за выговор! — крикнул Петер. Предложение Петера не прошло. При голосовании за него было поднято всего несколько рук. Против голосовали Илья, Влада, сидевшие неподалеку от Алеши «женихи»… Тогда вскочила растрепанная и бледная от волнения Тоня Ухова, та самая дурнушка, которой хотелось в летчицы. — Выходит, он прав?.. Прав? — в ярости заговорила она. — А где мое письмо? Где?.. А почему за выпивку не обсуждают Колобова?.. Я не могу, ребята, не могу… — Она закрыла лицо руками и расплакалась. Алеша растерялся. Так вот кто донес на него! Эх ты, ябеда несчастная! Но нужно быть выдержаннее, сейчас это главное. — Я был пьян, Ухова? — Да, да, да! — вскинув голову, ответила она. — Это ложь, — спокойно сказал Алеша. Петер схватил со стола колокольчик и отчаянно зазвонил, призывая к порядку. Ему не нравилась перепалка между Тоней и Алешей. — Мы обсуждаем вопрос в иной плоскости. — Но ведь Колобов пьянствовал! — настаивала Тоня. — Это нужно доказать, Ухова, — холодно сказал Петер. — Я сама, сама видела! На этом, собственно, и кончилось собрание. Ванек все слышал у дверей, и когда комсомольцы повалили из зала, он радостно пожимал Алеше руки, приговаривая: — А ты боялся! А ты боялся! — Отстань! — Тоньке бы надо темную, да девчонка она, — разочарованно произнес Ванек. — Просто надо не здороваться с нею. Не замечать ее совсем! А? — Нет, я все-таки поговорю с Тонькой, — сквозь зубы процедил Алеша. И такой случай вскоре представился. Возвращаясь из школы, Алеша пошел по путям и вскоре догнал Тоню. Она остановилась, пропуская его вперед, но он тоже встал. И затем они пошли, не спеша, рядом. Тоня понимала, что сейчас состоится неприятное объяснение, и начала первой: — Петер смазал значение вопроса. Тебя нужно наказать. — Это тебе так хотелось? — презрительно покосился на нее Алеша. — Это необходимо, прежде всего, для тебя. Ты разболтанный, ты нехороший человек. Какой из тебя получится коммунист?! — А знаешь что! Иди ты подальше со своей лекцией! Нечего меня агитировать! Ты на себя посмотри! — И я не исключение. Я тоже не очень требовательна к себе. Но я имею мужество… — Скучная ты! За это самое никто и не любит тебя. И никто никогда не возьмет замуж, — мстительно усмехнулся Алеша. Она ответила серьезно, чуть приоткрыв пухлые губы: — Я не выйду замуж! Не хочу! Понял! — Все понял! Прощай! — крикнул Алеша. Но, несмотря на показное молодечество, ему было трудно. Он чувствовал, что напрасно обижает Тоню. Ведь он все-таки выпил то злополучное пиво.13
В школьном вестибюле ставили «Медведя». Перед началом спектакля за отгороженными синим байковым одеялом кулисами загримированная и одетая помещицей Вера говорила: — Я невозможно трушу! Кажется, все сразу позабуду. Только бы не спутаться, не запнуться, — и беспрестанно поправляла локоны. Лариса Федоровна не один час старалась, чтобы извести толстые Верины косы на эти прыгающие на каждом шагу жгутики. Локоны Вере очень нравились, и грим тоже. Она выглядела сейчас немного старше и привлекательнее. В вестибюле стояла духота. Высокий лоб Веры был в испарине. А может, это совсем не от жары. Сегодня, как перед трудным экзаменом, волновались все, включая и Ларису Федоровну, которая, нервно ломая пальцы, подбадривала Веру: — Все будет хорошо. Это всегда немножко страшновато. Но после первой же фразы приходит уверенность. Вот увидите. Главное — ни о чем не думать. Только о тексте, и не пережимайте, пожалуйста. А то получится сплошнаядекламация. Лариса Федоровна дрожащей рукой поправила воротник платья у Веры. Конечно, она завидовала ей. Иначе и не могло быть. Из-за кулисы вывернулся Васька с приклеенной жиденькой бородкой, в заплатанной на сто рядов куртке. Лариса Федоровна отговаривала его надевать эту ветошь, но Васька был упрям: — Это же лакей. И пусть все шурупят, как жилось при царизме простым людям. — Зачем ты коверкаешь язык, Панков? — Я? Да что вы, Лариса Федоровна! Перед тем как открыться занавесу, Алеша еще раз осмотрел свой костюм. Сюртук, брюки в стрелку, белая накрахмаленная рубашка с пышным бантом — как, однако, немного нужно, чтобы совершенно преобразить человека. И не только внешне, хотя и походка и жесты у Алеши стали прямо-таки величественными. Если не считать злополучных поцелуев, Алеше совсем не трудно было играть помещика. Еще на репетициях, когда он врывался в воображаемую комнату и его встречала рослая, красивая Вера, все у Алеши выходило натурально. И слова звучали от всего сердца, и лишь одного боялся Алеша, что все заметят это. Железные кольца занавеса с визгом пролетели по проволоке — и зал мгновенно притих. Вера, стоявшая на лестнице у выхода на сцену, повернулась и встретилась взглядом с Алешей. И была в ее влажных темно-синих глазах тревога. И в ту же секунду Вера, как слепая, робко шагнула к публике, разглядывая какую-то карточку. А Васька (он был уже на сцене) отчаянно затопал по ходившему под ногами настилу и прорычал: — Нехорошо, барыня… Алеша ждал, когда заговорит Вера, он очень беспокоился за первую фразу. Ведь это — запев всего спектакля. Только бы не сорвалась! Вера сказала, кажется, все как положено, и Алеша облегченно вздохнул, словно самое страшное было уже позади. А потом так и пошел спектакль: гладко, в меру темпераментно, без накладок. Васька, правда, местами явно пережимал, но это ему прощали, потому что в зале то и дело хватались от смеха за животы. Даже угрюмый Рупь-полтора похохатывал в кулак. У Алеши спектакль вызвал чувство праздника. Ему было радостно, когда он раскланивался со сцены, когда затем прошел за кулисы и сорвал с лица лихие помещичьи усы. — Спасибо, Алеша, — легонько положила ему на плечо руку Лариса Федоровна. — Ты бесподобно играл. Если захочешь, будешь артистом. Подошел Васька и тоже похвалил Алешину игру. А вот и Вера прошуршала тяжелым шелком платья: — Успех! Немного погодя Алеша почувствовал неимоверную усталость, и ему захотелось скорее на свежий воздух. Спрыгнув со сцены, он увидел в зале Сему Ротштейна. Конечно, Сема ждал Веру. Сема заулыбался, выпятив нижнюю губу: — Ты сегодня дал по мозгам! Да и Вера — настоящая Лилиенталь! Великая артистка! — Может, все-таки Блюменталь? Эх ты! — с горечью сказал Алеша и торопливо зашагал по коридору. Спектакль понравился всем, о нем заговорила школа. Младшие классы просили, чтобы «Медведя» показали и им, и Лариса Федоровна пообещала. А драмкружковцам сказала: — В субботу идем в театр. Директор школы премировал артистов билетами на спектакль, о котором много писалось в газетах. Спектакль шел в драматическом театре. Билеты взяли в партер, о чем ребята и не мечтали. Вера была в театре без Семы. Сема, конечно, достал бы себе билет, но он или поссорился с Верой и не захотел идти, или чем-нибудь был занят в этот вечер. Последнее время Сема частенько заглядывал в Дом пионеров, где устраивались шахматные турниры. Лариса Федоровна оторвала Алеше билет, который случайно, а может, и не случайно, привел его на соседнее с Верой место. А по другую сторону от Алеши оказалась Влада, и это сначала огорчило его. Будет тут умничать! Едва он присел и что-то сказал Вере о пьесе и ее авторе — знаменитом в стране драматурге, как у одной из дверей, у алой бархатной портьеры заметил Костю. Бегая взглядом по рядам, Костя искал кого-то. Конечно, Алешу. Впрочем, тут же Влада, из-за нее он пришел. Алеша помахал ему рукой. И Костя тоже помахал Алеше и вызвал его в фойе, где люди, лениво переговариваясь, ходили по кругу. — Сейчас я совершил подвиг! — радостно сказал Костя. — На премьеру не попасть. В кассе нет билетов. С рук был продан, пожалуй, единственный билет. И купил его я. Как? — Здорово! — А ты что обо мне думал! Но по Костиному лицу пробежала тень. Он через распахнутую дверь посмотрел в зрительный зал и проговорил грустно, словно его ничто не радовало здесь, словно он был бесповоротно обречен на одни муки: — Это еще не здорово! Вот что я скажу тебе, дружище! Я должен с ней помириться. Я обязан… — Что ж, Костя, бери мой билет. Мне все равно, — упавшим голосом сказал Алеша. Прозвенел второй звонок, и они расстались. Костино место было тоже в партере и даже ближе к сцене, чем у драмкружковцев. Но Алеша ругал себя: отдал место дружку, а сам иди куда-то. Костя будет сидеть спиной к Вере и толкать ее локтями. Костя никого и ничего не замечал, когда с ним его Влада. Алеша опустился на свое новое место и огляделся. Справа от него сидела девушка в голубой блузке. Она внимательно читала — строка за строкой — программу спектакля, и черные-черные ее глаза вспыхивали и гасли. И было в этой удивительной игре света что-то южное, знойное. — Я не могу понять, играет ли Вершинский. Вчера он играл. А сегодня не отмечен в программе ни он, ни его дублер, — вдруг сказала девушка, слегка наклонившись к Алеше. Алеша слышал об артисте Вершинском, недавно приехавшем в театр откуда-то из Сибири. Но он ничего сейчас не мог ответить девушке. Он лишь неопределенно пожал плечами. А минуту спустя, преодолев робость, Алеша спросил у нее: — Не вы продали билет моему дружку? — Может, и я. А какой он, ваш дружок? Высокий в синей куртке, да? — Точно. И его зовут Костя. — А где же он? Понимаю. Он купил билет для вас, — сказала она, разглядывая Алешу. — Мы поменялись местами. — Вы плохо видите? — поинтересовалась она. — Видим мы оба прекрасно, но я оказался рядом с его девушкой. — И они вас выжили? Это ж возмутительно! — уголками рта улыбнулась она. — Да что вы!.. Я сам, — не поняв шутки, сказал Алеша. — И я сама. Не пришел мой знакомый. Он у меня опер, жуликов ловит, — доверительно прошептала девушка. — Наверное, и сегодня кого-нибудь караулит. Вот и пришлось продать билет. Давайте я буду шефствовать над вами. — Пожалуйста, — неуверенно сказал Алеша, еще не зная, что за шефство предлагает ему соседка. — Вы и в антракте держитесь со мной. А зовут меня Мара. Смешное имя, правда? Мне оно не по душе, но что поделаешь… Распахнулся занавес, и они прекратили так неожиданно завязавшийся разговор. Затаив дыхание, Мара смотрела теперь только на сцену. Да, да, она совершенно забыла о существовании Алеши. Но Мара вдруг схватила его за руку: — Вершинский! О! Как он играл вчера! Он великолепен в этой роли! И полчаса спустя она снова заговорила с Алешей: — Мне нравится Вершинский. Он потрясает. Вы обратите внимание на его жесты! Но я ничего не скажу ему. Как вы думаете, это хорошо или плохо? — Что? — спросил Алеша, несколько удивленный ее откровенностью. — Я трусиха. Вдруг да не понравлюсь Вершинскому, и он отнесется ко мне, как ко всем прочим своим поклонницам. Ведь может так быть? — И что же? — понижая голос до шепота, потому что соседи стали неодобрительно поглядывать на них, снова спросил Алеша. — Я боюсь. Мне хочется стать артисткой, а вам? Вам не хочется? Кстати, как вас зовут? Алеша ответил. Мара сказала, что имя у него хорошее. А что Алеша тоже хотел бы работать в театре, это совсем здорово. — Только в драматическом, — заключила она и снова смолкла. В антракте Мара попросила Алешу показать ей Костю и его девушку. Алеша показал. И когда Костя и Влада, которые вместе со всеми ходили в фойе по кругу, приблизились, Мара вызывающе сказала, чтоб они услышали: — Кому-то нужно быть вместе, но мы-то тут при чем? — И смело, как самого близкого, взяла под руку Алешу. Никто из девушек никогда так не поступал с Алешей. Она как принцесса из сказки. Нет, не из сказки, она из стихов Блока. Ведь это он сказал о Маре: «и слезы счастья душат грудь»… Вера увидела Мару рядом с Алешей. И заерзала на стуле. А Мара круто повернулась к Алеше и спросила: — А это не ваша знакомая? Она к вам с интересом, но ей предстоит дальняя дорога в одиночестве, — голосом цыганки-гадалки добавила она. — Вы ведь не пойдете провожать ее. А вы где живете? — Я? Далеко. В Шанхае, — ответил он, думая о Вере. Если бы в самом деле Алеша нравился ей! — За саксаульной базой? Да? Вот видите как, Алеша… Значит, нам судьба идти вместе, — обрадовалась Мара. — Без опера я хоть и не очень, но все-таки трушу. Спектакль окончился уже в первом часу ночи. Трамваи не ходили. Ночь была синей. В арыках искрилось золото. То же золото лежало на мостовой, на тротуарах, у самых ног Мары. Может, и не было волшебства. А в садах распускались ночные фиалки и яростно стучали кастаньеты. «А голос пел: ценою жизни ты мне заплатишь за любовь!» — Мара, ты читала Блока? — А кто это? — спросила она. — Поэт. Он писал о тебе. Тебя еще не было, а он писал. Мара негромко засмеялась, и, как показалось Алеше, была в ее смехе печаль. — Никто обо мне ничего не писал и не напишет! — она встрепенулась и, раскинув руки, рванулась в огневом танце и запела:14
Хлопотавшая у грядок тетя Дуся первой увидела Алешу. Она выпрямилась, вытерла о фартук испачканные землей натруженные руки и не спеша подошла к крыльцу, где стоял Алеша. — Опять в горы? — спросила она, здороваясь. — Я послала Костика в магазин за хлебом. Садись, Леша, — показала на табуретку. — Спасибо, я постою. — Вчера в театре были? — Были. — Костик-то со своей ходил? — Да. Тетя Дуся помолчала, с хитрецой поглядывая на Алешу. И он догадался, что Костя ей рассказал о вчерашнем вечере и о Маре. — Житейское дело, Леша. Разве кто хорошей невесты или жениха стесняется. Вот видишь, ты нашел себе видную девушку. А Костик с Ильей поделить Владу не могут! Алеша, наверное, должен бы сказать тете Дусе, что у его Мары тоже есть жених, опер. Это бы как-то подняло Костю в глазах матери, которая наверняка завела бы разговор о непонятном времени, когда девки получили такую свободу. Но Алеше хотелось, чтобы о Маре и о нем думали лучше. Мол, какая красивая и полюбила Алешу Колобова. Вскоре пришел Костя. Он ничего не сказал Алеше о вчерашнем, и это было по-мужски. Костя отдал матери одну булку хлеба, а другую завернул в газету, сходил в кладовку за луком, и они заспешили в горы. Нужно было зайти еще к Ваське Панкову и к Ахмету. Васьки почему-то не было вчера ни в школе, ни в театре, уж не заболел ли. Тогда опять Ахмет не допишет своей картины. У входа в полуподвал, где жил Васька, их встретила болезненного вида женщина. Они разговорились, и ребята узнали, что это Васькина мать и что Васька не ночевал дома уже две ночи. Где-то пропадает. Он часто не приходит домой по целым неделям. — Он не слушается меня, — сказала она. Оставалось надеяться, что Васька мог подойти прямо к Ахмету. Распрощавшись, ребята вышли на тротуар, и когда свернули за угол, Алеша заметил, что за ними увязался шустрый бритоголовый мальчуган лет двенадцати. Всем видом мальчуган говорил, что хочет что-то сказать. Но подойти к ним он почему-то боялся. Они замедляли шаги — он делал то же самое, они поднажимали — и он пускался за ними вприпрыжку. И лишь когда отошли квартала три от Васькиного дома и поблизости никого из прохожих не оказалось, мальчуган поравнялся с ребятами и зачастил: — Ваську замели. Уходите! — и поспешно свернул в переулок. Алеша и Костя переглянулись. Значит, Васька все-таки попался со своими дружками. Это и должно было кончиться так. Дурак Васька, жизнь себе испортил: теперь его в тюрьму или в колонию. Ахмету постучали в окно, выходящее на улицу. И он тут же показался в воротах, неся в одной руке ящичек с красками, в другой — мольберт и незаконченную картину. Ребята разделили все это поровну, и когда тронулись в путь, Ахмет спохватился: — А Васька? Ахмет от души пожалел Панкова. Это еще хорошо, если никого не убили. Месяцев пять назад судили банду, так там и убийства были. И главных бандитов тогда всех расстреляли. Ахмет вспомнил, что в пятницу утром Васька разговаривал с ним, расспрашивал Ахмета о Китае. Шутя спросил, передавать ли привет китайцам. У него была карта с маршрутом Пржевальского. — Может, разберутся и выпустят. Может, он совсем ни в чем не виноват, — с надеждой проговорил Костя. — А картина-то как теперь? — спросил Алеша. — Набросок есть — нарисую. В горы пришли только к полудню. Разомлевшие от жары, повалились в тень дикой яблони. И чуть ли не целый час лежали, не двигаясь. А потом Ахмет поставил на мольберт картину, и они втроем разглядывали ее. Еще не были как следует прорисованы голые худые спины людей, еще серым пятном была намечена яма, а руки, спутанные веревками, руки уже бунтовали или покорно ожидали конца. Напрягшиеся каждым мускулом, полные богатырской силы и вложенной в них воли Костины руки не только боролись сами, но звали к борьбе. Это был гимн мужеству и бессмертию. Алешины же и Васькины руки были скорее руками мертвецов, они безвольно обвисли, синие, с желтыми змейками вен. — А неба так и не будет? — спросил Алеша. — Не будет, — твердо сказал Ахмет. — А если тебе не прописывать спин? Оставить так, как есть? Видно же, что это спины и — никаких деталей! — Я сам думаю об этом, — Ахмет сломал сухой прутик, сунул его одним концом в рот, откусил и с силой выплюнул. — Посчитают картину незавершенной и не возьмут на выставку. Но я найду что-то среднее… — Приблизительное, — поправил его Алеша. — А приблизительность — самый ярый враг правды. Точно. — У Белинского вычитал? Или у Писарева? — спросил Костя. Алеша промолчал, будто не слышал Костиных слов. Алеша уже снимал майку, чтобы позировать. На этот раз Ахмет не очень мучил друзей. Он им позволял вертеться как угодно и даже вставать. Не разрешал лишь убирать с поясницы руки. — А войны не будет, ребята. Потому и отпустили тебя, Алеша. По радио передавали опровержение ТАСС. Сам слышал утром. Японцы написали в своих газетах, что мы перебрасываем войска к западной границе. Так мы опровергли. Оказывается, всего одна дивизия переехала и то из Иркутска в Новосибирск. Алеша возразил: — Может, нынче, в сорок первом, и не будет. Но все равно когда-то начнется. — Так это когда-то… — Сегодня — ничего, а завтра всякое может случиться, — задумчиво сказал Костя. — Зачем бы тогда Сталину идти в Совнарком? — Конечно. Зачем? — поддержал Костю Алеша. — Ну, это нас с вами не спросили. Наверху понимают, что к чему. А если не справился Молотов? Может быть? Или заболел? — не сдавался Ахмет, продолжая орудовать кистью. — Войны не будет! — Вы правы, молодой человек, — из кустов боярышника показался мужчина, невысокий, с брюшком, в соломенной шляпе. И следом за мужчиной на поляну вышла женщина. Они были примерно одного возраста, очевидно, муж и жена. Они поздоровались с ребятами, и мужчина из-за Ахметова плеча посмотрел картину. Отошел шагов на пять и опять посмотрел. Это были, конечно, отдыхающие, перебравшиеся из города на дачи. — Вы правы, молодой человек, — повторил мужчина, — Они представляют, на что мы способны, и боятся нас. Они — это, разумеется, капиталисты. А мужчина в соломенной шляпе, должно быть, знает, что говорит. Может, он не меньше, чем нарком республики! — А к чему нам оправдываться перед япошками? — поднял лобастую черноволосую голову Ахмет. — Ты о переброске войск? С японцами у нас пакт. А, по-вашему, не считаться с общественным мнением? Ребята не совсем поняли мужчину. Они рассуждали примерно так: если мы сильные, то зачем заигрывать с той самой Японией, которая перла на нас на Хасане и Халхин-Голе? И насчет войск отвечать самураям не надо. Войска наши, куда хотим, туда их и двигаем. Мужчина и женщина исчезли так же внезапно, как и появились. Ребята сели обедать. Ахмет собрал краски в ящик, сказал: — Остальное доделаю дома. В это время на дороге, проходившей в каких-нибудь двадцати метрах от поляны, появился человек в милицейской форме. Он огляделся, приложив ладонь ко лбу, заметил ребят и направился к ним. — Кого-то ищет! — кивнул в его сторону Костя. Милиционер вышел на поляну, остановился и стал молча разглядывать ребят. Они, в свою очередь, исподлобья вопросительно смотрели на него. — Ваши документы, — как бы ответил им милиционер. Ребята полезли в карман, но, понятно, ничего не нашли. У Ахмета слегка побелели широкие скулы, он спросил: — Собственно, в чем дело? — Это мы и желаем знать, — сказал милиционер. — Вы чего здесь? — Загораем, — простодушно произнес Костя. — А что? — А то, что здесь опасно. Сель может пойти. И нечего… Не положено бродить посторонним. Мотайте отсюда! — Пойдемте, ребята, отсюда, — примирительно произнес Костя. — Он ведь при службе. — Пошли, — шумно вздохнул Алеша. Расставив ноги в начищенных сапогах, милиционер стоял на поляне и глядел им вслед. И был похож он на большой синий циркуль, воткнутый сюда неизвестно кем и для чего.15
А время шло — день за днем, неделя за неделей. Кончился май, начался июнь, и наступили выпускные экзамены. Ребятам приходилось много учить, брать штурмом все, что упущено, забыто, голова трещала и шла кругом. Ни у кого не было других забот, разве что Сема Ротштейн был исключением. Он готовился к сочинению и получил «плохо». Он не готовился к тригонометрии и тоже получил «плохо». Тогда Сема сказал «женихам», которые еле-еле, с помощью шпаргалок, выходили пока в успевающие: — Предпочитаю невежество. Я подорвал науками свое здоровье, и с меня хватит. И больше его не видели в школе. Он пришел только на выпускной вечер и то из-за Веры. К экзаменам Алеша готовился у Воробьевых. Туда же приходил и Ванек. Ребята втроем залазили на пыльный чердак и читали, стараясь запомнить правила, формулы, даты. Но запоминалось плохо, и они расходились по домам с надеждой, что билет попадется легкий, что настроение у экзаменаторов будет доброе. В один из дней Алеша встретил Мару. Она куда-то спешила. У Мары был озабоченный вид. Увидев Алешу, она ухватила его за руку, потянула на бровку тротуара. — Я скучаю о тебе, мой миленький. Приходи, буду ждать, — сказала она. Алеша был рад ей. Он все смотрел на нее и думал о том, что у него тоже есть теперь девушка, которой он нужен, которая дорога ему. И пусть у нее есть опер, пусть нравится ей Вершинский, Алеша считает Мару своей. Он непременно будет приходить к ней. Он скажет ей о своем чувстве, и Мара бросит опера. Когда Алеша увидел Мару в театре, она показалась ему очень бледной. И это придавало лицу строгость, делало Мару взрослее. А сейчас перед Алешей стояла совсем молодая девушка, его ровесница. И глаза у нее были не черные, как тогда, а карие, цвета орехового дерева. Она казалась ему необыкновенной. Все в ней восхищало его. Алеша ловил себя на мысли, что он знает Мару давным-давно. Может, еще в детстве приснилась она ему, и он запомнил ее на всю жизнь. — Я хочу быть с тобою, Мара, — восторженно шептали Алешины губы. Он искал новой встречи. Он хотел пригласить Мару на выпускной вечер, но постеснялся. Ведь никто не приведет своих знакомых. Да и ребята стали бы ухаживать за нею, те же «женихи». А это было бы неприятно для Алеши. В классе и так все знали, что Алеша дружит с красивой девушкой. И теперь нет-нет да ловил он на себе пристальный взгляд какой-нибудь из одноклассниц. Может, хотели понять, чего хорошего нашла Мара в Алеше, а может, поняли уже, что он не хуже других.На выпускной вечер принесли много сирени. Зал и пионерская комната, коридор первого этажа и директорская были украшены яркими, душистыми гирляндами. Большие букеты стояли в вазах на покрытом кумачом столе, за которым сидели учителя, отличники и персонально — Костя и все члены комсомольского комитета. Костя и так бы сидел здесь, как лучший ученик, не будь он даже председателем учкома. Алеша, конечно, не попал в отличники. Химичка поставила ему за год «посредственно». А Рупь-полтора закатил два «хорошо» да еще и выговорил: — Совестью своей поступаюсь, душой кривлю. Их разговор услышал Федя. Он прошел следом за Алешей в пионерскую комнату и, когда Алеша встал у распахнутого окна, обнял его за плечи и сказал: — Не огорчайся. «Хорошо» еще не самое страшное. — А я не так чтобы очень, — с усилием улыбнулся Алеша. Конечно же, он сказал Феде неправду, и они оба поняли это. И не говорили больше об отметках. За окном стояла прохладная ночь. В черном небе перемигивались крупные голубые звезды. И шелестели листвой бессонные тополя. А из школьного сада густо несло медом. А еще мятой. И Рупь-полтора с его выговором тут же забылся. Подбежали девушки, схватили Алешу под руки и утащили играть в третьего лишнего. Но Алеша вскоре вернулся в пионерскую комнату и застал Федю все у того же окна. Добрый он человек, Федя! — Все думаю, Колобов, и думаю. Да-а, — протянул Федя, глядя в ночь. — И знаешь, о чем? — О чем, Федор Ипатьевич? — Одиночество, мой юный друг, способствует размышлениям, — продолжал Федя оживляясь. — И я размышляю немало. Вопрос меня мучает прямо-таки неразрешимый. Важный вопрос… Тому ли мы учили вас, чему надо? Бесспорно, мы делаем из вас созидателей. Строителей в самом широком смысле. Но ведь мало быть строителем, нужно быть и солдатом. А дали мы вам то оружие, которым победите? Ну если начнется война? И не окажетесь ли вы мотыльками, что летят на огонек и сгорают? Война жестока, что бы ни пелось о ней в песнях! Я-то знаю ее, великолепно знаю. Впрочем, без песен тоже нельзя. — Мне кажется, ее не будет, Федор Ипатьевич. С немцами и японцами у нас пакт. Ну кто на нас полезет? Финны? Эти свое уже схлопотали. Турки? — Эх, Колобов, Колобов! Милый мой… Дай бог, чтобы ты оказался прав. А куда пойдешь дальше? — Может, в театральный. Или в юридический. Еще не решил. — Иди в юридический. В прокуроры. Строго блюди закон. Перед законом, Колобов, все равны. И ты никогда не делай невинного виноватым. Ты комсомолец, ленинец — постоянно помни об этом. В зале захрипел патефон. Алеша не очень разбирался в музыке, но, кажется, играли фокстрот «Электрик». Дадут же чудаки название! Почему — «Электрик»! Что электрического в этом танце, да и, вообще, в танцах? Алеша не умел танцевать и именно поэтому свысока смотрел на всякие фокстроты, румбы, блюзы. Сегодня «Электрик» звучал необыкновенно мило, несмотря на то, что старая, заигранная игла шипела, как гусыня. Да и не хотелось говорить о серьезном в такой чудесный праздник. — Я пойду. Мне надо, — сказал Алеша. А его уже искали ребята. После танцев решено было передать репортаж из 1951 года. Алеша загодя сочинял его, пусть Алеша и читает. В физкабинете, который находился на втором этаже, над залом, был установлен микрофон с усилителем, а в зале спрятали два мощных динамика. Микрофон тайком опробовали еще днем: слышимость была отличной. Алеша щелкнул выключателем и заговорил торжественно, неторопливо: — Говорит Москва. Сегодня 21 июня 1951 года. Передаем последние известия. Ровно десять лет назад состоялся выпуск в десятых классах школы номер семьдесят три города Алма-Аты. На празднование славного юбилея съехались бывшие десятиклассники. Председатель юбилейного комитета лауреат Сталинской премии Ахмет Исмаилов в беседе с нашим корреспондентом сказал, что сегодня рад приветствовать начальника крупнейшего в республике комбината Петра Чалкина, известного форварда сборной страны Михаила Мышкина, знаменитого хирурга-орденоносца Антонину Ухову… Снизу до Алеши донесся радостный шум зала. — Из Арктики прилетел на праздник известный полярный летчик Герой Советского Союза Илья Туманов, — продолжал репортаж Алеша. — И с ним вместе — крупнейший представитель отечественной математической школы академик Константин Воробьев… Не успел Алеша окончить передачу, как в физкабинет ворвались девчата. Нашли-таки подпольную студию. И с ходу предложили дать концерт. Но тут же всех, в том числе и Алешу, позвали к накрытому столу. Пили чай и дешевое сладкое вино. И кто-то из девчат поднял тост за учителей, а Тоня Ухова сказала, что было бы неплохо встретиться всем ровно через десять лет, в этот же день, в школе. — И проверить прогнозы Колобова! — крикнул Илья. — Обязательно встретимся! — Завяжите узелки на память! — Здорово это, ребята! — закричали со всех сторон. — Непременно. Часов в семь вечера. «А кем же они будут на самом деле?» — напряженно думал Алеша о своих друзьях. Многие еще не решили, куда пойдут, потому что трудно сказать, в чем призвание человека. Что ж, оно и понятно. Не всегда можно угадать по утру наступающий день: ждешь ясной погоды, а к обеду — тучи на небе, к вечеру — дождь. Или наоборот. Затем Алеша посмотрел на сидевшую напротив Ларису Федоровну. Она перехватила Алешин взгляд и слабо улыбнулась. И говорила ее улыбка о том, что Ларисе Федоровне трудно расставаться со своим классом. Но что поделаешь, так уж ведется от века. Ученики покидают учителей. Их ждет другая жизнь, другие учителя. — Панкова жалко, — трудно сказала Лариса Федоровна. Никто в школе не знал толком, что с Васькой. Звонили в милицию, но там не сказали ничего определенного. Мол, коли арестован, то было за что, и на суде все полностью выяснится, ждите суда. «Хорошая она, — подумал Алеша о Ларисе Федоровне, — Первая вспомнила на празднике о Ваське». После ужина снова танцевали. И так было до той поры, пока небо за окнами не стало фиолетовым. По коридорам ходили парочки. В дальнем классе «женихи» угрюмо пели про девушку из маленькой таверны. Алеша заводил патефон и ставил пластинки. Он так и пробыл в зале всю ночь. И как-то между двумя вальсами или фокстротами к нему подошла Влада, и, поправив Алеше волосы, сказала: — Не обижайся на меня. Не нужно. Я не хочу, чтобы ты обижался. Алеша принялся убеждать Владу, что она ошибается, что никогда он не имел на нее обиды. Но в глубине души у него была неприязнь к ней за высокомерие, за то, что она помыкала Костей. А к самому Косте он питал двойственное чувство: то ему хотелось, чтобы Костя совсем порвал с Владой и дружил только с ним одним, то желал им полного примирения и любви. — Ты не думай обо мне плохо, — сказала Влада. Костя увел ее танцевать в коридор. Алеша, провожая их взглядом, вспомнил, как однажды он сделал открытие, немало порадовавшее его. Было это еще в девятом классе. И тогда Влада воображала из себя чуть ли не Анну Каренину. А Костя взахлеб восторгался ею. Косте нравились ее томные глаза, и он советовал Алеше внимательнее присмотреться к Владиному взгляду, чтобы почувствовать его обаяние. Алеша присмотрелся и обнаружил, что у Влады почти совсем нет ресниц. Ну какие-то крохотные щеточки. Сказал об этом Косте. А тот обиделся и обозвал Алешу пошляком. Но при чем тут пошлость? В зале, кроме Алеши, остались только Вера, Сема да Ванек. Хмельной Ванек ошалело глядел на Веру и твердил: — Я с вами айда? Айда или не айда? Это было верхом его остроумия. Ваньково лицо самодовольно улыбалось. Но Сема не понимал юмора и ласково звал Ванька в коридор: — Айда, я тебя приласкаю. Интересно потом будет поглядеть на твой косинус. Вера фыркала и откровенничала: — Ванек, вот если бы мне сказали: или замуж за тебя или умирай. Я бы лучше померла. Не сердись, но честное слово!.. Алеша ввязался в их разговор, чтобы защитить Ванька: — Ну чего ты над ним смеешься! Парень как парень. — Ванек-то? Он антиинтеллектуален! У него преглупейшая морда! Оскорбленный Ванек вдруг разревелся, и ребята вывели его, плачущего, в садик. Он рвал на себе куртку и кусался. Это было смешно и дико. Разошлись утром. Солнце зажгло тополя, и на улицах весело зазвенели первые трамваи. А кому из ребят было далеко идти домой, остались спать в школе. Ведь к вечеру решили снова собраться, чтобы сообща идти в парк. Такова уж была школьная традиция. Алеша устроился на учительском столе в одном из классов. А когда проснулся, в зале опять играл патефон. Хлопала дверь. Значит, ребята собирались. Алеша пошел в туалетную комнату, сунул голову под кран. Холодная, почти ледяная вода освежила его. Он умылся и почувствовал себя готовым еще к одной бессонной ночи.
Перегородив улицу, тронулись к парку, что раскинулся у подножия зеленых гор. Смеялись, дурачились, пели. Завтра они уже не соберутся в школе. В их класс придут другие. А им шагать в жизнь по разным дорогам. Для них наступила желанная и немного пугающая их пора зрелости. Поэтому-то им было сейчас не только радостно, но и чуть-чуть грустно.
16
Бабка Ксения сидела в крохотных сенцах. Когда она задумывалась, то медленно покачивалась взад и вперед. И взгляд у нее был тогда тусклый и чужой. Через открытую дверь сочился неяркий свет керосиновой лампы. Он вырывал из сизого полумрака древнее бабкино лицо. Свет манил ночных мотыльков, мельтешивших у порога. Алеша увидел бабку и невольно ускорил шаг. Знают ли дома, что началась война? Разве что Тамара принесла эту новость. — Ну вот, — сказал Алеша, не заходя в сенцы. Бабка подняла печальный взгляд и ничего не сказала. Бабка думала о чем-то своем. Ей было о чем думать, и она никогда не бежала от своих дум. Бабка понимала, что от них не убежать, как нельзя убежать от прошлого. Или от того грядущего часа, который уготован каждому. Кем бы ни был ты, какую власть ни имел на земле, а не минешь его: не обойдешь, не объедешь. — Проходи, сынок, — пригласил отец в избушку. Он сказал это ласково, может быть, ласковее, чем говорил с Алешей когда-нибудь прежде. Он лежал на кровати, свесив ноги, обутые в рабочие ботинки. Жилистые руки были заложены под голову. А когда Алеша вошел, отец сел неторопливо и полез в карман за кисетом. — Войну надо было ждать, Алексей. Давно шло к тому, — чуть растягивая слова, сказал он, — Немец знал, что делал. Для начала прибрал к рукам всю Европу, а потом стал подбираться к нашим границам. — Это не немцы, папа, а фашисты, — возразил Алеша. — Как хочешь, так и называй. Только народу трудно вывернуться из-под них. Слопал же Гитлер и чехов, и французов, и поляков. А кто ему что сказал? Может, и есть такие, что против, да молчат. И ничего они Гитлеру не сделают, потому как Германия сейчас от побед опьянела. — Мы ее отрезвим! — твердо сказал Алеша. Отец отозвался не сразу. Он запыхал махорочным дымом, как паровоз на подъеме, и с любопытством посмотрел на Алешу. Вырос сын, с ним можно говорить уже о чем угодно. А давно ли бесштанным головастиком бегал по улице! Отец вспомнил, как он в тридцатом оставил семью в деревне, тогда Алеше было всего пять лет. Тяжелое время пришлось пережить отцу. Выселяли из села кулаков в далекий Нарым. Отец не был кулаком, но кому-то посочувствовал, кого с кучей ребятишек выселяли из родных мест. И, наверное, не сдобровать бы ему, попадись он односельчанам под горячую руку. Но он уехал в Среднюю Азию, тайком от всех. И где только не работал! Тысячи верст исколесил по стране. А узнал о болезни жены на пятом году скитаний, вернулся в село: будь что будет. Хоть так, хоть иначе, а пропадать детям без него, если умрет их мать. Потом выяснилось, что скрывался он, не имея никакой вины. Но жить в селе, где пять лет называли его подкулачником, он не мог. И, захватив бабку и ребятишек после смерти жены, поехал искать счастья на стороне. В мучительные минуты раздумий сердце его грызла обида на тех, кто, как ему казалось, обездолил его. Даже в смерти жены он обвинял этих людей. Но этой своей обиды он никогда не высказывал. Когда Алеша задумал вступать в комсомол, отец искренне радовался: сына ждет лучшая доля. И вот Алеша кончил десятилетку. Как-нибудь, с горем пополам, учил бы его дальше. Но все теперь перевернула война. И знает отец, что это надолго. Гитлер тоже не дурак, он понимает, кого идет завоевывать. Не за тем он пошел, чтобы руки поднять на первом месяце войны. То, что немца собираются победить легко, отец тоже слышал. Конечно, Гитлеру не устоять против нас, но битвы будут кровавые, и многие Алешины ровесники сложат на войне головы. — Не успеем повоевать, — как бы споря с отцом, сказал Алеша. — Успеете. Я так же думал в первую мировую. Добровольцем рвался на фронт. А хватил такого, что еле живым остался. Вишь, как разрывной угостило, — он засучил рукав и показал Алеше изувеченную руку. Сын и раньше не раз видел эти рубцы. Но тогда все, что в его представлении связывалось с ними, казалось далеким и почти нереальным. Теперь же в этом был большой и конкретный смысл. Теперь Алеше казалось, что начавшаяся в четырнадцатом году война с немцами еще не прекращалась, что не было даже перемирия. — Но ведь у них Тельман! — воскликнул он. — Тельман в тюрьме. Гитлер разгромил коммунистов. Они его по рукам вязали, — сказал отец. — Да и что сделали б немецкие коммунисты против такой армии, как у Гитлера? Ничего. Ты Испанию возьми. Разве секрет, что там Гитлер да Франко с народом расправились… В сенцах завозилась, заскрипела табуреткой бабка. Без сомнения, она слушала их разговор и сейчас хотела что-то сказать. Она пригнулась, чтобы не стукнуться головой о косяк и прошла к печке, прислонилась спиной к дымоходу. — Голоду и холоду — всего будет, — со вздохом проговорила она. — А ты, Лешка, не торопись туда. Успеешь. Многие торопились да там и остались. — Пусть идет. Земля-то она — наша, русская, и нам ее защищать, — сказал отец, — Меня не возьмут, стар я для окопов. Да и Тамарочку с бабкой на кого брошу? Лежавшая на топчане Тамара отвернула уголок одеяла, что прикрывал от света ее худенькое лицо, и проговорила с недетской тоской: — Не бросай нас, папа. Пусть уж Леша воюет. Мы его ждать будем. — Спи! — прикрикнула на нее бабка. Ночью вдруг налетел ветер, снаружи что-то скрипело и стучало, словно кто-то шарился, пытаясь войти в избушку. Было жутковато и неуютно. Алеше лезли в голову картины войны, виденные им в кино. Но там бомбили мы. А сегодня бомбят нас. Двести убито и ранено. «Поплатится он за все», — думал Алеша о Гитлере.Желание узнать что-то новое и поговорить о войне погнало Алешу к Воробьевым. Было обеденное время, и Костин отец — дядя Григорий — был дома. Всей семьей они собрались у репродуктора, который то и дело хрипел и захлебывался. Костя что-то подвинчивал, подтягивал, но все без толку. Ни слова не говоря, Алеша прошел в комнату и сел на стул. Снова и снова передавали речь Молотова. Передавали Указ о мобилизации и о введении военного положения в местностях, прилегающих к границе. Страна яростно сопротивлялась. Она поднималась, чтобы переломить хребет фашистскому зверю. Пусть нас потеснили на Белостокском и Брестском направлениях, мы стойко держались на других участках фронта. А кое-где и наступали, рвались вперед. — Где-то вот здесь и здесь, — Костя ткнул пальцем в развернутую на столе ученическую карту. — Твоему папке лафа, — сказал дядя Григорий Алеше. — Его по возрасту не возьмут. А наш брат загремит в самую первую очередь. Костя мрачно посмотрел на отца и кивком показал Алеше на свою комнату. От дяди Григория не ускользнул нетерпеливый сыновний взгляд, и он взорвался: — Сопляк, манекент какой нашелся! Ты пороху, брат, не нюхал, так еще понюхаешь! Досыта горького хватишь! Дядя Григорий тоже не нюхал пороху. Но это не мешало поучать других. Он, наверное, не смог бы жить, никого не поучая, — уж таков у него характер. — Ты отправляйся на фронт хоть завтра! — кричал Косте отец. Костя не возразил ему, и спор угас. Дядя Григорий еще помитинговал с женой и заспешил на работу. — Заберут отца. Он у нас еще молодой, — сказала тетя Дуся, и на крупном ее лице не было ни боли, ни сожаления. — Директора хочет просить, чтоб оставил дома. Ребятам никак не сиделось на месте. Хотелось куда-то бежать и говорить, говорить о войне, о первой сводке, о мобилизации. Алеша предложил навестить Ванька. Но Костя сказал: — Уж тогда лучше к Владе. — А чего я пойду? — Зайдем вместе — вот и все. — Ну смотри. Тебе виднее, — не очень охотно согласился Алеша. И вот они шли по улицам, по тенистым аллеям. Им встречались люди, много людей, и они были совсем не такие, как неделю, как два дня назад. С лиц сбежали улыбки. Появилась сухость, озабоченность: что-то теперь будет! У редакции газеты, где вывешена уже вторая сводка о боевых действиях, волновалась, переливаясь толпа. Говорили, взобравшись на деревянное крыльцо. Работник редакции — худой, растрепанный парень — попытался пробиться через многометровую стену митингующих, но потерял очки и беспомощно махал руками, крепко зажатый со всех сторон. Ветер пригнал серые тучи. Они клубились, хмурились, обещали дождь. Но люди ничего этого не замечали. Люди ждали известий. Над головами мужчин, стоявших на крыльце, замаячила чья-то рука с белым листком бумаги. — Свежая телеграмма, — волной пронеслось по толпе. — Ти-ше! Человек с телеграммой уперся в перила крыльца. Здесь его видели почти все, он развернул бумагу и принялся читать: — Экстренное сообщение ТАСС. На сторону Красной Армии перебежал немецкий солдат Альфред Лискоф. Вот что он сказал: «Настроение в народе подавленное, мы хотим мира. Я переплыл реку в ночь нападения. Позади остались Гитлер и его головорезы». Сообщение принялись комментировать жадно, взахлеб, со светлой надеждой: — Видели! Подавленное настроение! — Немецкий народ хочет мира. И он покончит с гитлеровскими бандитами. Алеша и Костя тронулись дальше. Начал побрызгивать дождь. Крупные капли дробились об асфальт, поднимая фонтанчики пыли. Едва ребята перешагнули порог Владиной квартиры, как на дворе потемнело, прогрохотал гром, и в окна шумно плеснул ливень. — Вот и чудесно, мальчики! Я сегодня весь день одна. Просто не знаю, куда себя девать. Хотела почитать, и не могу сосредоточиться, — сказала Влада, усаживая ребят на гнутые венские стулья. В комнате стало сумрачно, и Влада зажгла электричество. Стены сразу словно отодвинулись, и ожила, стала по-праздничному яркой комната. Алеша разглядывал малиновые портьеры, пестрые ковры и другое убранство. — Хотите конфет? — спросила Влада и, не дожидаясь ответа, прошла в соседнюю комнату. Вернулась Влада с голубой вазой в руках. Она поставила вазу на стол и первой взяла себе конфету. Костя тоже взял. А на Алешу Влада топнула каблучком и смешно наморщила маленький нос. — Я рассержусь, —сказала она. — В таком случае… — и Алеша потянулся за конфетой. Они смотрели, как на улице хозяйничал дождь. Пузырились серые лужи. Временами вспыхивали молнии. — А я, мальчики, еду учиться в Москву. В университет. Так решили мы с папой, — сказала Влада. — Но ведь сейчас война, так ведь. Думаешь, скоро кончится? — спросил Костя. — Но ведь мне надо учиться. Я все равно еду! Скажите, мальчики, вы можете представить меня героиней? Скажем, той же Жанной д’Арк? Конечно, нет. Я вижу по вашим глазам. — Ты права, — серьезно ответил Алеша, которому уже надоело у Влады. Влада прищурилась, и лицо ее стало важным и холодным: — Это почему же? — А потому, что война — не для женщин. — Но Жанна д’Арк? Крестьянка Василиса? — Тогда были не такие войны. Техника была не та и люди не те, — сказал Алеша, понимая, что задирает и злит Владу. — Ты колючий, как ежик. И неучтивый, как поросенок, — беззлобно заметила она и пригласила ребят в кабинет отца слушать патефон. — Нам некогда, Влада, — развел руками Алеша. — Мы должны идти в военкомат. — Вы хотите на фронт? — Да, — решительно ответил Костя. Они ушли от Влады в дождь. Пьяно пахло мокрыми листьями. Ребята сели в трамвай. У них не было денег на билеты, но кондуктор, видно, догадалась об этом и пожалела их. — Ты куда меня привел? — вздрагивая от холода, говорил Алеша. — Чего я там не видел? Взбалмошная она, мещаночка — вот кто твоя Влада! То Татьяной Лариной, то Анной Карениной, а сегодня ей Жанной д’Арк быть захотелось! На словах-то все они героини! — Но ведь она может подражать кому-то, — сердился Костя. — И почему ты от нее требуешь какого-то подвига? Не идти же ей с нами на фронт! — А почему бы и нет? Сестрой милосердия, например. Точно. Или уж пусть помалкивает. Слушай, Костя, и нет в ней ничего выдающегося. Подумаешь — Прекрасная дама! Эта бы не пошла в Сибирь за мужем, как Волконская. — Ты не знаешь Владу. Человек она сильный, волевой. — Ладно, хватит об этом, — сказал Алеша. — А нам и в самом деле надо в военкомат. А то жди, когда призовут. Так и война кончится и не повоюем. Их нетерпение можно было понять. Такие, как они, ребята, ну, может, чуточку постарше, в это время храбро дрались с врагом на всех фронтах от Белого моря до Черного.
17
С того дня, как Алеша познакомился с Марой, он стал ходить в город и обратно уже не по железнодорожному полотну, а через Шанхай. Он ходил этим путем, надеясь встретить Мару. Нужно было подняться на взгорье и сделать круг у широкого, с краев обросшего бурьяном оврага. Внизу стоял саманный домик Мары, белый, с высокими окнами. Но выходило как-то уж так, что они не встречались. Алеша не знал, в какую смену она работает, к которому часу ей на конфетную фабрику. А зайти стеснялся. Лучше, чтоб первый раз она сама привела его к себе. Однако терпение истощалось. И, наконец, он твердо решил побывать у Мары. Алеша вышел из дому с таким расчетом, чтобы попасть к ней часам к шести. Он считал, что в этому времени она придет с работы. Но когда Алеша уже был почти у цели, его взяло сомнение. Он снова прикинул, и у него получилось, что нужно подождать хотя бы с полчаса. Алеша прошелся по горе немного назад и спустился к арыку в том месте, где припали к воде два кряжистых тутовых дерева. Они словно хотели выпить арык, но не могли. И арык весело смеялся над ними, убегая вдаль и серебром поблескивая на солнце. Выбрав место посуше, Алеша сел и огляделся. По кромкам арыка, отмечая его извилистый путь, цвели белые и розовые мальвы. Над ними гудели пчелы, шмели и порхали разноцветные бабочки. А за арыком начинались огороды и тянулись укрытые листвой мазанки. Здесь было хорошо. С радостью вдыхая густые запахи трав, Алеша думал о предстоящей встрече с Марой. Он столько думал о ней все это время! Казалось, знал каждое слово, которое скажет Мара, знал каждый жест, который она сделает. Наверное, она уже не ходит в театр с опером, ведь сказала же Алеше, что не любит опера. А он, должно быть, старый и некрасивый, но как-то сумел познакомиться с такой девушкой. Что ж, может, поначалу и нравился. Бывает так. А как посмотрела Вера, когда Алеша прошел с Марой по театральному фойе! Да и не только Вера. Та же Влада косила глаза на них, словно оценивая, чего стоит знакомая Алеши. Как бы трудно ему ни пришлось, он поступит в театральный институт. Да и когда-нибудь заткнет за пояс Вершинского. Алеше будут вот так же, как сейчас ему, подносить букеты цветов. В Алешу будут влюбляться. А он останется верен Маре, только ей. Но на западе грохотала война. Алеша скоро должен был разлучиться с Марой. Конечно, он станет ей часто писать, а потом они встретятся. Ведь любовь у него на всю жизнь. Мара не Влада. Эта может быть и настоящей героиней. Недаром же она — дочь командира. Мару никто не баловал. Она сама уже зарабатывает себе кусок хлеба. А отец у Кости хочет спрятаться от войны. Смешно даже. Кому нужна его жизнь? У Алеши не было часов, но по тому, как солнце стало падать, как стали вытягиваться тени, он понял, что время идти. По тропке поднялся на дорогу и теперь уже заторопился к дому Мары. Он постучал в дверь негромко, одним пальцем. И даже когда никто не отозвался, Алеша повторил этот осторожный стук. Он как будто боялся, что вспугнет кого-то, кто скажет ему о Маре. Конечно, Мары нет дома, она бы услышала и впустила его. Алеша постоял в сенях с минуту, снова трижды пальцем ударил в дверь и собирался уже уйти. Но дверь неожиданно открылась, и он увидел маленькую женщину с дряблым и пухлым лицом. — Мне… — заикнулся было опешивший Алеша. — Чего тебе? Заходи, — сонно просипела она. Он нерешительно вошел в избу. — Садись, где стоишь, — облизывая увядшие губы, сказала женщина. — Она сейчас придет. Алеша сел на табурет, а женщина прошлепала босыми ногами в передний угол и устало опустилась на кровать. Громко зевнула, посмотрела в окно. Алеша понял, что это Марина мать. Он смотрел на нее, пытаясь найти в ее облике хоть что-то от Мары, и не находил ничего. — Я любила Борю. Кажется, это было давно… Подождите, еще посмотрим, что будет с вами. Война только началась, и вы еще поплачите. А слезы, они горькие, — выговаривала кому-то она. — Слезы едучие. Души выедают, как кислота. И становится пусто. Совсем пусто. Алеша опасливо посмотрел на нее. Уж в своем ли она уме? А она рассмеялась диковато и прохрипела: — Ты жди ее. Ишь, какого молоденького себе завела! Ай да Маруся! Алеша приподнялся, недоуменно вскинул брови. Черт возьми, тут какая-то путаница. Или эта женщина сумасшедшая. И все о какой-то Марусе. — Мне… Простите… Разве не здесь живет Мара? — спросил он. Она с удивлением и тревогой посмотрела на Алешу, словно заметила его только сейчас. — Тебе Мару? Мара живет у Женьки. — У какого Женьки? У опера? — Опера зовут Степаном. А это Женька. Неужели ты не знаешь Женьки? — она резким движением отбросила назад закрывавшие лицо волосы и желчно рассмеялась. — Может, ты и себя не знаешь? Женька — это Марина подружка. Такая маленькая, как стрекоза… — Бросила меня Мара. И я с племянницей живу, с Маруськой. Плохо, что ты студент. — Мне нужен адрес Мары. — Она в бараке живет. За саксаульной базой, по ту сторону переезда. У Женьки. За переездом были сплошные бараки. Они тянулись добрых три квартала. По нескольку бараков в ряд. Да их все не обойдешь и за неделю. — Неужели вы не знаете адреса? — спросил Алеша. Она закурила папироску. И, захлебываясь дымом и кашляя, сказала: — Бросила меня Мара. Говорит, ты пьешь, мама. Я не могу с тобой… Она сжалась в комочек, словно боясь, что ее станут бить, и произнесла совсем другим тоном — трезво и спокойно: — Адреса я не знаю. А ты Маруську обожди. Алеша намеревался сказать ей, что никого ему не нужно. Но в сенях послышались шаги, и в избу вошла невысокая, быстроглазая девушка. — Маруська пришла! Сведи, Маруська, его к Маре. Студента. Ни слова не говоря, Маруся толкнула дверь. И Алеша последовал за ней. Он догнал ее и, только когда они пошли рядом, Маруся сказала: — Вы — Алеша. Мне Мара рассказывала о вас. А тетку мою нечего слушать, она наболтает всякого! — Мне неудобно, что я заставил вас идти, — сказал Алеша. — Я все равно пошла бы. Я каждый день бываю у них. А Мара ушла к Жене, потому что измучилась с матерью. Каждый день клянется, что не будет пить, и снова напивается. А Маре не везет в жизни. Пройдя по каким-то дворам, Маруся и Алеша остановились возле глинобитного, обшарпанного снаружи помещения. Из барака доносились звуки гитары, которой вторил низкий Марин голос:18
26 июня наша авиация бомбила Бухарест, Плоешти, Констанцу. Об этом сообщалось в очередной сводке Советского информбюро. Известие было обнадеживающим. Наносился ответный удар по врагу. И хотелось верить, что начинался тот самый перелом в ходе войны, которого все ждали с первого ее дня, нисколько не сомневаясь, что он должен вот-вот наступить. — Сегодня Бухарест, а завтра Берлин, — сказал Костя Алеше и Ваньку, склеивая самокрутку. Втроем они сидели на чердаке Костиного дома. Играли в карты и курили. Курить во что бы то ни стало ребята решили в первый день войны. Но одно дело решить, а другое — привыкнуть к едкому, опаляющему горло дыму, от которого противно кружится голова и человек дуреет. И как бы трудно ни пришлось, отступать было поздно. Какой же он красноармеец, если не закурит на привале или в перерыве между боями! Да такого просто засмеют: не боец — баба. Правда, учились курить только двое. Ванек и до этого покуривал, за что его не раз таскали в учительскую. Ванек умел уже клубами пускать дым из носа, что начинающий курильщик вряд ли сделает, чтоб не раскашляться. Костя сходил в дом за газетой и принес известие о бомбежках. И ребята принялись обсуждать его. Ведь это было, пожалуй, одно из самых значительных событий в последние дни. — Бухарест — столица, и давно пора пугнуть Антонеску. Но главное — Плоешти. Нефтяные промысла. А не будет у Гитлера бензина — остановятся танки, не поднимутся в воздух самолеты, — рассудил Алеша. Они сошлись на том, что нужно идти в военкомат. Нужно проситься в армию, в один полк. Если попросить как следует, призовут. Это ведь война, а не что-нибудь, и они уже достаточно взрослые и стрелять умеют. — Надо найти того капитана, к которому мы ходили, — сказал Ванек Косте. — Понимаешь? — Верно! — согласился Костя. — Мы найдем его! И они, обгоняя друг друга, отправились в город. Мысленно они уже уговаривали капитана. Но он отвечал им как-то уклончиво, неопределенно. — Если откажут в районном военкомате, пойдем в городской, — размахивая руками, говорил Алеша. У вокзала встретились с Тоней Уховой. В простеньком платьице, длинношеяя, она чем-то походила на цаплю. Первым заметил ее Алеша. Он хотел было прошмыгнуть мимо, но Тоня увидела ребят и остановила: — Вы куда? Вас еще не призвали? — Как видишь, — ответил Ванек. — А меня приняли в школу медсестер. Вчера подала заявление, а сегодня оформили, — с гордостью сказала она. Ребята переглянулись. Если девчонкам так везет, то почему бы им, парням, не добиться своего. Надо лишь напомнить капитану, что Ванек и Костя уже были в военкомате. А что касается Алёши, то он призывался на службу и не его вина, что летную школу расформировали. — Чего бы капитан ни говорил, нам надо стоять на своем. И что-нибудь подпустить ему приятного. Они любят это. Дескать, мы тоже хотим иметь такую же выправку, какая у вас, — на ходу советовал Алеша. — Военкому это понравится. — Про выправку пусть говорит Ванек. Нормально. У Ванька глуповатое лицо, и капитан не заподозрит злого умысла, — сострил Костя. Ванек обидчиво засопел, остановился: — Значит, я дурак? И побрел в обратную сторону. Алеша догнал его, принялся уговаривать. — Ну, что уж ты! Сразу и обиделся! Нужно было помириться с Ваньком, и Костя извиняющимся тоном сказал: — Ты всегда такой. Ну чего случилось? Давай лучше закурим. А с капитаном побеседую я. Ванек не заставил ребят долго просить. Он закурил, и компания по-прежнему бойко потопала дальше по проспекту. Во дворе военкомата — люди с чемоданами и котомками. Сидят прямо на земле. Кто в тени, тому еще ничего, а те, что на солнцепеке, обливаются потом. А расходиться не велят. То и дело выкрикивают номера команд и устраивают переклички. Ребята еле пробились к военкоматскому крыльцу. А там застопорило. Там очередь, и соблюдают ее и следят за ней дюжие, горластые мужики. Едва Ванек сунулся в дверь, его осадили: — Не горячись, любезный. Тут тебе не детсад. Улицей ошибся. — А сам-то ты какой! Самого соплей перешибешь! — снова обиделся Ванек. — Какой уж есть, а только не пущу! — Исчезни! — гаркнул на Ванька широкоплечий парень в тельняшке. Ванек нырнул под перила и спрыгнул к Алеше и Косте. Оставалось одно: ждать, когда капитан выйдет, и уже здесь, во дворе, атаковать его. Когда выстроили и отправили первую, многочисленную команду, на какое-то время стало свободнее ходить по двору, но вскоре подошли новые люди. И хорошо, что Костя сумел для всех троих захватить удобное место на завалинке. — Будем ждать до ночи, — упрямо сказал Алеша. Капитан появился вскоре. Он на ходу сунул кому-то пачку документов и хотел было улизнуть. Но его окружили, вмиг засыпали вопросами, потащили в сторону. И он опять оказался на крыльце, крикнул: — Кто без повесток, принимать не будем! Ждать больше было нечего. Но ребята все же задержались здесь еще на добрых полчаса, надеясь, что вот уйдет следующая команда, и тот же капитан снова выйдет и пригласит их к себе. Разумеется, этого не случилось, и они уныло зашагали к центру города. Некоторое время молчали, затем Алеша с раздражением сказал: — Бюрократы. Бумажные души! Костя хмыкнул. Обижаться на капитана не следует. Капитан честно делал свое дело. Неделю назад все было бы подругому. Но сейчас шла война, а у войны свои законы. — А если бюрократы вдруг пошлют нас в разные места? Что тогда? — спросил Алеша. Костя пожал плечами. Он не представлял, что ж произойдет тогда. Но на всякий случай осторожно проговорил: — Если бы у меня были деньги, я бы предложил сфотографироваться. Я бы не стал жалеть презренной трешки. Какое значение имеет трешка, когда мы вскоре должны разлучиться? — Это еще неизвестно, — горячо возразил Ванек, ускоряя шаги, чтобы побыстрее пролететь мимо фотографии. — Робя, еще раз сходим к капитану! Костя остановился. У него что-то с ботинком. Наклонился и завязал шнурок, и опять наклонился. А глаза у Кости плутоватые, и Ванек заметил это. Заметил, но смолчал. — Пройдут годы, станет Ванек известным футболистом, и никому ведь не докажешь, что с нами вместе жил такой талантище, что ходил по городу вот так, запросто. Вот чего я боюсь больше всего на свете, — удрученно сказал Алеша, наблюдая, как Костя расшнуровывает ботинок. — Вы простоите здесь, робя, — припугнул Ванек. — А нам все равно, — покачал головой Костя. — И даже если никто из нас не станет знаменитым, память о нашей дружбе должна сохраниться. Ведь это так необходимо. — Печально, но факт. Если б у нас были деньги! — поддержал Алеша. — Ванек, ты хочешь что-то утаить, так ведь? Ты хочешь зажилить круглую сумму! Я требую ревизии! — сказал Костя. Ванек в конце концов сдался: — Идите вы к черту! Ванек завернул в фотографию. Алеша сказал встретившему их фотографу, показывая на Ванька: — Вы не знаете этого человека. И напрасно! Вы можете многое потерять. Фотограф — мужик дошлый, он все понимал, и сразу же подхватил шутливый тон: — А не назовете ли вы мне его имя? — Его имя сегодня ничего вам не скажет. Но пройдет год или два, и об этом человеке заговорит весь мир! — Так уж и мир! — усаживал ребят фотограф. — Но если не мир, то весь наш город. Вся наша достославная Алма-Ата. Ванек обидчиво пыхтел. Он мог вконец рассердиться, а это не входило в планы Алеши. И пока их фотографировали, Алеша скромно помалкивал. Лишь когда Ванек рассчитался за карточки и они выходили из фотографии, Алеша сказал мастеру: — Храните негатив, как зеницу ока! — Теперь в парк! — воскликнул Костя, показывая направление и внутренне ликуя. Ведь все так прекрасно сегодня! Какой удивительный вечер! Какая чудесная музыка! В парке Федерации играл духовой оркестр. Он всегда играл здесь танцы и обычно начинал с «Синего платочка». А последний танец он играл где-то около двенадцати, и звали этот танец «вышибаловкой». Костя довольно часто танцевал здесь с Владой. И он сказал сейчас, что до «вышибаловки» еще далеко. Можно пройтись по парку. Они взялись под руки и влились в нескончаемый поток гуляющих. Ванек пытался завести знакомство с девушками, с какими — не имело значения. Он пристраивался то к одним, то к другим. И говорил заискивающе и просяще: — Я с вами айда? Девушки шарахались от него, делали вид, что Ванек им совсем не нужен. Впрочем, так оно и могло быть. Не такой уж он красавец. Но его не огорчали отказы. Прежде Алеша был бы и сам не прочь познакомиться с девушкой. Он ждал этой минуты. Теперь же все это было ни к чему. Теперь у него была прекрасная Мара. Если бы встретить сейчас Мару? Он показал бы ее Ваньку и познакомил с Костей. И пусть позавидовали бы ему они. Мара такая красивая, такая пылкая! Ребята долго ходили по парку. Они видели много девушек, среди которых были и довольно милые. Но никто из девушек не захотел познакомиться с Ваньком, сколько он ни просился: — Я с вами айда? Глядя на гуляющих, Алеша подумал и о том, что война еще едва коснулась привычной жизни их большого тылового города. Вот и в парке — все, как прежде. Люди смеются, люди танцуют. И никакой тревоги, никакой озабоченности на лицах. Что ж, наверное, так и должно быть. А в Алешину судьбу с войною вошло что-то новое, очень важное. Для него стало ясно, что делать, как жить. Он понял, как накрепко связан он с судьбою народа. И это чувство связи делало его сильным. — Пойдемте-ка, ребята, домой. У меня ноги отваливаются, — сказал Алеша, падая на скамейку. Он и в самом деле очень устал. Ему хотелось спать. — Закурим только и пойдем, — согласился Костя. И не дождавшись «вышибаловки», они ушли из парка. Город спал. Ночь была тихая, звездная. На краю неба, где-то на западе, неярко мерцали далекие зарницы19
В воскресенье Воробьевы завтракали в беседке, обвитой плющом и диким виноградом. Мать сделала окрошку на холодном, только что из погреба, квасе. Она поставила на стол зеленую эмалированную чашку, до краев налила ее окрошкой. — Ешьте. Да оставляйте место для каши, — сказала мать. — Сама ешь, — живо проговорил Костя, разламывая кусок черного ржаного хлеба. — Садись. — Ты бы выпить подала, — лизнул ложку отец. — Было бы что. Бражку-то допил? Отец разочарованно вздохнул. Вчера вечером он процедил через ситечко последнюю гущу. — Надо запас иметь, — ворчливо сказал отец. — На всякий случай. Вдруг Косте повестку принесут. — Чтоб у тебя язык отсох! — ругнулась мать. — Дура! Других-то призывают, а наш чем лучше? Думаешь, бронь ему кто даст? Бронь, она совсем не про таких шалопаев. — Тебе же дали. — Так чего ты равняешь меня с ним! У меня под отчетом железо листовое и гвозди. И краска есть, и мыло. А он кто? — Он — образованный молодой человек. Через три года инженером станет. — Когда станет, тогда и бронь получит. — А это неправильно, — сказала мать, скрестив на груди руки. Косте явно не нравился начатый родителями разговор, и он, нахмурив брови, скреб ложкой край стола. Наконец не вытерпел: — Бросьте вы. Никакой мне брони не нужно. Я добровольцем уйду на фронт! И не подведу в бою! — Вот так вы и рассуждаете… В настоящих-то переплетах не побывали… А им что? — кивнула мать на отца. — Им лишь бы прикрыться вами. — Ладно, мама! — И ничего не ладно! По радио говорят, что молодежь — будущее наше. А такие вот лбы брони выпрашивают. Да разве ты пара отцу своему! Только что вытянулся, как лозинка, а умишко-то детский. Тебе бы в прятки играть… — она заплакала и уголком фартука принялась утирать бежавшие по щекам слезы. В закрытую калитку кто-то яростно забарабанил: — Эй, хозяева! Вам повестка. Вдруг побелевшая мать наклонилась вперед, намереваясь встать. И охнула, тяжело опустившись на стул. Силы сразу покинули ее. Она беспомощным материнским взглядом как бы сказала сыну: «Прости меня, что нет во мне крепости. Я всего лишь женщина. И мне очень трудно». — Сейчас! — крикнул Костя, проворно вылезая из-за стола. — Воробьев Григорий? Распишись. Костя растерянно посмотрел на отца. А тот пробежал глазами по беседке, словно ища места, куда бы спрятаться, и резко отодвинул чашку с окрошкой. — Там ошибка, — глухо сказал он Косте. — Я точно знаю. Отец шел мелкими, неверными шагами, как будто стремясь хоть на какую-то долю секунды отдалить встречу с повесткой, пусть даже выписанной по ошибке. Его голова ушла в плечи, и он стал заметно ниже ростом. — Вот тут распишись, дядька, — сказал парень, примерно Костин ровесник, подавая толстую книжку с повестками. — Явка немедленная. Да ничего не жалей, дядька, для нашей победы. Отец расписался машинально, как во сне, и, взяв голубой листок, почему-то пронес его в дом. Мать и Костя пошли за ним, словно завороженные одним видом повестки. — Вот как дурачат нашего брата, — печально сказал отец, прикрыв рукой брошенный на стол листок. — Сказали, что бронь, а теперь призывают в воскресенье, когда все закрыто и никому ничего не скажешь. А склад? Я же его не передал. А вдруг окажется недостача… — Они так делают, они и отвечать будут, — сказала мать, капая в стакан валерьянку. — Тебе что! — напустился на нее отец. — Не обижай ее, отец, — скрипнул зубами Костя. — Она ни при чем. И вообще… ты должен идти. Как ты смеешь так говорить, так поступать, когда Родина в опасности! Неужели ты боишься фронта? Косте невмоготу было слушать отцовскую ругань. Он вышел на крыльцо. Задумчиво пощурился на солнце. День был безветренный, душный. На молодых яблоньках съежились побуревшие от зноя листья. «Сейчас бы искупаться», — размечтался Костя и поймал себя на мысли, что предстоящая разлука с отцом не очень огорчает. Конечно, Косте не хотелось бы с ним расставаться, но ведь идет война, и каждый мужчина должен быть бойцом. Костя не мог допустить, что его отец трус. Нет, он, может быть, и не герой, но он как все. А не рвется в армию, чтобы не оставить одну мать. Он не может без нее, хотя иногда и бывает с нею грубым. А еще отец очень уж самолюбив. Почему, мол, других считают незаменимыми и держат на броне, а он что, хуже их, что ли? Костя закурил и прошел в беседку. На покинутом столе клевали хлеб и недоеденную окрошку куры. Костя замахал на них руками, и куры, громко крича и похлопывая крыльями, бросились наутек. Последние часы нужно побыть с отцом. Проводить в военкомат и на поезд, если отправят сразу, не распустив по домам. Только бы отец не обижал мать. А если попроситься в одну часть с отцом? Не с ребятами, как хотелось до сих пор, а с отцом? Нет, отца, пожалуй, на фронт не пошлют. Если ж и пошлют, то в какие-нибудь ездовые или санитары. А Косте нужно на передовую, обязательно туда, где воюют винтовкой и штыком. Там настоящее место для комсомольцев. Залпами встречать вражеские цепи, и самим ходить в атаки. Когда Костя вернулся в дом, отец, не торопясь, собирал в мешок всякую всячину. Положил кусок сала и бритву, старую алюминиевую ложку и подшитые материей шерстяные носки. А мать стояла рядом, держа в руке белое бязевое его белье, и молча наблюдала за отцом. Вид у отца был все еще растерянный и обреченный. — Почему это явка немедленная? — вдруг как бы у самого себя спросил отец. — Почему не указаны часы? Куда так срочно? — Дай-ка я посмотрю, — сказал Костя и взял со стола повестку. — Посмотри-ка, что там, — просто сказала мать. Костя пробежал взглядом голубой листок. И не поверил своим глазам. Пробежал снова, рассмеялся. Отец взглянул на него и в сердцах сплюнул. А мать бросила белье на подоконник, зачем-то вытерла руки о фартук, спросила: — А и чего ж ты там вычитал? — Что родителя забирают. Видишь, как ему весело стало! Видишь, как он благодарит за то, что тянулся на него столько лет! — горько, чуть не плача, проговорил отец. — Да не тебя забирают, папа. Тут про велосипед. Сдать немедленно в коммунхоз. — Да ну! — не поверил отец. Он взял у Кости повестку и долго, ничего не соображая, вчитывался в нее. — Не знаешь, за что и расписался. Так себе и смертную казнь подпишешь, — сказала мать. Отец повеселел. Он тут же стал выкладывать из мешка все, что успел положить. Дошла очередь до бритвы — отец поправил ее на ремне, намылил помазком впалые щеки, усы и бороду и принялся бриться. Он брился основательно, до блеска. — А я думаю, как же так. Оформили бронь и вдруг — собирайся, — сказал он, вытирая бритву о клочок газеты. — Хорошо, что ты разглядел, а то явился бы в горкомхоз с котомкой за плечами. Такие дела. Костя подождал, пока отец побреется, и спросил: — Может, мне свести велосипед? — Только ты поснимай резину, насос. Ключи возьми. — Нет, ничего я не сниму. Если хочешь, сам снимай и сам веди, — возразил Костя.Тихую улочку запрудили, плотно закупорили велосипедисты. Не протиснуться к воротам. Каждый норовит побыстрее разделаться со своей машиной. Потому и нажимают со всех сторон. — Не пускайте без очереди! — кричат передним. — Сдал и отходи! Чего там стоять! — У меня немецкий гоночный. Как быть? — Гитлеру подарим твой гоночный, чтоб драпать ему было способнее! В толпе Костя увидел Илью Туманова, окликнул. С грехом пополам пробились друг к другу. Илья шел прямо по арыку — по колена в воде, неся машину на вытянутых руках. — Может, прокатимся напоследок? — предложил Костя. Он все-таки настоял на своем: велосипед сдавал сейчас в полном порядке. Илья согласился. Они вывели из толпы свои машины и узеньким, сплошь перекопанным переулком направились на соседнюю улицу. В одном месте Илья поскользнулся в своих мокрых туфлях и упал. Хорошо еще, что не полетел в глубокую траншею, неизвестно для чего вырытую. — Надо переобуться, — сказал он, устраиваясь на куче сброшенного здесь битого кирпича. Пока Илья снимал туфли, выжимал носки и обувался. Костя рассказывал ему о том, как он вместе с друзьями ходил в военкомат. Не повезло, не приняли их в тот день. Еще побольше людей, чем здесь. — И меня возьмите. Я об этом подумывал уж, чтоб идти на фронт всем классом. Пехота не авиация — всем места хватит, — рассудил Илья. — Это мысль! — «Женихи» уже получили повестки. — Везет! Глядишь, через неделю-другую на фронте будут. — А ты слышал речь Сталина? Видно, и мы повоевать успеем. Война-то затягивается, — встав на ноги и закалывая булавкой расклешенные штаны, проговорил Илья. Они повели велосипеды на асфальт мостовой. Выправив руль, свернутый набок при падении, Илья первым прыгнул в седло, и не так, как обычно, а сзади. И переднее колесо поднялось, словно велосипед зауросил и встал на дыбы. Но Илья рывком качнулся вперед, резко нажал на педали и понесся вверх быстрее и быстрее. Это было трудно — мчаться все время в гору. Подъем хоть и небольшой, но он на каждом метре требовал от них чертовских усилий. Проехав только один квартал, Илья почувствовал знакомую усталость в каждом мускуле ног. И Костя, бросившись догонять Илью, вскоре же вынужден был сбавить скорость. Последние дни он не садился на велосипед, и сейчас сказалось отсутствие тренировки. Ноги словно деревянели, дыхание стало частым и грудным. Но, когда Костя понял, что разрыв между ним и Ильей увеличивается, он поднажал на педали. Машина отозвалась на его усилия и вот уже поравнялась с Ильей. Велосипеды покатились рядом, шелестя шинами по асфальту и ослепительно горя на солнце. Ребята коротко позванивали на перекрестках, прощаясь с привычными маршрутами, Их велосипедам предстояло ходить где-то далеко-далеко, по трудным фронтовым дорогам. Они тоже будут бойцами, как люди. Ребята проехали из конца в конец весь город. На мосту у Головного арыка Илья затормозил и спрыгнул на землю. Затем отвел машину под тополя, в тень, и ласково погладил рукой лаковые крылья и сверкающий никелем руль. — Все, — сказал Илья. — Все, — как эхо, отозвался Костя. Очевидно, со стороны было бы смешно смотреть на эту картину. Ребята плечом к плечу сидели у арыка, угрюмо повесив носы. Сидели молча десять минут, пятнадцать. Потом, как по команде, разом встали. — Едем, — сказал Илья. — Едем, — повторил Костя. И они покатили вниз. И, словно договорившись, повернули на улицу Дзержинского, где жила Влада. А может, и не они повернули, а сами велосипеды рванулись сюда по привычке, а ребята не сумели их удержать. Как бы то ни было, но у Владиной калитки заверещали два велосипедных звонка. Согласно заверещали раз и другой. Их услышали в доме, потому что в распахнутых окнах заколыхались занавески и шторы. К ребятам вышел Владин отец, седоволосый, рослый, неторопливый в движениях. Влада, несомненно, походила на него не только лицом, но и походкой, и манерой держаться с людьми. Владин отец пристально посмотрел на Илью, затем на Костю, как будто видел их впервые и не они мозолили ему глаза вот уже третий год. — Не знаю, прав ли я, но вы не ко мне, — сказал он, запахивая полосатый азиатский халат. — Вы абсолютно правы, — вытянул без того длинную шею Илья. — Мне кажется, что вы к моей дочери. — Это действительно так, — подтвердил Костя. Владин отец понимающе рассмеялся. Это был довольно приятный смех, и ребята подхватили его. Подошли поближе, надеясь, что вот сейчас они увидят Владу. Или она выйдет на улицу, или Владин отец пригласит ребят в дом. Конечно, рассиживаться Косте и Илье никак нельзя, они должны сегодня же сдать велосипеды. — Мне весьма приятно видеть вас, — уже серьезно сказал Владин отец. — Но огорчительно, что вы, очевидно, напрасно проделали столь длинный путь. Он сделал паузу, словно для того, чтобы уяснить, какое впечатление произвели его слова на ребят. Но ребята пока что никак не отозвались на его речь. Да и Владин отец, по существу, еще ничего не сказал. — Влада уехала, — неожиданно заключил он, собираясь уйти. — Куда? — с явным недоверием спросил Костя. — В Свердловск. К моей родне. Еще зимой я обещал ей эту поездку. — Но ведь сейчас война, — возразил Костя. — Свердловск далеко в тылу. Поэтому вы не очень беспокойтесь. С ней ничего не случится. Он ушел, а ребята еще некоторое время стояли у калитки. Они не знали, что сказать друг другу. И первым заговорил Костя: — Ты слышал от Влады о предполагаемом отъезде? Хоть что-нибудь? — Ничего не слышал. — И я тоже. Тайком уехала. — А как же мы?.. — растерянно развел руками Илья. — Ведь мы уедем на фронт, не простившись с нею! — Значит, не нужны мы ей. Ни ты, ни я. — Но она-то ведь нам нужна, — сказал Илья. — Не убежден. Между прочим, нам нужно ехать, — шумно вздохнул Костя, трогая велосипед.
20
В один из июльских дней Алеша и Костя снова наведались в военкомат. И хотя людей во дворе было так же много, капитан принял ребят и пообещал отправить в часть при первой же возможности. На фронт, оказывается, сразу нельзя, будут еще учить, как окапываться, как воевать против танков. И как стрелять тоже. — А эти? — Алеша кивнул на двор. — Их отправляют, а нам ждать? — Это девятнадцатый и двадцатый годы, — пояснил капитан. — Не беспокойтесь, дойдем и до вас. — А если мы добровольно? — спросил Костя. — Приходите на той неделе. Сейчас мне некогда. До свидания, — капитан выпроводил их из кабинета. В этом уже было кое-что определенное. Пусть не на той неделе, а немного погодя призовут их в армию, все равно они успеют повоевать. И главное — Алеша и Костя будут вместе. Они и о Ваньке сказали, и об Илье. Впрочем, Ванек почему-то утром не пришел к Воробьевым, как договорились накануне. Они пробрались через сутолоку двора и у ворот, уже на тротуаре, встретили Федю. Он что-то объяснял стоявшему с ним высокому пожилому человеку с черными, как сажа, усами и бородой. Федин собеседник был одет в военную форму, только на петлицах и на рукавах не было никаких знаков различия. Федя подозвал ребят и, довольный встречей, заулыбался. И тут же представил военного человека: — Мои юные друзья. Познакомьтесь, пожалуйста! Мой самый дорогой друг. Комбриг Чалкин. Так вот он какой, комбриг Чалкин! А как же его выпустили из тюрьмы? Значит, он совсем не виноват. Значит, случилась ошибка. — А это — Петины дружки, — Федя обнял ребят. — Правда, Петька был в «Б», а Колобов и Воробьев в «А». — Очень приятно, — улыбнулся Чалкин, задвигав густыми бровями. Ребята когда-то видели его. Но тогда он был безбородым, и лицо у комбрига было румяное. А вот нос такой же, как прежде: тонкий, с еле заметной горбинкой. Может, эта самая горбинка и придает лицу строгость. Горбинка и густые вразлет брови. — Вы постойте, а я сейчас. Одну минутку, друзья, — сказал Федя и скрылся в толпе. — И обо мне спроси! — крикнул ему вслед Чалкин и безнадежно махнул рукой. — Вот такой он есть. Всегда был таким. Чтобы узнать человека как следует, нужно съесть пуд соли. Мы с Федором Ипатьевичем съели центнер. А сейчас он побежал проситься на фронт. Ну а я жду нового звания. — Понимаем, — сказал Алеша. — Теперь ведь заместо комбрига генерал. — Могут дать и полковника. Поотстал я в военной науке, — рассудил Чалкин. — Но суть не в звании. Скорее бы туда. Вы ведь тоже на фронт метите? Да ведь и нельзя, чтоб не поспешить. Прибудешь к самой победе и совестно станет, что повоевать не успел. — Так, — согласился Костя. — И, разумеется, хотите воевать в одной части? Отгадал. Очень важно иметь друга рядом. Вот как я Федора Ипатьевича, настоящего человека, коммуниста. Это было почти невероятно: как равные с равным они говорили с комбригом Чалкиным. С тем самым комбригом, который наводил на басмачей ужас, кому поэты посвящали стихи. Вернулся Федя, пожал плечами: — Нет пока. — Что ж, наберемся терпения, — спокойно сказал Чалкин. — А сейчас домой. Приглашай ребят, Федя, посидим, потолкуем. — Слышите, мои юные друзья, что говорят вам? Это приказ, перед вами — комбриг Красной Армии! Поняли! Шагом ма-арш! Жили Чалкины неподалеку от военкомата. В глубине сада прятался за кудрявыми шапками яблонь аккуратный голубой домик. К нему от калитки, мимо цветущих клумб и зеленого газона, вела неширокая дорожка, на которой и встретил их Петер. Он обрадовался ребятам. Не дав им опомниться, повел в сад. — Хотите малины? — спросил он. Смешной вопрос. Кто же ее не хочет! А о Косте с Алешей и говорить нечего. Для них малина всегда была отменным лакомством. К тому же в горах она сейчас еще не поспела, а садовая на базаре ребятам явно не по карману. Петер привел их в густой малинник, сплошь усыпанный спелыми ягодами. — Хорошо, что пришли. — Нас пригласил твой отец, — солидно произнес Алеша. — Позавчера его освободили. Мы с мамой так и обмерли, когда он появился на пороге. Он ведь совсем не виноват, — потупился Петер. — Его оклеветал один карьерист. Грязью облил… Федор Ипатьевич письмо писал Сталину. Да и не один раз. И разобрались, и оказалось, что папа честный человек. — У тебя замечательный отец, Петя, — сверкнул глазами Костя. — Я знаю. Но нам сказали, что есть документы… — трудно ответил Петер. В душе у Алеши снова поднималось острое чувство неприязни к Петеру. Чужим поверил, а не родному отцу! И еще какому отцу! — Федор Ипатьевич одно время был у папы ординарцем. — после паузы снова заговорил Петер. — Потом в политотделе работал и в университете учился. Они с папой дружат крепко. Папа говорит, что если бы не Федор Ипатьевич, то вряд ли удалось бы добиться пересмотра дела. Федор Ипатьевич чуть ли не каждый день ходил к следователю, искал по всей стране свидетелей, которые с папой на границе служили. И еще в архиве нашел какую-то очень важную справку. Федя и комбриг Чалкин говорили о своем на веранде. Иногда до ребят доносился тонкий смешок учителя. Чалкин не смеялся, он только что-то настойчиво доказывал. Но вскоре они смолкли. Наверное, ушли в дом. — Я пойду не в папину часть. Не хочу примазываться к его славе, — сказал Петер. — А я не вижу в этом ничего плохого. Отец сам по себе, ты — тоже, — возразил Алеша. — Найдутся, что языками трепать станут. — Пусть треплют! — Не хочу, — отрезал Петер. В огород вышел Федя. Попыхивая папироской, он неторопливо ходил от грядки к грядке. И, наконец, приблизился к ребятам, сорвал и бросил в рот несколько крупных бордовых ягод. — Стать должностным лицом при кесаре Константине — значило произносить хвалебные речи в честь императора и льстить вышестоящим, — выплюнув зернышки ягод, сказал Федя. — Надо знать историю, Колобов. Почему император Константин? Да потому, что он самый святой из властелинов Рима. Как Гитлер для берлинских мясников. Федя смотрел на Алешу своими выцветшими глазами и посмеивался. Федя ждал, что ответит Алеша. И тот, чуть помедлив, сказал: — Константин был великимчеловеком, а Гитлер кретин. — Константин? Впрочем, да. Но он считал, что Риму демократия не нужна. — А если он был прав? — спросил Алеша. — Зарядил свое: прав, прав! — скороговоркой произнес Федя. — Хотя история — капризная бабенка, она иногда откалывает такие номера!.. Вот только жену Константинову жалко, красавицу Фаусту, которую кесарь утопил в горячей ванне. — Так было, Федор Ипатьевич? — К сожалению, да. Через века дошла до нас эта печальная весть. А известно ли тебе, Колобов, что у племени майя смертную казнь применяли лишь к летописцам, извращающим историю? Он сорвал еще несколько ягодок и громко, чтоб всем было слышно, проговорил: — Колобов далеко пойдет. И ты, Петька, напрасно его хотел раздраконить. На комсомольском собрании. Иду к комбригу Андрею Чалкину готовить шашлык. Немного погодя они все собрались на веранде. Пришла Петерова мать, молодящаяся блондинка, она и взяла на себя все заботы о шашлыке. А Федя сел играть в шахматы с Петером. Чалкин-старший угощал Алешу и Костю переспелой черной вишней. И сам ел ее, загребая столовой ложкой. Заговорил о Феде, и в уголках его глаз вспыхнули росинки слез. Затем росинки исчезли так же внезапно, как и появились. — Не верится даже, что мы здесь сидим, а там… — он резко отодвинул от себя чашку и вышел из-за стола. — В сводках нельзя всего написать. Но враг рано торжествует победу! Он на России не раз ломал себе зубы, это — советская, наша с вами Россия. Верно, ребята? — Конечно, — ответили разом Алеша и Костя. — Да и как же иначе, товарищ комбриг! — Андрей Иванович, — поправил Чалкин. — Комбриг, — оторвался от шахмат Федя. — Они же теперь военные люди, а ты им разные штатские штучки!.. Нехорошо, товарищ комбриг. — Ты думай, думай, а то Петька тебя облапошит. С ними надо держать ухо востро. Уж такая нынче пошла молодежь. Не то, что были мы, колоды неотесанные, совсем не то. — Уж так и неотесанные, — передразнил Чалкина Федя. — Кой-чего ведь сделали, а? Им легче будет. Это мы воевали и учились, строили и учились. Они прикончат Гитлера и грамотными начнут мирную жизнь. — Рановато бы им идти в огонь, — сказал Чалкин. — Но не мы заварили кашу. И вы поможете нам, ребята. Сталин на посту. Он думает, как скорее и малой кровью победить врага. Вот какое дело, богатыри! С огорода вкусно потянуло жареным мясом. Федя засопел, засуетился: — Шабаш! Я проиграю эту партию. Я теперь никак не смогу сосредоточиться. А шахматы требуют предельной собранности. Но тут же сделав какой-то, очевидно, очень сильный ход, Федя встал, немного отошел и со стороны посмотрел на свою позицию. И, довольный, рукавом рубашки вытер лысину. — Я накажу Петьку за то, что он недооценил противника. Алеше да и Косте тоже хотелось, чтобы выиграл Федя. Петера не надо жалеть. Он с достаточно сильным характером, он все выдержит. Другие-то выдержали от Петера не такое. Пусть продувает. Но Федя зевнул слона, потом взялся не за ту фигуру и кое-как, с большими усилиями, вытянул на ничью. Ему сегодня явно не повезло. — Шашлык уравнял наши шансы, — весь сияя, сказал Петер. Вскоре с огорода пришла мать. Она несла огромное фарфоровое блюдо, на котором кучей лежали темно-бурые с золотым отливом кусочки мяса, нанизанные на шампуры. Сверху шашлык был густо посыпан мелко нарезанным зеленым луком и перцем. — Это божественно, — показал на блюдо Федя. — Я не знаю ничего более вкусного! Комбриг ушел в комнаты и тут же явился с двумя бутылками сухого вина. А Федя попросил чего-нибудь покрепче, и Чалкин принес четырехзвездочного коньяка. Когда вино было разлито по рюмкам, Андрей Иванович сказал: — Мне хочется выпить за вас, ребята. Чтоб минули вас пули и бомбы. Ну, а если уж помереть, так со славой, — и брови у него вздрогнули и насупились. У Чалкиных засиделись допоздна. И расходиться не хотелось. Собирался дождь. Гудел ветер. Он гудел, казалось, повсюду. Над полями и лесами, над горами и океанами. Над всей планетой.Весна вторая
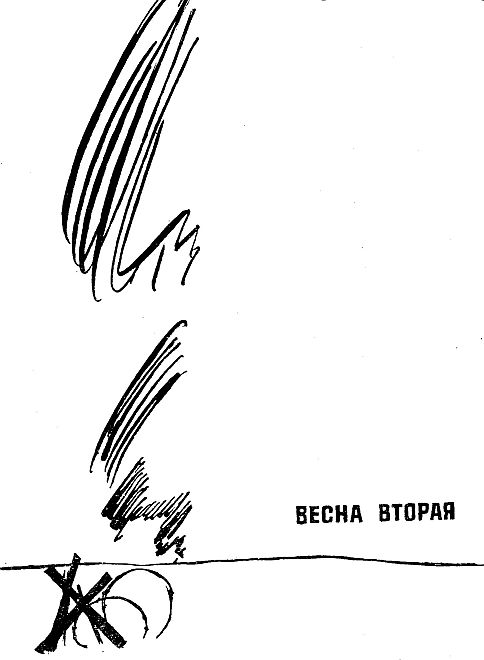
1
Они вынырнули из-за черного, как пепелище, облака. Они неторопливо тянули над курганами и оврагами, над всем неоглядным Диким полем, гордые красавцы-лебеди. Летели молча, вытянув длинные шеи, словно прислушиваясь к тому, что творилось на земле. Они как будто знали, что здесь пристреляна каждая былинка. Знали, но не могли облететь стороной эти места: многовековой инстинкт вел лебедей к верховьям Миуса и дальше — на север. Лебеди были белыми, но в кровавом свете зари их оперение пламенело, как у сказочных жар-птиц. Могучие крылья легко и царственно проносили лебедей по небу. Полет стаи казался чудом. И за этим чудом следили из окопов бойцы. Уставшие от непрерывных боев красноармейцы весны сорок третьего года. Когда лебеди отдалились к багровой черте горизонта и вот-вот должны были скрыться из виду, на пути стаи вдруг с треском лопнула шрапнель. И цепочка из пяти птиц рассыпалась, ее звенья заметались вокруг сизого клубка разрыва. Но растерянность продолжалась лишь минуту. Затем стая снова выстроилась и устремилась вперед, словно атакуя врага. И тут же рванула другая шрапнель, вожак отвалил от стаи и, как подбитый самолет, пошел на снижение. Он затрубил жалобно, протяжно. И ему ответили тревожные трубы четырех птиц. Вожак низко пронесся над окопами и, дотянув до реки, упал. От удара крыльев по воде пошли багрово-алые брызги. А другие лебеди повернули за ним и долго кричали и кружили над Миусом. Но вожак не ответил им. — Погиб, — с тяжелым вздохом сказал Костя, осторожно высовываясь из окопа. Но отсюда было невозможно увидеть, что делалось за поворотом реки, где упал лебедь. Из окопов просматривался лишь небольшой участок Миуса да правый его берег, где змеилась по саду едва приметная траншея противника. Слева, примерно в километре, виднелось под скалой село. Оно было на нашем берегу, немцы обстреливали его кинжальным огнем из дотов. В селе уже давно никто не жил: все дома были разбиты и сожжены. Это только издали да в такой поздний час они еще казались домами, а там лишь печи да глиняные стены. А справа на фоне вылинявшего неба виднелась за Миусом мрачная пирамида Саур-могилы. Говорили, что если б не эта Саур-могила, то не остановить бы гитлеровцам наших войск на Миусе. Еще в феврале наши части ворвались бы в Донбасс. Немец одел в железо и бетон Саур-могилу, и землю на добрый десяток километров изрыл траншеями, опутал колючей проволокой, начинил минами. Это была первая линия обороны, а за ней шли вторая и третья. И над всеми этими укреплениями господствовала высота с отметкой 278 — Саур-могила. Она была невдалеке от окопа, в котором сидел Костя. И было обидно, что она прикрывала не нашу, а чужую армию и что у ее подножия сложил голову уже не один красноармеец. Утром пошел дождь, и в траншее до сих пор было сыро. Сапоги разъезжались по осклизлой глине. Пахло прошлогодней травой и прелью. И еще пахло порохом, волглым и паленым сукном. Быстро темнело. За Миусом, за Саур-могилой погас фиолетово-рыжий степной закат, и засветились в черных прорехах прикрытого тучами неба робкие звезды. Стоило взлететь над окопами голубой немецкой ракете, как звезды меркли и пропадали во тьме. Вот так же прятались необстрелянные бойцы от падавшего далеко в стороне снаряда и от пули, которая уже пролетела мимо. «А лебеди бросили вожака, — грустно подумал Костя. — Лебедям больше ничего не оставалось делать. Они — не люди. Да и так ли всемогущи люди?!» И Костя вспомнил: это случилось в конце февраля под Красным Аксаем. Два наших истребителя дрались с четверкой «мессеров». Распустив хвост черного дыма, упал один вражеский истребитель, затем другой. Наблюдавшая за боем пехота уже салютовала выстрелами и шапками. Костя вместе со всеми кричал «ура!» и стрелял с колена из полуавтоматической винтовки. Стрелял в набиравшего высоту «мессера». И вдруг ведущий ястребок словно ударился о какой-то невидимый барьер. Самолет тряхнуло и отбросило в сторону. Он свалился на крыло и начал быстро снижаться. И «мессеры», как злые коршуны, пристроились ему в хвост и стреляли, пока он не ударился о землю. Было больно видеть потом, как безрассудно храбро бросился навстречу «мессерам» опоздавший на помощь ведущему другой «ЯК». Его срезали первой же очередью. Все это произошло буквально за несколько минут на глазах у целого полка. И никто не смог помочь летчикам. Только вытащили из-под обломков изуродованные тела и похоронили в одной могиле у степного шляха. И замполит батальона Федор Ипатьевич Гладышев так начал свою короткую речь над могилой: «Если бы…» Как было помочь им в небе? А что лебеди!.. Птица, она и есть птица. Дорогой Федор Ипатьевич. В тот день он как-то пытался шутить, но тут же пожаловался, что проклятый ветер запорошил ему глаза песком. А ветер был слабый, а песка совсем не было. Полк месил на дороге мокрый снег. Костя считал, что ему повезло. Попасть в одну часть со своим учителем — это было очень здорово! В старую крепость, что была на краю города, возле Малой казачьей станицы, он явился утром. А повестка пришла накануне вечером. Часов в одиннадцать возвращался Костя вместе с Алешей и Ваньком из парка. И когда увидел, что на кухне, в столовой и в его комнате светятся окна, понял: наконец-то наступил его черед. И они втроем зашли в дом. И мать встретила их на крыльце. Она зарыдала, неумело обнимая взрослого сына. Только и сказала: — Завтра, — протянула повестку, которую Костя прочитал тут же при падавшем из окна свете. — Ну чего ты, мама… Ну, не плачь… Мать первой прошла в дом. На столе стояла нераспечатанная поллитровка водки и полная чашка спелых помидоров. И еще поставила мать сало, розовое, с желтой коркой. Из спальни вышел хмурый отец. Он был в рабочем костюме из грубой ткани. Значит, еще не собирался спать. Щелкнул крышкой старинных карманных часов и прошагал к своему постоянному месту за столом. — Не лезь под пулю. Если ей надо, она сама найдет тебя, — сказал он, аккуратно разливая водку по граненым стаканам. А Костя, сдвинув свои прямые брови, думал тогда только об одном: прислали ли повестки Алеше и Ваньку? Хорошо бы идти на фронт вместе. Но утром Алеша явился невеселый. Повестки ему не было. Не шел в армию и Ванек. А в крепости Костя встретил Петера и Сему Ротштейна, и обрадовался им. Все-таки свои ребята, а то он совсем пал духом. Тогда-то и подошел к ним Федор Ипатьевич. Он был в военной форме, с капитанской шпалой на малиновой петлице. А на рукаве вышита звезда, как у всех политруков. И сказал он, что берет ребят в свой батальон. На людном вокзале, перед тем как эшелону отправиться, Федя расцеловался с комбригом Чалкиным. Отец поцеловал Костю, а мать заплакала. Костя обнял ее одной рукой, другой нежно погладил ее мягкие волосы. И ему нестерпимо захотелось, чтоб как можно скорее ушел поезд. Костя сам боялся разреветься. С Владой он не простился. Влада по-прежнему жила в Свердловске. Костя написал ей большое-пребольшое письмо. Но она не ответила. Потом еще писал ей из Ташкента, где формировалась дивизия, из-под Калинина, из Калача и из других фронтовых мест. Но ответа не было. Обеспокоенный молчанием, он дважды обращался к ее отцу, но не получил ни строчки… Неподалеку брызнула пулеметная очередь. Костя снова выглянул из траншеи и увидел над темнеющей рекой ниточку красноватых огоньков. Фрицы били трассирующими по самому берегу Миуса, по кустам, где окопалось боевое охранение батальона. Где-то там сейчас должен быть Петер. — Питаться, братья-славяне! — послышался из сумрака простуженный голос старшины. И в траншее, и в выходящем в балку, к землянкам и взводным блиндажам, ходе сообщения в ту же минуту возник веселый, призывный перестук котелков и ложек. Мимо Кости прошмыгнул маленький, но достаточно плотный для своих девятнадцати лет снайпер Егорушка. Это о нем недавно писали московские газеты. Егорушку называли грозою фашистов. Смотреть не на что — лилипут, а гроза. — Мои крестники загоношились, — бросил на ходу Егорушка. Костя понял, о чем он говорил. Неделю назад на утренней зорьке Егорушка снял в саду двух вражеских пулеметчиков. После этого фрицы сменили пулеметную позицию, а теперь, выходит, снова бьют с прежнего места. «Петеэровец ударил», — подумал Костя, услышав хлесткий звук выстрела. Огненная строчка оборвалась. Значит, попал. Но фрицы тут же повесили над Миусом «люстру», осветившую все вокруг зеленоватым, мертвенным светом. И враз, стараясь опередить друг друга, застучало несколько вражеских пулеметов. — Психует фриц. Нервенный он, а это никуда не годится. В такой войне выдержка требуется. Боец сказал правду. Именно — выдержка. Под Сталинградом какую силищу одолели! И снова топтаться приходится, искать у противника слабое место. А он еще силен немец, ой как силен! Вспомнились первые дни войны. Тогда все говорили о скорой победе, о помощи немецких рабочих, которые должны были совершить у себя революцию. «А приходится воевать вот где, — подумал Костя. — И это еще ничего. У самой Волги были… Но теперь верно говорит боец: не устоять немцу». В землянке было темно, и Костя не стал зажигать спичку. Чего доброго, заметят фрицы и пустят в ход минометы и пушки. Костя долго шарился среди вещевых мешков, касок, противогазов, еще какого-то снаряжения, пока не нашел своего котелка. Стрельба стихла внезапно. Фронт затаился. Теперь можно отдохнуть до утра. Прошлую ночь Костя спал мало, пришлось дежурить в траншее. Зато сегодня отоспится. Он решил поскорее поесть и уйти в блиндаж. Но едва съел суп с макаронами и принялся за кашу, из темноты вышагнул Федор Ипатьевич. Он сразу узнал Костю, подсел к нему и спросил: — Ты, Воробьев, лебедей видел? Ну которые пролетали сегодня? А помнишь—, как в «Слове о полку Игореве» говорится: «Кричат в полночь телеги, словно распущены лебеди»?.. Так ты знай, Воробьев, что здесь русичи князя Игоря с Гзаком и Кончаком бились. Чести себе искали, а князю славы. Может, вот в такую же ночь по этой самой балке, где мы сидим с тобой, Игорь из плена бежал. Тут только в балках и можно укрыться. — Неужели все это здесь? — удивленно проговорил Костя, бросая в котелок ложку. — Вы серьезно, Федор Ипатьевич? — Вполне. Нужно учить историю, Воробьев. Вон когда еще в этой степи русские стояли насмерть. Восемьсот лет назад! Теперь подумай, какая она нам родная, донецкая земля. А Гитлер на днях объявил, что восточная граница Германии навечно пройдет по Миусу. — Вон как рассудил! Чего захотелось! — усмехнулся Костя. — Лаком кусок — вся Украина. Есть на что позариться. А перевернется ведь, и скоро! — Точно, — согласился Костя. — Теперь уж как пойдем, то до самого Берлина. Без передышки. Пора кончать! — Ты думаешь? — Конечно. — Ну, раз ты так говоришь, то пора. Костя засмущался. Хотел было спросить, что делается на других фронтах, как рядом услышал все тот же хриплый голос старшины второй роты: — Ночью углубляем траншею, братья-славяне! Почти до самого утра стучали лопаты. Бойцы уходили в землю. Значит, стоять здесь придется еще не один день.2
Петер сидел в окопе метрах в пяти от реки и всматривался в противоположный берег. Окоп был тесный, и ноги затекли. А когда он распрямил правую ногу, стало неприятно покалывать в подошву. Хоть бы уж поскорее сменили, дойти до блиндажа и спать, спать. Притаилась степь за рекою: ни огонька, ни звука. Только черные фигуры деревьев толпились у берега. Да еле угадывались размытые очертания холмов. И казалось порою, что там, за Миусом, — безлюдье, что можно пройти все бугры и лощины и никого не встретить. А чужие окопы и выстрелы с той стороны — это всего лишь дурной сон, который вот-вот оборвется. Но время от времени немцы напоминали о себе ракетами да пулеметной трескотней. Наши отвечали редко: чего зря тратить патроны! Вот если немцы пойдут в атаку, тогда другой разговор. Но наступать ночью они не осмелятся. И распорядок у них строгий — всему свой час. А час был поздний. Заметно похолодало. Петер зябко дернул плечами, потянул на себя шинель. И подумал, что Костя Воробьев, наверное, уже спит, и Сема Ротштейн тоже. И отец где-то спит. Может, недалеко, а может, за тысячи километров. Фронт-то протянулся через всю страну. Отец был ранен, но вылечился и снова в строю. Впрочем, он может и не спать сейчас. Он — генерал, ему приходится разрабатывать планы военных операций. При мысли об отце Петер страдал. В нем все еще жило чувство вины, которую вряд ли можно загладить. Если б только снова вернуть то ненастное зимнее утро! Он сказал бы матери и всем-всем, что для него нет человека дороже отца, и что отец всегда был честен, и что Петер готов поклясться в этом. Малодушие привело к подлости, к предательству. Именно так говорил о ком-то Федя и говорил для того, чтобы Петер все принял на свой счет. И Петер понял Федю. «Я был ошеломлен. Я поддался общему настроению», — пытался Петер оправдаться перед своей совестью. Но она откровенно отвечала ему, что все это не так. Петер сам прекрасно знает, во имя чего он отрекся от отца. В то утро Петер проснулся поздно — в девять или в начале десятого. И первое, что он услышал, был приглушенный разговор в столовой. Незнакомый женский голос что-то нашептывал матери, а мать всплескивала руками и нервно ходила по комнате. Тревожно подумалось: «Папу осудили? За что? Да не виноват он, не виноват!» И Петер зарылся лицом в подушку и заплакал. От несправедливости, от обиды. Потом подумал, что рано быть суду. Должны разобраться во всем как следует. А отец арестован всего неделю назад. Нет, там говорили о чем-то другом. Определенно. Может, матери, как и в первый раз, не дали свидания. Но она ведь не собиралась идти сегодня в тюрьму. Мучимый предположениями и сомнениями, Петер не мог дождаться, когда же уйдет та женщина, что говорила с матерью. И только в прихожей стукнула дверь, он выскочил в столовую в трусиках и босиком. Мать вздрогнула от неожиданности, увидев его встревоженного, с заплаканными глазами. — Что случилось? — требовательно спросил он. — Ничего, — сказала мать. — Это ко мне приходила женщина. Ты ее не знаешь. Она от Валентины Петровны… Петер понимал, о ком говорила мать. Валентина Петровна — жена сослуживца Чалкина. Сама побоялась прийти, чтобы не заподозрили ее арестованного мужа в тайном союзе с отцом Петера. Мол, вот и жены их ходят друг к другу. — Ну и что Валентина Петровна? — спросил Петер, глядя матери в глаза. — Услышала что-нибудь о папе? Мать тяжело вздохнула: — Нет. — Так что же? Вместо ответа мать подошла к Петеру, прижалась к нему, положила голову на плечо. И заплакала, запричитала: — Не скоро ты увидишь отца. — Ладно, мама, хватит! Разберутся и выпустят. Федор Ипатьевич так говорит. Не могут же держать невиновного. Мать отошла к окну и сказала тихо, как будто самой себе: — Его обвиняют в каком-то злом умысле. Но ведь что-то находят у всех, кого арестовывают. — Так что же передала тебе Валентина Петровна? — спросил Петер. — Она сказала… Она… В общем, нас могут выселить из квартиры. И конфисковать имущество. Так вот, Петенька, нам нужно что-то предпринять. Непременно предпринять… — уронив голову на косяк окна, снова завсхлипывала мать. — А мы-то при чем?.. А ты-то при чем, а? — Что ж, если выселят, будем жаловаться. — Кому? — В Москву. — Ничего это не поможет, Петенька. Кто с нами посчитается, когда мы — семья арестованного? Никто. И даже заикаться не надо. — Ну, уйдем куда-нибудь, снимем квартиру, — сказал Петер. — Но у нас нет денег платить частникам. Что я могу заработать! — возразила она. — Придется продавать вещи. А то помрем с голоду. — Я буду работать. Петер ушел в свою комнату. Что делать? Выселение из квартиры — это еще далеко не все. Как отнесутся к нему в школе? Ему не станут доверять, его будут сторониться. Петер всегда гордился своим отцом. Они были внешне похожи: оба большелобые, плечистые. Петер рассказывал ребятам про боевые подвиги комбрига Чалкина. Про гражданскую войну, разгром курбаши Султанбека. Ни у кого не было такого отца-героя. Вот почему все старшие классы не ушли однажды домой, узнав, что комбриг Чалкин должен быть на родительском собрании. И он пришел тогда, высокий, в новой форме, со шпорами. И все смотрели на него, как на богатыря. Теперь же даже это, самое важное, самое дорогое, оборачивалось против Петера. Ребята, наверное, думали о том, как комбриг Чалкин покривил душой. И, может, уже сочинили не одну историю об его измене или о чем-нибудь в этом же роде. Горько, очень горько было Петеру, когда он снова вышел к матери в столовую. Но он больше не плакал, он сам утешал мать. — Все выяснится. Все будет хорошо, — говорил Петер. Тогда-то и сказала мать, что выход, кажется, найден! Нужно, чтобы Петер формально отказался от отца. Так будет лучше и для отца и для всей семьи. Тогда уж никто не осмелится выселять Чалкиных. — Ты понимаешь, что говоришь, мама! — гневно воскликнул он. — Не могу я этого, никак не могу! — Они поверят тебе, а мы с тобой будем знать, что все это не так, — сказала мать. И она поведала сыну свой план. Петер немедленно должен идти в школу и заявить, что не имеет ничего общего с отцом. Если у комбрига Чалкина были какие-то грехи, то и отвечать за них только ему, а не его сыну. Семья ничего не знала о делах Чалкина. — Измены не было, мама, — сказал Петер. — Я это точно знаю! — Я тоже так думаю, но попробуй доказать им! — Папа — честный человек! — настаивал Петер. — Правильно. И он ничего не узнает о твоем заявлении. А выйдет из тюрьмы, мы все объясним ему, — мать снова заходила по комнате, платочком вытирая набегавшие на глаза слезы. — Папа поймет нас. И Петер послушал мать. Он решил, что это поможет матери и ему, Петру, как-то дожить до того времени, когда отец выйдет на свободу. Петер вспомнил, как он говорил с секретарем школьного комитета комсомола. Вначале секретарь слушал его без особого интереса, затем, вникнув в суть дела, сказал: — Это ты повторишь на общем собрании. И он повторил. Первые дни в школе только и было разговоров, что о Петере. Но в душе Петер не раз каялся в этом своем поступке. Вот если бы он был уверен, что отец действительно виноват, тогда бы все было по-другому. Федя какое-то время старался не замечать Петра. Лишь однажды сказал мимоходом: — Я докажу!.. И пришел к матери за отцовскими документами. Но все бумаги отца были взяты при обыске. И Федя с матерью вспоминали, что было написано на каком листке и в какой тетради. — Я везде буду стучаться! Пусть и меня заберут, но не успокоюсь, пока Андрюху не выпустят и в партии не восстановят, — сказал Федя уходя. О Петеровом отречении он даже не заикнулся, да и потом предпочитал молчать. А о комбриге Чалкине по-прежнему иногда рассказывал ребятам, и Петер должен был ему отвечать, как в тот раз, в стрелковом тире. Но совесть сейчас подсказывала Петеру и другое. Отрекшись от отца, он мало-помалу сживался со своим новым положением и все больше становился чужим Чалкину-старшему, которым прежде гордился. И бывали минуты, когда Петера уже брало сомнение: а действительно ли невиновен его отец? Отец вышел из тюрьмы. Петер не объяснялся с ним, предоставил это матери. О чем говорили родители в первую ночь, он не знает. А назавтра отец пригласил его в кино. После одиночной камеры ему хотелось на люди, он готов был круглые сутки бродить среди людей, вслушиваться в их голоса и улыбаться, улыбаться всему на свете. И окидывая восторженным взглядом набитый ребятишками (сеанс был детский) огромный Зал летнего кинотеатра «Ала-Тау», он сказал Петеру: — Хорошо-то как, сынок! А мы подчас отравляем себе жизнь. Мелкое тщеславие, зависть… «Значит, что-то все-таки было», — подумал тогда Петер, и в душе осудил себя за то, что ищет себе оправдание. Ты прекрасно понимаешь, Петька, о чем говорил отец… В степи стемнело. Звезды и те попрятались на небе. Не видно внизу и Миуса. А волны плещутся где-то рядом и пахнет свежей травой. В такую ночь парни с девчатами гуляют. Далеко в тылу, да и здесь тоже, во втором эшелоне. С телефонистками и санитарками. Но есть однолюбы, те домой письма посылают, ждут ответа. А некоторые с заочницами переписываются, фотокарточек ждут. Бывает, что везет. Иному такая дивчина попадется, что закачаешься! А дурнушки шлют открытки с артистками. Больше с Федоровой и Целиковской. И есть такие ребята, что верят и хвастаются: вот, мол, моя заочница. А посмеешься или просто правду скажешь — сердятся. Дескать, что ж тут особенного, похожа на артистку и только. И еще бывают чудеса похлеще. Санинструктору Маше вручили в санчасти полка письмо с адресом: «Незнакомой боевой подруге». Оказалось, что от какого-то тракториста из Киргизии, заочника. Признается в любви и обещает жениться. Этот даже не просит фотокарточки. И не возьмет в толк, что за Машей половина роты ухаживает, и каждый бы, не раздумывая, женился на ней. У Петера нет девушки. Костя будет писать своей Владе, Сема — своей Вере, а Петеру — некому. Не искал он себе никого. Все свободное время проводил дома, потому что матери одной было скучно. Надо ей написать! Это сделает он завтра. Мать хочет, чтобы отец взял его к себе. А Петер против этого. Ему пора идти в жизнь своей дорогой. Давно пора. Справа, по всей вероятности, где-то возле Саур-могилы, небо прорезали оранжевые светящиеся трассы. Донеслось глухое постукивание пулеметов. Это фрицы били по нашему самолету, который вдруг появился в кромешной тьме над передним краем. — Разведчиков перебрасывает на ту сторону, — сказал кто-то рядом. Это была смена. Петер вылез из окопа и рядом с ходом сообщения пошел в балку к взводному блиндажу. Но по пути его перехватил Гущин из особого отдела. Видно, нарочно поджидал здесь. Вот уже три раза он расспрашивал Петера о службе, о доме, о друзьях. — Привет, замлячок! Есть к тебе разговор, — приветливо сказал Гущин. — Пойдем-ка в сторонку. Они отвернули от хода сообщения и пошли косогором. В одном месте Гущин попал ногой в мелкий пехотный окопчик, запутался в своей плащ-палатке, выругался. — Действительно, темень сегодня непроглядная. Так можно и ноги поломать, — сказал Петер, помогая Гущину подняться. Но едва они тронулись снова, их окликнул суровый голос: — Стой! Кто идет? Гущин назвал пароль. Часовой успокоился, предупредил: — Вы левее берите, а то тут саперы чего-то мудрят. Не то проволочное заграждение ставят, не то мины. Гущин, который шел впереди, повернул влево. И через несколько шагов едва не упал снова. На пути их оказалась воронка от авиабомбы. В нос ударило резким запахом недавнего взрыва. — Позавчера сюда угодило. Метили в балку, а попало сюда, — вспомнил Петер. Они сели на краю воронки. Петер огляделся. Невдалеке, в ближнем тылу батальона, чернели курганы. По ним часто стреляли немцы, считая, что это наши наблюдательные пункты. А в сторону Миуса отсюда полого уходила ложбина. В ней-то и угадывались фигуры бойцов. Очевидно, это были саперы, о которых говорил часовой. Роются в земле, как кроты. — Ну, как воюем, Чалкин? — негромко спросил Гущин, словно боясь нарушить вдруг установившуюся на фронте тишину. «Зачем я ему нужен?» — думал Петер. — To-есть, конечно, воюем все одинаково, все окапываемся, — самому себе ответил Гущин. — Как настроение? — Плохое. — Я понимаю. Наступать веселее. Но нельзя размагничиваться. Нужно быть все время начеку, дорогой землячок!.. Петер усмехнулся. Но его улыбку не мог видеть Гущин, поэтому он продолжал разговаривать тем же тоном: — От батьки никаких известий? Большой он человек у тебя, Чалкин! Генерал. Наверно, к самому товарищу Сталину вхож. А тебе надо быть достойным такого человека. Ну, а что в роте-то вашей говорят? Касаемо обстановки? — Да ничего. Говорят, что скоро, должно, турнем немца. — Это правильно. Сила накапливается, — сказал Гущин. — Ты в партию не вступил? — Нет еще. — Почему же так? — Чтобы вступить в партию, нужно проявить себя в бою, — прислушиваясь к сдержанному говору саперов, ответил Петер. — Почему именно в бою?.. Ты вот что, заходи ко мне. Запросто. — Ладно, — устало проговорил Петер. Ему хотелось спать, и он был очень доволен, что Гущин распрощался с ним и ушел. «Но ведь он хотел о чем-то беседовать», — подумал Петер, направляясь к своей землянке.3
За ночь упали тучи в лощины и овраги, в прибрежные сады за Миусом, и теперь там белели островки тумана. Утро стояло необыкновенное. Большое оранжевое солнце всплывало над степью, слепило глаза. В блиндажах и траншеях, в этих ячейках гигантского улья, просыпались бойцы, начинали свой новый фронтовой день. В эту пору немцы завтракали. Завтракали и наши. По молчаливой договоренности — ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны. Еще успеют настреляться, а поесть теперь вряд ли придется до самой темноты. Особенно нашей стороне: передний край у нас проходит по пустынному и низкому берегу и хорошо просматривается фрицами. Это значит, что днем в траншеи не просто доставлять горячую пищу. Не одного подносчика с термосами уложили немецкие снайперы. Костя поел, напился из фляги. Потом снял шинель (уже было тепло) и отнес ее вместе с котелком в блиндаж. Тут Костю и захватил Сема Ротштейн. — Пляши, Воробей! Костя намеревался вырвать письмо. Но Сема хитер, он разгадал Костин замысел и выскочил из блиндажа: — Пляши барыню! От Влады! — Врешь! — радостно крикнул Костя. — Вот честное слово! — Ну давай. Потом спляшу. Кто пляшет после завтрака, так ведь? — просил Костя, догоняя бежавшего по траншее Сему. — Постой. Прошуршал над окопами и ударил метрах в двухстах позади тяжелый снаряд. Поднял сине-желтое облачко перемешанной с дымом пыли. И этот гулкий звук разрыва остановил Сему. — Начинается, — вздохнул он, передавая Косте письмо. И в ту же секунду с грохотом лопнул второй снаряд. Он упал ближе. А потом и третий, и четвертый. Немцы пристреливались к полковому командному пункту, который был замаскирован редкими кустиками акации и бересклета. По краю балки там проходила посадка, как называли довольно часто встречающиеся в Донбассе лесные полоски. — «Рама» КП засекла, — сказал Сема. — Она вчера, проклятая, долго кружила. Теперь фриц даст так даст! Но обстрел вскоре же прекратился. И Костя пошел в блиндаж, и там в одиночестве распечатал письмо. До Кости совсем не доходил смысл того, о чем писала Влада. Он просто узнал ее почерк — красивые мелкие буквы с небольшим наклоном вправо, и его сердце застучало часто и сильно. «Дорогой Костя! Вот уже полтора года, как мы не виделись. Срок большой и, очевидно, мы стали теперь другими. Мне очень трудно сейчас в одиночестве. И ты уехал, и уехал Илья. А с девушками из нашего класса, ты знаешь, я не очень дружу. Весь наш город наводнен знаменитостями. Артисты, профессора, писатели. Впрочем, бездари тоже много. Видела Тоню Ухову. Она уехала на фронт с маршевым батальоном. Я ей позавидовала, она смелая, настоящая, и это великолепно: жертвовать собой ради других! Еще встречала Алешину знакомую. Ее зовут Марой. Помнишь, в театре? Если тебе где попадается Алеша, скажи, что он поросенок. Мне кажется, что я никогда никого не смогу так любить, как Мара его любит. Она даже светится вся, когда говорит об Алеше. А он ей не пишет. Привет тебе от Ильи, который мне тоже прислал письмо. Он в артиллерии, лейтенант. Может, ты и его встретишь. Пиши. Не забывай. Влада». Наконец-то она нашлась. Сообщает кучу новостей. Тоня — молодец. Кто бы мог подумать, что именно она, эта невзрачная на вид девчонка, уедет на фронт! Влада и то не решилась, а ведь ее считали все смелой и волевой. Сам Костя всегда думал о Владе, как о героине. Костя вспомнил сейчас тот день, когда он шел с Владой с вокзала после проводов Ильи и Алеши в Ташкент. Влада говорила о сильных людях. Она восхищалась ими, хотела походить на Жанну д‘Арк. Еще тогда ей Костя подбросил что-то насчет сверхчеловеков. Это была, разумеется, шутка, но Влада восприняла его слова всерьез и ответила, что она полюбила бы волевую натуру. Каким далеким и смешным кажется тот разговор! И каким мальчишкой был Костя перед Владой, хотя ему представлялось, что он уже все постиг и всему знает цену. А говорил он тогда одними цитатами. Но почему Тоня, а не Влада? Почему Влада ни одним словом не обмолвилась о том, что она намерена делать? Ведь для фронта сейчас что-то делает каждый. А сама, сама? Ну что ж, что она девушка — слабый пол… Тоня ведь тоже не парень, а тихо, без зажигательных речей выучилась на медсестру и теперь воюет. — Чего нос повесил? — спросил, появляясь в блиндаже, Сема. — Может, что стряслось? — Ничего, — мрачно ответил Костя. — И радостного мало? Костя хотел спрятать письмо, но почему-то вдруг подал Семе. Тот быстро прочитал его и вернул: — Все как надо. А загрустил ты, что не поцеловала. Думаешь, она другого себе нашла? Да Влада… Она… Она!.. Сема не знал, что сказать, и только взмахнул кулаком. Это, на его взгляд, должно было убедить Костю во Владиной верности. Но Костя возразил: — Не об этом я. Ты помнишь, мы лишних людей изучали? Печорина и других. У них желания расходились с делом. — Ну, как не помнить! Смутно, но помню. — А теперь такие люди могут быть? — Черт его знает. Наверное, такие люди сейчас называются трепачами. — Грубо, — вздохнул Костя, — но верно. А Влада мне все-таки нравится. Несмотря ни на что. — У тебя какие-то вихри в голове. Ты как спал сегодня, Костик? — А лебеди-то, говорят, поднялись. И улетели все пятеро. — Кто видел? — Егорка. Можешь спросить у него. Низко-низко потянули над Миусом, а потом отвернули на северо-восток. В наш тыл. — Это хорошо, — сказал Сема, в раздумье поглаживая лежавший на коленях автомат. — Раз вожак сумел подняться, то залечит раны, будет жить. Поставят его на крылья в лебедином медсанбате. За рекой ударил пулемет, и над траншеями тонко пропели пули. А уже следующую очередь немец дал пониже. Фонтанчики пыли запрыгали по брустверу. Костя надел каску: незачем искушать судьбу. Он не был новичком на войне, он знал, чем кончается похвальба. А кому нужно умирать без пользы. Много их осталось, лихих удальцов, на пути от Волги и Дона до Миуса, на огромном пути, который прошел Костя. В этот утренний час стрельбу всегда начинали фрицы. Они провоцировали перестрелку, и занимался этим у них один и тот же немец. Костя хорошо знал его в лицо: черноватый и длинноносый. Он по природе был весельчаком и задирал наших добровольно. Каждое утро черноватый начинал со своеобразной физзарядки: то в одном, то в другом месте неожиданно высовывался из траншеи почти по пояс и тут же прятался. Даже снайперы, народ тренированный и хитрый, не могли поймать его на мушку. Догадайся, в каком месте траншеи он появится на одно лишь мгновение. А как только наши ребята открывали по длинноносому фрицу стрельбу, из-за реки несся бешеный шквал пулеметного и минометного огня, и среди бойцов роты уже были жертвы. Наиболее башковитые, в том числе и Костя, пытались найти хоть какую-то систему в забавах весельчака-фрица. Ну, например, как часто он прыгает, где и когда показывается. Делались расчеты. Но ничего путного пока что никто не придумал. Били по одному месту, а фриц выскакивал в другом, метрах в тридцати-сорока в стороне. Потом ведь черт его знает, куда он подастся после очередного прыжка: вправо или влево. Фриц понимал, что за ним охотятся, и это его еще больше веселило. — Дурак ведь, много не напрыгает, — говорил Костя. — Честное слово, ухлопаю! Вот и сейчас Костя, выглядывая из траншеи, прикидывал, куда побежит длинноносый. Шутник, а терял самообладание, когда били по нему сразу из нескольких мест. — Костя, а ведь он тоже человек, — сказал Сема. — Гад он вместе со своим Гитлером! Если он человек, то зачем пришел сюда, так ведь? С того берега залпом ударили автоматы. Закрякали мины. Правда, это чуть правее, на фланге батальона. — Костя, а ведь привык я к вам. Как буду жить без вас после войны?.. Но Костя не слушал Сему. Костя все наблюдал за вра жеской траншеей, из которой нет-нет да и показывался знакомый фриц. — Дай-ка свежий диск, — решительно сказал он. — Я его сейчас срежу! Вражеские минометчики словно услышали Костю. Они перенесли огонь своих минометов прямо на вторую роту. Мины стали рваться совсем рядом, и завыли над головами осколки, и пополз по окопам сладковатый дым. — Повезло фрицу, — с сожалением сказал Костя. — В сорочке родился, — крикнул Сема, и его голос потерялся в грохоте разрыва. Мина шлепнулась в полуметре от траншеи, комья земли посыпались вниз. — Работенка у нас ничего, только пыльная, — снова заговорил Сема. — Это — вещь, — оценил Костя. Из хода сообщения выскользнул Петер. Пилотка — поперек головы, от уха к уху. Утер рукавом гимнастерки раскрасневшееся мокрое лицо и сказал, с трудом переводя дыхание: — А кого я сейчас видел! Ни за что не отгадаете. Ребята пожали плечами. Костя спохватился: — Алешу Колобова? Тоню?.. Стой-ка! Илью Туманова? — Нет, — закачал головой Петер. — Я ходил в штаб дивизии. А там пополнение прибыло. И ко мне подскочил… Снова рванула мина по соседству. Петер упал было на колени, но тут же сердито махнул рукой в сторону разрыва: шумят, мол, слова выговорить не дают. — Ваську Панкова видел! — крикнул он. — Вот кого! — Да ну! — Вот вам и ну! Ему за попытку перейти границу червонец дали. Десять лет. Да заменили штрафной ротой. Он уже был ранен, искупил вину кровью, а теперь его в нашу дивизию. — Надо же так! — удивился Костя. — Я ему рассказал, где мы. Обещал прийти. И еще я ему сказал, чтобы он просился в нашу роту. — Думаешь, пошлют? — спросил Сема. — А чего не послать? Пошлют. Костя встрепенулся: — Эврика! Послушайте-ка, ребята:4
В Красноярск Алеша попал летом сорок второго года. До этого он вместе с Ваньком служил в запасном полку под Новосибирском. Перед самой отправкой полка на фронт начальство отобрало бойцов, имеющих десятилетку, и послало в артучилище. Было обидно, что их увозят еще дальше в тыл. Алеша подавал командиру полка рапорт, чтобы разрешили ехать на передовую, но рапорт в штабе оставили без последствий. И вот — Красноярск. — Начальству виднее, кому куда ехать. На то оно и начальство, — рассудил Ванек, которому было, пожалуй, все равно, где служить. Поезд прибыл в Красноярск днем. Стояла жара, тяжелая, изнурительная. Ребятам хотелось к реке, хоть разок нырнуть, а уж потом идти. Но встречавший команду щеголеватый капитан лениво процедил сквозь зубы: — Отставить! Отставили. Не допризывники — знали уже, что в армии не поспоришь. Оно ведь и правильно: дисциплина должна быть настоящей. Капитан повернулся на каблуках, звякнул шпорами, оглядывая пополнение. — Разобраться по-трое. Подтянись! — Это почему же по-трое? — раздался чей-то недоуменный голос. — Вы в кавалерии. — Как так, товарищ капитан? А нам говорили, что артучилище, — с простодушной улыбочкой проговорил Ванек. — Вы будете во втором дивизионе. А второй дивизион готовит артиллеристов для кавалерии. Нужно выучиться ездить верхом, владеть клинком и так далее, — пояснял капитан, выравнивая строй. Он хватал ребят за руку, за плечо, ставил на место. Быстро навел порядок, и колонна зашагала по прокаленным солнцем улицам. Прибывших не держали в карантине ни одного часа. Их с ходу завернули в небольшую баньку, вымыли, прожарили одежду. И в тот же день поместили в казарму, распределив по взводам, которые уже занимались. Ванек и Алеша попали в шестьдесят второй взвод. Командир взвода Лагущенко, невысокий, с девичьим румяным лицом шатен, строго сказал новичкам: — Это вам не пехота. Значить, артиллерист должен быть подтянутым, разворотливым, исполнительным. Или он не артиллерист, а баба. Понятно? — Так точно, товарищ лейтенант, — выпятив грудь, весело ответил Ванек. — А почему несвежие подворотнички? — Мы только с дороги, товарищ лейтенант, — сказал Алеша. — Это — последнее вам замечание. Вы не из гражданки пришли, а из армии. Понятно? — Понятно, товарищ лейтенант. — Скажу помкомвзвода, чтоб закрепил за вами карабины. Значить, пока что устраивайтесь. Алеша и Ванек получили в каптерке пахнущие прожаркой одеяла и простыни. Потом вместе с ватагой курсантов сходили на конюшню и там набили наволочки мягкой и упругой соломой. А когда вернулись в казарму, между ровными рядами двухъярусных коек их встретил сердитый помкомвзвода. Алеша так и застыл от удивления и забыл поприветствовать его. — Вот здорово! — сказал, наконец, Алеша. — Я вас знаю! Вы — сержант Шашкин. Мы встречались в Ташкенте. Еще до войны. Как же это давно было! А ведь войны прошло чуть больше года. — Может быть, — произнес Шашкин, строго глядя на Алешу. — Но подойдите ко мне снова и доложите по форме. Вот оно как. А ведь Алеша чуть было не бросился обнимать его. — Товарищ сержант, рядовой Колобов прибыл в артучилище для дальнейшего прохождения службы. — Отставить! — Товарищ сержант… Шашкин побагровел: — Два наряда вне очереди! Повторите. — Есть два наряда вне очереди. — Ступайте. И вдруг Алеше стало обидно-обидно, и его взорвало: — За что наряды? Вы хоть объясните, товарищ сержант! Должен же я знать… Объяснили курсанты. — Ты это вправду? — Что? — не понял Алеша. — Да ты же сержантом Шашкина кроешь, а он старший сержант. У него же три угольничка! Алеша досадовал на себя. И надо ж было так оскандалиться! Ни за понюшку табаку схватил наряды, из-за такой мелочи: не обратил внимания на петлицы. Он все-таки надеялся, чтоШашкин смягчится и отменит наказание. Есть же у него сердце. Но через несколько дней Алешу послали на ночное дежурство в конюшню. Жалеючи его, курсанты со стажем из других батарей училища предупредили: — Ты — новичок и кое-чего знать не можешь. У нас так положено: совсем не умывайся и не чешись от бани до бани. А кони должны быть всегда в аккурате. Не дай бог, ночью будет генеральная проверка и какой конь окажется в навозе!.. — Да к Образцовой не подходи сразу. Она, хоть и дохлая с виду, — бьет, стерва. — Не давай Негусу грызть кормушку… Нельзя сказать, что Алеша остался недоволен своим первым нарядом. Отдежурил он как положено. Не присел ни на минуту, пока утром не пришли курсанты чистить коней. Устал дьявольски, но острые запахи конского пота и навоза пробудили в Алеше воспоминания о детстве, о родном селе, о колхозе, в котором работала дояркой Алешина мать. Алеша любил коней и так же, как Федя, очень жалел их. Кстати, где он теперь, Федор Ипатьевич? Где Костя Воробьев? Наверное, они уже давно на фронте… А может, кое-кто и отвоевался…5
На первых порах Ванек держался возле Алеши. У Ванька здесь не было других хороших знакомых, хотя сходился он с людьми удивительно скоро. Алеше он верил, считал, что тот его не даст в обиду. Правда, Ваньку не нравился Алешин характер. Одно дело, что горяч. Да и вечно на рожон лезет, спорит с кем придется, непременно хочет кому-то что-то доказать. — Обижайся или нет, но ты философ, Алеша, — осуждающе сказал Ванек после случая с Шашкиным. — Это на что ж я должен обижаться? — Ты принципиальничаешь, — пояснил свою мысль Ванек. — Показываешь, что умнее всех. Вот тебе и влетает. За каждый угольничек получил по наряду? Получил. Люди в казарме спали, а ты по конюшне с горячими шариками на лопате бегал. — Пусть я философ, пусть, по-твоему, это плохо. Но ты лопух, Ванек. Лопух и недоносок, — рассердился Алеша. — Я учту твое замечание, — несколько спокойнее сказал Ванек. В училище к зиме с продуктами стало плохо. Курсантов перевели на последнюю тыловую норму. Если учесть, что ребятам приходилось сутками работать с полной нагрузкой, иногда в легких шинельках на лютом морозе, то этой самой тыловой нормы порой недоставало для того, чтобы «заморить червячка». Особенно страдали деревенские ребята, которые привыкли дома есть основательно, вдоволь сало да картошку, вареники да пироги. Здесь у них быстро подтянуло животы. Они ели овес и попадали в санчасть с коликами в желудке. Во всех двенадцати батареях шла разъяснительная работа. Деревенских парней стыдили. Кое-кому из ребят приходили посылки. Ванек чаще других получал на почте ящички, обшитые мешковиной. Тогда он стремился незаметно проскользнуть в казарму. Запирал посылку в тумбочке, и лишь по ночам доставал из нее сухари, и долго противно хрустел ими. Какие-то крохи перепадали и Алеше, но это бывало лишь в день получения посылки, когда Ванек чувствовал себя богатым. Уже назавтра он забывал сунуть сухарь под Алешино одеяло. Покуривая в рукав после второго ужина (чтоб не увидел дневальный), Ванек сытно рыгал и говорил: — Твои-то вот ничего не шлют. Алеша молчал. Он получил нерадостное письмо из дому. Тамара писала, что им очень трудно. Отец страдал язвой желудка и слег в больницу. Бабка стала плохая, еле ноги носит. Жалея Тамару, бабка отдает ей свой хлеб. Тамара не может брать, но бабка заставляет. Совсем постарела она, бабка Ксения, долго не протянет. Чем Алеша мог им помочь? Чем утешить? Если умрет отец, то пропадать Тамаре и бабушке. И мозг сверлила мысль: «Была бы Тамара постарше, пошла бы на работу. А то ведь не примут никуда». Сказавшись больным, Алеша с урока конного дела ушел в самоволку. Он вылез через дырку в заборе и направился к Енисею. Шел, не замечая дороги, по сугробам, по обструганному ветром снегу. Миновав рыбачью избушку, возле которой лежали похожие на больших рыб долбленые лодки, Алеша спустился к закованной в ледяную броню реке. Как-то он видел здесь людей с удочками и сетями. Кажется, это было, когда Енисей только что встал. А теперь никого вокруг: ни рыбаков, ни пешеходов — в этом месте начиналась дорога через реку на небольшую пригородную станцию Злобино. Алеше и не нужно было никого. Алеша хотел остаться один со своими думами. Что мог он? Послать домой денег? Но у Алеши всего пятерка в кармане, а за эту пятерку можно купить лишь иголку или полпачки махры. Сестренка Тамара и бабушка Ксения, простите вы Алешу, но он ничем не может помочь вам. Нет, он напишет письмо, и в этом письме будет надежда на скорый конец войны. А придет победа — наедятся люди досыта. Конечно, те, кто выживет. Алеше на какое-то время показалось, что дело в нем самом. Ведь он же не на фронте, да и не только он. Всем нужно туда, всем, всем! И взять с бою, вырвать из рук врага всякую инициативу и лупить его, не давая передышки, как лупили под Сталинградом. «Я должен подать рапорт, — говорил он самому себе. — Должен, потому что до выпуска еще не меньше двух месяцев. Война идет уже два года, и меня никак не могут выучить воевать. Смешно! Сегодня же подам рапорт. Иначе мне нельзя. Поеду на фронт рядовым». Вдоль Енисея тянул ледяной ветер — хиус, пробиравший до костей. Алеша зябко поежился и, чтобы согреться, пустился бежать в гору. Подъем был крутой, и Алеша запыхался. «Рапорт! Рапорт», — вертелось в голове у него. Тропка вывела на торную дорогу, и он вскоре оказался у забора. Но у того места, где поднимается доска, вовремя заметил часового. Значит, караулят тех, кто в самоволке. Что же делать теперь? Свернул в улицу и направился в обход обнесенного колючей проволокой и всегда охраняемого артиллерийского парка. За парком горбились инженерные землянки, а дальше начинались конюшни. Возле конюшен и можно было незамеченным перелезть через колючую проволоку. Там обычно не ставился пост. Дорога ушла вправо, а перед Алешей раскинулась синяя снежная целина. Шагать по ней было трудно, ноги по колено вязли в сугробах. В валенки сыпался снег. По-доброму так переобуться бы, но Алеше нужно спешить, его могут хватиться в любую минуту. Он ведь не рассчитывал на этот круг длиною около двух километров! А вот и землянки. Алеша приблизился к ним и вдруг увидел по ту сторону проволоки преподавателя инженерного дела. Тот поманил Алешу кривым, как коготь, пальцем. И когда Алеша вплотную подошел к заграждению, подполковник заворчал: — В самоволке? Не сносить тебе головы, Колобов! Под трибунал угодишь! Развинтился ты окончательно! И нет у тебя ни стыда, ни совести. — Так точно, товарищ подполковник, — сознавая свою вину, тяжело вздохнул Алеша. — Какой из тебя выйдет офицер! Чему ты научишь красноармейцев! Говори, где был… — На Енисее. Разрешите идти? — Алеша стрелял глазами по сторонам. Не увидел бы его еще кто-нибудь! — Один был? — Один. — Разумеется, сейчас не лето. А ты молод, Колобов. Очень молод, — сказал, словно уличая в чем-то нехорошем, подполковник. — Но ты больше не будешь ходить в самоволку? — Конечно, нет. Это — последний раз! Самый последний!.. — Тогда подожди, я подам тебе стремянку. Но ты не подведешь меня, Колобов? Смотри у меня!.. А то не сносить тебе головы, Колобов! На пути от землянки до казармы Алеша никого не встретил. А здесь уже бояться было нечего. Правда, Шашкин подозрительно оглядел его с ног до головы: — В санчасть ходил? — Да. — Ну и что? — Говорят, что это простудного характера. — Тогда пройдет. Закаляться надо, а не сачковать, и никакая холера не пристанет, — рассудил Шашкин и углубился в учебник артиллерии. Курсанты готовились к очередным занятиям. Кто читал, кто писал, кто разбирал учебные взрыватели и унитарные патроны. А Ванек надраивал проволокой шпоры, купленные у кого-то из курсантов. Он потихоньку сообщил Алеше радостную для себя новость: — Вечером едем в город вдвоем с комбатом. — Что ж, счастливого пути, — равнодушно сказал Алеша. — Ты завидуешь мне. Алеша криво усмехнулся. Было бы чему завидовать: комбат — тот самый капитан, что встречал ребят на вокзале, — поедет к кому-то из своих знакомых, а Ванек будет караулить коней. Завидная перспектива! Ванек был очень доволен, что именно его вот уже в который раз берет капитан в город. Значит, Ванек ему по душе, а это кой-чего стоит. — Никому я не завидую, Ванек. И себе тоже, — грустно сказал Алеша. Устроившись в стороне от всех, на подоконнике, он написал рапорт на имя начальника училища. Писал, что готов умереть за Родину. Он отнес рапорт в штаб училища и незаметно подсунул дежурному офицеру. И с этого дня стал с нетерпением ждать ответа. Но начальник училища медлил. Или он почему-то не получил рапорта или не хотел отпускать Алешу на фронт. Вместо начальника училища с Алешей говорил командир взвода Лагущенко. Он размахивал перед Алешиным носом рапортом, и его красивое, девичье лицо свирепело. — Не соблюдаешь субординации? Ишь, какой умный! А я кто тебе? Пушкин, что ли? А комбат, а командир дивизиона?.. Значить, на фронт пожелал? А на губу не хочешь? Тебя учат, деньги на тебя тратят, кормят тебя… Смирно! Тоже писатель нашелся, рапорты пишет! Кру-гом! И на этот раз уехать на фронт не удалось. Приходилось ждать выпуска.6
Целый день над окопами безнаказанно висела «рама». Уйдет на северо-запад, за Саур-могилу, вернется и снова уйдет. Иногда она пропадала на какой-нибудь час: очевидно, летала на заправку. По «раме» били из пулеметов и автоматов, из противотанковых ружей и винтовок, но она ходила высоко, к тому же у нее бронированное брюхо — попробуй сбей! Впрочем, говорили, что где-то сбивали. Знакомство с «рамой» не сулило ничего хорошего. Эта двухфюзеляжная уродина сама по себе не была опасной. Она не бросала бомб. Вооруженная до зубов, она не стреляла по наземным целям. Но красноармейцы люто ненавидели «раму». Даже «юнкерсы» и «хейнкели» не шли с ней в сравнение — вот как она насолила пехоте. Да и артиллерии от нее доставалось. Бомбардировщики сбросят бомбовый груз и улетят. Если уж попала бомба в цель — каюк, а пролетела мимо — живи, ребята, не тужи. А «рама» в таком случае не даст бойцу покоя. Она вызывает и корректирует огонь тяжелой артиллерии. Если батарейцы промазали, она постарается поправить дело. Ей сверху все видно. А прогнать ее некому. Что-то нет поблизости зенитчиков. И истребителей наших не видно. Одни «мессеры» патрулируют в небе. Они забрались высоко-высоко, вдвое выше «рамы». Весь день пехота ждала удара вражеской артиллерии. Но его не было. На широком фронте разорвался лишь один тяжелый снаряд, прилетевший откуда-то издалека, так как никто не слышал выстрела. Разрыв этого снаряда поняли в наших окопах, как начало артналета. Сейчас, мол, «рама» скорректирует стрельбу и пойдет свистопляска. Однако тревожились понапрасну. Вечером «юнкерсы» молотили наши боевые порядки у Саур-могилы. Ветер принес оттуда бурую тучу пыли. В траншеях на какое-то время стало темно, как в погребе, лишь едва приметные краснели огоньки самокруток. А ночью на правом берегу Миуса ревели моторы и скрежетали гусеницы танков. Похоже было, что фрицы сосредоточивали силы для наступления. Не собирался мириться Гитлер с потерей сталинградских и донских степей, хотелось ему Ворошиловский проспект в Ростове опять называть своим именем. Не спалось этой ночью красноармейцам. Ожидание боя до предела напрягло нервы. Люди много курили, тревожно поглядывая в сторону вражеских окопов. Настораживало и то, что фрицы не подвешивали «люстр» и не обстреливали окопавшихся у самой воды наших дозоров. Воздух в степи был свежий, пахучий — не надышишься. Ноздри ловили дурманящий запах чебреца и мелкой полыни. И Косте вспоминались бахчи за Шанхаем и крупные капли росы на пудовых арбузах. Ползешь, не поднимая головы, и катишь впереди себя зеленого великана. Вот это была работа! Когда падал вместе с арбузом в канаву, на рубашке не было сухого места. А как драпали от сторожа! А как палил он им вдогонку из дробовика, который однажды все-таки разорвало!.. На правобережье Миуса все еще рокотали моторы. И Петер, который лежал рядом с Костей на бруствере траншеи, сказал; — Если будет атака, ее нужно ждать в том месте, где бомбили «юнкерсы». — Ерунда, — возразил Костя. — Бомбили они для отвода глаз. А утром будут гвоздить по всему участку. Снаряд-то выпустили недаром. Это им надо было для пристрелки. — А ты откуда знаешь? — Предполагаю. Не такие уж они дураки, чтобы вечером бомбить, а утром наступать. Это все для отвода глаз. — Что же, посмотрим, — сказал Петер. — А я бы прежде хотел посмотреть сон. На свежую голову веселее воюется. — Спи. — Что-то не спится. — И после некоторой паузы: — Петер, ты когда-нибудь любил? — Нет, не довелось. — Гиблое это дело — любить, — тоном бывалого, все познавшего человека проговорил Костя. — Догадываюсь. Но, к сожалению, личного опыта пока не имею. Истину приходится принимать на веру. — А у тебя были чирьи, Петер? На мягком месте. Петер промычал что-то. — Это тоже плохо. Мучают, а не выдавишь, пока не созреют. — Брось хандрить. Влада тебя любит, — сказал Петер, подтолкнув Костю локтем в бок. — Если бы ты любил стихи, я прочитал бы тебе сейчас «Соловьиный сад» или что-нибудь еще. Но ты чудной человек, Петер!.. — Я люблю музыку, а она тоньше по чувству, чем поэзия, — возразил Петер. — Не помню, что пророчил тебе Алеша Колобов на выпускном вечере… — Начальника какого-то крупнейшего комбината. — И ты им будешь. — Так уж и начальником! — усмехнулся Петер. — Но инженером постараюсь быть на том самом комбинате. Уж это точно! Или ты мне не веришь? — Почему же? Верю. — Конечно, если ничего не случится… Главное, чтобы война не затянулась. Второго-то фронта все нет и нет. Этак можем и постареть для студенчества. А что? Время-то понемногу уходит… — Так уж и постареем! — А в институты сразу кинется уйма народу! Но я буду готовиться, чтобы поступить. Ведь мы уже столько перезабыли!.. Со стороны Миуса подошел снайпер Егорушка. Пригнулся, чиркнул зажигалкой. — Ну как? — спросил его Костя. — Вчера еще одного записал в поминание. — Не мой ли попрыгунчик? — Твоего не трогаю, как и договаривались, — сказал Егорушка, подсаживаясь к ребятам. — А чего-то фрицы все-таки затевают. Это вот похоже, как под Калачом было. «Рама» летала, а утром другого дня нам и всыпали… Покурю да, однако, пойду спать. От блиндажей роты донесся хриплый голос телефониста: «Волга»… «Волга»… «Я — Иртыш»… «Я — Иртыш»… «Волга»… Неподалеку кто-то рассказывал, как опаливают убитую свинью: — Перво-наперво готовь солому. Кабана — в копешку, и разводи огонь. Аж зашкварчит! Но надо, чтобы жару было в самый раз. Мало — не изведешь щетину, много — затвердеет кожа. А паяльной лампой никогда так не обделаешь. — У нас кипятком свинью обдают и потом дергают щетину, — раздался чей-то робкий голос. — А у меня в Сибири зазноба объявилась, — сказал ребятам Егорушка. — Прислала письмо заочница, Аграфена Фокина. Выходит, Груня. Мол, желаю переписываться с отважным бойцом и после войны приглашает в гости. Мне это письмо старшина вручил. А я ответик состряпал самый теплый. Выходит, душевный. Груня, пишу, меня ваше письмо очень взволновало, и сам я — холостой. И это даже завлекательно для меня приехать в вашу Ивановку, когда война кончится. А она мне другое письмо пишет. Дескать, дорогой Егорушка, и так далее. Про специальность меня спрашивает. Ежели мне там понравится, то, мол, и работенка будет, в колхозе. А жить к себе приглашала… Ну чего еще солдату надо! Дело теперь за фотокарточкой. Пишу ей, мол, надо поближе узнать друг друга и прошу прислать карточку. А она не шлет. А я снова прошу. И завелась у нас переписка аж с прошлой весны. И так я ничего не получил от нее — в смысле изображения. Да и письма вдруг перестала присылать. Я тогда, долго не думая, написал председателю Ивановского сельсовета. — Ишь ты! Сообразил, — покачал головой Костя. — А чего! Раз село, то должен быть сельсовет, а сельсовета не бывает без председателя. Написал подробно. Мол, сообщите мне о судьбе Груни Фокиной. Очень желаю знать. И сегодня ответ пришел от председателя… — споткнулся на слове Егорушка. — Заболела или что? — Да нет, здорова. Не очень, но ничего! — Изменила? — Да что вы, ребята! По гроб моя! — Так чего же голову морочишь? — спросил Костя. Егорушка шумно вздохнул и, немного помедлив, продолжил: — А то, что Груне моей шестьдесят седьмой годок пошел. И она не писала мне правды, чтобы не разочаровывать меня, когда я послал ей ответ душевный. А письма она сочиняла вместе с учительницей, которую перевели в другое село. Вот так и прекратились письма на фронт. Вот что, ребята, со мною приключилось. Сколько я мечтал об этой самой Груне, если б она знала! Я ее молоденькой, с черными бровями и длинной косой себе представлял. И почему-то в бордовой кофточке из фланельки. На спинке вытачки, короткий рукав, открытый ворот… — Смотри-ка, он понимает!.. — засмеялся Костя. — Я ведь учеником был в портновской. На дамском раскрое. Да и в журналах интересовался. Выходит, кое-что и понял. Ох, и обидно, ребята! Вскоре он ушел. Костя и Петер еще поговорили и понемногу задремали. И показалось им, что их тотчас кто-то разбудил. — Давайте в траншею. Светает, — сказал, тормоша Костю, рослый боец с противотанковым ружьем. Костя смотрел на него спросонья непонимающим взглядом. — Вставать надо, — добавил боец. В степи было спокойно. Не слышно ни одного выстрела, не всплеснет внизу быстрый Миус. Притихли на той стороне танки. Лишь в утренней тишине еле слышная наплывала откуда-то песня жаворонка. Распелся, дурной. Что ж, если ему нравится, пусть поет. Солнце поднималось все выше, а фрицы не стреляли и не шли в атаку. А что если все-таки начнут артподготовку? — Кишка у них тонка форсировать Миус. Это им не сорок первый, — сказал появившийся в траншее Федор Ипатьевич. — Всю музыку они затеяли с перепугу, не иначе. Должно быть, показалось им, друзья мои, что мы вытряхнуть собираемся их из окопов. Вот и создали видимость, что технику концентрируют в балках да к траншеям пристреливаются. — Неужели, Федор Ипатьевич? — Костя круто повернулся к Гладышеву. — Точно. Разведка наша на ту сторону ходила. Зарывают в землю танки. Оборону укрепляют. Фрицу сейчас не до жиру. — Вот гады! А мы не выспались из-за них, — простодушно сказал Костя. — Так ведь? — Досыпайте. — Придется, — согласился Петер и побрел к блиндажу. Костя взвел затвор винтовки и стал ждать, когда над вражеской траншеей покажется черная голова весельчака. Ждать пришлось долго. То ли у фрица не было с утра игривого настроения, то ли он куда уходил. И лишь часов около десяти, когда солнце стало порядком пригревать, длинноносый фриц показал Косте язык. Впрочем, может быть, и не Косте, но тот принял это на свой счет и выстрелил. Фриц забавлялся около часа. И Костя один раз едва не ухлопал его. Длинноносый прыгнул чуть в стороне от места, куда стрелял Костя, всего в каких-то пяти метрах. И как всегда в таких случаях, на нашу траншею обрушился пулеметный и минометный огонь. Немцы не жалели боеприпасов. Методически били и били по левому берегу. — Раззадорил ты их, — сказал Сема. Но ударила наша артиллерия, и мины перестали падать на участке второй роты. Видно, залп накрыл минометчиков. И пулеметы оробели: стали стихать один за другим.7
Наконец-то Васька Панков пришел на позиции второй роты. Пришел не в гости, а на службу, неся в одной руке автомат, а в другой — румынский ранец из конской кожи. Этот ранец он прихватил в окопах противника вместе с румыном, когда в начале зимы воевал в штрафной роте. Еще была у Васьки, как память о том времени, румынская бронзовая медаль, которую в шутку преподнес ему под Батайском знакомый штрафник. После встречи с Петером Васька попросился у начальства, чтоб послали его к своим ребятам. Но майор из штаба дивизии недовольно отмахнулся от Васькиной просьбы: — Это в тылу только — наши и ваши. Здесь все свои. Сегодня чужие, а завтра свои. Он послал Ваську в комендантский взвод. И служить бы Ваське там, как солдатскому котелку — век без износа, если бы не Федя. Спасибо ему, дотолковался с кем-то в штабе, и вот Васька, живой и здоровый, стоял перед ребятами. И поблескивали от радости влажные Васькины глаза. — Явление Христа народу, — сказал он и бросил рюкзак, и обнял свободной рукой сначала Костю, а потом Сему. — Ведь надо же так, огольцы! Никогда не думал, что придется воевать с кем-нибудь из наших! А тут смотрю — идет Петер. Самому себе не поверил. А потом фараона увидел, того, кто меня попутал, Гущина. Ты-то с ним дружбу завел, Петер? — Я? Да ты что? — оправдывался Петер. — Ну, а зачем ты к нему ходил? — Я ходил? Я был в штабе дивизии. Ну он меня и встретил. В дружки набивается. — Ладно, чего уж там. Костя разглядывал Ваську. За время, что они не виделись, Васька похудел и почернел лицом. А в глазах его была усталость, большая усталость от пережитого. Васька продолжал: — У вас тут затишье. Заскучать можно. В штрафной роте я уж привык к шуму. По тебе и танки лупят и минометы, и авиация тебя молотит. А у вас что? Конечно, он немножко рисовался. Он был прирожденным артистом, этот Васька Панков. Хотя в штрафной роте он всего перевидал. Как-никак был ранен и снова в строю. Может, другому его переживаний на всю жизнь хватит. Костя все еще глядел на Ваську долгим испытующим взглядом. В уголках рта у Васьки было что-то горькое. Костя чувствовал себя виноватым в том, что случилось с Васькой. Ведь если бы учком охватил Ваську какой-то работой… Ох и мальчишка же сам Костя! Идеалист, как его иногда называл Алеша. Костя определенно переоценивал возможности учкома. Но ведь все знали, что Васька водится с ворами и хулиганами, и никто не попытался оторвать его от шайки. Однако не слишком ли поздно печалиться об этом сейчас, когда и лагерь, и штрафная рота у Васьки позади, и он такой же обстрелянный солдат, как и все здесь, на переднем крае. Но это хорошо, что обошлось счастливо. Из штрафников выживают немногие — на то они и штрафники. — У вас затишье, — повторил Васька, шаря у себя по карманам. Очевидно, он искал табак и не мог найти. И словно извиняясь, что так произошло, широко развел руками. За рекой грохнуло, и на этот залп отозвались разрывы на левом берегу, неподалеку от места, где стояли ребята. Как челноки, засновали люди в траншее. Солнце тускло поблескивало на касках. Костя и Петер тоже надели каски, а у Семы и Васьки их не было. Сема утопил свою каску в колодце, когда черпал ею воду на одном из безлюдных степных хуторов. Сейчас Сема лишь втянул голову в плечи и невесело усмехнулся: — Дает. Не война, а сплошное убийство. Один из снарядов угодил в траншею. Санинструктор Маша, молоденькая, красивая девушка, и усатый боец, годный ей не то в отцы, не то в деды, пробежали к тому колену траншеи, над которым еще стояло бурое облако разрыва. Маша, еле успевавшая за усачом, покрикивали на него: — Скорее! Скорее! Вскоре на плащ-палатке пронесли парня с землистым и как будто удивленным лицом. У него были перебиты ноги. Парня несли к землянке, где была перевязочная. Затем на плащ-палатках протащили еще двух. Эти уже не нуждались в помощи. Ночью их закопают друзья где-нибудь поблизости. Костя угрюмым взглядом проводил погибших, и в его мозгу снова мелькнуло:К вечеру погода испортилась. Подул ветер, взвихрил над окопами пыль и согнал к Миусу тучи, грозные, темно-синие. И вскоре проплясала по земле и по каскам первая дождевая очередь. И улыбнулись ребята наступающему ненастью. Значит, сегодня, а может, и завтра не будет бомбежек. А еще можно помыться под дождем. Нужно лишь раздеться догола и немножко поплясать в траншее. Перестрелка стихла по всему фронту. Фрицы для чего-то пустили в набрякшее водой небо подряд несколько ракет и успокоились. — В такую погоду хорошо сидеть дома и что-нибудь мастерить. Дождик стучится в окна, а тебе сухо и тепло, — вслух размечтался Васька. — Но сидеть дома не обязательно. Можно оторваться из дома. Засучить штаны и бегать по лужам. — Можно, — согласился Сема, и вдруг ни с того ни с сего: — Я, ребята, у Смыслова партию выиграл. Он давал сеанс на двадцати досках. В Доме офицеров. — Смухлевал? — спросил Костя. — Вместо положенного одного хода, два делал. Думал, что заметит. Аж сердце ёкнуло, когда он подошел. А он посмотрел на доску и очень удивился, и потом посмотрел на меня. Имей я совесть, покраснел бы и погиб сразу. Но у меня ее в тот раз при себе не оказалось. И смотрю я на него чистыми, ангельскими глазами. И он поверил. Взял своего короля за голову и опрокинул. — Ты гад, Сема, — сказал Костя. — Не знаю. Может, и так. Только я о себе лучше думаю, — важно ответил тот. — И вышло, что один я у Смыслова выиграл и пять ничьих. Остальные четырнадцать — его. Меня сфотографировали тогда. — Значит, не заметил? — Если бы так, — вздохнул Сема. — Он все заметил, да не стал поднимать шума. Только шепнул мне на ухо одну новость. Вроде той, Что Костя сейчас сказал.
С наступлением темноты Костя надел шинель, взял винтовку и ушел в дозор. Парень, которого он сменил, потер замерзшие руки, молча кивнул на ту сторону и направился в тыл быстрыми, размашистыми шагами. Сначала Костя не понял дозорного. Он напрягал глаза, всматривался в еле различимый за сеткой дождя правый берег, и ничего подозрительного не замечал: «Спит, наверно, длинноносый», — подумал Костя, кутая лицо в поднятый воротник шинели. Но вот из-за Миуса донеслись негромкие звуки баяна. Играли медленно, по нескольку раз повторяя одни и те же ноты. Кто-то разучивал «Катюшу». Видно, на это обращал дозорный Костино внимание. «Веселятся фрицы. Затишью радуются», — решил Костя. А сам снова увидел в мыслях гордую, умную Владу. Почему Влада так сдержанна в чувствах к нему? Неужели нашла другого, из тех, кто носятся по магазинам и ресторанам? Нет, она никогда не предаст их дружбу. Если же кто ей понравится, Влада напишет об этом открыто. Уж такая она есть, что бы ни говорил о ней Алеша, что бы ни говорили другие ребята. Костя лучше их знает Владу и готов поклясться, что она не солжет, никогда не покривит душой. Может, просто у Влады было дурное настроение, когда она писала Косте. Трудно живут люди в тылу, а ей вдвойне труднее — без матери. Надо ей черкнуть что-то теплое, ободряющее. Теперь уже немного осталось ждать до победы. И тогда они встретятся и, если сохранят в сердцах любовь, свяжут свои судьбы. Об этом давно втайне мечтает Костя. Он не представляет себе будущего без Влады. За рекой снова заиграл баян, все так же медленно, но решительнее. Фриц определенно делал успехи в учебе, хотя и фальшивил кое-где. Сидят, сволочи, на нашей земле да еще и наши песни играют! — Рус! Рус! — неожиданно раздалось на том берегу. — Иди к нам! Петь будем, шнапс пить будем! Голос был слышен хорошо. Но никто из наших фрицу не ответил. — Рус — трус! Иван отчень трус! — дразнился фриц, вызывая на разговор. — А ты дерьмо свинячье! — не выдержали у нас. В словесной перепалке произошла заминка. За Миусом, очевидно, решали, что сказать. И, наконец, оттуда донеслось: — Рус! А что есть дер-мо? — Сдавайся в плен! Учить будем! — А что есть дер-мо? — повторили вопрос. — Вас ист дас? — Подожди, со временем все узнаешь!.. Дождь не переставал. Он проводил Костю до землянки и еще долго дробно рассыпался у порога. Ребята не спали, когда промокший Костя по чьим-то ногам прополз на свое место. Ребята слушали неторопливый рассказ Васьки Панкова: — …Нас было четверо. И я шагал рядом с дяханом, который привел меня к аксакалу Касыму. И нес я кожаную суму со жратвой и еще баночку с дунганским перцем. Аксакал Касым и его помощник Самед через каждую сотню шагов брали у меня перец и посыпали тропинку. Это чтобы собаки след не почуяли. Вот так мы и топали. Но нас ждали там. Была засада. От самой Алма-Аты за нами следили… Ну потом и начался сабантуй. Целый взвод против нас! — Ты что-то, брат, заливаешь! — сказал Егорушка. — Вот и ты не веришь. — Рад бы, да это ведь сказки одни. Васька закурил из чьего-то кисета и вдруг нащупал рукой Костю, и дал ему затянуться. Костя с наслаждением пыхнул дымом, устраиваясь спать. — Ну как там? Поливает? — спросил Васька. — Есть немного. Фрицы звали к себе. Петь «Катюшу». — Да ну! Костя рассказал о состоявшихся переговорах. Васька внимательно выслушал его и протянул: — Вот так исто-рия! Сходить бы туда! — Убьют. А если и вернешься живым, трибунал к стенке поставит, — сказал Сема. — Что верно, то верно, — после непродолжительного раздумья заметил Васька. — Спать, хлопцы! — прикрикнул самый старый во взводе — сорокалетний пулеметчик Михеич.
8
Едва занялась заря, один из наших блиндажей хлестко обстрелял танк. Стрелял он из сада, одетого кипенью цветения. А когда наша артиллерия буквально раздела деревья, оказалось, что сад пуст, что наших перехитрили. Сразу же после выстрела под частую дробь пулеметов фрицы отвели танк на запасную позицию. Наши артиллеристы, сообразив, что их провели, открыли такой огонь по траншеям, что сидевшим там фрицам пришлось туго. Но это была пехота, а танк все-таки ушел. Единственный выстрел немецкого «Т-4», хотя и развалил угол блиндажа, беды не наделал. В этот утрений час люди завтракали в балке, у походной кухни, и блиндаж был пуст. Повезло солдатам второй роты. Случись такое полчаса спустя, наверняка были бы жертвы. Темнолицый и такой же кругленький, каким он был в гражданке, капитан Гладышев заглядывал в ходы сообщения и блиндажи. И покрикивал через плечо командиру роты и старшине, которые неотступно ходили за ним: — Где маскировка? Я не вижу маскировки!.. Укрывайтесь плащ-палатками и всеми подручными средствами. Ройте ложные траншеи. — Значит, засели мы здесь капитально, — слушая Федю, сказал Костя. — Не все же время наступать. Надо подтягивать тылы, накапливать силы, — рассудил Петер. — Ты что-то смыслишь в этом деле, — Васька уважительно посмотрел на Петера и принялся сбивать прикладом автомата глину, пристывшую к подошвам сапог. — Ты не шути! — предупредил Костя, намереваясь отобрать у Васьки автомат. Но тот решительно отвел Костину руку: — Ну чего? — Убить можешь. Были случаи, когда вот так — удар автомата о землю — и очередь. Сам стреляет. — Ладно уж, — согласился Васька и повесил автомат себе на шею. Он стал много сговорчивее. Повзрослел, да и в тюрьме чему-то научился, и в штрафной роте. Не выносил лишь одного: сочувствия к себе. Оно Ваське, что нож по сердцу. Федя на ходу протянул руку Косте, поздоровался таким же образом с Васькой и Петером. И уже зашагал дальше, но, что-то вспомнив, вернулся к ребятам. Коротко кивнул в сторону Миуса, проговорил: — На хитрости пускаются фрицы, на обман. — Да, — сказал Костя. — Танк-то улизнул. — Улизнул, — подтвердил Федя, задумчиво глядя мимо ребят, и вдруг словно очнулся от сна, живо пробежал глазами по их лицам. — Кто из вас дежурил сегодня ночью? — Я дежурил, — ответил Костя. — «Катюшу» слушал? — Слушал. — Эх, Воробьев, Воробьев! Простаки мы с тобой. Учить нас с тобой надо! Понял, мой юный друг? — Ничего не понял, Федор Ипатьевич. То есть — товарищ капитан. — Дорого обошлась нам эта самая музыка. Под «Катюшу» они петеэровца у нас украли вместе с противотанковым ружьем. И сунул же черт оставить петеэровца в окопе на ночь. Это все ваш ротный! Вот он, полюбуйтесь на него, — беззлобно сказал Федя. — Все ждет танков после той беспокойной ночи. — Неужели украли? — удивился Васька. — Это же надо переплавить через речку. Лодку спускали на воду, не иначе. — Гадай теперь, как было дело, а петеэровца утащили. И парень-то был хороший, герой, комсомолец. А ведь взяли его, сволочи, без звука, пока «Катюшу» пели. Так вот, Воробьев, как развешивать уши! На воду надо было смотреть, на воду! Смятый сознанием собственной вины, Костя стоял перед Федей опустя голову. Упреки были справедливы, хотя ведь петеэровец — не ребенок. Как он мог дать схватить себя и перетащить на тот берег? Или спал или добровольно ушел с фрицами. То есть не совсем добровольно, а скис, когда на него наставили оружие. Боясь за свою жизнь, не поднял тревоги. Но, может, было и не так, а как-то по-иному. Все равно Костина вина есть, раз украли петеэровца на участке их роты. — Делай выводы, Воробьев, — сказал на прощание Федя. Старшина принес и раздал бойцам погоны. В армии вводились новые знаки различия, и пусть все знали об этом уже давно, погоны стали бы в этот день предметом оживленного разговора, не будь злополучного петеэровца. Теперь вторая рота только и говорила, что о ночном происшествии. — Может, его не украли вовсе, — сказал Васька, — Может, заболел человек и лежит где-нибудь под берегом. Надо бы посмотреть. — Да уж смотрели, кому это положено, — возражали Ваське. — Был уже тут один из Особого отдела. — Гущин был. Я думал: чего он ходит? — догадался Костя. — Ребята, как же так получается? А если всех нас поодиночке перетаскают таким манером? — Всех вряд ли, — заключил Васька. — А тебя уволокут. Да что говорить! Сегодня чуть не украли. Уши развесил. — Чуть — не считается, — сказал Сема. Следующей ночью у самой воды саперы ставили рогатки и минные поля. На той стороне снова играл баян, и фриц напевал «Катюшу». Но на этот раз дозорные уже не переговаривались с ним, а зорко вглядывались в противоположный берег. И кто-то из дозорных заметил выросшую над вражеской траншеей фигуру, и в ту же секунду ударил по ней автомат. Но фигура как стояла, так и осталась стоять. А в ответ на новую автоматную очередь из-за реки опять донеслось: — Рус! Что есть дер-мо? Вас ист дас? Когда же рассвело, бойцы увидели на берегу воткнутое стволом в землю противотанковое ружье, а на нем темно-зеленую каску петеэровца. И после этого ни у кого уже не осталось сомнений в судьбе пропавшего красноармейца. Значит, все-таки выкрали! И, конечно, было обидно нашим ребятам. Мало того, что уволокли человека, да еще и издеваются. Но обида — обидой, а что сделаешь, чем насолишь фрицам? Из окопов они не вылазят, разве что попрыгунчик, и тот что-то перестал резвиться. А в окопах их не сразу достанешь и снарядами и минами. Да и наша артиллерия не всегда ввязывается в перестрелку. Наверное, тоже накапливают силы. Один из бойцов попытался было стрелять по каске, чтобы сшибить ее, но его остановили. Первое дело — все равно не сшибешь, другое — каска-то хоть на той стороне, а наша она, советская. Гущин снова пришел во вторую роту. Долго смотрел в бинокль на вражеский берег. И спросил: — Глубок ли Миус? Есть ли брод? Этого никто в роте не знал. Но высказывали предположение, что сейчас, при подъеме воды, Миуса не перейти. А Васька Панков заметил: — Не собираетесь ли сходить к фрицам? — Собираюсь. — А если я схожу? Гущин насмешливо посмотрел на Ваську: — Струсишь. — Ни к чему мне, а то бы смотался. Проходили дни и ночи, а ружье с каской все стояло на том берегу Миуса. Артиллеристы уже считали его за ориентир. — Позор наш стоит, — отворачивался от него капитан Гладышев. Костя снова находился в дозоре. И ночь, как на зло, была опять темная, и порывистый ветер туго бил в лицо. А фрицы пускали ракеты, и после каждой из них на какое-то время глаза совершенно слепли. С тем большим напряжением вглядывался Костя в правый берег. И вот из мрака снова выступила островерхая Саур-могила, помнящая Игоря и храп половецких коней на Диком поле. А может, не было у Кости ни детства, ни школы, и Костя воюет еще с далеких Игоревых времен? Но если есть память у кургана, то какою же она должна быть у человека! И Костя помнит до мелочи все, что случилось с ним. Прошлое постоянно живет в нем. — Везет же мне, — вслух подумал Костя. — Опять темень кромешная. Тревожно было Косте. Поэтому он очень обрадовался, когда вскоре к нему пришел Васька. Сел рядом и молча, неподвижно, как идол, наблюдал за правым берегом. Противник ничем не выдавал своего присутствия. Было так тихо, что Костя и Васька слышали, как на том берегу плескалась вода о корягу. — Спит, наверно, солист. И видит во сне свою паршивую Германию. Ему бы в окоп сейчас гранату! А? Не успел бы очухаться, как явился к господу богу. — Тише. — Не украдут — не бойся. Кого нужно было, того уже увели… Незавидую я тому петеэровцу. Сидит теперь где-нибудь в фашистском лагере на баланде. Если, конечно, не расстреляли. А кругом колючая проволока, пулеметы да овчарки. Не убежишь!.. Хотя в любом положении можно что-то придумать… — Бегут ведь. И линию фронта переходят. — Берег-то наш минирован? — спросил Васька. — Не знаю. Лазили тут саперы. А чего тебе? — Да так. Может, я хочу смотаться к фрицам. — Не дури, Васька. Убьют. Ты с ума сошел!.. Иди-ка лучше спать, — посоветовал Костя. — А ежели мне тут нравится, — медленно проговорил Васька. — Слушай, я подниму тревогу. Я на посту и не имею права!.. Ну тебя же свои подстрелят!.. — Не подстрелят. Я поплыву тихо-тихо. А будет шибко невпроворот, прикрывай огнем. — Не надо, Вася. Я даю выстрел, — с холодной решимостью сказал Костя. — Нам обоим отвечать придется. Перед трибуналом. — Ладно. Я отвечаю сам за себя. Заткнись! — Стой! Васька скользнул вниз, к реке. А Костя догнал его, схватил сзади за ворот гимнастерки: — Тут мины!.. Васька осел. Он долго молчал, тяжело дыша, а потом сказал с болью: — Думаешь, я… — А я ничего не думаю! — сурово проговорил Костя. Васька скрипнул зубами, нехорошо рассмеялся. И сразу посерьезнев, сказал: — Фашиста я вот этими руками… А как ходит к ним в окопы разведка? — Разведка не самовольно идет. Ее посылают. К тому же она не одни сутки готовит поиск. — Ладно, уговорил. Тогда я попробую храпануть, — Васька нырнул в ход сообщения и пропал во тьме. Напрасно Костя вслушивался в чуткую, загадочную тишину: он ничего больше не услышал. А время шло медленно. Косте казалось, что его уже давно должен был сменить Петер. Васька ушел. Может быть, спит уже. И надо только додуматься, в одиночку плыть к врагу. Да это же верная гибель! А что, если Васька хотел бежать к немцам? Ваську обидели, он сидел в тюрьме, был штрафником… Но тут же Костя отогнал от себя эту мысль. Нет, Васька не такой. Он и нахулиганит, и ругаться может, как извозчик. Но изменить Родине? Нет! И если уж на кого обижаться Ваське, так только на себя, что, как мышь в мышеловку, попался в засаду вместе с контрабандистами. Сзади послышались тяжелые шаги Петера. Он подошел, продирая заспанные глаза: — Ну что тут? — Все нормально. — Васька-то был с тобой? — спросил Петер. — А ты где его видел? — Да он только что мне попался. — Мы с ним покурили, и он ушел, — подавляя тревогу, ответил Костя. — А вроде он мокрый… Устраиваясь в землянке спать, Костя почувствовал под рукой что-то гладкое и холодное. Поднес громоздкий предмет к самому носу, стараясь разглядеть. Да это же аккордеон! Откуда он взялся? Может, кто принес из ребят? Но во взводе не было музыкантов, да и кто доверит кому такое богатство? — Окопчик у самого берега и — никого, — все еще дрожа от холода и возбуждения, рядом зашептал Васька. — А музыка лежит, прикрытая каким-то тряпьем. Вот и взял, а плыть с нею — одно горе… Тихо у фрицев. А ружье еле выдернул. Потопил, и каску тоже. Там… — и он кивнул в сторону реки. — Давай спать, — Костя боялся, что их разговор могут услышать. На переднем крае по-прежнему было тихо, словно все онемело и вымерло.9
Невероятные превращения бывают с людьми. Годами привыкаешь видеть человека одним и вот открываешь в нем что-то другое, неожиданное. Злой оказывается добрым, трусливый — смелым, или наоборот. И тогда ты ломаешь голову: что же произошло? И твой хороший знакомый на поверку оказывается не столь уж тебе знакомым. Старший сержант Шашкин с наступлением весны стал неузнаваемым. Чем ближе был день выпуска, тем душевнее относился Шашкин к Алеше, да и к другим курсантам. Теперь он даже посмеивался над усердными служаками из новичков. И не любил вспоминать о нарядах вне очереди, которыми он еще недавно так щедро награждал курсантов. На глазах переменился старший сержант. Но перемены были чисто внешними. Алеша догадывался, что творилось в душе у Шашкина. Шашкин боялся, что ему отомстят, когда все станут равными по званию. И еще вопрос, будет ли он лейтенантом. Особых склонностей к наукам Шашкин не имел. Привилегий для себя ему приходилось добиваться лишь безупречной службой. Теперь Шашкин хорошо относился к Алеше. По воскресеньям он добивался у комбата увольнительных в город для себя и Алеши. Тогда они целыми днями бродили по улицам Красноярска. А было когда уж очень холодно, шли на дневной сеанс в «Совкино». — Алеха, а я ведь не знал, что ты такой компанейский да балагуристый, — говорил Шашкин, заглядывая в Алешино лицо. — А если бы знал? — Давно подружился бы. Я ведь тоже компанейский. — Ты ребятам это скажи, а то не поймут еще да отлупят, — советовал Алеша. — А что я? Служба есть служба. Может, и обидел кого, так не нарочно же. Каждый бы так действовал. Переменился и Ванек. Последнее время он старался избегать встреч с Алешей один на один. Видно, чувствовал себя виноватым,что променял друга на щеголеватого комбата. А дела в училище шли своим чередом. Алеша почти ни о чем не думал, кроме уроков. У него для этого просто не хватало времени. Лишь урывками, в какие-то минуты перед сном, мыслью переносился домой. И тогда вставала в его памяти смуглолицая, черноглазая Мара. Празднично светились театральные люстры и прожекторы. Она шла в своей голубой блузке бок о бок с Алешей и что-то горячо шептала ему. Случилось, что Алеша писал ей письмо, но тоже в мыслях. Написать он мог, конечно, и в самом деле, но адреса Мары Алеша не знал. Она кричала ему свой адрес, когда поезд уже тронулся, и Алеша хорошо понял ее. Но не успел отойти от окна, как все позабыл. Тогда казалось ему, что Марин адрес не имеет столь уже большого значения, что Алеша найдет ее, хоть под землей. Напишет ей на работу. И спохватился, что Мара уже не работает на кондитерской фабрике. Она говорила, что устроилась на какой-то военный завод. Можно было написать в паспортный стол, там нашли бы ее и ответили. Но Алеша не знал фамилии Мары. Странно, но не знал. Просто никогда не заходил разговор об этом. Мара и Мара. А Мара? Помнит ли она Алешу? Вот кончится война, и Алеша поступит в театральный институт. Будет играть нисколько не хуже Вершинского. И потом, как Кручинина из «Без вины виноватых», приедет в свой город. И встретит его красавица Мара, и станет она гордиться им. «Что бы написать Маре?» — думал он и начинал искать подходящие слова. Ну, конечно же, соскучился о ней. Но приехать сейчас домой не может. Идет война, и он должен быть на фронте. Нет, все это и то и совсем не то. Нужно писать так, как ты чувствуешь. При одной мысли о Маре, он готов был улететь к ней. Если б только она навсегда позабыла и Гущина, и Вершинского ради Алеши! Если б только ждала его до победы над Гитлером. «Милая моя Мара»… Нет, лучше — единственная. И над «единственной» будет смеяться. Мол, я и так знаю, что одна у тебя, и объяснять этого не надо. А если — просто Мара? Что ж, пожалуй. «Мара, у вас уже тепло и ты выходишь на улицу в своей голубой блузке, а в Сибири еще не совсем стаял снег. Енисей лежит подо льдом, как русский богатырь, закованный в латы». Письмо обычно скоро кончалось: Алеша засыпал. А снов у Алеши в армии не бывало. Он очень уставал. Наконец, кончилась учеба. Ждали из Москвы приказа о присвоении званий. Во второй половине дня, когда шестьдесят второй взвод отдыхал после обеда, в казарму, как угорелый, влетел Ванек: — Есть! Есть! Приказ пришел! Ваньку поверили. Все знали о его дружбе с комбатом, если так можно назвать отношения между ними. Скорее комбат покровительствовал Ваньку, но считал его ниже себя не только по званию. Казарма заволновалась. У других взводов батареи были сорваны уроки, которые проходили тут же. Сержант Шашкин плясал, позвякивая шпорами. Высоко под потолок летели шапки, подушки, одеяла. Немного погодя выпускники были выстроены на плацу. Играл духовой оркестр. Зачитан приказ. Среди окончивших училище лейтенантами Алеша услышал свою фамилию. Лейтенантов присвоили немногим: кто учился отлично. Остальные шли младшими лейтенантами. В этой компании были Ванек и Шашкин. Оба не успевали в военных науках, сами понимали это и особенно не обижались за младших лейтенантов. Как-никак — офицеры. И тут же были оглашены назначения. Алеша посылался в распоряжение командующего кавалерией Южного фронта в Новочеркасск. Алеша знал, что это где-то недалеко от Черного моря. А в газетах писалось, что зимой шли там жестокие бои. Из ста с лишним человек в Новочеркасск ехали пятеро, кроме Алеши. И он никого из них не знал, потому что служили они в других батареях и жили в других казармах. Шашкин ехал на Юго-Западный фронт. Рядом, а все же не вместе. Об этом Шашкин очень сожалел и просил ребят поменяться с ним назначениями. Но сделать это было не так просто. Пришлось бы переписывать какие-то штабные документы. А кто пойдет на такое! Это же армия. — Мне бы Южный, Южный, — с непостижимым упрямством говорил он. И уж Ваньку сочувствовали они оба. Ванек оставался в Красноярске. Его ставили на продовольственно-фуражное снабжение, сокращенно ПФС. На этой работе обычно держали старичков, и Ванькова предшественника уволили по старости. Но комбат, тот самый щеголеватый капитан, нашел, что Ванек будет незаменимым работником ПФС. И Ванек должен был стать интендантом. Ванек перебрался в офицерское общежитие. Он даже не стал получать вместе со всеми новенькую хлопчатобумажную форму и погоны. Он получит все это потом. Ванек рылся в тумбочке, перекладывая с места на место мыло, книжки, осьмушки купленной ребятами в дорогу махорки. Он что-то искал. Наверное, свой целлулоидный подворотничок. Он чаще всего именно его и искал. Алеша издали наблюдал за быстрыми движениями Ваньковых рук. Ванек торопился и в то же время не мог уйти, не найдя того, что ему было нужно. По его потному лицу метались тени, а на вздернутом носу серебрились крохотные капельки пота. — Ванек, — позвал Алеша, подойдя к нему и остановившись у него за спиной. — Что? — Ванек не повернулся. — Говорят, завтра уезжаем. Поговорить бы надо на прощание. — Можно и поговорить. — Когда? — Да хоть сейчас, — Ванек выпрямился и, с силой захлопнув дверцу тумбочки, сел на койку. — Жалко, что ты уезжаешь. А я что? Где приказали служить, там и буду. Алеша рванулся к нему, заговорил взволнованно: — Рапорт подавай! Теперь можно. — Рапорт? А зачем? — удивился Ванек. — Кому-то ведь нужно кадры готовить. Дело, Алеш, поважнее, чем на фронте саблей махать… Алеша понял все. — Значит, поважнее? Ванек кивнул. — Формально ты прав. Но ведь идет война! Ты должен подать рапорт! — И подам. — Когда? — Когда будет нужно. А чего ты меня допрашиваешь? — грубо проговорил Ванек. — Что ж я считал, что мы друзья. Извини. — Мы с тобой уже не в десятом «А», и у меня своя голова на плечах. Соображаю. — Вот именно. Оставайся в тылу, трус! — Что? — кинулся Ванек. — Что ты сказал? — Ты слышал. К ним стали подходить ребята. И Ванек, не желавший продолжать этот разговор при свидетелях, сослался на занятость и исчез. — Что это вы? — спросил Шашкин у Алеши. — Так себе. Родные места вспоминали. — Жалко, что Мышкина тут оставляют. Переживает? Алеша пожал плечами. Ночью подгоняли обмундирование. Пришивали к гимнастеркам новенькие полевые погоны. Из грубых солдатских шинелей делали офицерские, пришивая блестящие пуговицы и стягивая суровыми нитками раструб на спине. У кого были шпоры, тот кирпичом надраивал их до искрометного блеска. Назавтра уезжающие на запад молодые офицеры с песней прошагали утром по тихому весеннему Красноярску. Они шли мимо тесно прижавшихся друг к другу домов на центральной улице, мимо громадины здания лесотехнического института, по фасаду которого краснели аршинные буквы: «Сметем с лица земли немецко-фашистских захватчиков». А с горы провожала офицеров выбежавшая на самый край красного яра часовенка. Одинокая, грустная. Прощай, часовенка. Прощай, Красноярск. Ждите ребят с победой.10
Зимой у лесополосы набило снега, а сейчас, когда он стаял, земля здесь хваталась за сапоги, И казалось бы, чего делать бойцам в начинающих зеленеть кустарниках и деревцах? Но они по вязкому жирному месиву просочились и туда, в лесополосу, и даже за нее. Впрочем, так бывало на каждой станции, на каждом разъезде, где останавливался воинский эшелон. А останавливался он часто и стоял подолгу потому, что фашистские самолеты то и дело бомбили прифронтовую железную дорогу. Пехота в эшелоне главенствовала. Ее было десять товарных вагонов из четырнадцати. Три вагона занимали собаки-истребители танков и лишь один — артиллеристы, что ехали на Южный и Юго-Западный фронты. На остановках артиллеристы терялись в толпах пехотинцев и проводников собак. Когда поезд встал, Алеша выпрыгнул из вагона и огляделся. Нигде поблизости не было видно жилья. До самого горизонта впереди раскинулась степь, по которой неширокой лентой тянулась лесная полоса, да вдоль полосы вышагивали покалеченные войной телефонные столбы. — Эй, вы! Давай сюда! — зычно кричал солдатам кто-то из кустов. «Наверное, что-нибудь нашли», — подумал Алеша. Ему захотелось взглянуть, что же там. Словно кто-то толкнул под ребро: давай, мол, а то прозеваешь! И он побежал по грязи, стараясь попадать ногами в проложенные другими следы. Одолев лесополосу, Алеша оказался у края огромной воронки от авиабомбы. Видно, когда-то летчики бомбили поезд да промазали. Воронку наполовину заполнила талая вода, в которой плавали два раскисших трупа. — Итальянцы, — определил подошедший к воронке Шашкин. — Коричневые шинели. Да и обличьем они. Точно. Мне уж доводилось встречаться с ними. И все посмотрели на Шашкина с уважением. Фронтовик, не раз обстрелянный, такого ничем не удивишь. Так вот они какие, завоеватели. Торопились на восток следом за фрицами. К смерти своей торопились. Сидели бы лучше в своем Риме и Неаполе. Россия-то ведь не Абиссиния. Вот и выглядывают теперь из вонючей лужи! И все-таки было странно, что кругом жизнь, а эти двое лежат мертвые, не зарытые. А дома ждут итальянцев матери, невесты, жены. А у того, у которого дырка во лбу, тонкие длинные пальцы. Как у Паганини. Играть бы им на рояле, на скрипке, а итальянец этими музыкальными пальцами спускал курок. Алеша повернулся и пошел к поезду, тяжело вышагивая по грязи. Нет, в его сердце не было жалости к иностранцам. Их ведь никто не звал. Сами явились. В вагоне ребята разряжали немецкие снаряды и топили печку хрупкими и длинными, как макароны, палочками пороха. Хоть порох и прогорал быстро, все же каша в котелках закипала. А от буржуйки по всему вагону расходилось дурманящее, бросающее в сон тепло. Алеша свернул цигарку и затянулся крепким махорочным дымом. И подумал, что хорошо было бы, чтоб поезд не задерживался здесь. И еще подумал, что это не только первая встреча с иностранцами, а, прежде всего, с войной. Если вчера война была для Алеши еще далекой, непознанной, то сегодня он встретил ее в упор. Воронка, мутная вода, трупы. Вскоре поезд тронулся. Но шел он не более получаса. Снова остановка, только теперь уж на разъезде. Маленький домик с садиком у самого полотна дороги, а чуть поодаль — белые, крытые соломой мазанки. Начальник эшелона в накинутой на плечи шинели неторопливо прошелся вдоль вагонов. Поговорил с машинистом паровоза — усатым, седеющим человеком, потом повернул к домику с садиком. — Кажется, застряли здесь надолго, — сказал Шашкин. Алеша, стоя у открытой двери теплушки, наблюдал, как хлынули на землю солдаты и рассыпались по степи. Несколько человек бежали в село с котелками и ведрами. Бежали вприпрыжку и перегоняя друг друга, как дети. «Если состав сейчас пойдет, они отстанут», — подумал Алеша. Начальник эшелона возвратился к составу, окруженный толпой любопытных. Он выяснил причину задержки. Впереди, на перегоне, немцы разбомбили поезд с боеприпасами. — По крайней мере, до утра проторчим здесь, — сказал начальник эшелона. Пехота разложила костры вдоль поезда, неизвестно — зачем. День был теплый, а готовить пищу куда удобнее на буржуйках. Но пехота делала так, как ей хотелось. Какой-то смысл в кострах для нее все-таки был. В хвосте поезда залаяли, зарычали и дико завыли собаки. Проводники доставали с крыши вагонов куски протухшей конины — кости да кожа — и бросали каждый своей своре. — И собаки воюют, — сказал Алеша. — Одна собака может спасти сотни людей, — заговорил Шашкин. — Я видел, как их учат. Собаку, значит, кормят под танком. И она, как завидит танк, так и шпарит к нему. А у нее на спине взрывчатка. Шашкин все видел и все знал о войне. Ну и судьба же у человека! Все рода войск обошел и на фронте успел побывать. И снова едет на передовую. — А я читал, что какие-то старухи из Америки обижаются на нас. Мол, русские собак губят, — сказал Алеша. — Конечно, скотину жалко, но людей-то жальчее. — Старухам что люди! Это ж капиталистки. Им иной кобель дороже всего человечества, — бросил с нар паренек- дневальный. — Что верно, то верно, — качнул головой Шашкин. — Поэтому-то второго фронта и нету. Чего-то ждут союзники. — Они понимают, что делают. Не хочется им свою кровь лить. Пусть, мол, пока русские воюют, а мы посмотрим со стороны, — рассудил Алеша. Шашкин сердито сплюнул: — Ишь, какие паразиты! К вечеру добрая половина ехавших в эшелоне ушла в село. Пошли и Алеша с Шашкиным. На завалинке одной из хат увидели старого, сморщенного деда в кожушке и рыжих подшитых валенках, подвернули к нему, весело поздоровались. — Мое вам почтение, сынки, — ответил дед, оглядывая их маленькими слезящимися глазками. — Как живем, дедушка? — для порядка спросил Алеша. — Вот так и живем. Ничего. Стар стал, ослабел, а власть сатанинскую оккупантскую пережил. — Немец-то сильно обижал? — спросил Алеша. — А я немца не видал. Где-то стороной он прошел, а нам сюда уж потом полицаев прислал. Те и лютовали. А немец что? Фашист он — одно слово. Где-то в центре села заиграла гармошка. Дед повернулся на ее завлекающий голос, определил: — Ваши балуются. У Хомы, у сапожника. Этот Хома при фашистах рельсу вывернул и поезд послал под откос. А в том поезде были танки да пушки. Теперь, говорят, затребуют Хому в Москву к самому Калинину на предмет ордена. Вот он и играет. Из хаты с ковшом красного свекольного кваса вышла старушка, согнутая годами в дугу. Она протянула ковш Алеше. — Ишпей вот. Коровки у наш нету, и жамешто молока кваш, — прошамкала старушка. — Некому кошить шено, штарые мы… Алеша напился, передал Шашкину. Тот крякнул от удовольствия, ладонью вытер губы. И ловко поддержал старушку за острый локоть, когда она, собираясь уходить, оступилась. — Шпашибо, шинок, — поблагодарила она. Поговорив со стариком еще немного, Алеша и Шашкин вернулись к поезду. Темнело. Над ярко прочерченной чертой горизонта слабо светилась багровая полоска заката. — Тушить костры! — крикнул начальник эшелона. Всю ночь из села доносились звуки гармошки и визгливые девичьи голоса. Алеша не спал. У него не выходили из головы итальянцы. А Шишкин спал крепко, как, наверное, спят одни праведники. Ему видеть трупы врагов не в диковинку. Он хорошо знал войну и знал еще цену каждой минуте отдыха. Утром, действительно, состав пошел дальше. И двигался он весь день и потом еще день. И, наконец, прибыл на крупную станцию Миллерово. Это уже донецкая земля. Отсюда до Новочеркасска — рукой подать. Так говорили местные жители. На путях стояло несколько составов. Один из них, пассажирский, был сплошь изрисован красными крестами. Около него озабоченно суетились женщины и мужчины в белых халатах. — Раненых везут с фронта, — определил Шашкин. Были составы и с орудиями, и с походными кухнями, и с ящиками снарядов на платформах. Вскоре на юг ушел поезд с боеприпасами. А его место занял тотчас же прибывший со стороны Москвы эшелон танков. Едва он остановился, тревожно загудели паровозы. — Воздух! — пронзительно крикнул кто-то. И послышался нарастающий, дикий рев самолетов. И загрохотало вокруг, и тяжело заходила земля под ударами бомб. Алеша успел прыгнуть в неглубокую щель, кому-то на спину, а потом кто-то свалился на Алешу. И в щели стало душно, и сверху посыпалась щебенка. Самолеты ревели, и землю сотрясали все новые удары. И в короткие промежутки между взрывами бомб до Алеши доносилось лихорадочное тарахтенье пулеметов. Это из танков и с крыш вагонов били по «юнкерсам» зенитчики. Дымился разбитый вокзал. Там и сям торчали вставшие на попа шпалы. Пламя обнимало железные ребра пострадавших вагонов.11
Алеше казалось, что командующий кавалерией Южного фронта с нетерпением ждал его и других офицеров, посланных в Новочеркасск. Командующего, думал он, не могла не беспокоить задержка эшелона в пути. Обязательно спросит у ребят, что же с ними случилось. А они, как и положено, доложат о частых бомбежках железной дороги и покажут отметки комендантов станций на своих документах. Генерал внимательно выслушает их и покачает седой головой. Что ж, мол, поделаешь, коли идет такая война. Но никто в Новочеркасске ребят не ждал, и поэтому никому ничего не пришлось рассказывать. Проплутав по городу в поисках генерала несколько часов, они заявились в комендатуру. Озабоченный тысячей дел комендант, взглянув на их бумаги, сказал: — Опоздали. Штаб командующего кавалерией давно уехал отсюда. Куда? А вот этого не скажу. Езжайте в Новошахтинск, в штаб фронта, там все узнаете, — и шлепнул на документах свой штамп. Молодые офицеры, вскинув на плечи тощие вещмешки, зашагали опять на станцию. Было немножко обидно, что все получилось иначе. Новочеркасск красовался перед ребятами своими опрятными зелеными улочками. Город был целехонек. Следы войны виднелись только на железнодорожной станции, которую не один раз бомбили немецкие самолеты. Ребята вышли на главную площадь города, к казачьему собору. И остановились у бронзового Ермака. И, глядя на одетого в кольчугу атамана, Алеша вдруг вспомнил Сибирь, родное село, вспомнил себя мальчишкой. В эту пору весны расцветали подснежники в бору, и Алеша приносил домой большие желтые букеты. А бабка Ксения ругалась. Она не любила подснежники, потому что этих цветов было много на кладбище. А еще вспомнил Алеша красноярскую часовенку. Кажется, давным-давно покинули они Красноярск! Уже кое-чего увидеть ему пришлось! С Шашкиным он распрощался в Миллерово, там разошлись их дороги. Пожимая Алешину руку, Шашкин сказал: — Трудно будет поначалу. Особо лежать под бомбами. Потом привыкнешь. На подвернувшемся товарняке офицеры приехали в город Шахты. Ночевали в старом шахтерском бараке. Две солдатки, пока ребята спали, выстирали им белье и высушили его у раскаленной печки. Храня военную тайну, ребята не сказали, куда едут. Мол, к месту службы — и только. Солдатки понимающе переглянулись, и одна из них наставительно сказала: — Это вам отсюда километров двадцать пять. В Новошахтинск. Выходите на перекресток и голосуйте. Все машины, что идут на запад, ваши. Поблагодарив добрых хозяек, офицеры быстро поймали нужную им машину, и через час были на месте. Но здесь, в штабе фронта, о командующем кавалерией тоже ничего не знали. Мол, был такой месяца полтора назад, а теперь куда-то подевался. Скорее всего — в резерве Главного командования. — А вас пристроим. Пойдете служить в артполки на конной тяге. Алёша и один из его спутников — Миша, тоже лейтенант, получили назначение в армию, стоявшую на правом фланге Южного фронта. Пожилой полковник развернул перед ними карту-двухверстку и ткнул пальцем в небольшой кружок: — Здесь. Село Красное. У контрольно-пропускного пункта они поджидали попутный транспорт. Но машины шли и шли, и никто из шоферов не знал, где оно есть такое село и как в него можно попасть. — Где-то под Ровеньками, — сказал проезжавший с колонной «студебеккеров» капитан с узкими погонами интенданта. — Ровеньки? Так бы сразу и объяснил, — подхватил сержант с пропускного пункта. Он пообещал незамедлительно отправить офицеров. Действительно, вскорости подвернулся санитарный грузовик с крытым кузовом, в котором лежало несколько обитых жестью ящиков. Посадив офицеров, высокий, худой военврач сказал им: — Смотрите, чтоб ящики не бились друг о друга. В них — ценное оборудование для медсанбата. Поняли, юноши? Ребята согласно закивали головами. Что ж, военврач, видно, неплохой человек, хотя и назвал их не так, как следует. Эти врачи — неисправимые штатские. Ну какие они ему юноши — офицеры-артиллеристы! Стояла жара, и дорога сильно пылила. Машина то и дело ныряла в балки и, надрываясь, поднималась на пригорки, ящики ходили по ободранным доскам кузова. А когда в одном месте тряхнуло на ухабе, шофер остановил машину, и ребята услышали скрипучий голос военврача: — Как там у вас? Все в порядке? — А ничего, — ответил Алеша. — Поедем дальше. Грузовик обгонял и встречал какие-то машины, которые тоже поднимали пыль, и тогда сплошной серой пеленой затягивало и зеленеющие холмы, и разбросанные по степи островки деревьев и кустарников, и яркое весеннее небо. Пыль лезла в рот, в нос, в глаза, припорашивала одежду. Миша прокашлялся и недовольно проговорил: — Ну и нашли же мы транспорт! В открытом кузове в сто раз лучше. — Уж как-нибудь. Приедем в Ровеньки — помоемся. Вдруг машина пошла под уклон, круто повернула вправо, медленно переехала канаву и встала у маленькой речушки под деревьями. — Дадим остыть мотору. А заодно пообедаем, — сказал военврач. — Эк вас разрисовало! Ну, вылезайте, вылезайте. — Ехать-то далеко? — спросил Алеша. — Самый пустяк. Да мотор после ремонта греется. Вылезайте. Ребята сбросили на землю вещмешки, затем спрыгнули сами. Разгоряченные, потные, они сразу же кинулись в тень деревьев. Это были еще молодые дубки, приютившие под своей кроной жиденькие кусты акации и терна. А рядом, по дну неширокого оврага, вилась речушка, спокойная, светлая. Алеша спустился к воде, зачерпнул в ладони и стал пить частыми глотками. Вода была холодная, освежала пересохшее горло. А за Алешей подошел Миша и тоже начал пить, встав на четвереньки и по-лошадиному вытянув губы. — А умываться я не буду, — сказал Миша. — Принципиально. Алеша одобрил это решение. Хоть мойся, хоть не мойся, а в Ровеньки приедешь грязным. Кстати, какое музыкальное, какое милое слово — Ровеньки! Алеша уже мысленно видел маленький, уютный, с ровными домиками, с ровными улицами и зелеными площадями донецкий городок. Между тем шофер достал из-под сиденья банку красной консервированной колбасы, две булки хлеба и несколько проросших луковиц. Он отнес все это под дубки, где лежа покуривал военврач, вынул из-за голенища ножик с плексигласовой наборной ручкой. — Режьте хлеб, — сказал шофер, подавая ножик военврачу. — А я посмотрю, в кабине должна быть соль. Военврач отбросил окурок в сторону и сначала открыл банку с колбасой, затем принялся резать хлеб крупными ломтями. Он кромсал булки не спеша, словно они были живыми и малейшая ошибка могла оказаться непоправимой. Ребята полезли было за хлебом и салом в свои вещмешки, но военврач остановил их решительным жестом: — Этого хватит на всех. — Мы получим паек на первом же продпункте, — сказал Алеша. — А они здесь не так часты, продпункты. Здесь ведь фронт, и кашу варят по-ротно. — Положим, до фронта еще далеко, — возразил Миша. — Как сказать. Если сюда не долетают снаряды, то бомбы даже перелетают. Вражеские самолеты бомбят железную дорогу. — А это мы знаем. Испытали на своей шкуре, — Алеша снял с головы пилотку и положил ее под колено. Военврач торопил шофера, и когда тот подошел, все принялись за еду. Военврач ел медленно, тщательно пережевывая хлеб и кубики колбасы. Он щурился, глядя в чистое небо, и у его глаз глубже прорезались морщинки. Но вот он перевел взгляд на Алешу и спросил по-дружески: — Ну и как показалось на первый раз? Страшно? Алеша не понял вопроса. — О бомбежках я, — уточнил военврач. — Не очень, — ответил Алеша. — Но это ты храбришься. Поджилки тряслись, не так ли? Мне-то ведь можно сказать. — Кому умирать хочется, — сказал, не переставая есть, Миша. После обеда они немного отдохнули у речки и снова тронулись в путь. Выскочив с узкого проселка на грейдерную дорогу, грузовик пошел веселее. Вскоре показалась окраина поселка: черные, как уголь, приземистые бараки. Обычный шахтерский поселок, каких много не только в Донбассе. В Ровеньках пришлось заночевать. Никто толком не знал, где село Красное. Ребят посылали в Краснодон и даже в Красный Сулин, который был уже далеко в тылу. — А еще есть Красный Луч, но он, вроде бы, у немцев, — сказали ребятам в комендатуре поселка. И только к вечеру следующего дня они были в штабе армии. Здесь придирчиво изучили их документы и поинтересовались, почему так мала прибывшая команда: всего два человека! Алеша недоуменно развел руками: — Других по пути оставили. У нас ведь кто куда. — Понятно, — сказал страдающий одышкой грузный капитан из отдела кадров. — А мы вас отправим в одну дивизию. В гвардейскую. Но это лишь при условии… Как тебя? — он ткнул пальцем в грудь Алеши. — Лейтенант Колобов. — При условии, если ответишь мне, почему ты при шпорах и без клинка. Разве так положено ходить боевому офицеру? Ты уж или шпоры сними или надень клинок. — Но у меня нет клинка, товарищ капитан. — Если понравишься усачу Бабенко, он даст. У Бабенко вчера утром убило командира взвода. Ну, а если не по душе придешься подполковнику, просись в артполк, с глаз подальше. Строг Бабенко и во всем порядок любит. — Что ж, товарищ капитан, где-то же надо служить, — сказал Алеша. — Правильно. А шпоры сбрось, когда пойдешь к нему представляться, — посоветовал капитан.12
Передовой наблюдательный пункт командующего артиллерией дивизии подполковника Бабенко находился сразу же за боевыми порядками пехоты. Построенный на западном склоне невысокого холма, он маскировался густой стеной полыни. Местность на сотню метров вокруг хорошо просматривалась противником. И чтобы попасть на КП, нужно было преодолеть это открытое пространство. Никаких ходов сообщения здесь не рыли, а ходили на КП и обратно только ночью. Алеша рвался попасть туда засветло. Но разведчик Егор Кудинов, крепыш с серьезным лицом и острыми, как булавки, глазами, говорил: — Никуда я тебя не поведу. Мне хочется жить, повидать мою милую Феклушу. А раз должен повидать, то не могу идти с тобой. Кудинов явно подтрунивал над Алешей. Подчеркивал свое превосходство. Мол, я — фронтовик, понюхавший пороху разведчик-артиллерист, а ты — молоденький офицерик, ничего не понимаешь толком. Алеша растерялся, он не знал, как говорить с разведчиком. Приказать вести на КП? Но такой приказ противоречит здравому смыслу. Идти на совершенно ненужный риск, пожалуй, глупо. И он бы уже не спешил туда, если бы не эти слова, не бесшабашный и ехидный тон, которым они были сказаны. — А мне бы так хотелось, так ужасно хотелось бы прижать ее к сердцу… — продолжал Кудинов. Алеша, наконец, не вытерпел: — Хватит кривляться. — Понятно. Все будет в норме, — щелкнул каблуками Кудинов. — А вы уже бреетесь, товарищ лейтенант? Алеша вспыхнул весь, но сдержался: — Бреюсь. — А что-то, извините, незаметно. У Алеши обиженно затряслись губы. — Вон оно что. А мы-то думали… Слушавшие Кудинова разведчики переглядывались. Они явно прощупывали своего нового командира. — А шпоры лучше бы снять. Немец, он чуткий… Алеша не внял совету капитана из штаба армии. Он ходил к Бабенко при шпорах, и подполковник — усы ниже подбородка, как у запорожцев, — не сделал Алеше ни одного обидного замечания. А эти острят. — Кудинов прав, — сказал мешковатый, широконосый помкомвзвода Тихомиров. — Мы отвечаем за тебя, лейтенант. Необстрелянный ты. И этот ставит шпильки. Ну, погодите же! Вы узнаете, трус он или нет. Пусть не сегодня, но обязательно всем докажет. Разговор шел в садике возле небольшой хатки, которую в прифронтовой, чудом уцелевшей деревеньке, занимал взвод разведки штабной батареи. Противник часто обстреливал деревеньку. За каких-то пару часов фрицы трижды принимались молотить ее осколочными снарядами. — Я сам за себя отвечаю, — Алеша прошелся к калитке и посмотрел на пустынную улицу. Тихомиров последовал за ним. Он стал рядом, облокотившись на кол плетня, сказал: — До тебя был тоже лейтенант. Мировой мужик, а схватил пулю в темя. Как по циркулю. В амбразуру КП залетела. А на Кудинова не серчай. Мы так уж привыкли тут. Скучно, вот и чешем языки. Если говорить по совести, Алеша уже не так остро чувствовал обиду. Чего принимать близко к сердцу каждую мелочь! Познакомятся поближе — другое о нем скажут. Когда взвод обедал, пришел командир батареи старший лейтенант Денисенков. Ему было лет сорок. Широкоплечий, чубатый, с черными смеющимися глазами. Алеша сразу заметил, что разведчики уважают комбата. Они перебросились с Денисенковым какими-то шутками. Потом Тихомиров отозвал Денисенкова в дальний угол хаты и что-то шепотом говорил ему. «Это обо мне», — с неудовольствием подумал Алеша. Он вышел во двор и сел на завалинке в ожидании разговора с Денисенковым и не заметил, как к нему подошел тщедушный и низкорослый красноармеец. Он робко отрекомендовался: — Рядовой Камов. Вы, товарищ лейтенант, на Кудинова и на других ребят не обижайтесь. Они хорошие. Конечно, подбаловал их маленько комбат, языки распустили. А так они — ничего себе, особо Кудинов. — Шутить он любит, — заметил Алеша. — Это действительно. — Я тоже люблю пошутить. — А как иначе? Разве то люди, которые за грех считают посмеяться. Русскому человеку без анекдота, матерка никак нельзя. Алеше Камов определенно нравился своей простотой. С виду никудышный, а душевная сила есть. На пороге хаты появился Денисенков. Постучал широкой ручищей по косяку двери, словно вбивал в него гвозди, с любопытством посмотрел на Алешу. — Ты, лейтенант, на конях-то ездишь? — спросил Денисенков. — Езжу понемногу. — Не хвастаешь? — Вроде не хвастаю, товарищ старший лейтенант. Денисенков прошел во двор, а за ним разом хлынули разведчики. Они поглядывали в сторону Алеши, словно чего-то выжидая. Смотрел сюда и Денисенков из-под русых густых бровей. — Мне Бурана, а лейтенанту Орлика, — ни к кому конкретно не обращаясь, распорядился он. Разведчики бросились через огород к конюшне. Они бежали всей компанией, перегоняя друг друга и шумно обмениваясь на ходу какими-то замечаниями. Видно, были рады услужить Денисенкову и убедиться, на что способен их новый командир взвода. — Поедем с тобой в Луганск. К вечеру вернемся. Ты как на это смотришь? — Я готов, — с радостью ответил Алеша. Вскоре разведчики привели гнедого дончака. Он шел приплясывающей походкой, немного боком, выгнув лоснящуюся сильную шею. Он прядал ушами, скосив зеленоватый глаз на шагнувшего к нему Денисенкова. — Мой Буран, — с нотками гордости в голосе сказал комбат, ласково потрепав коня по холке. — Красивый, — заметил Алеша. — Ты не видел Орлика. Вот то жеребец! А какой он на скаку! Как птица. При этих словах комбата Алеше показалось, что разведчики как-то странно переглянулись. Но лицо Денисенкова оставалось невозмутимым, и это успокоило насторожившегося было Алешу. — Орлик — конь самого Бабенко, — сказал комбат. — А прежде он был у немецкого оберста. Трофей, под Тацинской его взяли. — Товарищ подполковник не будет ругаться? — спросил Алеша. — Ты же умеешь ездить. Нет, он нам разрешает иногда брать Орлика, — сказал Денисенков. Время шло, а Орлика все не вели. И тогда комбат послал на конюшню узнать, в чем дело. Посыльный тоже долго не появлялся. И Денисенков собирался было идти за конем сам, как в конце огорода, на протоптанной между кустами терна тропке показался рыжий жеребец со звездочкой на лбу. Жеребца сдерживали двое разведчиков, а он приплясывал, похрапывая и дико вращая налитыми кровью глазами. Он был под таким же, как и Буран, высоким казачьим седлом. Спина у жеребца нервно вздрагивала, и Алеша отметил про себя, что конь явно уросит. — Смотри, какой красавец! — восхищенно воскликнул Денисенков. Да, конь был действительно редкой красоты. Тонконогий, поджарый, с довольно широкой грудью. В училище Алеша видел немало породистых лошадей, но этот конь был лучше. — Статный, — согласился Алеша. — Не засекается? — Нет. Я же вчера на нем в город ездил… — сказал Тихомиров. Но его тут же оборвал Егор Кудинов: — Орлик, конечно, не про тебя. А ежели человек со шпорами… «Вот оно что! — подумал Алеша. — Конь спесивый, и его подсовывают мне. Хотят испытать. Что ж, будь что будет». Он подошел к Орлику и взял у разведчиков повод. И взглянул на Денисенкова. А тот вскочил на своего Бурана, дал коню волю, и Буран легко перемахнул через плетень. «Неплохо», — отметил про себя Алеша. Левой рукой он до отказа натянул поводья и ухватился за короткую гриву Орлика, а правая рука легла на переднюю луку седла. Орлик слегка попятился, но Алеша изловчился и поймал стремя ногой. И в ту же секунду он сделал рывок и очутился в седле. Орлик прижал уши, подобрался, словно намереваясь сделать прыжок. Но когда Алеша дал ему поводья и воткнул шпоры в бока, жеребец вдруг взмыл на дыбы. От неожиданности Алеша едва не свалился с седла. «Только бы не упал на спину», — молнией пронеслось в голове. А Орлик теперь уже вскинул задние ноги. Алеша улетел бы, если бы не держался за луку седла. — Шпоры! — самому себе вслух приказал Алеша. Орлик опять встал на «свечу» и дал «козла», и завертелся волчком, норовя оскаленными зубами ухватить Алешино колено. У рта жеребца закучерявилась белая пена, яростно сверкали стальные глаза. «Только бы не упал на спину! Тогда — смерть!» Что было силы рванул на себя поводья. Орлик шарахнулся в сторону и на какое-то мгновение присел на задние ноги. — Вперед! — крикнул Алеша, припадая к гриве коня. Орлик вытянулся в прыжке, захрапел, прося поводья. И в лицо Алеше ударил ветер. Только на окраине Луганска, у контрольно-пропускного пункта, Алеша осадил взмыленного коня. Орлик послушно перешел с галопа на рысь и затрусил рядом с присоединившимся к нему Бураном. — Здорово ездишь, лейтенант! — одобрил Денисенков. — А я за тебя переживал. — Это почему же? — Да так. Орлик-то с норовом. Не каждый управится с ним. — Вроде бы ничего, — все еще волнуясь, сказал Алеша. В городе они пробыли недолго. Налетевшие «юнкерсы» стали бомбить и без того разбитые корпуса завода и здания в центре города. Хотя это было и далеко от улочки в Каменном броде, где оказались Алеша с Денисенковым, но взрывные волны докатывались и сюда. И комбат решил ехать, не дожидаясь конца бомбежки. Разведчики встретили Алешу шумно. Окружили, заговорили наперебой: — Чистая работа, товарищ лейтенант. — Это мы понимаем! — А ведь жеребца никто не мог усмирить. Сам Бабенко пробовал, и Орлик его чуть не убил. И приказал подполковник закладывать Орлика в дилижанс. Так мы зовем румынскую телегу на рессорах, — возбужденно проговорил Тихомиров. — А я на нем тоже не ездил…С наступлением темноты Егор Кудинов повел Алешу на передовой наблюдательный пункт. Шли молча, время от времени отвечая лишь на строгие окрики часовых. И через какой-нибудь час ходьбы они были на месте. — Шагайте осторожнее. Тут можно ногу сломать, — предупредил Кудинов, когда они спустились в ход сообщения, который углублялся уступами и вскоре закончился тонкой дощатой дверью. — Есть кто? — спросил Кудинов, входя в блиндаж. — Егор? Кого привел? — Новый наш командир. Орлика сегодня объездил. — Брось трепаться! — Точно. Подтвердите, товарищ лейтенант, — попросил Кудинов. — Ладно, ладно тебе. Ну что уж тут такого, — сказал польщенный Алеша.
13
Вот уже вторую ночь на чужом берегу не пели «Катюшу». Падала на землю густая тьма, обрывалась перестрелка и слышался из-за Миуса тоскливый, протяжный голос: — Рус! Давай баян! На нашей стороне упорно молчали. Никто не понимал, чего хотят фрицы. Лишь в окопах второй роты многозначительно переглядывались и посмеивались Васька Панков и Костя, да еще Петер с Семой. Только им четверым была известна тайна похищения аккордеона. Фриц кричал с присущей немцам методичностью: ровно через каждые десять секунд. По его крикам можно было проверять часы: — Рус! Давай баян! — половина второго. — Рус! Давай баян! — десять минут третьего. И к его голосу так же привыкли здесь, как привыкают к мерному постукиванию часов. Прошла неделя, и его перестали замечать. И фриц словно понял это. Он стал кричать реже, с периодичностью — раз в полминуты. И, наверное, так бы и похоронена была история с аккордеоном, тем более, что его прятали в блиндаже до лучших времен если бы не один непредвиденный случай. Гущин ночью вызвал Петера в землянку особого отдела. Шел дождь. Петер ежился от попадавших за шиворот струек воды. Натыкался на выступы траншеи, когда круто поворачивал ход сообщения. Уже войдя в балку, долго ходил по ней, окликаемый часовыми. Землянка была глубокой. И Петер скорее не сошел, а скатился по осклизлым ступенькам к двери. Он легонько нажал на дверь плечом, и она приоткрылась. И Петер при красноватом, колеблющемся свете коптилки, сделанной из гильзы противотанкового ружья, увидел за грубо сколоченным столом Гущина. — Разрешите? — спросил Петер и, не дожидаясь ответа, шагнул в землянку. Гущин оторвал взгляд от разложенных на столе бумаг: — Закрывай дверь, Чалкин. Гущин устал. Лицо у него серое, а под глазами синие тени. — Садись, Чалкин, — сказал он. Вдоль стены была сделана земляная скамья, служившая, очевидно, и для сна тем, кто работал здесь ночами. Она была прикрыта видавшим виды солдатским одеялом. — Звали меня? — спросил Петер, опускаясь на скамью. — Звал. Вот послушай-ка, — Гущин взял листок, лежавший поверх стопки бумаг и стал читать вслух. — «Фельдфебель Густав Хакерт по секрету сказал мне, что на нашей стороне побывали русские, которые утащили противотанковое ружье, каску и аккордеон. А потом об этом стало известно всем, потому что был приказ командира полка оберста Ланге». Ты знаешь, что я тебе прочитал сейчас, Чалкин? Это — показания рядового Курта Брауна, «языка», добытого нашей разведкой. — Интересно, — протянул Петер. — Тем более, что ружье с каской стояло против участка, обороняемого вашей ротой, — в тон Петеру сказал Гущин. — И той самой ночью в боевом охранении дежурил ты. — Было дело. Но я никого не видел. Нет, Петер ничего не скажет Гущину. Петер убежден, что Васька Панков — честный парень. По-доброму, так Ваську бы наградить надо. — А что б ты предпринял на моем месте? — глядя прямо в глаза Петеру, спросил Гущин. — Я бы точно установил, не немецкая ли это провокация. Может, наши там и не были. — Это исключается, — сурово проговорил Гущин. — Ты давал присягу, Чалкин. Да, такое было. И Петер ничем ее не нарушил. Он твердо знает, что здесь нет предательства. — Но если никого не видел, то проспал на посту. Так? — Я не спал. Петер ушел от Гущина с тяжелым сердцем. Шлепая сапогами по лужам, он думал о состоявшемся разговоре. Сама Васькина дерзость говорила против него. Из-под носа у немцев утащить ружье и каску, да еще прихватить аккордеон! Кто поверит в такое! Нужно потихоньку посоветоваться с кем-нибудь из ребят. Лучше с Костей, он парень серьезный. Или с Федором Ипатьевичем. Петер вспомнил отцовские слова: — Я желаю тебе, сынок, большого счастья в жизни. А пуще всего — такого друга, как у меня Федор Ипатьевич. А мать Петера считала Федю чудаком и любителем выпить. Она никак не могла понять, почему Чалкин-старший так привязан к нему. Ну были вместе в годы молодости — что ж из того? Кто в молодости не клянется друг другу в верности до гроба! Но потом люди взрослеют и расходятся по разным дорогам. У каждого появляется своя семья, свои интересы. Каждый занимает в жизни место согласно способностям, делает карьеру. И чаще всего бывает, что старые знакомства становятся обременительными. — У тебя, Андрюша, слепое чувство к Федору Ипатьевичу. Ты ему многое прощаешь, — говорила мать. Но Чалкин-старший был упрям. Он не слушал жены. Он по-прежнему искренне радовался, встречая Федю, и всех мерял по нему. Мол, каким бы справедливым, гуманным было человечество, если бы люди хоть немного походили на Федю. А однажды Петер читал сказку о добром принце, и отец ему сказал: — В наши боевые времена принцев уже не было! Зато был Федя, и он нес людям такое добро, что принцам и не снилось! Знай это, Петька. Арест отца еще больше сблизил Петера с Федей. Но это лишь до того самого дня, когда Петер выступил на комсомольском собрании. Петер стал избегать Федю, боялся его умных и честных глаз… Петер не стал ждать, когда подвернется случай поговорить с Федей один на один. Утром следующего дня он пошел на КП батальона, встретил там капитана Гладышева и попросил его как можно скорее заглянуть во вторую роту. — Что там? — насторожился Федя. — Очень ждем вас. Надо поговорить. — Тогда идем. Немедленно. Этого только и нужно было Петеру. Едва они отошли от КП, Петер сказал, что намерен сообщить важную новость, Но так, чтобы никто не слышал. И вообще лучше будет, если они уйдут куда-нибудь подальше. Федя увел Петера в свою землянку. Низкая, с неровным земляным потолком на двух подпорках, она походила на обыкновенную нору. Столом Феде служил фанерный ящик из-под макарон. А стула или чего-то похожего на стул не было. — Садись, где стоишь, — пригласил Федя. — И выкладывай, что у тебя. Петер подробно пересказал свой разговор с капитаном Гущиным. Федя слушал его, насупив брови и отведя взгляд в сторону. Вид у Феди был усталый, как будто он не спал уже не одну ночь. А может, и действительно не спал. — Что ж, Гущин должен все знать. На то он и особист, — сказал Федя, когда Петер закончил свой рассказ. — Иначе его не стоит держать на этой очень ответственной работе. Вот так-то. — Понимаю, — согласился Петер. — Но мне известно, кто ходил на тот берег. — Так кто же он? — Вам я откроюсь, Федор Ипатьевич. Васька Панков. Я сам был свидетелем. Федя пристально посмотрел на Петера. Потом на минуту задумался и спросил: — Ему ты веришь? Петер утвердительно качнул головой. — Я, тоже. А ведь опять угодит в штрафную. Где аккордеон? — У нас в блиндаже. Васька для него специальную нишу вырыл, — сказал Петер. — С Гущиным я переговорю. Надеюсь, не дойдет до трибунала. На этом их разговор оборвался. В приоткрытую дверь землянки просунулась голова вестового: — Товарищ капитан, вас требует к себе комбат. Он на правом фланге батальона. — Иду, — проговорил Федя и подтолкнул к выходу Петера. Петер заспешил к себе во вторую роту. Идти пришлось по мелкому ходу сообщения. Местами он полз на четвереньках, а то и на животе, по-пластунски, обдирая колени и локти. А во взводном блиндаже Петера ошеломили неожиданным известием: аккордеон нашли, Ваську Панкова арестовали. Васька признался, чтоплавал на ту сторону. — Как же это так? — растерянно сказал Петер. — А где ты был ночью? — бросил Костя и, захватив свою винтовку, вышел из блиндажа.14
В один из дней с правого берега Миуса полетели болванки. Резкий, оборванный на середине звук выстрела, и в ту же секунду — глухой шлепок по земле, и колечко пыли на нашей стороне. Разрывов нет. На то она и болванка, чтобы не рваться, а всем своим монолитом разносить в щепы блиндажи, сокрушать стальную скорлупу танков. — Ну и фриц! — покачал лысеющей головой Гладышев. — Это бьют зарытые в землю самоходки. А почему бьют болванками? То-то и оно! — А все-таки — почему? — спросил Костя. — Историю нужно учить, Воробьев. Знать ее назубок. Тогда все поймешь, — вытирая набежавшие на глаза слезы, сказал Федя. — А все-таки? — настаивал Костя. — Рассказать ему? — спросил Федя у сидевшего рядом, на земляном полу блиндажа, Семы Ротштейна. — А то как же! — встрепенулся Сема. Федя окинул собеседников коротким торжествующим взглядом. Мол, не догадываетесь, а надо шевелить мозгами. — Вот Сема попросил — это совсем другое дело. Семе надо все пояснять, потому как он — отстающий. — Что вы уж так, Федор Ипатьевич! По-моему, и «посредственно» были, и даже «хорошо», — возразил Сема, сделав обиженное лицо. — Это по-твоему. Ну да ладно уж, расскажу. А случилось у них вот что. Командир немецкой дивизии плохо спал сегодняшнюю ночь. Все думал, какой мы готовим ему подвох. И додумался. У фрицев танки в окопах? В окопах. А почему, дескать, русским не сделать то же со своей техникой. Русские хуже, что ли?.. Вот что он подумал, немецкий генерал. И отдал приказ крыть болванками по каждому пригорку. — Пусть так, но история тут при чем? — Костя сделал энергичный жест рукой. — А при том, мой юный друг, что у нас и у них позади Сталинград. Живая история. Она заставила гитлеровских нахалов уважительно к ней относиться. Ну, а мы оказались и на этот раз похитрее фрицев. К чему нам в обороне сосредоточивать технику у переднего края? Совсем ни к чему. Вот какая штука. И Федя залился своим тонким, хитроватым смешком. А ребятам, которые внимательно его слушали, все стало так же ясно, как бывало на его уроках. Он умел о самых сложных вещах говорить удивительно просто. Или наоборот: простое и всем понятное возводил к Тациту или Плинию-младшему. И тогда Косте казалось, что Федя жил вне времени, Что прошлое и настоящее настолько перемешалось в его мозгу, что отделить их друг от друга было невозможно. За два года войны внешне он почти не изменился. Военная форма сидела на нем так аккуратно и привычно, словно и родился-то Федя в гимнастерке с портупеей и планшеткой. «Я мало знал его прежде. Ближе к нему был Алеша», — с тоской подумал Костя. Где он теперь, вихрастый, ершистый Алеша? Велик фронт, и Алеша может быть на любом его километре. Война без спроса разлучает людей, иногда — навеки. У Кости на глазах погибло немало бойцов. Пожилых и совсем юных. А вот Алешу он представлял себе только живым, будто тот вообще умереть не может. Странно, но это было именно так. И о себе думал так же. Хотя временами в голове волчком вертелся знакомый мотив:15
Всю весну и начало лета красноармейцы ожидали наступления. Им было непонятно, почему так долго топчутся на каком-то Миусе они, гнавшие фрицев от Волги многие сотни километров. В марте и апреле командиры говорили, что фронт подтягивает резервы и что вот-вот наши войска пойдут дальше. Но, вместо этого, все глубже зарывались в землю, а саперы продолжали ставить минные поля и проволочные заграждения. К будничной перестрелке привыкли. А бомбежки и мощные огневые налеты с той и другой стороны стали редкостью. Впрочем, не двигались и другие фронты, и это несколько мирило солдат с бездействием. Значит, командование замышляет что-то серьезное, рассуждали они. Теперь уж, видно, пойдут до самого Берлина. Ни за что не остановить немцам такой силищи. Главное — научились воевать, брать фрица за жабры. — Немного терпения, друзья мои, — говорил Гладышев, появляясь во второй роте. А сам невольно пожимал плечами. Мол, что ж я поделаю. Не от меня это зависит. — Союзники-то что думают? — спрашивали его. — Союзники, видно, не очень торопятся со вторым фронтом. И дальше хотят загребать жар чужими руками, — хмуро отвечал Федя. — На это они мастера! — То-то и оно. Июль начался все с тех же, примелькавшихся сводок Совинформбюро: «На фронтах шла артиллерийская и ружейная перестрелка, велись поиски разведчиков». И когда старшина роты услышал о боях под Курском, он обошел все блиндажи и землянки. Он сообщил об этом так торжественно, так радостно, словно речь шла уже о полной победе над врагом. — Свершилось, братья-славяне! — покрикивал он то в одном, то в другом блиндаже. — Гитлеру всыпают возле Курска! Гитлеру пришел капут! Веселое настроение старшины передавалось бойцам. Еще бы не веселиться! Эх, жалко, что Гущин забрал аккордеон! Сыграли бы сейчас плясовую! А старшина все щерил крупные зубы: — Свершилось, братья-славяне. Гитлера жмут! По этому случаю Егорушка ухлопал еще одного фрица. И немцы никак не отозвались на снайперский меткий выстрел. А старшина пообещал Егорушке сто граммов водки с первого же привоза. Ждали Федю. Он был на совещании в штабе армии и вернулся оттуда лишь на следующее утро. Конечно, он знал все подробности боев под Курском. Но что это? Он с озабоченным видом прошелся по траншее, раздал бойцам свежие газеты, и подойдя к Косте и Петеру, которые чистили оружие и исподлобья наблюдали за ним, прокашлялся в кулак и спросил явно без всякого интереса: — А как самочувствие, друзья? Костя положил винтовку на колени, вытер руки шелковым парашютиком от «люстры». Глаза вопросительно уставились на Федю. — Немец жмет под Курском. Идут тяжелые бои, — сказал тот. Но тут же вдруг твердо добавил: — Устоим. Наше командование и на сей раз приготовило фрицам добрую встречу! С этого дня в окопах поселилась тревога. Бойцы ждали новых и новых вестей о смертной битве на Курской дуге, о небывалых танковых сражениях. Говорили о появившихся у немцев «тиграх» и «фердинандах». — Хрен с ними, с этими «тиграми». Не больно мы их испугались, — сказал пулеметчик Михеич. — Только бы поскорее. А то дожидаться что-то муторно. А через неделю узнали, что битва выиграна нами и наступление на Южном фронте вот-вот начнется. Не могли же наши войска топтаться дольше на Миусе, когда соседи рванулись вперед. — Скоро теперь, скоро! — резво перекатывался из траншеи в траншею Федя. — Ох, и покажем же мы им, ребятушки! В полдень, когда от разлитой по степи жары нечем было дышать, с аккордеоном на плече появился черный от пыли и пота Васька Панков. Он не стал дожидаться вечера, чтобы незаметно попасть на передний край. Ваську засекли немецкие минометчики и чуть не накрыли на подходе к траншее. — Но чуть — не считается. И я жив и здоров, огольцы. И гармошка при мне. На допросах он говорил все как было. Много бумаги исписал Гущин. А сегодня взял да и отослал Ваську обратно во вторую роту. Шибко ругался. Теперь по ночам играл у нас трофейный аккордеон. И с той стороны по-прежнему кричали: — Рус! Дай баян! — и озлобленно стреляли. С каждыми сутками, с каждым часом становилось все тревожнее. Задвигались войска второго эшелона, и немцы заметили это. Стали бомбить. Вдруг ни с того ни с сего начинался бешеный артиллерийский обстрел переднего края. А наши батареи помалкивали, чтобы не выдать своих позиций, и в этом молчании чувствовалась скрытая сила, готовая в нужную минуту обрушиться на врага. — Скоро! Скоро! — бились сердца. — Скоро! Скоро! Скоро! — торопливо хлопали зенитки. — Скор-рр-ро, — лязгали гусеницы подбиравшихся к Миусу наших танков.В лунном свете серебрилась степь. Величаво высился вдали остроконечный шлем Саур-могилы. А рядом, за кустами лозняка, искрилась легкая зыбь Миуса. Еще никто из бойцов не знал о приказе к наступлению, но по всему чувствовалось, что эта ночь не похожа на все другие ночи. Чаще бегали по траншеям и ходам сообщения вестовые. Ни на минуту не смолкали телефоны. А когда прошли вперед, к минным полям, молчаливые саперы, догадки сменились уверенностью. Значит, сегодня. И от этой мысли стало еще тревожнее. Костя и Васька сидели на бруствере траншеи и слушали ночь. В степи было тихо. Ни выстрелов, ни шума моторов. Только временами доносилась из балки, где помещались повара и ездовые, крутая мужская речь. Это было очень знакомо Косте. И вспомнил он бахчи. Когда Костя и Алеша ели арбузы у того самого доброго деда, уже вечерело. И до них вот так же издалека доносились голоса других сторожей. А еще в степи играли сейчас в свои скрипочки неугомонные сверчки. Целый оркестр исполнял какую-то удивительно светлую и бесконечную симфонию. Сверчкам было наплевать на то, что скоро здесь загрохочет битва. И кто-то из ребят не доживет до следующей ночи. На то она и война, черт ее подери! — Интересно, где остальные наши? — негромко сказал Васька. Костя ничего ему не ответил. Косте хотелось молчать, а если уж говорить, то о самом важном. Хотя что же самое важное — Костя не знал. — Я не о Семе с Петером, а о других наших. Где вот они, а? Как бы очнувшись, Костя сказал: — Все на фронте. Помнишь, какая вывеска была в гражданскую на райкомах комсомола? «Все ушли на фронт». Так и мы… А утром пойдем, однако. — Пойдем, — согласился Васька. — Это уж как пить дать! — Мины уберут. Но река мешает. Ее ведь не перепрыгнешь. — Она сейчас мелкая. Да и саперы наведут переправы. А ты плавать умеешь? — Как тебе сказать? Не очень. Но при нужде поплыву, — сказал Костя. — И курица поплывет, коли невпротык придется… Они снова долго молчали. И Костя взгрустнул о матери, которую он всегда видел в мыслях одиноко стоящей у калитки. Она стоит грустная и долгим взглядом еще молодых глаз провожает прохожих. У матери — загрубевшие, натруженные руки. Однажды ей гадала цыганка и нагадала жизнь в миру и согласии, в любви и довольствии. — Глупая ты женщина, — с горечью возразила мать. — И все слова твои глупые, обманные. Цыганка обиделась, сердито тряхнула юбками и пошла дальше вдоль домов. А отец, когда сели ужинать, напомнил матери этот разговор, сказал: — Хоть и дура цыганка, а правду наворожила. Ты без хлеба еще не сидела. Мать поднялась тогда с табуретки и ушла. Нет, не брал ее мир с отцом. Никогда не было у них согласия. Сердцем Костя понимал, что мать права в этом споре. И ему было жалко ее. Она сейчас, только она, думает о Косте и постоянно ждет. — А тебе расставаться с окопами как? — опять заговорил Васька. — Привыкли мы к ним, что к дому. — Тоже нашел дом, — недовольно ответил Костя. — А чего! Даже к камере человек привыкает. На свободу, конечно, пожалте. А в другую камеру — шалишь! Подошел Петер. Он тоже думал о предстоящей атаке. — Вдруг да штурм не удастся. Танки у них стоят вдоль передовой, — сказал Петер. — Ну и что! — оборвал его Костя. Немец не пускал ракет, не вешал «люстр». Может, он догадался обо всем и теперь готовил нашим войскам коварную ловушку? А наши почему-то не стреляли. Хотя бы палили для отвода глаз. Но фронт безмолствовал. Перед самым рассветом по траншее второй роты, заглядывая в блиндажи и землянки, прошелся Гладышев. Он был без пилотки — где-то потерял ее, — а на плечи его была накинута видавшая виды пестрая немецкая плащ-палатка. — Нельзя так, Федор Ипатьевич, — встретил его Сема. — Ребята могут за немца принять. Федя пропустил Семины слова мимо ушей. Он спешил выговориться: — Утром штурмуем Миус-фронт. Против нас стоит, как и в Сталинграде, Шестая армия. Вместо той Гитлер создал новую. И мы должны ее прикончить, — говорил Федя, волнуясь. — Уж как-нибудь, — сказал Васька. — Все будет хорошо, мои юные друзья. А рассвет уже занимался над степью. Неторопливый, дымный. И когда стал отчетливо виден крутой немецкий берег Миуса, по всей линии фронта враз ударили наши орудия. Тысячи громкоголосых орудий.
16
Шел четвертый день наступления. Всего-навсего четвертый, хотя Косте казалось, что он очень давно покинул обжитые траншеи на левом берегу Миуса. Саур-могила была теперь справа и несколько позади. Но ее еще не взяли наши части. Одетая в железо и бетон, она грохотала орудийными залпами, рассыпалась дробью пулеметных очередей. Привык Костя отбивать за день не одну контратаку немецких танков и пехоты: фрицы дрались упорно, не считаясь с потерями. Впрочем, потеряли они пока что не так много. В памятное утро прорыва наша артиллерия нещадно молотила траншеи противника. Казалось, что ничего живого там уже нет. А на поверку вышло другое. Трупов в первый вражеской траншее почти не оказалось. Значит, немец знал о нашем наступлении и отвел пехоту в тыл. А теперь она под прикрытием танков яростно контратаковала окопавшихся по холму красноармейцев. Волны горячего воздуха бились о бруствер. От солнца не было спасения в мелких, до колен, окопах. Две ночи вторая рота углубляла их, но дело подавалось туго. Легкие пехотинские лопаты жалобно звенели, отскакивая от твердой, как сталь, земли. — Дождичка бы, — пришептывал Михеич — Костин сосед по окопу. Дождик был нужен еще и потому, что всем нестерпимо хотелось пить. В роте не нашлось ни единого глотка воды, когда санинструктор Маша с трудом проползала по усыпанной гильзами траншее, держа в руке пустую фляжку. Раненые просили пить. А вода была выпита еще утром. До ближнего колодца больше километра совершенно открытого поля. Не сумеешь сделать и шага, как тебя пристрелят. Дождь дал бы красноармейцам передышку от бомбежек. Немцы уже четыре раза совершали налеты на наших пехотинцев. Ко всему может привыкнуть боец на войне. Только не к бомбежкам. С каждым новым заходом «юнкерсов» ты чувствуешь, как в струнку вытягиваются нервы. И тебя давит-давит пронзительный вой моторов и нарастающий свист бомб. Стоит окончиться артиллерийскому обстрелу, и боец тут же забывает о нем. Ну был, ну прошел. А если и не сразу забывает, то где-то вскорости. Другое дело — бомбежка. Она часами держит бойца в адском напряжении. И бывает, что человек не выдерживает. Костя видел, как после бомбежки из траншеи выскочил и, горланя что-то непонятное, побежал в сторону фрицев командир одного из взводов. Он сошел с ума, он не понимал, что делал. Выстрел щелкнул, почти неслышный после грохота бомб, и сержант, вскинув руки, плашмя упал на черную землю. Даже не дернулся. И Костя подумал тогда, что хорошо умереть вот так, сразу. О матери и то не вспомнишь. — Дождичек, он все освежит, — как молитву, шептал Михеич. А «юнкерсы», сверкая на солнце, разворачивались в небе. По ним стреляли зенитные батареи. Зенитчики дрались отчаянно. Стреляли и тогда, когда бомбы с оглушительным воем шли прямо на них. Но вот из-за холмов рванулись в долину советские истребители. Начался воздушный бой, за которым напряженно следили из окопов. Пехотинцы второй роты увидели, как прямо над ними тройка наших самолетов атаковала «мессеров», похожих на больших, зловещих скорпионов. Яростно застрекотали пулеметы, и над одним из фашистских истребителей затрепетали оранжевые языки пламени. Вражеский ас хотел дотянуть до своих, но объятая пламенем машина вдруг развалилась, и куски ее упали на нейтральную полосу. Костя насчитал тридцать «юнкерсов». Иногда бывает до сотни. Отчетливо видны черные кресты на фюзеляжах. Сейчас «юнкерсы» начнут пикировать. Их цель: узловатые нити ничем не замаскированных окопов пехоты. Костя лежал на боку, прижавшись плечом к ногам Михеича. Над ним было блеклое небо с плывущими «юнкерсами». Летчики, наверное, видели Костю и собирались так накрыть траншею, чтобы от него не осталось даже мокрого места. Бомбы отделились от нырнувшего к земле «юнкерса» и, как большие черные капли, с раздирающим душу свистом понеслись вниз. «Закон всемирного тяготения», — мелькнуло в голове у Кости, и он закрыл глаза. Бомбы рванули землю раз, другой, третий. И она задвигалась, тяжело заходила под ударами. В сплошной, ужасающий грохот слились взрывы, и свист бомб, и рев моторов. Уже не видно было самолетов. Не видно было и самого неба. Перемешанный с пылью дым заслонил свет, и днем стало темно, совсем темно, как ночью. И в этой адской тьме краснели, остывая, лишь залетевшие в окоп осколки. «Закон всемирного тяготения», — снова пронеслось в сознании Кости. И больше он ни о чем не подумал в эти секунды. Странные, ничего не значащие слова, — только они одни сверлили его мозг. «Закон всемирного тяготения». А бомбы рвались. Михеич медленно и упруго потянулся, и у Кости сжалось сердце. Неужели зацепило? Как же это? И Костя стал шарить у себя под плечом, словно надеясь определить на ощупь, что же случилось с Михеичем. Старый боец, видно, понял Костю. И успокаивающе пожал ему руку. Мол, все в порядке. Тяжелая бомба рванула совсем рядом. Перед Костиными глазами молнией полыхнула яркая вспышка, его с силой подбросило и осыпало комьями твердой земли. И все стихло… Это и есть конец, подумал Костя. Примерно так он и представлял себе смерть. Но если это конец, то почему не почувствовал острой боли? Почему схватился руками за ногу Михеича, намереваясь приподняться? Наконец, почему думал. И тут только понял Костя, что это кончилась бомбежка. Он сел, поджав под себя одеревеневшие ноги, и полез в карман за куревом. Он не хотел курить, но рука почему-то тянулась к кисету. — Дождчика бы теперь, — как ни в чем не бывало, проговорил Михеич. — Воды бы, — вздохнул Костя, заворачивая самокрутку. — О чем я и толкую. Дождичка бы… Как он надоел со своим дождичком! С левого фланга роты передали по цепочке: — Санинструктора Машу вызывают. Значит, угодило в траншею. — Санинструктора Машу, — сказал Михеичу Костя. Понемногу тьма рассеивалась. Сквозь палевую толщу пыли пробилось красное солнце. Стали видны гребни раскинувшихся впереди холмов: какое-то нагромождение геометрических фигур. И кто-то испуганно вскрикнул: — Танки! Глядите — вон они! Раскачиваясь, как на волне лодка, и стреляя на ходу, по неглубокой безлесой лощине шли на позицию роты немецкие танки. Они летели на большой скорости. Торопились к нашим окопам, пока еще стояла мгла, которая прикрывала танки от артиллерии. И теперь уже с правого фланга побежало: — Приготовить противотанковые гранаты. У Кости не было гранаты, и у Михеича тоже. Они поправили на голове каски и стали пристально, словно завороженные, разглядывать приближавшиеся грозные машины. Танки не вели прицельного огня. Они стреляли наугад, и снаряды рвались то перед траншеей, то далеко позади. Запыхавшийся, с грязными подтеками на лице, перед Костей вырос Федя. Голос у Феди спокойный и даже шутливый: — Эх, кэк дадим мы сейчас фрицам! Кэ-эк ударим! И вот уже нет его. Он где-то у петеэровцев, которые залегли в ряд чуть левее Кости. Петеэровцы пока молчали, подпуская танки на дистанцию действительного огня. До танков осталось не более полукилометра. За ними хорошо различимы серо-зеленые суетливые фигурки бегущих солдат. Спешили танки, спешила вражеская пехота. По наступающему противнику ударила артиллерия. Кусты разрывов заметались вокруг танков. И когда Костя решил, что мощную броню ничем не возьмешь, задымила и пошла кружить на одной гусенице головная машина. — Так их, в душу мать! — крикнул Михеич. Но танков более двадцати. Они не снижали скорости. Обойдя горящую машину, они, обгоняя друг друга, летели к нашим окопам. А фонтаны земли на пути танков становились сплошной стеной. Потом ударили петеэровцы. Ударили дружно, по всей линии окопов. Факелами вспыхнули несколько машин. Лощина заклубилась желто-синим дымом. И уцелевшие вражеские танки сбавили скорость. Они не рискнули прорваться через огненный заслон. Они разворачивались, чтобы удрать с поля боя. А громовой переклик пушек и минометов все усиливался. Как свирепый ветер траву, прижал он немецкую пехоту к земле. Увидев, что танки отходят, пехотинцы стали понемногу откатываться к своим траншеям. Короткая перебежка, очередь из автомата, и снова перебежка. — Вперед, товарищи! — взлетел над окопами Федя. — За Родину! За Сталина! И Костя в одно мгновение оказался на бруствере траншеи.17
Петер мечтал о подвиге. Мечтал еще с тех пор, когда узнал от отца о революции и войне с басмачами. Петер не мог налюбоваться отцовскими хромовыми крагами и наганом. Герой без краг много проигрывал в его детском воображении. Думал Петер и о буденновском шлеме с красной звездой. При виде шлема не только он — все ребята умирали от зависти. Петеру представлялось, что он скакал впереди эскадрона на лихом вороном коне, таком же, какой когда-то был у отца. Скакал по взятому штурмом городу, а люди глядели на него и ахали. Петер, наверное, порубил саблей целый вражеский эскадрон. Или, как отец, взял в плен коварного краснобородого курбаши. Поднялись в воздух Чкалов и Громов. И потянуло Петера к летному шлему с клапанами для наушников. А с вороным скакуном пришлось расстаться: самолет быстрее и значительнее. Попробуй одолеть на коне ледовый простор Арктики! На самолете же все можно. Наконец, как любимая музыка, звучали для Петера Гвадарамма, Умера Эль Прадо, Харама, Уэска. В школьной пионерской комнате патефон играл гимн Испанской Республики, а со страниц газет смотрели строгие глаза Пассионарии и Лины Одены. Петер все чаще снимал со стены отцовскую трехлинейку и угрожающе щелкал затвором. На фронте он ждал случая отличиться. Особенно сейчас, когда началось наступление. Петеру хотелось доказать всем, что он достоин своего отца. И еще Петеру казалось, что подвигом он искупит свою вину перед Чалкиным-старшим. Как-никак, а смалодушничал он тогда. В наступлении Петер старался быть на виду у командиров. И не для того, чтобы они видели, какой он смелый. Нет. Он хотел в трудную минуту находиться у них под рукой. Тогда его могут послать на самое опасное дело. На Костю и Сему Петер сердился. Они подумали о нем, как о предателе. Было обидно слышать такое от своих ребят. Не предавал Петер Васьки Панкова, а наоборот, советовался с Федей, как помочь Ваське. Гордость не позволяла ему объяснить ребятам, как все было и о чем он говорил с Гущиным. Обида заставляла избегать недавних друзей. Пусть думают себе, что хотят. Но это было лишь детской бравадой. Петеру была тяжела ноша одиночества, легшая на его плечи, и не раз он намеревался выяснить свои отношения с ребятами. Однако тут же откладывал разговор на неопределенное время. Не мог он вот так, просто, вырвать из сердца обиду. Напор врага становился сильнее. Бомбовые удары и танковые атаки чередовались. У бойцов сдавали нервы. То один, то другой батальон откатывался под прикрытие своей артиллерии. Чувствовалось, что так долго не продержаться. Если не прибудут свежие части, если зенитчики и истребители не очистят небо от вражеских самолетов, немцы отбросят наших за Миус. Утром, еще по холодку, вторая рота отбила атаку немцев. Бойцы контратаковали противника, стремительным броском продвинулись вперед, на новый рубеж, но закрепиться там не сумели. Местность была совершенно открытая, и налетевшие «юнкерсы» и «хейнкели» перепахали ее бомбами. Рота понесла большие потери, самые большие за последние полгода. Командир роты дал приказ отходить под прикрытие завесы дыма и пыли. Сема, который лежал рядом с Петером, коротко скрипнул зубами: — Что-то с ногой у меня… Вроде как зацепило… Петер наклонился над ним и увидел Семин сапог, неестественно отброшенный в сторону. Петер догадался, что это оторванная нога. Сема подплывал кровью. — Обожди. Я перевяжу, — дрожащими руками снимая с себя узкий ремень, сказал Петер. — Сейчас… Все будет в порядке. Сема повернул голову, увидел пустую штанину и проговорил трудно: — Отвоевался я. И оттанцевался тоже. — Да ты держись! Еще такую ногу приделают! — подбодрил Петер. Со стороны небольшого, заросшего терном оврага к ним подбежал Федя. Помог Петеру перетянуть ремнем обрубок ноги, а потом утащил Сему в кусты. Когда пыль осела, Федя и Петер оврагом отошли к своим окопам, неся на руках раненого. Сема молчал, растерянно поглядывая на них, словно никак не мог понять до конца, что с ним случилось. А может, надеялся на какое-то чудо. В ушах звенят, тонко звенят серебряные молоточки и хочется пить. В траншее, наверное, нет воды. А если и есть, то ее мало, слишком мало. Какие-то жалкие капли. Чтобы Семе напиться, нужно ведро воды, большое ведро, а может, целый колодец или ручей. Конечно, лучше ручей, он не иссякает. Петер неотрывно глядел в белое Семино лицо. Петеру было страшно… Что это? Петер видел и ранения, и смерти, но никогда не испытывал такого. — Скорее в медсанбат! Нужен укол от столбняка, — говорила санинструктор Маша. — Скорее! Пожилой санитар притащил носилки. Сема слабо улыбнулся ребятам, как бы извиняясь за свою беспомощность. — На костылях теперь буду… — чуть слышно сказал он. Подошли Костя и Васька. Костя наклонился и пожал руку Семе. Не глядя на окровавленную культю, хрипло проговорил: — До свидания, — и стер ладошкой пот с грязного Семиного лица. Санитар присел было, чтобы приподнять носилки (с другого конца за ручки носилок взялась Маша), но тут же выпрямился и сказал, обращаясь к Феде: — Ночи ждать надо. Верная гибель — идти вперед. — Правду он толкует, — со вздохом сказал кто-то. Маша решительно вскинула голову. Сурово сверкнули глаза: — Медлить нельзя. Такой случай. Сема умоляюще посмотрел на бойцов. Этот взгляд будто хотел сказать: как же так получается, ребята? От такой раны и умирать. Да почему же молчите вы, ребята? — Я понесу, — сказал Костя. — Я понесу, — отозвался Петер. — Нет уж, — Васька локтем отстранил Костю. — Пойду я. Не в таких оборотах бывал. И проносило. А теперь сам бог велел мне идти. — Может, все-таки я? — спросил Костя у Феди. Гладышев оглядел Петера, потом Ваську и сказал Косте: — Пусть идут Чалкин и Панков. Идите, друзья мои. Мы прикроем вас огнем. — Спасибо… спасибо, — запекшимися губами шептал Сема. Наступила какая-то секунда полной тишины, и солдаты услышали, как где-то рядом монотонно трещали кузнечики. Затем Васька сказал: — Пойдем. Маша привычно направилась за носилками и вдруг спохватилась: — Дайте я его напою! Она достала из брезентовой санитарной сумки алюминиевую фляжку, отвинтила крышку и поднесла к Семиным губам. Сема сделал один глоток, судорожный, торопливый. Крупные капли упали на гимнастерку. — Хватит, — отвернулся от фляжки. — Вы несите его в санчасть полка. Там собирают раненых и отправляют в медсанбат, — напутствовала ребят Маша. Васька и Петер не успели выйти из хода сообщения, как по всему фронту загрохотали пушки, затрещали пулеметы и автоматы. Немцы пошли в новую атаку. Петер посмотрел назад и увидел спускающиеся с бугра танки противника, Их было больше полусотни, грозных, чужих машин. А вокруг опять яростно плясали разрывы наших снарядов. «Может, и проскочим в суматохе», — подумалось Петеру. Они выбрались из окопа и побежали к балке. Крепко сжав руками брусья носилок, Сема как бы помогал им поскорее преодолеть опасное пространство. Петеров расчет оказался верным. Они сумели благополучно спуститься в балку. Здесь отдышались, и Сема сказал ребятам: — Жив останусь — никогда не забуду. Я ж все понимаю… — Понимаешь, так и помалкивай. И не трепыхайся! — сурово проговорил Васька. — Нашел время блажить. — Нет, нет! Я буду живой! — вдруг прокричал Сема. — Несите меня, ребята! — Теперь уж скоро. Где-то тут и должна быть санчасть. — успокаивал его Петер, поправляя автомат. Они еще долго шли, пока не оказались среди зеленого островка деревьев. В тени на траве здесь лежали и сидели раненые. Их было много — несколько десятков, И все они напряженно прислушивались к грохоту боя. Петер и Васька поставили носилки на краю леска под небольшим, но довольно густым дубком. И к носилкам вскоре подошел худощавый военврач в очках. — Транзит. Но прежде — сыворотка, — только и сказал он поспешившей за ним медсестре. Петер и Васька догадались, что Сему эвакуируют в тыл. И Сема догадался, и бескровное серое его лицо повеселело. — Теперь уж живой буду, — сказал он. Васька принес ему воды в котелке. Она была ледяная — из ключа, от нее ломило зубы. Сема сделал несколько глотков. И удовлетворенно вздохнул. Простясь с ним, Петер и Васька направились к переднему краю, который по-прежнему тонул в дыму. Бой не смолкал. Наоборот, как показалось ребятам, он набирал силу. Снаряды рвались не только у нашей первой траншеи — они залетали и в балку, по которой шли Петер и Васька. Ребята падали на землю, услышав их затихающий шелест. Приближаясь к передовой, ребята заметили бегущих красноармейцев. Первой мыслью было, что это контратака. Но бойцы, наши бойцы почему-то бежали назад, в тыл, навстречу Петеру и Ваське. — Куда ж они! — крикнул Петер и понял, что это и есть отступление. Бомбежки и ночи без сна, беспрерывные танковые удары измотали красноармейцев. В какую-то страшную, роковую минуту пехота дрогнула и бросилась под прикрытие наших орудий. И немыслимо было остановить эту лавину, хлынувшую назад, к Миусу. А следом за раскованной цепью показались зловещие силуэты немецких танков. Сейчас они настигнут цепь и станут давить ее гусеницами… Петер отбросил носилки, сорвал с плеча автомат, словно собирался расстрелять из него бронированные чудовища. И тут увидел выросшего перед ним Гущина. С автоматом в одной руке и гранатой в другой, он уставился на Петера огромными, налитыми кровью глазами: — Стой! Петер упал. Падая, он услышал автоматную очередь. Но боли не почувствовал. Значит, Гущин стрелял в кого-то другого. Петер оглянулся. Гущин стоял с открытым ртом и высоко поднятым над головой автоматом. Он стоял, как статуя, с мертвым лицом. Но вот Гущин неумело размахнулся и швырнул в сторону передовой гранату. Она не взорвалась. Гущин поспешил. Он даже не выдернул кольцо. Тогда, наставив себе в грудь автомат, он нажал спуск. И упал, прикрыв собой уже ненужный ему ППШ. Мимо Петера с ревом пронесся тяжелый немецкий танк.18
Наступил август. Наши войска снова занимали обжитые еще с зимы траншеи на левом берегу Миуса. Конечно, брала досада, что не сумели сковырнуть фрицев с донецкой земли. Не хватило силенок. Вначале пошли ходко, да бомбежками немец замучил. И танков здесь собралось много. Сколько их пожгли, а они все лезли и лезли. Сейчас днем и ночью на передовой было спокойно. И у них и у нас молчала уставшая артиллерия. Не летали над окопами самолеты. Даже непременная «рама» и та не появлялась. Красноармейцы отсыпались. День был солнечный, жаркий. Ребята поснимали гимнастерки и пошли загорать в балку. А Костя остался с Михеичем в блиндаже. — А все ж перехитрил нас фриц, — рассуждал Михеич, задумчиво подергивая кончик белесого уса. — Чего уж толковать. Первое дело, что били мы по пустому месту. Мы стреляли, а фрицы хихикали над нами. — Разведка плохо сработала. Не наблюдали за немцем, — сказал Костя. — То-то и оно. Я так понимаю, что в штабе армии ушами прохлопали. Из-за этого скольких хлопцев там положили. Да возьми хоть нашу роту. — Много, — согласился Костя, вспоминая Сему, Петера и Ваську. Федя обещал навести о них справки в медсанбате и армейском госпитале. Если ребята живы, то они значатся среди раненых. Пока что Федя узнал лишь одну печальную весть: немецкие танки в тот день прорвались к леску, где были раненые. Танки сделали там кровавую кашу. Костя допускал, что вместе с другими мог погибнуть Сема Ротштейн. Куда он без ноги да потерял столько крови. Это — Сема. А где Васька и Петер? Они тоже были где-то там. И, конечно, погибли. Напрасно Федя пытался напасть на след ребят. Кто уцелел в этой мялке, тот сейчас здесь, в окопах. Вчера Гладышев был во второй роте. Пришел на закате солнца и до полуночи говорил с Костей. Глядел себе под ноги, словно что-то читал на земле: — Не сберег я Петьку. Но ведь надо ж было нести Ротштейна? Надо. Все это правильно, и все-таки дело скверное. И вообще-то война — жестокая штука. — Это не рыцарские турниры, так ведь? — сказал Костя. — А что турниры? Думаешь, лучше? Романтичнее? Те же мясники твои рыцари. — Да какие они мои, — усмехнулся Костя. Федя помолчал, все так же не поднимая взгляда, затем сказал, кому-то погрозив кулаком: — Ты получишь еще! Мы в долгу не останемся. Увидишь, на что наш брат способен! Костя слушал Федю и думал о том, что враг, конечно, будет сломлен и разбит навсегда. И непременно случится все, о чем мечталось. И встреча в школе через десять лет состоится. Федя ушел, снова пообещав хоть что-то узнать о ребятах. И Костя с нетерпением ждал его. Федя появился только под вечер. У него было письмо для Кости. Маленький розовый конвертик, Костя сразу приметил его в пачке треугольников. Костя представил, как Влада писала ему. Она сидела в столовой. В распахнутое окно лились запахи свежего утра, В руке у Влады быстро-быстро бегал карандаш. Она любила писать карандашом. На этот раз письмо было на нескольких тетрадных страничках. Костя сначала никак не мог понять, о чем она пишет. «Костя, мой искренний друг! Еще неделю назад мое положение могло показаться мне самой смешным и довольно глупым. А сегодня я не вижу в нем ничего необычного. Я уже примирилась с этим. Значит, так нужно. Значит, такова моя судьба. О, если б ты только мог представить себе в лицах эту историю! Но ты не знаешь их. Они — эвакуированные, приехали вместе с киностудией»… «Какие эвакуированные? О чем это она»? — недоумевал Костя. «…Так вот. Я встретилась с ними в парке, у танцплощадки. Познакомились, и я позволила им проводить меня. Они мне сначала не понравились. Потом один из них — его звать Игорем — стал ухаживать за мной. Он был очень внимателен ко мне, и я увлеклась… Не осуждай меня, Костя!.. На свадьбе были…». «Что это она? Всерьез? Какая свадьба? Да она просто разыгрывает меня» — пытался успокоиться Костя. …«на свадьбе были его друзья и мой папа. Теперь мы будем жить втроем — все веселее. А с тобой мы можем по-прежнему оставаться друзьями, одноклассниками. Игорь не ревнивый. Когда война кончится и ты приедешь, я познакомлю вас. Но повторяю: он — ничем не примечательный, обыкновенный средний парень»… — Дура! — проговорил Костя, разрывая письмо на мелкие клочья. Он не верил ни одному ееслову. Разумеется, не было никакого Игоря. Это она все выдумала, чтобы позлить Костю, заставить его мучиться. Вздорная девчонка! И придет же ей такое в голову! А вдруг это все — правда? От одиночества на первого встречного повесилась. Нет, так может поступить кто угодно, только не Влада, умная, все понимающая и тонко чувствующая Влада. И Костя пожалел, что изорвал письмо. Можно было еще почитать и посмеяться над ее фантазией. Тоже нашла, чем пугать! А Костя напишет ей, что женился. На ком? На медсестре. Да. И целуется с ней, и нравится ему она. Костя рассмеялся. Но на душе у него было невесело. Где-то там копошились сомнения: а вдруг да все это так и есть. Зачем бы ей придумывать? Ах, Влада, Влада! Костя ответил ей резким письмом. Выругал за неуместные шутки. А Игорю, если такой когда-нибудь заведется у Влады, Костя обязательно переломает ноги, как только вернется с фронта. Костя имеет на это право, потому что любит Владу. Да, да, он очень любит ее. В списках раненых не было ни Петра, ни Васьки. Вот и все. Значит, остались они на той стороне Миуса.Федор Ипатьевич опять глядел себе под ноги, а в уголках его выцветших глаз поблескивали горошинки слез. Закуривая, он долго слюнил газету. Костя молчал, наблюдая за тем, как у входа в блиндаж Михеич начинял патронами диск ручного, дегтяревского, пулемета. Делал это Михеич не спеша, с профессиональной точностью движений. Что ж, пулеметчик — профессия! Михеич не раз под корень косил вражеские цепи. А ведь пару лет назад это был самый мирный человек. Колхозник из-под Ярославля. Из тех самых мест, где когда-то охотился Некрасов. И вспомнился Косте первый день войны. И лектор на эстраде, что с юмором говорил о Гитлере. Война, мол, дело нескольких недель. А ведь вышло не так, товарищ лектор. А почему не так, этого Костя не знал. Переоценили мы свои силы? Или все-таки решающим моментом была внезапность? Немец застал нас врасплох, и нам пришлось туго. А теперь с такой кровью приходится брать каждый метр своей земли! — Петька Чалкин родился в горах у афганской границы, — сказал Федя. — Больше года мы стояли там в одном кишлаке, отбивая налеты басмачей. И в тот день курбаши Давлет вырезал наших часовых на перевале и зашел к нам с тыла. Бой был жаркий. Мы едва сдерживали натиск банды. И в этом бою погиб ординарец Андрюхи Чалкина. Петькой звали, как и чапаевского ординарца. Наповал его пулей, в сердце. Мировецкий был парень! Гармонист, плясун. Хотел в артисты подаваться. Талант. В честь ординарца и назвали новорожденного Петькой. А когда Петька стал ходить в школу, Андрюха купил ему баян, чтоб играть учился… Ты дружил с Петькой? — Дружил. Как все, — негромко ответил Костя. — Он был славный мальчишка. Только власть губила его. Власть многих губит! Надо быть умным, чтобы голову не потерять. — Какая же это власть — член комсомольского комитета? — возразил Костя. — И все-таки власть. Я ведь слышал, как он говорил с вами. Да… Говорил… Характер у Петьки был отцовский, суровый… Слушай-ка, Воробьев. Вот, предположим, тебя ранило. И ты остался там, за Миусом. Что станешь делать? — Застрелюсь, — твердо, как о само собой разумеющемся, сказал Костя. — А верно ли это? Кому польза от твоей смерти? — А ведь позор плена… Федя не дал Косте договорить: — Хорошо, Воробьев. А если не застрелишься? — Нет, я гранату под себя и — конец! Да разве можно иначе?.. — Постой. Предположим, что у тебя нет выбора. Ты остаешься жить. И ты хоть с трудом, но можешь идти. Куда бы ты пошел? — К своим. Только к линии фронта, Федор Ипатьевич! — Ну и глупец же ты, мой юный друг! — с усмешкой воскликнул Федя. — Разве раненый, да еще в одиночку, без прикрытия ты смог бы здесь перейти линию фронта? Нет. А пробраться в тыл к немцу проще. Иди в стороне от дороги, добирайся до жилого места. Свет не без добрых людей, приютят. Подожди нашего наступления. — Так может быть с Петером и Васькой? — А почему не может? Вполне допустимо. Если они не тяжело ранены или не убиты в бою. — Конечно, случается всякое, — согласился Костя. — А ведь мы скоро опять пойдем в наступление. Не век же нам топтаться на этом рубеже. В первый раз не получилось, во второй получится. За битого двух небитых дают. В степи темнело по-южному быстро. С Миуса тянуло холодком. И вокруг было тихо, так безмятежно тихо, как бывает только во сне.
19
Через амбразуру в блиндаж тек зеленый свет луны. Земля спала. И казалось, что на многие километры вокруг никого нет. — Не люблю я такие ночи, — негромко проговорил Егор Кудинов. — Они вроде бы спокойные, а на самом деле подлые. Ежели немец ракет не пускает, значит, немцу темень нужна, значит, что-то он против нас удумал. Алеша молча слушал Кудинова, представляя себе его хитроватое, подвижное лицо. Мужик он, кажется, ничего, даже веселый, шутник. Алеше лишь не нравилась его странная манера смеяться. Впрочем, он и не смеялся вовсе, а хмыкал. И у хмыканья был определенный смысл: что бы вы, мол, ни говорили, а у меня на этот счет свое мнение, я сам себе на уме. На передовом НП было еще двое солдат, но они спали у противоположной стены блиндажа. В эту ночь дежурил Кудинов. Он сидел рядом с Алешей. Стоило Алеше лишь протянуть руку — и он коснулся бы Кудинова. Пахло полынью. Она росла здесь всюду, лезла в каждую щель. Кусты полыни надежно укрывали и сам НП. Клонило ко сну. Ресницы склеивались, и трудно было снова раскрыть их. Алеша в первую для него фронтовую ночь дежурил вместе с Егором Кудиновым на передовом наблюдательном пункте, у стереотрубы. Да, это уже фронт, самый настоящий. — И откуда он только взялся такой паразит, Гитлер? — продолжал рассуждать Кудинов. — Да пошто же сами немцы, которые трудяги, не свернут ему голову? — Значит, что-то у них не так, как хотелось бы тебе и мне, и всем нам, — раздумчиво ответил Алеша. Кудинов оживился, заговорил горячее, убежденней: — Гитлер без народа — никуда. Выходит, сумел он своих подцепить на крючок. Ведь воюют же паскудники! — Воюют. — А ты, товарищ лейтенант, видел живого немца? — Нет. — Обыкновенный он. Такой, как ты, к примеру. Только жесткий, нет у него душевности нашей. Мы ведь даже во зле отходчивы. А он — нет… Стой-ка! — и после минутной паузы. — Ориентир три, вправо двадцать, дальше пятьдесят фрицы устраивают орудие. — Что? — Орудие подвезли, только что. — То есть как это? — удивился Алеша, но тут же решил, что Кудинов его разыгрывает. — Подвезли, — повторил разведчик. — То-то разглядел, — усмехнулся Алеша. — Услышал, товарищ лейтенант. — И определил — где? — Определил. Чему только нужда не научит, — притворно вздохнул Кудинов. — Тоже мне: вправо двадцать, дальше пятьдесят, — передразнил разведчика Алеша. — Да ни за что не поверю! — Я ведь на службе. И ты мой командир, и как же я буду обманывать тебя? Может, думаешь, что мне трибунала захотелось? Завтра посмотришь карту и схему ориентиров и все поймешь. А теперь лучше спать тебе, товарищ лейтенант. Алешу сердила фамильярность, с которой по-прежнему разговаривал с ним Кудинов. Все-таки Алеша — офицер. За одно неприветствие в тылу красноармейцы наряд, а то и гауптвахту получают. Попробуй жаловаться — дисциплина! А Кудинов сразу взял панибратский тон в разговоре с Алешей, и Алеша не мог возразить ему. Боялся попасть в смешное положение. Ведь Кудинов не смолчит, а есть ли более удачная мишень для насмешек, чем необстрелянный юнец! Мало еще Алеше лет, всего восемнадцать, и солидности никакой. «Ничего. Вот повоюю немного, осмотрюсь, как другие офицеры поступают. И будешь ты, Кудинов, уважать меня», — мстительно думал он. Кудинов чем-то зашуршал в темноте. Очевидно, полез в карман за куревом. А насчет наблюдения вслепую разведчик смеется над Алешей. Нельзя тут ничего определить, когда не видно ни ориентира, ни цели. Алеша приподнялся на локте, затем сел и осторожно потянулся к амбразуре, стремясь не опрокинуть стереотрубу. Луна скрылась в туче, и помрачнела степь. Если бы сейчас встать и пойти вперед, к нейтральной полосе и немецким окопам… Наверное, так никто бы и не заметил, и можно было бы подкараулить «языка», и приволочь его в штаб дивизии. И тогда Кудинов совсем по-другому посмотрел бы на Алешу. Вот, мол, какой он, наш лейтенант. Но Алеша — артиллерист, ему этого нельзя. Только разведчики за «языками» ходят. — А минные поля поставлены, Кудинов? — Есть. Уже подорвалось двое фрицев на нашем поле, — с живостью ответил тот. — Без мин тут никак нельзя. Внезапно над степью взлетела ракета. Ее зеленый, яркий свет вырвал из темноты напряженное лицо Кудинова, слегка приоткрыл бархатный занавес ночи. Алеша успел рассмотреть впереди смутные очертания высоты метрах в пятистах. По гребню высоты проходил передний край противника. Об этом еще вечером рассказал Кудинов, когда они шли на НП. Ракета сгорела, как спичка. Она даже не долетела до земли. И снова наступил мрак. И словно боясь темени, немцы повесили над своими окопами еще три зеленые звездочки. Когда и они погасли, куда-то к облакам вдруг потянулись туго натянутые струны трассирующих пуль. Но это уже несколько правее. — Черт те знает что, — проворчал Кудинов, закручивая цигарку. — Не спится фрицам. Совесть нечистая, оттого и сна нету. Слышишь, товарищ лейтенант, лопата стучит? Пушку окапывают паскудники в том самом месте. Алеша прислушался. Действительно, что-то скрежетало. Но почему именно лопата? Или Кудинов снова разыгрывает, или нужно иметь невероятный фронтовой опыт, чтобы вот так ориентироваться. Алеше нужно бы выспаться. Завтра может прийти на пункт сам Бабенко, на целый день. И у Алеши должен быть бравый, свежий вид, как положено. «А почему именно — бравый? Война есть война», — тут же подумал он, поправил в изголовье шинель и, повернувшись лицом к стене, лег. — Услышишь, что идет начальство, разбуди. Толкни в бок, я сплю чутко, — наказал Кудинову. — Начальство больше с вечера приходит, чтобы к утру смыться. А утром Тихомиров и Камов явятся. Жратву принесут. Сколько времени сейчас, а? — Не знаю, Кудинов. — Пожалуй, часа три, а то и четыре. Скоро Ганс термосами зазвякает. — Это что же за Ганс? — спросил через плечо Алеша. — Повар есть такой у фашистов. Ганс Фогель. Птица, значит, ему фамилия, ежели на русский перевести. — Врешь ты, Кудинов! — вырвалось у Алеши, но он тут же поправился. — Побасенки рассказываешь. — Чудной ты человек, лейтенант. Право-слово, чудной. И то надо принять во внимание, что про фрицев ты только наслышан. Про войну по газетам знаешь. Есть у них повар Ганс Фогель. — Да ты не считай меня за простака, — сердито проговорил Алеша. — Кое-что и я понимаю… Кудинов ничего не ответил. Он слушал ночь. Потом часто зачмокал губами, раскуривая самокрутку, спрятанную в рукаве шинели. И только начмокавшись вдоволь, подал голос: — У этого Ганса наши дивизионные разведчики помощника стибрили. Он все и объяснил. И застучит термосами точно он. — А до меня у вас командир обстрелянный был? Фронтовик? — вдруг спросил Алеша. — Ага. — И ему — прямо в лоб? — Точно. Шальная, должно быть. Маскировка у нас — первый сорт. Все вокруг перепахал снарядами, а нас пока не трогает. Алеша хотел уснуть. Он старался выбросить из головы все мысли. И уже почувствовал, как усталость смаривает его, но Кудинов заговорил снова: — Вот ты, товарищ лейтенант, с тыла приехал… Значит, как там жизнь? Видел же, как гражданские живут. — Видел. Для победы работают… Орудия, снаряды делают, — сказал Алеша, поймав себя на мысли, что почти ничего не знает о жизни тыла. Больше года он не говорил со штатскими, жил в военных городках, редко получал письма из дома. Но дома была нужда и до войны, и отец работал все там же. — Ездят люди по стране. Больше на восток едут, — добавил Алеша. Это вспомнилась ему весна сорок второго, когда он с новобранцами ехал в Сибирь. В том медлительном, как черепаха, поезде было много эвакуированных, которые, попав поначалу в Среднюю Азию, почему-то не прижились там. А то на ходу меняли маршруты, если слышали, что в Сибири и с жильем лучше, и с работой. Кудинов ничего больше не спрашивал. Но Алеша теперь был во власти воспоминаний. Перед ним была, как живая, — хрупкая, кареглазая — глаза большие, что сливы, — девушка Роза. В вагоне было тесно и душно. А Роза вместе с Алешей лезла на крышу вагона, где она, обхватив тонкими руками вентиляционную трубу, подолгу слушала стихи:20
Если с передового НП был виден сравнительно узкий участок фронта, то с командного пункта подполковника Бабенко, находившегося в тылах дивизии, открывалась широкая панорама всхолмленной, изрытой бомбами и снарядами степи. Командный пункт был оборудован на высоте, с которой далеко просматривалась и немецкая прифронтовая полоса. В начале лета Бабенко днями просиживал на своем КП. Отсюда он разговаривал по телефону с командирами полков, батальонов и дивизионов, здесь вместе со своим штабом разрабатывал систему огневой поддержки пехоты. А это значило, что офицерам штабной батареи некогда было вздохнуть. Усач был придирчив и давал выговор за малейшую оплошность. У Алеши по спине пробегал холодок, когда Бабенко сердито рвал ус и рычал: — Бр-росьте вы мне! На первых порах Бабенко неплохо относился к Алеше. Даже как-то похвалил мимоходом, правда, очень сдержанно, за случай с Орликом. Алеша очень гордился этой похвалой, тем более, когда узнал, что Бабенко в гражданскую служил под началом самого Буденного. А кто с Буденным бывал, тот толк в лошадях понимает и оценит кавалериста сразу. Разумеется, тогда Бабенко был рядовым конником, но имел большие заслуги, раз у него, говорят, два ордена, еще за те давние бои. Бабенко был высок, широкоплеч, косматые брови дугой и острые глаза. Лицо броское, запоминающееся. Даже симпатичное. Но это лишь до поры до времени, до того самого: — Бр-росьте вы мне! А эту фразу кинул он в Алешу прямо-таки ни за что. И Алеша недоумевал, с чего бы вдруг свирепеть Бабенко, пока Денисенков не открыл Алеше причину перемены в настроении подполковника. А случилось вот что. Как-то наступила очередь Алеши дежурить по штабу артиллерии дивизии. Весь день он провел на КП и до этого не спал ночь, но отдохнуть перед дежурством ему не удалось. Знавший, что Алеша порядком устал, комбат Денисенков сказал ему: — Возьми кого-нибудь из разведчиков. Будете дежурить попеременке. Однако никто из ребят Алеше не подвернулся, и он решил идти в штаб один. Когда штабные разойдутся, можно и подремать неподалеку от телефона. Штаб помещался в длинной приземистой хате, которая спряталась за кустами терновника и купами верб. Когда Алеша уже подходил к штабу, послышалось нарастающее бульканье снарядов. Алеша с ходу припал к земле всем телом, словно хотел вжаться в нее, исчезнуть. Страх остро кольнул в сердце. Тяжелый снаряд рванул за конюшнями, метрах в ста от места, где лежал Алеша. Но показалось, что это совсем близко, что перед самыми глазами ударил огненный фонтан разрыва. Лишь немного погодя он понял: было уже темно, а темнота, как известно, сильно скрадывает расстояние. Вскакивая на ноги, Алеша огляделся. Его поклона снаряду, к счастью, никто не видел. Бывалые фронтовики ведь не бросятся наземь без крайней нужды и всегда смеются над пугливыми новичками. А черт ее знает, когда эта нужда крайняя, к этому тоже нужно приноровиться, как Кудинов к ночным шумам. Второй снаряд упал поближе к хате, и Алеша снова рванулся к земле. А теперь всё правильно. Когда же третий снаряд разорвался значительно правее и дальше первого, Алеша сообразил, что страшиться уже нечего. По всем законам пристрелки, немцы не должны захватить в радиус обстрела единственную улицу деревеньки. Вздохнув с облегчением, Алеша стряхнул ладонью пыль с брюк и гимнастерки. Но уже следующий снаряд опять заставил его вздрогнуть, хотя Алеша и сознавал, что опасности для него нет никакой. Невольно подумалось: «Вот ведь как! Головой понимаешь одно, а инстинкт диктует другое. К земле он жмет человека. И, в общем-то, это, наверное, правильно, иначе жертв было бы куда больше. И к смертельной опасности можно как-то привыкнуть, а инстинкт всегда настороже. Ему, словно часовому, никак нельзя дремать». Окна хаты были плотно закрыты темными от времени ставнями. Света не было видно, и Алеша решил, что в штабе нет никого. Но в сенях он столкнулся с Бабенко, который куда-то спешил и не ответил на приветствие. Когда Алеша вошел в хату, в прихожей он увидел машинистку Наташу. Она стрекотала на громоздкой пишущей машинке. А в горнице, склонившись над бумагами, запустив руки в русые вихры, сидел старший лейтенант, помощник начальника штаба по оперативной работе. Взглянув на Алешу, Наташа потупилась и принялась растирать свои тонкие, красивые пальцы, затем вдруг снова часто застучала ими по клавишам. Алеша присел на скрипучую табуретку у самого порога, поправил на гимнастерке ремень с пистолетом и стал украдкой разглядывать Наташу. Она сидела за машинкой, как королева на троне. Впрочем, королев, иначе как в кино, Алеша не видел. А те, что в кино, были ничем не лучше, а даже хуже, и много хуже, Наташи. Одни Наташины голубые глаза чего стоили! Чистые-чистые, как родничок. А лицо матовое с чуть заметным румянцем на щеках. Очень уж красивая она, и откуда только взялась такая! Он смотрел на нее украдкой, а она не отрывала глаз от какой-то бумажки и от машинки. Потом Наташа собрала у себя на столике и отнесла старшему лейтенанту испещренные цифрами и значками листы. Он просмотрел их и согласно кивнул. — Мне можно отдохнуть? — спросила она. — Да, — старший лейтенант поднял свою светловолосую голову и тут только заметил Алешу. — Дежурный? Проводи-ка, лейтенант, вот ее. Я пока здесь побуду. Но долго не задерживайся. При пляшущем свете керосиновой лампы было видно, как Наташино лицо вспыхнуло, и она, чтобы побороть смущение, довольно бойко бросила: — У меня нет привычки подолгу задерживать дежурных. Когда Алеша и Наташа вышли на улицу, было тихо, прохладно, звездно. Наташа шла впереди, но Алеша вскоре поравнялся с нею. Она молчала. Он почувствовал неловкость и заговорил первым. — Вы давно на фронте? — спросил, облизывая горькие от полынной пыли губы. — Больше года, — поспешно ответила она и круто повернулась к Алеше. — И все машинисткой? — И шифровальщицей работала в штабе армии. — Наверное, это сложно? — Шифровка? Для кого как. Для меня вроде не очень… Алеше было приятно идти рядом с этой красивой, хрупкой девушкой. Он чувствовал себя сильным, готовым защитить ее, если понадобится. — А вы сами откуда? — спросил он. — Из Москвы. Там родилась, там училась, все там. И только война забросила сюда, — проговорила она, останавливаясь возле обшарпанной снаружи, крытой соломой хатки. — Вот мы и пришли. А почему мы на «вы»? Давайте на «ты». Договорились? — Конечно, — радостно откликнулся он. — Меня зовут Наташей, а тебя Алексеем. Я знаю, что Алексеем, — она подвинулась к нему и своими длинными, тонкими пальцами прошлась, как по клавишам, по пуговицам его гимнастерки. Он вдруг взял ее руки, прохладные, нежные, и слегка пожал их, собираясь уйти. Она поняла это его желание и торопливо проговорила: — Подожди немного. Он еще будет сидеть в штабе. Он всегда сидит подолгу… Алеша не знал, что ей сказать. Он был рад тому, что Наташа не отпускает его. Значит, ей хорошо с ним. Если бы можно было крепко обнять ее сейчас! Хотя бы на одно мгновение! Но он почему-то боялся девушек. Он всегда боялся их. И пусть советовал Косте обнимать и целовать Владу, сам он не сделал бы этого никогда, ни с одной девушкой. Может, со временем он насмелится, но не сейчас, не сию минуту. Это выше его сил. — Кто-то идет, — сказала она и снова подвинулась к нему. Алеша оглянулся и увидел, что к ним подходил невысокий боец в плащ-палатке. Походка его показалась Алеше знакомой. Он шел, по-утиному переваливаясь. Не спеша прошел мимо, зыркнув в сторону маленькими острыми глазами. Это был Кудинов. Алеша хотел окликнуть его, но сдержался. Конечно, ему было лестно показать, что он вот так, запросто, с девушкой. Но Кудинов мог подумать, что Алеша хвастается. Пусть идет себе. Все равно он узнал Алешу. — А ты смерти не боишься? — вскинула голову Наташа. — Как все, так и я, — уклончиво ответил Алеша и тут же перехватил инициативу в разговоре. — А ты? — Тоже, как все. Но я еще не очень боюсь. Больше за меня боятся папа с мамой. Они меня никак на фронт не пускали, и сейчас они думают, что я далеко-далеко в тылу. Они у меня очень доверчивые, — звонко рассмеялась она. — А у тебя как? Тоже, наверное, боятся. — У меня нет матери, — грустно выдохнул Алеша, поймал и снова пожал ее руку. — До свидания, Наташа. А то попадет мне. — Ну ладно, трусишка. Иди, — шепотом проговорила она и добавила погромче. — Послезавтра кино обещают. Про Сталинград. Он вышел на середину улицы и зашагал к штабу. Хотелось петь и кричать на всю деревушку о переполнявшем его чувстве. Ему казалось, что ничего похожего никогда с ним не было. Наташа, милая, родная Наташа, как хорошо, что ты живешь, что тебя отыскал я на земле. В памяти всплыл образ отца. Алеша гордился им, считал, что отец в своей жизни чаще всего поступал правильно. И это было тоже правильно, что он советовал Алеше идти добровольцем на войну. Но вот у Наташи родители беспокоятся за дочь. И у Алеши бы мать беспокоилась, а отец? Отец — другое дело, он мужественный человек, он может внешне не показать, как ему больно. А плохо жить без матери. И не только ребенку, а и взрослому. Впрочем, взрослому еще хуже. Смерть матери ворует у людей ничем не восполнимую ласку и любовь. Алеша вздремнул только перед утром. Спал всего какой-нибудь час, потому что пришлось бежать на квартиру за подполковником Бабенко: его вызывало к телефону фронтовое начальство. Несмотря на свои пятьдесят, подполковник пулей прилетел в штаб. Захлебываясь папиросным дымом, доложил обстановку и, в свою очередь, что-то пометил на карте. Затем, повесив трубку аппарата, внимательно выслушал Алешин доклад о том, что ночь прошла в общем-то благополучно, и махнул рукой: — Добре. А вечером того же дня они встретились на КП. Бабенко потребовал схему огней на стыке дивизии с правым соседом. Алеша стал доставать ее из своей полевой сумки. Может, несколько замешкался, а может, наоборот, поторопился — этого никто не понял, но подполковник свирепо сверкнул глазами в его сторону: — Бр-россьте вы мне! — и дернул ус. Алеша подал схему огней, но смотреть ее Бабенко не стал. Он посопел с полчаса у стереотрубы, приказал внимательнее следить за Глубокой балкой. И ушел, багровый от напряжения, сердитый. Комбат Денисенков, который был на КП в это время, проводил Бабенко по ходу сообщения до ведущего в тыл оврага, вернулся в блиндаж и сказал Алеше: — Это тебе за вчерашнее. Не гуляй с Наташкой. Понял? — и озорно улыбнулся.21
С КП Алеша шел оврагом, продираясь сквозь колючие сплетения терна и шиповника. И нужно же было природе создать здесь такой заслон! Куда ни сунешься — везде натыкаешься на острые шипы, которые цепляются за одежду, до крови царапают руки. В сумерках тропки не видно, и пришлось идти в деревеньку прямиком. Он шел не спеша, и его догнали разведчики Кудинов и Камов. Покуривая на ходу, они вели негромкий разговор. А увидели своего командира — примолкли. «Обо мне говорили», — подумал Алеша, неприязненно поглядывая на Кудинова. Ведь это он, Кудинов, рассказал всем о том, что видел его с Наташей. Не утерпел… Однако зачем Алеше сердиться? Не он ли сам хотел, чтобы Кудинов узнал его тогда? Обижаться надо на Наташу да на ее усатого ухажера Бабенко. Не знает она цены себе, дура! И все-таки Кудинов виноват. Его никто не тянул за язык, и ему было хорошо известно, что подполковник волочится за Наташей. Тоже буденновец, орденоносец!.. И чего Кудинову нужно от Алеши? Неприятный тип. Кудинов поймал на себе косой взгляд Алеши и погрустнел. Он ждал, что Алеша заговорит первым, станет его упрекать, но тот молчал. И когда они выбрались из оврага и пошли утоптанной дорожкой, Кудинов пристроился сбоку к Алеше и заговорил сам: — Я ведь не думал, что оно так обернется. И я сказал только Тихомирову и Денисенкову, они двое на КП были. Надеялся, значит, что посмеемся немножко и тем дело кончится… — Чего оправдываешься, Кудинов! Тебя ведь никто не обвиняет, — оборвал его Алеша. — Да я не оправдываюсь, товарищ лейтенант… — Ладно тебе, Кудинов, — резко сказал Камов. — Тебе лишь бы поржать, а ржанье твое людям боком выходит. Но он, товарищ лейтенант, ничего не говорил подполковнику. Батька про все это узнал каким-то другим образом… Да вы не бойтесь подполковника, отходчивый он. А на девку плюньте. Из-за нее уже страдал Денисенков. Тоже вот так нажимал на него батька. Да и не один Денисенков. Выходит, любит батька Наташку-то, будь она проклята. — Довольно об этом! — Алеша с силой рубанул рукою воздух. — Не хочу ничего слышать о ней. Меня ведь послал проводить ее помощник начальника штаба, этот белобрысый… — Конечно. И ни к чему она тебе. Разве мы не соображаем, — согласился Кудинов. — Она сама липнет, как репей. Разумеется, Кудинов прав. Наташа заговорила с Тихомировым о нем, Алеше. Сама дала повод. А если она всерьез полюбила Алешу? И теперь порвет с Бабенко? Что ж, это может быть. Алеша же нисколько не боится подполковника, и если нужно… Да ничего ему не нужно, Алеше, от них, от Бабенко и его любовницы! У Алеши есть чудесная Мара, она ждет его. Со стороны деревеньки потянуло дымком и запахами горячей пищи. Разведчики ускорили шаг, чтобы успеть поужинать до начала киносеанса. Дивизии обещали первое кино за те несколько месяцев, которые она провела в наступлении и обороне. Кино началось около полуночи. В вишневом саду рядом с хатой комендантского взвода собралось столько красноармейцев, что негде было ни сесть, ни встать. Но, несмотря на это, с началом сеанса киномеханик не спешил. Кто-то приказал ему ждать прихода большого начальства с передовой. А начальство, видимо, не очень торопилось. — Давай, друг! Вали! — кричали киномеханику. — Эдак мы уснем тут, ожидаючи… И спали. Рядом с Алешей, положив чубатую голову на плечо соседа, храпел немолодой боец. Умаялся за день, бедняга! А несколько дальше вповалку лежали на земле целой группой. Много курили. Густой дым в ярком свете луны голубым холодным пламенем поднимался над садом и таял в вышине. То в одном, то в другом месте возникал и вскоре затухал разнокалиберный говорок. О чем только ни беседовали красноармейцы, и больше всего не о войне и доме, а о табаке и каше. Боец, он мудр, он не станет травить попусту свое сердце. Ведь сколько ни толкуй о победе над фашистом, ближе она не будет, если не ходить в атаки, не гнать его с родной земли. А фронт стоял, стоял с самой зимы. Алеша глазами искал Наташу. Очевидно, ее не было. А может, объяснилась с Бабенко и теперь прячется от Алеши. Вот дура-то! Если уж хочет любиться с этим стариком, пусть себе любится на здоровье. Чего ей стесняться Алеши, который только один раз и поговорил с нею. А если ей дорог Алеша, то нечего и смотреть на Бабенко. Что он ей, отец родной, что ли? В общем, дуреха, дуреха ты, Наташа! Кино началось с залпа орудий и разрывов. И кто-то сразу же заметил разочарованно: — Это нам в девках надоело!.. — Разве этого мы ждали… Им возразил звонкий, задиристый голосок: — А вы чего хотели? Может, про любовь? — Хотя бы и про любовь. Помаленьку красноармейцы стали отползать в сторону и расходиться. Наверное, тем, кто в тылу, и интересно это, а фронтовикам все давно осточертело. Многие уже два года смотрят такое представление, провались оно пропадом. Им бы про любовь да про мирную жизнь!.. Ушел и Алеша. Он пошел не в хату, где помещался его взвод, а прямо на КП. Ночью, чтобы не путаться в колючих кустах, решил обойти овраг стороной. Дважды его окликали часовые, он называл пароль и шел дальше. На КП закурил из кисета Тихомирова крепчайшего табаку, который фронтовики называли «смертью фашистским захватчикам». Офицерам давали обыкновенный трубочный табак, он в противовес «смерти» считался легким. А «смерть» огнем полыхала в груди. Непривычного к этому табаку Алешу забило кашлем, на что Тихомиров хихикнул: — Слабак ты, лейтенант. Алеша еще кашлянул несколько раз и вдруг спросил: — Ну, а кроме Бабенко, она с кем-нибудь бывала? — Наташка-то? Нет. Да ты что! — Так, может, она любит его, а? — А с бабами чего только не бывает. У меня в Ростове такая баба была… — Выпить бы, — скорее себе, чем Тихомирову, сказал Алеша. — Ты пьешь, лейтенант? — удивился помкомвзвода. — Тогда жалко, что нечего выпить. Чего нет, того нет. Надо в Луганск ехать. — Я сейчас лягу. Устал что-то. — Спи, товарищ лейтенант. Ты же целый день у стереотрубы проторчал. Две новых цели засекли! Это же что-нибудь да значит. Спи, а про Наташку забудь. Не стоит она настоящего чувства. — Да? — Я баб насквозь вижу. С первого взгляда. Ночь прошла спокойно. Спал Алеша крепко, так крепко, что никаких снов не видел, а проснулся — высоко в чистом небе плыло раскаленное добела солнце.Алешу вызвали к подполковнику Бабенко. Очевидно, для какого-то важного разговора. Это понял он по интонации, с которой говорил с ним по телефону начальник штаба: — Товарищ лейтенант, явитесь немедленно. Ругать Алешу вроде бы не за что. Может, какая беда стряслась в расположении взвода? Но Кудинов, который ночевал в деревне, предупредил бы Алешу. Впрочем, придраться можно ко всему, особенно, если хочешь этого. А подполковник сердит на Алешу. Ну и пусть. Станет придираться, так Алеша найдет, что сказать. Не полезет в карман за словом. У штаба, на улице Алешу встретила Наташа. Она ждала, его здесь, чтобы что-то сообщить ему. Оправдываться будет, а зачем? Ведь между ними ничего не было. И хорошо, что так. Он взглянул на нее и увидел, что у Наташи очень красивая белая шея. Как у мальчишек, коротко остриженная голова. А под гимнастеркой круглились маленькие груди. Да, Алеше все нравилось в ней, все волновало его. Наташа опустила взгляд и прошептала: — Не могла я вчера прийти. Печатала. И он услышал в ее голосе сознание вины перед ним. Извиняется, а к чему? Не все ли равно, почему она не пришла. И Алеше вдруг очень захотелось сказать Наташе обидное про нее и про Бабенко, но он только сердито сдвинул брови и, тяжело вздохнув, пошел в хату. После ярого зноя Алешу опахнуло холодком. «Так было в жару в беседке у Кости», — подумалось ему, и тут же это воспоминание отлетело. В горнице за столом, на котором лежало множество топографических карт, сидели все офицеры штаба и комбат Денисенков. Они не заметили, как подошел Алеша, и он напомнил о себе: — Товарищ подполковник, разрешите? По вашему приказанию лейтенант Колобов явился. Все невольно повернулись к нему. Бабенко оценивающим взглядом смерил его с ног до головы. Встал и пододвинул к себе какие-то бумаги, полистал их. Потом заговорил неторопливо, как бы нехотя: — Сегодня наша пехота силою до батальона будет вести разведку боем. Она сосредоточивается для атаки вот в этой балке, что выходит к высоте семьдесят два и пять десятых. Наша задача: подавить огнем артиллерию противника — цели двадцать четыре, восемнадцать, двадцать два. Подготовить данные для артналета пятой батареей. Позиция у нее выгодная. Ясно? — Так точно, товарищ подполковник, — четко, не без волнения, проговорил Алеша. Он понимал, что наконец-то начинается настоящее дело. Ни мы, ни немцы с самой зимы почти не вели орудийной стрельбы на этом участке, чтобы не выдать своих огневых позиций. Только время от времени вступали в поединок минометы да иногда давала несколько выстрелов легкая пушка, стреляла и тут же сматывала удочки. А это залпы целой батареей. Можно сказать, артнаступление. Разогнать дремоту фашистам — и то уже хорошо. — Командир артполка получил приказ о поддержке пехоты. Я свяжусь с комбатом пятой. А вы, лейтенант, отправляйтесь на эту батарею. Готовьте вместе с ними данные, чтобы накрыть цели максимум со второго снаряда? Ясно? — Так точно, товарищ подполковник. — О времени артналета сообщим. Идите. Пятая батарея, куда шел Алеша, находилась, действительно, в очень выгодном положении. Она была скрыта от противника холмами, и засечь ее немцам было бы не так легко. Выследить наших артиллеристов, если они поведут огонь, могла разве что «рама». Алеша спешил. Это было первое по-настоящему боевое задание. Пусть даже репетиция наступления, но серьезная, по всем правилам, ибо от нее многое зависит в будущем. Не год же нашим войскам топтаться на одном месте! В низине, где у ручейка толпились бурые от пыли вербы (сюда часто били немцы из минометов), Алеша догнал уныло шагавшую к передовой пехоту. Красноармейцы были со скатками шинелей на плечах, некоторые несли в руках каски. Небритые, усталые лица говорили о том, что пехоте пришлось отмерить не один десяток километров. А по тому, как бойцы чутко прислушивались к каждому выстрелу на передовой, Алеша понял, что они еще не обстреляны. И поймал себя на мысли, что он себя считает уже бывалым фронтовиком. Конечно, кое-что испытал на собственной шкуре. И под бомбежками был, и под огнем орудий и минометов. Старший на батарее лейтенант Кенжебаев, широкоскулый, коренастый казах, уже знал о приказе. У него задорно поблескивали раскосые черные глаза. — Цели накроем без пристрелки, — уверенно сказал он, разглядывая раскинутую на земле карту. — У нас пристреляны ориентиры. Довернем сколько надо и карашо. Стало темнеть, когда на батарею позвонил сам Бабенко. Он предупредил Алешу, что сигнал к артналету будет дан примерно через полчаса. Если немцы станут огрызаться и попытаются подавить пятую батарею, то вступят в бой наши тяжелые орудия. — Во всяком случае, не щелкайте больше двадцати орехов, — заключил он. Этот нехитрый шифр Алеше был известен. Начало атаки батальона на батарее определили без сигнала. Прежде, чем взлететь ввысь двум красным ракетам, бешено застучали пулеметы, степенно закрякали мины. Орудия батареи были загодя наведены каждое на свою цель. И застывший у телефона пожилой усатый солдат передал лишь короткий приказ комбата: — Батареей пять снарядов беглый огонь! — Первое — готово! — Второе — готово!.. Кенжебаев охватил быстрым взглядом все четыре орудия с приникшими к ним расчетами и звонко выкрикнул: — Огонь! И, сотрясая землю и воздух, батарея ударила по противнику. Только пыль взвилась над нею облаком. И зазвенело в ушах. Грохот продолжался какие-то секунды, и вдруг все смолкло. Лишь вдали, за холмом, еще слышались разрывы наших снарядов. — Отбой! — крикнул телефонист, размахивая телефонной трубкой. — Отбой! — повторил Кенжебаев. — Замаскировать орудия. Задача была выполнена. Артиллеристы поддержали пехоту «огоньком». Алеша мог идти сейчас в деревню или на КП. Он подал руку Кенжебаеву, но тот решительно отстранил ее. — Куда пойдешь ночью? К немцу попадешь. У нас отдыхай, а утром пойдешь, — сказал Кенжебаев и пригласил Алешу в свою землянку. Поужинали тушенкой с макаронами. Стройный, жилистый старшина батареи принес неполную бутылку, разлил водку по кружкам. — За победу, — весело провозгласил он. — Сегодня, значит, немножко пощупали фрица… Алеша выпил водку залпом и почувствовал, как по телу разливается тепло. Теперь можно и поспать. Алеша, откинув голову к прохладной стене землянки, закрыл глаза. В эту минуту снаружи послышалось какое-то странное бульканье, словно в котле закипала вода. И что-то звонко лопнуло, и не то град, не то ливень пробежал по земле.. — Шрапнель! — крикнул Кенжебаев. — Пристреливается, шайтан! — и первым выскочил из землянки. Алеша и старшина поспешили за ним. Ведь если немцы начнут бить фугасными или осколочными снарядами, в землянке с ее легким перекрытием не спастись. Они увидели сизое облачко в темном небе, прямо над собою. Было тихо, и облачко стояло неподвижно примерно на высоте ста метров. Ясно, что противник засек батарею по зареву выстрелов. — Вот шайтан, — закачал головой Кенжебаев. В его раскосых глазах не было страха, скорее в них жило сейчас искреннее удивление. Казалось, батарея спрятана за холмами надежно, и вот такой сюрприз! Бойцы тоже понимали, что значила прилетевшая к ним шрапнель, и не теряли времени понапрасну, прыгали в ровики и ходы сообщения. Удар по батарее мог быть нешуточным. Здорово психует фриц, когда его потревожишь! Вторая шрапнель разорвалась чуть поближе к передовой, а следом за ней просвистели и потрясли землю почти разом грохнувшие снаряды. Над головами запели осколки. В окопы ударило пылью и кислым, противным запахом взрывчатки. Алеша высунул голову из окопа и огляделся. Всего в каких-нибудь двух метрах дымилась воронка, а за ней еще три, почти в строгом шахматном порядке. «Сейчас может залепить прямо в окоп», — подумал Алеша, прислушиваясь к вою снарядов. Разрывы. Пыль и удушливый дым. Все-таки нужно было уйти в деревню. Но кто знал, что случится такое?.. Окопы вырыты коленами, и Алеша лежал в одном из колен. Рядом с ним никого не было. Он знал, что налет будет продолжаться долго, потому что немец вел стрельбу по площадям. Это стрельба, где действует точный расчет на полное уничтожение техники и людей. Если немцу удастся выполнить свой замысел, здесь останутся лишь куски земли и железа. Алеша считал до пяти и слушал, как снова летели снаряды. Вражеская батарея била методически: через каждые пять секунд — залп. Довольно часто. И снаряды ложились у самого окопа. Голову сверлила одна мысль: «Бессмертны только боги. А люди, создавшие их, умирают». Залп. Пять секунд. Залп. Пять секунд… Точность-то какая у фрицев! Работают аккуратно. Война ведь тоже работа, тяжелая, страшная работа. «Бессмертны только боги…» Оглушенный Алеша шел в деревню. Ноги не слушались его. Навстречу ему попадались связисты, которые тянули к батарее жилы новых проводов, взамен перебитых. Они что-то спрашивали, но Алеша только махал рукой, махал безнадежно, слабо. Потом он увидел санитаров. Эти чуть ли не бегом неслись к артиллеристам. Уходя с батареи, Алеша видел, как из разбитых окопов вылезали чумазые, испачканные кровью бойцы. В живых остались и Кенжебаев, и старшина. У протекавшего между верб ручейка Алеша остановился. Зачерпнул в ладоши воды и выпил. Снял гимнастерку, помылся до пояса. Стало вроде полегче, только в висках толчками ходила кровь да звенело в ушах. Это было боевое крещение. Теперь вряд ли кто-нибудь назовет его необстрелянным юнцом, вряд ли осмелится подтрунивать над ним тот же Кудинов. В течение двух часов с лишним немцы вели методический огонь. В окопах люди задыхались, лежали полузасыпанными. Случалось, что снаряд попадал в ровик, ставя точку над чьей-то судьбой. Все орудия были покарежены. Их стволы или завернуты назад, или совсем оторваны от станин, а щиты измяты и изрешечены осколками, словно это не сталь, а бумага. Два с лишним часа немцы безнаказанно обстреливали нашу батарею. И, наверное, вскоре они бы закончили артналет, так как снаряды стали падать в дальнем углу квадрата. На батарее уже облегченно вздохнули. Но вэто время по орудиям врага ударили наши гаубицы резерва Главного командования. Они стреляли откуда-то неподалеку. Тяжелые снаряды с грозным воем уходили в сторону фашистских позиций и рвались там яростно, озаряя ночь короткими голубыми вспышками. Тогда противник вдруг сменил методический огонь на беглый. Немецкие снаряды стали блуждать по полю, ложиться уже без системы, и окопы опять оказались в зоне обстрела. Это был еще более жестокий огненный смерч, который бушевал около получаса. Канонада с их и нашей стороны утихла лишь на рассвете. Она стихала постепенно: спесивым богам войны было нелегко смирить свой гнев. А пыль над окопами висела непроницаемым бурым облаком до самого восхода солнца. Алеша думал сейчас, что он счастливо отделался. Это ведь и называется везением. Фронтовым счастьем. Значит, ему еще жить. Алеша направился в штаб к Бабенко, зная, что его там ждут. Ему не терпелось обстоятельно доложить о вражеском артналете и понесенных нами потерях. Бабенко, оказывается, провел всю ночь на своем КП и видел трагедию пятой батареи. Это он вызвал на противника огонь тяжелых орудий резерва Главного командования. — А теперь, Колобов, о нашем с тобой промахе, — сказал Бабенко, расстилая на столе карту. — Немцы били по нас из ста пятидесяти пяти миллиметровых французских гаубиц примерно с расстояния двадцати километров, даже двадцати двух. Мы попробовали засечь батарею с двух пунктов по вспышкам выстрелов. И у нас ничего не получилось, как и неделю назад, помнишь? Алеша помнил случай, когда у него с Денисенковым не сошлись концы с концами в определении координат огневой позиции вражеской батареи, обстрелявшей командный пункт комдива. Вдруг обнаружилось, что данные засечки по первым выстрелам не совпадают с результатами контрольной засечки. Когда все это нанесли на карту, оказалось, что стреляли две, а то и три батареи. Разумеется, немцы не могли позволить себе такой роскоши, чтобы раскрывать дислокацию артиллерии. — И тут та же история вышла, вот почему и с ответным огнем опоздали, — Бабенко с силой дернул ус, поморщился. — Фашисты перехитрили нас. Они поставили пушки на платформы, и батарея быстро передвигалась с одного места на другое. Попробуй, возьми ее. И все же мы разгадали эту уловку и накрыли фрицев. А как я, старый дурак, не обратил внимания, что координаты засечек находятся на линии железной дороги! Я же на карту грешил да на измерительный взвод!.. Он был искренне раздосадован своей промашкой, считая себя виновным в том, что батарею врага не смогли подавить раньше. И в Алешином сердце шевельнулась жалость к этому немолодому, много пережившему человеку. — Иди, Колобов, отдыхай, — после некоторой паузы, довольно трудной для всех кто был в штабе, сказал Бабенко. — Надо будет — позову. Алеша не заметил, где находилась Наташа в это время. Но когда вышел из хаты, она окликнула его, улыбающаяся, счастливая: — Я верила, что все будет хорошо. Она до крови закусила губу, чтобы не расплакаться, и убежала. В этот день Алеша много думал о ней. Он ревновал Наташу к Бабенко. Но сказать ей об этом никак не мог. И еще Алеша думал о войне. В детстве она казалась ему интересной игрой, где красные всегда побеждали белых. Затем, он видел в ней возможность красивого самопожертвования. Он представлял себя в окружении врагов, стрелял в них, а последнюю пулю — себе. И говорили о подвиге Алеши в школе, и математик Иван Сидорович каялся перед всеми в поставленном Алеше «неуде», каялся, и слезы текли по его лицу с мощными надбровными дугами. И Алеша великодушно прощал его. Теперь он как бы поднимался над своим участием в войне, и с этой высоты видел ее извечную жестокость. Ему хотелось понять ее кровавые законы, узнать, где и в какой миг начинаются войны. Уж, конечно, не тогда, когда люди убивают друг друга. Это — финал войн, логическое завершение созревшего в чьих-то головах конфликта. Гитлер начал войну с нами уже своим приходом к власти и даже значительно раньше. А если так, то где же разум, который должен уничтожить войну в самом зародыше? Есть разум, но империалистам выгодно, чтобы миллионами гибли люди, и они заставляют молчать разум. Кому-то хорошо спится, когда гремят пушки. И это ужасно, это дико и преступно. Погибнуть в восемнадцать лет, никогда не увидеть больше ни неба, ни тяжелеющих плодами садов, ни дорогих тебе людей! Но на войне как на войне, кто-то должен умирать и может прийти Алешин черед. И тогда Алеша желал бы себе той самой мгновенной смерти, о которой поется в песне. И главное в бою — не струсить. Страх сразу хватает человека за горло и давит-давит. И совсем просто поддаться ему. Тогда все пропало. А Наташа беспокоилась об Алеше. Как она посмотрела на него у штаба! Хорошо бы встретиться с нею вечером, скажем. И прямо ей: выбирай — я или Бабенко! А что до его подполковничьего звания, то неизвестно еще, сколько и каких звезд будет на погонах у Алеши к пятидесяти-то годам. Да и не всем же быть военными! Может, Алеша артистом будет, вроде Вершинского. Или поэтом… Он постарается поскорее увидеть Наташу, решено…
На закате солнца, когда длинные тени расчертили улицу, отчего она стала похожей на опрокинутый штакетник, с КП прибежал Егор Кудинов. По озабоченному и несколько встревоженному его виду Алеша понял, что случилось нечто неожиданное. — Всех офицеров батареи и штаба подполковник вызывает на КП. Срочно, товарищ лейтенант, — выпалил Кудинов, намереваясь бежать дальше. — Постой. Что там? — остановил его Алеша. — Генерал из штаба армии, и с ним целый взвод начальства. У нашего батьки поджилки трясутся, — и Кудинов хмыкнул, сощурив хитрые глаза. «Чему радуется Егор? Это уж натура такая противная», — подумал Алеша, застегивая воротник гимнастерки. Солнце скатывалось за холмы, как большая, спелая дыня. В небе пламенели редкие облака, которые казались пылающими воздушными замками. Сейчас они сгорят, и останется лишь пепел. И в этом пепле ветер раздует только маленькие искорки — звезды. Алеша проходил по деревенской улице, отыскивая глазами то место, где он стоял с Наташей. Кажется, здесь, у двух тополей. Нет, это было немного подальше. Хата совсем низенькая, словно землянка. Наташа назвала его трусишкой. О, если б он знал об ее отношениях с Бабенко! Алеша бы полчаса, час простоял с девушкой, не подумав вернуться в штаб. На КП действительно было людно. Внимание всех было обращено на генерала, худощавого, высокого. А генерал смотрел в амбразуру на позиции наших и немецких войск. Вечером стереотрубу нельзя было использовать для наблюдений. По блеску ее стекол противник обнаружил бы наблюдательный пункт. Алеша видел только согнутую спину генерала. Из-под кителя острыми углами выпирали лопатки. А волосы у генерала седые, как осенняя паутина. — Это хорошо, что у выхода из Глубокой балки, в квадрате 19–24 у вас фронтальный НЗО. А почему нет ни одного флангового заградогня? — не повышая голоса, на одной ноте, спрашивал генерал. — На флангах у нас ПЗО, товарищ генерал, — оправдывался Бабенко, шелестя картой. — Вот здесь и здесь. Генерал хотел что-то сказать, но в это время ударили вражеские минометы. На передовой, у наших окопов поднялись огненные волны разрывов. Генерал всем корпусом подался к амбразуре, как бы стремясь разглядеть, причиняют ли мины урон нашей пехоте. — Батальонные минометы, — заметил Бабенко. Его слова словно успокоили генерала. Он аккуратно свернул и отдал Бабенко карту и повернулся к своей свите: — Я предлагаю пройти в штаб. Бабенко, только сейчас увидев подошедшего Денисенкова и Алешу, представил их генералу. И генерал одобрительно кивнул. Что-то в лице генерала показалось знакомым. Эту горбинку на тонком носу и эти широкие брови вроде бы он уже видел. Но где, где?.. Черт возьми, да это ж Чалкин-старший, комбриг, отец Петера! Только теперь у него нет усов и бороды. Вот здорово, что встретил его! Чалкин должен знать о Петере, а с Петером в одной части воюет Костя. Их вместе призвали тогда. Но как подойти к генералу? Его окружили плотным кольцом солидные полковники и повели в деревню. Попробуй пробиться. Да и можно ли без приказа уйти сейчас с КП? Наверное, для того и вызвал Алешу Бабенко, чтобы был офицер на пункте. Встреча с Чалкиным-старшим взволновала Алешу. Ему вспомнился тот день, когда всей компанией они ели малину в саду у Чалкиных, а Петер с Федей играли в шахматы. Не раздумывая больше, Алеша бросился вслед за командирами. Когда догнал шедшего последним Денисенкова, тот заговорил, даже не повернув головы в сторону Алеши. — Счастливчик ты, лейтенант. Ведь чуть не угробил тебя Бабенко. Чего тебе, разведчику, было делать в пятой батарее? Не понимаю, — сказал он, понизив голос до шепота. — Хватит разыгрывать, — обиделся Алеша. — Я серьезно, — ответил Денисенков, ускоряя шаг. «Городит какую-то ерунду», — подумалось Алеше. По пути в деревню подполковник Бабенко настоял, чтобы гости поужинали, а потом уже шли в штаб. В хате, где он жил, был накрыт стол. Денисенков шмыгнул в сени и тут же показался в дверях с ковшиком, полным воды, и куском туалетного мыла. Эх, прозевал Алеша случай! Впрочем, еще все поправимо… Едва Денисенков поравнялся с Алешей, тот шагнул к нему и буквально вырвал ковш. — Я полью генералу, — сказал Алеша. Когда Чалкин стал весело пофыркивать, радуясь освежавшей лицо воде, Алеша несколько осмелел и сказал: — А я вас знаю, товарищ генерал. Вы ведь тоже из Алма-Аты. С вашим Петей я учился… Чалкин выпрямился и большими, удивленными глазами стал разглядывать Алешу. И вдруг схватил его цепкой, сильной рукой за плечо: — С Петькой учился? — И, не дожидаясь ответа, обратился к полковникам. — Оказывается, лейтенант — дружок моего сына, — и снова к Алеше. — Фамилия твоя как? — Колобов, товарищ генерал. — А зовут? — Алексеем. — Ну, Алексей, теперь дай я тебе полью. И ужинать пойдем. Да ничего, ничего. Мойся, как следует. Подайте еще воды, — попросил генерал. Алеше было неудобно, что ему поливает Чалкин, но полковники посмеивались, и чувство неловкости стало проходить. — А помните, мы у вас малину ели? — вырвалось у Алеши. — Товарищи, да мы ведь вместе с Алексеем малину ели! — воскликнул Чалкин, бросая Алеше холщевое полотенце. — Теперь я припоминаю… Были в военкомате, а потом пришли к нам… И в шахматы играли… После ужина генерал вышел с Алешей во двор. Из садов тянуло прохладой. — Петьку-то на фронте не встречал? — спросил Чалкин грустным, расколотым голосом. — Нет, товарищ генерал. — И я не знаю, где он. Были они с Федей в одной части… А события надвигаются большие. Под Курском уже идут жестокие бои… Молчит Петька. И домой не пишет, стервец.
23
Опять коротко охнула тяжелая, окованная железом дверь, и Петера толкнули в мрачную пасть подвала. Непривыкшие к темноте глаза вначале ничего не могли различить. Но Петер знал, что справа стоит параша, а прямо — в каком-то метре от него — лежат на голых досках красноармейцы в грязных ржавых бинтах. Они ни за что не пустят к себе Петера, хотя рядом с ними мог бы поместиться еще один человек. Они считают Петера перебежчиком, предателем, потому что его третий раз вызывали на допрос и третий раз он возвращался в сознании, без синяков и ссадин. А Васьки не было, чтобы объяснить красноармейцам, как все произошло. Васька, раненный в грудь и руку осколками снаряда, лежал за колючей проволокой лагеря военнопленных. А лагерем назывался открытый участок поля. Ни строений, ни палаток. Вчера и Петер был там, но его вместе с двумя танкистами в черных шлемах увели вечером в дом коменданта. Танкистов допрашивали первыми и полумертвых выволокли в коридор, где ожидал своей участи Петер. На досках было не очень удобно, но куда лучше, чем на сырой земле в соседстве с парашей. Однако когда утром он сунулся к красноармейцам, один из них, бледный, с перевязанной головой и рассеченной губой, угрожающе произнес: — Не лезь. Задавим. Нам все одно не жить. Танкистов они, конечно, пустили бы к себе. Но тех, видно, эсэсовцы расстреляли, потому, что в лагерь с допросов никого не возвращали. Из комендантского дома пленные попадали или во власовскую РОА или на тот свет. Но чем провинился Петер? Он не перебежчик, он никого не предал. Разве можно обвинять человека в том, что он должен был пустить себе пулю в лоб и не сумел застрелиться, лег на землю. Хотел собраться с мыслями, до конца понять, причем не в бою, а от своей же собственной руки? Петер устал от допросов, ноги его не держали, и он прилег на землю. Хотел собраться с мыслями, до конца понять, что с ним произошло. Но это плохо ему удавалось. И он тер ладонью влажный лоб и восстанавливал эпизод за эпизодом. Когда Петер упал, а потом вскочил, ему показалось, что Гущин выстрелил в Ваську. Но тот или промазал, или стрелял по какой-то другой цели. Окажем, по тому же танку. Невероятно? Однако Петер знает теперь, что на войне бывает и не такое. Ваську ранил залетевший откуда-то снаряд. Скорее всего, это наши били по немецкому танку. Петер подполз к нему и перевязал его раны, иначе Васька еще там умер бы от потери крови. Васька просил пристрелить его, а самому Петеру уходить к нашим. Но разве можно убить или оставить друга! Они в той маленькой лощине ждали, что наши будут контратаковать, восстановят позиции. А если этого не случится, Петер рассчитывал перейти линию фронта, утащить с собой Ваську. Но, едва стемнело, по полю забегали немецкие автоматчики. Они подбирали своих и пристреливали наших. Петер испугался за себя и за Ваську. Умереть так бессмысленно… У Петера был автомат и можно было стрелять по врагу. Но это — неравный бой. Это наверняка значило обречь себя на смерть, и не только себя, но и Ваську. «Глупо, глупо погибнуть так», — упрямо твердил он самому себе. Когда немецкие автоматчики наткнулись на них, Петер закричал им: — Нас двое, только двое! Я и он!.. Он закричал. И звучала в его голосе такая, ни с чем не сравнимая жажда жизни, что автоматчики отступили перед ней. Один из немцев, тот, что был помоложе, сапогом ткнул Петера в спину: — Ауфштеен! Встать! Васька скрипел зубами. Васька не хотел плена. Он думал только об одном: поскорее бы кончилось все. И не понимал, зачем он такой нужен фашистам. Ведь даже пытать его долго они не смогут: он помрет. Потом, уже за колючей проволокой, в кругу таких же, как он, пленных, Петер жевал комсомольский билет. Жевал и выплевывал, как чахоточный выплевывает куски легких. И ему было страшно того, что он делал. Так он рвал со своим прошлым, но во имя чего? Что в будущем ожидало Петера? В любом случае, ничего хорошего. Если даже он убежит из лагеря и попадет к своим, то ему будет плохо. Его спросят, почему сдался на милость врага, и Петер ничем не оправдает себя. Когда танкистов вытащили в коридор, Петер облизнул губы и отвел взгляд от размазанной по полу крови. Сердце его сжималось от предчувствия чего-то ужасного, что должно произойти с ним в кабинете коменданта. Два дюжих эсэсовца подхватили Петера под руки и внесли в кабинет. Они умели это делать ловко и быстро. Они поставили Петера перед столом, за которым сидел гауптман в зеленой армейской форме. Гауптман с любопытством разглядывал Петера и улыбался такой доброй улыбкой, словно это не он только что с наслаждением терзал танкистов. За гауптманом, справа и слева от него, Петеру бросились в глаза зарешеченные окна. И на их фоне немец казался кровожадным пауком, подбирающимся к жертве. Вот сейчас, сию минуту он заработает челюстями. — Кто вы есть такой? — любезно спросил гауптман на довольно сносном русском языке. — Чалкин, Петр. Служил в пехоте. — Очень приятно, — гауптман в легком поклоне склонил голову. — Комсомолец? — И принялся приглаживать аккуратно подбритые виски. — Нет. — Это почему же? Разве можно быть в Советском Союзе не комсомольцем? — Не все же у нас комсомольцы, — дернул плечом Петер. — Вы говорите очень интересно. А как вы себя чувствуете? Хорошо ли с вами обращаются солдаты рейха?.. Я понимаю, мы не сумели построить для вас удобный дом, но что поделаешь? Война, пехота Чалкин. Вы не подавали заявление в комсомольцы? — Нет, не подавал. — Я рад поверить вам, но кто-то должен подтвердить ваши слова. Есть такие люди? — сощурившись, спросил гауптман. Петер подумал о Ваське. В лагере Васька больше молчал, как бы примирившись со своим положением. Конечно, он не станет предавать Петера. Ведь Петер остался возле Васьки и этим спас ему жизнь. — В лагере есть человек, который хорошо знает меня. Он вам скажет, почему я не подавал заявление в комсомол… — проговорил Петер, уносясь мыслью к отцу. Только отец может спасти его сейчас. Петеру нужно выжить, потом он убежит из плена, непременно убежит. — Вы говорите сами, почему не подавали заявление? А мы обязательно спросим тот человек. — Мой отец был арестован, сидел в тюрьме, — твердо сказал Петер, глядя прямо в изучающие его холодные глаза гауптмана. — Сидел в тюрьме? Интересно… А почему вы не добровольно перебежали к нам? Почему вы шли в бой? Убивали германский зольдат? На этом, по существу, и закончился первый допрос. Петер боялся, что его станут спрашивать обо всем, что составляет военную тайну. Он был готов запираться и лгать. А его не спросили даже, в какой дивизии или полку служил, не говоря уже о вооружении части. В подвале было холодно. Раненые красноармейцы стонали, бредили боями. И Петер, как ни старался, уснуть не мог. А рассвело — его снова повели в дом коменданта. Гауптман встретил Петера, как старого, доброго знакомого. Предложил сесть на стул. — Садитесь, Петя Чалкин. Вы плохо отдыхаль? Это есть жизненные противоречия. Марксизмус. Но есть другая книга — библия. В этой книге написано: живой собака лучше, чем мертвый лев… И мы просим вас сообщить о своем камрад, который будет давать свидетельство, — холеная рука гауптмана коснулась одного, потом другого виска. Готовый к этому вопросу, Петер ответил сразу: — Василий Панков. Он лежит раненый. В лагере. Между прочим, Панков тоже не комсомолец. Панкова судили, и он тоже сидел в тюрьме. — О, у вас хороший друг. Мы будем лечить его. Он сидел за политические преступления? — Гауптман встал, вышел из-за стола и принялся вышагивать по кабинету. Он ступал легко и пружинисто, как кошка. — Да, его судили за политику. Он хотел бежать за границу, — качнул головой Петер, настороженным взглядом следя за гауптманом. Был и третий допрос. Петера опять спрашивал гауптман о совсем незначительных вещах. А, выходя из кабинета, Петер увидел в коридоре носилки и на них — Ваську Панкова, серого лицом и, казалось, ко всему равнодушного. Но в метнувшихся навстречу Васькиных глазах Петер заметил осуждение. Или это только ему показалось?.. Петер лежал на земле, невольно слушая редкие и слабые звуки, которые доносились снаружи. Сейчас там, в доме коменданта, допрашивают Ваську. Только бы он не сорвался, Васька Панков, тогда и сам погибнет, и Петера не пощадят фашисты. Они ведь до поры, до времени такие добрые. — На хозяев гневаешься, Иуда? — заговорил кто-то на досках. — Не платят тебе за предательство? Ничего, уплатят. Петер молчал. И это злило красноармейцев. — Скорпион ты, крыса ты разнесчастная! Слова презрения сыпались на Петера, словно удары. От них шумело в голове и тошнило. За что они так, за что? Да разве можно ставить в вину человеку желание жить? Петер не дезертировал, не перебежал к немцам. Так за что же его презирать? По лестнице тяжело простучали чьи-то сапоги. Звякнул и проскрипел в замочной скважине ключ. На пороге вырос широкоплечий эсэсовец с направленным в подвал стволом автомата. — Чалкин, шнель! На этот раз в кабинете коменданта лагеря не было гауптмана. На его месте, нервно покусывая зубочистку, сидел лобастый штурмфюрер лет тридцати, в черной форме со свастикой на рукаве. Он приказал эсэсовцу выйти из комнаты и сказал Петеру на чистейшем русском языке: — Хватит морочить нам головы! Ты можешь спасти свою шкуру, если откроешь правду! Ты — шпион! — Нет, — улыбнулся Петер. — Ты будешь давать нам правдивые показания! — крикнул штурмфюрер и, подлетев к Петеру, с силой ударил его в подбородок. Петер упал, отлетев к стене. Острой болью обожгло спину. Видно, сорвал кожу. А в глазах мелькали желтые и зеленые мотыльки, которые слепили Петера. — Ты смеялся над нами! — штурмфюрер пнул его в живот, и когда Петер скорчился от невыносимой боли, раз и другой кулаком ударил в лицо. Петер почувствовал солоноватый привкус во рту. Кровь. Она окрасила ладошку, которой провел Петер по разбитым губам. — Ауфштеен! Петер, шатаясь, поднялся. И новый, страшный удар бросил его в беспамятство, где не было ни штурмфюрера, ни боли. Не было ничего. Очнулся Петер на холодных досках. Они заскрипели, заходили под ним, когда он, превозмогая боль, со спины повернулся на бок. Он кого-то задел локтем и тут только понял, что лежит рядом с красноармейцами. Они приняли в свою семью его, казалось, отвергнутого теперь уже всеми и навсегда. — Спасибо вам, — прошептал Петер. — Спасибо. — Молчи, отлеживайся. Ишь, для чего они берегли тебя, чтобы сразу, значит, разделать вот так… Изверги фашистские! Петер рассказал про себя и про Ваську. Как воевали, как попали в плен. Рассказал про гауптмана и про все допросы. Не сказал только о том, что отец сидел в тюрьме и что Петер вынужден был использовать его имя, чтобы спасти себя. — Нам конец, — говорили красноармейцы. — Мы собирались бежать из лагеря, да выдал нас один субчик. На немецкие марки позарился. Будешь жить — запомни и передай другим фамилию предателя: Яков Батурин, лизоблюд фашистский… Действительно, красноармейцев в тот же день погрузили на подводу и отвезли к месту казни. После «обработки» в комендантском доме они не могли сделать и шага. А Петера через двое суток снова вызвал к себе гауптман. — Штурмфюрер только что уверял меня, что вы есть комсомолец и шпион. Но я никак не согласился с ним — весело заговорил он. — Я поручаюсь за вас, и вы будете оправдать мое ручательство. А ваш друг лечится, ему делают перевязки. Вы довольны? — Да. — Но попытка обмана — и я сам повешу вас. Мне будет жалко, но таков закон войны, — гауптман достал из ящика стола мелок и написал на груди Петера римскую двойку. — А теперь — до свидания, пехота Чалкин. Петер вышел на крыльцо. Лил дождь. Повизгивая, бегали по двору эсэсовцы. С крыльца был виден лагерь военнопленных, открытый ненастью. Там мучились раненые, больные. Может, и Васька сейчас там. Не дождавшись конвоира, Петер побежал к подвалу один, по дороге разбрызгивая лужи. Вода попадала ему за шиворот гимнастерки и ознобом прокатывалась по спине. — Пехота Чалкин, вы не туда, — вдруг послышалось сзади. — Вам нужна вторая команда. Вы есть свободный человек, помогающий нам освобождать ваш милый папа. Гауптман стоял в проеме двери комендантского дома. С любопытством он следил за Петером и легонько поглаживал виски.24
Теперь, когда непосредственная опасность смерти миновала, Петер почувствовал себя увереннее. Немцев удалось провести. Они поверили в легенду о простодушном русском парне, отец которого обижен Советской властью. Легенда пришлась им по вкусу, она соответствовала их намерениям опереться в России на пятую колонну. Вторая команда как раз и состояла из перебежчиков. Конечно, были здесь и выродки, предатели, но были и такие, как Петер, кто попал в плен в силу рокового стечения обстоятельства. Если первых вербовали в полицаи и зондеркоманды, производившие экзекуции, то вторых преимущественно использовали на подсобных работах в воинских частях, некоторые шли во власовскую РОА в надежде бежать оттуда. Привилегированная община перебежчиков размещалась в двух хатах. Как-никак, а крыша над головой. Пищу ели они довольно сносную: хоть и не из солдатских кухонь, но и не из лагерной. По территории лагерного пункта перебежчики ходили без конвоя. Предатели гордились своим особым положением и лезли из кожи, чтобы угодить фашистам. Они шпионили за пленными и друг за другом, и, встречаясь тайком с эсэсовцами, нашептывали доносы. Одним из таких «идейных» был и предавший красноармейцев Яков Батурин. Плюгавый, лысеющий мужичок лет под сорок, он любил рассуждать о политике, называл Сталина «азиятом» и хвалил немцев за порядок. Но это только среди перебежчиков. А когда Батурина подсаживали к пленным, он притворялся патриотом и выуживал из них планы побегов. Дорого обходились красноармейцам доверительные беседы с ним. Едва Петер с проливного дождя вошел в хату, к нему танцующей походкой приблизился невзрачный на вид человек. Он потянул Петера за мокрый рукав, оттащил в угол и предупредил: — За воровство — бьем, за непослушание — снова в лагерь. Петер почувствовал, как в сердце поднимается враждебность. Эх, встретиться бы с тобою в бою, Яков Батурин! Но сейчас Петер только вздохнул и прошагал к нарам. Сейчас они — одного поля ягоды. Как ни измучен был Петер пережитыми волнениями, но в эту ночь он не мог уснуть. То ему в горячечных мыслях виделась далекая Алма-Ата, то он вспоминал отца, историка Федю, ребят. Все, наверное, считают Петера погибшим. А он жив, хотя по всем правилам должен был умереть рядом с Гущиным. Но Петер струсил. За это теперь и приходится рассчитываться унижениями, синяками, общиной предателей. Жив Петер, а для всех родных и друзей он мертвец и ничего уже не переиначишь. Если бы сказали Петеру еще месяц назад, что будет вот-так, он от души рассмеялся бы. Да как же можно, имея оружие, не выстрелить, а просить пощады? Можно, оказывается. Но он ли один виноват в том, что очутился в плену? Он вместе с Васькой нес в санчасть раненого Сему Ротштейна, выполнял приказ. Затем они искали свою роту, а она уже отступила. Но что делать теперь? Как жить дальше? Надо искать пути, чтобы любою ценой попасть к своим. Пусть отдают под трибунал, только бы не расстреляли.Утро выдалось ясное. Рваные тучи ушли за горизонт, очистив небо. Над всхолмленной степью поднималось солнце. Вот-вот оно должно было перейти линию фронта и покатиться в сторону Азовского моря. Солнцу не страшно, по нему не станут стрелять из пушек и пулеметов. Петер решил до завтрака навестить Ваську. Если верить гауптману, то Васька в лазарете, который должен быть где-то на другом конце хутора. Немцы еще спали. У хат, которые они занимали, медленно прохаживались часовые с автоматами наизготовку. Боялись, видно, фрицы военнопленных. Ни колючая проволока, ни пулеметы, установленные на башнях вокруг лагеря, не гарантировали им безопасности. В нос Петеру ударило вонью от окровавленных бинтов и каких-то склянок, разбросанных вокруг хаты, одиноко стоявшей на окраине хутора. Петера замутило. «Вот каков немецкий порядок», — морщась, неприязненно подумал он. Никого из медицинских работников в лазарете не было, и Петер беспрепятственно вошел в хату. Он ожидал найти здесь привычную для больницы тишину, особенно в этот ранний час. А встретился с невероятным шумом. Больные кричали, каждый доказывал соседу свое, и лазарет походил на школу в большую перемену. Когда Петер распахнул дверь и остановился на пороге, на какую-то секунду люди примолкли, но тут же все пошло по-прежнему. И, пожалуй, больше всех бушевал Васька. Хрипло дыша, он стучал кулаком по доскам кровати и матерился. А глаза у Васьки были дикие и даже бешеные. — Дай мне выздороветь… Я его, гада… Я его… Вот ты у меня узнаешь! Петер никак не мог разобраться в происходящем. Но интуитивно понял, что в этом скандале повинен больше других Васька Панков. Он заварил кашу. Виртуозно выругавшись еще раз, Васька закашлялся, бросил на Петера короткий, извиняющийся взгляд. И спустил босые ноги с кровати. — Выйдем на улицу, — сказал он. Тропка провела их через заросший бурьяном двор, и они оказались в небольшом саду, где, кроме яблонь и вишен, буйно росли крыжовник и малина. Васька цепко ухватился рукой за сук старой, развесистой яблони. Очевидно, давала себя знать слабость. — Ругал Родину, гад, — сказал он. И Петер заметил, как у Васьки мелко запрыгала челюсть. — Кто? — Фельдшер тут у нас был. Прогнали мы его перед тобой. Ну и сука! Говорит, что русские не могут править страной. Мол, ею правили то варяги, то немцы. Я ему, гаду, дам! Будет он у меня знать историю на пятерку, не хуже, чем сам Федор Ипатьевич, — тяжело дышал Васька, глядя в глубокую синеву неба. С момента пленения ребята еще не говорили друг с другом. А такой разговор был необходим им обоим. Только Ваське мог сказать Петер обо всем, что его мучило в эти дни. Из всех пленных только Ваське доверял он целиком. — Ну что, Вася? — осторожно спросил Петер, стараясь подавить тревогу, звучавшую в его голосе. — Влипли мы, как щенята, — глухо ответил Васька, переводя взгляд на бинты, опутавшие его грудь и руки. — И выход один: отрываться надо отсюда. — Куда? — К своим. Где-нибудь спрятаться в кукурузе и ждать наших, — предложил Васька. — Только надо выждать, когда начнется наступление. — Ты хоть как-то оправдаешься. Ранен, мол. Был без сознания. А что скажу я? — упавшим голосом произнес Петер. — Ты правильно загнул фрицам про отца. Я подтвердил… Не бойся. Выходили же люди из окружения — и ничего. Ну пусть в штрафной батальон посылают. — Пусть, — согласился Петер. И они молча постояли некоторое время и пошли к хате, через открытую дверь которой слышался уже спокойный говор. Со стороны лагеря тоже доносились какие-то звуки. Не то кричал кто-то, не то били в рельс. Пообещав назавтра снова прийти в лазарет, Петер распрощался с Васькой. Хутор ожил. С термосами и ранцами шли немцы на военную кухню. Под скрипучие напевы губных гармошек занимались физзарядкой и прямо на улице, на глазах у всех, справляли большую и малую нужду.
Батурин, первым из перебежчиков встретивший Петера, сказал, что сегодня их поведут рыть окопы и строить блиндажи. Немцы не намерены отступать, но на всякий случай, из тактических соображений. Есть приказ самого генерала Холидта. — Тут они хотят отомстить красным за Сталинград. — Слушай, Батурин, — не выдержал Петер. — А ты-то какого цвета? Батурин ухмыльнулся, покачал головой: — Я-то? А я никакого. Бесцветный. Уж так меня полоскала советская власть, что и цвет потерял. Петер все острее ненавидел Батурина, этого фашистского прихвостня. И, чтобы не выдать себя, старался не смотреть на него. Петеру казалось, что Батурин прочитает на его лице все самые сокровенные думы. Прочитает и донесет гауптману. Окопы, которые предстояло рыть перебежчикам, составляли вторую линию глубоко эшелонированной обороны противника. Эта линия укреплений проходила по берегу небольшого притока Миуса — реки Крынка. По восточному склону холмов, господствовавших над местностью, тянулась цепочка траншей, пулеметных гнезд и блиндажей. В цепочке не хватало лишь нескольких отдельных звеньев, их-то и нужно было создать. Напуганные июльским наступлением советских войск, немцы спешили с этой работой. Когда вторая команда прибыла на место, там уже работала немецкая саперная часть. Одни солдаты орудовали кирками и лопатами, другие сооружали перекрытия блиндажей и дзотов. Завидев приближающуюся колонну, саперы, чумазые и потные от жары, весело загалдели и устроили перекур. Пока перебежчики разбирали брошенный немцами шанцевый инструмент, Петер огляделся. На много километров вокруг лежала унылая степь. Дождь, который шел вечером и ночью, не напоил ее вдосталь. Верхний слой почвы был уже сухим — такой зной установился с раннего утра. В степи не на чем было остановить взгляд. Лишь в балках кое-где зеленел мелкий кустарник. И только вдали устремила в небо свою вершину неприступная Саур-могила. Да у самого горизонта виднелась сизая полоска деревьев. Там бежал Миус, за ним в окопах сидели друзья. И совсем рядом, а как бесконечно далеко был он теперь от них! — Лом бери, — посоветовал ему Батурин. — А я лопатой управлюсь. Попробуем на пару. Петер взял лом, и они спустились в распадок, где очкастый фельдфебель расчерчивал землю заостренным концом палки. Время от времени фельдфебель опускался на одно колено, приставлял руку ко лбу и внимательно оглядывал раскинувшуюся перед ним местность. Затем вскакивал и притопывал на месте, и снова что-то чертил. Он мельком посмотрел на подошедших Петера и Батурина и показал: — Здесь! Петер с силой взмахнул ломом. Брызнула земля, и железо, проскрежетав, уперлось в камень. Тут, пожалуй, много не сделаешь. Это и хорошо. Знают ли наши об этих укреплениях? Конечно, знают. Недалеко отсюда Петера и Ваську взяли в плен. Значит, где-то здесь в июле проходил передний край немцев. Как Петер ни прислушивался, а до него не донеслось с Миуса ни одного звука. Молчат орудия. А может, слишком большое расстояние. Но хотелось верить, что молчание фронта — затишье перед бурей. Зато как потом разгуляется ураган! От Батурина не ускользнул стальной блеск Петеровых глаз. Батурин засаленным рукавом гимнастерки смахнул со лба крупинки пота и спросил, разгибая спину: — А сам-то ты какого цвета? — Я как хамелеон. Меняю цвет в зависимости от обстановки, — усмехнулся Петер. — Есть такая ящерица. — Слышал, — пробормотал Батурин, снова принимаясь за работу. Он вкладывал в нее все свои силенки, ибо понимал, что от прочности немецкой обороны зависит его благополучие, наконец, его жизнь. А Петер думал о том, какой долгий и трудный путь предстоит ему пройти, чтобы снова оказаться в окопах плечом к плечу с отцом, с Федей, с Костей. Хватит ли мужества у него для такого пути? В школе все представлялось проще, тогда он жил по книгам и песням. На хутор возвратились затемно. Пленные из команды потащились с консервными банками во двор, где помощник повара делил между ними жидкие остатки солдатской кухни. Работа на строительстве укреплений поощрялась. Петер никуда не пошел. Уставшего, его потянуло ко сну, и он с ходу мешком упал на нары. И не слышал, как эсэсовцы пересчитывали пленных и как взвыли они, не досчитавшись одного. Петер открыл глаза, лишь когда его затормошили и осветили фонариком. Рослый солдат показал на дверь: — Иди кушать, пан. Петер равнодушно махнул рукой. Мол, ничего я сейчас не хочу, только оставьте меня в покое. Рослый эсэсовец погасил фонарик и зашагал прочь. Но минуту спустя тяжелые сапоги с подковами снова протопали по глиняному полу хаты и остановились у нар. — Кушай, пан, — вспыхнул свет, и эсэсовец протянул стеклянную банку, наполненную до краев мутным варевом. Петер приподнялся на локте и после короткого раздумья сел и взял банку. Похлебка была остывшей и безвкусной. Петер выпил немного и поставил банку на подоконник. — Шлехт! Плохо, пан, — покачал головой эсэсовец. Когда пленные остались одни, похлебку доел Батурин. Он, чмокая и покрякивая, ел и удовлетворенно приговаривал: — Это ж не чета нашим азиятам. Культура! Сам баланду принес. Кушайте на здоровье… Да и то надо взять в толк, что мы ить — особая категория.
25
Южный фронт жил ожиданием больших событий. По ночам вдоль передовой двигались какие-то части, в заросших лесом балках и оврагах накапливались танки и артиллерия. В перестрелку с противником наши вступали неохотно. Мол, не до этого нам сейчас, дайте срок, а уж потом мы постреляем. В дивизии ждали приказа о наступлении. Не исключалось, что ее перебросят на другой участок фронта. Поэтому, когда офицеров штабной батареи срочно вызвал к себе Бабенко, Алеша решил, что это неспроста, что командующий артиллерией сообщит им что-то очень важное. Сказать, что Алеша не любил Бабенко, было бы неверно. Он уважал подполковника. Тот был умен и храбр. Быстро разбирался в обстановке, точно оценивал ее. Правда, он был вспыльчив, но быстро брал себя в руки. Однако для Алеши существовал и другой Бабенко — человек не очень порядочный, даже пошлый. У него, наверное, дома жена и дети, а он связался с девчонкой. Он ее, видите ли, ревнует, даже поговорить ей ни с кем не дает. А какое он имеет право?! И эти два Бабенко спорили в Алешиной душе. А случалось, побеждал первый, Алеша вспоминал слова Денисенкова о пятой батарее. Конечно, он был не очень уж нужен на огневой позиции. Артиллеристы могли обойтись без его указаний, которых он, кстати, и не давал. Но тут же Алеша ругал себя за то, что плохо думает о Бабенко. Какой он соперник подполковнику, когда лишь дважды встречался с Наташей, а она знакома с Бабенко больше года! Денисенков злится на подполковника потому, что тот отшил его от Наташи. Что же касается разведчиков, то они могут и не знать всех тонкостей в этих, довольно запутанных, отношениях… Бабенко вызвал офицеров штабной батареи на пять вечера — они почти бежали в штаб, чтобы успеть, — а сам задержался у командира дивизии. Присев под вишнями на разбросанные по саду ящики из-под снарядов, офицеры живо переговаривались, обсуждая фронтовые новости. Денисенков рассказывал, что минувшей ночью дивизионная разведка добыла «языка». И, как назло, им оказался всего-навсего новый помощник повара Ганса Фогеля. — Пьяный в дым. Его спрашивают о расположении огневых точек, а он целует разведчиков и орет песни. Так ничего и не добились. — Что-то зашевелились фрицы. Всю ночь в Глубокой балке ревели танки. Оглохнуть можно, — сказал Алеша тоном бывалого фронтовика. — Демонстрация, — определил Денисенков. — Считай, что этих танков здесь уже нет. Топорная работа. Командир измерительного взвода, пожилой, тучный, завел разговор о Богдане. Мальчишка сегодня утром обнаружил в развалинах одичавшего кота и гонялся за ним на виду у немцев. И как только не подстрелили сорванца! Да и на мины мог напороться: бегал по самому переднему краю. — Кота-то хоть поймал? — поинтересовался Алеша. — Куда там! Я ж говорю, что одичал кот, стал вроде тигра. — Жалко пацана, — упавшим голосом сказал Денисенков. — Хоть бы вы его при себе держали, Колобов, на передовом НП. — Тоже нашел безопасное место, — покачал головой командир измерительного взвода. — Все лучше, чем под огнем лазить. В сад неведомо откуда залетела птаха и принялась щелкать, рассыпая трели по всей округе. Офицеры слушали ее. Каждому о своем напевала она, и всем вместе — о том, ставшем уже далеком, времени, когда не было ни боевых тревог, ни бомб, ни окопов. Среди густых веток вишен Алеша старался увидеть певунью, но она, очевидно, была такой крохотной, что ее укрывал даже листочек. Поэтому-то она и не боялась войны, не улетала из беспокойных, но обжитых ею мест. Бабенко пришел лишь в половине седьмого. Он подал Наташе какие-то бумаги, попросил перепечатать скорее. Она все время была в штабе, и об этом знал Алеша. Ему хотелось хоть словом переброситься с ней, но он стыдился Денисенкова и других офицеров. Наташа отчего-то хмурилась. Лишь мельком посмотрела на Алешу, и он прочитал в ее светлых глазах вопрос, смысла которого не понял. Бабенко пригласил офицеров к себе в горницу. Снял и сердито отбросил фуражку, словно она мешала ему говорить. И, только вытерев платком мокрую шею и лицо, начал: — Получен приказ о расформировании штабных батарей. Вместо них при штабах будут лишь инструментально-измерительные взводы. Офицерам новые назначения. Денисенков идет старшим адъютантом второго дивизиона артполка, Колобов — командиром огневого взвода пятой батареи… — Которой нет? — с горечью сказал Алеша. Он растерялся даже: как это вдруг покинуть друзей? Неужели ничего нельзя сделать? Но приказ есть приказ, и обсуждать его не положено. Бабенко сердито подергал ус: — Привык я к вам, старый дурень… А ты, Колобов, уходи со всем своим взводом. Пушки уже получили для пятой. Кто не стрелял, научится. И я вас не держу больше. Но когда Алеша шагнул к двери, он услышал позади себя: — Подожди, Колобов. Разговор есть. Алеша быстро повернулся и сразу понял, о чем разговор. Только ни к чему вести его теперь. Алеша уходит в полк и никогда больше не увидит Наташу. Значит, исчерпан вопрос, товарищ подполковник. Бабенко глядел в оконце отрешенным взглядом, затем резко и шумно задвигал ящиками стола. Наконец бросил сердито: — Закрой дверь, — и вздохнул. — Ты не подумай, что она из-за тебя уходит в полк. Давно уж просила об этом, тебя еще не было у нас. Понял? Так береги ее, Колобов. А кончится война, поступайте, как знаете, не мое дело. И иди ты от меня, Колобов, к черту! Да не лезь под пули, под снаряд. По-дурному умереть — мало чести. Понял? Все это было так неожиданно, что Алеша опешил. — Спасибо, товарищ подполковник. До свидания, товарищ подполковник, — только и сказал он. Из горницы они вышли вместе, и по их виду Наташа определила, что Алеша знает все. И зачем только она призналась подполковнику. Теперь ей стыдно, вот он подошел, и ей стыдно. — Вы завтра отправляйтесь, — сказал Бабенко.Вечером, когда уже стемнело, Алеша пришел к Наташе. Постучал в окошко, и она вышла в ту же минуту, словно ждала его. Он повел ее по улице в самый конец деревеньки, над которой посвечивал тоненький серпик месяца. Шумели деревья, раскачиваемые ветром, у разведчиков кто-то учился играть на гармошке. Алеша сказал: — Он справедливый и добрый, да? — Да, — ответила она. — Очень честный и добрый. Когда я появилась здесь, кто только не пытался ухаживать. Были к глупые, и хитрые, и наивные, и нахальные. И он взял меня под защиту. Стоило кому-нибудь лишь посмотреть на меня… как-то так… Ну ты понимаешь как… и он не давал житья ухажёру. Во всей дивизии это знают. И меня не раз пробирал. Мол, кончится война, тогда и крути любовь. Бабенко делал вид, что сам ухаживает за мной… И они все верили. Алеша едва не сказал, что он тоже так думал. И хорошо, что смолчал, а то бы смеялась над ним Наташа. Нашел, мол, к кому ревновать. — Стой! Кто идет? — решительно шагнул из кустов часовой. Шагнул еще раз и замер. — Алеша назвал пароль. Часовой позволил идти дальше, но предупредил: — На краю деревни — какая-то пехота. Только что подошла. И вам лучше вернуться, а то еще примут за немцев. «Так вот почему Бабенко говорил, что отдыхать некогда! Очевидно, дивизии пришла замена. Или на этом участке готовится наступление», — подумал Алеша. — Что ж, можно и вернуться, — не очень охотно согласилась Наташа. Они разошлись уже за полночь, договорившись встать пораньше. Но их опередил посыльный от нового командира пятой батареи Кенжебаева. Едва Алеша вошел в хату, какраздался стук посыльного, резкий, настойчивый. — Эй, кому на пятую? Выходи! Разведчики поругивались, собирая в вещмешки свое нехитрое хозяйство. Не дают спать людям! В штабной батарее они чувствовали себя богами: сиди себе у стереотрубы да смотри за немцами. Они здесь раньше других узнавали все новости. А на огневой позиции то окапывай и маскируй орудия, то сам зарывайся в землю. И никаких тебе привилегий!..
Пятая батарея стояла не на прежнем месте, а километрах в пятнадцати от передовой, под самым Луганском. Ее пушки были в походном положении, сцепленные с зарядными ящиками, новенькие, только с завода. Их укрывали сверху маскировочные сети, со всех сторон обступали молодые дубы и клены. Батарея была надежно спрятана от глаз противника. Даже «рама» не обнаружила бы ее здесь. Кенжебаев уже встал, а может, он вообще не ложился спать. Он ходил от шалаша к шалашу, печатая следы на росистой траве. Заметив приближавшихся бойцов со скатками, с вещмешками, и впереди них Алешу, Кенжебаев обрадовался, как мальчишка, захлопал в ладоши. С Алешей они встретились теперь словно старые друзья: жали друг другу руки и говорили какие-то душевные слова. — А вы тоже к нам? — спросил Кенжебаев у Наташи. Она смутилась, ее щеки вспыхнули. — Да, вместе с нами, — ответил за нее Алеша. — Послана сюда санинструктором. Подполковник Бабенко договаривался с полковой санчастью. — Это карашо, — одобрил Кенжебаев и тут же снова обратился к Наташе. — Училась где, девушка? — На курсах медсестер. Правда, не успела окончить, товарищ лейтенант, — поборов волнение, негромко сказала Наташа. — Располагайся. Приказано быть наготове. И соблюдать правила маскировки. Разведчики рассыпались по лесопосадке. Принялись строить себе шалаши. Застучал топор, затрещали обламываемые сучья. — Вы не губите-то все сплошь, — предупредил бойцов Кудинов. — Нам, может, только день и пробыть тут. — Чего там жалеть, — возразили ему. — Жизни кладут люди, а он дерево пожалел. — Так оно же наше. Выросло на нашей, родной земле. Ежели его фриц срубит, обидно, но он враг. А зачем тебе-то без нужды красоту портить? — рассудил Кудинов. Под одним из дубков Алеша растянул плащ-палатку. Наташа сняла с себя легонькие брезентовые сапожки. И, не решаясь лечь, присела на шинель. — Спи, — сказал Алеша, завертывая самокрутку. — Ты сам-то где ляжешь? — А тут вот, снаружи, — он сунул самокрутку в зубы и плотнее укутался в шинель. — Не замерзну. Сейчас солнце пригреет. Наташа уснула. А он посматривал в ее сторону и думал о себе и о ней. Любил ли он Наташу? Этого он не знал. Она ему нравилась. Но ему нравились Вера и Мара? Нет, Наташа именно та, которая нужна ему. И не надо ни в чем объясняться. И он, и Наташа — оба уверены в своем чувстве. Кончится война, и он привезет Наташу домой. В землянку? Конечно, она жила не так. Она, наверное, и представить не может, какие есть еще кое-где подслеповатые землянки на болотах. Алеша увезет Наташу в какой-нибудь иной город. Может, в тот же Красноярск, и они снимут квартиру, и он устроится на работу. А уж потом попроведают Алешину семью. И отцу понравится Наташа, и бабушке тоже. Потом они побывают в гостях у Кости, и Костя перестанет задаваться своей Владой. И знакомиться Наташа будет — руку подаст и скажет: — Наташа Колобова! Черт возьми, это же так прекрасно! Только бы ничего не случилось с Наташей. О, если бы она хоть в медсанбат перевелась, что ли! Но Наташа никогда не согласится на это. Бойцы, что пришли с Алешей, отсыпались до обеда. А вторую половину дня Кенжебаев и Алеша занимались с ними по огневой подготовке. Ночью батарею подняли по тревоге. Дивизия перебрасывалась на другой участок фронта. Пятой батарее приказано было соединиться с походной колонной артполка на западной окраине Луганска. Батарея была на конной тяге. Ездовые в какие-то минуты привели из укрытий и запрягли в передки и фургоны широкогрудых трофейных тяжеловозов. А люди тронулись пешком: каждый расчет за своим орудием. Алеша шел позади колонны, а рядом торопилась, чтоб не отстать, Наташа. Он уговаривал ее сесть на фургон, да где там! Она наотрез отказалась. К окраине города батарея подошла раньше назначенного времени. По шоссе еще плыли колонны пехотных частей. Бойцы несли на себе тяжелые плиты от минометов, ручные пулеметы, противотанковые ружья. При скупом свете молодого месяца тускло поблескивали каски. Слышался сдержанный говор. Неизвестно откуда к Наташе подлетел мальчишка, ухватил ее за полу шинели. И она испуганно ахнула: — Богданчик! Куда же ты? С нами? — С вами, тетя Наташа. Бить фашистов буду. С материнской нежностью и грустью она погладила Богдана по голове. А он застыдился, отпрянул от нее. — Оставайся с нами. Мы зачислим тебя в нашу батарею. Как раз не хватает одного бойца, — серьезно предложил Алеша.
26
В неглубокой степной балке сбились в кучу люди и орудия. Не выдерживая уставных интервалов, колесом к колесу стояли пушки трех батарей, входивших в разные части и соединения. Артиллеристы не рыли в балке ни ровиков, ни землянок. Знали, что вот-вот фронт хлынет за Миус, на запад. Орудийные расчеты скрывались от «рамы» под маскировочными сетками, и лишь ночью солдаты чувствовали себя в относительной безопасности. Пятая батарея была здесь третьи сутки. Она пришла в балку последней и заняла самое никудышное место. Если бы пушки не окопали, то они оказались бы на виду у противника, потому что этот край балки был особенно мелок. Батарея не сделала ни одного выстрела. Пристреливать орудия по целям категорически запрещалось: немцы могли массированными артналетами и бомбежками подавить нашу артиллерию. Сориентировались по одной из пушек соседей, которая неделю назад выпустила пару снарядов. Ночью стояла тишина. Никто не стрелял. Лишь со стороны хуторов, оставшихся в тылу у батареи, доносилось глухое рычанье танковых моторов. Но немцы его не слышали, потому что танки сосредоточивались для атаки в пяти, а то и в шести километрах от Миуса. В три часа, когда Алеша собрался подремать, в балке наступило оживление. Люди повставали, заговорили, и Алеша подумал, что это не иначе, как принесли почту. Но, вместо газет и писем, политработники раздавали листовки. — Огня не зажигать. Прочитаете утром, — предупреждали они. Алеша тоже взял листовку. Прикрывшись плащ-палаткой, он принялся читать ее при свете зажигалки: «Вперед, сыны советского народа! Вас ждет измученный Донбасс, вас ждут города и села многострадальной Украины!..» Значит, наступление! Наконец-то! Его так долго ждали, о нем много говорили и думали красноармейцы. Наступление! Оно и радовало, и пугало Алешу. Радовало предчувствием настоящего фронтового дела — воевать так воевать, — а пугало своей неизвестностью. Враг коварен и может быть всякое. Алеша беспокоился за Наташу, которая стала для него здесь самым близким человеком. Он знал Наташин упрямый характер. Как уж она решила, так и будет. Алеша догадывался, сколько попыток предпринял подполковник Бабенко, чтобы удержать ее в штабе. Однако она ушла в полк. А тут еще с нею Богдан. У них давнишняя дружба. Спят сейчас и, может, сны видят. Они лежали на ящиках со снарядами. Богдан прижался к Наташе — видно, замерз, — а она прикрыла его полой шинели. Тоже вояки! Спать бы вам сейчас по-человечески где-нибудь в тылу. В Москве, например. — Товарищ лейтенант, вас к телефону. Звонил комбат Кенжебаев. Сообщил координаты целей. Батарея должна подавить две огневые точки противника. Снарядов не жалеть. Оставить лишь один боекомплект. Как только тяжелая артиллерия перенесет огонь в глубину вражеской обороны, пятая батарея форсирует Миус и занимает открытую огневую позицию в саду. — Действуй, Алеша! Желаю большого успеха, больше самой Саур-могилы, — сказал Кенжебаев бодро и торжественно, словно уже поздравлял с победой. Бесшумно подошли Кудинов и Тихомиров. Сели на мокрую от росы траву, и Алеша сел с ними рядом. Каждому хотелось сказать что-то свое о предстоящих боях. Да и не только о боях, а и о себе, о том, что радовало и мучило душу. В такие минуты, как на исповедь, шли друг к другу. — На письмо рассчитывал, — сказал Кудинов задумчиво и устало. — Не пишет женка, язви ее!.. А село у нас большое и на самом берегу Волги. Красотища неописуемая! За рекою — покосы, ягод-то сколько! — А ягода какая? — для того лишь, чтобы поддержать разговор, спросил Тихомиров. — Разная. Больше смородина. Есть и малина. Пойдешь на какой-нибудь час и несешь целое ведро. И пасека там колхозная, за рекой. Жив буду — и я поставлю там ульи. Собственные… А если я тебя, товарищ лейтенант, после войны приглашу в гости, приедешь? Алеша улыбнулся и всерьез подумал о том, сумеет ли он побывать у Кудинова. Может, и не специально ехать, а завернуть проездом хотя бы. В одних окопах сидим, один суп хлебаем, фронтовые друзья. И как об уже решенном деле, Алеша сказал: — Приеду, Кудинов. Тот обрадовался Алешиному обещанию и негромко попросил: — Запиши адресок. Ну, а ежели чего случится со мной у тебя на глазах, так сообщи родителям. Пусть не ждут. — Чего занюнил! Куда ты денешься! — оборвал его Тихомиров. — Это добрые люди погибают, а такие, как ты, долго живут. — Эх, Тихомиров, Тихомиров. Не шибко веселая у тебя шутка. Не утешительная, — заметил Кудинов и умолк. Восток начинал светлеть. Стали видны очертания орудийных стволов, направленных в сторону Миуса, скрюченные фигурки спящих в балке бойцов. По клочкам седого тумана угадывалась река. И вдруг откуда-то сверху наплыл быстро нарастающий гул моторов. По ровному, без подвывания рокоту можно было сразу определить, что это наши самолеты. Их было много, и они направлялись в сторону Саур-могилы. Самолеты ушли за реку, а в сумеречном небе заметались разрывы снарядов. «Наши чего-то церемонятся с зенитчиками», — подумал Алеша с досадой. И, как бы в ответ, за Миусом вспыхнули и загрохотали взрывы тяжелых бомб. Летчики бомбили прицельно. Яркие сполохи появлялись то в одном, то в другом месте. И редели огненные вспышки в небе, пока их совсем не стало. Значит, наши заткнули горластые глотки зениткам. Разбомбили штабы и резервы врага, а сейчас повернут домой… — Товарищ лейтенант, к телефону! Снова Кенжебаев. Он передал условный сигнал к наступлению: три красных ракеты. Внимательно наблюдать за первыми разрывами. Только их можно подкорректировать. Невероятно утомительно ожидание боя. Минуты кажутся часами, кровь гудит в ушах, и от напряжения слепнут глаза. Ничего так не хочется бойцу, как приблизить сражение, поскорее дойти до той черты, за которой жизнь или смерть, победа или поражение. Алеша нетерпеливо прохаживался возле орудий. Наводчики уже доложили ему, что пушки наведены на цели. Заряжающие приготовили фугасные и подкалиберные снаряды. На Миус-фронте ожидали появления «тигров» и «фердинандов», которых трудно сразить простым бронебойным снарядом. Лобовая броня у них — небывалой толщины и прочности. Тяжелые «тигры» фашисты уже применяли на Орловско-Курской дуге. Там-то и родилась идея нашего снаряда с фигурной головкой, названного подкалиберным. Теоретически он пробивает любую броню. А подтвердится ли теория на практике? Уж больно не внушительный, совсем интеллигентный вид был у подкалиберного снаряда. Алеша разбудил Наташу и Богдана. Наташа, еще ничего не соображая, потянула к себе санитарную сумку. Рассвело. Стали хорошо различимы линии нависших над Миусом скал, разбитых домиков села. Вырисовывалась величественная, загадочная Саур-могила. И было как-то не по себе от ее названия. Кто-то сложит голову на этой высоте и, может быть, даже сегодня. Ракеты взлетели одновременно. И Алеша крикнул: — Первое — дальнобойной гранатой, огонь!.. Он не успел дать команду всей батарее. Землю и воздух потряс невероятный грохот, и Алеша сразу оглох. Махнул рукой командирам орудий, и они сделали первые выстрелы. О пристрелке не могло быть и речи. И тогда Алеша часто замахал рукой, а командиры орудий перешли на режим беглого огня. Алеша глядел за Миус. Но он ничего не видел, кроме вздыбившейся земли. Стена пыли и дыма росла и расползалась по небу. Взрывов нельзя было разглядеть. Только неистовый, ни на секунду не прекращавшийся гром говорил о дьявольском могуществе артиллерии. Пыль, поднятая разрывами, сомкнулась с клубившейся над батареями пылью от выстрелов. И тогда наступила тьма. Видны были лишь раскаленные стволы орудий. Шел второй час артиллерийского штурма. Люди плевались грязью, дурели от дикого грохота. Казалось, весь гнев исстрадавшейся и ожесточенной страны обрушился на головы фашистов. И вот гром разрывов несколько стих. Это значило, что огонь перенесен в глубину обороны противника. Сейчас пойдут в атаку танки и матушка-пехота. И, действительно, мимо батареи на большой скорости пролетели несколько наших «тридцатьчетверок». К орудиям ездовые подали коней. Подъехали фургоны, чтобы забрать остаток снарядов, и на один из фургонов Алеша пристроил Богдана. Батарея снялась с огневой позиции и устремилась вперед, к Миусу. Артиллеристы бежали, чтобы поспеть за пушками. К Миусу спешили танки, гвардейские минометы и самоходные орудия. Вперед, только вперед! Под копытами коней вдруг заплясали доски. Первая пушка, клюнув стволом, взлетела на дощатый настил переправы. И Алеша увидел Миус: мутную от крови реку, увидел опрокинутые в воде какие-то повозки и прибитые волною к понтонам трупы солдат и коней. И только тут приметил в посветлевшем небе пикирующие «юнкерсы». С небольшой высоты они падали на соседнюю переправу, которая была в километре отсюда. Рвались бомбы, выплескивая реку из русла и разнося вдребезги автомашины, понтоны, танки. В фруктовом саду, что прижался к Миусу, батарею встретил лейтенант Кенжебаев. На черном от грязи лице светились одни белки глаз. Он был возбужден происходящим, ему не терпелось поскорее идти вперед. Лейтенант раскрыл планшет и ткнул пальцем в карту: — Место батареи вот здесь, — показал на балку, расположенную за холмом. — Я устанавливаю связь с командиром дивизиона и уточняю дальнейшую задачу. Кенжебаев исчез. Алеша же оглядел местность. Дорога к балке вела вокруг холма. На этой дороге виднелись пехотинцы, то рассыпавшиеся, как горох, то снова сбившиеся в группы. По ним били немецкие батареи. Проскочить открытую степь было немыслимо. Ни от людей, ни от коней ничего б не осталось. И Алеша решил прорываться через холм. Ясно, что вершина холма пристреляна противником. Но там можно будет проскочить всего каких-нибудь сто-сто пятьдесят метров на галопе, и тогда батарея скроется от немецких наблюдателей. — Рассредоточить орудия и фургоны, дистанция между орудиями — пятьдесят метров, — распорядился Алеша. К подножию холма подошли благополучно. Прежде чем преодолеть его, Алеша поднялся на вершину, где несколько часов назад был немецкий наблюдательный пункт. Сюда попал не один наш снаряд. Из земли торчали бревна, железные прутья, куски колючей проволоки и нога в грубом, солдатском сапоге. Ездовые первого орудия дружно хлестнули коней. За пушкой устремился орудийный расчет, бойцы бежали что есть мочи. Они уже достигли вершины холма, когда вдали заскрипел немецкий шестиствольный миномет и тяжелые мины завыли в воздухе. Алеша упал и в то же мгновенье услышал разрывы. Зафыркали осколки, заклубилась пыль. Неподалеку жалобно вскрикнул кто-то. Алеша вскочил и увидел, что орудие разбито, люди и кони лежат припорошенные землей в странных, непривычных позах. А когда Алеша подбежал к ним, он заметил у одного из бойцов расплывающееся по груди пятно крови. Другому оторвало ноги. Были и раненые. Они стонали. Наташа перевязывала раненых. Руки у нее тряслись, а лицо было белое. Искаженные страданием губы умоляюще шептали: — Потерпи, миленький… хоть немножко, родненький… Сейчас… Сейчас… Ездовым двух фургонов Алеша приказал везти раненых в медсанбат или в армейский госпиталь. Это на той стороне Миуса. Что найдут, то и ладно. Только нужно ехать быстрее, как можно быстрее. — Я поеду сопровождать, — сказала Наташа. — А потом найду батарею. — Мы будем в балке за этим холмом, — махнул рукой Алеша. С Наташей остался Богдан. Он не боялся крови и помогал при перевязках. А на мертвых старался на глядеть. Жалко Богдану мертвых и немножко страшно ему, ведь что ни говори, а он мальчишка. Объехав разбитое орудие, на галопе проскочила вершину холма вторая пушка, затем рванулась третья и четвертая. Шестиствольный миномет давал теперь залп за залпом по долине, где в громадном огненном мешке находилась наша пехота. Потрясенному Алеше казалось: он один виноват в гибели бойцов. Он еще никак не мог согласиться с тем, что на войне не бывает без жертв.27
Карта-двухверстка обманула артиллеристов. Балка в самом деле оказалась низиной, которой не видно было ни конца ни края. Она сплошь заросла ракитником, тополями и кленами. Батарея заняла огневую позицию в самой гуще кустарников. От немцев ее отделяли два километра всхолмленной местности. Эти холмы и укрывали батарею от глаза вражеских наблюдателей. Справа неподалеку дымились развалины. Здесь была небольшая деревушка. Ветер стлал горьковатый дым по земле, от чего низина казалась укрытой мягким сиреневым одеялом. Из-под этого одеяла показывались фигуры солдат или кузова автомашин, показывались и тут же исчезали. Низина была начинена артиллерией. Сюда подвозили снаряды, а увозили раненых. Противник вот уже четвертый раз заходил на бомбежку. В белесом небе стоял вой пикирующих «юнкерсов». Самолеты с крестами на фюзеляже и крыльях стремительно приближались к земле. И жутким был не сам бомбовый удар, приносивший смерти и разрушения, а ожидание удара, те томительные секунды, которые Начинались с выходом ведущего «юнкерса» на цель. Зениток в низине еще не было, никто не мешал «юнкерсам». Эта безнаказанность фашистов бесила наших бойцов, которые из наспех вырытых ровиков и канав следили за набиравшими скорость бомбами. Снова горели деревья и травы. Запах взрывчатки и дыма крепчал в низине, пока его понемногу не уносил ветер. И тогда появлялись раненые. Они шли группами и в одиночку, в повязках, с палками вместо костылей. Это были и пострадавшие от бомбежки, и раненые с передовой, которые где-то пережидали ухода вражеских самолетов. Пятая батарея окапывала орудия. Уже к вечеру комбат дал связь на огневую позицию, и орудия открыли огонь по второй линии Миус-фронта, которую занимала сейчас вражеская пехота. На закате солнца батарея отстрелялась. Пушки укрыли маскировочными сетками, а на сетки набросали веток. Это на случай, если еще пожалуют «юнкерсы». — Побольше бы сюда наших истребителей, — сказал Егор Кудинов, глядя на алые, словно налитые кровью, облака. — Замешкались… — Наверное, где-то на главном направлении, — ответил Алеша. — Конечно, обидно, когда фрицы хозяйничают в воздухе. Нам кажется, что у нас самые жаркие бои, а на самом деле они в другом месте. Там и авиация. — А ежели поделить ее, чтоб никому обидно не было? — Так это ж будут что за удары? Нет, авиация должна ударить так ударить! — Да я ничего. Мы ведь обстрелянные. Мы и потерпеть можем, — и Кудинов вразвалку направился к видневшимся неподалеку тополям, под которыми располагался повар батареи со всем своим хозяйством. Посмотрев вслед Кудинову, Алеша спохватился, что еще не ел сегодня. Завтракали ночью, до начала прорыва. Теперь засосало под ложечкой. Подумал он и о Наташе. Что-то долго ее нет, Богдана тоже. Заблудиться тут никак нельзя: совсем рядом с переправой. Может, Наташу оставили в медсанбате, чтобы помогала перевязывать раненых? Ведь это не шутка — такое наступление. Алеша отгонял от себя мысль о том, что с Наташей что-нибудь случилось. Она же поехала в тыл, за Миус. А тот берег немцы не обстреливали, не бомбили. Да и не маленькая лезть под обстрел. И ездовые — опытные бойцы… От тополей донеслись радостные выкрики, кто-то засвистел, заулюлюкал. Алеша решил, что, наверно, это приехала Наташа и ребята ее приветствуют. И он поспешил туда по густой, посеченной осколками траве, обходя воняющие взрывчаткой бомбовые воронки. Но Алеша ошибся. Это приехал старшина с ящиками водки, с табаком и американской тушенкой. Бойцы окружили повозку. Старшину теребили со всех сторон, а он объяснял Алеше: — Ну кто бы мог подумать, что именно тут балка. Я уж и туда проехал, и в другую сторону, — показывал старшина. — Так и к немцу мог угодить. — Выпейте, товарищ лейтенант, — сказал старшина, подавая граненый стакан водки. — Положено в наступлении по приказу Верховного. Алеша молча выпил. Старшина взял из его рук пустой стакан и сунул Алеше красный пласт консервированной колбасы. Он так и светился самодовольством, словно угощал всех на свои собственные деньги. Мол, глядите, какой я добрый, пользуйтесь моей щедростью. Вскоре Алешу сморило. Он прилег под куст тальника и сразу же погрузился в теплую, приятную темноту. Ничего не хотелось знать, ни о чем не хотелось думать. Сколько Алеша проспал, он не смог бы сказать. Наверное, недолго, потому что подвыпившие ребята еще похваливали старшину и пели. А песня была душевная и совсем неизвестная Алеше:На рассвете Кенжебаев передал приказ: батарее выскочить на бугор, метров на восемьсот вперед, и занять позицию для стрельбы прямой наводкой. Ожидалась контратака немецких танков. Расчеты вмиг привели орудия в походное положение, выдернули на усеянную спекшейся землей дорожку. Ездовые уже тут как тут. Подцепили передки, кони рванули и крупной рысью понеслись, вздымая пыль и пепел, мимо обгоревших деревьев, мимо черных печных труб. Пот лился ручьями, соленый, липкий. Хотелось упасть на землю и перевести дыхание. Но люди бежали, не останавливаясь. Нужно было успеть занять огневую позицию до начала контратаки. Когда выскочили на бугор, в нос ударил невыносимый запах тления, и Алеша увидел трупы наших бойцов. Это были останки героев, погибших в рукопашном бою в июле. Рядом с трупами валялись винтовки и автоматы. По всей вероятности, здесь была жестокая схватка. Немцы похоронили своих, а наших оставили. Батарея с ходу заняла позицию, удобную для стрельбы прямой наводкой. Место открытое со всех сторон, и враг мог легко разбить и с земли, и с воздуха оставшиеся три орудия. Но окапывать, прятать их было некогда — танки противника могли появиться в любую минуту. Когда ездовые уже увели конные упряжки в укрытия, обнаружилось вдруг, что не захватили подкалиберных снарядов. Алеша, негодуя на командиров орудий и на самого себя, крикнул Кудинову: — Ты привезешь, Егор. Бери фургон — и аллюр три креста! На это тебе — десять минут. Кудинову не надо было говорить дважды. Он нашел ездовых, и вот один фургон запылил в сторону прежней огневой позиции. Ездовой, заливисто покрикивая, стегал коней плетью и с опаской поглядывал на небо. Если «юнкерсы» нагрянут, пиши пропало — спрятаться негде. — Расчетам рыть ровики, — скомандовал Алеша, поднимая с земли лопату. Земля была неподатливой. Но Алеша копал и копал, окопчик углублялся понемногу, вскоре в нем уже можно было укрыться. Артиллеристы, занятые нелегкой работой, не сразу заметили, как неподалеку слева, у кургана со столбиком, выстроились в ряд несколько «катюш». Могучий залп потряс воздух. А гвардейские минометы, не медля ни минуты, выскочили из облака пыли, поднятой ими, и умчались в низину. Им нельзя задерживаться на огневой позиции, потому что враг поспешит расстрелять их. Хорошо, что «катюши» ударили по врагу на этом направлении. Они несомненно расстроили планы немцев, и атака танков задержится. Значит, артиллеристы пятой батареи успеют кое-что сделать. Фургон не подъехал ни через десять, ни через пятнадцать минут. Алеша нервничал и крыл про себя Егора Кудинова. Бомбежки и стрельбы вроде не было. Ничего с ними не случилось. Не торопятся выполнить приказ — вот и все. Кудинов наконец прибежал. Он сообщил, что снаряды не отдают. Прежнюю позицию заняла какая-то чужая батарея. Она и наложила лапу на подкалиберные снаряды. Мол, наши — и только. — Да что ж они, сволочи, делают! — вспылил Алеша, хватаясь за кобуру пистолета. — Они ж на закрытой стоят, а нам встречать танки с голыми руками. Тихомиров, ты за старшего. Я схожу. Алеша спешил. Лицо его было суровым, перекошенным. Казалось, никогда прежде он не испытывал такой ярости. Недаром догнавший его Кудинов уже не распалял, а успокаивал Алешу: — Они отдадут, товарищ лейтенант. Это им не со мной дело иметь… Алеша так и не снял руки с расстегнутой кобуры. И решительный его вид напугал молоденького бойца, который первым подвернулся на огневой позиции. Красноармеец сразу же позвал старшего на батарее. Высокий русый лейтенант вышагнул из кустов, удивленно раскрыл глаза и со всех ног бросился к Алеше. Кудинов уже готов был дать устрашающую очередь из автомата поверх голов. Но тут русый обхватил Алешу длинными руками, поцеловал в щеку и радостно заговорил: — Лешка, черт! Да откуда же ты появился? — За снарядами пришел, Илья! Вот встреча! Это был Илья Туманов, с которым в сорок первом ездил Алеша в Ташкент. Он раздвинулся в плечах, возмужал. Над верхней губой у Ильи кучерявились настоящие усы. — Из наших никого не встречал на фронте? — спросил Илья. — Нет. — И я нет. — Да, к нам в дивизию приезжал отец Петера… — А о самом Петере ты знаешь? — невесело спросил Илья. — Немцы листовки сбросили, и там есть его фотография. Чай пьет с фашистами… — Неужели? Вот он, какой принципиальный! — Алеша мрачно сжал челюсти. — А мы стоим вон там, на бугре. Приходи вечером. Или я к тебе загляну. Вернувшись на свою батарею, Алеша увидел, что ровики уже были вырыты до пояса. При нужде можно укрыться всем. Теперь окопать бы орудия, упрятать в землю. На переднем крае загрохотало. Стреляли пушки, минометы, лопались гранаты. Прямо против пятой батареи завязался бой, который с каждой минутой становился ожесточеннее. Над полем появилась серая туча, она клубилась, росла, неслась на батарею. Там, в этой туче, рождался гул, от которого гудела земля. — Танки! — крикнул кто-то рядом. Они шли, прижимаясь друг к другу. Они пробили брешь в боевых порядках пехоты и выходили на единоборство с артиллерией. Алеша подумал, что теперь невероятно трудно остановить их силами орудий пятой батареи. — По танкам подкалиберным снарядом… — голос у Алеши дрогнул и сорвался. Они мчались, покачиваясь с кормы на нос. Они готовы были смять и раздавить пушки вместе с орудийными расчетами. И когда на какую-то секунду танки приостановились, Алеша скомандовал: — Огонь! Пушки взлаяли, словно свора собак, обложивших зверя. И почти одновременно с их выстрелами появились яркие вспышки на орудийных стволах танков. И на батарее стали рваться снаряды. — В окоп! — крикнул Алеша подбежавшему к нему Богдану. Было видно, как одна из передовых машин вдруг осела на бок и задымилась маслянисто, густо. — Ура! — не отрываясь от орудийной панорамы, воскликнул Кудинов. Но в станину его орудия ударил снаряд. И когда дым разрыва рассеялся, ни Кудинова, ни других номеров у пушки не было. Через груду пустых гильз Алеша кинулся к орудию. Услышал совсем рядом неистовый стук пулемета. В голове пронеслось: «Против танков-то!..» А пулемета не было. Это стучало возбужденное боем Алешино сердце. Он увидел, что панорама разбита. Значит, нужно наводить орудие по стволу. Алеша подхватил снаряд и послал его в приемник. Раздался выстрел и задымил еще один вражеский танк. Краешком глаза Алеша приметил, как слева от него, на виду у фашистской армады, развернулась другая наша батарея. И он хрипло выкрикнул что-то невыразимо радостное, победное. Тяжело дыша, Алеша снова приник к стволу, наводя его на выскочивший вперед тяжелый танк. Но прежде чем пушка успела выстрелить, Алешу ослепило и плашмя ударило о землю.
28
Первыми в станицу Колпаковскую, зеленую, всю в яблоневых и вишневых садах, ворвались наши танкисты. Разгромив вражеские батареи и дзоты, прикрывавшие ее, танки, не снижая скорости, прогрохотали по улицам и скрылись за околицей. А следом за ними в станицу вошла пехота. Она стремилась не отрываться от танков, закреплять взятое с бою. Пехота двигалась развернутой цепью, прочесывая сады и огороды. В полдень рота, в которой служил Костя, вышла к центру села. Ей приказано было остановиться. Бойцы устроили перекур. Костя окинул взглядом дымившую у плетня группку. Для роты здесь было слишком мало: каких-то двадцать — двадцать пять человек, да и то редкий не имел повязки на голове или руке. Самому Косте пуля пробила каску и царапнула висок. Костя вспомнил, как в ночь перед наступлением, когда над черными, как чугун, плесами Миуса установилась тишина, немцы орали с правого берега: — Рус, наступать хочешь? Кричи «ура», а мы тебя паф-паф… Это у фрицев нервное. Невмоготу им, если наши молчат, не спится в траншеях и землянках, воняющих дустом. Конечно, боятся они не самой тишины, а бури, что поднимется вслед за нею. Боятся и скулят. — Не тот фриц стал. Поубавилось нахальства, — заметил тогда Федя. Он показал Косте немецкую листовку. На осьмушке бумаги был напечатан снимок Петера, пьющего чай. Нет, это была не подделка. На Костю смотрел живой Петер с его характерным прищуром глаз, с чубом, выпущенным из-под пилотки. На столе перед Петером стоял пузатый самовар, а Петер держал в одной руке чашку, а в другой — немецкую газету. И внизу надпись: «Он не хочет воевать за коммунистов. Петр Чалкин добровольно перешел на сторону немецкой армии. Для него окончилась война». Это Петька-то, который в школе такой был активный и правильный! Всех секретарей компартий знал поименно, с ребят стружку снимал. А теперь чаевничает у немцев. — И все-таки тут что-то не так, — Костя возвратил Феде листовку. — Да. Не верю. Ни за что не поверю! — сказал Федя. — Наш он. Было дело, сердился я на него. А потом подумал: чего возьмешь с дурака-мальчишки?.. Но предать Петька не может. Косте вспомнился грохот артподготовки: пальба на левом берегу Миуса и разрывы снарядов — на правом. Пехота глохла в окопах. И так как нельзя было услышать голоса в этой канонаде, Федя написал в блокноте и дал прочитать Косте: «На реце на Каяле тьма свет покрыла». Костя улыбнулся и закивал головой. Федя и на фронте оставался все тем же. Он жил как бы в двух эпохах, в современной и другой, давно минувшей. Искал и устанавливал связь между ними. Костя досадовал на себя, что не сошелся близко с ним в школе. По сравнению с другими учителями Федя выглядел тогда очень скромно. Он был как-то незаметен. А теперь Костя узнал его как следует и полюбил. Вот такие и есть они, настоящие герои! И Костино счастье, что Федор Ипатьевич рядом с ним. Сейчас он вынырнул из сада напротив, юркий, вездесущий коротышка. Подошел к бойцам, запыхтел самокруткой. — Красотища неописуемая, — закрывая от удовольствия глаза, проговорил он. — Райские места. Недаром тут казаки селились, — поддержали Федю бойцы. — Да-да. А вы видели бахчи? Какие арбузы, а! — Федя сделал руками колесо. — Не меньше, честное слово! Между прочим, в этих местах Кондратий Булавин родился. Жил такой атаман двести лет назад. За простой народ стоял. Ух, и бесстрашный был казачина! — Вообще, испокон веку казаки — народ отчаянный, — сказал Михеич и тревожно посмотрел на небо. Откуда-то явственно доносилось завывание самолетов, оно приближалось, нарастало с каждой секундой. И вдруг из-за шеренги деревьев, что протянулась по всему взгорью, появились «юнкерсы». Они шли низко и вынырнули так неожиданно, что бойцы опешили и продолжали сидеть у тына. Только когда земля задрожала от взрывов, бойцы кинулись в поросшую лопухами и крапивой канаву. «Юнкерсы» сделали всего один заход. Но станица с ее крытыми соломой хатами вспыхнула, как порох. Заклубился в небе сизый и черный дым, забегали по дворам неизвестно откуда появившиеся бабы и мужики. Они выгоняли скотину на улицу, спасали от огня какой-то скарб. У одной из пылающих хат Костя увидел старуху, горбатую, одетую в цветное тряпье. Она голосила, вскинув над головой похожие на клешни руки: — Ратуйте, люди добрые! Ратуйте, люди добрые! Костя подбежал к ней. Он подумал, что в хате кто-то остался, и уже рванулся к дверям, охваченным огнем. Но старуха ухватила его за рукав и закричала, вытаращив глаза: — Бей, бей их, сыночек. Бей, бей, бей! Коли их, руби их, бей! Она обезумела от горя. И когда потолок у хаты с треском рухнул, она снова заголосила: — Ратуйте, люди добрые!.. Спустя несколько часов роту пополнили станичниками. Их обмундировали, вооружили, чем сумели. Кому достались наши винтовки и карабины, кому — немецкие автоматы и противопехотные гранаты. И рота уже готова была выступить на передовую, когда к Феде, находившемуся здесь, подбежала девочка лет двенадцати. Она зачастила, глотая окончания слов, и Федя едва понял, чего нужно ей. — Пойдем-ка со мной, — сказал Федя Косте. — Она говорит, что в бункере скрывается раненый. От немцев бежал… Бункер? Может, погреб? — Погреб, — согласилась девочка. Они шли на край станицы, которая все еще пылала, и тщетны были жалкие усилия людей отстоять хоть что-то. Только зола да чумазые, никому уже не нужные печи оставались во дворах. — Мы с дедушкой в балке его подобрали. Думали, мертвый он, — торопливо говорила девочка, забегая вперед и показывая дорогу. — А он как застонет и глаза открыл. И весь перевязанный, и весь в крови. Дедушка боялся брать его домой, потому мы и стащили красноармейца на баштан. В дедушкин шалаш. Он там был до ночи, а потом его дедушка с мамой к нам привели. Он сразу полведра воды выпил, наш красноармеец. И ночью его шибко трясло. Только не от воды, а от раны. Он лежал в жару. Мама ему чем-то рану присыпала, и он успокоился. Но стрельбу услышал и говорит, мол, зовите наших, чтоб забрали меня отсюда. И еще он хочет вам сказать что-то… Федя и за ним Костя прибавили шагу, словно боясь, что красноармеец не дождется их, умрет и унесет с собой в могилу тайну, от которой, может быть, зависит успех наших войск. Девочка стала отставать. — Я за вами не успею. У меня болит бок. А сами вы не знаете, где наша хата, — тяжело дыша, с досадой сказала она. Федя взял девочку за руку, и они пошли тише. Навстречу им двигались к передовой груженные снарядами «студебеккеры». Шофер первого из них притормозил и спросил у Феди, распахнув дверцу кабины: — Колпаковская? — Она и есть. Дверца хлопнула, и «студебеккер» с радостным воем понесся дальше. — Сколько вас много, дядя! — искренне удивилась девочка. — А нам говорили, что немцы всех поубивали. — Кто же так говорил? — Люди, которые знают, что на Миусе делалось. Там столько ваших перестреляли! — Каких это наших? — Федя заглянул в острые глаза девочки. — Ваших, — не задумываясь, ответила она. — А ты-то наша? Девочка по привычке огляделась и негромко протянула: — Я тоже ваша. Федя и Костя рассмеялись. А в душе им было жаль эту малышку, которая — по всему видно — уже немало хлебнула горя. Ей бы играть сейчас со сверстницами, отдыхать в пионерском лагере, как это было в мирное время. Впрочем, скоро снова будет так. Вот и погреб. Снаружи он похож на землянку: такая же дверь и вымощенные соломой ступеньки ведут вниз. В таких бункерах живут, когда бои подходят к селениям. Сегодня этой семье повезло: бомбы упали в стороне, и хата и погреб уцелели. Красноармеец сидел на самой нижней ступеньке, спиной к двери. Он повернулся на смолкшие вверху шаги и мутно смотрел на Костю и Федю. Против света он не видел их лиц, а ему зачем-то нужно было их видеть. И он трудно поднялся на ноги, чтобы выйти из бункера. Отдав автомат Феде, Костя бросился к красноармейцу, подбежал и, удивленный, отпрянул: — Вася!.. Васька Панков, небритый, худой, с прозрачным лицом и совершенно бесцветными губами, молча смотрел на Костю, словно не узнавая его. Но вот облегченно улыбнулся, и его глаза стали наливаться слезами. — Да не Панков ли это? — сверху спросил Федя. — Он, он самый! — Костя хотел обнять друга, но грудь и руки у Васьки были в бинтах. Костя помог ему подняться из бункера. Васька плакал беззвучно, переводя взгляд с Кости на Федю. Его посадили на лавочку у хаты. Он, пошатнувшись, чуть не упал с нее и смутился. Сказал глухо, чужим голосом: — Петера увезли в концлагерь. Кто-то стукнул одного предателя. Киркой по голове. Гестапо решило, что Петер. Пытали и увезли. — Ты думаешь, что Петька убил? — подвинулся к нему Федя. — Кто ж еще! Он, — со свистом вздохнул Васька. — Только он знал, что Батурин — предатель. Этим гадом гестапо дорожило, мало у них идейных шкур. Увезли Петера в закрытой машине, ночью. — Ну, а как же понимать это? — Федя достал листовку из кармана гимнастерки и поднес Ваське. — Смотри. — Ишь ты, отпечатали. Гауптман приглашал к себе Петера. И сняли его тогда, — Васька потянулся, застонал и проговорил сердито. — А вы что сделали б на его месте? Что?.. — Да ничего, — глухо сказал Федя. — Петька-то тоже был ранен? — Из-за меня он попал в плен. Надеялся, что пробьемся к своим. А Сему Ротштейна мы сдали в медсанбат танковой дивизии. Петер не виноват. Мне ведь все равно, куда меня. Хуже, чем в немецком плену, не будет. Косте захотелось утешить Ваську. И он стал говорить, что никто не поставит ему в вину плен. Подлечат Ваську — будет он вместе со всеми воевать. Нужно лишь как-то сделать, чтобы после госпиталя попал в свою дивизию. — Мне все равно, — повторил Васька. — Хоть в штрафную. Только бить этих сук, фашистов. Он скрипнул зубами: — Раненых фрицы тоже повезли. Нас, значит… которых они надеялись сдать во власовцы… Въехали в станицу, и я драпанул с телеги. Но слаб был… Конвойный очередь дал и попал ведь в плечо. Теперь у меня вся грудь в дырках… — Вон мама кого-то ведет! — вскрикнула девочка, которая внимательно слушала их разговор. Молодая женщина на ходу что-то торопливо говорила коренастому майору. Он качал головой, глядя на сидевших у хаты. Он подошел и представился: — Я из Особого отдела. Вы были в плену? — Да, я, — ответил Васька. — А вы что, знаете его? — Он из нашего батальона, — сказал Федя. — Идемте со мной, — приказал капитан Ваське. — Он не может идти. Его нужно срочно в госпиталь, — сказал Федя. Майор покосился на него: — Ясно, он будет лечиться. Раненому сделают, что нужно. А вы кто такой? Федя назвал себя. Майор записал и пообещал найти подводу, чтобы отвезти Ваську в госпиталь. Но Васька вдруг поднялся и угрюмо бросил: — Я дойду. Костя сзади поддержал его за ремень. — Зачем так? — поморщился майор. — И вот еще что, — обратился Васька к Феде. — Передайте куда следует. На наш участок прибыла новая танковая дивизия немцев. Из Крыма. Это Петер сказал. Он ездил в Амвросиевку за цементом. Там танки сходили с платформ. Передайте, Федор Ипатьевич… — Танковая? — встрепенулся майор. — Я должен немедленно доложить… Я пошлю сюда подводу. Раненого увезут в госпиталь. Он убежал. А Федя остановил идущий в тыл «студебеккер» и попросил шофера взять Ваську. В кузове машины уже сидели раненые, которых нужно было куда-то определить, и шофер согласился увезти еще одного. — Лечись! А там повоюем! — крикнул Федя на прощанье. Васька с благодарностью посмотрел на своих друзей. Он жалел только, что не было с ними Петера. Феде и Косте пришлось догонять батальон, который выступил на передовую. Они настигли его за станицей, где на краю кукурузного поля роты развертывались для атаки.Весна третья

1
Алеша узнавал и не узнавал родной город. На первый взгляд, все здесь была по-прежнему. Те же ровные, как струны, улицы с тополями, те же беленные известью дувалы, на которых космами висела пыль, те же говорливые, звонкие арыки. Как всегда, гудел огромным потревоженным ульем Зеленый базар и, позванивая на перекрестках, бежали вниз и вверх по улице Карла Маркса трамваи. А за горветкой дороги еще не просохли. Люди с трудом выбирались изгустой, липкой грязи, которую нельзя было ни обойти, ни объехать. И все-таки при внешней похожести что-то в городе нарушилось, сместилось, изменилось. Не случайно Алеша испытывал гнетущее чувство тоски. И еще жило в душе ощущение, что у города взято что-то самое ценное. А недоставало Алеше друзей, с которыми и связывалось накрепко все, что было здесь лучшего. Далеко-далеко воевали сейчас с фашистами Костя, и Илья, и Вася Панков, и Петер. Война уже шла по Германии, по Венгрии, по Чехословакии. Всем было ясно, что кончится она в этом, в сорок пятом, году. Выздоравливал Алеша медленно. Еще сейчас заметно припадал на правую ногу и поэтому не спеша ходил с палочкой. Давали себя знать и другие раны, а больше — тяжелая контузия, которую он получил в бою за Миусом. Алеша не помнил, как его подобрали, как везли в армейский госпиталь в поселок угольной шахты. Только здесь он пришел в сознание, и из палаты видел в окно высокие терриконы, которые своими очертаниями напоминали ему Саур-могилу. Лежал Алеша рядом с бледными и окровавленными людьми. Их привозили сюда из-за Миуса, быстро сортировали, иные умирали, не дождавшись операции, или прямо на столе под ножом хирурга. Ночью с потушенными огнями приходили на шахту поезда, составленные из санитарных теплушек, и забирали раненых. Шли поезда в далекий тыл. У Алеши начиналась гангрена. Медлить с операцией было нельзя. Хирург твердо решил ампутировать ногу, это давало гарантию, что раненый будет жить. Но, к счастью, того хирурга, большого специалиста по ампутациям, пригласили в какой-то госпиталь или больницу для консультации. Алешу оперировала пожилая и очень усталая женщина. Она искромсала ножом вспухшую, синюю Алешину ногу, но ампутировать не стала. По-матерински пожалела молоденького лейтенанта. — Была бы кость, а мясо нарастет, — сказала она, отправляя Алешу в послеоперационную палату. И только через полмесяца, когда Алеше стало несколько лучше, его эвакуировали в сторону Сталинграда. Дважды немцы бомбили в пути эшелон. Они не могли упустить случая расправиться с безоружными, беспомощными людьми. И были новые жертвы среди раненых и медперсонала. Но эшелон все-таки пришел на станцию Морозовскую, а потом на автомашинах, в кузовах, раненых везли на хутор Грузинов, где был фронтовой эвакогоспиталь. Помещался госпиталь в деревянном здании школы, одноэтажном, обветшалом. В бывших классах ножка к ножке и спинка к спинке стояли двухъярусные железные койки. И все же мест не хватало, и между двумя ранеными клали третьего. Что поделаешь, когда раненые уже прибыли и нужно спасать их! А других подходящих помещений на небольшом хуторе не имелось. А сотни раненых лежали пластом на жестких постелях, боясь шелохнуться, чтобы не причинить острой боли себе и соседу. В каком-то кошмарном забытье прошла для Алеши первая ночь в Грузинове. У него был сильный жар. Температура прыгнула под сорок. Огромные языки багрового пламени плясали перед глазами. Раскалывалась голова, нестерпимо болели раны. А утром, сразу же после обхода врача, Алешу унесли на перевязку. В комнате с белыми занавесками на окнах, белыми чистыми простынями на столах Алешу встретили люди в белом. Медсестра, которую за строгий характер раненые называли «гвардии Дунькой», долго и мучительно разматывала бинты, присохшие к ранам. Хирург, суровый и немногословный, с интересом разглядывал изрезанную ногу: — Вам повезло, лейтенант Колобов, — и добавил, обращаясь к «гвардии Дуньке»: — Готовьте его ко второй операции. Нужен рентген. Осколок глубоко проник в область левого бедра. Хирург обрабатывал рану, бросая в таз алые от крови тампоны. Алеша, сцепив зубы, следил за тем, как быстро и точно движутся руки хирурга. Ногу положили в гипс, и врач распорядился, чтобы Алешу отнесли в ту палату, где несколько посвободнее. Вскоре Алеша ближе узнал нескольких раненых из палаты. Неторопливые рассказы бойцов о прошлом житье-бытье скрашивали однообразную жизнь госпиталя, отвлекали от болей и мыслей о предстоящей операции. А как-то вечером в палату заглянула девушка в белом халате и шапочке. — Колобов есть? — спросила она. — Да, — спокойно ответил он, решив, что это принесли ему жаропонижающие таблетки. — Из Алма-Аты? — спросила она, пробираясь к нему. Он не успел ничего сказать. Она разглядела его в сизых сумерках комнаты, и ее глаза округлились: — Леша… Ой, да как же ты!.. Это была Тоня Ухова, дурнушка Тоня, которая жила недалеко от Алеши, на том же болоте, та самая Тоня, которая донесла на Алешу Петеру. Она присела на краешек кровати, осторожно взяла его руку, погладила ее и легонько пожала. Алеша пристально смотрел ей в лицо, словно пытался прочитать на нем все, что случилось с Тоней за время войны. Оно было прежним. Лишь на правой щеке чуть обозначилась ямочка, когда Тоня улыбнулась, а потом и ямочка спряталась. — Сестра милосердия, — прошептал Алеша. — А почему я тебя до сих пор не видел? Ты работаешь здесь? В другом конце комнаты кто-то замычал и скрипнул зубами. Тоня повернулась на стон, прислушалась. — Я была на передовой. После ранения попала в этот госпиталь. В самый раз, когда бои шли под Сталинградом. А подлечилась, оставили меня здесь, в женском отделении, — сказала она. — Вступила в партию. Можешь поздравить. — Я рад за тебя. — Привыкла уж в госпитале, — проговорила после некоторой паузы. — Тоня, у вас не было последнее время раненой санитарки? Ногу ей оторвало. Наташа Акимова. — Алеша приподнялся на локте и задышал тяжело, как будто делал какую-то трудную работу. — Ты лежи. У тебя все идет нормально. Я смотрела историю болезни, — Тоня поспешила успокоить его. — Сестричка, — позвали в другом углу комнаты. — Кажется, кончился он. Тоня поспешно поднялась с койки, прошагала по комнате. И Алеша увидел, как она взяла и тут же опустила чью-то коченеющую руку. Минуту спустя пришли санитары с носилками. Их встретило общее молчание. И сами они, не сказав ни слова, положили умершего на носилки и на вытянутых руках, поверх коек, пронесли к двери. Тоня ушла с санитарами, слабо кивнув в сторону Алеши. Сосед по койке проводил ее долгим взглядом и сказал с явной завистью в голосе: — Везет же людям! — Да вы о ком? — Алеша повернул к нему голову. — Да уж не о тебе. Вы, как я понял, давно знакомы? — Учились вместе, в одном классе. Раненый сел на койке, поджав по-восточному короткие и худые ноги, на которых висели широкие, как юбка, застиранные штаны из синей байки. Он зачем-то пощупал свой кадык и грустно улыбнулся: — Я знал много женщин. Я ценил в женщинах темперамент — страстность. И жестоко ошибался. Темпераментной может быть и лошадь. А главное в женщине — святое чувство верности. Ты представить себе не можешь, как она любит его! Когда рядом с ней Назаренко, она никого больше не видит. — Тоня? — удивился Алеша. — Тебе кажется странным? — Она когда-то клялась не любить и не выходить замуж. «Так вот почему Тоня не на передовой. Интересно, он-то как? Любит ее?» — подумал Алеша. Ему захотелось, чтобы все у Тони было хорошо. Назавтра Тоня пришла снова. За окнами палаты гудел ветер, от его порывов дребезжали окна. На душе у Алеши было тоскливо от воспоминаний о доме, о Наташе, о школьных и фронтовых друзьях, которых разбросала война по белу свету. Соберутся когда-нибудь они вместе? Вряд ли. — Ты никого не встречала из наших? — спросил Алеша, когда Тоня подошла и наклонилась к нему. — Нет, а ты? — На фронте видел Илью Туманова. Алеша рассказал ей про короткую встречу за Миусом. Так и не довелось сойтись им снова, как договаривались. Тоня слушала внимательно, не сводя глаз с Алеши. Да, слаб он. Лицо белое, с зеленоватым оттенком. Значит, потерял много крови. — Никакой Акимовой у нас не было и нет. Я проверила по спискам с самого января, — заговорила она, когда он смолк. — Эта Акимова — знакомая тебе? Твоя девушка? — Да, мы с ней подружились. И ее ранило в первый же день наступления. — Ее из армейского госпиталя могли эвакуировать сразу в глубокий тыл. Так чаще всего и бывает, когда грузят раненых в специальные санитарные поезда, — сказала Тоня. Он вздохнул: — Я найду ее. Все равно найду! И Тоня призналась: — Я тоже встретила такого человека, Алеша, такого человека!.. Ты только не смейся надо мной. И мне боязно за свое счастье. И еще как-то не по себе, что время теперь трудное, военное, столько беды, горя кругом, а я думаю о своем личном, дрожу за него, — она вспыхнула румянцем и отвернулась. — Я такая счастливая! — Мне кажется, что это всегда прекрасно. — Любить? — Да. — Я тоже так думаю. А стал Алеша через несколько дней поправляться после второй операции, Тоня зачастила к нему, и они говорили снова и снова о том, о чем никогда не открылись бы никому другому. Однажды Алеша познакомился с Назаренко и узнал от него, что тот любит Тоню. Тогда Алеша уже встал на костыли. В крохотной комнатушке, которую занимал в одной из хуторских хат старшина Назаренко, допоздна пили кислое красное вино за скорую победу. Вскоре госпиталь переехал поближе к линии фронта, а раненых, в том числе и Алешу, развезли по разным местам… Как давно это было! Впрочем, прошел всего год. Алеше залечили раны. Хуже было с контузией. Вдруг начались нервные припадки с адской головной болью, а иногда терял сознание. Только в марте сорок пятого Алеша появился в родном городе. Ему, как инвалиду войны, должны были платить пенсию. Но он думал об устройстве на работу. Ходил по городу и присматривался к объявлениям у трамвайных остановок и рекламных щитов.2
Был по-настоящему теплый день. Такие дни иногда выдаются здесь ранней весной. Пусть земля еще дышит холодком и в скверах не совсем растаяли сугробы, а солнце ласково обнимает прохожих, греет им бока, спины, заставляет их радостно щуриться. Алеша вспотел, пока шел к Ахмету. А ведь на нем и была-то одна гимнастерка. В комнатке же ему стало прохладно, а полчаса спустя он совсем замерз. Очевидно, давно не топили печь, на которой, как и на стенах, отсырела и кое-где отвалилась известка. — Ты набрось одеяло на плечи, — посоветовал Ахмет, на котором была старая, много раз штопанная разными нитками теткина кофта. Он кутал в кофту свою плоскую грудь, словно больше всего мерзло у Ахмета сердце. Алеша позвал Ахмета на улицу, но тому очень хотелось показать свои работы. Может, за всю войну запросто пришел к нему первый гость. Художники, конечно, не в счет, они хоть и лучше разбираются в живописи, но не всегда говорят то, что думают. Черт возьми этот вольный цех! Ахмет перебирал наваленные в углу картины и этюды. Одни из них были написаны на мешковине, другие — на картоне. — Сейчас, сейчас я найду тебе, — волнуясь, говорил он. Алеша, сидя в старом, скрипучем кресле, спиною к окну, наблюдал за Ахметом, за его маленькой фигуркой. Несомненно, он был болен. Об этом говорило его лицо: белый, почти стеариновый лоб, малиновые пятаки румянца под скулами. — Я хочу показать тебе мою последнюю работу. Я написал ее прошлым летом, а с той поры так ничего и не создал для души, — грустно говорил он. Ахмет все никак не мог найти то, что хотел показать Алеше. И он поставил перед Алешей, чтоб только тот не скучал, картину «Весна в садах». На полотне яркой зеленью дымились яблони на свинцовой жирной земле. Куда-то далеко уходила тропка, и на ней виднелся маленький кустик прошлогоднего бурьяна. «Он действительно талантлив. Какое-то колдовство! Стихия, она обрушивается на тебя и властвует над тобой», — с восторгом подумал Алеша. — Ахмет, помнишь, ты говорил, что не любишь писать зелень? Но ведь написал же. — Это не зелень, Алеша. Здесь совсем нет зелени, — с надрывом закашлял Ахмет. — Я понимаю. Картина сильная. — Ее покупал у меня музей. Деньги не очень большие, но это так приятно. Еще останешься потомкам. И я много раз приходил в музей с надеждой, что ее повесят в доброй компании работ современных художников. Но ее пристроили, как задник в витрине, где были фрукты. Красные и лимонно-желтые яблоки, коричневые груши… Я на коленях просил картину обратно, я обещал принести взамен шикарнейшие натюрморты с ярчайшим национальным орнаментом. И они сдались. Ахмет снова зашелся кашлем. Привычным движением достал из кармана скомканный платок и поднес его к губам. И Алеше показалось, что в уголках Ахметовых губ вздулись и лопнули красные пузырьки. — Говорят, в картине нет необходимой жизнерадостности, — говорил Ахмет. — Но ведь Семкина культя — реальный факт… — Чья? — резко подался к нему Алеша. — Чья культя? — Семки Ротштейна. Был на фронте, ранен, теперь на заводе экспедитором. Ты не знал, что он в городе? Давно уже. — Вот что! А ведь альпинистом был… С культей не ходить ему в горы, — сказал Алеша. — Про наших ребят говорил. Васька Панков и Петер спасли Сему. Они в одной роте служили. — Значит, экспедитором? — Что ты! Важный такой, с портфелем. Его и не узнаешь. Мы как-то встретились в детском доме. Я вел там кружок рисования, а Семин завод шефствует над детдомовцами. Он нам и краски доставал, Сема. Авторитетнейшая личность! — Вон оно что! — Я завидую ему, — признался Ахмет. — Он нужен людям, все его уважают. Это ведь здорово, когда в тебе нуждаются. Верно? — Конечно. — Он и сам пластается на работе и другим не дает передыху. Алеша посмеялся, а потом спросил: — А еще кто вернулся? Ахмет пожал худыми плечами: — Больше не знаю. Да, Ванек приезжал домой на побывку. На Вере женился. Ну на этой самой, из нашего класса, с которой ты в «Медведе» играл… — Ванек — на Вере? — недоуменно протянул Алеша. Ему была явно неприятна эта новость. — Но как же так?.. На выпускном вечере — я это прекрасно помню — она говорила, что никогда бы не вышла за него замуж… — Так они все говорят, — равнодушно произнес Ахмет. — Забрал он Веру куда-то под Красноярск. Она тут трудно жила, Вера. Чтобы перевести разговор на другую тему, Алеша кивнул на мольберт, на котором стояло полотно в подрамнике, прикрытое двумя полосами грязных обоев: — А это? Ахмет вздрогнул, как пойманный с поличным воришка, и повесил свою большелобую голову: — Так. Рисовал по заказу филармонии. Рисовал я, но… С натуры. Два сеанса, примерно по часу, когда он приезжал в город. С портрета на Алешу глядел лауреат, которого еще в сорок первом предлагали увековечить Ахмету. Но Ахмет отказался, он считал, что это не его дело — писать портреты. Ахмет хотел пропеть в живописи гимн борцам. Ахмет хлопнул себя по квадратному лбу ладошкой: — А небо мое под матрацем! Здесь, здесь оно! — и кинулся к кровати. — Слушай, Ахмет, а ты знаешь, что Петер в плену? — глухо спросил Алеша. — Да ты что? Алеша утвердительно кивнул головой. Он видел, что Ахмет не верит ему. Впрочем, и сам Алеша не представлял себе, как это Петер сдался на милость врага. Вместо того, чтобы стрелять по фашистам, он бросил оружие и молил о пощаде. Нет, это не похоже на Петера. Но ведь пил же немецкие чаи! — У меня в руках была немецкая листовка с Петеровой фотографией. Точно, — сказал Алеша. Ахмет так и застыл с картиной в руках. Вороненые глаза сурово блеснули из-под насупленных бровей. Именно таким он бывал всегда, когда очень уж сердился. Алеша помнил школьные драки, в которых участвовал Ахмет. Обычно тихий, уравновешенный, он взрывался, как динамит, если его обижали. — Я не был на фронте. Я хотел воевать, но меня не взяли, — нервно заговорил Ахмет. — И я не знаю, могу ли судить Петера. Но считаю, что он последний мерзавец. Тебе не нужно рассказывать, каким активистом он был. Член комсомольского комитета, вся грудь в оборонных значках. Чуть ли не в маршалы метил. Да что там! Он легко отказался от отца и так же легко от Родины. И погибнет он где-нибудь, как собака!.. Ахмет закашлялся. И Алеша с досадой подумал, что напрасно завел этот разговор. Очевидно, Ахмету нельзя волноваться. Вон как зашелся в кашле. — Давай прогуляемся. На улице чудесно! — сказал Алеша, протянув руку за палочкой, на которую он опирался. Но Ахмет остановил его. Ахмету хотелось показать свою картину, ту самую, которую он считал лучшей, потому и запихал под матрац, чтобы сберечь ее, не в пример другим полотнам. — Прежде я не рисовал неба. Я не очень любил его, потому что не понимал. Всякие там кисейные облачка не очень увлекали меня… Теперь смотри! — Ахмет прислонил полотно к стене и провел ладонью по шершавой его поверхности. За узкой полоской песчаной земли голубело небо. Высокое и бесконечное. Оно было прозрачным, как родниковая вода. И не скользило по небу ни одной тучки. Лишь на песке обозначилась смутная тень от чего-то. Может, тень самолета, а может, и птицы. Или набежавшего на солнце облака. — Ну как? — торжествующе спросил Ахмет. Алеша молчал, разглядывая картину, смысл которой явно ускользал от него. И, между тем, чувствовалось, что это не просто натура, перенесенная на холст. Это была какая-то большая мысль, высказанная в цвете. — Уход от человека в природу… — Ахмет многозначительно засмеялся. — А здесь они слились воедино. Они начинаются здесь и кончаются, чтобы снова начаться. Это — образ вечности, Алеша. Ты взгляни на малахитовую кромку неба. У самой земли… Алеша внимательно посмотрел на полотно, затем перевел недоуменный взгляд на Ахмета: — Я не вижу никакого малахита. Ты дальтоник, Ахмет. Ты снова спутал цвета. Ты не в ладу с зеленью. Плечи у Ахмета мелко запрыгали. Непонятно было, то ли смеется он, то ли опять у него приступ кашля. — Дальтоник? А это что? — он ткнул пальцем в портрет лауреата. — Здесь ты найдешь все цвета. Они на своем месте. Помнишь, как учил нас физик? Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Красный, оранжевый, желтый и так далее. Но ты прав. Надо идти. Пойдем-ка выпьем, Алеша, за нашу встречу, — и, заметив некоторую растерянность Алеши, добавил. — На выпивку у меня найдется. Ахмет накинул на плечи рыжий коротенький пиджак с дырами на локтях. Пиджак в нескольких местах был сильно испачкан масляной краской, и эти крупные пятна придавали его хозяину воистину живописный вид. Они вышли на улицу и направились к Зеленому базару. И снова, в который уж раз, Алеша подумал о больших переменах в жизни города. На углу улицы Абая, у редакции газеты, он увидел толпу. Как непохожи были эти люди на тех, которые, читая первые оперативные сводки, надеялись на скорую победу! Дорого достались им четыре военных года. И Ахмет, он тоже стал другим, совсем другим. Он уже не улыбался так открыто, приветливо, как прежде. В нем что-то надорвалось. И в этом виновата, конечно же, война. Люди думают о снарядах, о фронте, о победе. Что им до судьбы еще никем не признанного живописца! Это, конечно, обидно. Алеше было жаль друга. Но помочь ему он ничем не мог. Алеша сам не знал пока, как он будет жить завтра. — Я встречал Ванька. Не нравится мне он. Глупейшее, самодовольное лицо. Дослужился до капитана. Как ты дружил с ним? Ведь он совершенно неинтересный парень, — сказал Ахмет. — Ты же помнишь, что с Ваньком я играл в футбол да иногда плановал. Потом, наверное, он не так уж глуп, если хорошо устроился и женился на Вере, — проговорил Алеша, как бы оправдываясь. И подумал, что Ахмету тоже нравится Вера, поэтому-то он и говорит так о Ваньке. Но Алеша отогнал эту мысль. Они зашли в закусочную, где на каждые сто граммов водки выдавали без карточек блюдечко бордового, кислого винегрета. Торговал здесь плутоватый мужик с висевшей, как плеть, правой рукой в перчатке. А помогала ему румяная бабенка лет сорока, очевидно, жена. В закусочной было грязно. Воняло капустой, потом, едким махорочным дымом. Небритые выпивохи с налитыми кровью глазами нахально сунулись к Ахмету: — Дай, браток, пару рублей. Душа горит. Ахмет ответил им резко: — Нет у меня денег. Его тон возмутил выпивох. Один из них — матрос на костылях — широкой грудью попер на Ахмета. Тогда Алеша решительно прикрыл друга плечом. Матрос хотел убрать Алешу с дороги, толкнул, но тот устоял. — Не лезь, дядя. У нас действительно денег в обрез, — мирно сказал Алеша. — Пусть так и говорит. А то врежем промежду глаз — и амба! Сыграет в ящик. Ахмета окликнули рослые, интеллигентного вида парни, разделывавшие на пивной бочке вяленого леща. Когда он подошел к ним, парни принялись дружески похлопывать его по плечам. Это не ускользнуло от матроса, и он сразу обмяк, пробормотав что-то. Ахмет тут же вернулся и, заняв у скрипучего прилавка очередь, сказал: — Мне довелось работать у Эйзенштейна. У знаменитости киношной. Его к нам эвакуировали, и он снимал фильм про Ивана Грозного. Так я у него декорации малевал, сдельно. И вот с этими пижонами познакомился. — Наверное, специалисты? — Если бы! Оформление, прожекторы передвигают. В атаки ходят в «Боевых киносборниках». У них это лучше выходит, чем у фронтовиков. Типичнее. В Алешиной душе рождалась неприязнь к этим холеным, жизнерадостным парням. Положить бы их хоть под одну настоящую бомбежку! И как бы сразу слетела с них вся напускная интеллигентность, все их пижонство! Алеша отвернулся от ребят и снова встретился взглядом с рябым матросом. Машинально полез в карман гимнастерки, достал последнюю трешницу. — Возьми, браток, — отдал ее матросу. Тот молча рассматривал помятую зеленую бумажку, словно не веря, что это и есть деньги. И вернул трешницу Алеше. — Мне ведь не милостыня нужна, а душевность, — глухо сказал рябой. — Куда ни придешь, везде тебя обрывают. Мол, знаем мы вас. Опять, мол, шуметь начнете. А почему они так хулят нас, браток? А потому, что хотят стать вровень с нами. Мол, все одинаковые, все воюем: вы — там, на фронте, мы — здесь. Врете, врете, гады! — вдруг закричал он. — Совесть у вас нечистая. На фронт никому дорога не заказана! Если ты патриот, иди туда и воюй! — Успокойся, — сквозь зубы проговорил Алеша. — Не ты один воевал… И за всех не говори. Лучше посмотри, как люди работают в тылу, как им туго приходится… Рябой рассмеялся, захрипел и, сильно стукнув костылем в дверь, ушел. За ним подались двое его друзей. На пороге они остановились и кулаками погрозили раздиравшим леща парням. — А ведь матрос прав, — с тоской проговорил Ахмет. — Я понимаю, что кто-то должен быть и в тылу. Но если ты здесь, снимай шапку перед фронтовиками. В этот день они долго ходили по улицам. Говорили о войне, о приближающейся победе. Лишь когда стало невыносимо холодно, они разошлись по домам. И Алеша долго думал о картинах, новых замыслах Ахмета, о Вере и Ваньке, а еще об ожесточенном кем-то рябом матросе из «забегаловки».3
Найти работу оказалось не так просто, как считал поначалу Алеша. Он имел аттестат об окончании десятилетки, но у него не было ни здоровья, ни специальности. На склады и в магазины требовались грузчики. Но куда бы Алеша ни приходил, везде его мерили удивленным взглядом: хромой, с палочкой еле ползает. И даже справки не спрашивали, где Алеша значился инвалидом второй группы. Только смотрели на него и говорили: — Кого нам было надо, мы уже взяли. Ходил Алеша и в типографию, которой нужны были ученики в наборный цех. Директор отнесся к нему сочувственно: угостил папиросой, поинтересовался немудреной Алешиной биографией. Казалось, что теперь-то уж все в порядке. Но в конце концов и этот сказал: — С грамотешкой у тебя нормально. Однако наборщик должен стоять у наборной кассы. А, кроме того, объявление устарело. Приняли мы сколько надо, и даже лишних. К сожалению, — и широко развел руками. После нескольких дней упорных поисков работы Алеша разозлился и пошел в военкомат. Долго ждал приема у пожилого майора, к которому шли и шли демобилизованные по ранению офицеры. Каждый нес сюда свое горе и свою просьбу. И майор, бывший фронтовик, как только мог, так и помогал им. А если не в силах был помочь, то утешал. И поэтому большинство офицеров выходили из его кабинета умиротворенными. По крайней мере, так показалось Алеше. Кабинет у майора был маленький. Он скорее походил на коридор: узкий и длинный. Стол и стулья завалены папками с личными делами офицеров. Наверное, у майора, из-за множества посетителей, никак не доходили руки до этих папок, иначе он убрал бы их куда-нибудь с глаз. Майор встал и вышел из-за стола навстречу Алеше. Он был высок и сутул, на висках густо дымилась седина, а глаза светились отеческой добротой. — Лейтенант Колобов, — представился Алеша. — Гвардии лейтенант, — поправил майор, взглянув на Алешину грудь, на которой блестел золотом и алой эмалью гвардейский значок. — Присаживайся, голубчик, и говори, — он подвинул Алеше свободный от папок стул. Но Алеша не сел. Не собирался он задерживаться здесь, знал, что за дверью тоже ждут другие офицеры. Он сразу же, отведя в сторону взгляд и запинаясь на каждом слове, стал рассказывать о своих неудачах. — Я ведь согласен на любую работу, — доказывал он. — Постараюсь что-нибудь найти подходящее. Только ты пойми и завмагов. Им поздоровее народ нужен. А ты, брат, поступай-ка в институт, раз у тебя десятилетка. Ты ведь молодой еще — не то, что я. Очень даже понимаю тебя, голубчик. Сам был в твоем положении, все понимаю. Иного демобилизуют из армии, а он и радуется. Отвоевал свое и едет к семье, к своей работе. А я этого страсть как боялся, что уволят меня в запас. Кочегаром работал на паровозе до армии, вот и вся моя профессия. Давно это было. Теперь же и тяжело у топки стоять — не те годы — и обидно как-то. Все ж пятнадцать лет в армии отбухал, до майора дослужился. Алеша слушал майора и думал о том, что в общем-то ничего плохого и не случилось. Можно было сходить еще кой-куда по объявлениям. И насчет учебы он правильно говорит. — Пенсия-то у тебя большая? — участливо звучал голос майора. — Пятьсот пятьдесят. — Оно ведь, что пятьсот, что тысяча. Деньги сейчас ничего не стоят. А карточка тебе — полкило хлеба. И на работе будешь получать столько же, — рассудил майор. И он проводил Алешу, улыбаясь и ободряюще подмигивая ему. Не унывай, мол, дружище! Но как было не унывать, когда семья бедствовала. Картофель и свеклу давно съели, даже для посадки ничего не осталось. Спасибо хоть Тамаре, маленькой Тамарочке, что она иногда приносила с базара овощи. Но Алеша знал, какой ценой они доставались не по годам взрослой сестренке. С той поры, как умерла бабка Ксения, весь дом держался на Тамаре. А умерла бабка в сорок четвертом. От голода. Она не думала о себе, когда ломала свой кусочек хлеба и половину отдавала Тамарочке. Она не могла поступить иначе, потому что у внучки были вечно голодные глаза. Но бабка еще бы протянула немного, а может, и выжила бы, не случись несчастье. Тамара ходила в магазин, и у нее вытащили хлебные карточки, все три карточки. А произошло это в самом начале месяца. Страшно было даже подумать, как доживут они до новых карточек. Дело было летом, и бабка Ксения толкла и варила крапиву. По воскресным дням отец ходил далеко в горы и приносил крохотные, едва завязавшиеся яблоки-дички, их тоже варили. Заведующий складом сжалился над отцом и дал три куска мыла. Мыло обменяли на хлеб и растянули эти жалкие крохи на целую неделю. Когда они кончились, бабка и померла. Последним усилием холодеющей руки она достала из-под себя несколько кубиков хлеба. Это были ее порции за все дни недели, она берегла их для Тамары. Бабка знала, что мыла больше не будет и что нечего поменять на хлеб из тряпья. Может быть, она и спасла Тамару. Ценою собственной жизни. После смерти бабки Ксении сестра бросила учиться и поступила работать на обувную фабрику. Подносила заготовки, убирала в цехах. Жить стало полегче. На фабрике была столовая. Кое-что оттуда Тамара приносила отцу. Работала Тамара и сейчас. Алеше было жаль сестренку, но он ничего не приносил домой сам. Лишь тешил себя надеждой, что устроится на работу, а скоро сажать картошку, и посадит он столько, сколько сумеет купить семян на зарплату и пенсию. Ведь не обязательно сажать картошку целиком, можно резать ее на части. А лето пролетит быстро и, если огород поливать, картошки будет у них вдоволь. Алеша ждал письма из военкомата, но его все не было. И тогда он вспомнил о Костином отце. Дядя Григорий всегда говорил о своей дружбе с директором, вот он и поможет устроиться. Да и вообще-то пора бы навестить Костиных родителей, узнать, где Костя и что с ним. Эх, и свинтус же ты, Алеша. И вот снова она, хорошо знакомая улица, мощенная крупными — чуть ли не с голову — булыжинами. Недостроенные хибарки справа и слева. Какими их застала война, такими они и остались: у одних совсем нет крыш, другие — с заколоченными окнами. Три года не ходил здесь Алеша. Целых три года. И улица не изменилась совсем. А он стал другим. Даже смешно ему от одного воспоминания о том мечтательном, наивном парне, который гонял футбол с Костей и Ваньком, да плановал и запоем читал стихи. Теперь он офицер, инвалид войны. Его полюбила Наташа. Только бы найти ее. А он найдет, непременно найдет! Алеша по привычке надеялся увидеть Костину мать — тетю Дусю — у калитки. Но ее не было там. И Алеше тревожно подумалось, что это не случайно, что убит тот, кого она ожидала. Она увидела Алешу в окно и открыла ему дверь. Одна была дома и боялась жуликов. Она всегда их боялась. У нее душа обмирала, когда кто-то рассказывал не только об убийствах, но и о карманных кражах. — Батюшка мой! — всплеснула сильными, натруженными руками, пропуская Алешу в комнаты. — И какой же ты вырос красавец! Рана у тебя, видать, — показала на Алешину ногу. — Костика-то нашего нигде не встречал? Другие пишут домой, а наш все, наверно, своей барышне Владочке пишет. Да не знаю ее адреса-то, а то бы сходила. Ой, никак я не могу почтальонов видеть! Как подойдет почтальон к калитке, так у меня и сердце оборвется: неужели ко мне с похоронной?.. Тетя Дуся сильно постарела за эти три года. Углы ее рта опустились. На лбу и у глаз на загорелой коже глубже залегли белые морщины. Знать, нелегкой была ее доля. — Так Костика моего и не встречал? — повторила она. — Нет, тетя Дуся, — душевно и как бы прося прощения сказал Алеша. Она перебирала пальцами кисти грубой шерстяной шали, словно считала их. — Фронт ведь большой, — продолжал Алеша. — Теперь мы научились воевать. Прибавилось техники, и людям стало полегше. — А ты ведь и не знаешь, что Костика ранило в сорок третьем, в Крыму. Он из госпиталя тогда писал. В голову его осколком… — Вот как! — Ты-то давно приехал? А барышню Костикову встречал?.. У тети Дуси была тысяча вопросов, и на каждый из них ей хотелось получить ответ. Она спрашивала и о боях, и о госпиталях, и о пенсиях, и еще о многом-многом, что знал и не знал Алеша. Она усадила его за стол и принесла из Костиной комнаты черную бутылочку яблочного вина. Налила полный стакан, а на закуску достала из русской печки румяные картофельные лепешки. Только поставила их на стол, прямо в сковородке, и комнату заполонил духмяный запах, от которого у Алеши потекли слюнки. Но он сказал, отодвигая сковородку: — Вино выпью, а вот этого не хочу. Недавно дома поел. Однако тетю Дусю провести было трудно. Она понимала, что Алеша боится, как бы ее не оставить без обеда. И проговорила твердо, так, что ее нельзя было ослушаться: — Ешь. Худой ты, батюшка мой!.. У меня, слава богу, есть картошка. А много ли одной надо! — Как! А дядя Григорий? Разве он не с вами живет? Тетя Дуся встала, закрыла печь заслонкой, не спеша подмела тряпкой шесток и сказала без сожаления в голосе: — Забрали моего злодея в армию. Да хорошо хоть в Ташкент угнали. А то, пока их рота была тут, замучил он меня. Придет домой и начинает куражиться, зло на мне вымещать, что его с брони сняли. Плохо мы живем с ним, Лешенька… В последних ее словах прозвучала такая боль и невысказанная тоска, что Алеше захотелось как-то утешить тетю Дусю. И он сказал: — Вот приедет домой Костя, и вам легче будет. Он не даст вас в обиду. Тетя Дуся расцвела. Недаром Алеша говорил о возвращении ее сына. Значит, уж скоро наступит он, тот счастливый час. — Верно, что не даст. Теперь с ним не совладать Григорию. Партейный он у меня, Костик-то. А ты? Как же так? Несмелый ты, видать. Алеша рассмеялся. Непосредственность простой женщины забавляла и умиляла его. И в самом деле, что она понимает в партии! Разве объяснишь ей, что партийность — это ответственность. Перед народом, перед страной. Человек должен быть очень честным, бескорыстным и смелым, чтобы носить партийный билет. Алеша, как о чем-то самом заветном и почти несбыточном, мечтал о вступлении в партию. Тетя Дуся приглашала заходить еще. Может, Костик все-таки что-нибудь напишет. Дать Алеше его адрес? Но по этому адресу тетя Дуся отправила Косте три письма и не получила ответа. Алеша так нигде и не устроился. Ему было стыдно, что Тамарочка делает для семьи больше, чем он. Поэтому, получив пенсию, Алеша прямиком пошел на Зеленый базар. Ему хотелось купить что-нибудь из продуктов, чтобы сварить их к вечеру, а когда придет отец с работы, устроить пиршество. Отец тоже страдал, что ничего не может сделать для Тамары, чтоб она училась. На Зеленом базаре — невероятное скопище людей. Вопреки ожиданию, война не только не ослабила здесь торговлю, но оживила ее. Сюда шли с куском хлеба и котелком картошки, с поношенной гимнастеркой и кирзовыми сапогами, пачкою чая и еще со многим другим. Все это продавалось, менялось, расхваливалось на сотни голосов. Меж торговыми рядами ходили слепцы с малолетними поводырями, гадалки и просто нищие. Они гнусаво пели жалостливые песни, предсказывали судьбу и тянули грязные и худые руки за милостыней. Понятно, что в это трудное время больше подавали искалеченным на войне. И Алеша видел стариков и старух, одетых в живописное солдатское рванье. — Подайте несчастным. — Не оставляйте на погибель. А у столов, где бабы торговали солеными огурцами и капустой, заливался слезами седой паралитик:4
Алеша хотел повидаться с Марой. Конечно, он понимал, что прежних отношений между ними не будет. Много пролетело времени. И все-таки Мара была ему нужна. Она была его довоенной юностью. И если даже Мара — придуманная им самим легенда, все равно она близка и дорога Алеше. Саманного барака, где Мара жила у Жени, не оказалось. Во время одного из обильных летних ливней барак раскис и завалился, и о его обитателях никто в соседних бараках ничего не знал. Тогда Алеша пошел к Мариной матери. Знакомой тропкой он спустился с горки к арыку, возле которого в прошлогодних стеблях полыни и мальв стояли кряжистые тутовые деревья. Их не срубили на дрова, потому что от них, живых, больше пользы. И, словно в благодарность за это, — они выросли, раздались вширь и дали от корней побеги. А за арыком начинались огороды, разрезанные на участки самой причудливой формы. По межам лежали серые камни, и лишь кое-где поднимались тоненькие прутики тополей. Каждый клочок земли здесь кормил людей. Как когда-то давно, дверь Алеше открыла мать Мары. На этот раз она приняла Алешу за почтальона. Когда он ступил на порог, протянула к нему дряблую руку. — Наконец-то пришло. Почитаем, что он пишет. Сколько времени не было весточки! — озабоченно говорила она. — Я думала, он совсем позабыл меня. Удивленный Алеша намеревался уйти, поняв, что она не в себе. Но женщина, разглядев звезду на пряжке Алешиного ремня, сказала: — Вы военный, а мне показалось, что почтальон. Я жду письма от Бориса и всех принимаю за почтальона. А вы присядьте на лавку. Алеша прошел к окну и сел. Он думал, кто же такой Борис. Что-то Мара ничего не говорила о нем. Алеша вспомнил, что Борисом звали отца Мары. Но ведь он погиб в боях на Дальнем Востоке. Значит, женщина ждет писем, которые никогда не придут. Ни о чем больше не спрашивая Алешу, она переставила со стола на подоконник жестяную ржавую баночку с табаком, свернула себе самокрутку костлявыми, крючковатыми пальцами, подала клочок газеты Алеше. Он тоже закурил, и некоторое время они молчали, попыхивая крепким, забористым дымом. — Где живет Мара? — наконец спросил Алеша. — В море-окияне, на острове Буяне, — одним махом выдохнула она и рассмеялась тоненько, совсем детским голоском. И, как сонная, побрела к своей неприбранной кровати. Ее лицо, зеленое и морщинистее, сильно вытянулось и окаменело. Алеша повторил вопрос. Она посмотрела на него долгим и пристальным взглядом, пытаясь вспомнить, где и когда она видела этого человека. Зрачки у нее расширились и остановились. Она качнулась, словно ее кто толкнул сзади, и руки ее упали с коленей и повисли, как веревки. — Мара живет здесь. Вершинский ее выгнал, хотя она и не признается. Алеша вскочил. Значит, все-таки вышла за Вершинского… — Я пошел, — холодно проговорил он. Выйдя на улицу, Алеша заспешил было домой. И остановился. Нет, он дождется ее. Они поговорят как старые знакомые. Поговорят и разойдутся. Все-таки она всегда хорошо относилась к Алеше. Он будет неблагодарным, если не встретится с Марой. А что касается Вершинского, то она ведь любила его. Алеша вернулся. В дом он заходить не стал. С крутояра ему было хорошо видно все вокруг. Он хмуро глядел себе под ноги и думал о том, что скажет Маре. Он не будет ее упрекать. Не к чему это, да и не имел он права на упреки. Расскажет он ей о Наташе, которая на фронте, среди стольких мужчин, сберегла себя, не потеряла своего достоинства. Да и только ли Наташа такая! Женщина должна быть гордой, если хочет, чтоб ее уважали и ценили. Мара подошла к нему, по-прежнему красивая, нарядно одетая. Она узнала Алешу и бросилась обнимать и целовать его в губы, щеки, в шею, не стесняясь прохожих. Целовала и роняла крупные горошины слез. — Милый, милый, милый, — твердила она, целуя его. Ему было стыдно. Вот пялятся в окна люди, смеются над ним. — Приехал, милый. Живой! Я часто видела тебя во сне и все почему-то маленьким-маленьким. И ты просился ко мне на руки, — частила она. — Ты подожди минуточку, я занесу домой вот эту сумку, и мы погуляем с тобой и поговорим вдоволь. Ладно? Ну вот и прекрасно, мой родной, мой милый Алешенька!.. Взволнованный встречей, Алеша восторженно смотрел вслед Маре. Когда Мара снова оказалась с ним рядом, Алеша сказал: — Ты такая же, как была. Даже лучше. — Нет, совсем не такая, — покачала она головой. Мара взяла Алешу под руку, и они неторопливо пошли мимо изб и садов, в которых копошились люди. Мара светло улыбалась, поглядывая то на Алешу, то на сады, то на высокое безоблачное небо. Ее карие, цыганские глаза отсвечивали голубым, а ее плечо прижималось к Алешиному плечу. Так долго шли они молча, перебрасываясь лишь совсем незначительными словами о ранней и теплой весне, о пыльных улицах и еще о чем-то, что сразу же забывалось. О прожитом говорить нехотелось. Ничего стоящего, как казалось им, в их прошлом не было. И все-таки они чувствовали, что ничего не сказать о трудных годах они не смогут, что разговор на эту тему лишь откладывается ими до какого-то момента, но что он обязательно состоится сегодня. — Ты заходил к нам, в дом? — неожиданно спросила Мара, когда они вышли к вокзалу и зашагали по асфальту вдоль трамвайной линии. — Там мать. Она больная. Больше года держали ее в психиатрической. Стало лучше, но иногда заговаривается. Такую немыслимую ерунду несет, что ничего не поймешь. — Да, это заметно, — согласился он, глядя, как гаснет ее красивое лицо. — Конечно, она тебе жаловалась на меня, что я редко бываю дома. Иногда сплю прямо в цехе, когда выполняем срочные заказы фронта. Я теперь на заводе работаю… Или про Вершинского говорила? Она не любит его. Да, я ведь была замужем. За талантливым артистом, любимцем публики, которому на каждом спектакле подносят цветы, корзины цветов. Я ведь дура, без ума от него была. Броситься под поезд хотела. А он оказался пошляком и развратником. И в жизни притворялся, играл в благородство. Козявка жила страстью Отелло! Боже мой, страшно вспомнить, как это было все гадко!.. Сначала я исполняла некоторые его прихоти, гордостью своей поступилась, потому что жить с ним надеялась. Думала, что это привяжет его ко мне. А он стал издеваться над моими чувствами. Ужасно и мерзко… И я ушла от него. Вот так, Алешенька… — У тебя ведь был еще один знакомый… — не поднимая глаз, сказал Алеша. — Опер? Он на фронте. Почти до сорок четвертого писал, а потом как отрезало. Я его не любила. Из озорства дружила с ним. Жизни красивой хотелось, необыкновенной. Песням и пляскам цыганским выучилась. Помнишь? — она скривила губы в слабой вымученной улыбке. — Конечно, помню. — А это правда, насчет снов. И снился ты мне потому, что думала о тебе, боялась, как бы тебя не убили. О тебе на заводе все мои подруги знают, и все в тебя влюблены по моим рассказам. А делаем мы снаряды. Сутками на работе без отдыха. — Перехваливаешь ты меня, — пробормотал Алеша. Эти его слова как бы подхлестнули ее. Она принялась вспоминать все свои встречи с Алешей. Она хорошо помнила каждую деталь, и Алеша понял, какой всеочищающей была для нее их дружба. — А теперь расскажи о себе, — попросила она. — Ты немцев видел? — Конечно. — Живых? Я даже не могу представить что за люди фашисты. Да как их только называют людьми! А много наших убито? И чего я спрашиваю? Много, если столько идет похоронных. Я не знала, где ты живешь, а то бы пришла к твоим узнать, живой ли ты, — она дернула его за рукав, остановила. Ей очень хотелось еще раз взглянуть в его светлые и усталые глаза. — Я почти не писал домой. Особенно с фронта, — сказал Алеша. — Ты трусил хоть один раз? Или ты мне не скажешь правду? Однако, все трусят вначале. — Да, жутковато под бомбежками, — признался Алеша. — И зачем эти войны, — в раздумье сказала она, ускоряя шаг. — Разве нельзя без них? Скажи, ты ведь умный, все понимаешь. — Кто его знает! — уклончиво ответил Алеша. — Как бы чудесно было, чтоб навсегда мир. Вместо оружия, чтоб люди делали трамваи, автомобили. Растопили бы льды на севере, и тундру засеяли пшеницей. И росли бы у нас тогда по всей стране пальмы и ананасы. — А ты будешь ко мне приходить, Алешенька? Мне трудно одной. Хоть иногда приходи. — Если найду время. Я собираюсь на работу. Хочу где-нибудь пристроиться, — сказал он и после некоторого молчания добавил: — А то в Сибирь уеду, где служил. — Но там ведь холодно. — Не очень. Я привык. Она снова остановилась и придержала его: — Скажи, Алешенька, честно… Нравлюсь я тебе? — У меня есть другая. — Я ведь не замуж напрашиваюсь, — сухо произнесла Мара. — Куда мне замуж! Если только ты согласишься, я… так просто… твоей… буду… И никого мне больше не нужно! Нравлюсь? — Да, ты хорошая, Мара. Взгляд ее ожил, и она сказала: — Теперь дай мне руку, — она взяла его руку и сунула себе в вырез платья. Заметив людей на тротуаре, Алеша тихонько высвободил руку. А Мара по-своему поняла этот жест. — Значит, не нравлюсь?.. Я не сержусь, Алешенька. Может, ты и прав, что не хочешь меня, после Вершинского. Потом ведь ты идешь со мной, а думаешь о ней. Я чувствую это… Он проводил Мару, дав себе слово никогда больше не бывать у нее.Мысль о поездке в Сибирь, которую он высказал совершенно случайно, с каждым днем все больше преследовала его. «Уеду в Красноярск. Спишусь с Ваньком и уеду. По крайней мере, не буду сидеть на иждивении отца и Тамары. Нужно обязательно поговорить с отцом. Сколько уж времени живу дома, а не говорил толком. Отец посоветует, как лучше поступить». Алеша не мог мириться с людской подлостью. Подлость, она даже формулу себе выдумала оправдательную: «Война все спишет». Делай, мол, что хочешь, живи, как хочешь, без оглядки. Алеша всегда считал, что подлецов нужно выводить на чистую воду. Но вот он попытался уличить жулика, и ничего не получилось. У жулика нашлось оправдание. Жулика не возьмешь голыми руками. И все же нужно бороться. Что и говорить, трудно Алеше в этой борьбе. Он ведь один на один с таким зубром. А если бы партийным был Алеша? Или работал в газете? Тогда он показал бы жулику! Он написал бы фельетон в стихах, который читала бы вся республика, а может, даже и вся страна. И Алеша на минуту представил себе, как бросаются к киоскам тысячи людей. Они берут газеты, читают фельетон Алексея Колобова, смеются, негодуют и требуют призвать к ответу спекулянта хлебными карточками. А фельетонист уже готовит материал против морального облика артиста Вершинского, пьяницы и многоженца. Как бы вытянулась рожа у Вершинского, узнай он о фельетоне! Но ничего поделать уже нельзя. Статья печатается и завтра появится в газете. И, может быть, первым прочитает ее директор типографии, который так душевно обошелся с Алешей, и пожалеет директор, что не принял Алешу в наборный цех. Но мечты останутся мечтами. Не писал Алеша статей, и поэтому не работать ему в редакции. Стихи — другое дело. Впрочем, можно попробовать сочинить статейку. Для себя. В газету нести не следует. В воскресенье утром Тамара ушла на базар, а отец с сыном принялись варить гороховый суп. Купил все же концентратов Алеша и, кроме того, достал скотских костей. Мяса на костях, конечно, не было, но варево покрывалось желтыми блестками. Помешав суп большой деревянной ложкой, отец удовлетворенно крякнул и полез в карман за кисетом. Первая цигарка за все утро. Самосад в мешочке над кроватью кончался, и отец растягивал его, как мог. Курил он сейчас почти одну бумагу и докуривался до того, что неизменно обжигал губы. Левая рука у отца, что была покалечена в первую мировую войну, плохо слушалась, когда он крутил цигарку. И Алеше хотелось помочь отцу, но отец ни за что не согласился бы на это. Он все делал сам. Момент для того, чтобы начать разговор, был подходящий. Отец никуда не собирался, и когда он задымил самосадом и сизые струйки потянулись к приоткрытой дверце печки, Алеша спросил: — Папа, ты считаешь, что правильно жил? Вопрос удивил отца. Он серьезно посмотрел на Алешу, задумался и произнес негромко: — Как тебе сказать… В целом — правильно, но ошибки конечно, были. И даже значительные. — А почему ты снова не вступишь в партию? По морщинистому лицу отца пробежали тени. Он нахмурился, глядя в огонь, сказал глухо: — Меня не примут. — А если приняли бы, пошел? Вступил бы в партию? — допытывался Алеша. — Нет, не пошел бы, — твердо проговорил отец. — Но почему? — Ты хочешь знать правду? — Да, только правду, папа. Для меня это очень важно. Ты сам не представляешь, как важно! На этот раз отец бросил окурок в огонь прежде времени. И круто повернулся к Алеше: — Тогда слушай. Я до сих пор считаю, что не нужно было выселять столько людей с родной земли. И середняков кое-где прихватили. — Но ведь это были перегибы, — возразил Алеша. — Да, перегибы. — А партия? — Партия осудила их. Это я понимаю. А вступать в партию я уже стар. — Да что ты, папа! Вступают и постарше тебя. Отец рассмеялся, запустил руку в Алешины вихры: — Нет, сынок. Потом ведь упрекнут, что смалодушничал, когда кулаку бой давали. — А если я уеду в Сибирь? — Что? Надоело здесь? Но почему в Сибирь? — Просто так. Нравится мне там. — Жить-то где станешь? Сразу и решил? — Да. — А ты подумай хорошенько. — Не хочешь, чтоб я ехал? — Алеша потупил взгляд. — Если что-то будет не так, вернусь. Отец вздохнул: — Смотри. А как насчет учебы? Что-нибудь думаешь? — Буду учиться, папа. Работать и учиться, — горячо ответил Алеша. И почувствовал жалость к отцу и Тамаре, которых скоро покинет.
5
Майор из военкомата прислал записку, в которой сообщал, что есть должность кладовщика на овощном складе. Зарплата невелика, но торг имеет столовую. Как ни заманчиво было это предложение, оно не поколебало Алешиного решения. Он ждал лишь пенсии за очередной месяц, и когда ее получил, пошел сниматься с военного учета. — А, гвардии лейтенант, — радостно встретил его майор. — Присаживайся, голубчик. Местечко я тебе отыскал отменное. Валяй в торг. Я позвоню. Алеша рассказал, зачем он явился в военкомат. Майор поморщился: — Чего это ты придумал! Фантазируешь и так далее. Сибирь… Война-то ведь вот-вот кончится. И заживем, как положено. Да разве можно равнять такой город с Сибирью! Тут тебе и фрукты, и теплынь такая, а что в Сибири? Снега да морозы. Может, там девушка у тебя? Или кто еще? — Никого нет. — Так чего ты мне, голубчик, голову морочишь. Иди в торг, — майор весело подмигнул. — Но я уезжаю. В город Ачинск. Майор не сказал больше ни слова. Взял военный билет, сходил куда-то, пожал Алеше на прощание руку и принялся перебирать папки с личными делами. Видно, сердился он, что понапрасну старался, подыскивая Алеше подходящее место.Ахмет вышел на стук растерянный, вялый. Лобастая голова ушла в плечи. Только в глазах метался неистребимый огонь. — Сплю плохо. С той самой ночи, — признался он. — Все думаю. И это ты виноват, ты! Разбередил душу. Работать хочу, очень хочу… Да ты не стой у порога — проходи. — Тебе нужно в больницу, — сказал Алеша, стараясь не глядеть на друга. — Я умру, когда зацветет сирень. Мне всегда трудно в это время. Но прежде я напишу картину. Я успею ее написать! И еще вот такой замысел. Представь себе воду. Ведро воды. Закопченное, ржавое. И небритую щеку человека, который умывается. Лица не видно. Лишь в воде, в масляных кругах — огромные глаза. «Ты ничего уже не напишешь, Ахмет. Тебя не хватит на эту картину», — горько думал Алеша. — Но они не возьмут у меня эту картину, — продолжал Ахмет. — Я подарю ее школе для пионерской комнаты. Ребята повесят ее рядом с барабаном и горном. Это было бы прекрасно!.. — продолжал Ахмет. — Хватит, Ахмет! — оборвал его Алеша. — Извини, друг, — он сразу сник и заговорил совершенно другим тоном — просто и деловито. — Вчера вечером видел Ларису Федоровну. Сказал о тебе. Она просила зайти. Нашу школу перевели в другое помещение, а то здание занимает госпиталь. Если хочешь, пойдем к Ларисе Федоровне. Тут недалеко. Алеша уважал Ларису Федоровну за ее острый ум и справедливость. Да, тогда он много читал, твердо уверенный, что это очень нужно ему, что это больше пригодится в жизни, чем тригонометрические функции Ивана Сидоровича. Однако все эта годы совсем не заглядывал в книги и не писал стихов. Может, прав был тот, кто сказал: когда гремят пушки, музы молчат? А сурковская «Землянка» и симоновское «Жди меня» — те самые исключения, которые подтверждают правило. Правда, еще как-то живут подписями к карикатурам бесхитростные раешники. Кроме того, было у Алеши чувство, что он шел к Ларисе Федоровне на экзамен. Прожито нелегкое время, постигнуто многое. И Алеша знал урок, он готов был ответить на все вопросы. Когда Алеша вошел в вестибюль школы, ему вдруг показалось, что не было ни выпускного вечера, ни боя за Миусом, ни госпиталей. Словно все пригрезилось Алеше в короткую минуту забытья. Пусть это была совсем другая школа и учились в ней другие ребята. — Ну как? — спросил он у Ахмета, когда они по широкой лестнице поднялись на второй этаж. — Нормально, — ответил тот. Очевидно, Ахмет бывал здесь не раз. Его ничто не трогало так, как Алешу. А тому казалось: только поверни в коридор направо — и окажешься среди ребят из десятого «А». Замашет здоровенными руками, утихомиривая класс, учком Костя. Высунет в открытую дверь облупленный нос Ванек. Забасят, рассказывая о своих мужских победах, «женихи». А сторонкой, солидно позванивая осоавиахимовскими значками, пройдет Петер из десятого «Б», знающий всех иностранных деятелей. Тот самый Петер, по которому тайно вздыхали многие девчонки в школе. Но он, всегда мечтавший о ратном подвиге, не удостаивал их своей дружбой. Он считал, что прежде всего — школьная работа. Теперь Петер у немцев. И Алеше не хотелось говорить об этом Ларисе Федоровне. В учительской никого не оказалось, и Алеша с Ахметом в коридоре стали ждать перемены. Алеша, как прежде, с маху сел на подоконник. В ноздри ударило пылью, и он едва удержался, чтобы не чихнуть. И рассмеялся. Как все-таки здесь приятно! — А ты помнишь, Ахмет, как расписали меня в стенгазете? — Ну как же! Было дело, воспитывали. И наши труды не пропали даром. Мы имеем в лице товарища Колобова гражданина, живущего самыми передовыми идеями нашего века. Ура товарищу Колобову! — Чего смеешься, Ахмет? Ты думаешь, эти будут лучше нас? — Алеша кивнул головой в сторону классных комнат. — Не знаю. — Ты бы согласился поучиться сейчас, скажем, снова в десятом? — спросил Ахмет. — Конечно. Но не более одного-двух уроков. Мне противопоказано умственное напряжение. Врачи говорят, что после контузии нельзя допускать, чтобы появлялись новые извилины. — И ты точно исполняешь эти советы. — Не язви, Ахмет. Я ведь пришел к тебе проститься. Еду в Сибирь. Узнал адрес у Ваньковых родителей и еду. Ачинск — маленький городишко под Красноярском. — Брось пороть чепуху! Если уж ехать, то почему к Ваньку? Сам говоришь, что вы не очень дружили. А, понимаю… Уж не к Вере ли ты? — Нет. Чего теперь к ней! Не обязательно ведь жить мне в Ачинске. Я родился в деревне, люблю деревню… — А что ты станешь там делать? — скривил губы Ахмет. — Что другие, то и я. Посажу огород, заведу свинью, куриц, — шутя ответил Алеша. — Ну тогда прощай! Я приеду к тебе, в твои свинарники и курятники, чтобы сказать тебе еще одно пламенное «ура». Как говорится, жди привета, как соловей лета. Тишину потревожило стрекотанье звонка. Распахнулись двери классных комнат — и в коридор высыпала мелюзга. На втором этаже учились младшие классы, а в них не преподавала Лариса Федоровна. — Пойдем к лестнице, — потянул Ахмет Алешу. Она увидела их, обрадовалась. Каблучки ее старых, довоенных туфель торопливо застучали по лестничным маршам. Под мышкой она держала классный журнал. Подошла и протянула Алеше руку: — Вон вы какой! Рослый, плечистый. У нее было худое лицо, и на нем еще ярче горели крупные, как сливы, глаза. Лариса Федоровна была одета строго. На ней ладно сидел темно-синий бостоновый костюм с маленькими карманчиками. Она носила его и прежде. — Вы долго меня ждали? — заботливо спросила она, приглашая их в учительскую. — Вы подошли в самый раз. У меня сейчас нет урока, и мы наговоримся вдоволь. Они прошли в учительскую, Лариса Федоровна и Алеша сели на диван, обтянутый рыжим дерматином. Когда-то диван был мягким, а теперь он при малейшем движении скрежетал и толкался стальными пружинами. — Разошлись, разъехались вы. У вас теперь новые друзья, — заговорила Лариса Федоровна. — Но школу не забудете никогда. Верно же? И я не забуду ваш класс, Алеша. Это был первый мой выпуск. Школьная академия… А война надвигалась… Вы ведь моложе всех из класса? — Да. — Вот видите, а уже отвоевались… Все так выросли, вытянулись. Вы не встречали Владу? Она выше меня на целую голову. Учится в университете. Между прочим, она замужем… — Да что вы, Лариса Федоровна! А как же Костя? А Илья? — искренне удивился Алеша. — За кого она вышла? — Я даже толком не знаю, кто он. Кажется, какой-то деятель кино. — Осветитель, — сказал Ахмет голосом, в котором явно чувствовалось презрение. — Трепач. Меня знакомили с ним на студии. — Почему же ты молчал? — повернулся к Ахмету Алеша. — А ты не спрашивал. Лариса Федоровна неопределенно пожала плечами: — Влада — умная девушка. Я не думаю, чтоб она вышла замуж за… Лариса Федоровна хотела повторить брошенное Ахметом слово: трепач. Но споткнулась. В это время в учительскую как-то боком, волоча короткую ногу, вошел математик Иван Сидорович. Он приметил Алешу и поклонился. Он очень постарел. Взгляд его погас, как костер под проливным дождем. Не осталось ни горящего уголька, ни искорки. — В один год потерял двух сыновей, — шепнула Лариса Федоровна. Иван Сидорович проковылял в другой угол учительской и долго с шумом сморкался в платок. Покрасневший лоб его собирался в морщины, поблескивал потом. Он смотрел в потолок, словно отыскивая там что-то крайне необходимое для себя. — И никакого ума у Влады нет, если она так… — вернулся Алеша к прежнему разговору. — Ты не слышал об Илье Туманове?.. Погиб он где-то под Яссами, — мрачно проговорила Лариса Федоровна. — Илья?.. Ой как жалко его!.. Я видел Илью на фронте, — сквозь стиснутые зубы сказал Алеша. — Он был смелым командиром. Он… — Вы с его сестренкой Алей поговорите. Она в десятом «А» у нас. Расскажите ей об этой встрече. Там что-то сложное у нее с мамой. В общем, я вас сведу с Алей. Если вы не торопитесь, подождите до следующей перемены, — встала она на звонок. В ее голосе была просьба. Лариса Федоровна, видно, собиралась еще о чем-то поговорить с Алешей. В школе стих гвалт. Учителя ушли на уроки. Лишь Иван Сидорович все сидел в углу, думая о своем. Алеша решил заговорить с ним. Но Иван Сидорович начал разговор первым: — Неужели не может быть иного решения споров? Вы с палочкой, Колобов? — Врачи обещают, что скоро брошу. — Да, да, Колобов. Алеша, а за ним и Ахмет, подошли к Ивану Сидоровичу, который тяжело запыхтел, руками подтягивая больную ногу. Поморщил лоб, словно что-то вспоминая. — По своей наивности, я считал прежде, что все мои ученики должны стать математиками, — сказал он. — Кроме математики, я признавал лишь физику и химию. Этим и руководствовался, когда допекал вас. — А мы не обижались, — искренне признался Ахмет. — Я вам ставил когда-нибудь «неуд», Колобов? — Было такое, — усмехнулся Алеша. — Я беру его обратно, — на полном серьезе проговорил Иван Сидорович. — Вы хорошо учились у меня. Но часто делали прогулы. И я обижался на вас, иногда просто придирался к вам. — Да что вы, Иван Сидорович! — смущенно сказал Алеша. — У меня их было двое, — математик зашмыгал носом, и из его глаз, спрятанных под выпуклыми надбровьями, потекли слезы. Он не утирал их. На новой перемене Лариса Федоровна привела сестру Ильи Туманова. Такая же, как брат, долговязая, с рыжими веснушками на лице, Аля подала руку Алеше и робко сказала: — Я знаю вас. Вы вместе с Илюшей ездили в военное училище. В Ташкент. А я приходила на вокзал провожать. Так вы его видели на фронте? — Да, я неожиданно попал на его батарею. Точнее… — Послушайте, — торопливо забормотала она. — Мы живем совсем недалеко. Да вы, наверное, знаете — за площадью Коминтерна… Вы приходите к нам. Надо, чтобы об этом узнала мама. Только не проговоритесь, что Илюша убит… — Но я уезжаю. Совсем уезжаю. В Сибирь. — Как, уезжаете? — опешила Лариса Федоровна. — Вы ведь ничего не сказали о себе. Что собираетесь делать? Вам нужно идти в театр, Алеша. Вы так играли! Алеше вспомнилась первая репетиция «Медведя». Вернее, читка, когда только что распределили роли. Из-за какой-то вздорной Веры так обидел прекрасного человека. Но что толку из позднего раскаяния! — Конечно, я посмотрю. Если бы подучиться… — Непременно поступайте в театральный институт! — воскликнула Лариса Федоровна. — Вы — фронтовик, вас примут. А немного погодя Алеша подходил к дому Тумановых. Аля что-то тараторила про свой класс, про школьную программу. Но Алеша плохо ее слушал. У распахнутой калитки Аля еще раз предупредила: — О смерти Илюши — ни слова. А остальное можете рассказывать, как было. Мама не переживет, если узнает правду. Я скрыла от нее похоронную. — Я понял. Так и будет, — пообещал Алеша. Они вытерли ноги о веник, брошенный у порога, и вошли в дом. И столкнулись в прихожей с пожилой, болезненной женщиной в рваном ситцевом халате. Она лишь взглянула на вошедших, как из ее горла вырвался смятенный крик: — Вы от Илюши? — и замерла в ожидании. — Да, я от него, — как можно приветливее сказал Алеша. — Только я давно его видел. И именно в тот день меня ранило… — Он что-то не пишет нам. Боюсь, что его тоже ранило. Ведь если бы убили, то пришла бы похоронная… Да вы проходите в столовую. Как это благородно с вашей стороны, что зашли. Я уж совсем истомилась… А ведь ранят в руку, тогда как он напишет? Или после контузии потерял память. Но это проходит. Аля, дай стул молодому человеку. Так где же вы видели Илюшу? Алеша подробно рассказал о встрече с Ильей. Мать морщила сухие губы в довольной улыбке да покачивала головой. Она как бы сразу помолодела, набралась сил. Она подвинула свой стул поближе к Алеше и, тревожась за сына, спросила: — Значит, он был со своей батареей дальше от немцев, чем вы? — Конечно, дальше. Это ее устраивало. Глаза у нее светлели, наливались надеждой. Алеше трудно было говорить ей об Илье, скрывая от матери самое ужасное — его смерть. И, сославшись на неотложные дела, Алеша распрощался с Тумановыми. Теперь как можно скорее из этого города! Здесь встречи с друзьями и их родными не очень радовали. А в Сибири он начнет новую жизнь. Он с головой уйдет в работу, он непременно разыщет Наташу. И уже назавтра товарный поезд, прозванный «пятьсот веселым», вез Алешу в Сибирь. Поезд не спешил. Паровоз подолгу спокойно попыхивал белым дымком на остановках, словно размышляя, идти ему дальше или нет.
6
Ачинск оказался небольшим, ужасно грязным и милым городком. Он стоял на высоком берегу Чулыма, многоводной сибирской реки, которая сейчас, в апреле, еще лежала под толстым слоем льда и снега. Городок строился давно, и большинство его одноэтажных домиков осело, по самые окна ушло в землю. Заборы подернулись мхом, тротуары из плах попрели. Ачинск был сплошь деревянный, лишь в центре, на крохотной площадке, столпилось несколько кирпичных зданий в два этажа. На самом берегу реки возвышалось здание городского театра. Оно пустовало с начала войны. В какой-то сотне метров от театра — редакция районной газеты, а чуть подальше — аптека и городская баня. Зато на окраине Ачинска краснели кирпичом просторные казармы, прикрытые со стороны реки молодой березовой рощей. Казармы построили еще до первой мировой войны, и ачинцы считали их достопримечательностью города. Городок покорил Алешу тишиной. Было очень уютно на его узких, коротких улицах. Лишь изредка встречались прохожие, да иногда — подводы. Все здесь казалось созданным для отдыха и раздумий. С поезда Алеша, прихрамывая и опираясь на палку, направился к центру. Деревянный чемодан не был тяжел. В нем лежал армейский вещмешок да полотенце, да кусок хлеба, черствый, как камень. Конечно, Алеша свободно мог обойтись без чемодана, но он все-таки надеялся со временем что-то купить из верхней одежды и белья. Так будет хоть куда положить. Из-за реки порывами налетал знобкий ветер. И Алеша дрожал в старенькой, посеченной осколками шинели. Своя шинель у Алеши осталась где-то на фронте, а эту предложили ему в госпитале. За неимением ничего лучшего пришлось взять. Тамара сделала однажды попытку затянуть нитками многочисленные дыры на ней. Но просидела за починкой полдня, потратила тюрячок ниток и оставила свою затею. Дыр вроде бы и не убавилось, зато шинель теперь топорщилась во многих местах, стояла на Алеше коробом. Алеша сошел с поезда и оказался на крохотной привокзальной площади, огороженной штакетником. Ему предстояло здесь как-то устраивать свою жизнь, в этом городе. Ванек, разумеется, когда-то был дружком, и он примет Алешу на ночь-на две. Алеша понимал, что ему в общем-то будет рада и Вера. Алеше пришло на память, как ходил он к родителям Ванька за адресом. Он сказал им, что хочет написать Ваньку. Ваньков отец, хоть и узнал Алешу, но едко заметил: — Говоришь, друзьями были? А он теперь-то совсем не такой. Он, как картинка. Суконный китель у него, диагоналевые брюки. Да что ты! Так теперь редко кто одетый. А у Верочки-то шерстяные платья. И фетровые боты, и шаль пуховую он ей справил… Если бы знал Ваньков отец, как Алеша смеялся в душе над этим богатством! Прежде чем идти по адресу, Алеша завернул на базар за табаком. У крытого ряда прилавков было немноголюдно. Бабы продавали табак да семечки. Возле них вилось не более десятка базарных завсегдатаев. Их не трудно определить по тому, с какой фамильярностью относились они к торговкам, как не спеша беседовали между собой. — Не здешний? — спросил у Алеши один из них, в рваном пиджаке и грудью нараспашку. И как только терпел человек такой холодище! — Приезжий, — ответил Алеша. — Вот смотрю. — Смотри. А мы всех в городе знаем. — Ты в гости али насовсем? — В гости. — улыбнулся Алеша. — А понравится, так и насовсем. — В Ачинске-то первый раз? Нравится? Хороший у нас город, даже пиво можно достать, — сказал мужчина в рваном пиджаке. — А меня зовут Самара, — и он затянул густым басом. — Я из Самары сюда прие-е-ехал… Тут все знают, кто такой Самара! И если хочешь пива, то я куплю. Мой котелок, твои деньги. И тут Алеша увидел, что у Самары сзади на ремешке висит закопченный котелок. Самара стукнул по нему ногтями, и котелок глухо звякнул, словно жалуясь на хозяина. — Мы никого не обманываем. О-го-го! — забасил Самара. — А летом, если хочешь, приходи на лодочную станцию. Сын у меня там. Лодок на станции давно нет, но есть Венка, он научит тебя плавать без лодки. А теперь идем за пивом. Мы возьмем только вот этого, — он кивнул на плюгавого мужичонку в дождевике. — Жучок, давай с нами! Алеша был так стремительно атакован Самарой, что и не подумал сопротивляться. А в общем-то пива ему хотелось Что ж, придется понести некоторые расходы. Жучок был обрадован таким поворотом дела. Шагал вровень с Алешей и нашептывал: — Самара он — голова. Бухгалтером работал, вот так. Но съели его шалавы. Ты еще, кореш, поближе узнаешь Самару, так удивишься. У него денег куры не клевали На курорты ездил. И сейчас его отмой да побрей — и он антиллигентом будет. В ларьке стоял грохот. Ларек трещал под свирепым напором толпы. Над орущими, потными головами проплывали бидоны и котелки, графины и кувшины. — Давай деньги. Мы это оформим сейчас, — сказал Самара, отвязывая свой котелок. Жучок удовлетворенно чесал за ухом: — Что ты! Да чтобы он не достал! Да не было еще такого случая. — Самара желает пива, — раздалось в самой гуще толпы. Неведомо как, но бывший бухгалтер уже трепыхался там, как щука в садке. — Самару пустите, шалавы! — крикнул Жучок. И действительно, котелок Самары с тридцаткой в момент достиг прилавка и оказался в руках у продавца. А через считанные минуты он торжественно совершал обратный путь. — Не забудь, голуба, что мы повторяем, — пробасил Самара. — О-о-о! Люди гибнут за металл! По лукавому блеску выцветших глаз Алеша понял, что Самара напускает на себя дурость. На самом деле, он не так глуп. Спился, стал алкоголиком, и теперь ему проще просить милостыню, работая под дурачка. Алеша первым напился пива, передал Самаре котелок, спросил дорогу и пошел к Ваньку. Солнце уже цеплялось за крыши домов, и Алеша торопился найти нужную улицу и дом, пока светло. Ванек жил неподалеку от городского центра, на берегу реки, в старинном, просторном доме. Когда Алеша взбежал на высокое крыльцо и постучал, в сенях кто-то зашаркал ногами. Алеша услышал хорошо знакомый ему Верин голос: — Кто там? Ты, Миша? «Какой еще Миша?» — пронеслось в голове у Алеши. Кто бы это мог быть? Алеша совсем позабыл, что настоящее имя Ванька — Михаил. — Это я, Вера, Колобов. Открой, пожалуйста. Вера радостно ойкнула, отодвинула засов и широко распахнула дверь. И обвила Алешину шею, поцеловала его в щеку. От Веры пахло одеколоном, а еще чем-то домашним. — Лешка, да как же ты, а? — смеясь, она разглядывала и тащила его в дом. — А я боюсь одна, все время сижу на запоре. «Наверное, много богатства, потому и боишься», — подумал Алеша. Он снял шинель и оставил чемодан в прихожей. Вера позвала его в столовую. Алеша отодвинул тяжелую портьеру из плотной лимонного цвета ткани и оказался в большой комнате, стены которой были увешаны вышивками в рамках и фотографиями. Посреди комнаты стоял круглый стол на одной толстой ноге, накрытый скатертью, вышитой петушками. А за ним, в углу, был комод с большим зеркалом и слониками наверху. Рядом с комодом посвечивал дерматином диван, у которого на высокой спинке белела узкая льняная дорожка. — Вот здесь мы и живем, — не без гордости сказала Вера. — А там у нас спальня, — она показала на другую дверь, тоже прикрытую портьерой. — Ты можешь курить в столовой. Миша много курит, и я привыкла. Она была красивее, статнее, чем прежде. Вера закручивала косы в толстый жгут на затылке, и это придавало ей большее очарование. Лишь голос у Веры остался таким, как был: мягким, приятным. Вера, назвав мужа по имени, отвела от Алеши глаза. Она, очевидно, помнила, что сказала тогда на выпускном вечере, и теперь стыдилась своих слов или своего теперешнего положения Ваньковой жены. А ведь как уверяла, что не выйдет за такого! Эх, Вера, Вера, как же это случилось? Неужели на тряпки Ваньковы позарилась? Но ведь ты была такая чистая. Никогда не нравился тебе Ванек… Ну, да господь с тобой. — Проездом или как? — снова удивленно спросила она. — Нет. Посмотрел вот и понравился мне ваш городок. Маленький, тихий. Если найду работу по душе, здесь останусь. — Я вижу, ты ранен. Будешь ходить с палочкой? — Зачем? Скоро брошу. А Ванек-то так и не был ка фронте? — Его не пускают. Он просился. «Врешь ты все, Вера. Или Ванек тебе врет», — подумалось Алеше. — Теперь уж не попадет на фронт. Война вот-вот кончится, — сказал он. — Ты полагаешь? — Конечно. — А кого в Алма-Ате видел? Ты ведь оттуда? — спросила она, лишь мельком взглянув на Алешу. — Ларису Федоровну, Ивана Сидоровича, Ахмета… — Я часто вспоминаю школу. Какие все были замечательные! А «Медведь»? Как мы с тобой играли! Как тебе аплодировали!.. Я здесь тоже играю. У нас кружок любителей. Начинаем работать в городском театре. Это так здорово! И тебе не отбиться от Агнии Семеновны. Она у нас режиссер, и я рассказывала ей о тебе. По-моему, даже вчера, — возбужденно говорила она. — Видишь, как! Алеша закурил. А Вера принялась собирать на стол. Вот-вот должен подойти муж, он всегда является в одно время, когда нет вечерних политзанятий. Часто приходит с друзьями. Играют в карты и выпивают, а то срежутся в шахматы или всю ночь стучат в домино. Вера чувствовала себя виноватой. Она по-прежнему прятала глаза. Что же, в сущности, сделала она плохого, чтобы стыдиться? Ничего. Но весь смущенный вид ее как бы говорил: ты думал обо мне лучше, а я вот какая. — И что же вы готовите со своей Агнией Семеновной? — спросил Алеша, разгоняя рукой облако дыма. — Что готовим? — остановилась она в дверном проеме. — Сейчас готовим «Лес». И Аркашку играет у нас профессиональный актер Демидов. Старичок он, а ты бы посмотрел, как играет! Мы со смеху умираем, когда он репетирует. Это надо видеть!.. — А Ванек? Не артист? Не ходит в ваш кружок? — Миша, — поправила она. — Нет. Он считает, что это и для меня не солидно. А я не хочу быть солидной! — Да, да, — покачал головой Алеша. Вера решительно шагнула к столу: — Ты не веришь мне? Не веришь? — Почему же? Верю. Алеша усмехнулся. Перед ним стояла прежняя Вера та самая, в которую, кажется, он был влюблен, но которая об этом до сих пор не знала. А теперь уже и не к чему ей знать.Ванек увидел в прихожей чемодан и шинель. Спросил у Веры, кто же приехал. А Вера, поймав его за локти, не пускала в столовую: — Отгадай! — Ну, Верусик! Ну нехорошо так, — жалобно тянул Ванек. — Пусти!.. Алеша не мог более слушать эту игру — она его раздражала. Отодвинул портьеру и вышел навстречу. — Лешка! — радостно кинулся к нему Ванек и стал тискать, будто пробуя Алешу на прочность. — Вот никогда б не подумал! А у меня с утра нос чесался И никак не мог сообразить, к чему бы это. Оно вон, оказывается, к чему!.. Ты хочешь есть? Ну давай-ка нам чего-нибудь Верусик. — Сколько раз я просила тебя: не зови меня по-собачьи. Тузик, Верусик. Тоже мне, имя нашел! — возмутилась Вера. Ванек был весь чистенький, отутюженный. На его худощавой фигуре хорошо сидел китель. Движения были спокойные и уверенные, чего прежде не замечал Алеша. Оно и понятно: как-никак капитан. Вера достала из шкафа бутылку водки, и они сели ужинать. Закусывали кусками сала, мелко нарезанными, и квашеной, в вилках, капустой. Затем Вера поставила на стол тарелки с борщом, а в борще было мясо — много мяса. — Ешь, Леша, не стесняйся. И рассказывай, как живешь, — Ванек вскинул свой вздернутый нос. — Ничего живу. Купил вот билет до Красноярска, но сошел здесь. — Ачинск тебе нравится? — А что? Я с удовольствием побродил по нему. — Уже успел побродить?.. Хорошо, что ты к нам приехал, в Сибирь. Если хочешь, я тебя на работу устрою. У тебя никакой специальности нету? — Ты ж сам знаешь. Воевал — и только. — Это несколько хужее, — задумчиво произнес Ванек. — Но все равно я устрою тебя на подходящую работенку. Надо, чтоб поближе к продуктам. А одежонку в военторге достанем. У меня тут есть блат. Не пропадем. Завтра потолкуем кое с кем, и квартиру найдем. А ты где ходил? — Был на рынке, да и так прошелся по улицам. Между прочим познакомился с одним типом. И даже с двумя. Ты Самару знаешь? — Пьяницу? Его и Вера знает, — сказал Ванек. — Он сидел за какие-то махинации. Тут и остался, и сын к нему приехал сюда. Спился Самара, — живо проговорила Вера. Они засиделись допоздна. Уже мигнуло и погасло электричество, где-то неподалеку второй раз запел петух. А они сидели в столовой, вспоминая одноклассников и школьные годы. Перед утром, зарывшись головой в жаркую собачью доху, Алеша уснул и спал чуть ли не до самого обеда. Чего и говорить, измучился в дороге. Он спал бы и еще, но его разбудила Вера: — Если хочешь, сходим на репетицию. Ты увидишь наших любителей. Я вчера рассказывала о тебе, и вот ты явишься сам. С Агнией Семеновной познакомлю. И с Демидовым. Он в девятьсот втором году гастролировал в Алма-Ате. Подумать только! Такой милый седой старичок. Вера напоила Алешу чаем с рыбным пирогом, взглянула на ходики, ахнула: — Опаздываем. Ты надень фуфайку. Мужева. Все же это очень странно: у Веры муж. И подумать только, кто он! Ванек. Нет, она не любит его. Не потому, что Ванька нельзя полюбить, но он совсем не для Веры. Они разные. Репетиция еще не начиналась. Ждали Веру и какого-то железнодорожника на роль Несчастливцева. С этим железнодорожником у них было много мороки. Он постоянно задерживался на работе. Агния Семеновна, невысокая женщина в годах, но до сих пор играющая героинь, сидела посреди репетиционного голубого зала на облезлой козетке. Она недобро покосилась в сторону вошедшей Веры: — А вы-то? Ведь вы нигде не работаете, Вера… Любители молча слушали, как Агния Семеновна обижалась, как она обещала им (в который уж раз!) бросить свое режиссерство. Но вот выговорилась, и Вера, не поднимая головы, сказала: — Ко мне, то есть к нам… Ну вот он приехал, Алеша Колобов. Да я вчера… Вы помните, Агния Семеновна? Алеша слегка поклонился. И к нему подошел кругленький старичок в очках. Он эффектно протянул Алеше дряблую руку: — Очень рад вашему приезду. Только возвышенные души способны тонко чувствовать искусство. Демидов, Александр Георгиевич… — и расшаркался. Алеша уже знал от Веры, что Демидов близко к сердцу принимает и успехи, и провалы любительского кружка. И это объяснялось не только его отношением к искусству. Демидову платили какие-то деньги со спектаклей. — Вы молоды, юноша. Как я завидую вам! — Александр Георгиевич осклабился. — А это наш руководитель, наша Агния Семеновна. — Вы Несчастливцева не играли? — спросила негромко Агния Семеновна. — Вы хромаете. Но это ничего. А если все-таки попробуем? — Я ведь еще не знаю, найду ли в Ачинске работу. Может, придется ехать куда-нибудь дальше, — растерянно проговорил Алеша. От окна отделилась тоненькая девушка. Склонив голову набок, она внимательно посмотрела на Алешу. — Я — секретарь горкома комсомола. Мы поможем вам. — Ой, да я совсем ведь забыла про тебя! — воскликнула Вера. — Конечно, ты найдешь ему работу, Соня. У Агнии Семеновны подобрели, радужно засветились зеленые глаза. Она встала с козетки и, обращаясь к Александру Георгиевичу, сказала: — Вот кого мне нужно для мопассановского Селестина! — Да! Фактура, амплуа любовника… Представляю. А какой вы будете Франсуазой! — подхватил Александр Георгиевич. — Ну так как? Попробуем? — спросила у Алеши Агния Семеновна. — В этой роли я видел Мамонта Дальского. Ах, как он играл Несчастливцева! Это был фейерверк! Публика визжала, заливаясь горькими слезами. У вас тоже должно получиться, — сказал Александр Георгиевич. Алеша боялся обмануть ожидания кружковцев. Ведь, кроме как в «Медведе», он не играл нигде. И надо ж было Вере так прославить его на весь Ачинск! — Что ж, — смущенно сказал Алеша. — Давайте попробуем. — Не боги горшки обжигают, — успокоила Агния Семеновна. Алеше вспомнилась кенжебаевская пятая батарея, а с нею — весь ад той далекой ночи под Луганском. И он снова подумал: «Бессмертны только боги. А люди, создавшие их, умирают».
7
На попутной эмтеэсовской машине Алеша ехал в подтаежное село. Дорога была разбита; колеса то и дело пробуксовывали в рытвинах, и машина натужно и дико выла, как попавшая в капкан волчица. Шофер, совсем молодой, вихрастый, на удивление словоохотливый парень, говорил: — Что тракторы? Честное слово даю, в мирное время ни один из них не сошел бы с места. Они никак не должны ходить, а ходят. И плуг за собою водят. Вот тут и разберись, какое оно есть железо. Вот моя коломбина. Она час чихает, когда ее заводишь. И пар из нее валит, и всю ее колотит, бедняжку, будто лихорадкой бьет. А поглажу ее ласково, поколдую над ней и уговорю. Нельзя ей простаивать, когда в колхозах ждут то да се, да другое. Так и тракторы. И еще они споро ходят, когда им флажок привесят. Сурьезно! Это не раз замечалось… Алеша плохо слушал шофера. Думал он о том, что наконец-то определился. Чего хотел, того и достиг. Он ходил в горком комсомола. Соня узнала об Алеше всю подноготную. Что там постановка «Медведя»! Алеша рассказал ей о фронте, о госпитале, и еще о многом другом. Она бледнела и покусывала алые губы от его рассказа. И слезы навертывались на ее небольшие темные глаза. Но как комсомольскому секретарю ей не полагалось проявлять малодушие, и она подбадривала себя восклицаниями: — Вы правильно поступали! Так и положено на фронте! Чего она понимала, эта былинка! И кто понимал вообще, что положено и что не положено, когда его молотили бомбы, когда в упор стреляли по нему фашистские танки! Соня звонила по организациям. В промысловую артель, где катали валенки, нужен был массовик. Когда Соня сказала об этом, Алеша недоуменно, с улыбкой спросил: — Что же я буду делать? — Там объяснят. Газеты читать пимокатам, «Боевой листок» выпускать. — И все? — Ты против? Тебе не нравится? Так давай еще поищем, — сдалась Соня и принялась снова звонить. Алеша хотел согласиться идти к пимокатам, так как ничего более подходящего для него не находилось. Но Соня решилась на последнее: поговорила по телефону с редактором газеты. Может, в редакции знают, куда пристроить комсомольца с десятилеткой, фронтовика. — Он просит зайти, — без надежды сказала Соня, устало вешая трубку на рычаг телефона. — Авось, что-нибудь и посоветует. Не огорчайтесь, Алеша, будет вам работа. Разговор в редакции был коротким. Редактор Василий Фокич, краснощекий и кривоногий, стоя у стола, разглядывал Алешу. — Статей не писал? — спросил он. — Не доводилось. Василий Фокич повел носом: — Завтра попробуем. Справишься с заданием, возьмем в литсотрудники. Алеша прилетел к Ваньку. Но тот не высказал восторга. — Не ходи. Я с директором военторга договорился. Будешь экспедитором. — Но если человеку не нравится торговля? — загорячилась Вера. — Дураку она может не нравиться, — авторитетно рассудил Ванек. — А в газете что? Бумагу грызть станешь? — Как-нибудь проживу, — неуверенно сказал Алеша. На другой день с утра он был в редакции. Василий Фокич долго перебирал бумаги на своем столе, часть их откладывал в сторону. И когда отложенные листки образовали стопку, редактор взвесил ее на ладони и подал Алеше: — Письма фронтовиков. Сделаешь обзор. Садись и пиши, — он показал на придвинутый к его столу пристолик. Алеша что-то пробормотал. Не то в знак согласия, не то поблагодарил Василия Фокича. И тут же подумал, что напрасно затеял все это. С треском провалится сейчас, и Ванек будет смеяться. Лучше — в массовики. Пимокаты проще редактора. Заметив на Алешином лице смятение, Василий Фокич засмеялся и похлопал Алешу по плечу: — Выхватывай яркие места. Нажимай на лирику и на героизм. Ты же сам фронтовик, знаешь, что к чему. Почти до обеда читал Алеша письма с фронта. И чего тут только не было! Бойцы писали о своих друзьях из Ачинска, об их подвигах. Писали пламенные приветы односельчанам, обещали храбро воевать и вернуться домой с победой и орденами. Были в треугольных солдатских конвертах и стихи, простые окопные стихи, которые не искали признания. Но все-таки солдаты хотели, чтобы сочиненные ими строчки прочитали земляки. Алеша читал письма, а сам думал о фронте. О далеких друзьях. И заново переживал все, чтобыло с ним под Луганском и на Миусе. Нужные слова нашлись. Сначала робко, потом все смелее и смелее стал включать Алеша в свой нехитрый рассказ выдержки из солдатских писем. А кончил обзор стихами лейтенанта, присланными из далекой Югославии:8
Алеша искал Наташу. Он написал на фронт подполковнику Бабенко. Она усачу непременно сообщит о себе. А в том, что Наташа жива, Алеша нисколько не сомневался. Она должна жить. Номер полевой почты своей дивизии Алеша знал. Только бы не перевели никуда Бабенко. Впрочем, он написал прямо на конверте, чтобы письмо переслали туда, где служит теперь подполковник. Шла к концу уже вторая неделя, а от Бабенко ничего не было. Однако хотел Алеша невозможного. Лишь на фронт письмо должно идти с полмесяца. Войска были теперь далеко за границей. Алеша много работал в редакции, ходил на репетиции, а если вечером выдавалась свободная минута, забегал к Ваньку. Вера предлагала Алеше помощь. Она могла бы, например, постирать белье. Но Алеша отказывался. У него всего была одна-единственная пара белья, которую постоянно носил, а стирал прямо в бане. И высыхало белье на нем. Разумеется, Алеша не говорил об этом Вере. Он выдумал типографскую прачку, которая, по его словам, ему стирала. Вера приносила на репетицию всякую снедь и пихала ее в карманы Алеше. Он пробовал было возражать, но куда там! Вера хмурилась, ворчала, и он сдавался. Вообще она в отношении его применяла такую власть, перед которой он пасовал. Свою уступчивость Алеша объяснял тем, что Вера мудрее его в житейских делах, потом ведь это не какая-то барышня — в одной школе учились, давно знакомы. Бывало, что не увидев Веру день-другой, Алеша тосковал о ней. Он чувствовал, что ему недостает ее. По ночам бесился, думая, что она сейчас с Ваньком, а не с ним, Алешею. Тогда вскакивал с дивана, грудью припадал к столу и писал до утра. Это были и стихи, и письма ей, которые он тут же рвал и бросал в корзину. Но боль проходила. Чаще всего на следующий же день Алеша подтрунивал над собою. Тоже вбил себе в голову чушь. Ванька он считал не очень далеким, но и не глупым человеком. Он даже по-своему умен, такие обычно умеют потрафить начальству и быстро делают карьеру. Но по временам Алеше казалось, что он слишком пристрастно судит Ванька. Во-первых, разные у них характеры, и требовать от него того же, что в тебе самом, было, по меньшей мере, наивно. А во-вторых, Ванек жил с Верой. Репетиция «Леса» закончилась. Это был последний прогон. Предстояла «генералка», а за ней — премьера. Кружковцы чувствовали себя немножко усталыми, немножко взвинченными. Они собрались на сцене вокруг Агнии Семеновны, которая должна была сказать свои замечания. Демидов ходил в глубине сцены, заложив руки за спину. Он остался доволен игрой Алеши. Едва закрылся занавес, Демидов ухватил Алешу за руку и, выпятив нижнюю губу, прищелкнул языком: — Ах, как это у вас, Алеша!.. Особенно то место, когда вы уже на авансцене. «Послушай, Карп!»… Да такое благородство в лице, такая величественность жеста! И пропадает, совершенно исчезает граница между актером и человеком. Он уже не играет, а страдает глубоко и бесконечно. И поднимается до подлинного трагизма. — А не пережимаю здесь? — поинтересовался польщенный Алеша. — Нет. Актерское амплуа Несчастливцева стало второй его натурой. Именно так и нужно играть. Иначе произойдет некоторое заземление и даже… — он подыскивал подходящее слово. — Даже бытовизация образа. Теперь Алеша ждал, что скажет о нем Агния Семеновна. И вот она поднялась, отодвинула стул, заговорила спокойно и мягко. Да, спектакль есть. За что боялась она, то прошло на должном уровне. Агния Семеновна безоговорочно согласилась с трактовкой ролей, которые играли Демидов и Алеша, похвалила Веру. Она сказала: — Каждый день повторяйте роли. Генеральная репетиция будет только через неделю. Декорации не делаются. Заболел художник. — А если мы сами? Щитов хватит. Эскизы у меня где-то есть. Я поищу сейчас же, — предложил Демидов. — Согласен работать хоть до утра, — сказал Алеша, которому некуда было спешить. — Я бы тоже осталась, но завтра комсомольское собрание на транспорте. Нужно готовиться, — тихо проговорила Соня. — С удовольствием поработаю, — Вера искоса посмотрела на Алешу. Когда стали расходиться, Агния Семеновна сказала Алеше: — Ну, спасибо, выручили. Только не очень тут увлекайтесь. Завтра ведь на работу. — Успею выспаться. — А ты меня проводишь? Никто не идет в мою сторону, — сказала Алеше Вера. — Вот и умница, — сказал Алеша, когда они вышли на улицу. — Ты о чем? — А о том, что идешь спать. Вера засмеялась. И почудилась Алеше в ее смехе затаенная грусть. И у самого Алеши отчего-то защемило сердце, он вздохнул и, взяв ее под руку, зашагал быстрее. Ночь была по-весеннему хмельная и темная. Небо укрылось тучами, лишь у самого горизонта светилась, помигивая, одинокая звездочка. Временами и она пропадала. Тогда становилось совсем непроглядно и жутко. Они шли по берегу реки, от которой несло холодом, и Вера, поеживаясь и вздрагивая, плотнее жалась к Алеше. А ему было приятно, что она с ним рядом, что они только вдвоем в этой весенней темени. Если бы знал Ахмет или Лариса Федоровна, как хорошо сделал Алеша, поехав в Сибирь! Они бы, наверное, удивились, что снова играет он с Верой в спектакле и провожает ее домой. — Ты о чем думаешь? — спросила она, замедляя шаг. — О нас с тобой. Ведь это же надо так… Встретиться за тысячи километров. И где? В Сибири. Видно, судьба, — усмехнулся он. — А я тебя никому не отдам, Алеша, — на одном дыхании решительно сказала она. — Никому. Поняв это как шутку или реплику из роли, Алеша ответил: — Кто меня возьмет? Кому я нужен? Она замолчала. И лишь когда они подошли к ее дому, продолжила разговор: — Агния Семеновна хотела, чтоб партнершей тебе в новой пьесе была Соня. Мол, роль бесцветная, нечего играть. А мне характерную роль наметила. Только я не хочу, чтобы ты ее обнимал. Даже на сцене. И Агния Семеновна обещала нас переставить. Верно ведь? Я тебя в театр привела? — Ладно. Иди к своему, — с некоторой грубоватостью сказал Алеша. Вера не обиделась. Она лишь произнесла властным, не допускавшим возражения тоном: — Жди меня. Я возьму чего-нибудь перекусить, и мы пойдем обратно. Не вздумай уйти. — Слушай, Вера, в театре тебе нечего делать! — Это мы еще посмотрим, — она стукнула калиткой, и вот уже каблучки ее туфель зацокали по крыльцу. Она долго открывала замок. Значит, дома Ванька не было. Оставшись один, Алеша размышлял над тем, что произошло. Кажется, ничего особенного. Поболтали, как всегда, пошутили. Но у Веры резко звучал голос, словно она чем-то раздражена. «Конечно, ей не хочется играть характерную роль. В этом и причина», — решил он. — Где Ванек? — спросил Алеша, когда она вынырнула из калитки. — Ванек дежурит. А прежде она называла мужа Мишей. Кажется, это заметила она сама, потому что сказала, беря Алешу под локоть: — Не ты дал ему это прозвище? — Не помню. — Ты. Ты вредный, и язык у тебя, как бритва. И еще ты плохо поступаешь со мной, — проговорила она и дотронулась щекой до его щеки. В театре уже работали Демидов и железнодорожник Витя Хомчик, длинноносый, высокий парень. Витя носил из-за кулис в фойе большие щиты и ремонтировал их. А Демидов растирал мел в муку, ежеминутно бегая к себе в каморку узнавать, не закипел ли на плите вонючий столярный клей. — Пришли, милейшие! — воскликнул Демидов и сунул в руку Алеше тяжелый железный пестик. — Кто любит искусство, тот не брезгает любой черновой работой, — откинулся он на спинку бутафорского дивана, крашенного бронзой. — О, чем не приходилось заниматься нам прежде! Когда дело прогорало, антрепренер понемногу начинал увольнять декораторов, костюмеров, бутафоров и даже парикмахеров. И актеры распределяли меж собою их обязанности. Работали за гроши, чтоб только, не прихлопнули антрепризу. И так продолжалось месяцы. Но попадали на большую ярмарку или в городок, где никто не гастролировал в то время, а городок был театральным. Вот тут и делали приличные сборы. И все шло наоборот. В труппе появлялись парикмахеры, рабочие сцены. О, как мы приветствовали их! На некоторых щитах мешковина была изорвана. Вера раздобыла в костюмерной нитки и принялась за работу. Но нитки оказались прелыми, рвались, когда она пыталась затянуть дыры. Тогда Вера ссучила их в жгутик, но он не пролезал в ушко иголки. Она приноравливалась и так и сяк, однако ничего у нее не вышло. — Вы терпите фиаско, прелестная Вера? — увидев ее старания, проговорил Демидов. — Да вот, Александр Георгиевич… — с досадой сказала она. — Я выручу вас, дитя. Когда в начале войны труппу в Ачинске распустили и закрыли театр, Демидов оказался одним из немногих актеров, кто остался в городе. Остальные подались в более крупные города, где надеялись найти работу по специальности. А Демидов рассчитывал пристроиться в одну из промартелей за плату руководить самодеятельностью. Но время было такое, что везде обходились без драмкружков, и, чтобы не умереть с голоду, актер освоил ремесло сапожника. Кроме того, он научился из автомобильных камер делать галоши, которые надевали на валенки. Так что у него был весь сапожный и вулканизаторский инструмент. Он принес Вере длинную и толстую, изогнутую на конце иглу и еще дратвы, и вдвоем с Верой они вскоре привели в порядок мешковину. Алеша насадил на палку обыкновенную травяную щетку, какой белят в квартирах, туго закрепил ее проволокой, чтоб не лезла трава. Потом ссыпал в ведро толченый мел, размешал его в разведенном клею, добавил воды и несколько порошков голубой краски. — Дай-ка лучше мне, я умею белить, — Вера взяла щетку, окунула ее в раствор и стала покрывать им щиты. Действительно, делала она это очень ловко. Но вскоре устала, и Алеше пришлось ее сменить. Работали они до того времени, пока в городе не погасло электричество. Потом Демидов сходил за лампой, но в ней было ровно столько керосина, сколько надо, чтобы при ее свете Демидову проводить кружковцев домой и закрыть двери театра. Все равно ушли удовлетворенные: сделано немало. Щиты высохнут к утру, и можно будет расписывать их под обои. — В России подлинное искусство создавали подвижники. И эта традиция, как видите, жива. Спасибо вам, — растроганно говорил Демидов на прощание. Накрапывал дождь. Алеша с Верой хотели переждать его под козырьком какой-то крыши. Они стояли, прижавшись друг к другу, и Алеша слышал, как бьется Верино сердце. А она взяла его руки и поднесла к своим губам, стремясь согреть их дыханием. — Иди. А то простудишься и заболеешь, — шептала Вера. — Я сама скорей добегу. Конечно, в пальто ей было теплее, чем ему в гимнастерке. Озноб пробирал Алешу до костей, а редакция совсем рядом. Но позволить, чтобы Вера пошла домой одна, он не мог. Сдерживая дрожь, Алеша сказал: — Если страдать, так уж вместе. — Тогда чего ждать? Дождь зарядил надолго. Идем, — она легонько подтолкнула его. Тротуара по берегу не было. Алеша и Вера шли напрямик, не различая тропинки, скользя и попадая в ямы. Промокшим до нитки, им терять уже было нечего, и они с удовольствием, с какой-то неуемной лихостью шлепали ногами по лужам. — Мы действительно подвижники, — смеялась Вера. Она пригласила Алешу к себе в дом. Она не могла допустить, чтобы он схватил воспаление легких. Посушит одежду, возьмет фуфайку Ванька и тогда пусть идет на здоровье. В доме было тепло. Алеша вскоре стал согреваться, почувствовал, как запылало его лицо. Он снял гимнастерку, и Вера повесила ее сушить. Предложила ему снять и брюки, они были совсем мокрые, но Алеша замялся. Тогда Вера потушила свечу. — А сам ложись на диван в столовой. Я постелила. Скорее согреешься, — сказала она. — Может, водки выпьешь? Или вскипятить чай? — Спасибо, я ничего не хочу. Устроившись на диване, Алеша слышал, как, разобрав постель, укладывалась в спальне Вера. Она ворочалась с боку на бок, скрипя сеткой кровати. Он подумал о том, что хорошо бы прийти сейчас к ней, поцеловать ее, прижаться к ней. От одной этой мысли у Алеши перехватило дыхание, а во рту стало сухо. Нет, он никогда не сделает этого. Вера оттолкнет его, обидится. А вот другие мужчины как-то делают это, не боятся. Тот же Павел Сазонов, к примеру. Как он сказал Алеше: «А ежели мне баба по душе, а ежели я ей нравлюсь?» Нравится ли Вере Алеша? Любит ли она его? А сам он ни за что не осмелится подойти к ней. Он вообще не знал еще ни одной женщины, а Веру, которая так дорога ему, разве мог он обидеть! Пусть не обидится даже, но нехорошо подумает, и то ему станет невыносимо тяжело. Близость Веры все больше распаляла его воображение. Сердце то замирало, то вдруг стучало гулко, когда он представлял себя рядом с нею. О, почему же случилось так, что она оказалась женою Ванька, а не Алеши! — Ты не спишь? — вдруг спросила Вера. — Нет, — задыхаясь ответил он. — Спи, а утром уйдешь. Некоторое время в доме было тихо, потом Алеша явственно услышал, как Вера завсхлипывала. Почему она плачет? Что с ней? Может, у нее горе? — Вера!.. — Что? — сдавленным голосом поспешно отозвалась она, и в ту же секунду из ее груди вырвался протяжный стон. — Иди ко мне!.. О!.. Алеша не помнил, как он кинулся к ней, как Вера впилась губами в его пылающие губы, а ее волосы заструились в его руках. — Люблю, милый… Люблю… Рассвет заглянул в окно. Они лежали рядом, и Алеша целовал неприкрытое одеялом голое ее плечо. А Вера счастливо улыбалась и шептала: — Вот и случилось. Теперь ты совсем мой, совсем-совсем. Какая я дура! Я ведь любила тебя, всегда любила. Не веришь?.. Сейчас я даже понять не могу, как это вышла за Ванька. Мне тогда было абсолютно все безразлично. Он приходил к нам домой, мы дважды бывали на танцах, И расписались потом. А когда ты приехал, как я только увидела тебя, все во мне перевернулось, и поняла я, что не будет мне счастья ни с кем, кроме тебя. Ты приехал ко мне? — Да, да, Вера! — сказал он. А ведь и в самом деле он примчался в Сибирь из-за нее. Он лишь не хотел признаваться себе в этом. — Теперь расскажи мне все. Как ты воевал, как выжил. Я должна знать о тебе все, все.9
Сводки Советского информбюро пестрели непривычными названиями венгерских, чехословацких, немецких городов. Всякий раз казалось, что еще одно, последнее, усилие, и на планету вернется мир. И в то же время не верилось, что может наступить тишина, что люди услышат, как смеются дети и растут травы. Каждый день Алеше приходилось выпускать оперативные бюллетени газеты. Он принимал текст по радио, сдавал в набор, верстал и вычитывал перед выходом в свет. Василий Фокич ездил по колхозам как уполномоченный райкома партии. А ответственного секретаря в газете не было. Еще за неделю до Алешиного прихода в редакцию, женщина, эвакуированная москвичка, занимавшая эту должность, уехала к мужу не то в Омск, не то в Свердловск. Вот и работал Алеша в редакции сразу за троих. Окончив прием очередной сводки, Алеша отдал текст наборщикам и решил сходить на базар за табаком. Курил он много. Ему едва хватало на день стакана, и маленькая комнатка, где он теперь работал, так провоняла дымом, что сам Алеша недовольно крутил носом. У пивного ларька Алешу перехватил Самара. С неизменным котелком он, подобно поплавку, вынырнул из людской гущи и, сердито оглядываясь назад, вышел на тротуар. Он поджидал Алешу, все такой же измызганный, небритый, с затекшими глазами. «Будет просить на пиво», — с неприязнью подумал Алеша, пытаясь пройти стороной. Но этот маневр ему не удался. Самара явно не относился к тем, кого можно было так просто одурачить. Он сделал несколько торопливых шагов и оказался лицом к лицу с Алешей. — Я беден, о как беден я! — горестно воскликнул Самара, церемонно кланяясь Алеше. И добавил шепотом: — Выслушай меня, дружок. Алеша удивленно вскинул брови. В самом деле, этот пьяница не был так глуп, как казалось на первый взгляд. Но что он скажет интересного для Алеши? — Пройдем, — кивнул на тротуар Самара. — Если не ошибаюсь, то ты работаешь в газете… А, привет, привет, — закричал он встречному, такому же, как сам, бродяжке. — Да, работаю в газете, — сказал Алеша. — Может быть, я не по адресу, но есть любопытный сюжет. Не знаю, как сейчас, а до войны частенько давали в газетах подобные штучки. Ты помнишь Жучка? Он был с нами, когда ты угощал, — Самара сделал загадочное лицо. — Жучок из-под полы продает валенки. Совершенно новые валенки. — Ну, — нетерпеливо произнес Алеша. — Перед войной я сгорел на дамском трикотаже. Пересортица. Какие-то гроши. А тут что ни день — тысячи рублей! И если написать об этом, о-о-о! Алеша остановился и вопросительно посмотрел на Самару. Чего, мол, тянешь? Говори. Самара так и понял его, но прежде сказал: — Мы с тобою ни о чем не толковали. Алеша согласно кивнул головой. — Не из какой-то зависти, а потому, что Самара — честный человек… Жучок продает в день по нескольку пар валенок. А берет их в пимокатной артели. Там целая банда. — Откуда это известно? — заинтересовался Алеша. — От самого Жучка. Он хвастался. И меня вербовал. Но мне ни к чему такое. Я свое отсидел. Я лучше попрошу. Неужели ты мне откажешь на пиво? — И он привычно протянул руку. Вот он, тот самый случай, когда Алеша должен наказать зло. Он разоблачит жуликов во что бы то ни стало. Но прежде чем писать, нужно собрать какие-то факты. А сами жулики их не дадут. Очевидно, хитро заметают следы, если не добрались до них прокурор и милиция. Нужно посоветоваться с Василием Фокичем. Он давно в газете, знает, как поступить. И Алеша с нетерпением стал ожидать приезда редактора. Алеша готов был поехать к нему в колхоз, если бы только кто выпускал газету и бюллетени. Но, к счастью, уже назавтра Василий Фокич вернулся из командировки. И первым, что он услышал от Алеши, разумеется, был пересказ разговора с Самарой. — Черт его ведает, как верить пропойце, — задумчиво говорил Василий Фокич, меряя кабинет короткими и кривыми ногами. — Может, он спьяна наговорил на своего дружка. Но сигнал все равно нужно проверить. Сходи-ка ты, Алеша, туда и потихоньку расспроси людей. Впрочем, тут надо действовать как-то иначе, чтобы не вспугнуть жуликов. Плохо, что в артели нет своей парторганизации. Тогда бы мы разузнали, что нам надо, через нее. — Хорошо, а если я не скажу, что пришел от газеты? — Алеша в упор посмотрел на редактора. — Это положения не меняет. Для них важно, что кто-то заинтересовался ими. А раз так, то дело может принять нежелательный оборот, скажут они. И прекратят на время свои махинации. — Им нужен массовик! — воскликнул, сорвавшись с места, Алеша. — Что ж, поработаю массовиком. Как, Василий Фокич? — Записываешься в Шерлоки Холмсы? — усмехнулся редактор. — Затея и ничего вроде, но попахивает авантюрой. Как бы самих не просмеяли нас потом. — Рискнуть стоит, Василий Фокич. Редактор еще пробежал по кабинету, затем опустился на стул и долго с вниманием глядел на Алешу, Наконец произнес резко и твердо: — Ступай. Но не очень зарывайся. Это был сигнал к атаке. И, услышав его, Алеша понесся на окраину Ачинска, где находилась артель. Но, пройдя добрую половину пути, он подумал, что лучше начинать дело с горкома комсомола. Тогда вряд ли у кого возникнут подозрения. Горком ежедневно посылает людей на предприятия. Только бы никто не занял должность массовика. И Алеша повернул обратно, к горкому комсомола. Он застал там Соню. Она обрадовалась ему так, словно они встречались не на вчерашней репетиции, а, по крайней мере, месяц или год назад. Она отпустила всех, кто был в ее кабинете. — Хочу к пимокатам! Позвони им, пожалуйста, — сказал он, присаживаясь у стола. — Помнишь, говорила насчет массовика? Соня забеспокоилась: все в редакции было у него хорошо, и вдруг уволился. Наверное, поругался с редактором. Они очень вспыльчивы, эти фронтовики. — Как же так? — растерянно забормотала она. — Я потом объясню тебе, Соня, — он нетерпеливо поднялся со стула. — Звони в пимокатную артель. — Но прежде я должна позвонить в редакцию… — Да ничего я там не наделал. Не бойся. — Ты очень странный, Алеша. И потом ведь мы не в театре. Я секретарь горкома, я отвечаю… — Фу! — Алеша снова упал на стул. — Как хочешь, так и поступай. Только поскорее, — а когда она потянулась к телефону, он опередил ее, снял трубку. — В редакцию звонить незачем. Я там и работаю. Но мы узнали, что в артели завелись жулики. И надо это проверить. А как? Устроюсь на пару дней к ним. Короче говоря, сыграю роль массовика. Звони. — Понимаю, — Соня качнула головой. — А у нас, между прочим, там есть комсомольская организация. — Ну и что? — Мы могли бы и сами проверить. И принять меры. — Хорошо, — насупился Алеша. — Я это сделаю без твоей помощи. Соня дернула носиком и простодушно сказала: — А ты уж и сердишься. Она по телефону вызвала председателя артели и попросила устроить массовиком Алексея Колобова. Да, фронтовик, со средним образованием, комсомолец. По всем статьям подходящий. — Но запомни, Алеша: я не отвечаю за твои фокусы, — сказала она на прощание. — Пришел, попросил устроиться на работу. Поэтому я и звонила, — перед кем-то невидимым оправдывалась она. Председатель артели Елькин, грузный мужчина, с тремя подбородками, тяжело дышал, привалившись огромным животом к столу. Его глаза абсолютно ничего не выражали, по ним невозможно было понять, пришелся ли Алеша по вкусу председателю. А голос у Елькина был высокий, бабий, звучал он добродушно и даже несколько сладковато. — Квартира у вас есть? — спрашивал Елькин. — Нет. — И у нас нет. Карточка спецпитания есть? — Нет. — И у нас нет. Оформляйся, знакомься с производством. Коллектив хоть и маленький, но ничего. Иди в цеха. Это было именно то, что нужно. Алеша пошел по избушкам, которые теснились во дворе, громко именуясь цехами. В них было сыро, резко пахло кислотой. Костлявые, мрачные пимокаты встречали и провожали Алешу колкими взглядами. Когда он спросил у одного из них, доволен ли тот работой, пимокат ответил: — Ничаво. Знакомо дело. Председатель тоже ничаво. Дает заработать копейку. В основных цехах Алеша не увидел никого из молодых. Молодежь, оказывается, заготавливала дрова для артели, возила сено на конный двор. Несколько девушек приметил в конторе. А еще была здесь совсем юная кладовщица. К ней-то к первой и подошел он с расспросами. — И много вы отпускаете в день валенок? — поинтересовался он. — Когда как. Бывает, что и до ста пар, а когда — ни одной. У нас ведь их готовят целыми партиями, — объяснила она. — На месте никому не продаете? — Как можно! — изумилась она. — Все идет по нарядам. Фактуруем на базы и в магазины. — Документ какой остается? — А как же отчитываться буду? — снова удивилась она. — Остается фактура. Вот, пожалуйста, — протянула бумажку, но тут же взяла обратно. — А кто вы такой? — Я у вас новый массовик, — улыбнулся Алеша. — Надо же мне ознакомиться с порядками. Она возвратила ему фактуру. Он пробежал бумагу глазами. Документ как документ. Из него ничего особого не узнаешь. Следом за Алешей на склад явился седобородый старик. Он исподлобья смотрел на нового массовика и, как показалось Алеше, хитро ухмылялся. Он слышал Алешин разговор с кладовщицей, и на этот счет у старика было свое мнение. В его голосе послышалась затаенная боль, когда он сказал: — Филькина грамота, а не фактура. Посмотри, гражданин, какой размер у валенок значится, — и он свирепо сверкнул глазами. — Тридцать второй. Все подряд тридцать второй. А таких колодок у нас нету. Вот и смотри, гражданин, а больше я тебе не скажу. С тем и ушел. Ничего не понял Алеша из его речи. Было ясно лишь, что старик раздражен путаницей с размерами валенок. Видно, не раз ругался из-за этого. — Он у нас ко всему цепляется, — махнула рукой кладовщица. — Уж до того нудный дед, что всем надоел. Прилипчивый, как муха. Со склада Алеша пошел в сушильный цех. Говорил с рабочими. А из головы не выходили дерзкие слова старика. Может, именно в них и есть ключ к разгадке злоупотреблений. Алеша спросил рабочих о старике. — Сивый-то? Да кто ж его не знает, балаболку, — в один голос ответили те. И все-таки Алеша решил еще поговорить со стариком. Но едва обратился к нему, как тот огрызнулся с явным недружелюбием: — Ты не допытывайся, гражданин. Ничего я тебе не скажу, — и добавил совсем сурово: — Ходят тут всякие. Я вот председателю Елькину пожалуюсь. Алеше пришлось оставить его в покое. Но в этот день он не мог отвязаться от мысли, что старик носит в себе какую-то тайну, о которой он заикнулся на складе. Может, то, что ищет Алеша, а может, и другое. Вечером в редакцию пришел Василий Фокич. Он был в добром настроении. Долго вышагивал по кабинету, радостно потирая руки. Затем остановился у Алешиного стола и сказал: — Какие у нас люди, Алеша! Да-да! Приехал я в колхоз к чувашам. Ну что там за колхоз! Пятнадцать дворов. Сто гектаров посева, а техники — конь да вол, да коровы колхозников. И пашут, и сеют. — А трактористы! — подхватил Алеша, — Здорово работают. Выше человеческих возможностей!.. Честное слово, выше! А на прицепах — женщины, подростки. — Дай им поесть досыта, дай новую технику. Тогда они себя не так покажут. Отложив вычитанные гранки, Алеша начал рассказывать о пимокатной артели. Василий Фокич то благодушно похохатывал, то по привычке повторял свое «да-да». Но едва Алеша упомянул о старике и его короткой, но страстной речи, как редактор насторожился и попросил все повторить. — А старик прав, что отшил тебя. Не лезь, куда не просят, если ничего не понимаешь. Вот как он рассудил, — живо сказал Василий Фокич. Алеша обиженно отвел в сторону потускневшие глаза. Редактор, заметив его враз упавшее настроение, похлопал Алешу по плечу и проговорил мягко, без укора: — Он же тебе все разжевал и в рот положил. Да-да! Ну, а потом взяло его зло, что ты не разобрался в этом деле. Может, он должностью своей в артели или чем еще рисковал. Ты видел на складе валенки? — Конечно, — пробормотал Алеша. — Были там детские и женские размеры? — Наверно. Некоторые стояли на полках совсем маленькие. — А в фактуре — самый большой размер. Смекаешь, для чего это? — Василий Фокич многозначительно поднял палец. — По шерсти большой валенок равен паре маленьких. Значит, экономия составляет почти пятьдесят процентов. А из шерсти, что остается, катают валенки для продажи налево. Понял? — Кажется, начинаю соображать, — протянул Алеша. — Ну то-то. И думаю, что пимокатам тоже что-то перепадает по мелочи, если они так довольны Елькиным и молчат. А сивобородый дед — золото. Теперь узнай, Алеша, по какой цене продавались валенки в магазинах. А в артель можешь не ходить. Там все ясно. Нужно теперь пощупать их прибыли. На следующий день Алеша сходил в магазин военторга. Узнал, что по ордерам продавались валенки, и были они в разную цену: детские — дешевле, мужские подороже, как и положено по прейскуранту. — Я так и предполагал, — сказал Василий Фокич. — Они торгуют себе в убыток. Пара валенок по фактуре стоит сто восемьдесят рублей, а в магазине ее продают за сто двадцать или сто рублей. — Так какая же им выгода? — потеряв нить редакторских рассуждений, удивился Алеша. — А выгоду давай посчитаем. Пара женских валенок стоит сто двадцать рублей. Значит, продавец магазина по сравнению с фактурой недобирает шестьдесят рублей. Но это твердая цена, по ордеру. А на базаре валенки стоят восемьсот рублей. Шестьдесят продавец вложит в кассу. И чистой прибыли, остается семьсот сорок целковых на каждую пару. Ну, минус двадцать рублей за катку. Вот какая получается арифметика. — Неужели? — опешил Алеша. — И как это вы подсчитали! — Научился в газете. За пятнадцать лет работы. И ты скоро научишься, — ответил Василий Фокич. — Самаре нужно сказать спасибо. Он вывел нас на крупную, шайку. Редактор заторопился на бюро в горком партии. Алеша сел за фельетон. Он долго ломал себе голову над заголовком, искал похлеще слова. Ведь это будет тот самый первый фельетон, о котором когда-то мечтал Алеша. И не поздоровится от него жуликам из пимокатной артели. Фельетон понравился Василию Фокичу. Он пошел в набор. Но за день до выхода очередного номера газеты редактору позвонили из горкома. — Вы замахиваетесь на опытного руководителя, — сказал секретарь горкома по кадрам. — Есть сведения, что ваш работник необъективно проверял факты. К тому же, что это за методы проверки! Приходит под видом массовика, кого-то спрашивает… Говорят, что одних недовольных… Смотрите, Василий Фокич… — Мы подумаем, как быть, — коротко ответил редактор. Голос в трубке стал глуше и добрей: — Да, подумайте, Василий Фокич. Может, мы сначала расследуем поступивший сигнал. Ведь вы же знаете Елькина. Ну безупречный человек! Ну что вы!.. Редактор повесил трубку и тяжело вздохнул. И, как ни в чем не бывало, углубился в бумаги. А немного погодя в редакцию заявился Ванек. Он впервые пришел сюда и чувствовал себя здесь робко. Редакция определенно вызывала у него уважение и даже страх. Еще бы, распишут тебя на весь город и район, а потом доказывай, что ты не виноват. Кто поверит в твою правоту?! Алеша провел Ванька к себе, усадил. Закурили, и Ванек, оглядевшись, стал посмелее. Он расстегнул верхние пуговицы кителя, совсем по-домашнему откинулся на спинку стула. «Чего это он ко мне?» — тревожно подумал Алеша. Ванек стал выговаривать Алеше за то, что тот давно не бывал у него в доме. Ну разве так поступают друзья! И еще Ванек договорился в одном месте, что Алеше выдадут ордера на военный шерстяной костюм и фуфайку. Это будет стоить совсем дешево, а материал — первый сорт. Ванек тут знает всех, и ему никто не откажет. — А драчку ты затеваешь напрасно, — заискивающе сказал Ванек. — Какая тебе польза, если Елькина арестуют и осудят? Да и кто его судить будет, когда все в городе за него! Он для них свой, а ты кто? Подумай хорошенько, пока не поздно. — Значит, советуешь молчать? — процедил сквозь зубы Алеша. — Понятное дело. Ну чего тебе за нее заплатят?.. Изорви ты эту самую… — Фельетон? — Вот именно. Изорви фельетон! Ты не пожалеешь. Все у тебя будет, — горячо зашептал Ванек, косясь на плотно прикрытую дверь. — А мне от Елькина ничего не надо, Ванек, — повысил голос Алеша. — Да не от него, а вообще… И не кричи ты!.. Я сказал, что ты мне друг, и мы все уладим. Ты ведь пока что не разобрался в здешней обстановочке, не сориентировался. — Нет, Ванек, ничего я не сделаю. Его, подлеца, судить будут. Что заслужил, то и получит. И я бы на твоем месте не защищал мошенников. Лицо и шея у Ванька покраснели от напряжения, ему хотелось наговорить Алеше тысячу самых резких слов, но он сдерживал себя. Ванек знал, что руганью не возьмешь. А он должен добиться своего. Ведь если фельетон не пойдет в газете, Ванек станет в своем кругу чуть ли не героем. — Послушай, Алеша. Мы учились вместе, дружили. Я готов был всегда заступиться за тебя. И заступался. А когда мне от тебя понадобилось… — Это не тебе, — прервал его Алеша. — Это Елькину. — А может, и я горю на этом деле, — мрачно сказал Ванек, опустив взгляд. — Ты? Врешь, Ванек! Врешь ведь! — Ну, а если бы горел? — Ванек круто повернулся к Алеше. — Я бы все равно фельетон напечатал, — после некоторого молчания ответил Алеша. — Значит, ради красного словца не жалеешь мать и отца? — голос Ванька зазвучал глухо и угрожающе. — Как хочешь, так и считай. Ванек ушел не попрощавшись.10
Афиши спектакля, отпечатанные в типографии на оберточной серой бумаге, глядели на ачинцев с каждого забора. У завзятых театраловначались волнения. До войны в городе этот спектакль шел с успехом, о нем помнили. Театралы отдавали должное и теперешним артистам. Чего, мол, бога гневить понапрасну — играют! Но до войны было, о!.. Ачинцы, что постарше, закрывали глаза и млели от восторга. Алешу злили эти разговоры. Ему хотелось бросить театралам в лицо, что до войны были хороши не одни спектакли — все было хорошо! И зрители, изрядно постаревшие с той поры, тосковали не столько по вдохновенной игре артистов, сколько по собственной молодости. Ушла она, утекла безвозвратно ваша молодость, тю-тю ее! Морщины залегли глубоко, и мешки под глазами. А не избалованная зрелищами молодежь ждала спектакля, словно праздника. Не часто бывало такое в Ачинске за последнее время. В театре по вечерам обычно устраивались танцы да иногда выступал какой-нибудь тощий гастролер с гирями. Правда, заезжали в Ачинск и плясуны, но выступали всего один раз. Плясали они хуже базарных цыган. К тому ж, уезжая из Ачинска, прихватили с собой изрядный кусок плюша от занавеса. Перед премьерой кружковцы жили тревожно. Боялись, что билеты не будут проданы, что портниха не успеет дошить костюмы, что кто-то заболеет перед самым спектаклем. Демидов поминутно хватался за сердце и пил валерьянку. Ему мерещились накладки и провалы. — Только не волноваться! — говорил он, вздрагивая всей спиной. Кружковцы жались друг к другу, как овцы, завидевшие волка. Но что они могли поделать теперь! Они были обречены или на аплодисменты или на ехидный смех и ропот зала. Чем дело кончится, никто не пытался предсказывать. Лишь Агния Семеновна нарочито веселым голоском хотела вселить бодрость в своих артистов. Однако ее выдавали глаза. Они глядели испуганно и устало. И этот день наступил. Он был отмечен началом ледохода. Часа в три, когда жаркое солнце хлынуло на город, река вдруг глухо заворочалась, зашумела. Лед не выдержал ярого натиска весны: дрогнул, стал лопаться, ошалело кружиться на воде. Сперва прошли сахаристые поля. И вскоре между льдинами появились голубые просветы. По берегу Чулыма толпились люди. Они показывали на воду и ошалело кричали, но слов нельзя было разобрать из-за треска и грохота огромных льдин, наползавших одна на другую. Алеша стоял на самом обрыве и щурился от яркого солнца. Ледоход он видел впервые. Это было впечатляюще. Чья-то рука сзади легла на плечо Алеши. Он быстро повернулся и увидел Веру. Она улыбалась ему. Казалось, что Вера нисколько не озабочена предстоящим спектаклем. Лишь радовалась встрече с дорогим ей человеком, для нее не существовало ничего больше на всем белом свете. Алеша почувствовал слабый запах ее духов. И у него то ли от этого запаха, то ли от чего-то другого слегка закружилась голова, когда они вышли из толпы и направились к театру. — Снова сюда? — остановилась она у театрального подъезда. — Не хочу. Вечером, но не сейчас. Пойдем лучше вон туда, — она показала на противоположный конец города, где на холме виднелась березовая роща. Они шли, и Алеша смотрел на нее украдкой. А Вера тихонько посмеивалась. — Чему ты? — спросил он. — Весне, — сказала она и поджала свои влажные губы. На холме когда-то было кладбище. Его опоясывала ограда, выложенная из красного кирпича. Могилы давно сравнялись с землей, еще в двадцатые годы комсомольцы намеревались сделать рощу местом отдыха. Но, говорят, сколько ни играл на горе коммунальный духовой оркестр, он не привлек туда ачинской молодежи. Видно, тени усопших отпугивали парней и девчат. Сейчас холм сочно зеленел от набиравшей силу травы. На ветвях берез, еще голых, но готовых дружно выстрелить почками, посвистывали пичужки. И птичьи песни, вместе с зеленью полян и голубым простором, открывавшимся взору, звучали симфонией. И не было у этой симфонии ни начала ни конца. Опершись рукой о гладкий, белый ствол березы, Вера долго, не отрываясь, глядела вдаль. Ей были видны поля и перелески за рекою, и улицы города до самых дальних его окраин, и поезда, спешащие к далеким станциям. Верины тонкие ноздри раздувались и вздрагивали. — Алешенька, — сказала она, не поворачиваясь к нему, — сегодня я многое поняла, о чем даже не догадывалась никогда. Счастья не нужно ждать, само оно не придет. Никогда! Нужно идти ему навстречу. И я иду. — Мы оба идем навстречу счастью, — задумчиво произнес Алеша. — Не знаю, — лукаво проговорила она, сверкнув в его сторону глазами. — Сегодня я сделала еще один шаг. Я сказала ему, что люблю тебя и что ничего с собой не поделаю. Алеша повернул ее лицом к себе и поцеловал в губы.В театр они пришли намного позже назначенных шести часов. Их уже искали. Спрашивали об Алеше в редакции. Посылали за Верой домой, но ее дом был на замке. Агния Семеновна, встретив их в фойе, укоризненно развела руками: — Ну как же так! Ну как же так!.. Демидов в клетчатом костюме Аркашки, с отвисшей нижней челюстью пританцовывал на лестничной площадке: — Только не волноваться! От него за пять шагов несло валерьянкой. Когда он сел гримироваться, пальцы у него прыгали, и он еле натянул на голову рыжий парик. — Не спорьте, дорогие мои. В споре не только рождается, но иногда и умирает истина. Не надо, — со слезами на мутных старческих глазах убеждал он. Но никто не спорил. Гримировались молча. Лишь Агния Семеновна, несколько успокоившаяся, наказывала очкастому помрежу Сереже: — В начале второго действия притушите свет. Затем потихоньку выводите его. Ярче, ярче… В фойе понемногу нарастал шум людских голосов. Это значило, что в театр стали прибывать зрители. Потом захлопали сиденья в зале. Спектакль начался без опоздания. Когда распахнулся занавес, гул в зале стих. Только на галерке раздраженно басил кто-то, искал, очевидно, свое место. Публика принимала спектакль пока что весьма сдержанно. Но Демидов, как только мог, успокаивал всех, кто был за кулисами: — Сорок лет играю в «Лесе» и, поверьте мне, всегда так. Тут любую знаменитость выпускай — не сорвет аплодисментов. А вот посмотрите, что будет дальше. Он оказался пророком. Уже во втором действии зал то мертво притихал вдруг, то взрывался хлопками и поощряющими возгласами. Зритель бурно встречал почти каждую реплику Алеши. Негодование сменялось радостью, радость — досадой. — Нормально идет, ребята, — шептала сияющая Агния Семеновна. В антрактах из публики прибегали к Соне восторженные девицы. Они обнимали Соню и щебетали без умолку: — Чудесно, чудесно! Петр Петрович сидит за нами и со смеху покатывается! А Мария Михайловна всплакнула. Говорит, что не хуже, чем до войны. Воспрянувший духом Демидов в одном из антрактов рассказал историю, случившуюся с Шаляпиным на гастролях в Лондоне. Шел «Фауст», в котором певец исполнял партию Мефистофеля. Поначалу все было гладко. Однако нашелся хорист, который взял ту же ноту, что и знаменитый певец. Грех невелик. Но Мефистофель рассвирепел и запустил в хориста стулом. — Да, можете мне верить, — Демидов окидывал комнату царственным взглядом. — Я отдал всю свою жизнь искусству. — А хорист так и стерпел обиду? — с интересом спросил Алеша. — Хорист стерпел, да его друзья возмутились. И решили они устроить знаменитому басу обыкновенную вздрючку. Вы знаете, как это делается. И когда он ехал после спектакля в карете, хористы остановили лошадей, вытащили его на мостовую и пересчитали ему ребра… — Это ценно, — заметил железнодорожник Витя Хомчик. — Если кому-то из вас придется быть на вершине славы, будьте скромными, не заноситесь, не унижайте человеческого достоинства, — сказал Демидов. Когда спектакль окончился, кружковцев долго не пускали со сцены. У Агнии Семеновны на глаза навернулись слезы. Потом за кулисами целовались все, поздравляя друг друга с премьерой. — Ты счастлив, Алешенька? — спросила Вера. — Очень, — Алеша взял ее за круглые, совсем девичьи, локти. — Я сегодня домой не пойду. Не хочу. Я буду ночевать здесь, в театре.
Кружковцы ехали на рудник. Маленький паровоз сипел и тяжело пыхтел на подъемах. Он тащил длинный состав из порожних платформ, на которые грузили руду. Одну из платформ, что почище, и облюбовали артисты. Они сидели на чемоданах с реквизитом, и сырой встречный ветер нещадно трепал их волосы. Говорили о премьере, вспоминали все подробности. — В одном месте я споткнулась. Вы заметили, да? — говорила счастливая Соня. — Стою и не знаю, что сказать. Все забыла. И Витя лицом к публике. Ему никак нельзя подсказать мне. А суфлера совсем не слышу. Ни одного словечка! Ну, думаю, конец. Уже и глаза закрыла от позора. А как закрыла, так и вспомнила сразу. Демидов, укутанный в стеганку и платки, высунул из тряпья свой свекольный нос и посоветовал: — В таких случаях, Сонечка, возвращайтесь к сказанным репликам. Варьируйте их. Партнер все поймет и подключится. Ставили мы до войны, уж не помню, какую, пьесу про шпионов. Наш чекист у таежного костра арестовывает вражеского разведчика. Перед этим идет большая сцена. Так, понимаете ли, актер, который играл чекиста, в этот момент уснул. Он прошлой ночью не спал, пьянствовал. А тут, видно, похмелился, его и сморило. — Ну и как же? — потянулась к Демидову Соня. — Шпион поднимается и бежит, а задержать его некому. Вот положеньице, милейшие! Надо давать занавес. Но это ж будет всемирный скандал. Наш театр могли вдрызг раскритиковать. Вы поняли меня? Чекисты спят… И выручил всех помреж. Он из-за кулис палкой толкнул в бок чекиста и тот вскочил. А шпион снова выбежал на сцену, как будто что-то забыл у костра. И вот тогда-то чекист выхватил пистолет и закричал: «Вы думаете, когда-нибудь чекисты спят? Они никогда не спят!» Так еще и аплодисменты были. И театралы потом восхищались. Вот, мол, как здорово решили сцену у костра. Актерская находка! Да-с! Уныло, будто нехотя, постукивали на стыках колеса. Уплывали назад, к Ачинску, начинавшие зеленеть кусты, а за ними тянулись бурые вспаханные полосы, на которых изредка можно было увидеть тракторы и лошадей с сеялками. Кое-где на свежей траве паслись худые коровы, с торчащими ребрами. Вера глядела на поля, на телеграфные столбы, что тянулись совсем рядом с железной дорогой, на неугомонных сорок, что охорашивались, присев на вершины молодых березок. Она, казалось, не слышала демидовского рассказа. Не улыбнулась и даже не повернула головы. Алеше стало тревожно. Может, что случилось с ней? Где она тогда ночевала? В театре? Словно прочитав в Алешиных глазах все эти вопросы, Демидов заговорил с Верой: — Сникла наша примадонна? — Я плохо спала сегодня, — слабо улыбнулась Вера. — Она очень плохо спала, — подтвердила Агния Семеновна. — Мы обе плохо спали. Демидов поправил на голове разноцветные платки: — Так вон что! Значит, Вера ночует у вас? — У меня, потому что дома у нее никого нет, — объяснила Агния Семеновна. — Муж ее искал после премьеры. Приходил в театр. Ну, а я откуда знаю?.. Агния Семеновна вопросительно посмотрела на Веру, но та не отрывала взгляда от придорожных кустов. И Алеша понял, что Вера ушла от Ванька, совсем ушла. А тяжело ей сейчас потому, что не знает она, как быть дальше. Ведь это Алеша должен решить, она ждет его решения. Чувствуя свою вину перед ней, Алеша попытался развеселить Веру. Он подсел к ней и стал вспоминать школьные смешные истории. А помнит ли Вера, как ребята принесли в класс ужей и сунули их девочкам в портфели? А как рвались нитроглицериновые шарики, когда преподаватель немецкого языка с журналом под мышкой входила в класс и бралась за спинку стула? Она пронзительно визжала при каждом таком взрыве. А помнит ли Вера, как звали преподавателя ребята? — Конечно, помню. — У Веры скривились уголки губ. — Ее звали Умляут. Снова завозился на чемодане Демидов. Наклоняясь к уху Агнии Семеновны, прокричал: — Что значит, милейшая, наша с вами актерская закваска? Иногда и волнительно, но не так, чтобы очень. К чему излишние волнения? Это молодежь — ах, ах, ах! Поезд подходил к руднику. Потянулись карьеры с обнажениями красной глины, жилые бараки, рудничные постройки. Справа побежал забор с колючей проволокой наверху, со сторожевыми башнями. Витя Хомчик понимающе присвистнул: — Заключенные. — Большой лагерь, — заметил Алеша. — А то как же! Не бывает суток, чтобы с запада бандюг не подвозили. Больше власовцы, — сказал Витя. Рудничный поселок был небольшой, но сильно разбросанный по склонам холмов. От станционной будки до клуба пришлось идти не меньше километра. Шли напрямик, по тропинке, которая петляла в кустах таволги. Тяжелые чемоданы оттягивали руки, и артисты часто останавливались, чтобы перевести дух. Вера хотела помочь Алеше нести чемодан, ведь у Алеши болит нога. Но он отказался от ее помощи: — Молодец ты, Вера! А это я сам донесу. — Почему ты решил, что я молодец? — Вера вскинула на него пристальный взгляд. — Вечером скажу. После спектакля, — Алеша ускорил шаг. Как всегда в рудничных поселках, люди долго собирались в клубе. У одних запоздала пересмена, другие только что узнали о приезде артистов, а идти домой с работы многим было далеко. Нужно и переодеться: не пойдешь на спектакль в спецовке. Но мало-помалу зал заполнялся. Люди захватывали места поближе к сцене. Лишь первые четыре ряда стульев никто не занимал. На эти места не пускала маленькая белокурая девушка. — Для кого? — кивнув на стулья, спросил Алеша у заведующего клубом. — Да тут… понимаешь… — махнул рукой тот. — Власовцев приведут, которые хорошо работают. В порядке поощрения. А я б их взорвал в карьере вместе с рудою. Так и смотрят на тебя волком. Особенно бандеровцы. Алеша ушел гримироваться в маленькую комнатку за сценой. Соня шептала трудные места роли. И опять ее успокаивал, пританцовывая перед настольным зеркальцем, Демидов: — Только не волноваться! — А у самого уже отвисла челюсть. У Агнии Семеновны что-то не ладилось с оборками на платье, и она нервно ковыряла иголкой. Соня отложила тетрадку с ролью и поспешила ей на помощь. А помреж Сережа подскочил с другой стороны: — Все готово, Агния Семеновна. Давать второй звонок? — Они ждут власовцев, — бросил Алеша через плечо. — Власовцев привели. — Давай, Сережа, второй, — распорядилась Агния Семеновна. По сцене торопливо простучали чьи-то каблуки и замерли у двери в гримировочную. Алеша оглянулся. В дверном проеме стояла Вера, растерянная, с округленными глазами. — Что случилось? — невольно привстал Алеша. — Там… там… — она задыхалась. — Там Петя Чалкин. Петер. — Где? — не сразу сообразил Алеша. — С власовцами. Пойдем-ка. Не могла же я ошибиться!.. Алеша как был недогримированный, так и бросился следом за нею. Чуть отодвинув занавес, чтоб только образовался маленький просвет, Алеша посмотрел на первые ряды. Среди мрачных, наголо остриженных людей он почти сразу увидел Петера. Петер сидел, съежившись и скрестив на груди руки. На его лице была смертельная усталость, лицо застыло, как маска. В маленькую дверцу, что вела на сцену из зрительного зала, просунулась голова заведующего клубом: — Пора начинать. Все в сборе. — Подождите. Мы еще не готовы, — бросился к нему Алеша. — А кто привел власовцев? — Есть тут майор, а что? — Пригласите его сюда. Нам он очень нужен. Пригласите, пожалуйста. Майор удивился желанию Алеши поговорить с Чалкиным. О чем толковать с предателями, изменниками Родины? Учились вместе? Тем более. Сам майор в этом случае прошел бы мимо и даже не посмотрел в его сторону. Но если уж так нужно артистам, то майор не возражает. И вот Петер в сопровождении сержанта, вооруженного наганом, вошел в гримировочную. Острым взглядом пробежал по лицам столпившихся артистов: кому он понадобился? — Не узнаешь, Петр? — с суровыми нотками в голосе спросил Алеша. — Леша? Нет, нет… Я не виноват! Меня по ошибке!.. — Губы у Петера затряслись. Он рванулся к Алеше, но тут же сник. Руки повисли, как плети. — Здесь и Вера. Вот она. Мы живем в Ачинске. — Вера?.. Я не виноват! Вот честное слово! — глаза у Петера забегали от Алеши к Вере. — А я… Значит… — он поперхнулся, и по его щекам поползли слезы. — Как же так? Ведь листовка была… Мне показывал ее Илья Туманов. Значит, подлог? — Алеша с досадой взмахнул кулаком. — Я не изменил Родине… Я не мог бросить на поле боя раненого Васю Панкова! Вместе мы были в плену. Там я сволочь одну задушил, своими руками. За это меня и ненавидят они, отпетые власовцы. Еще по пути сюда убить хотели, — сквозь слезы говорил Петер. — Но ведь ты должен доказать, что прав! — с болью воскликнула Вера. — Нужен свидетель. Может, несколько свидетелей. А где я их возьму? Васькиной судьбы не знаю. Жив ли он?.. Вот и выходит, что против меня всё. Главное — та самая листовка… Немцы знали, что делали. Это теперь доказательство моей измены. Помогите мне!.. Найдите Васю Панкова. Пусть он напишет прокурору, как все было… — говорил Петер, разглядывая Алешу, словно хотел навсегда запомнить его таким. — Хорошо, Петя. Я постараюсь, — пообещал Алеша. — Сообщите матери, что я жив. Нам писать домой запрещают. Эти слова явно не понравились сержанту, и он взял Петера за рукав и бесцеремонно толкнул к двери: — Хватит. Все вы невиновные, суки! В течение всего спектакля настроение у Алеши было подавленным. Он ходил по сцене, говорил текст, а думал о другом. И когда смотрел в зрительный зал, видел только сникшего Петера и больше никого. — Мы обязаны что-то сделать. Конечно, если он сказал нам правду. А я верю ему, — прошептала Вера по дороге на станцию, к ночному поезду. — Нужно найти Панкова. — А что ты обещал сказать мне вечером? — спросила она. — А то, что я не могу жить без тебя. Если ты согласна, давай найдем квартиру. — Да, да, родненький мой.
11
Фельетон был опубликован. Когда Алеша утром зашел в типографию, чтобы взять экземпляр газеты, наборщики и печатники встретили его уважительными взглядами. Очевидно, не так уж часто выступала газета с острыми материалами. Худощавый и седой директор типографии, почмокав замусоленную цигарку, что висела в углу рта, процедил сквозь зубы: — Давно бы их так. Теперь почешется кое-кто. А ты держись, Алеха. Кусать будут. — Чего с меня возьмешь? — победно усмехнулся Алеша. — Найдут, что взять. В елькинских валенках многие ходят. Действительно, в городе наступил переполох. Газету рвали из рук. Ее читали в магазинах, на базаре, на улицах — везде. Зазвенел телефон и у редактора. Едва Василий Фокич после разговора бросал на рычаг трубку, как раздавался новый настойчивый звонок. Вначале он что-то объяснял, потом стал сыпать в трубку равнодушные стереотипные фразы: — Факты проверены. Можете жаловаться куда угодно. Попробуйте опровергнуть. Редактора пугали первым секретарем горкома партии. Секретарь, мол, не даст Елькина в обиду. Портрет председателя артели столько лет висит на городской Доске почета! Нет, так дело не пойдет! И почему позволяют какому-то Колобову, которого совершенно никто не знает, писать небылицы о всеми уважаемом человеке? Не слишком ли превратно понимают у нас свободу слова? Ведь этак могут ошельмовать кого угодно. В редакционном коридоре с утра зашаркали подошвы сапог. Застучали двери. Какие-то личности, незнакомые Алеше, заглядывали в его кабинет и спрашивали редактора. Тем, кто лез на скандал, Алеша задиристо говорил: — А зачем он вам? Уж не по фельетону ли? Отвечали руганью или еле сдерживаемым сопением. Алеша смеялся. Затем настойчиво требовали у редактора дать опровержение. Но чем громче шумели, тем спокойнее вел себя Василий Фокич. Алеша даже позавидовал ему. Сам он ни за что не выдержал бы, сорвался и наговорил бы кучу резкостей. Около полудня к Алеше боком сунулся мужичонка в дождевике. Сощурил глаза. Хмурое, с кулачок лицо вдруг вытянулось, и посетитель прохрипел: — Дружок? Ты тут работаешь, ай как? Это был Жучок. Он достал из-за пазухи газету, сложенную вчетверо, и ткнул в нее желтым от курева пальцем: — Вот. Про меня прописали. Читал? — Читал, Жучок. Это я писал. — Ты? — Жучок выпучил мутные, осоловелые глаза. — Не имеешь права! Ты меня с валенками видал? А может, я совсем даже не валенки продавал. И я тебя к прокурору сведу. Как же это так? Значит, что хочу, то и делаю. Нет, идем! — он резким ударом распахнул дверь. — Будешь, Жучок, бушевать, я выкину тебя отсюда, — сухо и решительно сказал Алеша. Откуда-то изнутри уже шла к рукам нервная дрожь. Жучок, вероятно, не раз бывал в подобных переплетах. Увидев на щеках и на шее у Алеши багровые пятна, он прикрыл дверь и заговорил потише: — Ну Елькину так и надо. Его можно и покритиковать. А зачем же нести напраслину на трудящегося гражданина? Выходит, что меня, беззащитного, и обижать надо. Ужасно болела голова. Перед глазами летели куда-то, часто перебирая крылышками, тучи бабочек. И все бабочки были радужного цвета, и летели они в одном направлении. Только бы не ударить по этой противной спекулянтской морде! — Ты вот что… — закашлял и тяжело задышал Алеша. — Иди отсюда. Я очень тебя прошу. Иначе я тебя!.. Понял? Жучок попятился, тощим задом открыл дверь и исчез. Но через минуту его хриплые выкрики донеслись из кабинета редактора: — Он грозит, шалава! Он убить меня хочет! «Какая мразь, а тоже жаловаться. И ведь его, чего доброго, будут принимать серьезные люди, а потом станут проверять жалобу. Он знает все законы, жулик», — думал Алеша, спускаясь по лестнице. У него невозможно разболелась голова, и он решил прогуляться по городу. На тротуарах было больше прохожих, чем обычно. Люди не спешили, кроме школьников, которые с поразительной быстротой сновали взад и вперед, путаясь под ногами у взрослых. На улицах появился чистильщик обуви, чумазый мальчишка лет пятнадцати. Он четко отбивал дробь щетками, подбрасывал и ловил их, как заправский жонглер, приглашал навести глянец. Алеша направился к реке, но, прошагав немного, повернул назад, к базару. Разговор с Жучком взвинтил нервы. До этого Алеша чувствовал себя чуть ли не героем. Читал и снова перечитывал фельетон о проделках Елькина. Надеялся, что в городе все возмутятся темными делами жуликов и поблагодарят редактора за смелую критику. Но пока что ничего этого не было. Звонили в редакцию лишь дружки Елькина, а сейчас у Василия Фокича бушевал Жучок. Алеше хотелось остановить первого встречного и спросить его: «А вы фельетон читали? Какой фельетон? Мой. О председателе Елькине. И что вы думаете по этому поводу?». Прохожий мог, разумеется, и не читать фельетона, но не слышать о нем не мог. Прохожий должен был сказать Алеше хоть одно слово одобрения. Неужели людям безразлично, обворовывается государство или нет. Ведь это обворовывают их самих. Алеша подходил к базару, когда его обогнали две важные дамы. Они одновременно оглянулись, стрельнули в него глазами, и одна из дам наигранно засмеялась: — Умник нашелся! — и презрительно поджала тонкие, синие губы. Алеша остановился. Дуры вы, ну что стоит ваша ачинская круговая порука! Ведь посадят Елькина и дадут ему под завязку. Теперь ни за что не выпутаться ему. Об этом позаботился Алеша, и вы можете теперь фыркать. У промтоварного магазина бурлила очередь. По какому-то номеру промтоварной карточки давали мыло. Человек в очках и теплом пуловере читал газету. Ту самую, сегодняшний номер. Читал вслух, и рядом стоящие внимательно слушали его. Когда Алеша приблизился к очереди, мужчина уже дочитывал фельетон. Затем свернул и сунул газету в авоську: — Нужно показать соседям. Очень принципиальное, партийное выступление. Эти слова воодушевили Алешу. Значит, люди хвалят его. Значит, сделал он доброе дело. — Есть же честные, которые пишут, — послышалось из толпы. Алеша, постукивая палочкой по лестнице, взбежал на второй этаж и сразу к редактору: — Василий Фокич!.. В кабинете сидел Ванек. Он срезал Алешу злым взглядом и схватил со стола фуражку, чтоб уйти. Но, видно, не все было сказано, и он повернулся к редактору: — Он сам не станет отпираться, что пьянствовал с алкоголиками. Скажи-ка, Колобов, с кем выпивал, когда приехал в Ачинск? Ну? — Это не имеет значения! — Еще как имеет! — Послушайте, товарищ капитан, говорите по существу. Я до сих пор не уясню, чего вам нужно, — сказал Василий Фокич. — Ваше имя есть в фельетоне? — Нет. — Так зачем вы пришли сюда? За кого ходатайствуете? — За себя, товарищ редактор. Он мало того, что пьянствует, а еще… еще… Он занимается развратом! Он увел у меня жену. Вы не знаете, какой он есть! — Подлец! — крикнул Алеша, шагнув к столу. — А ну, попробуй, — вскочил Ванек и опять к редактору. — Будьте свидетелем. Василий Фокич усадил Алешу на свой стул, а Ваньку сказал: — Вы и в самом деле прохвост, товарищ капитан. От вас ушла жена, а вы явились сюда обливать грязью Колобова. Он выпил кружку пива с человеком, которого и не знал. А вы не один месяц водите дружбу с жуликом Елькиным. И вон отсюда! Чтоб вашей ноги здесь не было! Ванек рассвирепел. Он замахал руками и прокричал, задыхаясь от бешенства: — Вы… вы… вам не сидеть в этом кресле… Я… я напишу!.. Я пошлю письмо в Москву!.. — Ваша жена хороший человек. Она молодец, что ушла от вас, — бросил Василий Фокич вслед Ваньку. Вечером Алеша рассказал Вере о визите Ванька в редакцию. Вера, выслушав его, проговорила со вздохом: — Он способен на подлость. Но никогда больше не надо говорить о нем. Я тебя очень прошу, Алешенька. Не стоит он того, чтобы о нем говорили. Ладно? Алеша обнял Веру. Она нежно посмотрела на него: — Я тебя очень люблю, Алеша. Даже не представляю теперь жизни без тебя. И боюсь за свое счастье. Мне страшно. — Глупая, глупая Верка из десятого «Б», я ведь тоже тебя люблю. — А верно, что я глупая? — Верно, потому что задала этот вопрос, — плотнее прижимая ее к себе, ответил он. Вера рассказала, что она ходила в библиотеку. Не за книгами, а устраиваться на работу. И ее приняли библиотекарем в читальный зал. — У меня будет хлебная карточка служащего и семьсот рублей в месяц, — с гордостью сказала она. — И еще ты будешь, родненький мой. Вера нашла маленькую, но вполне приличную комнатку у соседей Агнии Семеновны. Цена терпимая. А в комнатке есть столик, стулья и койка с матрацем и подушкой. Уже сегодня можно ночевать. — Видишь, как все хорошо устраивается! — в глазах Алеши вспыхнули смешинки.Алешу вызвали в горком комсомола. Кроме Сони, в ее кабинете был мужчина в военном кителе, чистенький, гладко выбритый. Он держал себя официально. Как понял Алеша по ходу разговора, мужчина занимал должность секретаря горкома партии по кадрам. Соню словно подменили. Всегда такая ласковая, предупредительная и даже робкая в отношениях с Алешей, на этот раз она заговорила с некоторым раздражением, словно Алеша ей давно надоел какими-то скверными выходками. Она называла его теперь товарищем Колобовым. Она сидела напротив, надутая, со сморщенным лобиком. Ей, видно, хотелось попугать Алешу, а тот, едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. — Мы вот тут посовещались и решили серьезно побеседовать с вами, товарищ Колобов. Прежде всего, о фельетоне. Вы ввели меня в заблуждение. Вы работали в редакции, а я устраивала вас на новую должность… Девушка явно боялась отвечать за телефонный звонок Елькину. Но ведь Алеша дал ей слово, что примет всю вину на себя. Чего же еще? — Вы вели расследование недозволенным методом, — сказал секретарь горкома партии. — Так не должны поступать редакционные работники. Это позорно и недопустимо для советской печати! — А вам что, Елькина жалко? — грубовато спросил Алеша. Секретарь горкома резко повысил голос: — Не забывайте, где вы находитесь, Колобов. — А вы на каком фронте воевали, товарищ? — криво усмехнулся Алеша. Секретарь сорвался с места, застучал кулаками о стол, затопал. Он обозвал Алешу хулиганом, грозил ему милицией. Он тут же позвонил Василию Фокичу и крикнул в трубку телефона: — Уволить, немедленно уволить Колобова! Нам не нужны разгильдяи! Редактор, видимо, возражал. Тогда секретарь сказал, что он перейдет сейчас на другой телефон. Не хотел спорить с редактором при Алеше. Когда секретарь горкома хлопнул дверью, Соня с укоризной сказала: — Вот видишь, пожалуйста. И это не всё. — А что же еще? — иронически посмотрел на нее Алеша. — Заявление Вериного мужа. Раз оно поступило, мы не можем не реагировать, — и вдруг Соня сразу обмякла и стала прежней. — Пойми меня, Алеша. Запутали вы меня. По твоей просьбе я звонила Елькину. В драмкружке я тоже участвую… — Что случилось, Соня? Объясни толком. — Во-первых, говорят, что ты нарочно выискиваешь теневые стороны. Ведь ты раскритиковал передовое предприятие! Во-вторых, говорят, что ты не имеешь морального права печататься в газете. — Ну это говорят другие, а ты как думаешь? — Я думаю, что вообще-то… Ну мог же ты согласовать фельетон с горкомом! Ведь прошелся-то по самому Елькину!.. — Всё, Соня? — Алеша надел фуражку и решительным шагом пошел к двери. Соня забежала вперед и встала на его пути. Жалобно попросила: — Наверное, ты прав. И не обижайся на меня. Я не могу иначе. — Можешь, — твердо сказал Алеша. — Ты считаешь? — Да. Считаю. — Ты напрасно упрекнул его. Ну насчет фронта… Он же партийный работник. — А что, партийные работники только в тылу? Ладно, Соня, я не сержусь на тебя. — Вы поженитесь с Верой, да? — совсем тихо спросила она. — Конечно. Я давно люблю Веру. Впрочем, зачем я говорю это? Тут ни ты, Соня, и никто другой не помешают нам. — А мы и не собираемся мешать. Но ведь надо разобраться, если письмо поступило. Ведь за каждым письмом… — Стоит живой человек, — продолжил её мысль Алеша. — Так, что ли? А если этот человек подлец, если у него нет ни капельки чести? Что тогда? — Но ведь мы не можем так говорить о советском человеке… — Да какой он советский! — брезгливо поморщился Алеша. Разговор в горкоме комсомола вконец расстроил его. Из кабинета Сони он вышел с желанием уехать куда-нибудь. Всё ему казалось теперь в деле Елькина непонятным, совершенно запутанным. Может, действительно Алеша сделал что-то не так. Нет, надо уезжать отсюда. Но Василий Фокич остудил горячую Алешину голову. — Ты рассуждаешь примерно так: написал-де фельетон, обозвал ворюгами людей, которых в городе знали, как порядочных. И хочешь, чтобы сразу все приняли твою сторону. Чтобы немедленно арестовали Елькина и всех других героев фельетона и завтра же осудили. Чтобы тебе поклонились в пояс наши городские руководители. Дудки! Думаешь, им приятно сейчас, что не сами они схватили за руку мошенников? Нет. Поэтому наберись терпения. Слушай, что тебе говорят, мотай на ус. — Но ведь он же приказал уволить меня! — вырвалось у Алеши. — Никто тебя не уволит. Только что я говорил с первым секретарем горкома. В пимокатной артели с утра сидят ревизор и следователь. Чего ж тебе еще? — Но почему этот жал на меня? — Да пойми ты, чертушка такой, они Елькина знают много лет. Да-да! А ты в Ачинске без году неделя. Теперь узнают и тебя. — Ладно уж, — засопел Алеша. — Ну, а как с женой? Кстати, где она? — Мы нашли квартиру. — Может, нам выпить на новоселье? Я водчонки найду. А директора типографии прихватим? — Пожалуйста, — охотно согласился Алеша. — Не возражаю. — Жена заругается? — Да что вы! Она будет очень довольна. Вера встретила их радостно и растерянно. Ей было неудобно за неуют комнаты. Но Алеша привел друзей, и это было для нее счастьем. Ведь они теперь и ее друзья. — Хороша, — пробасил директор типографии, когда Вера выскочила на кухню. Она накрыла стол взятой у хозяйки скатертью. Поставила чашки с хлебом и жареной картошкой. Принесла квашеной капусты. «Это — доброта хозяйки, но, прежде всего, Верины заботы. Как ей хочется услужить нам! Какая она умная и милая», — думал Алеша, наблюдая за тем, как она хозяйничает у стола. Василий Фокич разлил водку по стаканам. Сколько мужчинам, столько и Вере. Она изумленно посмотрела на свой стакан и перевела взгляд на Василия Фокича: — Да что вы! Я ведь совсем не пью. А этой дозой можно убить коня. — Пожалуй, — согласился директор типографии. — Я предлагаю выпить за боевое крещение журналиста Алексея Колобова. Оно прошло у него как по маслу! — предложил Василий Фокич. — Хорошенькое масло! — возразил Алеша. — А ты хотел, как Цезарь: пришел, увидел, победил? Так, что ли? — Вроде так. — Журналист должен делать свое дело спокойно, и с дальним прицелом. Да-да! Он, как никто, работает на будущее. — Вот какой ты у меня! — шутливо воскликнула Вера. — За мужа, надеюсь, выпьете? — сказал Василий Фокич. — За мужа выпью, — Вера чокнулась со всеми и пригубила стакан. Директор типографии вскоре опьянел. По комнате поплыл храп. Василий Фокич толкнул старика в бок. Но Вера запротестовала: — Пусть спит. Директор типографии будто услышал Веру. Он стал выводить носом такие трели, что Алеша сказал: — А ведь весело без патефона. Хоть пляши. Василий Фокич еще побеспокоил старика, и тогда тот, не открывая глаз, заговорил: — Мы в Кургане вместе со Всеволодом Ивановым были. Работали наборщиками. Потом он стал писателем, а я — читателем. Он — пишет книги, а я ничего не пишу. Не умею. Я больше по технической части. Вот и рассуди нас: кто прав, кто виноват. — Вы оба правы, — сказала Вера. — Оба не могут быть правы, потому что он пишет книги, а я не пишу. Я больше по технической части, — и смолк, и захрапел снова.
12
Постучали в калитку, потом в ставни. Сквозь сон Алеша слышал, как протяжно заохала, поднимаясь с постели, хозяйка. Как она отвечала кому-то через закрытое окно и тут же вышла на крыльцо. Алеша почувствовал рядом ровное дыхание Веры и успокоился. Мало ли по каким делам могли прийти к хозяйке. И вдруг в прихожей истошный крик: — Вставайте, милые! Скорее вставайте! Алешу кольнуло в сердце. Он подумал, что где-то рядом пожар. Может, загорелся сарай, что примыкал к дому и был захламлен мхом, деревянными стружками и еще бог весть чем. — Что случилось? — испуганно спросила Вера, садясь на постели. — Победа, милые мои! По радиву передали. А это техничка за Алешей. На работу его зовут. Господи, да неужто она, проклятая, кончилась? Да неужто вернется ко мне сыночек Володенька? Господи! Алеша быстро оделся. Посмотрел в прихожей на ходики. Было около семи. Вернулся в комнатку. Вера все еще продолжала сидеть в постели. Она протянула к нему теплую руку, он схватил ее, поцеловал. Вера привлекла Алешу, обняла за шею и зашептала в самое ухо: — Поздравляю тебя, мой любимый солдатик. Теперь уже никто и ничто нас не разлучит. Утро было ясное, искристое. Все, что могло блестеть на солнце, полыхало ярким огнем. Даже роса, не успевшая просохнуть на крышах домов, на заборах и траве, радужно переливалась, как россыпь камней-самоцветов. Казалось, весна приберегла для этого утра самые сочные свои краски. Город охватила радостная суета. Похлопывали двери домов, поскрипывали калитки. Люди торопились куда-то, сияющие, пьяные без вина. Босоногие мальчишки стайкой обогнали Алешу: — Дяденька, победа! Сердце у Алеши пело. Казалось, все прочие земные радости ничто по сравнению с этой. Победа! Глаза застилались слезой, и в памяти вставало пережитое. Скуластый и черный от пыли Кенжебаев на четвереньках вылезал из разрушенного окопа, кряхтел и плевался. Это было в ночь Алешиного боевого крещения, даже не ночью, а на рассвете. Пыль, оседая, редела, и все краснее становился плоский солнечный диск. Из разведчиков вспомнил Алеша Кудинова, манерную, хитрую его ухмылку при знакомстве. И совсем иным был Кудинов перед наступлением: раздумчивым, грустным. Словно чувствовал человек свою скорую гибель. Нужно будет обязательно съездить к его семье или написать. А от Бабенко до сих пор нет ответа. Или письмо не нашло его или не хочет Бабенко ничего сообщать Алеше. А жива ли Наташа вообще? Ведь ей оторвало ногу. В таких случаях нужна срочная операция. Попала ли Наташа вовремя на стол к хирургу? Прежде Алеше казалось, что он любит Наташу. Но встретил Веру, и Наташа стала понемногу уходить в тень. Ведь у него не было к ней большого чувства. А Веру он любил всегда. Отношение Алеши к Наташе было отзвуком Наташиного чувства. Теперь же Алеша жалел ее, как дорогого ему человека, разделившего с ним трудности войны. И в то же время Алеше казалось, что он в чем-то виноват перед ней. Ему было неловко за свое счастье. Окна квартир были распахнуты настежь. И отовсюду рвалось на улицы, разносилось по городу: — Акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии… Вот и всё! Не быть больше бомбам, не грохотать орудиям. Вернутся домой бойцы, кто уцелел, и пойдет совсем другая жизнь. Прекрасная — лучше довоенной. — Полная и безоговорочная капитуляция, — шептал Алеша сухими, солеными губами. На главной улице — у редакции, у аптеки и театра — кипели толпы людей. Горланили фронтовики. Их расспрашивали о событиях двух- и трехгодичной давности. И все, о чем они говорили, казалось очень важным. Потому-то, отталкивая локтями друг друга, пробирались к ним. У самого крыльца редакции размахивал худыми и длинными руками инвалид с деревянной ногой. Он уже успел хватить самогона. Плакал и целовался со всеми, повизгивая: — А мы его ря-яз! А ён нас тра-та-та! А мы его из пушки — гох, гох! Спектакля была удивительная. Когда ж окопы немецкие заняли, дышать нечем было. — Да ну! — Мутило, нутро выворачивало! — Это у них завсегда в окопах вонь, — пояснял парень со шрамом через весь лоб. — Они порошком вошь травят. — Да какой тебе порошок! Дерьмом воняло, — пояснил инвалид на деревянной ноге. И обвел толпу торжествующим, орлиным взглядом. Заметив в толпе Алешу в военной гимнастерке, потянулся к нему: — Браток! — и тут же разревелся. Алеша поцеловал инвалида в небритую, мокрую от слез щеку. Поймал ноздрями идущий от него запах водки и лука. Бросился на крыльцо. А там танцевал на цыпочках, стремясь разглядеть получше все, что творилось вокруг, актер Демидов. Он обнял Алешу, ткнувшись ему в грудь мокрым и красным носом. — Необыкновенная радость! — заговорил он дрожащим голосом. — Будут теперь в городах театры, будут великолепные сборы! И я еще сыграю в Ачинске Шмагу… «Мы артисты, наше место в буфете»… Да! — он выпятил нижнюю губу. — А вы, Алеша, могли бы попробовать Незнамова. Впрочем, я вижу вас Муровым, этаким классическим соблазнителем… — Я спешу, Александр Георгиевич! — нетерпеливо махнул рукой Алеша. В кабинете редактора на полную мощность хрипел старый, довоенного образца приемник. У него хватало сил лишь для того, чтобы взять самые ближние станции. Сейчас говорил Новосибирск. Передавали для газет последние известия: не спеша и повторяя по нескольку раз трудные слова. Василий Фокич был весь внимание. Он молча кивнул Алеше и показал на стул. Но Алеша не сел, а подойдя к окну, стал наблюдать за переливавшимся на улице людским потоком. В этом зрелище было что-то похожее на то, что видел Алеша в Алма-Ате в первый день войны. Но тогда впереди была неизвестность. Под самым окном толпа вдруг расступилась, вытолкнув в круг гармониста. Он отбросил кудри, падавшие на лоб, и заиграл плясовую. А из толпы выскочила молодая пьяная баба в кирзовых сапогах, пронзительно вскрикнула и закружилась, поднимая облако пыли. «Где-то сейчас радуются победе Костя и Тоня, Ахмет и Лариса Федоровна. Радуется историк Федя», — подумалось Алеше. А Петеру должно быть горько. Обидно, если все, что говорил он, правда. Алеша написал Ларисе Федоровне. Она узнает у ребят хоть что-нибудь о Ваське Панкове. Теперь будут возвращаться солдаты с фронта, приедет и Вася, коли жив. А не приедет, то кому-то пришлет письмо. — Сейчас начнут передавать, — прервал Алешины думы Василий Фокич. — Вот тебе бумага, карандаш, садись и принимай. К полудню специальный выпуск газеты был отправлен в типографию. Алеша освободился от дел, заспешил в библиотеку. Возбужденные люди пели, плясали и просто толкались на тротуарах и мостовой. Неожиданно вынырнуло осунувшееся лицо Жучка. Несмотря на вешнее тепло, Жучок был в своем неизменном дождевике. Он рассыпался дробным, ехидным смехом: — Что, законник, не вышло? Имел желание погноить меня в тюряге? А тут оно и сорвалось. — Почему ж сорвалось? — сощурился Алеша. — А потому, как объявят амнистию по случаю победы. Ты думал, так просто упрятать меня за решетку? Не-ет, Жучок тоже не дурак. Алеша испытывал гадливость к этому опустившемуся человеку. Вон как торжествует, что его шкуру спасут или уже спасли фронтовики на полях сражений! Неужели Жучок окажется прав, что будет ему и другим жуликам амнистия. Но разве это справедливо? Нет, надо, чтоб они отвечали за свои преступления. — Знаешь что, Жучок… Амнистируют только тех, кто воевал. А ты ведь всю войну просидел в тылу. По тебе тюрьма скучает, — сказал Алеша. — Врешь, шалава! Амнистия выйдет всем, всем! Вот увидишь, законник. Работники библиотеки тоже высыпали на крыльцо. Сегодня к ним никто не шел, как, впрочем, и в другие учреждения. Всех звал праздник на улицы, на пятачок у редакции, где безудержно лилось через край шумное веселье. А Веры на крыльце не было. Когда Алеша спросил о ней, курносая библиотекарша, многозначительно растягивая слова, сказала: — Она там. Ей не очень здоровится. Что за чертовщина! Утром Вера чувствовала себя прекрасно. Что же случилось? Библиотекарша определенно чего-то не договорила. Неужели у Веры какая-то неприятность по работе? Алеша стремительно прошел в читальный зал. Вера сидела у окна, покусывая уголок носового платка. Лицо ее и шея горели большими красными пятнами. Она поднялась навстречу встревоженному Алеше. Уткнулась головой в его плечо: — Давай уедем отсюда. Будем жить где угодно, только не здесь! Уедем, Алеша, — и вдруг расплакалась. Он ласково погладил ее щеки: — Успокойся, Вера. Если надо, уедем. Он ни о чем не спрашивал. Ждал, когда расскажет сама. И вдруг догадался: сюда приходил Ванек! Конечно, лучше уехать, подальше уехать отсюда. Вера не любит Ванька, но он будет постоянно ходить за ней. А это невыносимо! — Он был пьяный. Обругал меня… Лез драться. Ну, Ванек! Счастье твое, а может быть, и Алешино, что не встретились здесь. Не очень весело кончилось бы это. Вот так, бывший дружок! Алеша не позволит, чтобы кто-то тронул Веру. — Мы что-нибудь придумаем, — тихо сказал не столько Вере, сколько самому себе. Вечером договорились, что он разузнает у редактора, куда лучше поехать. Василий Фокич должен посоветовать. Он не первый год жил в Красноярском крае, у него есть знакомые журналисты. Разговор с редактором состоялся. Он был нелегким. Василий Фокич рассердился не на шутку, долго бегал по кабинету, фыркал, вытирая ладошкой выступавший на лбу пот: — Летун ты самый настоящий! Да-да! Ему не нравится городская газета! Да я начинал в такой дыре, что тебе и не приснится. А это — город! — Как знать, Василий Фокич, — сказал Алеша. — По-моему, в той дыре лучше… — Это у тебя от обиды на плохих людей. А ведь есть здесь и хорошие. И город вовсе не виноват в том, что у тебя что-то не клеится. Горяч ты, Алеша. — И все-таки я уеду. — Дурной ты! Ну уж ладно! Если на то пошло, я тебе устрою командировку. Сейчас же позвоню в краевую газету. Там охотно дают командировки местным журналистам. Поедешь, напишешь очерк или статью, а заодно и местечко себе присмотришь. Только я по-прежнему против категорически. На той же неделе Алеша уехал. По расписанию поезд уходил из Ачинска во втором часу ночи. Но он запоздал почти на три часа. Так и проходили в ожидании поезда всю ночь по перрону Алеша и Вера, которая во что бы то ни стало решила проводить мужа. — Я все равно не смогу сегодня уснуть, — как бы оправдываясь, говорила она. — Но завтра тебе на работу, — возражал Алеша. — Что ж, как-нибудь… Отработаю день, не поспав. И ничего тут страшного нет. И такая мольба была в ее широко раскрытых, устремленных на него глазах, что Алеша согласился. Вера волновалась так, словно он покидал ее навсегда. Счастье казалось ей еще очень зыбким и неопределенным. Ночь выдалась светлая и теплая. Звезды были большие, сочные. Где-то далеко, на самом краю станционного поселка, лениво побрехивали собаки. — Хорошо-то как! — вздыхала Вера, припадая к Алеше. Негромко переговариваясь, прошагали железнодорожники с фонарями. Вера смотрела им вслед до тех пор, пока их сутулые фигуры не растаяли во мраке и не остались маячить на путях лишь слабые желтые огоньки стрелок. — И люди вот так же. Пройдут по жизни, посветят и погаснут, — в раздумье сказала она. Алеша не сразу понял Веру. А когда до него дошел смысл ее слов, сказал: — Светят не все. — Ты о другом, Алеша. — Да, я о другом, — согласился он. — Но что толку, если человек существует, как животное? Все о себе, все для себя. — А дети? — Что дети? Они и детей воспитывают в том же духе. Ты должен прожить легче других. Вот и вся философия. Посвистывая, подошел поезд. Как мухи на мед, на него налетели мешочники. Каждый лез напролом, иначе не сядешь. А до следующего поезда — целые сутки. Здесь не существовало никаких очередей, все зависело от силы и ловкости. Алеша с трудом вклинился в толпу, его прижали, отбросили в сторону, но толпа колыхнулась снова, и он оказался рядом с проводником. Это была удача. Уже рассвело. Отсветы зари играли на стенах вокзала, на кряжистых тополях, что росли в палисаднике у вокзального здания, на лицах толпившихся на перроне людей. В окно вагона Алеша увидел Веру. Она сиротливо стояла неподалеку и махала ему платочком. И Алеше пришла мысль, что вот так же совсем недавно провожали бойцов на фронт. А теперь он едет всего на несколько дней, едет в тихие, мирные села, и у Веры, конечно, то же чувство тревоги и боли. Видно, разлука всегда тяжела, если любишь. А Вера любила его. Это он знал. Алеше нестерпимо захотелось открыть окно и втащить ее в вагон, чтоб уехать им вместе. Но он тут же махнул ей рукой, чтобы Вера уходила, и принялся искать по вагону свободное место. Разумеется, его не оказалось — хотя бы краешка полки, где можно сесть, — и Алеше пришлось поднять спавшего бородача. Тот не хотел убирать ноги с полки, что-то сердито бурчал себе под нос. Однако Алешу поддержали пассажиры, что стояли в проходе, и бородач сдался. О Хакасии Алеша слышал мало. Он знал, что она где-то на юге Сибири, что там есть и степи, и тайга. Но в обжитой части Хакасии больше степей. Говорили о косяках коней, о хакасских шаманах, о мясистых помидорах величиной с блюдце, их можно купить сколько хочешь на базаре в Абакане. Вот, пожалуй, и все сведения, которыми располагал Алеша, если не считать рассказов о хакасском курорте Шира.Абакан оказался пыльным одноэтажным городом. Здесь стояла жара, деревья уже зеленели. В тени тополей на привокзальной площади дремали, отвесив нижнюю губу, некрупные лошадки под седлами. У заборов, да и посреди площади, топорщилась зеленая щетина дикого ириса. Еще в поезде Алеша узнал, что в Абакане есть МТС. И прямо с вокзала он пошел на высокую трубу, которую ему показали. Идти пришлось по пыльному тракту, затем Алеша свернул в поле. Дорога здесь была вязкая, и он с трудом осилил ее. Контора МТС была в маленьком белом домике, возле которого подрагивала и воняла бензином изрядно побитая полуторка. В ее чреве ковырялся низкорослый, скуластый хакас. Он даже не повернулся в сторону Алеши — так был увлечен своим делом. Но едва Алеша поставил ногу на ступеньку крыльца, хакас, не поднимая головы, сказал: — Эгей, хозяин. Зачем в кантору идешь? Там никого нет. Директор на полях, агроном на полях, главный механик на нефтебазу уехал. — Значит, никого из начальства нет? — Смотря какой тебе нужен начальник. Я тоже начальник. Участковым механиком работаю, по степи езжу, песни пою. Хочешь, поедем вместе, прокачу с ветерком, — весело затараторил хакас. — А ты кто такой будешь? — Я из краевой газеты. — Тогда я тебя не возьму. Моя машина не ходит. У нее карбюратор поломался, ремонтировать надо. Плохо, когда ездишь с поломанным карбюратором, — поморщился механик. — Но ты только что обещал прокатить с ветерком? Как старые знакомые, они сразу заговорили на «ты». Механик был симпатичен Алеше. Круглое, как луна, лицо с разбегавшимися морщинками у глаз. А сами глаза добрые, с веселинкой. — Почему обещал, а теперь не везешь? — продолжал свое Алеша. — Ты мал-мала Апониса критиковать будешь. Потом директор даст выговор. — Это что за Апонис? — Я и есть. А ты разве не знаешь? — хакас оскорбленно вздохнул и снова полез в мотор. Алеша ждал, когда Апонис закончит ремонт. И вот из-за радиатора показалась довольная физиономия механика. Озорно засветились щелочки глаз: — Садись, хозяин, в кабину. Я тебя повезу далеко-далеко. Мы будем пить араку, мы будем есть кан, потом пиши, ругай. Отчаянно тарахтя и подпрыгивая на ровной дороге, грузовик вырвался в открытую степь. Побежали телеграфные столбы, в кабину подул теплый ветер. К запаху бензина прибавился стойкий аромат полыни, росшей в кюветах справа и слева от тракта. Впереди лежала всхолмленная, вся в курганах степь. Она купалась в фиолетовой дымке, голая, с рубцами оросительных каналов. Лишь кое-где виднелись избы хакасских улусов да одинокие тополя или березки у полевых станов. Апонис крутил баранку и пел. В его гортанной песне была такая тоска, что у Алеши сжималось сердце. И Алеша спросил: — О чем это ты? Апонис продолжал петь. И пел он еще долго, ритмично покачивая головой, как все степняки… Вот проехали они на мост через узенькую речушку, обогнали отару овец, которые так и норовили под машину. Наконец, в стороне, в полкилометре от дороги начался и вскоре кончился улус с домами и юртами. — Я пел о храбром богатыре Чанархусе. Старики сказывают, что у одной женщины орел украл ребенка и унес к снежным вершинам, к тасхылам. Орел вскормил его. И вырос ребенок сильным и красивым парнем, и пришел он в наши улусы. А потом на празднике встретил Чанархус красавицу Алтын-кеёк. Черноволосая и яснолицая была Алтын-кеёк. Слава о ее красоте шла у тубинцев и у сагаев, у качинцев и койбал, у кызыльцев и бельтыр. Многие богатыри хотели привести в свою юрту Алтын-кеёк. Но она полюбила Чанархуса. А свирепый хан решил взять ее в жены. И Чанархус не вынес разлуки с любимой девушкой и убил себя. Апонис умолк, однако вскоре запел по-русски:
13
Поезд приближался к Алма-Ате. В степи все чаще стали появляться зеленые островки пирамидальных тополей с мазанками, с ишаками на приколах. Пошли серебристые арыки, от которых опахивало прохладой. Наконец, заклубилась у дороги белая и розовая пена цветущих садов. Костя выглянул в открытое окно вагона и увидел знакомые очертания гор с шапками снега на вершинах, а под ними — синий пояс елей и в ущелье — крыши домов. Сам город скрывала густая листва. Кажется, никогда не волновался Костя так, как в эти последние минуты перед Алма-Атой. Он уехал отсюда давно. Где только ни побывал! Много друзей приобрел и потерял на военных дорогах! И дивился Костя диву, как он сам уцелел, как дожил до победы. С утра в вагоне творилось невообразимое. На каком-то крохотном степном разъезде увидели стрелочника, плясавшего у своей будки, и поняли, что пришла победа, и заходил вагон от гвалта. Кричали «ура», выплакивали радость и боль, по-медвежьи круто тискали друг друга. Еще час назад трудно было бы поверить, что эти смирные и серьезные люди могут наделать столько шума. А когда первый шквал радости несколько поутих, чумные с похмелья матросы стали рвать на себе тельняшки, сопревшие за войну, и ругать Гитлера. Мужчины ахали, женщины прыскали в ладошки от смеха и смущения. На станциях обнимали ошалевших железнодорожников, целовались с милицией. Чудом доставали брагу и самогон. За пол-литра денатурата отдавали шинельку или пару обмундирования. А на станции, где продавали хмельной медок, повысаживали у ларька стекла и потом несколько раз срывали стоп-кран, чтобы задержать поезд. Поехали лишь тогда, когда насос у бочки с медом засопел, брызгаясь одной пеной. Матросам повезло. Они где-то достали бурого, как свекольный квас, вина и принялись пить его из солдатского котелка. Они громко крякали от удовольствия, смачно облизывали губы. Котелок бойко ходил по кругу, в который один раз попал и Костя. Матросский заводила сунул ему котелок, сказал: — Пей, пехота. За здоровье товарища Сталина. Костя сделал несколько крупных глотков, и матрос похвалил его. А Косте совсем не хотелось пить на голодный желудок. Хлеб и сахар у него кончились, получить сухой паек можно было только на крупной станции. Такой станцией теперь была лишь дорогая его сердцу Алма-Ата, куда поезд приходил только в двенадцать дня. За окном потянулись домики станционного поселка, огороды, зеленевшие грядками лука и редиса. Замелькали узенькие улочки с веселым, суетливым народом. И вот впереди показался перрон. Но это еще не город. До городского вокзала нужно было ехать на поезде горветки. Этот поезд Костя ожидал около часа. Он успел получить по талонам продукты. Все-таки явится домой не с пустыми руками. Он представлял себе, как встретится с матерью, с Владой. У матери, конечно, будет уйма вопросов, будут и упреки, что мало писал, что позабыл ее. Расплачется, прижимая Костю к своей груди. А он попросит прощения за бессонные ночи, которые доставил ей своим молчанием. Мать простит. На то они и матери, чтобы все прощать детям, даже незаслуженные обиды. Встречу с Владой Костя представлял себе по-разному. То он сталкивался с нею где-нибудь в парке или у библиотеки. С равнодушным видом здоровался и, будто между прочим, спрашивал Владу об ее жизни. То Костя встречал Владу в театре, и не сам подходил к ней, а ждал, когда подойдет она. Разумеется, она очень удивится, а Костя бросит ей в лицо резкие слова про киношников. Влада замолчит, не станет оправдываться. Костя ведь понимает и всегда понимал, что главное — верить близкому человеку. Без доверия не может быть дружбы. Но ему не по себе было при мысли, что умная и благородная Влада терпит каких-то пижонов, которых сама осуждала в письмах. Конечно, насчет Игоря она могла написать и правду, что познакомилась с ним, например. Но выйти за кого-то замуж… Нет, этого Костя почему-то не боялся. Разумеется, она могла сделать это, но чтоб женихом был настоящий парень, а не какой-то чистоплюй. Костя хорошо помнил Владины слова, что человек должен быть сильным, очень сильным, и что именно такого полюбит она. Костя торопливо шел по путям и мимо саксаульной базы на свою родную улицу. Правду сказал кто-то, что путь домой лежит для фронтовиков через далекий, чужой край. И Костя побывал на чужой земле. Он был ранен под румынским городом Ботошанами. Осколок снаряда попал в голову, раздробил лобную кость. В этом же бою оторвало руку историку Феде. Они лежали в одном госпитале. Федя выписался раньше и уехал к сестре в Казань. Костя еще лечился и после лечения получил на три месяца отпуск.Мать стояла у калитки, как обычно. Пристально глядела в лица прохожих, словно надеялась в одном из мужчин узнать сына. Но когда он подошел в самом деле и позвал ее, она подумала, что это привиделось ей, и совсем закрыла глаза, чтобы не рассеялся призрак. Так у нее бывало уже не раз. — Мама, — повторил он, сбросил с плеча вещмешок и протянул к ней руки. И она затрепетала от его прикосновения и разрыдалась. Долго всхлипывала, прежде чем догадалась открыть калитку и впустить во двор Костю. А на крыльце мать снова остановилась и несколько секунд рассматривала повзрослевшего сына в упор. — Похудел и побелел ты, сынок, — сокрушенно проговорила она. — В госпитале побелел, мама, когда окопную грязь смыл, — пошутил он, глядя на залитый солнцем огород, на подросшие вишни и яблоньки с обвисшими от жары листьями. Мать накрывала на стол, а Костя рассказывал ей о фронтовом житье-бытье. Она, слушая его, не вникала в смысл слов. Это ей было совсем ни к чему. Важно, что сын рядом. Раз звучит в комнате его голос, значит, он здесь, и у матери спокойно на душе. Костя смотрел на материнские руки, на ее сутулую фигуру и отмечал про себя, что она сильно постарела, сдала за военные годы. Поседели виски и пряди волос на лбу, пожухла кожа на лице и шее. И две глубокие, очень глубокие складки залегли у рта. Косте стало жалко ее. Он приблизился к ней и поцеловал. И упрекнул себя за то, что месяцами не давал матери знать, где он и что с ним. Он сам доставлял ей лишнее беспокойство. Но что значит запоздалое раскаяние? Что думать о прошлом, когда сегодня такой счастливый день! Надо радоваться встрече, только радоваться! Мать налила Косте щей, горячих, прямо из печки. Вытерла полотенцем и поставила перед ним отпотевшую бутылку вина. — Из нее я угощала дружка твоего Алешу Колобова, — сообщила мать. — Он приехал? Тоже ранен? — Списали совсем. Дома живет, хотя один раз только и приходил к нам. А может, уехал. Не знаю. — Обо мне спрашивал? — Как же, сынок. Обязательно спрашивал. Ты бы посмотрел на Алешу. Высокий он стал да красивый. — А ты что ему сказала, мама? — Что ты не пишешь, то и сказала. — А еще что? — допытывался он. — Больше ничего, — она сложила руки на груди и наблюдала, как он ел. И ее очень развеселило, когда он попросил добавки. Отвык, наверное, от домашних обедов. Принялась говорить об отце: она по-прежнему относилась к нему с явной неприязнью, не ждала его, не хотела видеть. После обеда мать, заметив, что у Кости устало слипаются веки, разобрала постель. Он по-солдатски быстро разделся и, встав на прохладный пол босыми ногами, почувствовал такое облегчение во всем теле, какого давно уже не испытывал. Он лег на постель, приятно пахнущую ветерком, зажмурился и сразу уснул. Усталость долгого пути бросила Костю в глубокий сон, из которого он выбрался лишь через сутки.
Несколько дней Костя отдыхал. Лишь сходил к Алеше. Но никого там не застал, а соседи Колобовых сказали, что Алеша вот уже два месяца как уехал в Сибирь. Было обидно, что могли встретиться и не встретились. Интересно бы поговорить теперь, после фронта, когда они оба стали взрослыми, повидавшими жизнь людьми. О Владе мать даже не заикалась. Ему нужна любящая жена, а не куколка, которую только и носить на руках. Костя, так стремившийся к Владе, теперь откладывал свою с ней встречу. Вечером он твердо решал идти к ней, а утром говорил себе, что спешить некуда, что впереди у него три месяца, а может, и того больше, и что он успеет повидать ее. Костя боялся: вдруг да Влада действительно вышла замуж. Блеснул перед нею чем-нибудь этот хлыщ, показался Владе необыкновенным, и она связала с ним свою судьбу… Мать по грустным и задумчивым Костиным взглядам, по тому, как он хватался за любую работу, лишь бы убить время, понимала, что на душе у него неспокойно. Любит сын Владу, не забыл ее. И чем-то сильно обидела его гордячка, что он никак не может теперь переломить себя, простить ей это. Наконец Костя не выдержал. Решил сходить к Владе. Он добрый час вертелся перед зеркалом. То причесывался, то примерял рубашки. Старательно чистил бархоткой отцовы туфли, которые теперь ему были малы и жали пальцы. «Так ходят на свидание», — сказала себе мать, провожая Костю до калитки. Было то время суток, когда и не день, и не вечер. Солнце еще палило отчаянно, стояло вроде бы высоко, а прежней духоты уже не, было. Воздух задвигался. Небо подернулось пепельной пленкой, словно выгорело. Этот же пепельный налет лежал на далеких вершинах гор. Костя отмахал добрую половину пути, когда подумал вдруг о том, что Влады может и не быть дома. Она учится. Значит, сейчас или на занятиях в университете или в библиотеке. К ней нужно идти часа через два. А эти два часа погулять в парке или попроведать Ахмета. Если свернуть сейчас в улицу, то до него каких-нибудь полтора квартала. Хороший парень Ахмет, искренний, честный. Очевидно, все пишет свои пейзажи, если здоров, ведь у него что-то было с легкими. Дверь открыла седая маленькая женщина, тетушка Ахмета. В черном до пола татарском платье, свободно падавшем с плеч, в черном платке, закрывавшем лоб до самых бровей и завязанном на затылке, она вежливо посторонилась, пропуская Костю в комнаты. — Вы друг Ахмета? Да, вы его друг, — спрашивала и отвечала сама. — Он дома? — оглядываясь по сторонам, спросил Костя. — Посмотрите полотно, оно на мольберте. Он весь там, мой мальчик. До последнего вздоха… — Что? Что с Ахметом? — тревожно повернулся к ней Костя. Она прошаркала подошвами крохотных красных сапожек в другую комнату и тонким, как спичка, пальцем позвала Костю. У нее был вид заговорщицы, которая под большим секретом собиралась сообщить ему какую-то чрезвычайно важную тайну. «Неужели Ахмет умер? А это черное на его тетушке — знак траура по нему?» — подумал Костя, шагнув к ней. Другая комната была нежилой. На столе, на подоконниках, на полу лежал толстый слой пыли. Рой пылинок кружился в столбах солнечных лучей, которые падали на обшарпанную стену. Эти пучки света только подчеркивали мрак и запущенность комнаты. — Где Ахмет? — На все воля аллаха, — часто закачала головой она, снимая с полотна на мольберте старую, засиженную мухами газету. — Посмотрите, друг Ахмета, на воду. Разве видели вы где-нибудь чище и прозрачнее этой? Она готова спорить с родниками, с потоками поднебесных гор. А глаза? Разве не заключена в них человеческая усталость? Человек устал от жизни, ему пора уходить. Костя хотел возразить ей. Нет, это усталость не побежденного, а победителя. Тетушка неправильно толкует картину. Но ей не докажешь, что все не так. Она будет спорить. Она считала, что уже отгадала вечную загадку жизни. — Он говорил, что стремится к совершенству, — продолжала она, не сводя с картины тусклого, как у мертвой косули, взгляда. — Мальчик мой, он спешил к аллаху, чтобы познать величайшую сладость неземного. — Давно умер Ахмет? — глухо, не своим голосом спросил Костя. — Уже месяц, как нет его. А вот этот мазок на полотне — последний. Сделал его Ахмет и упал. У него кровь хлынула горлом, и он упал у мольберта. И лежал здесь… Голубой мазок перечеркивал картину, шел с угла на угол по диагонали. И, странное дело, он не казался лишним на полотне. Он органически вплетался в композицию. Он нужен был здесь, хотя никто не смог бы точно сказать, что он обозначает. Может быть, даже права тетушка Ахмета, когда она говорит о стремлении художника к совершенству. Совершенство — не только мастерство, но что-то неизмеримо большее, заключенное в самом человеке. Костя попрощался. Она не проводила его до двери. Она что-то шептала по-татарски. Очевидно, беседовала с тенью своего племянника, которая была рядом с нею, здесь, у мольберта. Костя вышел на улицу торопливым шагом человека, преследуемого кем-то. Разговор с тетушкой Ахмета, как и сама смерть друга, потряс его. И голубой мазок… Он стоял теперь у Кости перед глазами, как немой упрек. «Не надо было заходить. Та же Влада сказала бы об Ахмете», — размышлял Костя, не в силах отвязаться от мучившего его видения. А эта тетушка словно помешана. Как это все ужасно! Косте вспомнилось, как он вместе с Ахметом и Алешей ходил в горы. Ахмет тогда взялся спорить с милиционером. Все это кажется таким милым и таким далеким. Алеша ранен, отвоевался и уехал в Сибирь. А вот Ахмета уже нет. Голубой мазок был последним в его короткой, нелегкой жизни. Немного погодя, Костя стоял перед отцом Влады. Он встретил Костю с дежурной снисходительной улыбкой. Одет он был в своей традиционный азиатский халат, очень длинный, до самых лодыжек. Он заметно постарел. В его движениях уже не было той плавности и уверенности, которыми походила на него Влада. Он был дома один. В комнатах пахло топленым молоком. Заметив, что Костя почувствовал этот запах, отец Влады скривил рот: — Готовлю ужин. Они задерживаются сегодня. Костя насторожился: почему — они? Значит, правда, что Влада замужем. А он, осел, все не верил, считал, что она разыгрывает его. И поделом ему, чтоб не строил воздушных замков. И незачем оставаться Косте здесь до их прихода. Она писала, что познакомит Костю с Игорем. Нет, избави бог от такого знакомства! Не знает Костя Игоря и не хочет знать. Но уйти вдруг как-то было неудобно. Отец Влады усадил Костю напротив себя, у круглого стола, и завел разговор о войне и победе. — Давайте пропустим по маленькой. У меня есть наливка и есть чем закусить, — проговорил он, жестом приглашая Костю на кухню. — Спасибо, я лучше пойду. — Нет, я не могу отпустить вас. Влада сживет меня со света. Приходите, пожалуйста. Очень прошу. «Зачем я нужен ей, когда у нее есть муж»? — с болью подумал Костя. Но он решил все же остаться. Уйти никогда не поздно. А увидеть Владу ему хотелось, несмотря ни на что. Когда они выпили, отец Влады стал осуждающе говорить о своем зяте. Пижон, как и вся его компания. Рестораны, танцульки, и абсолютное легкомыслие. Сама Влада не раз видела мужа с любовницами. Семейные скандалы, постоянные попреки — все это очень нехорошо. Да разве Влада удержит его, коли он захочет уйти? Нет, такого не бывает. — Я не узнаю Владу, — сказал Костя. — И я тоже. Она стала совершенно другой, когда влюбилась в этого шалопая. — Он очень красив? — с нескрываемой ревностью в голосе спросил Костя. — Обыкновенный пижон. А она дура. — Влада умная и серьезная, — возразил Костя. — Я тоже так думал два года назад… Они утомили меня своими штучками-дрючками! Я терпелив по натуре, но и мне становится невмоготу! От этого разговора настроение у Кости еще больше упало, хотя где-то в глубине души он радовался, что у Влады не клеится с Игорем. Он мстительно думал о минутах горького раскаяния, которое — он хотел в это верить — не раз уже посещало Владу. И вместе с тем, Костю разбирало любопытство, ему не терпелось посмотреть на Игоря, что за человек тот, кого предпочла Влада Косте и Илье Туманову. Влада и Игорь пришли вместе. Был уже вечер, в распахнутое окно доносились запахи остывающей земли. Заслышав шаги в коридоре, Костя обмер. Потом он вскочил и так стоял неподвижно, пока Влада не заглянула на кухню. — А, Костя, — слабо улыбнулась она, и вид у нее был такой, как будто ничего не произошло. Она умела держать себя в руках. Только когда Костины глаза встретились с ее глазами, Влада смущенно отвела взгляд. И тут же стала выговаривать отцу, что он накрыл на стол на кухне. Спохватившись, Влада позвала Игоря, чтобы познакомить со школьным товарищем. Позвала с наигранной веселостью. Ей было не очень приятно, что они сойдутся сейчас и станут о чем-то говорить. Игорь был отлично сложен. Под пиджаком спортивного покроя угадывались тугие узлы мышц. А лицо ничем не выделялось из тысячи лиц, виденных Костей. Нос с горбинкой и тяжелая нижняя челюсть делали его даже несколько грубоватым. — Школьный товарищ? — Игорь протянул руку. — Здравствуйте, — пробормотал Костя. — Рад приветствовать вас, — Игорь учтиво поклонился. Этой развязной манерой держаться он несомненно копировал кого-то, наверное, какого-нибудь известного кинодеятеля. И говорил Игорь тоже, как знаменитости, с некоторым пренебрежением и в нос. Все еще продолжая сердиться на отца, Влада принялась распечатывать консервные банки с колбасой и говяжьей тушенкой. Она неумело работала ключом и вот бросила его. За консервы принялся отец, а Влада пригласила Костю в столовую. Они втроем сели за стол. Костя отказывался от угощения. Ведь только что он ел и пил с отцом Влады. — Вы наш гость, — манерно сказал Игорь. Все пришлось повторять сначала. А Влада наливала Косте не меньше, чем своему мужу, и вскоре у Кости отяжелела голова. Но ведь он этого и хотел, чтобы не думать о Владе, и так он достаточно думал о ней. После нескольких общих вопросов о войне и здоровье, Влада спросила у Кости, пишет ли он стихи. Костя сказал, что не пишет, но тут же поправился: пишет, но мало. Все некогда. — И в госпитале было некогда? — Влада удивленно вскинула брови. — Для стихов нужно настроение. — Я тоже смог бы написать, но что толку марать бумагу! — насмешливо проговорил Игорь. Влада посмотрела на него хмуро, но смолчала. А он, между тем, продолжал: — Писать стихи хитрости не надо, — и сунул в рот большой кусок американской колбасы. Чтобы увести беседу в другое русло, Влада сказала: — А мы, пожалуй, уедем. На этой неделе студия возвращается в Москву. Переведусь в Московский университет. — Да, мы уезжаем, — подтвердил Игорь. Костя допоздна засиделся у Влады. Его пошел провожать Игорь, хотя этого совсем не нужно было. По пути он хвастался близким знакомством с артистом Алейниковым, своими бильярдными победами. Он говорил о каких-то выигранных и потом проигранных деньгах, о крупной сумме. Костя слушал его рассеянно. «Недоросль, кретин», — оценил его Костя еще за столом. — Тебе нравится Влада? — вдруг спросил Игорь со странной ухмылкой. — А что? — Костя остановился и пьяно качнулся к нему. Игорь помолчал, игриво раскачиваясь с пяток на носки, затем сказал, понизив голос до шепота: — Только тихо! Понял?.. Я не возьму ее в Москву. Я найду себе там не хуже. — Что ты сказал? — Ты, если хочешь, то живи с ней. Она мне надоела, — откровенно признался Игорь. Костя схватил его рукою за горло, рванул: — Сволочь! — Псих, — брезгливо прохрипел Игорь, спокойно отбросив Костину руку. Костя опять полез. Но боксерский удар в подбородок свалил его. Игорь был прекрасно натренирован. Он мог выстоять в схватке с куда более сильным противником.
14
Парило. Асфальт дышал жаром и разъезжался под ногами. Костя шел по тротуару, с удовольствием ныряя в тень карагачей, росших вдоль арыка. Хотелось пить, и Костя поглядывал по сторонам, нет ли где колонки водопровода. Так он дошагал до центра города, где у ларька с полосатым тентом толпились люди. Продавали пиво. Слышалось позвякивание пивных кружек да монотонно гудели голоса. Под тентом, у самого окошечка, была неимоверная давка. Костя занял очередь и, изнемогая от жары, лениво наблюдал толпу. Здесь стояли в основном мужчины, пожилые и совсем юные. Но были и Костины ровесники, правда, все, как на подбор, раненые. Костя снова почти неделю не показывался в городе. Он сидел днями в своей беседке, прогуливаясь лишь по Шанхаю. Косте было обидно за Владу. Ей нравились люди Игорева круга. Они говорили об искусстве так, словно что-то в нем понимали. И Влада, не раздумывая, пошла за ним, целиком доверилась ему, связала свою жизнь с его жизнью. И теперь странно было видеть эту волевую, гордую девушку женою, которой тяготится человек, не достойный ее. А Костя по-прежнему любил Владу. Она умна и красива. Влияние ее на сверстниц было общепризнанным. Да и могло ли быть иначе! Но Владу избаловала жизнь. Ей все давалось легко. И эта легкость оказалась именно той червоточиной, что впоследствии привела Владу в компанию Игоря. И как результат — печальная участь покинутой жены. Костя не придет больше к ней, потому что Влада его не любит. В очереди толкались измученные жарой люди. Когда они подходили наконец к окошечку, пиво уже не радовало их. «Не буду стоять. Лучше где-нибудь напьюсь воды», — подумал Костя и вышел из очереди, поправляя выбившуюся из брюк рубашку. Вдруг на Костино плечо легла чья-то рука. Костя повернулся и увидел историка Федю. Они обнялись, как старые фронтовые друзья. И Федя, часто моргая воспаленными веками, говорил: — Вот приехал. Не вынес я положения няньки. У сестрицы такой забавный карапузик двух лет отроду, прижила с каким-то раненым капитаном. Тот вылечился и опять на фронт. А меня, значит, в няньки… Да, ты помнишь, Костя, была у вас в классе Тоня Ухова? Ну, конечно, помнишь. — Тоню? А что? — Отличилась на фронте. Из-под огня бойцов выносила. Да о ней неделю назад «Красная звезда» писала, как о настоящей героине. Работала где-то в госпитале, выпросилась на передовую. — И кто бы мог подумать, что наша Тоня… — помолчав, сказал Костя. — Была ведь такая тихая, незаметная. Федя рассмеялся: — Чаще всего так и бывает. А иной много кричит, удалью своей похваляется. До серьезного ж дела дойдет — норовит поскорее да незаметнее в кусты. Слушай, ведь у меня к тебе разговор! Пива хочешь? — Тут не дождешься. Да разве влезешь туда? — Мы попробуем, — подмигнул Федя. — Товарищи, — обратился он к очереди. — Я встретил однополчанина. Ох и парень, я вам скажу! Тут есть кто с Миуса? Из-под тента показалась взлохмаченная голова: — Я, а что? — Как там пришлось нашим? А фрицам как пришлось? — И снова к очереди. — Может, позволите пару кружек по случаю встречи? — Пей. Кто тебе не дает, — буркнул старик с моржовыми усами, стоявший неподалеку. Но на старика кто-то прицыкнул, и очередь стала расступаться. Косте было неудобно за Федю. Провались пиво, чтоб из-за него унижаться. — Осуждаешь? — спросил Федя, подавая кружку. — А ты смотри на вещи проще. Народ у нас добрый, и, если душевно попросить его, он ни за что не откажет. И у народа просить не стыдно. Еще раз поблагодарив очередь, Федя здоровой рукой сжал локоть Кости, и они направились прочь. До входа в парк нужно было пройти почти два квартала. Но в одном месте деревянная ограда была разворочена, и Федя первым перелез через нее. Они расположились на траве в тени старых кленов. Солнце не пробивало толщу листвы. Лишь кое-где между деревьями проскальзывали острые лучи, похожие на золотые кинжалы. Федя достал из кармана вельветового пиджака сложенный вчетверо клочок бумаги, развернул и молча подал Косте. Это было письмо. Хорошо знакомый Косте почерк. Костя взглянул на подпись и вскрикнул: — Алеша! — Колобов прислал Ларисе Федоровне. Но письмо касается, главным образом, нас с тобой. Читай.«Дорогая Лариса Федоровна! Вот я и в Сибири. Работаю по литературной части — в газете. Всем очень доволен. Уже бывал в командировках, написал очерк и несколько статей, но сам я понимаю, что нужно еще много учиться, чтобы стать настоящим журналистом. Вместе с Верой участвую в самодеятельности. Подготовили и ставили спектакль «Лес». Говорят, что получается ничего. Но театр для меня — не главное, хотя я его и очень люблю. Недавно мы ездили со спектаклем на рудник. И встретили там Петю Чалкина из десятого «Б», вы, конечно, помните его. В сорок третьем он попал в плен. Немцы состряпали провокационную листовку, из которой можно понять, что он предатель, что Петя изменил Родине. Из-за этой листовки Чалкина осудили на десять лет, и теперь он с бандитами-власовцами работает на руднике. Но Петя не мог бросить на поле боя раненого Васю Панкова. Петя говорит, что в плену он убил предателя, и за это немцы бросили Чалкина в концлагерь. Но доказать свою невиновность он не мог и не может сейчас, потому что не знает, где Панков. Когда Петю увезли в концлагерь, Панков лечился в немецком лазарете. Вот, собственно, и все, что Чалкин рассказал о себе. Лично я верю ему. Но нужно, чтобы ему поверили в прокуратуре и военном трибунале и чтоб дело его было пересмотрено. Жив ли Вася Панков? Я очень прошу вас, Лариса Федоровна, через ребят или еще как-то узнать его адрес. Только Васины показания спасут Петю Чалкина. Простите меня, что затрудняю вас своей просьбой. Однако я не имею права поступить иначе. Об этом же просит вас и Вера. А Петя Чалкин сейчас на Ачинском руднике. До свидания, всего вам самого хорошего! Привет всем учителям. Ваш Алексей Колобов». Пока Костя читал, Федя, подперев здоровой рукой подбородок, разглядывал ленточки улицы и неба, что виднелись между стволов деревьев. Как весело, беззаботно движутся по улице люди. А ведь война только кончилась. Может, вот так же скоро забудут и тех, кто остался на полях сражений. Нет, этого нельзя допустить. Не мертвым нужна память о них — живым. — Никто не имеет права забывать, — медленно шептал Федя. Прочитав письмо, Костя покосился на Федю, спросил: — Что делать? — Будем выручать, — помрачнел Федя. — Хоть следы-то отыскались. Я напишу Андрюхе. А с Панковым ничего не выйдет, — он тяжело вздохнул. Под Корсунь-Шевченковским окруженные немцы рвались к своим. Они ввели в действие все силы. Стрельба с обеих сторон не утихала ни на минуту. Особенно большие потери понес полк, в котором служили Костя и Федя. Ряды бойцов так поредели, что отбивать беспрерывно атаки танков и пехоты на этом участке, по существу, стало некому. И вот, когда уже казалось, что немцы прорвут сжимавшее их кольцо, на участок полка был брошен штрафной батальон. Он яростно кинулся в контратаку, а дивизионная артиллерия поставила завесу огня перед самыми вражескими окопами. Штрафники полностью уничтожили немецкую пехоту и прикрывавших ее несколько «тигров». Еще кипел бой, когда к окопу, в котором сидел Костя, наш боец подтащил на плащ-палатке раненого. Тот был весь в крови. А санитар приложил ухо к груди раненого и тут же закрыл ему серое лицо пыльным углом пестрой немецкой плащ-палатки. — Кончился, — сказал санитар, спрыгнув в окоп, и попросил у Кости докурить. — Куда его зацепило? — спросил Костя. — Всего посекло. Думал, что доволоку как-нибудь до медсанбата. Хотя все равно не жилец, — он несколько раз затянулся дымом и отдал цигарку обратно. — Кончился Васька Панков, — сказал санитар и бросился вперед, где сражались с немцами штрафники. Костя обмер, услышав Васино имя. Это было невероятно, и Костя сразу не поверил в то, что погиб именно его друг. Мало ли Панковых Василиев на Руси! Но когда рванул плащ-палатку и открылось лицо убитого, сомнений не стало. Перед ним был мертвый Вася Панков. — Ты не помнишь села, где мы его похоронили? — спросил Федя. — Там небольшой хутор на берегу речки Рось. — Рось включительно, Рось исключительно… Я вспоминаю. Там был еще разрушенный мостик, где нас обстреляла пушка «Артштурм». — Тогда убило нашего командира взвода, — вспомнил Костя. — А ты не был у Васькиной матери? Получила ли она похоронную? Сейчас это важно. Если есть похоронная, нужно снять копию. — Я собирался зайти, но подумал, что это лишнее. Пусть еще на что-то надеется мать, — трудно произнес Костя. — Рассказ-то ведь больно невеселый. — Да. Но зайти нужно. Особенно теперь. А ты хорошо помнишь, что нам говорил Вася о Петре? В Колпаковской станице? Когда подходил к нам этот, из особого отдела?.. — Помню, Вася говорил, что Петя в плену убил вот этого самого, о котором писал Алеша. Он говорил, что Чалкин видел в Амвросиевке, как сгружалась танковая дивизия. — И донесение Петра мы передали в разведотдел. И оно сыграло свою роль, — взмахнул култышкой руки Федя. — Если мы это докажем, то восстановим справедливость. Петю освободят. — Мы должны сделать это, Федор Ипатьевич! — воскликнул Костя. — Разумеется. И найди Сему Ротштейна. Пусть напишет, что Вася и Петя несли его в санчасть полка. Лишняя бумажка не помешает. На этом они и расстались. Прямо из парка Костя отправился к матери Васи. Он заново пережил, может быть, самые трудные минуты войны. Его долгом было не оставить Петера в беде. А в том, что тот не виновен, Костя не сомневался. Правда, Петер мог застрелить себя, но тогда бы он предал Васю. Черт возьми, как сложно все это! Костя застал дома у Васьки старуху. Она готовила на плите обед. Остро пахло щами, пережаренным луком. На стук двери старуха повернула ссохшееся лицо и принялась внимательно разглядывать вошедшего. Нет, она никогда не видела этого парня в военной гимнастерке. Кто же он? Зачем пришел к ней? — Здесь Панковы живут? — спросил Костя, хотя сразу же узнал в старухе Васькину мать. — Они самые. А по какому такому делу? — закашляла и пояснила: — Не здоровится мне. Видать, простыла, под лопатку стреляет. Она вытерла руки о фартук и прошла к столу. Подождала, когда заговорит Костя. А он начал сорвавшимся вдруг голосом: — Вот пришел узнать о Васе. Мы учились с ним вместе… Есть что-нибудь от него? — Есть. — Что? — он подвинулся к ней. — Похоронная. Там написано про Васину смерть да про геройство. — А может?.. — Нет, погиб. Он сызмальства отчаянным был. Иной раз и грешила с ним, а теперь жалко. Каждому свое дитя жалко, милый. — Куда вы ее дели? — Кого это? — Мне нужна похоронная, — твердым голосом сказал Костя. — Забрали бумажку. Приходили насчет пенсии и забрали, — сказала старуха. «Похоронная в райсобесе», — решил Костя. Но занятия в учреждениях уже кончились. И он побрел домой. Тупая боль сжимала сердце. Хотелось поскорее добраться до постели, лечь и уснуть.
Костя мастерил упавшую изгородь, когда к нему подошла мать. Растягивая слова, сказала: — Отец помер у Влады. Она мальчика за тобой прислала. Вот, — мать подала записку. Костя взял клочок бумаги и принялся читать. Влада в беде! С каждой секундой Костей все больше овладевала тревога. Влада писала: «Милый, хороший! Мне так тяжело. Умер папа. И я одна. Я не знаю, что делать. Приходи сейчас же». — Сходи, сынок. Все-таки она девица. Кто поддержит ее в скорбную минуту, — сказала мать, горестно покачивая головой. Костя, не раздумывая, бросил топор, повернулся и пошел в город. У вокзала он сел на трамвай. Он понимал, что она его очень ждет, если написала такую записку. Вскоре Костя входил в квартиру Влады. Он ожидал увидеть здесь множество людей, но у порога стояли лишь две старушки, очевидно, соседки, да в столовой у гроба сидела рядом с Владой какая-то женщина. Увидев Костю, Влада, вытирая платочком красное, сразу подурневшее лицо, подошла к нему. — Вчера вечером. Это не первый у него сердечный приступ, — и пошатнулась. Костя подхватил ее, не дал упасть. А женщина, что сидела у гроба, сказала Косте: — У нее нет сил. Она всю ночь не сомкнула глаз и днем не уснула. Женщина раскрыла флакончик и дала Владе понюхать. По комнате расплылся резкий запах нашатырного спирта. Покойник лежал в тесном гробу. Казалось, что вот-вот под тяжестью тела отойдут боковые плахи. Не над этим ли усмехался мертвец уголком крепко сжатого рта? Или смеялся над людьми, которым только предстоит перейти тот рубеж, что осилил он. — Как живой, — прошептала женщина, осторожно поправив на груди покойника веночек из бумажных цветов. «Он не любил пижона Игоря. Он был неглупым и разбирался в человеческих отношениях. А Игорь, наверное, уехал. Конечно, уехал, а то бы был здесь», — думал Костя, не отрывая взгляда от синего лба покойника. Позднимвечером, когда в комнатах зажгли свет, приходили какие-то дамы в шляпках, хлюпали носами и охали, уговаривали Владу держать себя в руках. За ними следом явились мужчины интеллигентного вида. От них слегка попахивало вином. А ночевали в квартире трое: женщина спала на кушетке в кухне, и Влада с Костей сидели у гроба. Костя просил Владу прилечь хоть на полчаса, но она отказалась. — Как я теперь буду жить? Как буду жить?.. Перед рассветом Влада забылась, положив голову на Костины колени. И Костя не двигался, боясь потревожить ее сон. Владе нужны были силы еще на один страшный день, день похорон отца. Она спала беспокойно и недолго. А когда проснулась, с тихой благодарностью посмотрела на Костю и печально произнесла: — Я низкий и гадкий человек. И это возмездие за мое ничтожество. Я так виновата перед тобою!.. — Нет, Влада. Ты говоришь совсем не то, — вздохнул Костя. — Какой дурой я была! Ты знаешь, что он меня бросил? Господи, и как я рада этому! Понимаю, что я жалка, что никому не нужна… Она говорила слова, которые не находили в Костином сердце ни жалости, ни сострадания. Он хотел лишь одного: скорее похоронить Владиного отца и уйти от Влады. Совсем уйти. Но она сама потерялась в пестрой толпе сослуживцев и знакомых отца, что хлынули вдруг с утра и вскоре заполнили всю квартиру. Лишь на кладбище, когда отзвучали положенные в этих случаях траурные речи и гроб опустили в могилу, Костя услышал слабый крик Влады и увидел ее обезображенный горем профиль. Костя торопливо зашагал домой. Смерть Владиного отца не ошеломила Костю, она как-то сразу же вылетела из головы, словно ее и вовсе не было.
15
Глубокой ночью Алеша сошел с поезда. Сеял дождь, и лужи были черные, как гудрон. На привокзальной площади ни подвод, ни грузовика. Оставаться на вокзале до утра не хотелось. Алеша с минуту постоял у дверей и решительно шагнул в сырую темень. Он шел по грязной, неосвещенной улице пристанционного поселка, затем свернул в сосновую рощу, за которой начинался собственно Ачинск. Гимнастерка на Алеше насквозь промокла, но он не чувствовал холода. Его согревала быстрая ходьба. Алеша спешил увидеть Веру. Он думал о ней с обожанием и тревогой. Он был уверен, что Вера любит его. Но Алеша беспокоился, что она страдает от нужды, в которую добровольно пошла. Но тут же мысленно твердил: нет, она все переживет, все вынесет рядом с ним. Он представлял Веру то школьницей за партой, то артисткой в «Медведе». А то в момент их встречи в Ачинске. Она крепко обняла его тогда и поцеловала. Алеша не жалел Ванька. Он не мог жалеть его, потому что Ванек и Вера всегда были чужими и лишь по иронии судьбы оказались вместе. Ванек не любил Веру, он любил в ней себя. Ему было лестно обладать красивой и умной женщиной, некогда пренебрегавшей им. «Я увезу тебя, Вера, в далекие степи, где веками дремлют у курганов каменные идолы, — мысленно говорил Алеша. — Мы будем жить в краю, где рождаются чистые и звонкие реки. А вечерами в хакасских юртах будут звучать песни степняков о любви Алтын-кеёк и Чанархуса»… Он пришел домой весь в грязи: спускаясь с горки, поскользнулся и упал. Вера бросилась к нему, поцеловала. — Снимай все. Выстираю сейчас, — сказала она, натягивая на свои узкие плечи выцветшее ситцевое платьице. — Я так ждала тебя! Думала, что с ума сойду. Алеша испытывал к Вере такую нежность, какой не знал прежде. Ему вдруг захотелось схватить ее в охапку и закружить. И вовсе не беда, что он совсем не умел танцевать. Вера принесла небольшое деревянное корыто, налила в него воды, принесла жидкое мыло в стеклянной баночке. Все у нее так и горело в руках, и Алеша зачарованно любовался ею. — Я читала твою статью о трактористах. Статья всем у нас понравилась на работе, — говорила она, поблескивая голубыми искорками глаз. — Заведующая библиотекой сказала, что у тебя определенно талант. — Уж так и талант, — усмехнулся Алеша, радуясь похвале. — А как ты съездил? — спросила она, ловко выкручивая выстиранную гимнастерку. — Хорошо, — ответил он шепотом, чтобы не разбудить хозяйку, спавшую за дощатой перегородкой. Затем Алеша все так же, в одном белье, сидел за столом напротив Веры и пил молоко. Алеша пил его маленькими глотками и думал о том, что он самый богатый человек на земле. У него есть любимая жена, которая всегда ждет его, которой он необходим. А Вера, подперев ладошками подбородок, счастливо глядела на Алешу. Приоткрытая грудь ее дышала ровно. — Скучал? — Вера перехватила его взгляд. Утро текло в неплотно прикрытые ставни ручейками весеннего солнца. Подняли неистовый гвалт воробьи, прилетевшие под окно. А Вера, забыв, что Алеша не спал эту ночь, просила говорить о его поездке. Просила повторять сказанные им слова. — Больше всего на свете! Больше самой жизни! — говорил Алеша, вдыхая дурманящий запах ее тела.К девяти часам утра он был на ногах. Не терпелось повидать Василия Фокича, узнать редакционные новости. Конечно же, больше всего Алешу интересовало, что сталось с героями фельетона. Неужели смогли как-то выпутаться? Нет, милиция еще до Алешиного отъезда вела следствие. Значит, жулики должны получить каждый свое. Гимнастерка и брюки, хорошо выутюженные, пахнущие ветерком и паленым, лежали на табуретке у кровати. Алеша надел их и в осколок зеркальца оглядел себя. Остался доволен: аккуратный, чистый, вот только надо бы постричься — оброс в командировке. Она так заботлива, Вера, она все умеет делать. От ночного дождя уже ничего не осталось. Телеги, тарахтевшие по улицам, поднимали пыль. Лишь кое-где в тени виднелись крохотные зеркала лужиц. Алеша любил позднюю весну, когда отцветают деревья и зацветают травы. В эту пору ему хотелось в луга и на светлые речные плесы. Уйти далеко-далеко вместе с Верой! Василий Фокич, казалось, поджидал Алешу с минуты на минуту. Он нисколько не удивился Алешиному появлению. Вышел из-за стола: — Ну, садись, рассказывай. — А чего? Съездил. Спасибо вам. Услал в Красноярск несколько материалов. — Я знаю, — Василий Фокич потер потные руки. — Тебе даются очерки, а это довольно трудный жанр. Статейку любой напишет. Но очерк… — он пригладил растрепанные волосы. — Что нового? — заинтересованно спросил Алеша, присаживаясь и поглядывая на редактора. — Эшелоны идут на восток — вот главная новость. Видно, воевать нам с японцами, — понизив голос, сказал Василий Фокич. — Перебрасываются танки, артиллерия, пехота. — Выходит, что война продолжается? — Вроде так. Но ведь и обидно же… Сколько лет самураи с ножом у глотки стоят. Когда-то нужно кончать с этим. — Нужно, — согласился Алеша. Василий Фокич заходил по кабинету. Он собирался начать какой-то важный разговор и все не мог насмелиться. «Наверное, что-то про фельетон. Уж не оправдался ли Елькин?» — беспокойно подумал Алеша. Действительно, Василий Фокич заговорил о фельетоне. Но сказал совсем не то, что ожидал Алеша. Фельетон вчера обсуждали на бюро горкома партии. Хвалили автора. Было много шума. Елькин плакал, просил снисхождения. А секретарь горкома по кадрам произнес такую обвинительную речь, что Елькина единогласно исключили из партии. Дело обещаеть быть громким. — Ты помнишь, что я тебе толковал насчет уменья говорит с людьми? — усмехнулся Василий Фокич. — А ведь можно было испугаться и не дать фельетона… Век живи век учись. Редактор умолк. Но Алеша знал, что сказано не все, и нетерпеливо повернулся к Василию Фокичу: — Еще новости? — По делу Елькина проходит тот военный. — Ванек? Капитан? — Да. Махинация с валенками на крупную сумму. Таких жалеть не нужно. И теперь тебе незачем ехать куда-то. Квартиру постараемся найти получше. Ну, чего?.. А, понимаю… И разговор с Верой охотно беру на себя. Даю гарантию — согласится. Городок-то у нас посмотри какой. Весь в зелени! — он подошел к окну и широким жестом пригласил Алешу. — И все-таки хочется поработать в Хакасии. — Смотри, Алеша, как бы не прогадать. С тобой хочет познакомиться сам первый секретарь горкома… Может, тебе порядки редакционные не нравятся, так ты говори… — Все мне нравится у вас, но… В общем, хочется поближе к деревне, я ведь крестьянский сын. Поеду не в Абакан, а в самый отдаленный район… — Ты подумай-ка хорошенько. — Ладно. Мы посоветуемся, — пообещал Алеша.
В редакционной почте оказалось письмо от генерала Бабенко. Алеша вскрыл конверт. В нем был листок голубой трофейной бумаги, исписанный убористым, красивым почерком. «Здравствуй, Алеша! Долго размышлял я, посылать тебе письмо или нет. И решил послать, потому что ты парень добрый и честный, а я это ценю больше всего. Дивизия наша за рубежом. Держу связь кое с кем из офицеров. А я сейчас начальником штаба в соединении, которым командует генерал Чалкин. Ты его знаешь. Неделю назад его вызывали в Ставку Верховного, и генерал вернулся из Москвы Героем Советского Союза. Теперь о Наташе. Это — сильная и гордая натура. Больше всего ее оскорбляет жалость. Вот почему из госпиталя она не поехала домой, к отцу и матери. Живет в одном из маленьких городов на юге страны, а мальчонку Богдана, того сорванца, что рыскал по передовой, она усыновила. Специально ездила за ним под Луганск. Очень нежно к нему относится. Тебя она очевидно, любит, но никогда вы не будете вместе. Она не захочет, чтобы ты связал с нею свою судьбу. Все дело в том, что у нее ампутировали ногу, и она ходит на костылях. Желаю всего лучшего. Бабенко».
Алеша ждал этого письма. Пусть теперь оно не имело для него прежнего значения, судьба Наташи была вовсе не безразлична ему. Он хотел бы, чтобы Наташа жила в счастье, если оно возможно для нее. Едва Алеша дочитал письмо, как Василий Фокич позвал его к телефону. Звонила Вера. В трубке зазвучал ее взволнованный голос. Она говорила о каком-то сюрпризе, который должен обрадовать Алешу. Вера сейчас же явится в редакцию. Только пусть Алеша не глядит в окна. А то будет совсем неинтересно. Он терялся в догадках, что могла принести ему Вера, Скорее всего, что-нибудь узнала о театре. Или в краевой газете дали последний присланный из Хакасии очерк. Алеша еще не видел сегодняшнего «Красноярского рабочего», который в библиотеку приносят раньше. Но при чем здесь окно? Он некоторое время читал гранки. Но Верин сюрприз не выходил из головы, и Алеша не утерпел: подошел к окну. И сразу же увидел Веру на тротуаре. У нее ничего не было в руках. Она шла одна. Вера встретилась глазами с Алешей и смешливо погрозила ему пальцем. А потом он услышал стук каблучков на лестнице и пошел навстречу ей. С Верой был пожилой мужчина в военной форме. Он бросился к ошеломленному Алеше и обнял его своей единственной рукой. — Здравствуй, Колобов! Здравствуй! У Алеши к горлу подкатил твердый комок. Алеша только и выговорил: — Федор Ипатьевич… — Я предвидела, что ты будешь шпионить за мною, потому-то и послала Федора Ипатьевича чуточку вперед, — сказала Вера. — Пойдемте-ка лучше в сад! Когда они вышли на улицу, Федя с восхищением оглядел Алешу, задержал взгляд на тросточке: — Ты ничего! А касаемо ран, так не очень уж сокрушайся. Бывает хуже. Это совсем не главное. Помнишь слова поэта? «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустою душой». Превосходные слова! И в некотором роде я выполнил эти пожелания, — он покосился на то место, где прежде была левая рука. — Я приглашала Федора Ипатьевича к нам, но ему нужно сегодня на рудник. Он к Петру Чалкину, — живо сказала Вера. — Да, — подтвердил Федя. — Документики я подсобрал. Но прежде, чем посылать их, хочу поговорить с Петькой. В саду они сели на старую скамейку, и Федя с усталым видом долго глядел на небо. Он о чем-то думал, и Вера с Алешей не мешали ему.
Последние комментарии
1 час 23 минут назад
3 часов 13 минут назад
8 часов 58 минут назад
9 часов 4 минут назад
9 часов 8 минут назад
9 часов 8 минут назад