[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Айзек Азимов
Вид с высоты

Предисловие
Фамилия автора этой книги достаточно популярна у нас в стране, и, конечно, каждый уверен, что берет в руки новое научно-фантастическое произведение А. Азимова. Но на этот раз перед вами научно-популярная книга. Должен предупредить прежде всего, что меня несколько смущает такой вопрос: нужны ли вообще предисловия к научно-популярным книгам? По самой сути жанра, упрощенного, популярного рассказа о науке, вся научно-популярная литература — одно большое предисловие. Впрочем, известно по крайней мере одно, что может и обязан сказать автор предисловия, — это честно сообщить, стоит ли прочесть эту книгу и всегда иметь ее под рукой. Мое мнение — безусловно и безоговорочно стоит. Но это совсем не означает, что сейчас последуют сплошные дифирамбы. Более того, я сторонник несколько иного жанра научно-популярной литературы. И помиримся на том, что научно-популярные книги можно писать по-разному. Почему Азимов захотел рассказать о науке именно так, вы узнаете через несколько страниц, в авторском вступлении. Книга, что лежит перед вами, одна из четырех сборников серии научно-популярных статей, широко известной в США и других западных странах. Каждый месяц в американском научно-фантастическом журнале «Мэгэзин оф фэнтэзи энд сайенс фикшн» появляется статья научного редактора журнала А. Азимова. Сборники этих статей и есть книги той серии, к которой относится «Вид с высоты». Основная задача этих сборников — увлечь читателя наукой, и надо сказать, что Азимов делает это мастерски. Идея написать книгу, где речь идет сразу о нескольких областях науки, где показывается их переплетение, бесспорно, интересна. Жанр книги Азимова определяется как сборник эссе; это непринужденная, почти застольная беседа со свободным выбором тем и без особых претензий. Так вот, если вам доставят удовольствие несколько вечеров такого непринужденного разговора с великолепно эрудированным, прекрасно владеющим языком, чуть скептично — насмешливым, но вместе с тем весьма тактичным собеседником, — тогда эту книгу бесспорно, стоит читать. Но договоримся сразу: вы должны простить автору его небольшие слабости. И (это главное) знайте: у него есть одно больное место, касаться которого по меньшей мере не стоит. Он — дилетант в большинстве областей науки. Правда, дилетант в лучшем смысле этого слова. Азимов — биохимик, но, к сожалению, о биохимии он рассказывает сравнительно мало. Зато часть, посвященная биологии, пожалуй, наиболее интересна. Дело не в том, что здесь открываются какие-то новые истины. Можно допустить, что такое мог написать и не биолог. Но этот раздел несколько отличается от других: в нем чувствуется большая свобода изложения. Когда он переходит к химии и астрономии, перспектива оказывается чуть более туманной, и еще более, к сожалению, она смазывается в главах, посвященных физике. Впрочем, талант автора виден все время. Его идея ввести в ядерную физику новую единицу времени — световой ферми — весьма оригинальна. И если иногда Азимов немножко переоценивает значение идей, приходящих ему в голову, чуть-чуть перебарщивает в своих «гипотезах», ему охотно прощаешь это. Подобным грешат многие умные люди. Кое-что у него неточно, кое в чем он может просто ошибиться. Но все время, на каждой странице, вы чувствуете искреннюю, большую любовь к науке. И это подкупает. А если в какой-то момент вам покажется, что автор порой излишне самонадеян, то это — можно повторить — прощаешь тем охотнее, что за всеми его разговорами сквозит постоянная печаль. Азимов — писатель-фантаст с мировым и вполне заслуженным именем. Вы, вероятно, согласитесь, прочитав эту книгу, что автор также прекрасный популяризатор науки. Казалось бы, он полностью нашел себя. Но предоставим слово самому автору.«Любой уважающий себя ученый или просто человек, близкий к науке (я говорю о близких к науке, чтобы не оставить за бортом самого себя), мечтает оставить в ней заметный след. Разумеется, в самом хорошем смысле этого слова. Увы, большинству из нас приходится расставаться со своей мечтой. Я давно понял, что мечтаю напрасно. Сердце подсказывает мне, что никогда „закон Азимова“ не попадет на страницы учебников физики, никогда „реакция Азимова“ не будет запечатлена в учебниках химии. Возможность создать „теорию Азимова“ и даже просто высказать „гипотезу Азимова“ ускользнула от меня, и я остался ни с чем. Ни с чем — это значит с электрической пишущей машинкой, зычным голосом и тайной надеждой, что какая-нибудь моя мысль, пусть даже случайно высказанная, заронит искорку в более светлую голову и поможет ей придумать что-то стоящее…»Азимов прежде всего ученый по призванию, по характеру, по стилю мышления. И в фантастике Азимова, по крайней мере в известных советскому читателю произведениях, ученый почти всегда подавляет писателя. Вспомните сборник рассказов «Я — робот». Возможно, на девяносто процентов его прелесть обусловлена строгой, чисто научной логикой, впрессованной в фундамент всех рассказов. И меня не оставляет мысль, что «Вид с высоты» в какой-то степени результат заготовок для написанных (либо не написанных) научно-фантастических повестей, рассказов и романов. Азимов, правда, не говорит этого, и несколько нескромно проникать в творческую лабораторию художника. Итак, чтобы закончить несколько затянувшееся представление автора, я подвожу итог. Перед вами интересная книга. Она может понравиться, может и не очень понравиться — в ней есть и недостатки. Но книга эта написана талантливым, ярким человеком и… А теперь я скажу о главном, бесспорном и определяющем достоинстве. Книга Азимова заставляет думать. И ничего лучшего о научно-популярной книге, по-моему, сказать нельзя.
В. Смилга
Вступление
До 1800 года наука напоминала культурный сад, прекрасно распланированный и ухоженный, благоухающий и плодоносный. По нему можно было прогуляться из конца в конец и рассмотреть его во всех подробностях, а с ближайшего холма — обозреть целиком и оценить его величие. Но к 1800 году посетители сада стали замечать, что хлопотливые садоводы поработали чересчур усердно: во многих его уголках начал сгущаться зловещий мрак. Всюду по-прежнему был виден порядок, поистине сложная соотнесенность частей становилась все совершеннее, все утонченнее и пленительнее, но разросшиеся кроны начали загораживать небо. Тогда вдруг стало ясно, что сад слишком разросся. Уже нельзя было путнику пройти по нему из конца в конец, не рискуя заблудиться или, проплутав, вернуться к месту, откуда он вышел. И попытка обозреть сад с ближайшего холма оказывалась бесполезной, потому что сад теперь был и тут. Поэтому некоторые наблюдатели — поклонники прилизанной красоты — и вовсе покинули сад, а другие вынуждены были пойти на уступки и стали ограничивать себя небольшими участками, постепенно все более сужая их — до маленьких делянок. Ныне сад науки чудовищно велик — он покрыл весь земной шар, карта его так и не составлена, и нет такого человека, который бы знал о нем все. Поистине на такое знание не может претендовать даже большая группа людей, если только это не целый международный форум ученых. И в самом саду науки каждый наблюдатель льнет теперь к собственной, изученной до последнего листочка и любимой кучке деревьев. Если иногда он и глянет в сторону, то обычно при этом виновато вздохнет. И подобно тому, как организм в эмбриональный период за какие-то недели или месяцы пробегает все ступени эволюционной лестницы от простой клетки до окончательно сформировавшегося сложного организма, так и каждый ученый в течение своей жизни повторяет путь, который проделала наука. В юности я черпал знания в публичных библиотеках. По неопытности читал все без разбора, беря книги с полок подряд — от первой до последней. Обладая досадно хорошей памятью, я приобрел таким образом множество сведений, которые потом безуспешно старался забыть. Однако одним из ценных следствий моего беспорядочного чтения было то, что я полюбил научную литературу сильнее беллетристики. Я очень увлекался книгами по истории, но больше всего мне нравилось изучать труды по естественным и точным наукам. В средней школе я еще делил свои привязанности между историей и точными науками, а при поступлении в колледж я с головой окунулся в науку. В колледже я узнал, что среди главных научных дисциплин мне нужно выбрать «главнейшую» для меня самого. Я заигрывал с зоологией, а потом, на втором курсе, окончательно остановился на химии. Это означало, что мне всего-навсего надо было слушать по одному курсу химии в каждом семестре. Но, поступив в аспирантуру, я понял, что химия химии рознь; для подготовки диссертации надо было выбрать из всех разделов химии один. Постепенно справившись с некоторой присущей мне инертностью, я наконец занялся биохимическими исследованиями. За работу в этой области я получил звание доктора философии и без промедления приступил к преподаванию биохимии в медицинском институте. Но даже эта область знаний оказалась слишком обширной… От беспорядочного чтения — к научной литературе, затем к науке, к химии, к биохимии, и это было еще не все. Занимаясь научной работой, я должен был ограничиться участком в одном из уголков сада — биохимии — и начал трудиться над нуклеиновыми кислотами… И вот тут-то я взбунтовался! Я не мог выдержать клаустрофобии (боязнь замкнутого пространства. — Ред.), которая одолела меня. Я в ужасе оглядывался, пытаясь представить себе, что же будет через несколько лет, но горизонт все сужался и сужался, и передо мной осталась лишь крохотная часть сада. А мне хотелось видеть весь сад или по меньшей мере ту его часть, которую я мог бы охватить за свою жизнь. Конечно, бунт на этой стадии чаще всего бывает бесполезным. Хватка специализации крепка, и редко кто осмеливается выйти за ее рамки. Но, к счастью, во время моего пребывания в высшем учебном заведении я упорно завоевывал себе положение на поприще научно-фантастической литературы (отчасти здесь сказалась нужда в деньгах, но самым важным было то, что я любил это занятие). Для того чтобы писать по-настоящему хорошие научно-фантастические книги, необходимо, по-моему, так или иначе поддерживать хотя бы шапочное знакомство с возможно большим числом областей науки, что я, конечно, и старался делать. Поэтому, когда я решил освободиться от пут специализации, моя научная фантастика оказала мне две неоценимые услуги. Во-первых, на случай если бы дела обернулись плохо, у меня был источник дохода. Во-вторых, благодаря ей я никогда не упускал возможности заглянуть в другие части сада. Никогда я не сожалел о своем упорстве в стремлении к научным обобщениям. Разумеется, какой бы глупой решимости я ни преисполнился, мне, как и всякому другому, не под силу обойти весь сад и разглядеть его во всех подробностях. Жизнь слишком коротка, а ум слишком ограничен. Но я могу оглядеть весь сад сверху, как бы с воздушного шара. Саду внизу нет ни конца, ни края. Все многообразие деталей и их взаимосвязь, которую можно увидеть, ползая по небольшому клочку земли, ускользают от меня. Но у меня есть другие, особые преимущества; когда я смотрю на сад с высоты, время от времени мне удается (а — иногда просто кажется, что удается) увидеть некую общую закономерность, или вдруг в каком-нибудь уголке я замечаю причудливые арабески — едва заметный фрагмент композиции, который, возможно, не был бы виден на земле. Когда это случается (или мне кажется, что случается), я заношу свои наблюдения на бумагу, так как вдобавок к прочим особенностям моего характера мне присуща склонность к проповедничеству и я хочу, чтобы другие видели то, что вижу я. К счастью, я пользуюсь влиянием среди издателей и могу поторопить их с публикацией того, что я занес на бумагу. Так у меня получился сборник эссе, внутренне слабо связанных между собой. Это всего лишь мимолетные впечатления от сада науки, который я увидел с высоты. И этот сборник родился только потому, что я хотел, очень хотел, чтобы и вы увидели то, что увидел я.Часть I Биология

1. Вот так обстоит дело с величиной
Сколько бы мы ни говорили себе, что в счет идет только качество, все-таки большие размеры всегда поражают воображение. Самые популярные звери в любом зоопарке — обезьяны и слоны, причем первые привлекают внимание из-за своего ошеломляющего сходства с нами, а вторые — просто потому, что они огромны. Мы смеемся над обезьянами, но перед слонами стоим в молчаливом благоговении. И если бы в клетку с другими обезьянами поместили какого-нибудь обезьяньего Гаргантюа, то он отвлек бы внимание от всех других приматов. В сущности, так оно и бывает. Чувство благоговения, возникающее у нас перед громадными существами, естественно, заставляет человека ощущать себя маленьким и весьма тщедушным. А тот факт, что человечество все же добилось безусловного господства на планете, очень часто толкуется как победа Давида над Голиафом. Однако наше представление о себе не совсем точно; в том нам поможет убедиться статистика. Во-первых, поговорим о самых больших. Только что я упомянул слона. Этот пример был подсказан избитым выражением: «Большой, как слон». Сухопутные животные не могут выдержать соревнования со своими собратьями, живущими под водой. Этому мешает сила тяжести на Земле. Если бы животному не приходилось поднимать свою тушу почти на метр над землей и при этом еще передвигаться, то все равно сила тяжести резко ограничивала бы его размеры. Даже обреченное вести неподвижную, как у устрицы, жизнь и лежать, распластавшись на земле, такое животное все равно должно вздымать свою громадную плоть при каждом вдохе. Выброшенный на берег кит издыхает в силу ряда причин, но одна из них состоит в том, что его собственный вес давит на легкие, — он гибнет от удушья. Однако плавучесть в значительной степени помогает киту преодолеть силу тяжести, и масса, которая душит его на суше, в море не доставляет ему никаких неприятностей. Поэтому самые большие существа на Земле и сейчас и в прошлом — это киты. Рекордной величины достигает одна из разновидностей кита — синий кит, или, как его еще называют, блювал. Есть сведения, что один экземпляр этого величайшего из гигантов имел длину 35 метров и весил 131,25 тонны. А ведь синий кит, подобно человеку, тоже млекопитающее. Чтобы определить, какое место занимает человек среди млекопитающих по своим размерам, следует рассмотреть сначала другую крайность. Самые маленькие млекопитающие — землеройки, существа внешне похожие на мышей, хотя на самом деле они вовсе не мыши и даже не грызуны. Они относятся к насекомоядным и состоят с нами в более близком родстве, чем с мышами. Вес самой маленькой взрослой землеройки чуть больше 2 граммов. Между этими двумя крайностями вытянулся целый строй млекопитающих. За синим китом следуют киты поменьше, потом идут слоны, моржи, гиппопотамы, и далее — лоси, медведи, бизоны, лошади, львы, волки, бобры, кролики, крысы, мыши и землеройки. Каково же место человека в этом длинном списке млекопитающих? Чтобы не было никаких обид, я предлагаю себя в качестве эталона (мой вес приближается к круглой цифре — добрых 90 килограммов). Так вот, человек и гигант и пигмей — все зависит от того, с кем его сравнивать. В сравнении с землеройкой он гигант, в сравнении с китом он пигмей. Какое же сравнение предпочесть? Мы, конечно, сразу запутаемся, если будем сопоставлять тонны, фунты и унции. Давайте сведем все к единой системе. Чтобы избежать дробей (хотя бы вначале), возьмем за единицу веса грамм. Тогда: синий кит весит 120 миллионов граммов, а землеройка — всего 2 грамма. Где-то посередине помещается человек: его вес составляет 90 000 граммов. Мы на десятки тысяч граммов тяжелее землеройки, но кит на десятки миллионов граммов тяжелее человека, и поэтому можно утверждать, что мы скорее пигмеи, чем гиганты, а, следовательно, использование мной образов Давида и Голиафа вполне оправданно. Но человеческому разуму не свойственно сравнивать путем вычитания; для этой цели люди предпочитают деление. Разница между весом 2 килограмма и весом 6 килограммов кажется нам большей, чем между весом 6 и 12 килограммов, даже несмотря на то, что в первом случае эта разница составляет всего 4 килограмма, а во втором — целых 6. Наверное, нам важнее, что при делении 6 на 2 получается 3, а при делении 12 на 6 — всего 2. Мы стремимся узнать не разность, а отношение. Делить, разумеется, скучно. С точки зрения ученика четвертого класса, да и многих взрослых, деление относится уже к области чуть ли не высшей математики. Поэтому было бы приятнее, если бы мы могли сравнивать отношения путем вычитания. Так и сделаем. Только для этого возьмем не само число, а его логарифм. Например, самая простая форма логарифмов образуется таким образом: 1 есть логарифм 10; 2 есть логарифм 100; 3 есть логарифм 1000 и так далее. Пользуясь обычными числами для описания равенства отношений, мы говорим, что 1000 относится к 100, как 100 относится к 10; это деление. Но, используя логарифмы, мы характеризуем то же равенство отношений, говоря, что 3 минус 2 равно 2 минус 1; это вычитание. Еще пример: 1000 относится к 316 приблизительно так же, как 316 к 100 (проверьте сами и убедитесь). Так как логарифм 1000 есть 3, а логарифм 100 есть 2, мы можем установить, что логарифм 316 равен 2,5, и потом выразить равенство отношений, сказав, что 3 минус 2,5 равно 2,5 минус 2. Давайте теперь выразим вес самого большого и самого маленького из млекопитающих при помощи логарифмов. Логарифм 120 000 000 (вес синего кита в граммах) равен 8,08, а логарифм 2 (вес землеройки в граммах) — 0,30. Что же касается человека, который весит 90 000 граммов, то логарифм его веса равен 4,95. Как видите, вес человека отличается от веса землеройки примерно на 4,7 логарифмической единицы, а вот от веса самого большого кита — лишь на 3,1 логарифмической единицы. Следовательно, мы скорее гиганты, чем пигмеи. Чтобы вы не подумали, что все это математические трюки и вам морочат голову, я скажу просто: человек в 45 000 раз тяжелее землеройки, а синий кит только в 1300 раз тяжелее человека. В частности, логарифм массы, которую можно было бы считать средней между массами кита и землеройки, равняется среднему арифметическому чисел 0,30 и 8,08; то есть 4,19. Этот логарифм соответствует массе 15 550 граммов. То есть млекопитающее средней величины должно иметь рост четырехлетнего ребенка.* * *
Вы, конечно, можете возразить, что деление на гигантов и пигмеев слишком упрощает дело. Почему бы не выделить три группы — пигмеев, «средних» и гигантов? Разбив логарифмический ряд на три равные части, мы получили бы для пигмеев диапазон от 0,30 до 2,90, для «средних» — от 2,90 до 5,40 и для гигантов — от 5,40 до 8,08. В общепринятых единицах это означало бы, что любое животное весом менее 800 граммов относится к пигмеям, а животное весом более 250 килограммов — к гигантам. И тогда все млекопитающие весом от 0,8 до 250 килограммов (в том числе человек) относились бы к «средним». Конечно, все это весьма резонно и отлично доказывает, что человек и не пигмей, и не гигант. Но давайте уж будем объективными до конца. Мы вспомнили легенду о Давиде и Голиафе в связи с господствующим положением человека на нашей планете. Это победа ума над мускульной силой. Но первобытный человек никогда не соперничал, к примеру, с китами. Киты жили в океане, а человек — на суше. Борьба за существование шла у людей только с наземными существами, и поэтому в дальнейшем, проводя свои сравнения, мы должны принимать во внимание только сухопутных млекопитающих. Самое большое млекопитающее, когда-либо существовавшее на суше, уже вымерло. Речь идет о белуджитерии, гигантском вымершем носороге, который достигал 6 метров в холке и весил, по-видимому, около 13,5 тонны. Как видите, белуджитерий (кстати, это означает «зверь из Белуджи», поскольку его останки впервые были найдены в Белуджистане) весил в 10 раз меньше синего кита. Так как логарифм 10 равен 1, вы не удивитесь, узнав, что логарифм веса белуджитерия (в граммах) на 1 меньше логарифма веса синего кита и равен 7,08. (Далее я буду выражать вес в общепринятых единицах, но в скобках ставить логарифмическую величину; помните, пожалуйста, что это логарифм веса в граммах.) Однако белуджитерий, как известно, вымер еще до появления человека, и с ним тоже не могло быть никакого соперничества. Справедливости ради мы должны сравнивать человека с существами, жившими одновременно с ним и поэтому способными оказаться его потенциальными соперниками. Самыми большими млекопитающими, жившими и живущими в одно время с человеком, являются слоны. Самый большой из современных видов — африканский слон — весит до 7 тонн (6,80). Возможно, конечно, что в борьбе за существование человек сталкивался и с более крупными, ныне вымершими видами, но это не меняет картины. Самый большой слон, который когда-либо существовал, не мог весить больше 10 тонн (6,96). (Заметьте, между прочим, что современный слон в 2 раза легче белуджитерия и вес его составляет всего 5 процентов от веса синего кита. В сущности, взрослый слон самой крупной существующей породы весит столько же, сколько новорожденный синий кит.) Но продолжим наши рассуждения дальше. Сражаясь с другими видами за господство на Земле, человек сталкивался главным образом с плотоядными животными. А слон — животное травоядное. Он может раздавить человека случайно или намеренно, в состоянии раздражения, но вообще вредить человеку ему незачем. Он не ест человеческого мяса. Зато саблезубый тигр, если он был очень голоден, выслеживал, убивал и съедал человека, который, разумеется, не искал с ним встреч. Самые большие животные, как правило, травоядные. Да это и понятно: ведь на Земле источников растительной пищи гораздо больше, чем животной. (Это, впрочем, не исключает того, что некоторые плотоядные гораздо крупнее некоторых травоядных.) Синего кита (гиганта из гигантов животного мира) фактически следует отнести к плотоядным животным. Однако он питается совсем крохотными существами, которых процеживает из океанской воды, а это, в сущности, почти то же, что пощипывание травки. Синий кит не является плотоядным животным классического типа, с зубами, которыми оно может цапнуть свою добычу. Самое большое из таких плотоядных в истории Земли — кашалот (вспомните Моби Дика). Матерый кашалот с огромной пастью и великолепным набором зубов на нижней челюсти может весить 60 тонн (7,74). Но, повторяю, люди не соперничали с морскими животными. Самое большое наземное плотоядное — громадный аляскинский медведь (называемый также кодьякским), вес которого достигает 725 килограммов (5,86). Я не знаю ни одного вымершего земного плотоядного млекопитающего, которое было бы крупнее. Зато наши рассуждения относительно самых маленьких животных уже не будут нуждаться ни в каких оговорках. Землеройка — это и наземное, и плотоядное, и, насколько мне известно, действительно самое маленькое млекопитающее, которое когда-либо существовало; более того, млекопитающего меньшего размера вообще, по-видимому, не может существовать. Дело в том, что интенсивность обмена веществ у млекопитающих повышается с уменьшением их размера, так как возрастает отношение поверхности тела к объему. Некоторые мелкие животные могут пренебречь этим законом, обходясь менее интенсивным обменом, однако теплокровные существа не могут себе этого позволить. Они должны поддерживать высокую температуру тела, и поэтому обмен веществ у них идет с очень большой скоростью (конечно, не во время зимней спячки). Теплокровное животное величиной с землеройку, чтобы поддерживать свою жизнь, должно непрерывно есть. Землеройка умрет от голода, если хоть два часа пробудет без еды; она всегда голодна, а посему очень злобна и обладает скверным нравом. Никто никогда не видел и не увидит толстую землеройку, — может быть, действительно дородность и злобный характер несовместимы?.. Впрочем, если вы вздумаете меня опровергнуть, прислав фотографию жены соседа, то с вашей стороны это будет нечестно. А теперь возьмем весь ряд сухопутных плотоядных млекопитающих и разделим его на 3 части. Величины от 0,30 до 2,15 соответствуют пигмеям, от 2,15 до 4,00 — «средним» и от 4,00 до 5,86 — гигантам. В общепринятых единицах это будет означать, что любое существо, весящее менее 150 граммов, является пигмеем, от 150 граммов до 10 килограммов — «средним» и более 10 килограммов — гигантом. Итак, среди сухопутных плотоядных млекопитающих той эры, когда человек вел борьбу за существование (и одержал победу), он был гигантом. В борьбе давидов и голиафов победил один из голиафов.
Разумеется, то, что я все время тщательно выделял млекопитающих среди других животных, может вызвать некоторые сомнения. Вы можете подумать, что человек — гигант только среди млекопитающих, и если расширить круг рассматриваемых видов, то он все-таки окажется пигмеем. Ничего подобного. Установлено, что млекопитающие вообще являются гигантами среди животных. Только одна разновидность немлекопитающих может соперничать (на суше) с крупными млекопитающими. Это чудовищные рептилии мезозойской эры — большая группа животных, которых обычно называют динозаврами. Самые большие динозавры не отставали по длине от очень больших китов, но их тело состояло в основном из длинной тонкой шеи и длинного тонкого хвоста, и, конечно, по массивности они не могли идти ни в какое сравнение с теми же китами. Самые крупные из больших динозавров, брахиозавры, весили, по-видимому, не более 50 тонн (7,65). Такой вес, конечно, внушает почтение. Брахиозавр в 7 раз больше белуджитерия, однако он в 2,5 раза меньше синего кита. Как и следовало ожидать, наиболее крупные виды динозавров были травоядными. Самым большим плотоядным динозавром был знаменитый тираннозавр рекс, который весил, по-видимому, не более 15 тонн (7,13). Он значительно крупнее белуджитерия, весил вдвое больше африканского слона и почти в 20 раз превосходил по весу бедненького малютку — кодьякского медведя. Тираннозавр рекс был, несомненно, самым большим и самым страшным из всех когда-либо существовавших наземных плотоядных. Однако и он и все его племя вымерли за миллион лет до того, как на арену вышел человек. Если мы ограничимся современными пресмыкающимися, то самыми крупными среди них окажутся некоторые гигантские крокодилы Юго-Восточной Азии. К сожалению, исследователи в основном интересовались их длиной, а не весом (в еще большей мере это относится к змеям). Некоторые из них, судя по описаниям, имели до 10 метров в длину. Я думаю, что максимальный вес этих чудовищ также был близок к 2 тоннам (6,25). У меня есть более точная цифра в отношении другой группы пресмыкающихся — черепах. Самая крупная из известных черепах — морская кожистая — весила 850 килограммов (5,93), то есть менее тонны. Конечно, ни одно из этих существ не является сухопутным животным. Кожистая черепаха — обитательница моря, а крокодилы — речные жители. Впрочем, говоря о крокодилах, я не склонен исключать их из числа соперников человека. Первые цивилизации развивались вдоль тропических и субтропических рек; кому не известно, например, как опасен нильский крокодил, страшилище с громадной пастью и зубами? Если уж он цапнет, так цапнет! (Ни один фильм о джунглях не обходится без леденящих душу кадров: омерзительное скольжение и разверстая пасть крокодила.) Крокодилы меньше самых больших наземных млекопитающих, но самая крупная из этих рептилий по весу превосходит кодьякского медведя. Вес галапагосской черепахи — великана среди наземных рептилий — не превышает 225,5 килограмма (5,35). Самая крупная змея — сетчатый питон, иногда достигающий в длину 10 метров (опять-таки точный вес нам не известен, и все охи и ахи, по сути дела, относятся к тому, что измерено рулеткой). Однако я полагаю, что максимальный вес змеи вряд ли превышает 200 килограммов (5,32). И, наконец, самая большая из современных ящериц — варан с острова Комодо — достигает в длину 4 метров и весит менее 113 килограммов (5,05). Весьма внушительно выглядят некоторые рыбы. Самая крупная из рыб (современных и вымерших) — китовая акула. По весу и размеру наиболее крупные экземпляры, по-видимому, не уступают кашалотам, хотя более реальная цифра для максимального веса китовых акул — 45 тонн (7,61). И опять-таки эти акулы всего лишь мирные процеживатели морской воды. Самая большая плотоядная акула — это белая акула, достигающая в длину 7 метров и весящая, вероятно, 2,5 тонны (6,36). Из костистых рыб самые крупные (к примеру, тунец, рыба-меч, осетр) весят до 1350 килограммов (6,3). Однако все рыбы, как известно, живут в воде и, разумеется, не могут быть прямыми соперниками человека. Размеры птиц, как и следует ожидать, еще менее внушительны. Всякая птица, сравнимая по весу с человеком, должна быть нелетающей. Самой тяжелой птицей всех времен был нелетающий мадагаскарский эпиорнис — существо трехметровой высоты, весившее, по-видимому, не менее 450 килограммов (5,66). Самые крупные новозеландские моа были еще выше (4 метра), но имели менее плотное сложение и весили не более 225 килограммов (5,36). Для сравнения скажем, что максимальный вес самой крупной из современных птиц — страуса (тоже нелетающий вид) — составляет примерно 140 килограммов (5,13). При переходе к летающим птицам вес резко падает. Альбатрос имеет рекордный размах крыльев — 4 метра, но весят крылья мало; поэтому вес самой тяжелой летающей птицы, очевидно, не превышает 16 килограммов (4,20). Даже птеранодон, крупнейший представитель вымерших летающих пресмыкающихся, имевший размах крыльев до 8 метров (в сущности, тела почти не было, были как бы одни крылья), весил, по-видимому, меньше, чем альбатрос. Для полноты обзора классов позвоночных упомянем, что самые крупные амфибии — гигантские саламандры, обитающие в Японии, — достигают 1,5 метра в длину и весят до 41 килограмма (4,60). Обратившись к противоположному концу нашей шкалы, мы увидим, что самая маленькая птичка — кубинский карликовый колибри, размером с самую маленькую землеройку (колибри тоже вынуждены почти непрерывно есть, так как все время испытывают чувство голода). Но холоднокровные позвоночные часто бывают меньше любого теплокровного млекопитающего или птицы; ведь у таких животных температура тела может понижаться при понижении температуры окружающей среды и интенсивность обмена снижается до нужного уровня. Следовательно, самых мелких позвоночных следует искать среди рыб. У Филиппинских островов водится рыба из группы бычков; длина тела этой рыбки во взрослом состоянии всего 1 сантиметр. Ее вес вряд ли превышает 0,3 грамма, что дает отрицательный логарифм (–0,52).
* * *
А как обстоит дело с беспозвоночными? У беспозвоночных нет внутреннего скелета, который служил бы опорой для их тела, поэтому они не могут догнать по своим размерам позвоночных. Только в воде, где их выручает плавучесть, они могут достигать значительных размеров. Самых больших беспозвоночных следует искать среди моллюсков. Гигантские кальмары, обмеренные исследователями, достигали 18 метров в длину, и предполагается, что они могут быть длиной до 30 метров. Однако эта огромная величина, в сущности, иллюзорна, так как в основном она получается за счет очень длинных и сравнительно легких щупалец. Вес этих существ не превышает, по-видимому, 2 тонн (6,26). Другой моллюск, гигантская тридакна, может весить до 220 килограммов (5,50), из которых большая часть падает на раковину. А самое большое членистоногое — омар; его вес достигает 15 килограммов (4,19). Что касается беспозвоночных, обитающих на суше, то их массу можно фактически не принимать во внимание. Самые большие сухопутные крабы и улитки редко обгоняют в весе даже самых маленьких млекопитающих. Это справедливо и для самого процветающего, важного класса беспозвоночных — для насекомых. Наиболее крупное насекомое, жук-голиаф, достигает в длину 10–12 сантиметров. Мне не удалось найти сведений о его весе, но можно предположить, что он равняется примерно 30 граммам (1,44). Насекомые-гиганты весят больше самых крошечных млекопитающих, но основную массу насекомых составляют виды, представители которых весят один другого меньше. Наименьшие из них поразительны; есть маленькие жучки, огнетелки, которые во взрослом состоянии имеют всего 1/5 миллиметра в длину. Такие существа не могут весить более 0,0000001 грамма (–7,00). Но и это еще не все. Из всех многоклеточных беспозвоночных самые маленькие создания — коловратки. Самые крупные экземпляры имеют в длину около 0,2 миллиметра, а длина самых мелких взрослых экземпляров составляет всего 1/12 миллиметра; их вес — 0,000000006 грамма (–8,22). Иными словами, коловратки во столько раз меньше землероек, во сколько раз землеройки меньше китов. И если бы мы спустились еще ниже, то в конце концов пришли бы к выводу, что не только человек, но и землеройка — это гиганты среди живых существ. Но меньше коловраток бывают только одноклеточные существа (впрочем, крупные одноклеточные больше самых маленьких коловраток и даже некоторых насекомых). Поэтому я здесь и остановлюсь, добавив только сводную таблицу величин.

2. Яйцо-гигант и крошка вирус
То и дело мы слышим, что человеческий мозг по своему устройству гораздо компактнее любой электронной вычислительной машины. Безусловно, человеческий мозг — это чудо компактности по сравнению с думающими машинами, сделанными руками человека. Но дело здесь не в том, что есть какое-то коренное различие в принципах действия мозга и электронной вычислительной машины. Различие, по-моему, сводится скорее к размерам компонентов, из которых слагаются мозг и машина. Считается, что в коре головного мозга человека 10 миллиардов нервных клеток (нейронов)[1]. Для сравнения скажем, что первая современная электронная вычислительная машина имела около 20 тысяч переключательных устройств. Не знаю, сколько их в новейших машинах, но уверен, что число их даже и не начало приближаться к цифре 10 миллиардов. Следовательно, не столько мозг, сколько клетку мы должны считать чудом. Клетка и намного меньше любой из деталей машины, и гораздо гибче в работе. Мало того, что она действует как электронный переключатель или усилитель; клетка, какие бы функции она ни выполняла в мозге, — это целый химический завод. Еще одно обстоятельство. Клеткам вовсе нет нужды скапливаться в огромных количествах, для того чтобы стать организмом. Человек в среднем состоит из 50 · 1012 (50 триллионов), а самый большой кит — из 100 · 1015 (100 квадрильонов) клеток, но ведь эти громадины — исключение. В теле самой маленькой землеройки всего 7 миллиардов клеток, а в организме беспозвоночных и того меньше: самые крохотные из них состоят из какой-нибудь сотни клеток и все-таки отправляют все функции живого организма. В действительности (уверен, что вы уже и сами догадались об этом) есть живые организмы, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к живому, и в то же время состоящие из одной-единственной клетки. Если уж заниматься проблемой компактности, то стоит более подробно поговорить о клетке. Зададим себе несколько вопросов: «Насколько компактным может быть живой организм? Какова минимальная величина жизнеспособного организма?» А для начала попробуем ответить на простой, казалось бы, вопрос: как велика клетка?* * *
Оказывается, на этот вопрос нет ответа. Существуют клетки и клетки, и все они очень разные по величине. Как правило, клетки можно увидеть только в микроскоп, однако некоторые из них настолько велики, что сами бросаются в глаза. Начнем с крайности: бывают клетки размером побольше вашей головы. Яйцеклетки животных по праву можно назвать гигантами клеточного мира. Яйцеклетка человека, например, — это самая большая клетка его тела: размером она почти с булавочную головку. Для того чтобы перейти к количественным сравнениям (нам нужно сравнить яйцеклетку человека с другими клетками, большими и маленькими), давайте выберем удобную единицу измерения. Миллиметр — слишком большая единица для наших целей (исключение составляют лишь некоторые яйцеклетки). Поэтому я буду пользоваться микроном, который равен 1/1000 миллиметра. Объемы мы будем выражать в кубических микронах (1 кубический микрон равен объему куба, длина каждого ребра которого — 1 микрон). Вы поймете, какая это крохотная единица, если я скажу вам, что в кубическом миллиметре — миллиард кубических микронов. Однако вернемся к яйцеклеткам. Человеческая яйцеклетка представляет собой маленький шарик диаметром примерно 140 микронов (следовательно, ее радиус 70 микронов). Возведя 70 в куб, а затем помножив результат на 4,18 (я избавлю вас здесь от дополнительных, не относящихся к делу подробностей и от арифметических манипуляций), узнаем, что этот шарик имеет объем немногим более 1 400 000 кубических микронов. Отсюда видно, что человеческая яйцеклетка ни в коем случае не является крупной. Существа, которые кладут яйца, особенно птицы, производят яйцеклетки гораздо большего размера: ведь птичьи яйца, как бы они ни были велики, — это, в сущности, не что иное, как отдельные клетки. Самое большое яйцо, когда-либо снесенное птицей, принадлежало ископаемому мадагаскарскому эпиорнису. Возможно, именно эпиорнис был «прообразом» птицы рок из «Тысячи и одной ночи». Согласно мифу, птица рок была так велика, что легко могла взлетать, держа в одной лапе слона, а в другой — носорога; яйцо же ее было размером с дом. На самом деле эпиорнис был далеко не так велик. А кроме того, он не мог бы взлететь даже с самым маленьким животным по той простой причине, что совсем не летал. И яйца, которые откладывала эта птица, были значительно меньше дома. Тем не менее они имели 24 сантиметра в ширину и 33 сантиметра в длину, а объем 7,5 литра, что при всей своей «скучной» реальности должно потрясти даже любителей точных фактов. Это самое большое яйцо, когда-либо снесенное птицей. Ни одно живое существо, включая гигантских рептилий мезозойской эры, никогда не откладывало и не откладывает яиц большего размера. Видимо, яйцо эпиорниса по своим размерам приближается к тому максимуму, который возможен для яиц со скорлупой из углекислого кальция, не имеющих каких-либо внутренних перегородок или распорок. Яйцо эпиорниса — самое большое яйцо и в то же время самая большая из известных нам клеток. В наше время самые большие яйца откладывает страус. Это и есть самые большие клетки. Яйцо страуса имеет от 15 до 17,5 сантиметра в длину и от 10 до 15 сантиметров в ширину; если вас это интересует, могу сообщить, что требуется не менее 40 минут, чтобы сварить его вкрутую. Для сравнения скажем, что крупная курица несет яйца, имеющие примерно 4 сантиметра в ширину и 6,5 сантиметра в длину. Самые маленькие птичьи яйца — это яйца одного вида колибри; они имеют в длину чуть больше 1 сантиметра. А теперь сравним эти величины:
Яйцеклетка / Объем (в кубич. микронах)Как видите, разница в размерах огромная. Даже самое маленькое птичье яйцо в 300 000 раз объемнее яйцеклетки человека, а самое крупное птичье яйцо больше самого маленького почти в 20 тысяч раз. Иными словами, яйцо эпиорниса во столько раз больше яйца колибри, во сколько самый большой кит больше собаки средней величины; а яйцо колибри в свою очередь настолько больше человеческой яйцеклетки, насколько самый большой кит больше крупной крысы. И все-таки, хотя яйцо действительно состоит всего из одной клетки, его нельзя считать типичной клеткой. Прежде всего, его вряд ли можно отнести к живым клеткам. Скорлупа — это, безусловно, неживая ткань, а белок яйца служит всего лишь запасом воды. Настоящая клетка — это желток, но и он почти весь представляет собой склад продовольствия. Если мы хотим познакомиться с типичными клетками, то давайте рассмотрим те, что состоят в основном из протоплазмы и не имеют запаса питательных веществ. Самые крупные клетки, в которых нет желтка, едва можно рассмотреть невооруженным глазом. То же можно сказать и о самых мелких яйцеклетках. Встречаются, однако, клетки без желтка, превосходящие по размерам яйцеклетки. Амеба, например, — простой самостоятельный организм, состоящий всего из одной клетки, — имеет диаметр примерно 200 микронов и объем 4 200 000 кубических микронов. Она в 3 раза объемнее яйцеклетки человека. Однако клетки, из которых слагаются многоклеточные организмы, гораздо меньше. Объем различных клеток человеческого тела варьирует от 200 до 15 000 кубических микронов; например, объем типичной клетки печени равен 1750 кубическим микронам. Если же мы будем рассматривать клеткоподобные тела, которые не являются клетками в полном смысле этого слова, то получим еще меньшие объемы. Например, красные кровяные тельца (эритроциты) человека — эти несовершенные клетки, не имеющие ядра, — значительно меньше других клеток человеческого тела: их объем всего 90 кубических микронов. Если яйцеклетка — это самая большая клетка, вырабатываемая в организме человека, то сперматозоид — самая маленькая. Сперматозоид почти целиком состоит из ядра. Его объем примерно 17 кубических микронов. Все это может привести вас к мысли, что клетки, из которых складывается многоклеточный организм, слишком малы, чтобы стать индивидуальными и независимыми частицами жизни, и что для самостоятельного существования клетка должна быть несравненно больше. В конце концов, амеба в 2400 раз больше клетки печени. Может быть, в таком случае предел компактности клетки как самостоятельного организма лежит где-то между амебой и клеткой печени? Однако это не так. Человеческие клетки, разумеется, не могут служить примером индивидуального организма, но причина не в том, что они слишком малы, а в том, что они слишком специфичны. Некоторые одноклеточные организмы гораздо меньше амебы и даже человеческого сперматозоида. Я имею в виду бактерии. Объем самой крупной бактерии не превышает 7 кубических микронов, аобъем самой мелкой — 0,02 кубического микрона. Итак, сравнительные объемы различных клеток таковы:
Эпиорниса … 7,5 · 1015 Страуса … 1,1 · 1015 Курицы … 5 · 1013 Колибри … 4 · 1011 Человека … 1,4 · 106
Клетки, не содержащие желтка / Объем (в кубич. микронах)И снова — посмотрите, как велик диапазон. Амеба (сравнительно огромный одноклеточный организм) во столько же раз больше самой маленькой бактерии (тоже самостоятельного одноклеточного организма), во сколько раз самый большой взрослый кит больше самой маленькой разновидности неполовозрелой землеройки. Разница между самой большой и самой маленькой бактериями подобна разнице между большим слоном и ребенком.
Амеба … 4,2 · 106 Клетка печени человека … 1750 Эритроцит (красное кровяное тельце) человека … 90 Сперматозоид человека … 17 Самая большая бактерия … 7 Самая маленькая бактерия … 0,02
* * *
Ну, а теперь зададимся вопросом: каким же образом все сложные процессы жизнедеятельности могут быть втиснуты в крошечную бактерию, которая в 200 миллионов раз меньше простой амебы? Здесь снова перед нами встает проблема компактности, и мы должны задержаться на ней, чтобы подумать о единицах измерения. Когда мы рассматривали мозг, принимая за единицу меры килограмм, он представлялся нам сравнительно небольшим куском живой ткани. Когда мы стали оценивать мозг по числу клеток, обнаружилась его исключительная сложность. Вот так же, рассматривая клетки, давайте перестанем мерить их кубическими микронами и начнем оценивать по числу содержащихся в них атомов и молекул. В одном кубическом микроне протоплазмы содержится около 40 миллиардов молекул. Следовательно, если выразить данные предыдущей таблицы в молекулах, то мы получим следующую картину:
Клетка / Число молекулКонечно, было бы очень соблазнительно сказать, что молекула — это такая же единица клетки, как клетка — единица многоклеточного организма. Тогда в дальнейшем мы могли бы утверждать, что с точки зрения молекулярного состава амеба в 17 миллионов раз сложнее, чем человеческий мозг с точки зрения клеточного состава! С этих позиций нас теперь не удивляет, что вся сложность жизни вмещается в амебную клетку. Однако здесь есть свое «но». Протоплазма почти целиком состоит из молекул воды, Н2О. Они, видимо, необходимы для жизни, но служат главным образом в качестве «фона». Они не являются характерными молекулами жизни. К числу молекул жизни относятся сложные макромолекулы, в состав которых входят азот и фосфор; это белки, нуклеиновые кислоты и фосфолипиды. На все эти макромолекулы приходится всего 1/10 000 общего числа молекул живой ткани. (Заметьте, я не говорю, будто эти макромолекулы составляют только 1/10 000 веса живой ткани; речь идет только о числе молекул.) Все макромолекулы гораздо тяжелее молекул воды. Средняя молекула белка, например, тысячи в две раз тяжелее молекулы воды. В комбинации из 2000 молекул воды и 1 средней белковой молекулы на белковые молекулы будет приходиться очень незначительная часть (1/2001 общего числа молекул), а вес белка будет составлять половину общего веса. Теперь пересмотрим нашу таблицу вновь:
Амеба … 170 · 1015 Клетка печени человека … 70 · 1012 Эритроцит человека … 3,6 · 1012 Сперматозоид человека … 680 · 109 Самая большая бактерия … 280 · 109 Самая маленькая бактерия … 800 · 106
Клетка / Число макромолекулИтак, у нас есть все основания говорить, что средняя клетка человеческого тела с точки зрения молекулярного состава действительно не менее сложна, чем человеческий мозг с точки зрения клеточного состава, причем если бактерия значительно проще мозга, то амеба значительно сложнее! Но и самые простые бактерии исключительно быстро растут и делятся с великим рвением, а расти и делиться с химической точки зрения не так-то просто. Такая бактерия — а ее едва можно разглядеть в хороший микроскоп — является деятельной, самостоятельной и сложной химической лабораторией. Из 80 000 макромолекул самой маленькой бактерии около 50 000 приходится на ферменты, катализирующие различные химические реакции. Если в клетке постоянно протекает почти 2000 различных химических реакций, необходимых для ее роста и размножения, то тогда на каждую реакцию приходится в среднем 25 ферментов. Завод, на котором производится 2000 машинных операций (при условии что каждую машину обслуживают 25 рабочих), справедливо считается предприятием со сложным производством. И вот также сложна даже самая маленькая бактерия. Теперь попробуем подойти к этому явлению с другой стороны. Примерно в середине столетия биохимики стали понимать, что, кроме таких компонентов живой ткани, как углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор и другие, человеческому организму в очень небольших количествах нужны и некоторые металлы. Для примера возьмем молибден и кобальт — два совсем недавних дополнения к списку микроэлементов[2]. В человеческом организме содержится, по-видимому, 18 миллиграммов молибдена и 12 миллиграммов кобальта. Это очень мало, но абсолютно необходимо для жизни организма. И, что еще замечательнее, каждая клетка сама по себе нуждается во всех микроэлементах, в том числе в молибдене и кобальте. А теперь распределите 30 миллиграммов между 50 триллионами клеток человеческого тела, и вы увидите, какое мизерное количество придется на долю каждой! Казалось бы, теперь-то уж есть все основания считать, что клетки вовсе и не нуждаются в микроэлементах. Но это опять-таки кажется до тех пор, пока мы пользуемся обычными весовыми единицами, вместо того чтобы перейти на атомы. В средней клетке имеется, грубо говоря, каких-нибудь 40 атомов молибдена и кобальта на каждый миллиард молекул. Составим еще одну таблицу (см. стр. 35). Не забудьте, что в ней приведены средние значения. Однако я совершенно уверен, что клетка печени на самом деле содержит больше атомов молибдена и кобальта, а эритроцит — меньше.
Амеба … 17 · 1012 Клетка печени человека … 7 · 109 Эритроцит человека … 360 · 106 Сперматозоид человека … 68 · 106 Самая большая бактерия … 28 · 106 Самая маленькая бактерия … 80 · 103
Клетка / Число атомов молибдена и кобальтаКак видите, микроэлементов в клетке не так-то уж мало. В амебе — миллиарды атомов микроэлементов, а в клетке человеческого организма — миллионы. Даже большая бактерия насчитывает их тысячи. А вот в самой маленькой бактерии их всего несколько дюжин, и это вполне подтверждает наш вывод, что у самой крошечной бактерии может быть в среднем 25 ферментов на каждую реакцию. Ведь кобальт и молибден (а также другие микроэлементы) необходимы в качестве очень важной составной части ферментов, без которой они не могут работать. Предположив, что в каждой молекуле фермента есть по атому металла, мы тем самым подтверждаем, что в самой маленькой бактерии имеется всего несколько дюжин ферментов. И тут мы чувствуем, что приближаемся к пределу. Ферменты, по-видимому, не распределяются совершенно равномерно. В ряде случаев их больше двух десятков, в других случаях — меньше. Может случиться, что присутствуют всего один-два самых редких из основных, так называемых ключевых, ферментов. Если объем клетки меньше 0,02 кубических микрона, то повышается вероятность того, что некоторые ключевые ферменты окажутся вытесненными вообще, — вот тут-то рост и размножение прекратятся. Значит, вполне, казалось бы, разумно предположить, что самая маленькая бактерия, различимая в хороший микроскоп, как раз и есть самая маленькая частица материи, наделенная всеми типичными жизненными процессами. И тогда предел компактности, совместимый с представлением о жизнеспособном самостоятельном организме, был бы положен такой бактерией.
Амеба … 6,8 · 109 Клетка печени человека … 2,8 · 106 Эритроцит человека … 144 · 103 Сперматозоид человека … 27,2 · 103 Самая большая бактерия … 11,2 · 103 Самая маленькая бактерия … 32
* * *
А как же быть с организмами, которые еще меньше самой маленькой бактерии, не имеют некоторых важнейших ферментов и в обыкновенных условиях не растут и не размножаются? Зная, что они не живут самостоятельно, можем ли мы считать их полностью неживыми? Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, что подобные крошечные организмы (которые мы можем назвать субклетками) сохраняют способность к росту и размножению. Эта потенциальная способность становится реальностью, как только субклетка получает откуда-то со стороны недостающий фермент или ферменты, а их может дать только настоящая живая клетка. Субклетка — это организм, обладающий способностью проникать в клетку и там, внутри клетки, расти и размножаться, используя ферментный аппарат клетки и тем самым восполняя нехватку собственных ферментов. Самые крупные субклетки — это риккетсии, названные так в честь американского ученого Говарда Тэйлора Риккетса, который в 1909 году открыл, что переносчиками возбудителей пятнистой лихорадки Скалистых гор, болезни, вызываемой такими субклетками, являются насекомые. В следующем году, исследуя сыпной тиф, который тоже переносится насекомыми, он заразился им и умер — в возрасте 39 лет. Наградой за то, что он отдал жизнь на благо человечества, ему было забвение. Вслед за самыми мелкими риккетсиями идут вирусы (резкой границы между ними нет), а мельчайшие вирусы по размерам даже меньше генов, которые находятся в ядрах клеток и несут в своей вирусоподобной структуре генетическую информацию. А теперь, имея дело с субклетками, давайте откажемся от кубического микрона в качестве единицы измерения объема, иначе нам придется забраться в область слишком мелких дробей. Вместо микрона будем пользоваться «кубическим миллимикроном». Миллимикрон равен одной тысячной доле микрона. Следовательно, кубический миллимикрон равен 1/1000μ × 1/1000μ × 1/1000μ, то есть одной миллиардной доле кубического микрона. Другими словами, о самой маленькой бактерии, объемом 0,02 кубического микрона, можно сказать, что ее объем равен 20 миллионам кубических миллимикронов. Давайте теперь составим таблицу для объемов субклеток:
Субклетка / Объем (в кубич. миллимикронах)Как видите, диапазон огромен. Самая большая риккетсия почти в 3 раза больше самой маленькой бактерии. (Субклеткой мы будем считать организм, у которого не только малые размеры, но и отсутствует по крайней мере один существенно важный фермент.) С другой стороны, самая маленькая субклетка только в 3500 раз меньше самой маленькой бактерии. А самая большая субклетка настолько больше самой маленькой, насколько самый крупный кит больше средней собаки. Чем меньше субклетка, тем из меньшего числа молекул она состоит. Однако азотно-фосфорные макромолекулы, о которых шла речь выше, не могут полностью исчезнуть; ведь, в какой бы скрытой форме ни существовала жизнь, она без макромолекул (насколько нам известно) невозможна. Просто самые маленькие субклетки состоят всего лишь из нескольких таких макромолекул. Это, так сказать, основа основ жизни, без всяких «излишеств». Однако если считать атомы, то в субклетках их все еще довольно много. При очень плотной упаковке в 1 кубическом миллимикроне поместилось бы несколько сот атомов; но для живой ткани это, безусловно, невозможно. Так, молекулярный вес вируса табачной мозаики равен 40 миллионам и атомы в живой ткани имеют средний атомный вес 8. (На самом деле все эти атомы, кроме атома водорода, имеют атомный вес намного больше 8, но так как атомов водорода, — а их атомный вес равен 1 — очень много, то они тянут среднюю цифру вниз.) Это означает, что в частице вируса табачной мозаики содержится примерно 5 миллионов атомов, то есть приблизительно 100 атомов на кубический миллимикрон. Исходя из этого, мы можем дать новый вариант предыдущей таблицы.
Сыпнотифозная риккетсия … 54 · 106 Вирус коровьей оспы … 5,6 · 106 Вирус гриппа … 800 · 103 Бактериофаг … 520 · 103 Вирус табачной мозаики … 50 · 103 Ген … 40 · 103 Вирус желтой лихорадки … 5,6 · 103 Вирус ящура … 700
Субклетка / Число атомовЧто же это? Неужели основа основ жизни может быть обеспечена какими-то 70 тысячами атомов? Ниже этого уровня мы находим уже обыкновенные неживые белковые молекулы. Некоторые из таких неживых белковых молекул насчитывают более 70 тысяч атомов, но в среднем они состоят из 5–10 тысяч атомов. Будем считать 70 тысяч атомов «минимальной единицей жизни». Макромолекулы, составляющие среднюю клетку человеческого тела, насчитывают по крайней мере в полмиллиарда раз больше атомов, чем эта минимальная единица жизни, а в коре головного мозга человека таких клеток 10 миллиардов. Не удивительно, что у нас такой чудесный мозг! В сущности, это великое и достойное восхищения чудо, что человечество менее чем за 10 000 лет существования цивилизации оказалось в силах создать всего лишь из нескольких тысяч чрезвычайно простых устройств электронные вычислительные машины, которые удовлетворяют его современным требованиям. А теперь вообразите, что вышло бы, если мы смогли создать устройства, состоящие из полумиллиарда рабочих элементов, а затем из 10 миллиардов таких устройств сконструировать кибернетическую машину. У нас получилась бы такая превосходная машина, что даже человеческий мозг по сравнению с ней представлял бы собой жалкое зрелище. Разумеется, мы с вами не в счет — ведь о присутствующих не говорят!
Сыпнотифозная риккетсия … 5,4 · 109 Вирус коровьей оспы … 560 · 106 Вирус гриппа … 80 · 106 Бактериофаг … 52 · 106 Вирус табачной мозаики … 5 · 106 Ген … 4 · 106 Вирус желтой лихорадки … 560 · 103 Вирус ящура … 70 · 103
3. Вот она, жизнь!
Мой сын страстно увлекается космосом. Это не имеет совершенно никакого отношения к занятиям отца, к которым он питает полнейшее равнодушие. Так или иначе ради этого увлечения мы купили ему однажды пластинку с записью юмористической сценки под названием «Астронавт» (которую он вскоре заиграл до такой степени, что иголка стала извлекать звук с обеих сторон одновременно). В одном месте этой пластинки ведущий спрашивает астронавта, рассчитывает ли он найти жизнь на Марсе, и астронавт задумчиво отвечает: «Возможно… если я сяду на планету в выходной, упившись до зеленого змия». Так что же все-таки мы подразумеваем под жизнью? Нам вовсе нет нужды лететь на Марс, чтобы найти нерешенные проблемы. Горячих споров хватит и на Земле. Интуитивно все мы представляем себе (или думаем, что представляем), что такое жизнь. Мы знаем, что мы живы, что устрица живая, а камень нет. И мы совершенно уверены, что столь различные организмы, как морские анемоны, гориллы, пальмы, губки, мхи, солитеры и бурундуки, — все живые… если только они не мертвы. Трудности возникают, как только мы делаем попытку выразить наши интуитивные представления словами; именно этим я и хочу сейчас заняться. Существует много способов, при помощи которых можно сформулировать определение. Можно, например, дать определение функциональное и можно — структурное. Так, ребенок мог бы сказать: «Дом — это то, в чем живут» (функциональное определение). Он мог бы сказать и по-другому: «Дом — это то, что сделано из кирпича» (структурное определение). Оба определения неудовлетворительны, так как жить можно и в палатке, которая все же обычно не считается домом, а забор, хоть и сделанный из кирпича, домом тоже считать нельзя. Объединив оба определения, мы получим новое, хотя и не очень совершенное, но все же лучше прежних. Таким образом, сказав, что «дом — это то, что построено из кирпича и в чем живут люди», мы сразу исключим палатки и заборы. (Но одновременно это определение исключает также каркасные дома, не говоря уже об обычных кирпичных домах, которые пустуют, когда хозяева уезжают в отпуск.) Попытаемся применить те же рассуждения, для того чтобы дать определение понятию жизни. Например, когда я учился в школе, то чаще всего встречался с функциональным определением, которое звучало приблизительно так: «Живой организм характеризуется способностью ощущать окружающую среду и соответственно реагировать на нее, поглощать пищу, переваривать, впитывать, усваивать, расщеплять ее и использовать полученную при этом энергию, освобождаться от отходов, расти и воспроизводиться». (Когда в ходе повествования мне придется возвращаться к этому определению, я буду ограничиваться словами «ощущать среду», добавляя «и т. д.», дабы не портить ленту моей пишущей машинки и сетчатку ваших глаз.) Но всегда возникало сомнение: а действительно ли это определение является полным. Ведь и неодушевленные предметы могут имитировать эти функции. Кристаллы, например, растут, и если рассматривать насыщенный раствор как своего рода пищу, то, безусловно, мы сможем доказать, что она поглощается и усваивается. Можно сказать, что огонь переваривает топливо и освобождается от отходов, — и, уж конечно, растет и воспроизводится. Вдобавок уже сконструированы очень простые роботы, которые могут имитировать многие из этих функций жизни (кроме роста и воспроизведения) с помощью фотоэлементов и механических частей. Я пробовал по-иному сформулировать функциональное определение жизни в книге «Жизнь и энергия» (1962). Там я дал общее представление о термодинамике и написал: «Живой организм характеризуется способностью временно и локально понижать энтропию». Однако в таком виде это определение звучит просто ужасно, так как солнечное тепло тоже может вызывать временное и локальное понижение энтропии — например, всякий раз, когда под его воздействием испаряется лужа воды. В данной главе я намерен объяснить, почему я не собираюсь оставлять это определение неизменным. (Если вы не знаете, что такое энтропия, то загляните в десятую главу.) Очевидно, нам нужно внести в такое определение структурный элемент. Но можем ли мы это сделать? Все формы жизни, какими бы они ни были по внешнему виду, выполняют ряд общих функций. Все они ощущают среду… и т. д., и поэтому-то функциональное определение дать очень легко. Но одинаковы ли они по своей структуре? Уже сам факт, что я употребил выражение «какими бы они ни были по внешнему виду», говорит о том, что они неодинаковы. Это, однако, верно только потому, что мы полагаемся на внешнее разнообразие, в котором можно убедиться невооруженным глазом. А что будет, если мы вооружимся соответствующими линзами?* * *
Еще в 1665 году английский ученый Роберт Гук опубликовал книгу, в которой описал наблюдения, сделанные им с помощью микроскопа. В частности, он изучил тонкий срез пробки и нашел, что она вся изрешечена крохотными прямоугольными дырочками. Он довольно удачно назвал эти дырочки «клетками». Но пробка — это мертвая ткань даже тогда, когда она образуется на живом дереве. На протяжении последующих полутора столетий ученые изучали под микроскопом живые ткани или ткани, которые были живыми, до того как их подготовили для изучения. Они обнаружили, что такие ткани тоже разделены на крошечные ячейки. Название «клетка» сохранилось и для них, хотя в живой ткани такие ячейки уже не пустые дырочки, а заполнены веществом. И только в 1830 году, основываясь на всех накопленных к тому времени данных, два немецких биолога, Маттиас Якоб Шлейден и Теодор Шванн, смогли подарить миру обобщение, которое гласило, что все живые организмы состоят из клеток. Вот вам и структурное определение: «Живой организм состоит из клеток». Хотя такое определение и звучит хорошо, но оно не допускает обратного толкования. Нельзя сказать, что предмет, состоящий из клеток, жив, так как мертвый организм точно так же состоит из клеток, только клетки его мертвы. И нельзя исправить определение, сказав, что живой организм состоит из живых клеток, потому что это будет переливанием из пустого в порожнее. Кроме того, в организме, только что умершем, многие клетки, возможно даже большая их часть, живы, а организм все равно мертв. Мы добьемся большего успеха, если, как в случае с определением того, что такое дом, подойдем к нашему определению одновременно со структурной и с функциональной точек зрения и скажем: «Живой организм состоит из клеток и характеризуется способностью ощущать среду и т. д.». Это определение включает все столь различные между собой типы организмов, которые мы интуитивно называем живыми, и исключает все прочее, имитирующее функции, которые мы ассоциируем с жизнью, — вроде кристаллов, речных дельт, огня, роботов и абстракций: ведь все то, что мы перечислили, не имеет клеточного строения. В то же время определение исключает останки когда-то живших организмов (даже если они умерли только что): ведь мертвые предметы, хотя и состоят из клеток, не выполняют функций, связанных с жизнью.
* * *
Несколькими абзацами выше я упомянул «живые клетки». Что это значит? В данном мною только что определении живого организма говорится, что он состоит из клеток. Но подразумевается ли при этом, что сами клетки тоже живые? Можно ли утверждать, что все части человеческого тела непременно живые и что все клетки, следовательно, должны быть живыми, поскольку они входят в живой человеческий организм? Совершенно очевидно, что подобное утверждение было бы ошибочным. Волосы не являются живыми, хотя, они растут на нашем теле. Кожа наша покрыта слоем клеток, которые омертвели, хотя и не перестали быть частью живого организма. Если мы хотим решить, живы ли клетки, мы не должны ставить выяснение этого вопроса в зависимость от определения живого организма. Мы должны применить соответствующий критерий жизни к самой клетке и задаться вопросом, может ли она ощущать среду и т. д., то есть отвечать по крайней мере функциональному определению живого. Тут же напрашивается отрицательный ответ, так как многие клетки явно лишены некоторых существенных функций живого. Клетки нашей нервной системы, например, неспособны воспроизводиться. Мы рождаемся с тем же числом нервных клеток, которое имеем всю жизнь; любое изменение впоследствии ведет только к худшему, так как нервная клетка, переставшая выполнять свои функции, не заменяется. В общем, ни одна из наших клеток, отделенная от своих соседок и предоставленная самой себе, не сможет жить и долго выполнять свои функции. В то же время различные клетки тела способны сами выполнять каждую из функций, связанных с жизнью. Некоторые клетки ощущают свою среду, другие соответственно реагируют на нее; некоторые управляют пищеварением, другие всасывают питательные вещества; все клетки ассимилируют, производят и используют энергию; некоторые клетки растут и воспроизводятся постоянно, всю жизнь, и даже в том случае, когда организм в целом перестает расти и воспроизводиться. Короче говоря, функции живого организма являются в некотором смысле суммой функций клеток, из которых он состоит. Теперь мы можем сказать: «Живой является клетка, некоторым действенным образом способствующая функционированию организма, в который она входит». Сразу же возникает вопрос, что мы подразумеваем под «некоторым действенным образом», но это я выношу на ваш суд и скажу лишь, что определение призвано исключить вопрос о мертвых клетках кожи, которые служат нашему телу лишь в качестве защиты, но не выполняют каких-либо действенных функций. Поскольку клетка способна некоторое время продолжать привычную деятельность и после смерти организма, мы можем говорить о живых клетках в мертвом теле. Но нам остается решить еще один немаловажный вопрос. Теперь у нас есть два разных определения: одно — для живой клетки, и другое — для живого организма. Это значит, что понятие о живой клетке человеческого организма отличается от понятия о человеке как существе. И в этом есть свой смысл, так как, несмотря на то что функции человеческого организма могут рассматриваться как сумма функций его клеток, жизнь человека — это все-таки нечто большее, чем сумма жизни его клеток. Допустим на минуту, что можно взять живые клетки и произвольно соединить их, — все равно человека не получится. Человек не просто состоит из клеток. Не менее важна клеточная организация. Очень легко оборвать человеческую жизнь, разрушив клеточную организацию, но фактически не тронув ни одной из самих клеток. Верно ли то, что сказано о человеческих клетках, также и для клеток других организмов? Да, по крайней мере для любого достаточно сложного организма. Однако, по мере того как мы переходим к все более и более простым организмам, значение фактора клеточной организации постепенно уменьшается. Иными словами, чем проще многоклеточный организм, тем дальше может заходить разрушение организации без того, чтобы жизнь при этом прекратилась. Мы можем заново отрастить ноготь, а у рака отрастает оторванная клешня. Морскую звезду можно разрубить на куски, и каждый вырастет в морскую звезду, а если расчленить губку на клетки, то они заново сгруппируются и вновь образуют губку. В организме, состоящем более чем из одной клетки, клеточная организация всегда играет важную роль. Но ведь существуют и организмы, состоящие всего из одной клетки. Их открыл голландский ученый Антон ван Левенгук. Такой одноклеточный организм, как амеба, отвечает всем функциональным требованиям, предъявляемым к живому организму, то есть способен ощущать среду и т. д. Но амеба не подходит под структурную часть определения, потому что не состоит из клеток. Она сама клетка. Следовательно, наше определение нужно несколько видоизменить: «Живой организм состоит из одной и более клеток и характеризуется способностью ощущать среду и т. д.». Из этого следует вывод, что клеточная организация не является непременным условием для всех без исключения типов живых организмов. По-видимому, для существования живого организма требуется только наличие самой клетки. Вот почему в XIX веке было принято говорить, что клетка — это «единица жизни», и с тех пор биологи прилагают все больше и больше усилий к ее дальнейшему изучению.
* * *
Теперь мы можем задаться вопросом, действительно ли клетка — это наименьшая единица жизни, или существует нечто еще более простое и все же живое. Но прежде всего — что такое клетка? Грубо говоря, это организм, состоящий по крайней мере из трех частей. Во-первых, у него есть мембрана, которая отделяет клетку от внешнего мира, во-вторых, — маленькая внутренняя структура, называемая ядром, и, в-третьих, цитоплазма, заполняющая пространство между мембраной и ядром. Правда, в теле человека есть клетки (например, клетки сердца), которые, собственно говоря, не отделены друг от друга мембранами, а есть и такие клетки, как эритроциты, которые не имеют ядер. Но это очень специализированные клетки многоклеточного организма, и, взятые отдельно, они не могут считаться живыми организмами. А для тех клеток, которые действительно являются живыми организмами, мембрана, цитоплазма и ядро — это минимум необходимых составных частей. У некоторых особенно простых одноклеточных организмов, по-видимому, нет ядер, — примером тому служат бактерии и сине-зеленые морские водоросли. Однако и в этих клетках так или иначе содержится «ядерный материал», то есть вещество, которое химически реагирует точно так же, как ядра более сложных клеток. Значит, у бактерий и сине-зеленых водорослей все же есть ядра, но они распределены по всей клетке, а не собраны в одном месте. Какая же из трех частей клетки важнее? Это все равно, что спросить, какая из ножек трехногого стула более важна; ведь ни одна клетка не может жить без всех своих трех составных частей. Тем не менее оказывается, что значение каждой из них неодинаково. Если, например, амебу разделить тонкой иглой на две части, то часть с целым ядром может выжить, вырасти и нормально размножаться. Половинка же, лишенная ядра, непродолжительное время сохранит способность выполнять основные жизненные функции, но уже не сможет расти и размножаться. Когда клетка делится, она обязательно претерпевает сложную цепь изменений, которые затрагивают очень мелкие структуры, находящиеся внутри ядра и называемые хромосомами. Это верно как для клетки-организма, так и для клетки, являющейся всего лишь частью сложного организма. Одно из важнейших изменений, в котором принимают участие хромосомы, — «копирование», когда каждая хромосома вызывает образование новой, себе подобной хромосомы, создает копию самой себя. Ни одна клетка не делится, прежде чем не произойдет такое копирование. К концу XIX столетия биологи начали догадываться, что главное в организме — это клетка, а в клетке — хромосома.
* * *
Но давайте вернемся к структурному определению. Ведь, в конце концов, наше определение живого многоклеточного организма является как функциональным, так и структурным. Что же касается определения живого одноклеточного организма, то оно чисто функциональное, так как в нем не сказано, из чего состоит одна клетка. Чтобы внести ясность, следует спуститься до молекулярного уровня. Клетка содержит многочисленные типы молекул; некоторые из них встречаются и в неживой природе (например, вода). Следовательно, их нельзя считать характерными только для живых организмов. Но есть молекулы, которые имеются только в живых клетках и в веществе, которое когда-то было частью живой клетки или по крайней мере образовано живой клеткой. Самыми характерными из этих молекул являются различные белковые молекулы. Не существует ни одной формы жизни, ни одной клетки, какой бы простой или сложной она ни была, которая не содержала бы белка. Белки выполняют разнообразные функции. Некоторые белки просто-напросто служат основной составной частью тела, кожи, волос, хрящей, сухожилий, связок и так далее. Другие белки очень тесно связаны с самой химической деятельностью клеток; они катализируют тысячи реакций в клетках. Интуитивно мы чувствуем, что эти белки (так называемые ферменты) близки к химической сущности жизни. Вот когда я снова могу вернуться к своей книге «Жизнь и энергия», из которой в начале главы цитировал малоудачное определение живого организма; теперь, со всеми поправками, это определение будет звучать так: «Живой организм характеризуется способностью временно и локально понижать энтропию с помощью реакций, катализируемых ферментами». Вот это определение является как функциональным («понижать энтропию»), так и структурным («при помощи ферментов»). В таком определении ничего не говорится о клетках. Правда, оно применимо как к многоклеточному, так и к одноклеточному организму, ибо точно разграничивает те системы, которые мы интуитивно признаем живыми, оставляя в стороне те, которые мы таковыми не признаем. Судя по новому определению, можно подумать, что единицей жизни является не клетка, а ферменты, находящиеся в клетках. Но коль скоро ферменты могут быть созданы только внутри клетки и только клеткой, то это различие носит чисто академический характер. Если, конечно, нам не удастся связать образование ферментов с чем-то отличным от клетки как таковой. В течение последних десятилетий было убедительно доказано, что тысячи различных ферментов (по одному на каждую из тысяч различных химических реакций, постоянно протекающих в клетке) создаются в клетке под контролем хромосом. Перейдя к хромосомам и оставаясь на молекулярном уровне, я должен объяснить, что хромосомы состоят из ряда гигантских молекул, называемых нуклеопротеидами; каждая из них состоит частично из белка и частично из нуклеиновой кислоты. По своей структуре нуклеиновая кислота совершенно отлична от белка. Нуклеиновая кислота получила свое название потому, что впервые была обнаружена в ядре (ядро по-латыни nucleus). Вскоре она была обнаружена и в цитоплазме, но ее первоначальное название сохранилось. Есть два вида нуклеиновой кислоты — дезоксирибонуклеиновая кислота и рибонуклеиновая кислота. Сокращенно они именуются ДНК и РНК. ДНК присутствует только в ядре, и хромосомы по большей части состоят из нее. РНК находится главным образом в цитоплазме, хотя небольшое количество ее есть и в ядре. Исследования, проведенные в 50-х годах, показали, что не просто хромосомы, а именно ДНК (с помощью РНК) контролирует синтез специфических ферментов. Можно сказать, что через ферменты нуклеиновые кислоты руководят химической деятельностью клетки и, следовательно, контролируют все функции, которые ассоциируются у нас с функциями живого организма. Но могут ли нуклеиновые кислоты считаться «живыми» на том основании, что они контролируют функции живых организмов? Когда речь шла о клетке, мы назвали ее живой только после того, как выяснилось, что одна-единственная клетка способна выполнять функции целого организма. Точно так же мы не можем считать нуклеиновые кислоты живыми, до тех пор пока не выясним, способна ли молекула нуклеиновой кислоты выполнять функции целого организма. Давайте снова вернемся в прошлое столетие.
* * *
Еще в 1880 году французский биохимик Луи Пастер, изучая бешенство, пытался выделить возбудителя этой болезни. Дело в том, что примерно за двадцать лет до этого он выдвинул микробную теорию заразных болезней; согласно этой теории, все инфекционные заболевания вызываются микроорганизмами. Бешенство было явно инфекционной болезнью, но ее возбудителя никак не могли найти. У Пастера было два выхода. Он мог либо отказаться от своей теории, либо сделать поправку ad hoc, то есть только для данного случая. Обычно такие поправки ad hoc производят жалкое впечатление, но гений всегда с честью выходит из положения. Пастер предположил, что микроб бешенства существует, но он слишком мал, чтобы его можно было увидеть в микроскоп. И Пастер оказался прав. В то время начали — на этот раз ботаники — изучать еще одну болезнь, табачную мозаику, названную так потому, что при этой болезни листья табака как бы испещряются мозаикой. Сок из больного листа заражал здоровый лист, и, по теории Пастера, здесь тоже должен был существовать заразный микроб. Однако и его не могли найти. В 1892 году русский бактериолог Дмитрий Иосифович Ивановский пропустил некоторое количество сока зараженного листа через фарфоровый фильтр, отверстия которого были настолько малы, что через них не проходила ни одна, даже самая маленькая бактерия. Пропущенный через фильтр сок все же остался заразным. Поэтому возбудитель болезни был назван «фильтрующимся вирусом». (Вирус в переводе с латинского означает яд, а «фильтрующийся вирус» значит просто-напросто «яд, проходящий через фильтр».) Было показано, что и другие болезни, включая бешенство, вызываются фильтрующимися вирусами. Однако природа этих вирусов стала известна лишь в 1931 году, когда английский бактериолог Уильям Дж. Элфорд создал фильтр с настолько малыми отверстиями, что они задерживали вирусы. Таким образом, оказалось, что вирус, который гораздо меньше даже самых маленьких клеток, намного крупнее большинства молекул. Но можно ли назвать вирусную частицу (какова бы ни была ее природа) живым организмом? Она заражает клетки и поэтому должна как-то ощущать их присутствие и соответственно реагировать на них. Она должна питаться их содержимым, впитывать, усваивать, использовать энергию, расти и размножаться. И при всем том вирусная частица, безусловно, не состоит из клеток в том виде, в каком они были известны. Вот так в 1930 году проблема сущности жизни повисла в воздухе, хотя в 1830 году клеточная теория, казалось бы, внесла в нее полнейшую ясность. В 1935 году американскому биохимику Уэнделлу Мередиту Стэнли удалось получить вирус табачной мозаики в кристаллическом состоянии, и это казалось сильным аргументом против того, что вирус — живое существо. Даже кристаллический вирус оставался заразным; но как же живое может пережить переход в кристаллическое состояние? Кристаллы в нашем сознании всегда ассоциируются только с неживой природой. В действительности же этот аргумент не выдерживает критики. Ничто живое не кристаллизуется; но ведь, в сущности, до открытия вирусов нам были известны только сложные организмы. А вирусы оказались проще любой клеточной формы жизни, и не было никакой причины предполагать, что правило, согласно которому живое не может переходить в кристаллическое состояние, применимо также и к ним. С помощью кристаллизации вирус табачной мозаики был очищен и сконцентрирован. Теперь его можно было подвергнуть химическому анализу, и два английских биохимика, Фредерик С. Боден и Норман У. Пири, открыли, что вирус — это нуклеопротеид, на 94 процента состоящий из белка и на 6 процентов — из РНК. С тех пор был проведен анализ всех без исключения вирусов. Все они оказались нуклеопротеидами. Одни содержат ДНК, другие — РНК, некоторые — и то и другое, но без нуклеиновой кислоты вирусов нет. Оказалось, кроме того, что при вирусном заражении в клетку проникает именно вирусная нуклеиновая кислота, белок же остается снаружи. Это дает основания полагать, что белок всего лишь неживая оболочка для нуклеиновой кислоты и что как раз нуклеиновая кислота является главной в вирусе. Выделенная в чистом виде вирусная нуклеиновая кислота частично сохраняет инфекционность. Итак, это пример молекулы нуклеиновой кислоты, которая ведет себя, как живой организм. Предположим, что теперь мы скажем: «Организм может быть назван живым, если в нем имеется по крайней мере одна молекула нуклеиновой кислоты, способная к копированию». Это определение является как структурным (наличие нуклеиновой кислоты), так и функциональным (копирование). Оно охватывает не только все клеточные формы жизни, но и все вирусы, и исключает все прочее. Разумеется, могут быть и возражения. Некоторые считают, что вирус не является примером подлинно живого организма, так как не может выполнять своих жизненных функций, пока не попадет в клетку. Внутри клетки, и только внутри нее, он управляет действием ферментов и осуществляет синтез специфических ферментов и других белков. Он делает это, используя химический аппарат клетки, в том числе ее ферменты. Вне клетки вирус не выполняет ни одной из функций, которые мы связываем с жизнью. Из всего этого и следует вывод, что на самом деле именно клетка является единицей жизни. Мне этот довод не кажется таким уж неопровержимым. Разумеется, вирусу для отправления некоторых его функций требуется клетка, но и вне клетки жизнь его не совсем статична. Вирус активно проникает в клетку — самостоятельно, без помощи самой клетки. Это пример по крайней мере одного действия, характерного для жизни (что-то вроде приема пищи, только в данном случае он делает это шиворот-навыворот, то есть не отправляет ее внутрь себя, а сам забирается в пищу), которое вирус выполняет совершенно самостоятельно. А кроме того, даже если предположить, что вирус использует аппарат клетки для выполнения некоторых своих функций, то ведь и солитер пользуется нашим клеточным аппаратом для тех же целей. Вирус, как и солитер, паразит, но более законченный. Справедливо ли ставить какую-то искусственную границу и утверждать, что солитер — живой организм, а вирус — нет? Более того, все организмы (паразиты они или не паразиты) зависят от некоторых факторов внешнего мира. Мы с вами, например, прожили бы всего несколько минут, если бы нас лишили кислорода. Можно ли на этом основании считать, что мы не живые организмы, а истинно живым организмом является кислород? Почему бы тогда не отнести необходимую вирусу клетку, находящуюся вне его, к той же категории, к которой мы относим необходимый нам кислород, находящийся вне нас? Нельзя считать решающим и тот довод, что вирус использует ферменты, которые ему не принадлежат. Я объясню это, прибегнув к аналогии. Предположим, дровосек рубит дерево топором. Он не может делать это без топора, и все же мы никогда не думаем о дровосеке, как о комбинации человек — топор. Дровосек — это человек, а топор — это просто его орудие. Точно так же нуклеиновая кислота может оказаться неспособной выполнять свои функции без ферментов, но ферменты — это всего лишь ее орудие, а вот главное — все-таки она сама. Кстати, топор, которым дровосек рубит дерево, может оказаться как его собственным, так и ворованным. Это характеризует его или как честного человека, или как вора, но в любом случае он дровосек, занимающийся своим делом. Так и вирус, выполняющий свои функции, является живым организмом независимо от того, принадлежат ему ферменты или нет. Что касается моего определения живых организмов, говорящего, что они должны состоять из нуклеиновых кислот, то оно с этой точки зрения правомерно. Необходимо, конечно, помнить, что живой организм — это нечто большее, чем составляющая его нуклеиновая кислота и составляющие его клетки. Как я уже говорил в этой главе, живой организм построен из отдельных частей, которые еще и соответствующим образом организованы в единое целое. Есть некоторые биологи, которые порицают усиленный интерес к ДНК в нынешних биологических и биохимических исследованиях. Они считают, что проблемой организации пренебрегают ради изучения отдельных частей, и я должен признать, что их опасения до некоторой степени оправданны. Тем не менее я также считаю, что мы никогда не поймем организацию, пока тщательно не разберемся в тех составных частях, которые подлежат организации, и надеюсь, что, когда молекула ДНК будет разобрана по косточкам и выставлена для всеобщего обозрения, многие явления, которые сегодня загадочны (и организация в том числе), точно станут на свое место.
4. Жизнь в той ее форме, которая нам неизвестна
Нет худа без добра. И вот вам пример. Однажды мои дети упросили меня сводить их на фильм о чудовищах, который рекламировался по телевидению. «Это научная фантастика», — пояснили они. Что такое научная фантастика, дети точно не знали, а так как папа пишет что-то вроде этого, то они сочли такой аргумент весьма убедительным. Я пытался объяснить им, что, насколько японимаю, фильм этот вовсе не научно-фантастический, но, хотя логика и была на моей стороне, все решили децибелы, которыми измерялась мощь детского хора. И я встал в очередь, растянувшуюся на два квартала. Здесь были мальчишки со всей округи и приблудившийся взрослый, который неумело притворялся, будто ждет автобуса и вот-вот уедет. Погода была типичная для ранней весны в Новой Англии (сеялась мерзкая изморось, и завывал восточный ветер), а мы, как назло, продвигались вперед очень медленно. Наконец, когда мы уже были метрах в двух от кассира, а мне лично оставалось каких-нибудь два шага до воспаления легких, мой ангел-хранитель улыбнулся и пришел на выручку. Над кассой вывесили табличку: «Все билеты проданы». Я радостно воскликнул: «Ах, какое безобразие!» — и повез вопивших от возмущения ребят домой. В связи с этим случаем я подумал, как ничтожна фантазия создателей киночудовищ. Они наделяют их только двумя атрибутами — громадными размерами и способностью все разрушать и убивать. Здесь и громадные обезьяны, и громадные осьминоги (а может быть, правильнее сказать «спруты»?), и громадные орлы, и громадные пауки, и громадные амебы. Во всяком случае, именно это, как мне кажется, и нужно Голливуду. Одного этого достаточно, чтобы привлечь в кино огромные толпы наших крикливых головастиков, ибо все на свете крепкие и живые мальчишки или девчонки втайне мечтают стать большими и могучими. Но что такое просто большие размеры для настоящего aficionado?[3] Нас манит разнообразие. И, когда осторожный астроном говорит о жизни на других мирах, делая оговорку, что подразумевает под этим только «жизнь в той ее форме, которая нам известна», нас разбирает нетерпение. А как же быть с «жизнью в той ее форме, которая нам неизвестна»? Именно о ней я и хотел поговорить в этой главе. Для начала решим, что понимать под «жизнью в той ее форме, которая нам известна». Безусловно, «жизнь в той ее форме, которая нам известна» бесконечно разнообразна. Мы знаем, что живое существо в состоянии и летать, и бегать, и прыгать, и ползать, и ходить, и скакать, и плавать, и просто сидеть. Оно способно светиться и не светиться, есть и не есть. Иметь кости, панцирь, раковину или бесформенное, мягкое тело. У живого существа есть конечности, щупальца или вообще нет придатков. Оно может быть волосатым, чешуйчатым, покрытым перьями, шипами или просто голым. Если мы хотим свалить все это в кучу и назвать «жизнью в той ее форме, которая нам известна», то нам придется найти в каждом живом существе нечто общее для всех. Мы могли бы сказать, что живое существо состоит из клеток. Однако вирус — форма жизни, знакомая всякому, кто когда-либо болел гриппом, — не состоит из клеток. Значит, мы должны оставить физиологию и забраться в химию, чтобы иметь возможность сказать, что все живые организмы состоят из соответствующего набора молекул нуклеиновой кислоты, которые управляют химическими реакциями с помощью белков, действующих в водной среде. О жизни можно говорить много, почти до бесконечности, но я попытаюсь свести подробности до минимума. Для «жизни в той ее форме, которая нам известна» совершенно необходима вода: на ее фоне разыгрывается драма, в которой главные роли исполняют нуклеиновые кислоты и белки. Поэтому всякий ученый, оценивая возможность возникновения жизни на какой-нибудь планете, всегда отвергает ее, если на планете нет воды или если вода находится не в жидком состоянии, а только в виде льда или пара. (Между прочим, вы можете поинтересоваться, почему я не взял в качестве непременного условия жизни кислород. Да потому, что для жизни он не обязателен. Разумеется, кислород необходим для тех процессов, которые у большинства форм жизни связаны с выделением энергии, но это не обязательное условие. Есть ткани в нашем теле, которые могут временно жить без молекулярного кислорода, и есть микроорганизмы, способные сколько угодно жить вообще без кислорода. Жизнь на Земле, вероятнее всего, развивалась в бескислородной атмосфере, и даже сегодня существуют микроорганизмы, которые вообще не выносят кислорода. Но ни одна известная форма жизни на Земле не может существовать при полном отсутствии воды, без которой нет ни белка, ни нуклеиновой кислоты.)* * *
Для обсуждения «жизни в той ее форме, которая нам неизвестна» давайте переменим либо фон, либо исполнителей главных ролей. Начнем с фона! Вода — это изумительное вещество с целым набором необычных свойств, идеальных для существования «жизни в той ее форме, которая нам известна». Она действительно так хорошо подходит для развития жизни, что некоторые люди видят в природе воды несомненное доказательство божественного провидения. Но этот довод неверен, так как известно, что жизнь вынуждена была приспосабливаться к условиям водной среды, в которой она развивалась. Жизнь приспособлена к воде, а не вода к жизни. Можем ли мы представить себе жизнь, которая приспособилась бы к какой-либо другой жидкости, не слишком отличающейся от воды? Такой жидкостью, например, мог бы быть аммиак. Аммиак почти во всем схож с водой. Молекула воды состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода (Н2O), ее атомный вес равен 18; молекула аммиака состоит из одного атома азота и трех атомов водорода (NH3), и ее атомный вес равен 17. Жидкий аммиак имеет почти такую же теплоемкость, как и вода; его тоже можно считать универсальным растворителем, и он весьма легко теряет один ион водорода. В сущности, изучив реакции, происходящие в жидком аммиаке, химики нашли, что они аналогичны реакциям, происходящим в воде, и поэтому «химия аммиака» разработана весьма подробно. Аммиак легко представить себе фоном жизни… только не на Земле. Температура на Земле такова, что аммиак существует в природе в виде газа. При нашем атмосферном давлении он кипит при –33,4 градуса и замерзает при –77,7 градуса. А на других планетах? В 1935 году с помощью спектрального анализа было показано, что атмосфера Юпитера и в меньшей степени Сатурна насыщена аммиаком. Сразу высказали предположение, что Юпитер покрыт огромными океанами аммиака. Разумеется, температура на Юпитере, по-видимому, не поднимается выше –100 градусов, и поэтому можно предположить, что аммиак на этой планете находится в твердом состоянии, а для равновесия в атмосфере есть пары аммиака. Очень жаль. Вот если бы Юпитер был поближе к Солнцу… Но погодите! Ведь аммиак кипит при –33,4 градуса только при атмосферном давлении, существующем на Земле. Температура кипения повышается с повышением давления, и если плотность атмосферы Юпитера достаточно высока и границы ее достаточно обширны, то весьма возможно, что океаны аммиака там действительно существуют. (Есть и другие точки зрения — см. главу 16.) Однако против всей концепции жизни на фоне аммиака можно выдвинуть то возражение, что составные части живых организмов нестойки и реагируют на все быстро, чутко и по-разному. Поэтому белки, столь характерные для «жизни в той ее форме, которая нам известна», очевидно, очень нестабильны. Небольшое повышение температуры — и они расщепляются. С другой стороны, понижение температуры могло бы сделать белковые молекулы слишком стабильными. При температурах, близких к температуре замерзания воды, многие формы нетеплокровной жизни становятся поистине вялыми. Тогда каким образом поддерживалась бы жизнь в среде аммиака, при температуре на добрую сотню градусов ниже температуры замерзания воды, когда химические реакции протекают слишком медленно? На это есть два ответа. Во-первых, что значит «слишком медленно»? Почему бы не существовать формам жизни, которые по сравнению с нами живут неторопливо? Как растения. Второй, менее тривиальный ответ: белковые структуры в процессе эволюции жизни приспосабливаются к температуре среды. Если бы жизнь более миллиарда лет приспосабливалась к температурам жидкого аммиака, то создались бы, наверно, такие белковые структуры, для которых было бы невозможно даже самое кратковременное существование при температуре жидкой воды; в то же время они были бы весьма стабильны для нормального существования при температурах жидкого аммиака. Эти новые виды белковых структур при низких температурах были бы и достаточно стабильны и достаточно нестабильны, чтобы поддерживать быстро изменяющуюся «торопливую» форму жизни. И не стоит печалиться из-за того, что невозможно представить себе эти структуры. Предположим, что мы постоянно живем при температуре, когда железо раскаляется почти докрасна (естественно, что химически мы тогда коренным образом отличались бы от того, что представляем собой ныне). Могли бы мы в таких условиях знать что-либо о белках земного типа? Удалось бы нам охлаждать сосуды до 25 градусов по Цельсию, создавать белки и изучать их? Могли бы мы когда-либо мечтать об этом до тех пор, пока не были бы открыты формы жизни с такими белками?
* * *
Ну, а кроме аммиака? Самые распространенные элементы Вселенной — это водород, гелий, углерод, азот, кислород и неон. Мы вычеркиваем из списка гелий и неон, потому что они инертны и не участвуют в реакциях. Ввиду колоссального преобладания водорода во Вселенной углерод, азот и кислород образуют в основном соединения с водородом. Кислород с водородом дают воду (Н2О), а азот с водородом — аммиак (NH3). Их мы уже рассмотрели. Остается углерод, который, соединяясь с водородом, образует метан (СН4). В атмосфере Юпитера и Сатурна наряду с аммиаком есть и метан, а на Уране и Нептуне, планетах еще более отдаленных, метан преобладает, так как аммиак там выморожен. Причина в том, что метан остается жидким при температурах более низких, чем для жидкого аммиака. На Земле он кипит при –161,6 градуса и замерзает при –182,6 градуса. Может ли метан быть фоном для жизни, в которой исполнителями главных ролей были бы все те же нестабильные формы белков? Увы, здесь дело гораздо сложнее. И аммиак и вода являются полярными соединениями; это означает, что электрические заряды в их молекулах распределяются несимметрично. А вот метан — это соединение неполярное, ибо электрические заряды распределяются в его молекуле симметрично. Известно, что полярные жидкости способны растворять только полярные вещества, а неполярные жидкости растворяют только неполярные вещества. Поэтому вода (которая полярна) растворяет соль и сахар (также полярные соединения), но не растворяет жиры и масла (неполярные соединения, называемые липидами). Отсюда возникла поговорка: «Масло и вода не смешиваются никогда». С другой стороны, метан, неполярное соединение, растворяет липиды, но не растворяет ни сахара, ни соли. Белки и нуклеиновые кислоты полярны и в метане не растворяются. Оказывается, очень трудно представить себе структуру, соответствующую нашим понятиям о том, какими должны быть белок и нуклеиновая кислота, чтобы они могли растворяться в метане. Метан в качестве фона для жизни требует смены исполнителей главных ролей. Для этого нам придется решить вопрос, какие именно свойства делают белки и нуклеиновые кислоты необходимыми для жизни. Ну, во-первых, они построены из гигантских молекул, почти бесконечно разнообразных по своей структуре и потому обладающих способностью легко изменяться, — это необходимая основа для почти бесконечного разнообразия жизни. А нет ли каких-либо других веществ со столь же большими и сложными, но неполярными молекулами, тоже способными растворяться в метане? Самыми распространенными неполярными соединениями, ассоциирующимися с жизнью, являются липиды; здесь возникает вопрос: а может быть, существуют липиды с гигантскими молекулами? Это не просто предположение. Такие гигантские молекулы липидов существуют на самом деле. В частности, в ткани мозга есть гигантские липидные молекулы сложной структуры (их функции неизвестны). Очень распространены в природе так называемые липопротеиды; эти соединения состоят как из липидов, так и из белков, объединенных в единые гигантские молекулы. Пока что человек всего лишь чуть-чуть затронул поверхность химии липидов; по-видимому, возможности неполярной молекулы гораздо больше, чем мы представляли себе до последнего времени. Вспомните также, что биохимическая эволюция жизни на Земле шла в основном в полярной водной среде. Если бы жизнь развивалась в такой неполярной среде, как метан, то под действием тех же эволюционных сил молекулы липидов изменялись бы, создавались бы сложные и хрупкие нестабильные формы молекул, способные в конце концов выполнять функции, которые в нашем представлении обычно связываются с белками и нуклеиновыми кислотами. В поисках веществ, имеющих в жидком состоянии еще более низкую температуру, чем метан, мы столкнемся лишь с водородом, гелием и неоном. Если исключить гелий и неон, останется водород — самое распространенное вещество Вселенной. (Некоторые астрономы считают, что, возможно, 4/5 Юпитера — это водород, а остальное — в основном гелий… в таком случае мы можем распрощаться с океанами аммиака.) Водород становится жидким при –253 градусах и замерзает при –259 градусах; никакое давление не может поднять его температуру кипения выше –240 градусов. Это всего на 20–30 градусов выше абсолютного нуля, и поэтому более холодного фона для жизни, чем водород, представить невозможно. Водород неполярен, так что снова исполнителем главной роли был бы какой-нибудь липид.
* * *
До сих пор мы говорили о планетах более «холодных», чем Земля. А как же обстоит дело с планетами более «горячими»? Начнем с того, что с химической точки зрения одни планеты резко отличаются от других. В солнечной системе, как, очевидно, и во всей Вселенной, существует три типа планет. На холодных планетах молекулярные движения замедленны, и поэтому в процессе образования планета может удержать даже водород и гелий (самые легкие, а следовательно, и самые подвижные из всех веществ). Так как все здесь состоит из водорода и гелия, планеты имеют большие размеры. Вот известные нам примеры: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. На «горячих» планетах, где молекулярное движение ускорено, водород и гелий улетают в пространство. Более сложных атомов — этих жалких примесей в могучем океане водорода и гелия — хватает лишь на образование маленьких планет. Из основных соединений водорода остается только вода. Температура ее кипения выше, чем у остальных участников трио метан — аммиак — вода. Кроме того, вода лучше всего подходит для образования прочных соединений с силикатами, из которых состоит твердая кора планеты. Возникают такие миры, как Марс, Земля и Венера. Здесь аммиачная и метановая формы жизни невозможны. Во-первых, при температуре этих планет аммиак и метан существуют в газообразном состоянии. Во-вторых, даже если спустя много миллионов лет и наступит период полного обледенения (температура при этом упадет достаточно сильно, чтобы аммиак или метан стали жидкими), — все равно количество аммиака и метана будет недостаточным для поддержания аммиачной или метановой формы жизни на любой из этих планет. А теперь представьте себе мир еще более теплый, чем наше умеренное трио планет, мир настолько горячий, что в нем нет даже воды. Пример — Меркурий. Это твердое каменное тело; если в нем и есть водород или соединения водорода, то их очень мало. Неужели здесь вовсе немыслимы формы жизни, которые можно было бы связать с существующими химическими механизмами? Не обязательно. Есть неводородные жидкости с температурой кипения выше, чем у воды. В космическом масштабе наиболее распространенной жидкостью такого рода была бы сера — при давлении в одну атмосферу она плавится при 113 градусах и кипит при 445 градусах (именно такова температура на солнечной стороне Меркурия). Но кто же станет исполнителем главных ролей на этом фоне? Рассмотренные нами до сих пор сложные молекулярные структуры — это обыкновенные органические молекулы, то есть гигантские молекулы, состоящие главным образом из углерода и водорода, с кислородом и азотом в качестве главных (по количеству) «примесей» и серой и фосфором в качестве второстепенных (опять-таки по количеству). Если бы молекула состояла только из углерода и водорода, она была бы неполярной, — кислород и азот придают ей полярные свойства. На фоне воды (а она, как известно, состоит из кислорода и водорода) следует ожидать, что в живой ткани атомов кислорода больше, чем атомов азота. На Земле именно так и обстоит дело. На фоне аммиака, как мне кажется, атомы азота будут превалировать над атомами кислорода. Два подвида соответствующих белков и нуклеиновых кислот можно было бы отличать друг от друга, ставя в скобки О или N (чтобы указать, каких атомов больше). Липиды, играющие главные роли на фоне метана и водорода, бедны как кислородом, так и азотом; они почти целиком состоят из углерода и водорода и поэтому неполярны. Но на такой горячей планете, как Меркурий, ни белки, ни нуклеиновые кислоты, ни липиды не могли бы существовать. При температуре жидкой серы все известные нам органические соединения — кроме простейших — разрушаются. Земные белки при температуре от 60 градусов и выше разрушаются уже через несколько минут. Как же тогда стабилизировать органические соединения? Первое, что приходит в голову, — это заменить водород каким-нибудь другим элементом, так как в горячих мирах ощущается острая нехватка водорода. Давайте поговорим о водороде. Атом водорода — самый маленький из всех атомов; его можно протиснуть в молекулярную структуру там, где другие атомы не пройдут. В любую, даже самую сложную углеродную цепочку можно со всех сторон втиснуть маленькие атомы водорода — получатся углеводороды. Любой другой атом оказался бы для этого слишком большим… кроме одного. «Кроме одного»! Какого же? Оказывается, только атом фтора по размерам почти так же мал, как атом водорода, и обладает сходными химическими свойствами (по крайней мере в отношении способности участвовать в определенных комбинациях молекул). К сожалению, фтор так активен, что химикам очень трудно с ним работать, и поэтому они, естественно, больше занимались исследованиями не столь агрессивных элементов. Но во время второй мировой войны положение изменилось. Возникла необходимость работать с гексафторидом урана: это был единственный способ ввести уран в соединение, которое без особого труда превращалось в газ. Работу с ураном надо было продолжить (вы знаете почему), и волей-неволей пришлось иметь дело и с фтором. В результате была создана целая группа фторуглеродов, сложных молекул, состоящих из углерода и фтора, а не из углерода и водорода. Так была заложена основа химии фторорганических соединений. Разумеется, фторуглероды инертны в значительно большей степени, чем соответствующие углеводороды (именно это свойство оказалось особо ценным для промышленности), и, по-видимому, совершенно не обладают гибкостью и изменчивостью, необходимыми для жизни. Но ведь полученные до настоящего времени фторуглероды аналогичны полиэтилену или полистиролу. Эти последние относятся к органическим соединениям водорода, а если бы нам пришлось судить о возможностях таких соединений только по полиэтилену, то мы едва ли могли бы составить представление о белках. Насколько мне известно, до сих пор еще никто не только не имел дела с проблемой фтористых белков, но даже и не думал об этом. Но почему бы нам и не поговорить о ней? Не приходится сомневаться в том, что фтористые белки при обычной температуре должны быть гораздо менее активными, чем обычные белки. Но на такой планете, как Меркурий, где температура настолько высока, что водородные органические соединения разрушаются, фторорганические соединения могли бы стать как раз настолько активными, чтобы поддержать жизнь; возможно, именно из этих фторорганических соединений и развилась бы там жизнь.
* * *
Такая фторорганическая жизнь на фоне серы возможна, конечно, лишь при условии, что количества фтора, углерода и серы на горячих планетах достаточны для развития жизни в результате случайных реакций, протекавших на протяжении всего существования солнечной системы. Каждый из перечисленных элементов в умеренном количестве имеется в любом уголке Вселенной, так что это условие, в общем, не так уж невыполнимо. Но на всякий случай поговорим и о возможных альтернативах. Что, кроме углерода, может послужить главной составной частью гигантских молекул, на которых строится жизнь? Какие другие элементы обладают почти уникальной особенностью — способностью образовывать длинные цепочки и кольца из атомов? Ведь именно благодаря этой способности углерода возможно существование гигантских молекул, воплощающих разнообразие жизни. В этом отношении более всего сходны с углеродом бор и кремний. И в периодической таблице элементов (в том виде, в каком ее обычно изображают) бор располагается как раз слева от углерода, а кремний — точно под ним. Однако бор — это элемент довольно редкий. Из-за низкой концентрации в коре планет его участие в случайных реакциях, порождающих жизнь, было бы таким редким, что жизнь на основе бора вряд ли появилась бы даже за пять миллиардов лет. Остается только кремний, и уж здесь мы по крайней мере можем чувствовать себя уверенно. На Меркурии или на любой другой «горячей» планете может недоставать углерода, водорода или фтора, но, по-видимому, там имеются огромные количества кремния и кислорода: известно ведь, что это основные компоненты горных пород. Если «горячая» планета начнет сперва утрачивать водород и другие легкие элементы, а затем также кремний и кислород, то она перестанет существовать как планета и превратится просто-напросто в рой железо-никелевых метеоритов. Кремний, как и углерод, способен образовывать длинные цепи. В результате присоединения атомов водорода к такой цепи образуются силаны. К сожалению, силаны менее стабильны, чем соответствующие углеводороды, и при высоких температурах уменьшается вероятность существования силанов достаточно сложного строения, которые могли бы обеспечить возникновение живого. Но факт остается фактом: кремний образует в горных породах сложные цепочки, и эти цепочки не разрушаются при высокой температуре, даже если горные породы раскалить добела. Однако эти цепочки состоят не только из атомов кремния (Si — Si — Si — Si — Si), а из атомов кремния вперемежку с атомами кислорода (Si — О — Si — О — Si). Может случиться так, что каждый атом кремния прикарманит четыре атома кислорода. Тогда к атому кремния сверху и снизу присоединятся атомы кислорода, соединенные в свою очередь с другими атомами кремния, и так далее. В результате получится чрезвычайно стабильная пространственная решетка. Раз уж мы начали говорить о кремнийкислородной цепочке, то посмотрим, а что же произойдет, если атомы кремния с их способностью подцеплять два дополнительных атома вместо атомов кислорода заполучат атомы углерода — в сочетании, конечно, с атомами водорода? Такие гибридные молекулы, имеющие как кремниевую, так и углеродную основу, называются силиконами. Эти соединения тоже были созданы во время второй мировой войны и с тех пор высоко ценятся за высокую стабильность и инертность. Возможно, что при более высокой температуре какие-то очень сложные силиконы могли бы проявить активность и гибкость, необходимые для жизни. А может быть, существуют и такие силиконы, которые вместо атомов водорода содержат атомы фтора? Подобные силиконы было бы логично назвать фторсиликонами, но, насколько мне известно, они до сих пор не изучались (но я готов тут же отказаться от своих слов, если кто-нибудь меня поправит)[4]. А не возможно ли существование таких систем, в которых простые молекулы силиконов или фторсиликонов (те, что могут оставаться жидкостями при высоких температурах) служили бы фоном для жизни, а сложные молекулы этого же типа — главными действующими лицами?
* * *
Вот мой список химий жизни, охватывающий все температуры, от нескольких сот градусов тепла до абсолютного нуля: 1) фторсиликоны; фон — фторсиликоны; 2) фторуглероды; фон — сера; 3) нуклеиновые кислоты и белки (О); фон — вода; 4) нуклеиновые кислоты и белки (N); фон — аммиак; 5) липиды; фон — метан; 6) липиды; фон — водород.
В этой полудюжине форм жизни лишь третья есть «жизнь в той ее форме, которая нам известна». Чтобы вы ее случайно не прозевали, я выделил ее курсивом. Это, конечно, не исчерпывает возможностей, подсказываемых богатым воображением; в книгах научных фантастов можно встретиться и с металлическими существами, живущими на ядерной энергии, и с парообразными существами, живущими в газах, и с энергосуществами, живущими в звездах, и с существами — сгустками мыслей, живущими в космосе, и с существами, не поддающимися никакому описанию, живущими в гиперпространстве, и т. д. Однако в мой список входят, по-видимому, наиболее вероятные формы жизни как явления чисто химического, жизни, основанной на обычных атомах, встречающихся во Вселенной. Что ж, когда мы выберемся в космос, то, наверное, обнаружим значительно больше форм жизни, чем ожидаем. Я предвижу встречу не только с нашими внеземными братьями, живущими в мире, где господствует «жизнь в той ее форме, которая нам известна». Я надеюсь, что нам доведется повидаться и с двоюродными братьями, ведущими «жизнь в той ее форме, которая нам неизвестна». По правде говоря, мне кажется, что следует отдать предпочтение нашим двоюродным братьям. Конкуренция с родными братьями может быть острой, даже чересчур острой, так как вполне вероятно, что мы бросимся отнимать друг у друга родные планеты, а вот с двоюродными братьями, живущими на «горячих» и «холодных» мирах, интересы наши настолько «совпадают», что останется только жить в мире и дружбе. Каждая звездная система вполне могла бы иметь набор всех форм жизни, по одной на каждой из своих планет, и каждая планета при этом была бы бесполезна и нежеланна для прочих разновидностей. Как легко было бы тогда соблюдать десятую заповедь!
Часть II Химия
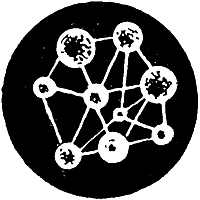
5. Совершенный элемент
На заре научной фантастики, когда писатели относились к науке с ребяческой наивностью, они разрешали себе гораздо большую свободу действий — включали в повествование «новый элемент», который обеспечивал успех произведения или по крайней мере спасал его от провала. При помощи «новых элементов» преодолевалось тяготение, атомы увеличивались до видимых размеров, осуществлялись любые превращения материи. «Новые элементы» стали фетишизировать главным образом после того, как в 1898 году супруги Кюри открыли в урановой руде необычный элемент — радий. Но в том же десятилетии при более драматических обстоятельствах в той же урановой руде был найден еще один элемент. Хотя этот элемент и не произвел такого фурора, как радий, он оказался, как впоследствии выяснилось, самым необычным и обладал такими удивительными свойствами, о которых ни один научный фантаст не смел и мечтать. В последние годы значение этого элемента для человека стало огромным. Размышляя об этом, я пришел к весьма занятным выводам, о которых вы узнаете в конце главы.* * *
В 1868 году в Индии наблюдалось полное солнечное затмение, и жаждавшие открытий астрономы собрались, чтобы опробовать новый прибор. Это был спектроскоп, созданный в конце 50-х годов прошлого века немецкими учеными Густавом Робертом Кирхгофом и Робертом Вильгельмом Бунзеном. Принцип действия спектроскопа заключался в том, что при пропускании сквозь стеклянную призму света, который излучают раскаленные пары элементов, образуется спектр, по частям которого можно было определить длину световой волны. Каждый элемент излучает свет с характерным для него набором длин волн, и таким образом у всех элементов удалось «взять отпечатки пальцев». Значение нового, аналитического метода исследования было наглядно продемонстрировано в 1860 году, когда Кирхгоф и Бунзен, раскалив образцы некоторых руд, получили спектральные линии, не совпадавшие с уже известными, и в результате открыли редкий элемент — цезий. На следующий год они доказали, что их успех не был случайным, открыв еще один элемент — рубидий. Убедившись в огромных возможностях нового прибора, астрономы с нетерпением ждали случая опробовать его для исследования атмосферы Солнца (тайну происхождения которой можно было раскрыть только во время затмений), чтобы определить ее химический состав сквозь всю космическую бездну. Почти сразу же французский астроном Пьер Жюль Жансен обнаружил в спектре желтую линию, которую он не мог отождествить с известными ему спектральными линиями. Английский астроном Норман Локьер, особенно интересовавшийся спектроскопией, сделал вывод, что желтая линия принадлежит новому элементу. По имени греческого бога солнца Гелиоса Локьер назвал этот элемент гелием. Итак, события развертывались весьма благоприятно, если не считать того, что очень немногие из земных химиков решились поверить в неземной элемент, открытый при помощи какой-то обыкновенной полоски света. К предположению Локьера одни отнеслись безразлично, другие насмешливо. Конечно, сейчас такой консерватизм кажется позорным, хотя, в сущности, именно в наши дни мы можем найти оправдание этому скептицизму: ведь не обязательно каждая новая линия спектра принадлежит новому элементу. В конце концов существование гелия было доказано, и, подстегнутые этим успехом, астрономы стали находить в космосе все «новые элементы». Появление таинственных линий излучения в спектрах некоторых туманностей было приписано элементу, названному небулием (от латинского nebula — туман). Неизвестные спектральные линии в солнечной короне приписывались «коронию», а подобные же линии в северном сиянии — «геокоронию». Однако все эти «открытия» оказались заблуждением. «Новые» линии были обусловлены излучением старых, хорошо известных элементов, находившихся в необычных условиях, которые спустя много лет удалось воспроизвести в лабораториях. «Небулий» и «геокороний» оказались просто высокоионизированными смесями кислорода и азота. Линии «корония» свойственны высокоионизированным металлам (например, кальцию). Как видите, одно лишь существование линии «гелия» ни в коей мере не доказывало существования нового элемента. Теперь, для того чтобы не нарушать логики в ходе наших рассуждений, придется углубиться в историю еще на один век и встретиться с человеком, который опередил свое время даже больше, чем Локьер.
* * *
В 1785 году английский физик Генри Кавендиш исследовал воздух, так как именно в то время было сделано открытие, что воздух состоит из двух газов — кислорода и азота. Азот — инертный газ, то есть он не соединяется с другими веществами так активно, как кислород. В действительности азот «особо отличался» тем, что в нем обнаружили ряд отрицательных свойств. Оказалось, что он без цвета, запаха и вкуса, не растворяется и не горит. Установили также, что хотя сам по себе он не ядовит, но жизни не поддерживает. Кавендиш открыл, что, пропуская через воздух электрические разряды, можно заставить азот соединяться с кислородом. Полученное соединение — окись азота — ему удалось отделить при помощи соответствующих химикалий. Добавляя к воздуху кислород, ученый удалял из него все большее и большее количество азота, пока наконец у него не остался крохотный пузырек газа, который составлял всего сотую часть объема воздуха, первоначально взятого для опыта. С этим пузырьком он ничего не мог поделать и заявил, что, по его мнению, в атмосфере присутствует небольшое количество неизвестного газа, еще более инертного, чем азот. Это был четкий эксперимент, проделанный выдающимся ученым, который сделал, как мы теперь знаем, совершенно правильный логический вывод. Тем не менее работу Кавендиша игнорировали целое столетие. В 1882 году английский физик Джон Уильям Стретт (более известный под именем Рэлея) измерял плотность газообразных водорода и кислорода, с тем чтобы уточнить их атомные веса; заодно он решил исследовать и азот. Каждый из этих элементов был получен различными способами, и всякий раз плотности водорода и кислорода оставались одними и теми же. Совсем иначе обстояло дело с азотом. Рэлей получил азот из аммиака и обнаружил, что удельный вес его равен 1,251 грамма на литр. Затем он выделил азот из воздуха, удалив из него кислород, двуокись углерода и водяные пары; этот азот имел удельный вес 1,257 грамма на литр. Несмотря на все попытки, Рэлею не удавалось устранить выявившееся расхождение. Отчаявшись найти решение, он опубликовал результаты своих опытов в научном журнале и попросил читателей высказаться по этому поводу, однако никто не откликнулся. Сам Рэлей выдвинул несколько возможных объяснений: атмосферный азот мог содержать примеси более тяжелого кислорода или трехатомные молекулы N3, то есть что-то вроде азотного аналога озона; азот из аммиака мог быть загрязнен более легким водородом или атомарным азотом. Он проверил свои предположения, но все они не подтвердились. Лет десять спустя шотландский химик Рамзай начал работать в лаборатории Рэлея и, взявшись за раскрытие тайны азота, вернулся к опытам Кавендиша. Он предположил, что в атмосфере имеется небольшое количество газа, который остается с азотом, после того как все прочие компоненты удалены, и, поскольку этот газ, очевидно, тяжелее атмосферного азота, он-то и вызывает «незаконное» повышение удельного веса. В 1894 году Рамзай повторил опыт Кавендиша, применив более совершенную методику. Он пропускал атмосферный азот над раскаленным магнием. Азот оказался не настолько инертным, чтобы не вступить при таких условиях в реакцию с металлом. В результате образовался нитрид магния. Однако в реакцию вступал не весь азот. Как и у Кавендиша, у Рамзая тоже оставался загадочный газ, который оказался до такой степени инертным, что даже пышущий жаром магний не смог на него воздействовать. Рамзай измерил удельный вес этого газа, и он оказался заметно выше, чем у азота. Какой же следовало сделать вывод: открыт ли новый элемент, или это просто более «тяжелая» разновидность азота — N3? Но, к счастью, в это время появился спектроскоп. Неизвестный газ подвергли исследованию и, обнаружив в его спектре совершенно новые линии, сразу сделали вывод, что это новый элемент. Его назвали аргоном, что в переводе с греческого значит ленивый, ибо он не вступал ни в какие химические соединения. В конце концов объяснение чрезвычайной инертности аргона было найдено. Каждый элемент состоит из атомов, имеющих определенное число электронов, находящихся на различных орбитах (подобно отдельным слоям в луковице). Чтобы максимально упростить объяснение, скажу только одно: атом наиболее стоек, когда на самой удаленной от ядра орбите-оболочке находится восемь электронов. Сущность химических реакций заключается в том, что атом либо освобождается от нескольких электронов, либо набирает их, добиваясь, таким образом, желанного числа восемь. А что произойдет, если у элемента в наружной «оболочке» с самого начала имеется восемь электронов? Что ж, ему повезло, так как тогда вообще нет надобности вступать в реакцию, и элемент остается инертным. Примером тому служит аргон. У него три электронные оболочки, и в третьей, самой удаленной от центра, — восемь электронов. После открытия аргона были найдены и другие инертные газы: неон — с двумя электронными оболочками; криптон — с четырьмя оболочками; ксенон — с пятью; радон — с шестью. И в каждом случае на самой удаленной оболочке находилось по восемь электронов. (Криптон, ксенон и радон, как обнаружилось в 1962 году, вступают в некоторые химические реакции, но об этом я расскажу в следующей своей книге.) Однако я упомянул только пять инертных газов; в настоящее время нам известно шесть. А где же шестой? Ах, да шестой — это гелий. Так давайте же вернемся к рассказу о гелии.
* * *
Как раз перед открытием инертных газов, а точнее, в 1890 году, американский химик Уильям Фрэнсис Гиллебранд, исследуя минерал, содержавший уран, заметил, что из него выделяется небольшое количество инертного газа. Газ был без цвета, вкуса и запаха, не растворялся и не горел, так что, по мнению Гиллебранда, он не мог быть ничем иным, кроме азота. Когда Рамзаю — несколько лет спустя — попала в руки эта работа, он не удовлетворился таким объяснением. Оно основывалось только на том, что газ не имел цвета и запаха, не растворялся и не горел. Слабые доводы. Рамзай достал другой урановый минерал, собрал инертный газ и изучил его спектр. Спектральные линии этого газа были совершенно непохожи на линии азота. Они оказались точно такими же, как и те, о которых давным-давно сообщали Жансен и Локьер, обнаружившие их в атмосфере Солнца. Итак, в 1895 году, через 27 лет после того, как Локьер впервые высказал свое предположение, солнечный элемент был найден на Земле. Гелий действительно существовал и был элементом. К счастью, и Жансен и Локьер дожили до признания их открытия (Жансен умер в 1907 году, Локьер — в 1920-м). Гелий сразу же привлек к себе внимание. Он был самым легким из инертных газов, легче всех известных веществ, кроме водорода. Атом гелия имеет всего одну электронную оболочку; как известно, в этой внутренней оболочке может быть всего два электрона. Эти два электрона у гелия есть, и потому он оказался не просто инертным, а самым инертным из всех инертных газов, а следовательно, из всех известных веществ. Крайняя инертность гелия была обнаружена в точке его сжижения, то есть температуре, при которой он может быть превращен в жидкость.
* * *
Когда близлежащие атомы (или молекулы) вещества сильно притягиваются друг к другу, образуется цельный кусок и мы имеем твердое тело. При нагревании оно может превратиться в жидкость или даже в газ. Переход в эти состояния совершается при таких температурах, когда тепловая энергия преодолевает силы притяжения между атомами или молекулами. Чем слабее силы притяжения, тем ниже температура, при которой происходит испарение вещества. Если взаимодействие между атомами или молекулами достаточно слабое, то для испарения вещества требуется так мало тепла, что оно остается газообразным и при обычных условиях, а иногда даже при очень низких температурах. Силы притяжения особенно слабы в тех случаях, когда электроны на внешней оболочке образуют устойчивую восьмиэлектронную конфигурацию. Молекула азота состоит из двух атомов азота, которые располагаются так, что каждый обладает частью из восьми электронов внешней оболочки. Сказанное верно и для других простых молекул, например хлора, кислорода, окиси углерода, водорода и прочих. Поэтому все эти газы сжижаются только при очень низких температурах. Мало-помалу химики усовершенствовали способы достижения низких температур и научились сжижать один газ за другим. Нижеприведенная таблица иллюстрирует, как постепенно удавалось добиться все более низких температур. Точки сжижения даны в градусах по Кельвину, иначе говоря, они выражены числом градусов по Цельсию с началом отсчета от абсолютного нуля.

И вот в течение 70–80-х годов прошлого столетия, когда велась напряженная работа по получению низких температур, стало совершенно очевидно, что водород окажется самым твердым орешком. Вообще, температура сжижения падает вместе с плотностью, а водород в то время считался наименее плотным из всех известных газов и должен был иметь самую низкую температуру сжижения. Поэтому, когда впоследствии все же удалось получить жидкий водород, казалось бы, пала последняя крепость. Однако всего за несколько лет до «покорения» водорода это достижение потеряло свое значение, потому что уже были открыты инертные газы. Атомы инертных газов, электронные оболочки которых укомплектованы, испытывают столь слабое притяжение друг к другу, что их температура сжижения значительно ниже, чем у других газов такой же плотности. Это видно из следующей таблицы, в которой даны все инертные газы, кроме гелия:

Итак, радон, ксенон и криптон, которые плотнее хлора, сжижаются при более низкой температуре. По сравнению с этиленом аргон более плотный газ, а сжижается он при значительно более низкой температуре, но неон, который в десять раз плотнее водорода, сжижается почти при такой же низкой температуре, как и этот самый легкий из газов. Последний инертный газ, гелий, который только в два раза плотнее водорода, должен по логике вещей сжижаться гораздо труднее. Так оказалось и на самом деле. При температуре жидкого водорода гелий упорно остается в газообразном состоянии. Даже когда температура падает до точки затвердевания водорода (13° по Кельвину), гелий остается газом. Гелий был сжижен лишь в 1908 году. Это удалось сделать голландскому физику Хейке Каммерлинг-Оннесу. Гелий переходит в жидкое состояние при 4,2° по Кельвину. Каммерлинг-Оннесу удалось охладить гелий до 1° по Кельвину путем испарения жидкого гелия в условиях полной тепловой изоляции. Но даже при этой температуре не было никаких признаков, что гелий переходит в твердое состояние. И действительно, теперь установлено, что при обычных давлениях гелий не переходит в твердое состояние даже при абсолютном нуле, когда затвердевают все известные вещества. Гелий (странный элемент!) остается жидким. И это вполне объяснимо. Хотя обычно утверждают, что при абсолютном нуле прекращается всякое движение атомов и молекул, квантовая механика показывает, что очень небольшое остаточное движение все-таки есть. Этой малой энергии достаточно, чтобы гелий оставался в жидком состоянии. Но при температуре 1° по Кельвину и давлении около 25 атмосфер гелий становится твердым.
* * *
Жидкий гелий может проявлять и более любопытные свойства, чем просто устойчивость к низкой температуре; при охлаждении до температуры ниже 2,2° по Кельвину свойства его неожиданно меняются. Во-первых, гелий внезапно становится почти отличным проводником тепла. В любой обычной жидкости в пределах несколькихградусов от температуры кипения всегда существуют более горячие участки, где тепло аккумулируется быстрее, чем отводится. Появляются пузырьки пара, и начинается знакомое нам «волнение», которое мы связываем с кипением. Гелий, имеющий температуру выше 2,2° по Кельвину (гелий-I), ведет себя точно так же. Однако гелий, охлажденный до температуры ниже 2,2° по Кельвину (гелий-II), испаряется без каких-либо волнений; слои атомов срываются прямо с поверхности. Теплопроводность этой жидкости (гелий-II) настолько высока, что ни одна ее часть не может быть значительно теплее другой и пузырьки не появляются вовсе. Еще одна особенность: гелий-II практически не вязок. Он течет лучше, чем газ, и проходит сквозь такие отверстия, через которые газ не может проникнуть. Если его заключить в открытый сосуд, то он сперва покроет тонким слоем его внутренние стенки, как бы поползет по ним вверх, затем перельется через край и стечет по внешней стенке с такой скоростью, как будто он льется через отверстие в дне этого сосуда. Это явление называется сверхтекучестью. При охлаждении до температуры жидкого гелия необычные свойства проявляются и у других элементов. В 1911 году Каммерлинг-Оннес определял электрическое сопротивление ртути при температуре жидкого гелия. Сопротивление падало вместе с температурой, и Каммерлинг-Оннес, хотя и предполагал, что оно упадет до невиданно низкого уровня, все же не ожидал его полного исчезновения. Однако это произошло. При температуре 4,12° по Кельвину электрическое сопротивление у ртути полностью исчезло. Это явление называется сверхпроводимостью. Не только ртуть, но и другие металлы можно сделать сверхпроводниками. Есть несколько веществ, которые могут стать сверхпроводниками при температуре жидкого водорода. Некоторые сплавы ниобия становятся сверхпроводимыми уже при температуре 18° по Кельвину. Сверхпроводимость влечет за собой появление нового качества, связанного с магнитным полем. Некоторые вещества диамагнитны, то есть они, по-видимому, отталкивают магнитные силовые линии. Через такие вещества проходит меньше силовых линий, чем через вакуум равного объема. А вещества, обладающие сверхпроводимостью, к тому же и совершенно диамагнитны; силовые линии через них вообще не проходят. Однако, если создать достаточно сильное магнитное поле, некоторые силовые линии в конце концов смогут проникнуть в диамагнитное вещество, и тогда стоит нарушить одно необычное свойство, как все прочие идеальные свойства, включая сверхпроводимость, также меняются. (Странно говорить о совершенстве в природе. Обычно совершенство — это мечта теоретика: идеальный газ, идеальный вакуум и так далее. И только при температуре жидкого гелия в реальном мире, по-видимому, появляется подлинное совершенство.)
* * *
На явлении сверхпроводимости основано изобретение маленького устройства, которое действует как выключатель. В простейшем виде оно состоит из тонкой танталовой проволочки, намотанной на проволоку из ниобия. Если опустить это устройство в жидкий гелий, то ниобиевая проволока приобретает свойство сверхпроводимости, что позволяет пропускать по ней очень слабый электрический ток. Однако это свойство сохраняется только до тех пор, пока тока нет в танталовой обмотке. В противном случае создается магнитное поле, которое нарушает сверхпроводимость, и ток перестает течь по ниобиевой проволоке. Если такой «криотрон» соответствующим образом отрегулировать, то его можно применять вместо электронных ламп или транзисторов. Крошечные приборы, состоящие из хитро сплетенных проволочек, смогут заменить большое число транзисторов и громоздких электронных ламп. Сложнейшая вычислительная машина будущего, вполне вероятно, будет величиной с письменный стол или даже меньше, если только ее полностью «криотронизируют». Единственный недостаток такой машины заключается в том, что она может работать, только если ее целиком погрузить в жидкий гелий. Жидкий гелий будет при этом непрерывно испаряться, и каждая вычислительная машина станет в этих условиях причиной постоянного уменьшения запасов земного гелия. Естественно, сразу возникает вопрос: а хватит ли на Земле гелия, чтобы поддерживать работу таких вычислительных машин, если они будут широко использоваться человечеством? Главным и, в сущности, единственным источником не только гелия, но всех инертных газов является земная атмосфера, которая содержит на каждый миллион граммов:
аргона … 12 800 граммов неона … 12,5 грамма криптона … 2,9 грамма гелия … 0,72 грамма ксенона … 0,36 грамма радона … следыЭто означает, что всего в атмосфере имеется 4 500 000 000 тонн гелия. На первый взгляд эта цифра может показаться весьма внушительной, пока мы не вспомним, как сильно разбавлен этот гелий другими компонентами воздуха — кислородом и азотом. Гелий можно получать из жидкого воздуха, но ценой страшно больших затрат. (Позвольте мне здесь перебить ход своих рассуждений и сообщить вам, что атмосферный гелий почти полностью состоит из единственного изотопа — гелия-4; правда, обнаруживают и следы стабильного изотопа, гелия-3, который образуется за счет расщепления радиоактивного водорода-3, в свою очередь возникающего в результате бомбардировки атмосферы космическими частицами. При тщательном изучении чистого гелия-3 установлено, что он превращается в жидкость только при 3,2° по Кельвину, то есть на целый градус ниже, чем обычный гелий. Однако гелий-3 не является эквивалентом сверхтекучего гелия-II. На миллион атомов атмосферного гелия приходится только один атом гелия-3, и, следовательно, его запас в атмосфере исчисляется всего в 45 000 тонн. Гелий-3, по-видимому, самый редкий из всех стабильных изотопов, имеющихся на Земле.) Гелий находят не только в атмосфере, но и в почве. Уран и торий испускают альфа-частицы, которые являются ядрами атомов гелия. Следовательно, в течение миллиардов лет происходил процесс постепенного накапливания гелия в земной коре (вспомните, что впервые он был найден на Земле в урановой руде, а не в атмосфере). Считается, что по весу в земной коре гелия содержится примерно 0,003 миллиграмма на килограмм. Это означает, что запас гелия в земной коре примерно в 20 миллионов раз превышает запас гелия в атмосфере, но тем не менее «разбавлен» он в земной коре еще больше, чем в атмосфере. Однако гелий — это газ. Он собирается в трещинах и пустотах, и при благоприятных условиях его можно извлекать из земли. В частности, в США скважины, из которых добывают природный газ, часто дают до одного процента гелия, а иногда и до 8 и даже до 10 процентов. Но запасы природного газа довольно ограниченны, к тому же мы очень быстро исчерпываем их. Когда все запасы газа иссякнут, естественно, исчезнет и этот источник гелия, и нам останется только гелий, находящийся в атмосфере, и гелий, сильно рассеянный в земной коре. Теперь представим себе общество будущего, оснащенное вычислительными машинами и расходующее последние несколько миллионов кубических метров гелия, который еще можно легко добыть. А что дальше? Наскрести ничтожнейшие его количества из воздуха и из земли? Иметь дело с жидким водородом? Отказаться от «криотронизированных» вычислительных машин и попытаться вернуться к малоэффективным гигантским электронным машинам прошлого? Допустить гибель культуры, которая будет полностью зависеть от кибернетических машин?
* * *
Я много думал об этом и вот к каким выводам пришел. Общество, оказавшееся в таком угрожающем положении, должно развивать межпланетные путешествия (а почему бы и нет?), с тем чтобы людям не пришлось искать гелий только на Земле. Конечно, самый значительный источник гелия в солнечной системе — это само Солнце, но в предвидимом будущем я не нахожу никакого способа, который дал бы нам возможность добыть солнечный гелий. Другой богатейший источник гелия — Юпитер, с атмосферой глубиной, по-видимому, в тысячи километров. Она обладает исключительно высокой плотностью и, очевидно, на 1/3 состоит из гелия. Недавно были высказаны предположения, что атмосфера Юпитера почти целиком состоит из гелия. Как «выдоить» из Юпитера гелий, представить себе трудно, но можно. Предположим, человечество сможет создать базу на Юпитере V, самом близком к Юпитеру спутнике. База будет расположена в каких-то 110 000 километров от видимой поверхности Юпитера (то есть от верхних слоев атмосферы). Значительное количество гелия в смеси с другими газами должно находиться даже в еще более высоких слоях атмосферы Юпитера (а следовательно, и ближе к Юпитеру V). Теперь представьте себе армады управляемых с базы космических кораблей, которые устремляются к поверхности Юпитера и возвращаются с запасом сжатого газа. Такой газ легко разделить на составные части; гелий гораздо легче сжижать на Юпитере V, чем на Земле, так как температура там значительно ниже. Возможно, удастся собрать, сжижить и запасти несчетное число тонн гелия. По логике вещей мы должны были бы воздержаться от отправки этого бесценного запаса куда бы то ни было, даже на Землю. Зачем тратить энергию и нести колоссальные потери, которые неизбежны при такой транспортировке? Почему бы вместо этого не построить вычислительные машины прямо на Юпитере V? Вот об этом-то я и обмолвился в начале главы. Думаю, что именно Юпитер V будет нервным центром солнечной системы. Я вижу, как этот маленький мир, диаметром 100 километров, обращается вокруг переполненного гелием Юпитера, извлекает из него столь необходимый для человечества газ и как постепенно на этом мире создается единый комплекс кибернетических машин, погруженных в самую необычную жидкость, которая когда-либо существовала. Однако, по-видимому, мне повезет меньше, чем Жансену и Локьеру. Можете назвать меня пессимистом, но мне почему-то кажется, что я не увижу всего этого собственными глазами.
6. Как химики и физики нашли общий язык
Какова форма мышления людей, живущих в определенную эпоху, таковы и научные представления, присущие этой эпохе. Например, еще в IV веке до нашей эры два греческих философа, Левкипп из Милета и Демокрит из Абдеры, разработали атомную теорию. Все предметы, говорили они, состоят из атомов. В те времена считалось, что различных видов атомов столько, сколько существует во Вселенной веществ, или «элементов», коренным образом отличающихся друг от друга. (Греки полагали, что таковых всего четыре: огонь, воздух, вода и земля.) Многие известные нам вещества получены в результате комбинирования элементов в различных пропорциях. В процессе разложения веществ на компоненты и образования новых сочетаний в новых пропорциях одно вещество может превратиться в другое. Все это прекрасно, но возник вопрос, по какому признаку элементы отличались друг от друга. Как установить разницу между атомами различных элементов? Поскольку атомы слишком малы, чтобы их можно было увидеть или обнаружить каким-либо способом, греческие атомисты могли выбирать для атомов любой отличительный признак, какой им только заблагорассудится. Можно было предположить, что различные атомы имеют разный цвет, несходные отражательные свойства, всевозможные ярлычки на классическом греческом языке или что атомы различаются и по твердости, и по запаху, и по температуре. Все эти предположения подходили для создания связанной теории построения Вселенной, которую можно было преподнести с подобающим достоинством (чего-чего, а достоинства у древних греков было хоть отбавляй!). И вот тут-то и выходит на арену форма мышления. Греки специализировались на геометрии. Для них почти вся математика (хотя и не совсем вся) была геометрией, которая по возможности проникала и в другие области знания. Раз уж встал вопрос об отличительных чертах атомов, то ответ, конечно, зиждется на геометрии. Атомы (решили греческие атомисты) отличаются друг от друга по форме. Атомы огня, очевидно, сильно иззубрены, и поэтому огонь причиняет боль. Атомы воды, наверно, гладкие и круглые, и поэтому вода так легко течет. Атомы земли, по-видимому, имеют форму кубиков, и поэтому земля такая крепкая и устойчивая. И так далее. Все это звучало весьма правдоподобно и разумно, но так как никто никогда атомов не видел, то теория эта оставалась всего лишь схоластическим упражнением; она казалась не более правомерной, чем умствования греческих философов, не принадлежавших к школе атомистов. Но их рассуждения были более убедительны, и атомисты остались в меньшинстве (в значительном меньшинстве) на добрых две тысячи лет.* * *
Атомистическое учение было пересмотрено в первом десятилетии XIX века английским химиком Джоном Дальтоном. Он также считал, что все состоит из атомов, которые комбинируются и переходят из одного сочетания в другое в различных пропорциях, образуя все известные нам вещества. В эпоху Дальтона понимание природы элементов приблизилось к современному, и он уже мог говорить об атомах углерода, водорода или кислорода, а не об атомах огня и воды. Далее, в течение XVII и XVIII столетий в области химии было сделано множество открытий, для объяснения которых атомистическая теория оказалась крайне плодотворной. В результате предположение о существовании атомов (по-прежнему невидимых) оказалось гипотезой гораздо более полезной, чем во времена древних греков. Но теперь Дальтон столкнулся с той же проблемой, что и греки. Как можно различать невидимые атомы? Что ж, наука в канун XIX века уже перестала быть геометрической и стала просто метрической. Теперь она основывалась на измерении трех основных свойств: массы (обычно неправильно называемой весом), расстояния и времени. Этих трех измерений было достаточно, чтобы управляться с механистической Вселенной Ньютона. Поэтому Дальтон, сообразуясь с формой мышления своих современников, игнорировал структуру и форму атомов. Все атомы для него были сходными маленькими шариками, не имеющими внутренней структуры. Он механически перенес понятие о массе, расстоянии и времени в свою теорию об атомах. Но из всех понятий он оперировал только понятием о массе. По Дальтону, все атомы одного элемента имеют одинаковую массу, которая, однако, отличается от массы атомов любого другого элемента. Дальтон пошел в своих исследованиях дальше и (по-видимому, это самая большая его заслуга) попытался определить, каковы же эти различные массы. Тогда речь вовсе не шла об определении массы атома в граммах. Сделать это оказалось возможным лишь много лет спустя. Совсем иное дело — определять массы относительно друг друга. Например, атомы водорода и кислорода соединяются и образуют молекулу воды. («Молекула» — название, применимое к любому достаточно стойкому сочетанию атомов.) Можно установить путем химического анализа, что при образовании воды каждый грамм водорода соединяется с 8 граммами кислорода. Аналогично можно доказать, что при образовании метана 1 грамм водорода всегда соединяется точно с 3 граммами углерода. И, конечно, когда 3 грамма углерода соединяются точно с 8 граммами кислорода, то образуется окись углерода. Таким образом мы определяем эквивалентные веса, то есть относительный вес различных элементов, остающийся неизменным при образовании соединений. (Соединение — это вещество, молекулы которого состоят из нескольких видов атомов.) Если произвольно установить, что эквивалентный вес водорода равен 1, то эквивалентный вес углерода будет равен 3, а кислорода — 8. А какое это имеет отношение к атомам? Дальтон начал с простого предположения (это не мешало бы делать всем), а затем решил, что один атом водорода, соединяясь с одним атомом кислорода, образует воду. Если бы это было так, то атомы кислорода были бы, по-видимому, в 8 раз тяжелее атомов водорода; лучшего объяснения, почему 1 грамм водорода соединяется с 8 граммами кислорода, не найдешь. Как видите, число атомов обоих элементов одинаковое, но атомы кислорода тяжелее атомов водорода в 8 раз. Следовательно, если произвольно установить, что атомный вес водорода равен 1, то атомный вес кислорода будет равен 8. По той же причине атомный вес углерода будет равен 3, если молекула метана состоит из одного атома углерода, соединяющегося с одним атомом водорода. И сразу же неизбежно возникает вопрос: насколько правомерно предположение Дальтона? Непременно ли один атом соединяется только с одним атомом? Нет, не обязательно; 3 грамма углерода, соединяясь с 8 граммами кислорода, образуют окись углерода, а 3 грамма углерода, соединяясь с 16 граммами кислорода, образуют двуокись углерода. Тогда можно предположить, что молекула окиси углерода состоит из одного атома углерода и одного атома кислорода, и, обозначив углерод буквой С, а кислород буквой О, написать формулу молекулы окиси углерода — СО. Но если углерод соединяется с двойным количеством кислорода и образует молекулу вещества, обладающего другими свойствами, то на основе учения об атоме можно предположить, что каждый атом углерода соединяется с двумя атомами кислорода и образует двуокись углерода. Следовательно, формулу двуокиси углерода можно написать как СO2. С другой стороны, если вы считаете, что молекула двуокиси углерода — это СО, то молекула окиси углерода будет С2О. Первое предположение, о котором говорилось выше, оказывается верным, однако в обоих случаях мы имеем дело с молекулой, в которой атом одного элемента соединяется с двумя атомами другого. Если признать, что молекула может содержать несколько атомов определенного вида, то придется пересмотреть нашу структуру молекулы воды. Должна ли она состоять из одного атома водорода и одного атома кислорода согласно формуле НО? А что, если формула будет другой? Например, НO2, или НO4, или даже Н17O47? К счастью, имеется способ разрешить наши сомнения. В 1800 году два английских химика, Уильям Никольсон и Энтони Карлайл, доказали, что, пропустив через воду электрический ток, можно получить газообразные водород и кислород. Тотчас же было установлено, что водорода по объему получается вдвое больше, чем кислорода. Таким образом, хотя масса кислорода в воде была в 8 раз больше массы водорода, по объему водорода было вдвое больше, чем кислорода. Имело это какое-либо значение? Трудно сказать. Атомы газообразного водорода могли быть расположены друг от друга вдвое дальше, чем атомы газообразного кислорода, и поэтому разница в объеме, возможно, не имела никакого отношения к числу полученных атомов. Однако в 1811 году итальянский химик Амедео Авогадро высказал предположение, что поведение газов при образовании химических соединений нужно объяснять исходя из того, что равные объемы различных газов содержат равное число частиц. (Этими частицами могли быть или атомы, или молекулы.) Следовательно, если объем водорода, полученного при электролизе воды, будет вдвое больше объема кислорода, то и частиц в объеме водорода будет вдвое больше. Предположение, что эти частицы — атомы (или молекулы, содержащие одинаковое число атомов), оказалось верным. Из него следует, что в молекуле воды атомов водорода вдвое больше, чем атомов кислорода. Тогда для воды не пригодна формула НО — должна быть хотя бы формула Н2O. Если 8 граммов кислорода соединяются с 1 граммом водорода, то это значит, что единственный атом кислорода в 8 раз тяжелее двух атомов водорода. Если мы все же примем атомный вес водорода равным 1, то атомный вес кислорода будет тогда равен 16. Аналогичным образом в конце концов была установлена формула метана, СH4, так что один атом углерода должен быть в три раза тяжелее, чем все четыре атома водорода, вместе взятые. (Вспомните, что эквивалентный вес углерода равен 3.) Следовательно, если атомный вес водорода равен 1, то атомный вес углерода равен 12. «Правило Авогадро» (так назвали предположение итальянского ученого) помогло решить и еще одну проблему. Один литр водорода, соединяющийся с одним литром хлора, образует хлористый водород. Было бы справедливо предположить, что молекула хлористого водорода состоит из одного атома водорода и одного атома хлора. И тогда формула хлористого водорода (если обозначить хлор символом Cl) выглядела бы так: HCl. Литр водорода и литр хлора, согласно правилу Авогадро, содержат одинаковое число частиц. Если предположить, что частицы состоят из отдельных атомов, то число молекул образовавшегося хлористого водорода должно быть равно только половине общего числа атомов водорода и хлора, взятых для реакции (так же как число супружеских пар равно половине общего числа мужчин и женщин, если предположить, что все состоят в браке). Итак, казалось бы, полученный газообразный хлористый водород должен составить по объему только половину общего объема исходных водорода и хлора. Один литр водорода плюс один литр хлора (всего два литра) должны образовать лишь один литр хлористого водорода. Однако этого не получается. Один литр водорода и один литр хлора, соединяясь, образуют два литра хлористого водорода. Общий объем газа не меняется, и поэтому не может измениться и общее число частиц. Проще всего разрешить эту дилемму, предположив, что газообразные хлор и водород состоят не из единичных атомов, а представляют собой скопление молекул, каждая из которых состоит из двух атомов. Но молекула водорода (Н2), соединяясь с одной молекулой хлора (Сl2), образует две молекулы хлористого водорода (НСl, НСl). Не изменяется ни общее число частиц, ни общий объем. Аналогично можно показать, что газообразный кислород также состоит из молекул по два атома (O2). С помощью таких доказательств и других обобщений, которые я здесь опускаю, были определены атомные веса и молекулярная структура целого ряда веществ. Очень большой вклад в это внес шведский химик Йонс Яков Берцелиус, который к 1828 году определил атомные веса ряда веществ поразительно точно, даже если подходить к его работе с современными требованиями. Однако тропы науки столь же тернисты, как и пути настоящей любви. Химик может быть так же слеп, как и безумно влюбленный; подтверждением служит то, что в течение всей первой половины XIX столетия понятия «атом» и «молекула» рассматривались как равнозначные. Мало было химиков, которые не путали бы эти понятия, и лишь немногие отличали атомный вес хлора, равный 35,5, от молекулярного веса того же хлора, равного 71 (поскольку молекула хлора содержит 2 атома). К тому же химики путали атомный вес с эквивалентным, и им было трудно понять, что, хотя эквивалентные веса углерода и кислорода равны 3 и 8 соответственно, атомные веса будут равны 12 и 16. Как бы для того, чтобы еще больше усложнить дело, молекулярный вес кислорода оказался равным 32! Это внесло сущий хаос во все химические расчеты, на которых основывались выводы о структуре молекул. В неорганической химии, имевшей дело с простыми молекулами, положение было еще довольно сносное, но в органической, где молекулы состоят из десятков атомов, путаница была невероятная. Только для уксусной кислоты, одного из простейших органических соединений, молекула которой состоит всего из восьми атомов, было предложено 19 различных формул. В 1860 году немецкий химик Фридрих Август Кекуле, решив навести в этом деле порядок, организовал первый Международный химический конгресс, который собрался в Карлсруэ (Германия). Душой конгресса оказался итальянский химик Станислао Канниццаро. В официальных выступлениях и неофициальных встречах он настойчиво указывал, как важно упорядочить дело с атомными весами, подчеркивал необходимость различать атомы и молекулы и эквивалентные и атомные веса. Вновь и вновь он говорил о значении гипотезы своего соотечественника Авогадро, гипотезы, которую большинство химиков игнорировало целых полстолетия. И он добился своего: в следующем же десятилетии положение в химии выправилось и был взят верный курс. Результат превзошел все ожидания. После того как Канниццаро сумел доходчиво показать, что такое атомный вес, некоторые химики стали располагать элементы в порядке его увеличения, чтобы посмотреть, нет ли в этом какой-либо закономерности. В 1860 году было известно около шестидесяти элементов; разнообразие их форм, видов, образцов приводило химиков в смятение. Никто не мог предсказать, сколько еще элементов будет найдено и какими свойствами они могут обладать. Первые попытки расположить элементы по атомному весу были, по-видимому, интересны, но в общем все рассматривали их не более как своеобразную химическую классификацию. И тут выступил русский химик Дмитрий Иванович Менделеев, который в 1869 году расположил элементы в таблицу. Его система значительно превосходила все прежние. Для того чтобы в таблице не нарушалась последовательность атомных весов, он оставлял в ней пустые места, которые, как он утверждал, означают, что существуют еще не открытые элементы. В частности, он предсказал свойства трех элементов. В последующие 10 лет эти элементы были открыты, и их свойства в точности совпали со свойствами, предсказанными Д. И. Менделеевым. Невозможно описать, какая это была сенсация. Атомный вес элементов стал «гвоздем дня», и многие химики начали работать над все более и более точным определением атомных весов. Бельгийский химик Жан Сэрве Стас составил таблицу атомных весов элементов, которая была намного совершеннее таблицы, предложенной Берцелиусом в 60-х годах XIX века, но наибольших успехов в этой области удалось добиться лишь в первое десятилетие XX века, ровно через 100 лет после первых попыток Дальтона. Американский химик Теодор Уильям Ричардс анализировал различные химические соединения, принимая совершенно фантастические меры предосторожности по устранению загрязнений и других причин, которые могли бы внести ошибку в его расчеты, и получил настолько точные данные об атомных весах элементов, что в 1914 году был удостоен Нобелевской премии за успехи в области химии. Однако получилось так, что с этого времени определение атомных весов элементов стало уделом физиков, а не химиков.
Все началось с открытия элементарных частиц в 1890 году. Выяснилось, что атом — это отнюдь не шаблонная сферическая частица. Оказалось, что он состоит из еще более мелких частиц, иные из которых электрически заряжены. Было установлено, что атомы разных элементов в основном отличаются друг от друга не по весу, а по количеству положительных электрических зарядов, приходящихся на ядро атома. (И снова сказалась форма мышления людей данной эпохи, так как на исходе XIX столетия механистическая Вселенная Ньютона уступала место Вселенной силовых полей, которая соответствовала теориям английского химика Майкла Фарадея и шотландского физика Джеймса Клерка Максвелла.) Понятие об электрическом заряде хорошо вписывалось в предлагаемую теорию силовых полей. Оказалось, что большинство элементов состоит из ряда атомов, имеющих не совсем одинаковый атомный вес. Этот ряд атомов был назван изотопами (мы поговорим о них в главе 7). То, что мы когда-то называли атомным весом, на самом деле является всего лишь средним из весов различных изотопов, слагающих химический элемент. Физики стали определять относительные массы отдельных изотопов нехимическими методами, степень точности которых далеко превосходила все, что давали обычные способы, применявшиеся химиками и даже нобелевским лауреатом Ричардсом. Чтобы получить точный атомный вес, нужно было всего лишь взять средневзвешенные массы изотопов, из которых слагаются элементы, учитывая содержание каждого изотопа в элементе, найденном в природных условиях. То обстоятельство, что атомный вес, таким образом, вошел скорее в физическую, чем в химическую, систему мер, не могло бы смутить даже самого самолюбивого химика, если бы только физики не начали пользоваться в своих расчетах величинами атомного веса не совсем так, как химики. К сожалению, все осложнилось тем, что правы оказались физики, а не химики. Как это случилось, я сейчас объясню.
* * *
С самого начала измерение атомного веса требовало установления стандарта. Самым логичным, по-видимому, было бы взять в качестве стандарта атомный вес водорода. В то время предполагалось (а теперь это со всей достоверностью доказано), что атом водорода самый легкий, и поэтому вполне естественно было принять его вес за единицу. Вся беда заключалась в том, что при определении атомных весов приходится танцевать от… эквивалентных весов (во всяком случае, на первых порах). Для определения эквивалентных весов надо работать с двумя элементами, которые легко соединяются. А тут водород непосредственно соединяется всего лишь с несколькими элементами, тогда как кислород — со многими. Поэтому практически в качестве стандарта оказалось удобнее принять кислород, а не водород. Это обстоятельство потребовало внесения некоторых поправок. В конце-концов, частное от деления атомных весов элементов никогда не равно целому числу. Если принять атомный вес водорода точно за единицу, то атомный вес кислорода не будет равен точно 16; скорее — 15,9. Но раз кислород является элементом, который чаще всего используется при определении эквивалентных весов, то было бы неудобно пользоваться таким числом, как 15,9. Легче принять атомный вес кислорода точно за 16, и тогда атомный вес водорода станет чуть больше единицы (точно 1,008). Можно назвать это стандартом «О-16». Химики были очень довольны и ничего не имели против до 20-х годов нашего столетия. Но затем опять начались осложнения. В 1929 году было открыто, что кислород представляет собой смесь трех различных изотопов. Из каждых 100 000 атомов кислорода большинство — 99 759 — имеют атомный вес около 16. Однако 204 атома имеют атомный вес около 18, а остальные 37 — около 17. (Изотопы можно изображать символами О16, О17, О18.) Приняв атомный вес кислорода за 16, химики считали, что средний вес трех изотопов равен 16. Самый распространенный изотоп кислорода имеет вес чуть-чуть меньше 16 (точно 15,9956), и массы сравнительно небольшого числа атомов более тяжелых изотопов кислорода как бы подтягивали эту цифру до отметки 16. Физиков, изучавших строение ядра, в большей степени интересовали отдельные изотопы, а не произвольное сочетание изотопов в одном элементе. И логика была на их стороне, потому что масса отдельного изотопа, насколько известно, абсолютно постоянна, в то время как средняя масса атомов элемента слегка колеблется при очень малом изменении смеси в различных условиях. Теперь мы имеем две шкалы. Первая — «химический атомный вес», на основе стандарта «O-16», вторая — «физический атомный вес», на основе стандарта «O16-16». По шкале химических атомных весов атомный вес кислорода равен 16,000; по шкале физических атомных весов более тяжелые изотопы кислорода увеличивают средний вес до 16,0044. Естественно, атомные веса всех других элементов должны соответственно измениться, — у каждого элемента атомный вес по физической шкале будет на 0,027 процента выше, чем по химической шкале. Таким образом, химический атомный вес водорода равен 1,0080, а физический — 1,0083. Разница небольшая, но все же неточность есть. Химикам и физикам не следовало доводить дело до таких разногласий. Хотя логика была не на стороне химиков, они не соглашались отказаться от своих прежних показателей, боясь путаницы при внесении поправок в уйму расчетов, которые основывались на старых химических атомных весах и были запечатлены в химической литературе. И тут-то физикам пришло в голову, что, пользуясь стандартом «О16-16», они слепо следуют за предвзятым мнением химиков, давно уже потерявшим какую-либо ценность. Единственной причиной, почему кислород использовался в качестве стандарта, было то, что с его помощью легко определялись эквивалентные веса. Но физикам не было дела до эквивалентных весов, поскольку они ими не пользовались. Физики определяли массы заряженных атомов, пропуская их через магнитное поле известной силы и измеряя эффект, который получался при прохождении этих атомов. Для этих целей выбор атомов кислорода в качестве стандарта был не совсем удачен. Было бы удобнее пользоваться атомами углерода. Масса самого распространенного изотопа углерода, С12, была определена более точно, чем масса любого другого изотопа. Тем более что С12 имел массу, равную 12,003803 по физической шкале, а по химической шкале — почти точно 12. Почему бы тогда не принять шкалу «С12-12»? Она столь же логична, как и шкала «O16-16». Более того, шкала «С12-12» была бы почти такой же, как и химическая шкала «О-16». В 1961 году Международный союз теоретической и прикладной физики выпустил своего рода указ, узаконивший новую шкалу. Масса С12 была принята точно за 12,000000 (при этом было допущено понижение на 0,033 %). Естественно, что значения масс всех других изотопов уменьшились соответственно на такой же процент, и шкала «С12-12» оказалась немного ниже шкалы «О-16». Таким образом, химические атомные веса водорода и кислорода, равные 1,0080 и 16,0000 соответственно, по новой физической шкале стали равны 1,00797 и 15,9994 соответственно. Теперь разница между химической и старой физической шкалами составляла только 0,003 процента. Химики перестали сопротивляться; разница была так мала, что не влияла ни на какие прежние расчеты в химической литературе. Поэтому Международный союз теоретической и прикладной химии тоже принял шкалу «С12-12». С 1961 года физики и химики снова говорят на одном языке атомного веса. Обратите внимание на то, как это было сделано. Физики взяли на себя труд найти компромиссное решение, и это было победой химиков. С другой стороны, химики признали логичным, что в качестве стандарта всем надо взять один изотоп, и это было победой физиков. И так как стандарт, который ныне принят, является пока самым точным, то выиграли от этого все. Вот так и надо решать все дела в мире.
7. Четные берут верх
Недавно меня попросили написать статью о применении радиоактивных изотопов в промышленности. Когда я писал, мне стало как-то грустно оттого, что приходилось иметь дело только с практическим использованием изотопов. В изотопах есть много такого, что не находит применения на практике, но о чем стоило бы поговорить.* * *
Путь, по которому термин «изотоп» вошел в научный лексикон, был довольно извилистым. За два тысячелетия большинство элементов было выделено и идентифицировано. В 1869 году русский химик Д. И. Менделеев расположил известные элементы в порядке возрастания атомного веса и показал, что можно составить таблицу, в которой элементы (в указанном порядке) располагаются так, что вещества, имеющие близкие свойства, попадают в одну колонку. К 1900 году периодическая таблица стала святыней химиков. Каждый элемент имел свое место в таблице, и почти все клетки в ней были заполнены. Правда, были еще и пустые места, но это уже никого не беспокоило, так как все знали, что список известных элементов неполон. Со временем химики уверились в том, что каждое свободное место в таблице займет вновь открытый элемент. И они не ошиблись. Последний «пробел» был заполнен в 1948 году, а список элементов, известных Менделееву, был продолжен. В настоящее время известно 103 различных элемента[5]. Однако после 1900 года возникло серьезное противоречие. Среди радиоактивных продуктов распада урана и тория были найдены вещества, которые по правилам XIX века следовало бы отнести к новым элементам, так как их свойства не были похожи на свойства ни одного из других элементов… но места для них в периодической таблице не оказалось. Тогда несколько ученых решили помещать сразу по два, а то и по три элемента в одну клетку таблицы. В 1913 году английский физик Фредерик Содди предложил назвать такие элементы изотопами, что в переводе с греческого означает «то же место». Последующие открытия реабилитировали периодическую таблицу. Английский физик Эрнест Резефорд уже в 1906 году показал, что атом состоит из крохотной центральной части, содержащей положительно заряженные протоны, и сравнительно большой внешней области, где обращаются отрицательно заряженные электроны. Число протонов в центре равно числу электронов на периферии, и так как величина положительного электрического заряда протона (произвольно принятая за +1) в точности равна величине электрического заряда электрона (которая, естественно, равна –1), то атом в целом электрически нейтрален. Следующий шаг сделал молодой английский физик Генри Гвин-Джефрис Мозли. Изучая длину волн рентгеновского излучения различных элементов, он сделал вывод, что общий положительный заряд ядра каждого элемента имеет характерную величину. Она была названа атомным номером. Например, атом хрома имеет ядро с положительным зарядом 24, атом марганца — ядро с положительным зарядом 25, атом железа — 26. Теперь можно сказать, что эти элементы имеют атомные номера 24, 25, 26. Далее, раз положительный заряд точно соответствует числу протонов в ядре, то каждый из этих трех элементов имеет соответственно по 24, 25 и 26 протонов в ядре, вокруг которого вращаются 24, 25 и 26 электронов. В XIX столетии считали, что все атомы элемента тождественны. Это было лишь предположение, но оно лучше всего объясняло тот факт, что все образцы элемента имеют одинаковые химические свойства и одинаковый атомный вес. Та же точка зрения господствовала и во времена, когда атомы считались твердыми, неделимыми, похожими один на другой шариками. Но в XX веке такое объяснение уже никак не вязалось с новыми представлениями, согласно которым атомы — это сложные сочетания мельчайших частиц. Обработка результатов рентгеновского анализа показала, что атомный номер элемента сообразуется с общей для каждого элемента закономерностью, то есть все его атомы имеют одинаковое число протонов в ядре, а следовательно, и одинаковое число электронов в наружных слоях. В период с 20-го по 30-й годы было доказано, что химические свойства элемента зависят от числа электронов в атоме и, следовательно, все атомы данного элемента обладают одинаковыми химическими свойствами. На первых порах такое объяснение удовлетворяло всех. Что касается атомного веса, дело обстояло не так просто. С самого начала возникновения теории атомного ядра было известно, что, кроме протонов, в ядре должны быть какие-то другие частицы. Например, ядро атома водорода легче ядер атомов всех прочих элементов, и оно несет положительный заряд, равный 1. Поэтому было естественно предположить, что ядро атома водорода состоит из одного-единственного протона. Атомный вес водорода принято было считать равным единице еще задолго до того, как решился вопрос о строении атома, и это оказалось вполне обоснованным. С другой стороны, атомный вес гелия считался равным 4, так как было известно, что его ядро в 4 раза массивнее ядра атома водорода. Невольно напрашивался вывод, что в ядре гелия должно быть четыре протона. Однако его атомный номер, определяемый положительным зарядом ядра, был равен всего двум, а это в свою очередь наталкивало на мысль, что в ядре должно быть всего два протона. С этими двумя различными, но вполне закономерными выводами что-то надо было делать. Единственной другой субатомной частицей, известной в первые десятилетия нашего века, был электрон. Если предположить, что в ядре атома гелия имеется четыре протона и два электрона, то его атомный вес оказывается равным четырем, потому что вес электронов ничтожен по сравнению с весом ядра. Атомный номер тогда был бы равен двум, так как положительный заряд двух протонов оказался бы компенсированным отрицательным зарядом двух электронов. Однако даже при таком представлении о ядре концы с концами все равно не сходились. Например, получалось так, будто в ядре атома гелия шесть отдельных частиц — четыре протона и два электрона, а это противоречило другим уже известным из опытов фактам. Физики почесывали затылки и уныло перешептывались. И вот в 1932 году английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон, и в конце концов оказалось, что с теорией все в порядке. Нейтрон равен (вернее, почти равен) по своей массе протону, но заряда не имеет. Теперь можно было считать, что в ядре атома гелия два протона и два нейтрона. Положительный заряд и, следовательно, атомный номер равен двум, а атомный вес — четырем. Все четыре частицы ядра атома гелия оказались на своем месте, и теперь концы с концами сходились. А как же влияет на химические свойства элементов присутствие нейтронов в ядре атома? Никак или по крайней мере незаметно. Возьмем для примера атом меди. Он имеет атомный номер 29, и поэтому у каждого атома меди есть 29 протонов в ядре и 29 электронов, вращающихся вокруг ядра. Но атомный вес меди равен (приблизительно) 63, и поэтому ядро меди должно содержать, кроме 29 протонов, еще и 34 нейтрона. У нейтронов нет электрического заряда, который надо было бы нейтрализовать. 29 электронов уравновешивают 29 протонов; что касается нейтронов, то в этом плане их можно сбросить со счетов. Теперь предположим интереса ради, что атом меди обладает ядром, в котором 29 протонов и 36 нейтронов, то есть на два нейтрона больше, чем предполагалось ранее. Такому ядру по-прежнему требовалось бы всего 29 электронов, чтобы сбалансировать электрический заряд, а его химические свойства, которые, как известно, зависят только от количества электронов, оставались бы такими же. Другими словами, если судить только по химическим свойствам, то не все атомы элемента непременно должны быть тождественны. Число нейтронов в ядре может изменяться, и с химической точки зрения это не имеет никакого значения. Так как периодическая таблица опирается на химическую общность элементов, которые определяют по присущим им химическим свойствам, то каждое место в периодической таблице может занимать целая группа разнообразных атомов с различным числом нейтронов, но при условии, что число протонов во всех этих атомах будет одинаковым. Как же это может повлиять на атомный вес? Обе упомянутые разновидности атомов меди, естественно, должны были полностью перемешаться за все время существования Земли. Имея одинаковые химические свойства, они должны были бы пройти один и тот же путь в геохимических процессах; в равной мере взаимодействовать со средой, в одно и то же время и в одинаковой степени растворяться и выпадать из растворов.Оба вида атомов были неотделимы — и в результате любой образец элемента, взятый в природе или полученный лабораторным путем, должен содержать одинаковую смесь этих двух изотопов меди. Таким образом, определяя атомный вес, химики XIX столетия получали средний атомный вес этого элемента. Средний вес был всегда одинаков, но это не означало, что каждый атом в точности похож на другой. Что же нарушилось в столь удобной для химиков схеме, когда была открыта радиоактивность? А вот что. Радиоактивный распад — процесс ядерный, и сама возможность его возникновения, скорость и характер протекания — все это зависит от расположения частиц в ядре и не имеет ничего общего с электронами, находящимися вне ядра. Следовательно, два атома, в ядрах которых одинаковое число протонов, но разное число нейтронов, должны обладать одинаковыми химическими, но разными ядерными свойствами. Именно благодаря общности химических свойств они стоят в одной и той же клетке периодической таблицы. (Разные ядерные свойства тут не играют роли.) Но в первом десятилетии нашего века, когда еще не знали о разнице между химическими и ядерными свойствами, началась общая паника: многим казалось, что периодическая система элементов терпит крах. Было бы легко различить два изотопа (которые, как мы теперь знаем, являются двумя атомами с одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов в ядрах), если бы все решала радиоактивность. А что, если ни один изотоп не радиоактивен? Может ли существовать не один, а несколько нерадиоактивных изотопов каждого данного элемента? Что ж, если бы существовало множество нерадиоактивных изотопов, то они отличались бы друг от друга только по массе. Атом меди с 29 протонами и 34 нейтронами имел бы массовое число 63, а с 29 протонами и 36 нейтронами — 65. (Выражение атомный вес остается для средних масс встречающихся в природе смесей изотопов каждого данного элемента.) В 1919 году английский физик Фрэнсис Уильям Астон изобрел масс-спектрограф, в котором атомы в ионизированном виде (то есть с одним или несколькими выбитыми электронами, так что каждый атом имеет положительный заряд) можно было прогонять через магнитное поле. При этом ионы отклоняются и проходят по кривым, кривизна которых зависит от массы того или иного иона. Следы изотопов, имеющих различные массы, исчезают в разных местах фотопластинки, а по интенсивности следов можно определять соотношения количеств отдельных изотопов. Например, атомы меди с 34 нейтронами составляют 70 процентов всех атомов меди, а атомы с 36 нейтронами — остальные 30 процентов. Вот поэтому атомный вес меди равен не точно 63, а 63,54. Чтобы различать изотопы, химики пользуются массовыми числами. Атом меди с 29 протонами и 34 нейтронами имеет массовое число 63 (29 + 34 = 63) и поэтому может быть назван «медью-63», а атом с 29 протонами и 36 нейтронами соответствует «меди-65». Эти числа ставятся за символами, в индексе, например: Cu63, Cu65. По такой системе мы узнаем только общее число протонов и нейтронов. Химики не пользуются ею, ибо, помня атомный номер каждого элемента наизусть (или украдкой заглядывая в периодическую таблицу, когда никого из посторонних нет поблизости), они знают и число протонов в ядре. Вычитая атомный номер из массового числа, они получают число нейтронов. Но для наших целей я собираюсь обозначать изотопы иначе — ясно указывая как число протонов, так и число нейтронов. Например, медь-29/34 и медь-29/36. Если мне захочется назвать сразу оба изотопа, то я напишу: медь-29/34,36. Думаю, что такая система вам придется по душе.
* * *
Приняв на вооружение все вышеизложенное, мы можем теперь присмотреться к изотопам более внимательно. Давайте, например, разделим их на три разновидности. Во-первых, есть радиоактивные изотопы, которые распадаются так быстро (не более нескольких миллионов лет), что все они существуют, появившись на свет сравнительно недавно, в результате какой-нибудь ядерной реакции — либо в природных условиях, либо в лаборатории. Назовем их нестабильными изотопами. Хотя их известно более тысячи, каждый из них существует в таких фантастически малых количествах (если они вообще существуют), что они дают о себе знать только физикам-ядерщикам, вооруженным специальными приборами. Во-вторых, есть изотопы, которые радиоактивны, но распадаются так медленно (по меньшей мере сотни миллионов лет), что те, которые мы обнаруживаем сегодня, существовали и при образовании Земли. Каждый из них, несмотря на медленный распад, находится в природе в таких количествах, что их можно обнаружить даже допотопными химическими методами XIX века. Назовем их полустабильными изотопами. И, наконец, есть изотопы, которые вообще нерадиоактивны или настолько слабо радиоактивны, что даже самые чувствительные приборы не могут этого обнаружить. Назовем их стабильными изотопами. В этой главе речь пойдет только о полустабильных и стабильных изотопах.
* * *
Не менее 20 из 103 известных сегодня элементов обладают только нестабильными изотопами и потому существуют в природе в незначительном количестве. Перечислим их в таблице.
Элемент / Атомный номерЗаметьте, что все эти элементы, кроме двух, стоят в самом конце известного перечня элементов и имеют атомные номера от 84 до 103. Здесь не хватает только двух элементов, а именно элемента с атомным номером 90 (торий) и с номером 92 (уран); оба номера, как видите, четные. С другой стороны, в начале нашей таблицы приведены два элемента с нечетными атомными номерами — 43 (технеций) и 61 (прометий). Остальные 83 элемента обладают по крайней мере одним стабильным или полустабильным изотопом и поэтому встречаются на Земле в достаточном количестве. (Нет таких стабильных или полустабильных изотопов, которые бы не встречались в природе в достаточном количестве.) Некоторые из этих элементов обладают только одним таким изотопом, другие — двумя, тремя и даже большим числом. Мне кажется весьма странным, что, хотя во всех учебниках химии, которые я когда-либо читал, всегда перечисляются элементы, ни в одном из них не дается систематизированного перечисления изотопов. Например, я никогда не встречал полного перечня всех тех элементов, которые обладают только одним стабильным или полустабильным изотопом. Дабы заполнить этот пробел, привожу здесь такой перечень (звездочками здесь и в последующих таблицах помечены полустабильные изотопы).
Технеций … 43 Прометий … 61 Полоний … 84 Астатин … 85 Радон … 86 Франций … 87 Радий … 88 Актиний … 89 Протактиний … 91 Нептуний … 93 Плутоний … 94 Америций … 95 Кюрий … 96 Берклий … 97 Калифорний … 98 Эйнштейний … 99 Фермий … 100 Менделеевий … 101 Нобелий … 102 Лоуренсий … 103
Элемент / Протон/нейтронИмеется 21 элемент с одним стабильным или полустабильным изотопом, и заметьте, что во всех случаях, кроме двух (бериллий и торий — первый и последний в списке), одиночные изотопы имеют нечетное число протонов в ядре и четное число нейтронов. Назовем их изотопами «нечет/чет». Теперь давайте перечислим элементы, которые обладают двумя стабильными или полустабильными изотопами.
Бериллий … 4/5 Фтор … 9/10 Натрий … 11/12 Алюминий … 13/14 Фосфор … 15/16 Скандий … 21/24 Марганец … 25/30 Кобальт … 27/32 Мышьяк … 33/42 Иттрий … 39/50 Ниобий … 41/52 Родий … 45/58 Йод … 53/74 Цезий … 55/78 Празеодим … 59/82 Тербий … 65/94 Гольмий … 67/98 Тулий … 69/100 Золото … 79/118 Висмут … 83/126 Торий … 90/142*
Элемент / Протон/нейтроныКак видите, таких элементов 23, из них 20 обладают нечетным числом протонов. Если вы взглянете на эти таблицы, то увидите, что из 52 известных элементов с нечетными атомными номерами 12 не обладают стабильными или полустабильными изотопами, 19 обладают только одним стабильным или полустабильным изотопом и 20 — только двумя. Всего получается 51 элемент. Есть один-единственный элемент с нечетным атомным номером, который нами еще не упоминался; и если вы просмотрите список, то установите, что пропущенный элемент имеет атомный номер 19 — это калий. У него три стабильных или полустабильных изотопа. Привожу его данные отдельно, не занося в таблицу: калий-19, 20, 21*, 22. (Напоминаю: звездочка у числа нейтронов означает, что это полустабильный изотоп.) На 10 000 атомов калия приходится всего лишь 1 атом полустабильного калия-19/21* (самого легкого из всех полустабильных изотопов), так что этот элемент едва ли имеет больше двух изотопов. Пятьдесят два элемента с нечетными атомными номерами имеют 62 различных (перечисленных нами) стабильных и полустабильных изотопа. Из них 53 имеют четное число нейтронов, и поэтому существует всего 53 стабильных и полустабильных изотопа «нечет/чет». 53 изотопа можно разделить на 50 стабильных и 3 полустабильных (рубидий-37/50*, индий-49/66* и рений-75/112*). Есть всего девять стабильных и полустабильных изотопов атомов с нечетным атомным номером, которые имеют также и нечетное число нейтронов. Вот полный список существующих стабильных или полустабильных изотопов «нечет/нечет»:
Водород … 1/0, 1 Гелий … 2/1, 2 Литий … 3/3, 4 Бор … 5/5, 6 Углерод … 6/6, 7 Азот … 7/7, 8 Хлор … 17/18, 20 Ванадий … 23/27*, 28 Медь … 29/34, 36 Галлий … 31/38, 40 Бром … 35/44, 46 Рубидий … 37/48, 50* Серебро … 47/60, 62 Индий … 49/64, 66* Сурьма … 51/70, 72 Лантан … 57/61*, 62 Европий … 63/88, 90 Лютеций … 71/104, 105* Тантал … 73/107*, 108 Рений … 75/110, 112* Иридий … 77/114, 116 Таллий … 81/122, 124 Уран … 92/143*, 145*
Элемент / Протон/нейтронКак видите, из этих девяти изотопов пять полустабильных. Это означает, что в мире существует только четыре полностью стабильных изотопа «нечет/нечет». Из них водорода-1/1 «нечет/нечет» в 10 000 раз меньше, чем водорода-1/0 «нечет/чет» (я буду считать 0 четным числом). Лития-3/3 «нечет/нечет» в 13 раз меньше лития-3/4 «нечет/чет» и бора-5/5 «нечет/нечет» в 4 раза меньше, чем бора-5/6 «нечет/чет». Итак, из четырех стабильных изотопов «нечет/чет» три составляют меньшинство в собственных элементах. Остается азот-7/7, изотоп «нечет/нечет», который не только совершенно стабилен, но и составляет 99,635 процента всех атомов азота. В этом отношении он самый нечетный из всех «нечет/нечетов».
Водород … 1/1 Литий … 3/3 Бор … 5/5 Азот … 7/7 Калий … 19/21* Ванадий … 23/27* Лантан … 57/61* Лютеций … 71/105* Тантал … 73/107*
* * *
А что можно сказать об элементах с четным атомным номером? Здесь положение обратное. Только восемь элементов с четным атомным номером не имеют стабильных или полустабильных изотопов, и все они располагаются за атомным номером 83, где не существует ни одного полностью стабильного изотопа и почти нет полустабильных изотопов. Более того, все три полустабильных изотопа, оказавшиеся в этой части таблицы, принадлежат к элементам с четным атомным номером. Есть еще два элемента с четными атомными номерами, которые имеют лишь по одному стабильному или полустабильному изотопу, и три элемента, у которых только по два стабильных изотопа. Вы можете убедиться в этом, просмотрев приведенные выше таблицы. Получается, что из 51 элемента с четными атомными номерами 39 обладают более чем двумя стабильными изотопами. Один из них, олово, имеет не менее десяти стабильных изотопов. Я не буду сводить эти элементы в подробные таблицы. Вместо этого укажу, что существует две разновидности изотопов, имеющих отношение к элементам с четными атомными номерами. Есть изотопы с нечетным числом нейтронов («чет/нечет») и с четным числом («чет/чет»). Сведения о стабильных и полустабильных изотопах приведены в следующей таблице:

Среди изотопов преобладает группа «чет/чет», составляющая 60 процентов. Если же для сравнения взять за основу массу, то преобладание этой группы становится еще значительнее. Среди 43 элементов с четными атомными номерами, которые обладают стабильными и полустабильными изотопами, только у одного нет изотопа «чет/чет». Это бериллий, который имеет всего один стабильный или полустабильный изотоп, — бериллий-4/5, то есть «чет/нечет». Среди 42 других изотопов изотопы «чет/нечет» неизменно составляют большинство атомов. Изотопом «чет/нечет», который наиболее распространен в пределах собственного элемента, является платина-78/117, составляющая 1/3 всех атомов платины. Там, где элемент с четным атомным номером имеет более одного изотопа «чет/нечет» (у олова их три), все вместе они иногда оказываются в еще лучшем положении. Рекорд ставят ксенон-54/75 и ксенон-54/77, которые вместе составляют почти 48 процентов всех атомов ксенона. Но ни в одном случае (за исключением, конечно, бериллия) содержание изотопов «чет/нечет» не превышает 50 процентов. Более того, изотопы «чет/нечет» господствуют именно в наименее распространенных элементах. Платина и ксенон относятся к самым редким элементам со стабильными и полустабильными изотопами. А вот в самых распространенных элементах превалируют изотопы «чет/чет». Это наглядно проявляется при рассмотрении процентного состава земной коры. Как-то я подсчитал, какие разновидности изотопов в нее входят, и вот результат:
«Чет/чет» … 85,63 «Нечет/чет» … 13,11 «Чет/нечет» … 1,25 «Нечет/нечет» … 0,01Почти 87 процентов земной коры состоит из элементов с четными атомными номерами. А если взять весь земной шар, то этот процент еще увеличится. Из главы 14 вы узнаете, что шесть элементов составляют 98 процентов земного шара: это железо, кислород, магний, кремний, сера и никель. Каждый из них имеет четный атомный номер. Мне думается, что наш земной шар на 96 процентов «чет/чет». Это, пожалуй, безобразие. Как давний энтузиаст научной фантастики и активный противник существующего порядка вещей, я всегда питал необъяснимую симпатию к «нечет/нечету» в той же мере, как и ко всему необычному.
Часть III Физика

8. А теперь — прислушайтесь…
Древние греки ошибались не всегда. Я дал себе труд сказать об этом исключительно ради собственного блага, ибо всякий раз, пытаясь проследить историю какого-нибудь научного понятия, я начинаю от греков, а потом уж не жалея сил стремлюсь показать, как их ошибочные предположения медленно и мучительно выправлялись великими учеными XVI и XVII столетий — обычно вопреки упорному сопротивлению традиционалистов. Проделав это по разным поводам не один десяток раз, я уже, наверно, внушил себе, что единственным занятием древних философов было пускать всех по ложному следу. И все же… это не совсем так. В некоторых отношениях мы еще едва можем настичь греков. Например, мы только сейчас занялись изучением дельфинов и морских свиней (это небольшие сородичи китов, отличающиеся тем, что у дельфинов губы выдаются вперед наподобие клюва, а у морских свиней — нет. Я буду употреблять оба названия вперемежку, без всякой последовательности). В последние годы биологи начали проводить наблюдения, связанные с необыкновенной сообразительностью этих существ. Например, дельфины никогда не нападают на людей. Они могут играть с людьми и притворяться, что кусают, но на самом деле не кусают никогда. Зафиксировано даже три случая, когда они помогли упавшим за борт людям добраться до берега. С другой стороны, дельфин, только что осторожно игравший с человеком, не колеблясь одним ударом зубов убил помещенную в его аквариум барракуду. Я не совсем уверен, что истинный признак ума — нежно играть с людьми и убивать барракуд, если учесть, что человек — существо куда более свирепое и опасное. Но, поскольку об уме судит сам человек, дельфины, несомненно, получат высшую отметку по поведению, которое не может не заслуживать нашего одобрения. К счастью, есть более объективные причины полагать, что дельфины наделены умом. Хотя «ростом» они всего от 1,5 до 4 метров, а следовательно, ненамного массивнее людей, их мозг больше и богаче извилинами, чем человеческий. Когда говорят об уме, важен не столько размер мозга, сколько площадь его поверхности, потому что именно от нее зависит количество серого вещества. В процессе эволюции площадь поверхности мозга увеличивалась быстрее, чем допускали размеры черепа, поэтому в ней образовались складки — извилины. Размеры и количество извилин возрастают по мере того, как мы будем переходить от опоссума к кошке, обезьяне и человеку. Но рекорд здесь принадлежит не человеку, а китовым (общее название для китов, дельфинов и морских свиней). Но является ли дельфиний ум, о котором столь убедительно свидетельствует их мозг, действительно новым открытием? Весьма сомневаюсь. Я думаю, что и в этом греки предвосхитили нас на несколько тысячелетий. Вспомним, например, древнегреческий миф об Арионе, певце при дворе Периандра Коринфского. Завоевав звание лучшего певца и получив многочисленные награды на музыкальном состязании в Сицилии, Арион возвращался морем в Коринф. В пути честные мореплаватели решили, что нет ничего проще, чем выкинуть пассажира за борт и присвоить его ценности. Будучи людьми действия, они тут же схватили певца, но Арион стал просить их об одной милости — позволить ему спеть последнюю песню. Это ему было позволено: в конце концов его собирались убить только потому, что того требовало дело. Нежная песня Ариона привела к кораблю стаю дельфинов, и, когда он с последней нотой прыгнул за борт, один из дельфинов подхватил его и домчал на спине до Коринфа быстрее корабля. По прибытии корабля в порт Арион уже был на месте, готовый выступить свидетелем. Злоумышленники понесли заслуженную кару. Но почему в этом мифе фигурирует именно дельфин? Несомненно, если бы греки просто фантазировали, спасителем нисколько не хуже могла бы стать, скажем, акула, или гигантский морской конек, или тритон, или огромная улитка. Нет, они избрали дельфина, и не только для мифа об Арионе, но и для нескольких других. Мне кажется, что греки предпочитали дельфинов сознательно, и именно потому, что подметили в них как раз те характерные черты, которые исследуют теперь специалисты военно-морского флота, — их ум и (иначе не скажешь) дружелюбие.* * *
Любопытно, что греки (или по крайней мере один из них) намного опередили свое время и еще в одном наблюдении, касающемся дельфинов. Поясним эту мысль. В древности живые существа были распределены по большим группам соответственно наиболее бросающимся в глаза признакам. Например, всякое существо, живущее в воде, неизменно называлось рыбой. В наше время понятие «рыба» относят только к позвоночным, покрытым чешуей и дышащим жабрами. Такие беспозвоночные, как моллюски, устрицы, омары и крабы, не являются рыбами. По новейшему определению, даже живущее в море позвоночное, если у него нет ни жабр, ни чешуи, не является рыбой, а это означает, что киты и их меньшие родичи не рыбы. Для современного биолога это очевидно. Представители китовых — теплокровные, дышат легкими и имеют много признаков, явно указывающих, что они происходят от существ, живших на суше. Однако китовые так приспособились к жизни в море, что потеряли всякие видимые следы задних конечностей; их передние конечности превратились в плавники, напоминающие рыбьи, и у них отрос хвост, внешне совершенно рыбий, но только не вертикальный, а горизонтальный. Тело их даже приняло обтекаемую рыбью форму. В силу всех этих причин то, что очевидно для биологов, не очевидно для остальных, и в обыденной речи китов по-прежнему называют рыбами. Поэтому в песенке «А может, это и не так» из «Порги и Бесс» поется об Ионе, попавшем в брюхо рыбы — кита. Те из нас, кто изучал различия между млекопитающими и рыбами в современном научном определении, могут только улыбнуться очаровательному простодушию героев пьесы. Но на самом деле ошибка здесь как раз наша, и в нее впадает большинство из нас. В книге пророка Ионы не упоминается ни о каком ките. В ней (глава 1, стих 17; перевод, сделанный при короле Якове) говорится: «И создал Господь большую рыбу и повелел ей проглотить Иону. И был Иона во чреве этой рыбы три дня и три ночи». Рыба упоминается еще два раза — в главе 2, стихе 1 и 10. Это уже фольклор переделал «большую рыбу» в «кита». Теперь можно вновь вернуться к грекам. Первым, кто выделил семейство китовых среди остальных жителей моря, был Аристотель. Еще в 340 году до нашей эры в книге «О возникновении животных» он отметил такой факт, который по тому времени являл собой чудо наблюдательности, а именно что дельфины производят на свет живых детенышей, при рождении связанных с матерью пуповиной. А это значит, что зародыш непрерывно получает питание прямо от материнского организма, а не из запаса, сосредоточенного в яйце, как, например, у некоторых живородящих змей. Наличие пуповины характерно для имеющих волосяной покров и молочные железы четвероногих, называемых млекопитающими. Аристотель отнес китовых к млекопитающим, а не к рыбам. Досадно, что древние и средневековые мыслители, мертвой хваткой державшиеся за многие ошибочные предположения и выводы Аристотеля, не обратили внимания на это совершенно точное наблюдение, полностью отвечающее современным представлениям. Только в XIX веке эти соображения Аристотеля окончательно утвердились. Недавно мы узнали о дельфинах кое-что, вероятно, неизвестное древним грекам. Это касается звуков, издаваемых дельфинами. Микрофоны, погруженные на некоторую глубину, обнаружили, что океан (как это ни удивительно) довольно шумное место, где щелкают клешнями крабы, а рыбы таинственно ворчат. Однако, кроме человека, только представители семейства китовых обладают достаточно сложным мозгом, чтобы при помощи тонких мускульных движений издавать весьма разнообразные звуки. И в самом деле, дельфины свистят, скрежещут, рычат и поскрипывают на все лады. Более того, они имеют очень хорошо развитое внутреннее ухо и могут превосходно слышать все звуки, которые издают. Естественно возникает вопрос: раз дельфины так необыкновенно сметливы и умеют издавать все эти звуки, то, может быть, они разговаривают? Для чего же еще необходима столь разнообразная звуковая артиллерия? К сожалению, оказывается, звук нужен дельфинам не только для общения. Чтобы разобраться в этом, поговорим немного о природе звука. Здесь мы еще раз сталкиваемся со случаем, когда греки выбрали правильный путь (это единственная область физики, где они не ошиблись). Так, Пифагор Самосский примерно в 500 году до нашей эры заметил, что струны лиры издают звуки тем выше, чем короче струна. Он (или, возможно, кто-нибудь из его последователей) заметил также, что звучащие струны совершают колебания и что короткие струны колеблются быстрее. Во всяком случае, к 400 году до нашей эры философ пифагорейской школы Архит Тарентский отметил, что звук возникает в результате соударения тел, причем быстрое движение создает высокий звук, а медленное — низкий. Позже Аристотель особо отметил роль воздуха и включил его в число тел, издающих звук при соударении. Аристотель утверждал, что частицы воздуха ударяют одна другую и таким путем звук передается по воздуху, пока не достигает уха. Без промежуточной среды, такой, как воздух или вода, указывал Аристотель, человек не слышал бы звука. И здесь он опять не ошибся. В конечный период древней истории (около 500 года нашей эры) последний римский философ Боэций сравнивал в своих записках звуковые волны с волнами на воде. (На самом деле звуковые волны продольные, а волны на поверхности воды поперечные; в подробности этого различия мы вдаваться не будем, поскольку это сравнение во многих отношениях дает достаточно наглядное представление о волновом движении.) Но природа света вызывала яростные споры еще долгое время после того, как было установлено, что звук — это волновое движение. В XVII веке, в великую эпоху рождения современной науки, одна группа ученых, следуя Христиану Гюйгенсу, считала, что свет представляет собой такое же волновое явление, как и звук. Однако более многочисленная группа ученых, возглавляемая Исааком Ньютоном, считала свет потоком чрезвычайно малых, быстро движущихся частиц. Ньютоновская корпускулярная теория света господствовала более 100 лет, причем не только благодаря огромному авторитету самого Ньютона, но в силу его аргументации, которая строилась примерно так. Волны на поверхности воды (самый привычный для нас вид волнового движения) огибают препятствия. Поместите палку на пути расходящихся кругами волн — правильность их нарушится. Круги искривятся, приобретут более сложный контур, но волны не отразятся и не исчезнут. За палкой не будет свободной от волн «тени». Звуковые волны тоже не останавливаются перед препятствиями, но огибают их. Ведь мы отчетливо слышим окликающего нас приятеля, даже если он находится за углом или по другую сторону высокого забора. Но свет не огибает препятствий, он отражается, — поэтому мы можем видеть предметы. Препятствия создают позади себя неосвещенные участки, тени, с резкими очертаниями — доказательство того, что лучи света распространяются совершенно прямолинейно. Все это так отличается от поведения волн на воде или в воздухе, что совершенно очевиден вывод: свет не может иметь волновой природы, он представляет собой поток частиц, распространяющийся прямолинейно и неспособный отклоняться от прямой траектории. Но вот в 1801 году английский физик Томас Юнг пропустил узкий луч света через две расположенные очень близко друг к другу узкие щели. Два результирующих луча на экране, стоявшем позади, расплылись и частично перекрыли друг друга. Однако вместо простого усиления яркости в том месте, где лучи перекрылись, получился перемежающийся ряд светлых и темных полос. Но каким образом два смешивающихся луча образуют темные участки? Если свет состоит из частиц, то это явление, по-видимому, необъяснимо. Однако если он состоит из волн, то волны, смешиваясь, должны были бы в некоторых участках совпасть по фазе (то есть их гребни наложились бы друг на друга) и поэтому создать в таких участках освещенность ярче, чем каждый луч отдельно. Появились бы также участки, где волны оказались бы в противофазе (гребни одной наложились бы на впадины другой), так что они погасили бы друг друга и появилась бы темнота. Это явление интерференции можно в точности воспроизвести на опыте с волнами на поверхности воды и получить тот же эффект, который Юнг наблюдал в своем опыте со светом. Это сразу же установило волновую природу света. (По современным представлениям, свет обладает и волновыми и корпускулярными свойствами, но сейчас это нас не интересует.) Так вот, по ширине интерференционных полос и по расстоянию между двумя щелями, расщепляющими луч света на два, оказалось возможным высчитать длину световой волны. Длины самых коротких волн (фиолетовых) составляют всего 0,000039 сантиметра, а самых длинных (красных) — примерно 0,000075 сантиметра. В 1818 году французский физик Огюстен Жан Френель разработал математическую теорию волнового движения и показал, что волны могут огибать только те препятствия, размеры которых меньше длины волны. Палка не остановит волны, но длинная земляная коса это сделает; даже в шторм район моря, защищенный такой косой, останется сравнительно спокойным (получится свободная от волн «тень»). В сущности, такие гавани обычно и считают наиболее удобными. И наоборот, предметы, видимые невооруженным глазом, как бы малы они ни были, велики по сравнению с длинами волн света: именно поэтому световые волны их не огибают, а отражаются, и позади таких предметов образуются резкие тени. Если препятствие достаточно мало, то световые волны будут огибать его (такое явление называется дифракцией). Это и доказал Френель. Вернемся теперь к звуку. Длины звуковых волн должны быть гораздо больше длин световых, ибо звук огибает даже те препятствия, которые совершенно преграждают дорогу свету. (Однако же, хотя дерево не отражает обычных звуковых волн, горы это делают, — именно так получается эхо; а в больших помещениях звуки реверберируют вследствие повторных отражений звуковых волн от стен.) Длину волны всякого определенного звука можно точно вычислить, разделив скорость распространения звука на его частоту (то есть на число колебаний источника звука в секунду). Что же касается скорости распространения звука, то даже первобытный человек, должно быть, знал, что звук имеет какую-то конечную скорость. Уже с небольшого расстояния мы можем заметить, как топор дровосека ударяет по дереву, а звук удара доносится лишь спустя некоторое время. Если предположить, что скорость света бесконечно велика (а это и в самом деле так в сравнении со скоростью звука), то для определения скорости звука нужно всего лишь измерить промежуток времени между увиденным и услышанным и расстояние до дровосека. Еще сравнительно недавно измерение коротких интервалов времени было весьма трудным делом. Маятниковые часы были изобретены только в 1656 году (между прочим, тем же Христианом Гюйгенсом — основоположником волновой теории света). Только после этого стало возможным с достаточной точностью измерять отрезки времени меньше часа. В 1738 году французские ученые установили по пушке на двух холмах, расстояние между которыми было 27 километров. Стреляя из пушки на одном холме, они засекали промежуток между вспышкой и звуком с другого холма; затем, стреляя из пушки на другом холме, засекали время с первого холма (это делалось, чтобы учесть поправку на ветер). Таким способом впервые была измерена скорость звука. Сегодня принято считать, что звук распространяется со скоростью 331 метр в секунду при 0° Цельсия, или примерно 1200 километров в час. Скорость распространения звука зависит от упругости воздуха, то есть от естественной быстроты, с которой могут раскачиваться вперед-назад молекулы воздуха. Упругость повышается с температурой, поэтому увеличивается и скорость распространения звука — на каждый градус повышения температуры примерно по полметра в секунду. Нота «до» первой октавы скрипичного ключа (на рояле — середина клавиатуры) имеет частоту 264 колебания в секунду; следовательно, длина волны звука среднего «до» равна 331/264, или 1,25 метра. Частота увеличивается с высотой звука (это открыли пифагорейцы), а длина волны соответственно уменьшается. Чем ниже звук, тем меньше его частота и больше длина волны. Самая низкая нота, которую можно взять на рояле, имеет частоту 27,5 колебания в секунду, а самая высокая — 4224 колебания в секунду. Следовательно, длина одной волны составляет 331/27,5 = 12 метров, а длина другой волны — 331/4224 = 0,076 метра (то есть 7,6 сантиметра). Даже диапазон рояля, очень широкий, не охватывает всех звуков, воспринимаемых человеческим ухом. Человек с нормальным слухом способен слышать самые низкие звуки, до 15 колебаний в секунду, и чрезвычайно высокие звуки, в зрелом возрасте выше 15 000 колебаний в секунду, а в детстве — даже вплоть до 20 000 колебаний в секунду. Этот максимальный интервал охватывает более десяти октав (каждую следующую октаву составляют звуки удвоенной частоты), тогда как наше зрение чувствительно к световым лучам в пределах одной-единственной октавы. В пересчете на длины волн наше ухо улавливает звуки в диапазоне от 22 метров до 2 сантиметров. Но даже самый высокий звук, доступный нашему слуху, имеет длину волны в 20 000 раз большую, чем длина волны красного света, так что мы вполне имеем право ожидать, что при встрече с препятствиями звук и свет будут вести себя совершенно по-разному. И все же, чем меньше длина волны (то есть чем выше звук), тем более успешно препятствие определенного размера остановит и отразит звуковую волну. Дерево должно отражать 2-сантиметровые звуковые волны; но оно не окажет никакого воздействия на 22-метровую волну. Тогда почему бы не подняться вверх по шкале частот и не извлечь какую-либо пользу из звуков столь высоких, что человеческое ухо их уже не воспринимает (это уже ультразвуки)? Существование таких неслышимых звуков можно легко обнаружить даже без специальных приборов. Можно, скажем, сделать ультразвуковой свисток, сигналов которого никто из людей не услышит. А служебные собаки, у которых диапазон воспринимаемых звуков больше, чем у человека, будут подчиняться командам, подаваемым таким свистком. Получение ультразвуков в широком масштабе впервые стало возможным в результате открытия, сделанного в 1880 году братьями Пьером и Жаком Кюри. (Блестящий ученый Пьер Кюри женился, кстати говоря, на Марии Склодовской, знаменитой мадам Кюри, еще более блестящей звезде ученого мира.) Братья Кюри обнаружили, что если пластинки, вырезанные определенным образом из кристаллов кварца, очень сильно сжимать (так, что они даже слегка деформируются), то на их противоположных гранях возникают небольшие электрические заряды. Это явление было названо пьезоэлектричеством (от греческого слова «пьезо» — давление). Кюри также открыли и обратный эффект: если к противоположным граням кристалла приделать плоские электроды и подать на них электрическое напряжение, то кристалл начнет деформироваться[6]. Отсюда стало ясно, что если электрическое поле на гранях кристалла быстро увеличивать и уменьшать, то кристалл будет с той же частотой сжиматься и распрямляться, создавая таким образом звуковые колебания соответствующей частоты. А если взять достаточно большую частоту колебаний, то получится даже ультразвуковая волна. После изобретения радиолампы оказалось практически возможным создавать электрическое напряжение, меняющееся с ультразвуковой частотой. Французскому физику Полю Ланжевену удалось получить мощные ультразвуковые волны уже в 1917 году. Шла первая мировая война, и он сразу же попытался использовать то, что такие короткие волны способны более эффективно отражаться сравнительно небольшими препятствиями. Он применил ультразвук для обнаружения подводных лодок. Расстояние до объекта можно определить по промежутку времени, протекшему с момента излучения ультразвукового импульса до момента приема эха, и по скорости звука в воде (которая более чем вчетверо превышает скорость звука в воздухе благодаря большой упругости воды). После первой мировой войны этот принцип использовался в мирных целях — для обнаружения косяков рыб и айсбергов, полностью погрузившихся под воду, для определения глубины океана, рельефа морского дна и т. д. Приборы, основанные на этом принципе, применялись и во время второй мировой войны (они назывались «сонар»).
* * *
Но, по-видимому, «сонар» — это одна из областей, в которых прочие виды животных опередили человечество на много миллионов лет. Например, летучая мышь, этот умнейший пилот, искусно летает по весьма причудливому курсу. В мгновение ока меняя направление полета, летучая мышь ловит крошечных насекомых и легко избегает столкновения с такими небольшими препятствиями, как ветки. Это просто поразительно, если учесть, что она летает в сумерках. В 1793 году итальянский ученый Ладзаро Спалланцани обнаружил, что летучие мыши могут ловить добычу и избегать препятствий в полной темноте, и даже если их ослепить. Однако они теряли эту способность, если их лишали слуха. В начале 40-х годов нашего столетия американский физик Дж. Пирс изобрел прибор, позволяющий улавливать чрезвычайно слабые ультразвуки. И тогда сразу выяснилось, что летучие мыши непрестанно издают не только слабые писки, которые мы слышим, но и ультразвуки с частотой более 150 000 колебаний в секунду и, следовательно, с длиной волны менее 2 миллиметров (их мы не слышим). Такие короткие волны прекрасно отражаются от насекомых и веток. Между вскриками летучие мыши улавливают эхо и выбирают дальнейший путь соответственно. Точно так же поступают дельфины, обнаруживая, правда, не насекомых, а рыбу. Так как их жертвы побольше, дельфины не нуждаются в звуке столь высокой частоты и столь малой длины волны. Они действительно пользуются ультразвуками, но издают и звуки, хорошо слышимые человеческим ухом, — люди обычно сравнивают такие звуки со «скрипом». Опыты, проведенные в 1955 году в Вудс Хол (штат Массачусетс), показали, что, когда дельфины «поскрипывают», они могут находить кусочки пищи размерами около 15 сантиметров даже в полной темноте. (Этими способностями дельфинов заинтересовался военно-морской флот в связи с попытками усовершенствовать существующие системы ультразвуковой локации.) Вот в этом и заключается использование дельфинами звука не только для общения (я говорил об этом в начале главы). Жизнь в море так шумна, по всей вероятности, именно из-за необходимости добывать пищу и избегать врагов в условиях, когда света очень мало; поэтому зрение здесь гораздо менее полезно, чем на суше. Но теперь возникает еще один вопрос. Если даже допустить, что звук у дельфинов служит прежде всего целям звуковой локации, то им достаточно было бы самого простого звукового устройства (такого, например, как у летучих мышей). Коль скоро дельфины развили очень сложный аппарат, позволяющий издавать самые разнообразные звуки, то не разумно ли предположить, что звук им служит и для других целей, требующих такого совершенства? Чтобы прощупать путь к ответу на этот вопрос, обратимся к некоторым опытам, проведенным в Корнельском университете после 1940 года; там испытанию подвергались слепые, а также люди с нормальным зрением, которым завязывали глаза. Им предлагали идти по длинному залу к фибролитовому экрану, который мог оказаться в любом месте зала (или его вообще убирали). Человек должен был остановиться, как только почувствует, что экран находится перед ним. Все испытуемые блестяще справились с задачей, почти всякий раз обнаруживая экран уже примерно за два метра до него. Большинство из них убежденно доказывали, что они каким-то образом «чувствуют» близость экрана к лицу. Тогда головы им обернули мягкой тканью, поглощающей всякую воздушную волну, воздействующую на чувствительные волоски на лице; это, однако, не уменьшило их способности обнаруживать препятствие. Но, когда испытуемым тщательно забинтовали уши, способность эта тотчас пропала. Возможно, слабое эхо шагов или каких-либо других случайных шумов выдавало присутствие экрана и люди, слепые от природы или просто с завязанными глазами, сами того не зная, пользовались звуковой локацией. Способность пользоваться принципом звуковой локации (возможно, на заре развития человечества для этого и служил звуковой аппарат) не помешала развитию системы общения при помощи звуков, что теперь и является основной функцией наших голосовых связок. С этой точки зрения не так уж противоестественно звучит предположение, что дельфины, обладающие мозгом, слухом и звуковым аппаратом, не уступающими нашим, а возможно, и более совершенными, могли тоже дойти до речевого общения. Откровенно говоря, я всей душой хочу, чтобы это предположение оказалось реальным. Перед человечеством стоит несколько проблем, которые, как мне думается, могли бы быть разрешены, если бы нам удалось только обсудить их с какими-нибудь существами, способными подойти к этим проблемам с новой, беспристрастной точки зрения.
9. До каких пор можно дробить секунду
Иногда мне приходит в голову новая научная идея. Конечно, не обязательно ценная или важная, но что оригинальная, за это я ручаюсь. Одной из таких идей я хочу посвятить эту главу. Она зародилась у меня некоторое время назад, когда появилось сообщение о том, что обнаружена субатомная частица «кси-ноль». Подобно другим частицам аналогичного типа, она до странности устойчива: время жизни ее составляет (примерно) целую десятимиллиардную (10-10) секунды. Может показаться, что в последнюю фразу вкралась опечатка: вы подумаете, что я хотел сказать «неустойчива», — но нет! И одна десятимиллиардная секунды может быть очень долгим промежутком времени; все зависит от того, что с чем сравнивать. По сравнению с одной секстильонной (10-23) одна десятимиллиардная (10-10) секунды — это целая вечность. Разница между этими двумя интервалами времени такая же, как между одним днем и 30 миллиардами лет. Может быть, вы и поверите мне на слово, но все же вы не сможете преодолеть чувство некоторой неуверенности. Трудно представить себе отчетливо мир долей секунды, а тем более ничтожно малых долей секунды. Сказать «одна секстильонная секунды» так же легко, как сказать «одна десятимиллиардная», но, как ни легко жонглировать символами, обозначающими подобные интервалы времени, мысленно воспроизвести их оказывается невозможно (или кажется, что невозможно). Моя идея как раз и связана с попыткой сделать эти доли секунды более доступными воображению. Натолкнул меня на эту мысль способ, используемый в другой сфере измерений, тоже непривычный для нас, тоже лежащий вне привычных понятий — в сфере измерений астрономических расстояний. Нет ничего странного в словах: «Вега — очень близкая к нам звезда. Она находится всего в 250 триллионах (2,5 · 1014) километров от Земли». Многие из читающих научную фантастику привыкли к мысли, что в космосе 250 триллионов километров — расстояние совсем не большое. Основная масса звезд в нашей Галактике удалена от солнечной системы примерно на 300 квадрильонов (3 · 1017) километров, а ближайшая к нашей другая большая галактика — на 15 квинтильонов (1019) километров. Триллион, квадрильон, квинтильон — это все обыкновенные слова, обозначающие полноправные числа; совсем не трудно сказать, какое из них больше и насколько, когда нужно лишь манипулировать символами. Однако представить себе реально, что они означают, — это совсем другое дело. Весь фокус заключается в том, чтобы воспользовавшись скоростью света, довести эти числа до «карманного» размера. Сами расстояния от этого нисколько не уменьшатся, но без этих многочисленных нулей «-иллионов» они будут легче восприниматься. Скорость света в пустоте равна 299 779 километрам в секунду. Таким образом, можно определить «световуюсекунду» как расстояние, которое свет проходит в пустоте за одну секунду; такая единица расстояния равна 299 779 километрам. Отсюда уже нетрудно основать систему мер. «Световая минута» будет равна 60 световым секундам; «световой час» — 60 световым минутам и так далее, вплоть до хорошо знакомого нам «светового года» — расстояния, которое свет (в пустоте) проходит за год. Это расстояние равно 9 460 000 000 000 километров. Округленно можно считать световой год равным 9,5 триллиона (9,5 · 1012) километров. Можно перейти и к «световым векам» и к «световым тысячелетиям», но это едва ли кому-нибудь нужно. При измерениях астрономических расстояний чаще всего пользуются световым годом. (Есть еще «парсек», который равен 3,26 светового года, или приблизительно 30 триллионам километров, но эту единицу получают, исходя из другого принципа, и нам она не понадобится.) Используя в качестве единицы измерения световой год, мы можем говорить, что Вега удалена от нас на 27 световых лет; это совсем немного, если учесть, что большинство звезд нашей Галактики удалено от нашей солнечной системы на 35 000 световых лет, а расстояние от нас до ближайшей другой большой галактики составляет 2 100 000 световых лет. Разницу между 27 и 35 000 (или 2 миллионами) легче представить, чем разницу, скажем, между 250 триллионами и 300 квадрильонами (или 15 квинтильонами), хотя пропорции в обоих случаях одни и те же. Более того, применение скорости света в качестве единицы расстояния, оказывается, обладает еще тем достоинством, что позволяет несколько проще сформулировать связь между пространством и временем. Пусть, например, экспедиция, прибывшая на спутник Юпитера Ганимед, в какой-то момент находится в 800 миллионах километров от Земли. (Расстояние до Ганимеда, конечно, меняется со временем, так как и Земля и Ганимед движутся по своим орбитам.) Расстояние от нас до экспедиции можно определить как 44,8 световой минуты. В чем преимущество такого способа выражать расстояние? Во-первых, с числом 44,8 легче оперировать, чем с числом 800 000 000. Во-вторых, допустим, экспедиция поддерживает радиосвязь с Землей; радиограмма, посланная с Ганимеда на Землю (или наоборот), придет через 44,8 минуты. Таким образом, световые единицы дают и расстояние и время, нужное для связи. (На самом деле в мире, где межпланетные путешествия станут обычным делом, астронавты, я думаю, будут измерять расстояния не в «световых минутах», а скорее в «радиоминутах».) Затем, когда (и если) придет время межзвездных путешествий, а с ним и необходимость в скоростях, близких к скорости света, пригодится и еще одно преимущество световых единиц. Коль скоро релятивистское замедление времени в самом деле существует и для путешественника, движущегося с очень высокой скоростью, время течет медленнее, то путешествие на Вегу, видимо, займет у него всего месяц или неделю. Тем же, кто останется дома, на Земле, путешествие на Вегу, удаленную на 27 световых лет, покажется длящимся не менее 27 лет. Путешественник, возвратившийся из такой экспедиции (какой бы короткой она ему ни показалась), обнаружит, что его друзья постарели по меньшей мере на 54 года. Такое же путешествие к туманности Андромеды займет по земному (или «объективному» времени) не меньше 2 100 000 лет, так как Андромеда находится от нашей планеты на расстоянии 2 100 000 световых лет. Тут снова мы сразу оцениваем и расстояние и время.* * *
Моя идея состоит в том, что этот же принцип можно применить к области сверхкратких промежутков времени. Вместо огромных расстояний, которые свет покрывает за обыкновенные единицы времени, почему бы не поразмыслить о невероятно кратких мгновениях, за которые свет покрывает обыкновенные расстояния? Если уж мы решили говорить о «световой секунде», равной расстоянию, которое свет (в пустоте) покрывает за секунду (299 779 километров), то почему не говорить о «световом километре», равном времени, за которое свет (в пустоте) покроет расстояние в один километр, 1/299 779 секунды? В самом деле, почему бы и нет? Единственное неудобство заключается в том, что 299 779 — не круглое число. Однако по любопытному совпадению, о котором и не грезили создатели метрической системы мер, скорость света очень близка к 300 000 километров в секунду, так что «световой километр» можно принять равным 1/300 000 секунды. Получится даже более круглое число, если заметить, что 31/3 светового километра равны почти точно 0,00001, или 10-5 секунды. Кроме того, чтобы получить более мелкие единицы времени, нужно лишь задаваться все более и более мелкими единицами расстояния, которое должен пройти свет. Так, 1 километр (105 сантиметров) равен миллиону миллиметров, а 1 миллиметр (10-1 сантиметров) равен миллиону миллимикронов. Сделав еще один шаг в этом направлении, мы сможем сказать, что 1 миллимикрон (10-7 сантиметров) равен миллиону ферми. Название «ферми» было предложено (но пока еще, насколько мне известно, официально не утверждено) для единицы длины, равной одной миллионной миллимикрона, или 10-13 сантиметров. Эта единица названа в честь покойного Энрико Ферми, и я буду пользоваться ею в дальнейшем. Итак, мы можем составить табличку световых единиц для самых кратких мгновений начиная со светового километра.
1 световой километр = 1 000 000 световых миллиметров 1 световой миллиметр = 1 000 000 световых миллимикронов 1 световой миллимикрон = 1 000 000 световых фермиЧтобы перевести эти единицы в обычные единицы времени (1 световой километр = 1/300 000 секунды), нужно просто составить еще одну короткую табличку:
3 световых километра = 10-5 секунд (одной стотысячной секунды) 3 световых миллиметра = 10-11 секунд (одной стомиллиардной секунды) 3 световых миллимикрона = 10-17 секунд (одной квадрильонной секунды) 3 световых ферми = 10-23 секунд (одной стосекстильонной секунды)Но зачем останавливаться на световом ферми? Можно дробить время все мельче и мельче, снова и снова деля результат на миллион. Однако вернемся вновь к единице ферми. Она равна 10-13 сантиметров, то есть одной десятитриллионной сантиметра. Что интересно именно в этой конкретной величине и почему она названа по имени знаменитого физика-атомщика? Дело в том, что 10-13 сантиметров, кроме всего прочего, еще и приблизительный размер различных субатомных частиц. Итак, световой ферми — это время, за которое луч света проходит из конца в конец, например, протона. Световой ферми — время, необходимое самому быстрому из известных движений, чтобы покрыть наименьшее из мыслимых расстояний. Пока не придет день, когда мы откроем что-нибудь, что движется быстрее света и имеет размеры меньшие, чем элементарные частицы, нам едва ли придется столкнуться с периодом времени более кратким, чем световой ферми. Ныне световой ферми — самая малая доля секунды.
* * *
Разумеется, вы спросите, что может случиться в течение светового ферми. И если действительно что-то случится за это невообразимо малое мгновение, то откуда будет известно, что это произошло не за один световой миллимикрон, который, как он ни ничтожно краток, все же в миллион раз дольше светового ферми? Возьмем для примера частицы высоких энергий. Такие частицы (если их энергия достаточно велика) движутся почти со скоростью света. И, когда одна из них на такой скорости приближается к другой, между ними нередко происходит реакция, вызываемая действием взаимных «ядерных сил». Однако ядерные силы «сильны» лишь на самых коротких расстояниях. Их действие ослабевает с ростом расстояния так резко, что оказывается ощутимым лишь в пределах 1–2 ферми от частицы. Таким образом, речь идет о двух частицах, проскакивающих мимо друг друга почти со скоростью света и способных взаимодействовать в диапазоне 1–2 ферми. При той колоссальной скорости, с которой они движутся, они располагают временем всего в 1–2 световых ферми, чтобы войти в крошечную зону взаимодействия и покинуть ее. И все-таки реакции происходят! Ядерные реакции, протекающие в течение мгновений порядка 1 светового ферми, мы относим к «сильным взаимодействиям». Они происходят в результате действия сил, ощутимых лишь на самых коротких расстояниях, какие только можно вообразить, и это самые могучие из всех известных нам сил. «Ядерные силы» такого рода на самом деле в 137 раз больше хорошо знакомых нам электромагнитных сил. Ученые освоились с этим фактом и были готовы к тому, что любая ядерная реакция между отдельными частицами ядра может быть заметна лишь в течение периодов порядка 1 светового ферми. Однако тут же возникли осложнения. Когда частицы налетали одна на другую с энергией, достаточной для сильного взаимодействия, вдруг выяснилось, что при этом рождаются новые, ранее неизвестные частицы. Некоторые из этих новых частиц (первая была обнаружена в 1950 году) поразили ученых тем, что оказались очень массивными, явно тяжелее нейтрона и протона, которые до тех пор считались самыми массивными из всех известных частиц. Эти сверхтяжелые частицы были названы гиперонами (приставка «гипер» происходит от греческого слова, означающего «над», «сверх», «более»). Известны три класса таких гиперонов, которые различаются по названиям различных греческих букв. Есть лямбда-частицы, сигма-частицы и кси-частицы, которые тяжелее протона примерно на 12, 13 и 14 процентов соответственно. Теоретически казалось естественным, что должны существовать одна пара лямбда-частиц, три пары сигма-частиц и две пары кси-частиц. Такие частицы отличаются друг от друга по электрическому заряду и еще тем, что в каждой паре одна из них — античастица. Один за другим все гипероны были обнаружены в экспериментах, проводимых в пузырьковых камерах. Когда (в начале 1959 года) нашли кси-частицу, набор гиперонов стал полным. Однако в целом гипероны оказались весьма странными малютками. Живут они недолго, всего одну невообразимо краткую долю секунды. Ученые же считают, что они живут чрезвычайно долго: ведь их распад происходит в мире ядерных сил, в котором счет времени идет на световые ферми. И все же факт есть факт. Даже самые нестабильные из гиперонов, сигма-ноль-частицы, живут не менее чем квинтильонную долю секунды. Может показаться, что это довольно короткий промежуток времени. Но если тот же период выразить не в обычных единицах, а в световых, то окажется, что квинтильонная доля секунды равна 30 000 световых ферми. Слишком долго! Но даже 30 000 световых ферми — это необычайно короткий срок жизни для гиперона. У других гиперонов, включая недавно открытые кси-ноль-частицы, период полураспада длится примерно 30 000 000 000 000 световых ферми, или 30 световых миллиметров. Так как ядерные силы, расщепляющие гипероны, действуют по крайней мере в 10 триллионов раз дольше того промежутка времени, который требуется для рождения частиц, то эти силы должны быть гораздо слабее тех сил, которые относятся к «сильным взаимодействиям». Естественно, о новых силах говорят, что они относятся к «слабым взаимодействиям», и они поистине слабы, так как почти в триллион раз слабее даже электромагнитных сил. Новые частицы, имеющие отношение к «слабым взаимодействиям», были названы «странными частицами», и это название, приставшее к ним, отчасти оправданно. У каждой частицы есть «странность», выраженная числами: +1, 0, –1 или –2. У таких обычных частиц, как протоны и нейтроны, «странность» равна 0; у лямбда- и сигма-частиц «странность» равна –1; у кси-частиц «странность» равна –2 и так далее.
* * *
Путь движения сквозь вещество и поведение различных гиперонов (и других элементарных частиц) прослеживаются по эффекту их воздействия на молекулы вещества, с которыми они сталкиваются. Обычно такое столкновение влечет за собой просто отрыв одного или двух электронов от молекулы воздуха. То, что остается от молекулы, называется заряженным ионом. Капелька воды гораздо охотнее образуется около иона, чем около первоначальной незаряженной молекулы. Когда быстро движущаяся частица сталкивается с молекулами в специально приспособленном для опытов сосуде, заполненном перенасыщенным водяным паром (так это делается в камере Вильсона) или жидким водородом при температуре его кипения (так делают в пузырьковой камере), то каждый образующийся ион тотчас становится центром — в первом случае водяной капельки, а во втором — пузырька газообразного водорода. Таким образом, движущаяся частица отмечает свой путь тоненькой дорожкой водяных капель. Когда частица распадается на две другие, которые начинают двигаться в двух разных направлениях, водяная дорожка прослеживает и их пути, разветвляясь в форме буквы γ. Наши органы чувств не могут воспринять эти мгновенные изменения. Но фотоснимок за фотоснимком фиксируют следы частиц, предоставляя физикам-ядерщикам возможность проследить пути частиц и события, разыгравшиеся в мире частиц. Только субатомные частицы, которые сами имеют электрический заряд, эффективно выбивают электроны с внешних оболочек молекул воздуха. Именно поэтому заряженные частицы и можно выследить по дорожкам в паре, а незаряженные или нейтральные частицы в любом классе частиц обнаруживаются последними. Например, нейтрон, который не несет заряда, был открыт на целых 18 лет позже подобной ему (но несущей электрический заряд) частицы — протона. И в семействе гиперонов последней была обнаружена кси-ноль-частица, одна из лишенных заряда тяжелых частиц («ноль» означает «нулевой заряд»). И все же незаряженные частицы можно обнаружить именно по отсутствию следа. Например, кси-ноль-частицу порождает частица, имеющая заряд, а распадается она в конце концов, давая заряженные частицы другого типа. На фотографии, которая наконец «сорвала банк» (а было изучено 70 000 фотографий!), были видны дорожки, разделенные значительным пробелом. К этому пробелу не удалось подогнать ни одну известную незаряженную частицу: любая из них дала бы пробел другого вида или другую последовательность событий после него. Подходит только кси-ноль-частица. Так, методом безжалостного исключения ученые нашли ту единственную частицу, которая не вызывала сомнений. Но где здесь световые единицы, с которых я начал? Пожалуйста: ведь частица, движущаяся почти со скоростью света, имеет возможность, если время ее жизни равно примерно 30 световым миллиметрам, проделать путь в 30 миллиметров, прежде чем распадется. Здесь одно предполагает другое. Пользуясь обычными единицами, вы могли бы сказать, что длина следа примерно 30 миллиметров предполагает, что период полураспада равен примерно триллионной доле секунды (и наоборот); но между этими численными величинами нет никакой видимой связи. Сказать же, что след в 30 миллиметров предполагает период полураспада в 30 световых миллиметров, — тоже верно, но как отчетливо проявляется взаимосвязь! Вновь, как и в случае астрономических единиц расстояния, скорость света позволяет одним числом охарактеризовать и расстояние и время.
* * *
Группа частиц, вышедшая на сцену раньше гиперонов, — это мезоны. Эти частицы выступают в среднем весе: они легче протонов и нейтронов, но тяжелее электрона (поэтому их название и было образовано от греческого слова, означающего «средний»). Мезонов тоже известно три разновидности. Два более легких вида мезонов различают греческими буквами: это мю-мезоны, открытые в 1935 году и имеющие массу, которая составляет примерно 11 процентов массы протона, и пи-мезоны, открытые в 1947 году, — их масса составляет примерно 15 процентов массы протона. Наконец, начиная с 1949 года было открыто несколько необычайно тяжелых мезонов, так называемых ка-мезонов. Их массы равны примерно половине массы протона. В целом мезоны не так нестабильны, как гипероны. Их время жизни дольше. Даже самые устойчивые из гиперонов имеют период полураспада лишь 30 световых миллиметров, тогда как период полураспада мезонов колеблется от 8000 световых миллиметров (у заряженных пи-мезонов) до 800 000 световых миллиметров (у мю-мезонов). Теперь уже 800 000 световых миллиметров покажутся вам поистине долгой «полужизнью», поэтому я напомню, что в обычных единицах это как раз 1/400 000 секунды. Короткое мгновение для нас, но долгое, очень долгое время по ядерным масштабам. Из мезонов только ка-разновидность относится к «странным» частицам. Ка-плюс- и ка-ноль-мезоны имеют «странности», равные +1, а ка-минус-мезон имеет «странность» –1. Кстати, слабые взаимодействия недавно вызвали в физике почти революцию. Примерно в первые 8 лет после их открытия слабые взаимодействия казались не более чем досадной неясностью. И вдруг в 1957 году в результате исследований, связанных с ними, обнаружили, что «закону сохранения четности» подчиняются отнюдь не все процессы в природе. Я не буду углубляться в подробности; пожалуй, достаточно сказать, что демонстрация опыта поразила физиков как гром среди ясного неба; двое молодых ученых, которые разгадали загадку, тотчас стали лауреатами Нобелевской премии, а перед теорией ядра открылись новые горизонты. Кроме мезонов и гиперонов, известна только одна нестабильная частица — нейтрон. В атомном ядре нейтрон стабилен; но пребывания в одиночестве он не выдерживает и в конце концов распадается, порождая протон, электрон и нейтрино. (Разумеется, античастицы — позитроны и антипротоны — нестабильны в том смысле, что вступают в реакцию с электронами и протонами. В обычных условиях это совершается не позже чем примерно через миллионную долю секунды после их рождения. Однако, если бы эти античастицы оказались в изоляции, они оставались бы неизменными до бесконечности, а именно это мы и подразумеваем под стабильностью.) Период полураспада нейтрона равен 1010 секундам (или примерно 17 минутам), а это значит, что он живет примерно в миллиард раз дольше, чем любая другая нестабильная частица. В световых единицах период полураспада нейтрона составил бы 350 миллионов световых километров. Другими словами, если бы группа нейтронов неслась со скоростью света, то они покрыли бы расстояние 350 миллионов километров (от одной крайней точки земной орбиты до другой и еще немного), прежде чем половина из них распалась бы. Разумеется, нейтроны, которыми пользуются ученые, движутся далеко не со скоростью света. На деле нейтроны, особенно подходящие для расщепления урана, — это как раз очень медленные нейтроны, движущиеся не быстрее молекул воздуха. Их скорость равна примерно 1,5 километра в секунду. Однако даже так, ползком, поток нейтронов покроет расстояние 1500 километров, прежде чем половина из них распадется. А на этой дистанции с ними может случиться многое и многое другое. Например, если нейтрон движется в уране или плутонии, то у него есть шанс быть захваченным ядром и положить начало делению ядер. И сыграть немаловажную роль в том, что мир, в котором мы сегодня живем, станет еще более сложным и опасным.
10. К порядку!
Энтропия — одно из самых волнующих слов в науке. Оно слетает с языка, небрежно порхая и как бы между прочим, но, если попросить говорящего объяснить этот термин, он тотчас начинает страдать косноязычием. Я тоже не исключение: научился употреблять это слово с изящной непринужденностью и круто менять тему разговора, как только меня просят объяснить его значение. Но нельзя же бесконечно увертываться. Итак, стиснув зубы и слегка побледнев, я приступаю…* * *
Начну с закона сохранения энергии. Он утверждает, что энергия может переходить из одного вида в другой, но что ее нельзя ни сотворить, ни уничтожить. Этот закон отражает наш жизненный опыт, поскольку никто не знает, почему энергию нельзя ни сотворить, ни уничтожить; так считают просто потому, что ни самыми хитроумными опытами, ни самыми тщательными наблюдениями ученым не удалось обнаружить ни одного случая, когда энергия была бы сотворена из ничего или исчезла бесследно. Закон сохранения энергии был открыт в 1840 году и просуществовал безмятежно и счастливо целых полвека. Он как нельзя лучше подходил для объяснения всех встречавшихся земных проблем. Разумеется, астрономы задумывались над тем, откуда берутся гигантские потоки энергии, излучаемой Солнцем в течение всей долгой истории солнечной системы, и не могли найти ответа, который удовлетворил бы и астрономов, и закон сохранения энергии. Но то Солнце. На Земле таких проблем не существовало… пока не открыли радиоактивность. В 1890 году появилась необходимость узнать, откуда берется огромная энергия, излучаемая радиоактивными веществами. Примерно лет десять закон сохранения энергии переживал трудные времена. Затем, в 1905 году, Альберт Эйнштейн доказал (математически), что масса и энергия должны быть различными свойствами одного и того же и что самая крошечная доля массы эквивалентна огромной порции энергии. Всю энергию, высвобождаемую в процессе радиоактивности, следует отнести за счет исчезновения массы столь малой, что измерить потерю обычными методами просто невозможно. Эта идея указала на источник энергии, превосходно объясняющий природу излучения Солнца и других звезд. После 1905 года теорию Эйнштейна снова и снова подтверждали эксперименты физиков, а в 1945 году апофеозом этих доказательств стал взрыв атомной бомбы. Закон сохранения энергии теперь господин положения в большей мере, чем когда бы то ни было, и всерьез ученые не ждут, что это положение поколеблется в будущем, разве что при самых исключительных обстоятельствах. По сути дела, закон этот столь незыблем, что ни один работник патентного бюро, находясь в здравом уме, не стал бы тратить и долю секунды на рассмотрение любого проекта устройства, предназначенного для получений большей энергии, чем оно само потребляет. (Такое устройство называется «вечным двигателем первого рода».)
* * *
Первой машиной, которая превращала тепло в механическую работу в больших масштабах, был паровой двигатель, изобретенный в начале XVIII века Томасом Ньюкоменом. В конце века двигатель, усовершенствованный Джеймсом Уаттом, нашел практическое применение. Так как паровая машина производила работу путем перемещения энергии в форме тепла из горячего резервуара с паром в холодный резервуар с водой, то наука о взаимопревращениях энергии и работы была названа термодинамикой — от греческих слов, означающих «движение тепла». Закон сохранения энергии играет столь важную роль в устройствах типа паровой машины, что его часто называют Первым началом термодинамики. Первое начало термодинамики говорит нам, что если резервуар с паром содержит некоторое количество энергии, то от паровой машины нельзя получить работы больше, чем допускает запас этой энергии. Это как будто справедливо; нельзя получить что-то за ничего. Но, уж конечно, можно, скажете вы, получить всю работу из энергии, которая есть в паре, — по крайней мере если предположить, что устранены потери и трение. Увы, нет. Постройте самую совершенную из всех возможных паровых машин, избавьтесь полностью от трения и потерь — все равно вам никогда не удастся превратить всю энергию в работу. В термодинамике не то что нельзя выиграть — нельзя даже получить свое. Первым, кто недвусмысленно указал на это, был французский физик Сади Карно. В 1824 году он заявил, что часть тепловой энергии, которая может быть превращена в работу, даже при идеальных условиях зависит от разности температур горячего и холодного резервуаров. Он дал следующее уравнение:
Идеальная отдача = (Т2 — Т1)/Т2;здесь Т2 — температура горячего резервуара, а Т1 — температура холодного. Эта формула справедлива в абсолютной шкале температур. (О ней мы расскажем в главе 12.) Если горячий резервуар имеет абсолютную температуру 400 градусов (127 градусов по шкале Цельсия), а холодный — абсолютную температуру 300 градусов (27 градусов по шкале Цельсия), то идеальная отдача будет равна (400–300)/400, или просто 0,25. Другими словами, в работу может быть превращена в лучшем случае лишь четверть тепла, содержащегося в паре, тогда как три четверти его просто не используются. Более того, имея только горячий резервуар и ничего более, — так что ему придется служить одновременно и холодным, — вы получите, согласно уравнению Карно, идеальную отдачу (400–400)/400, то есть просто нуль. В паре много энергии, но ни единая часть ее не может быть превращена в работу, если в устройстве как-нибудь не предусмотрена разность температур. Так же обстоит дело и с другими формами энергии; ситуация будет яснее, если взять пример более будничный, чем паровой двигатель. Большой камень, лежащий на краю обрыва, может произвести работу, если его переместить из положения с большой потенциальной энергией в поле силы тяжести в положение с меньшей потенциальной энергией, скажем на дно обрыва. Чем меньше разность потенциальных энергий (чем менее глубок обрыв), тем меньше работы может, падая, совершить камень. А если вообще обрыва нет, а есть просто плоскогорье, то камню некуда падать, совершая при этом работу, даже если плоскогорье находится на высоте 6000 метров над уровнем моря. Следовательно, ни одно устройство не может извлечь работу из системы, которая целиком находится на одном энергетическом уровне. Это один из способов сформулировать то, что называют Вторым началом термодинамики. Устройство, предназначенное для того, чтобы извлечь работу при одном только энергетическом уровне, есть «вечный двигатель второго рода». По существу, почти все вечные двигатели, изобретаемые армией заблудших фантазеров Земли, относятся к этому типу. Так вот, патентные учреждения не станут тратить времени и на такие проекты. Как только появляются два энергетических уровня, энергия тотчас начинает перетекать с одного уровня (мы зовем его верхним) на другой (мы зовем его нижним), но никогда — в обратном направлении (если только не перекачивать ее силой). Человечество уже давно свыклось с этим фактом. Другими словами, тепло самопроизвольно переходит от горячего тела к холодному; валун сам скатывается с края обрыва к его дну, электрический ток самопроизвольно течет от катода к аноду. Сказать: «Поток энергии всегда направлен от высокого потенциального уровня к низкому потенциальному уровню» — это значит лишь другими словами выразить Второе начало термодинамики. (Можно доказать, что из единственности направления потока энергии — от высокого к низкому — неизбежно следует тот факт, что невозможно извлечь работу из системы с одним уровнем энергии и наоборот, так что и то и другое — полноправные способы формулировать Второе начало.)
* * *
Далее: работа никогда не осуществляется мгновенно. На нее неизменно требуется время. Что же происходит в течение этого времени? Простоты ради представим себе, что паровая машина работает как «замкнутая система», то есть как своего рода изолированная от всего и вся часть мироздания, в которую никакая энергия не может ни проникнуть извне, ни покинуть ее, если первоначально она была в системе. Согласно Второму началу термодинамики, в такой паровой машине — замкнутой системе — тепло также должно устремляться из точки с высоким энергетическим потенциалом (в машине — из горячего резервуара) к точке с низким потенциалом (холодному резервуару). По мере перекачки энергии горячий резервуар охлаждается, а холодный нагревается. Следовательно, разность температур горячего и холодного резервуаров уменьшается в течение всего периода времени, когда совершается работа. Но это означает, что количество энергии, которое может быть потрачено на работу (а оно зависит от разности температур), должно все время уменьшаться. Наоборот, количество энергии, которую уже невозможно превратить в работу, должно все время расти. Это увеличение недоступной для нас энергии есть неумолимое следствие перетока тепла, отображенное Вторым началом термодинамики. Поэтому сказать, что в любом самопроизвольном процессе (то есть в таком, где энергии открыт путь с высокого на низкий уровень) количество недоступной энергии увеличивается со временем, — значит просто по-иному выразить Второе начало термодинамики. Немецкий физик Рудольф Клаузиус указывал на все это еще в 1865 году. Он придумал величину, выражающую отношение изменения тепла к температуре, и назвал эту величину энтропией. Почему он так ее назвал, не известно. Энтропия по-гречески означает «превращение в», но этого едва ли достаточно. В любом процессе, связанном с изменением количества энергии, энтропия Клаузиуса повышается. Даже если уровни энергии со временем не уравниваются, всегда существует своего рода сопротивление переходу от одного уровня энергии к другому. Падающее тело должно преодолеть сопротивление воздуха, электрический ток должен преодолеть сопротивление проводника. В каждом случае количество энергии, доступное для превращения в работу, уменьшается, а недоступное для такого превращения, увеличивается. И в каждом случае это отражается в росте отношения изменения теплоты к температуре. Разумеется, можно представить себе идеальный случай, когда этого не происходит. Горячий и холодный резервуары могут быть отделены друг от друга идеальным теплоизолятором, камень может падать в полной пустоте, электрический ток — течь по сверхпроводнику, все поверхности — скользить друг по другу без всякого трения и без всякого излучения. Во всех таких случаях не было бы никакого повышения энтропии; изменение энтропии было бы равно нулю. Однако эти случаи обычно существуют только в воображении; в реальной жизни к нулевому изменению энтропии можно приблизиться, но не достичь его. И, конечно, даже в идеальном случае изменение энтропии никогда не бывает отрицательным. Энтропия никогда не уменьшается. В свете всего сказанного самая короткая формулировка Первого и Второго начал термодинамики, которую я знаю, такая: «В любой замкнутой системе полная энергия остается постоянной, а полная энтропия со временем только повышается».
* * *
Развитие Первого и Второго начал термодинамики шло главным образом по линии изучения самого теплового потока, вне связи со строением вещества. Однако в 1803 году Джон Дальтон положил начало атомистической теории, а к середине XIX века она вполне созрела для того, чтобы породить новую ветвь развития этих двух законов, которая истолковывала изменения энергии как следствие движения атомов и молекул. Эта точка зрения вызвала к жизни статистическую интерпретацию Второго начала, пролившую яркий свет на тайну изменения энтропии. Сам Клаузиус пришел к некоторым заключениям, вытекающим из представления о газах как ансамблях беспорядочно движущихся молекул, но математическую картину такой системы довели до совершенства только шотландский математик Джеймс Клерк Максвелл и австрийский физик Людвиг Больцман (в 1859 году и в последующие годы). Благодаря математическому аппарату Максвелла и Больцмана газы (и вообще материю) стало возможно описывать как тела, состоящие из большого количества молекул, энергии которых лежат в некотором интервале значений. В газах эта энергия проявляет себя в форме хаотического движения молекул, при котором молекулы сталкиваются друг с другом и разлетаются в стороны, причем считается, что столкновения происходят идеально упруго, так что в сумме все молекулы не теряют ни в скорости, ни, следовательно, в энергии. Определенная молекула в определенном объеме газа могла бы иметь (в некоторый определенный момент времени) любое количество энергии движения (кинетической энергии), от самых малых количеств до очень больших. Однако весь объем газа можно охарактеризовать некоторой средней для всех молекул величиной энергии. Измеряя температуру, мы измеряем как раз эту среднюю кинетическую энергию. Средняя кинетическая энергия молекул газа при абсолютной температуре 500 градусов вдвое больше средней кинетической энергии молекул газа при абсолютной температуре 250 градусов. В какой-нибудь данный момент кинетическая энергия одной из молекул в горячем газе может оказаться даже ниже кинетической энергии одной из молекул в холодном газе; но среднее по всем молекулам количество энергии для данного объема всегда находится в прямой пропорции к температуре. (Это похоже на то, что, хотя жизненный уровень в стране X выше, чем в стране Y, какой-нибудь житель страны X вполне может оказаться беднее какого-нибудь жителя страны Y.) Допустим теперь, что некоторый резервуар горячего газа соединен с некоторым резервуаром холодного. Так как средняя кинетическая энергия молекул горячего газа выше, чем молекул холодного, можно с уверенностью предсказать, что в типичном случае «горячие» молекулы будут двигаться быстрее, чем «холодные». (Я беру слова «горячая» и «холодная» в кавычки потому, что такие представления, как тепло и температура, неприменимы к отдельным молекулам, а имеют смысл лишь для систем, содержащих очень большое число молекул.) Когда две молекулы, столкнувшись, разлетаются, их общая энергия не изменяется, но может оказаться перераспределенной. При некоторых из таких перераспределений «горячая» молекула может стать даже «горячее», тогда как «холодная» станет еще «холоднее»; в результате молекулы с высокими энергиями приобретут еще большую энергию за счет молекул с низкими энергиями. Однако возможны многие, очень многие перераспределения, при которых молекула с низкой энергией набирает энергию за счет молекулы с высокой энергией, так что в конечном счете обе они оказываются обладательницами некоторой средней энергии. «Горячая» молекула становится «холоднее», а «холодная» — «теплее». Это значит, что когда происходит очень большое число столкновений, то результатом подавляющего большинства их оказывается более равномерное распределение энергии. Эффект от тех немногих случаев, при которых энергетическая разница возросла, будет полностью стерт последующими перераспределениями. Горячий газ охладится, а холодный газ нагреется, и в конце концов оба газа придут в равновесие при некоторой единой (промежуточной) температуре. Конечно, с этой — статистической — точки зрения не исключена возможность, что в результате случайного совпадения все «горячие» молекулы (или почти все) вдруг отберут энергию у всех «холодных» молекул и тепло перейдет от холодного тела к горячему. Это повысит разность температур, а за нею и количество энергии, которую можно превратить в работу, и таким путем уменьшатся недоступная энергия, названная нами энтропией. С точки зрения статистики может случиться, что вода в чайнике замерзнет, тогда как плита под ним раскалится еще сильнее. Однако вероятность такого случая (по теории Максвелла) столь ничтожно мала, что, если бы даже вся известная нам Вселенная состояла только из чайников, подогревающихся на плитах, и то вряд ли хотя бы один из них хоть раз замерз за всю известную историю Вселенной; в пределах разумного едва ли можно было бы надеяться стать свидетелем такого удивительного события, даже если все время неотрывно следить за каждым чайником. Кстати говоря, молекулы воздуха в пустой закупоренной бутылке хаотически движутся во всех направлениях. По чистой случайности они могли бы вдруг все двинуться вверх. Их общей кинетической энергии хватило бы с избытком, чтобы преодолеть силу тяжести, и бутылка вдруг подлетела бы вверх. Но вероятность такого случая опять-таки столь ничтожна, что никто, собственно, и не рассчитывает увидеть что-нибудь подобное. И все же следует признать, что правильнее было бы сформулировать Второе начало термодинамики так: «Во всякой замкнутой системе энтропия непрерывно или по крайней мере почти непрерывно растет со временем».
* * *
Энтропию можно представить себе также как нечто имеющее отношение к «порядку» и «беспорядку». Этим словам трудно дать определение, понятное всем и каждому, но интуитивно мы представляем себе «порядок» как нечто характерное для набора предметов, методично расположенных по какой-то логической системе. А там, где никакой логической системы не существует, скопление предметов будет в «беспорядке». Можно также считать все, что находится в «порядке», расположенным так, что существует способ отличить одну часть от другой. Чем менее отчетливы эти отличия, тем меньше степень «порядка» и тем больше степень «беспорядка». Например, колода карт находится в совершенном порядке, если она разложена по мастям, а карты каждой масти — по старшинству. Любую часть колоды можно отличить от другой. Велите мне указать, где двойка червей, и я скажу, что она в колоде пятнадцатая сверху. Если колода разложена по мастям, но внутри каждой масти карты перемешаны, то я предскажу место данной карты не так точно. Я скажу, что двойка червей лежит где-то между четырнадцатой и двадцать шестой картами, но где точно, я не знаю. Отличие одной части колоды от другой стало менее определенным, и, значит, теперь уже в колоде меньшая степень порядка. Если карты перетасованы так, что невозможно установить никакой системы, которая позволила бы определять, где какая карта, то я уже совершенно ничего не смогу сказать о местонахождении двойки червей. Одну часть колоды уже нельзя отличить от другой — карты находятся в совершенно беспорядочном состоянии. Еще примеры различной степени порядка: какие-то объекты выстраиваются в своего рода ряды и шеренги, скажем, атомы или молекулы в кристалле или солдаты, марширующие в строю на параде. Допустим, мы наблюдаем парад с балкона. Если солдаты идеально соблюдают равнение, то мы увидим шеренгу, потом интервал, потом другую шеренгу, еще интервал и так далее. Мы различаем участки двух видов (одни, темные, заполнены солдатами, другие — просветы между шеренгами), которые сменяют друг друга. Если часть солдат нарушит строй, то в просветах появятся темные пятна, а в участках, которые были заполнены солдатами, появятся пробелы. Различие между двумя видами участков будет слабее, и степень упорядоченности станет меньше. Если солдаты совсем перестанут соблюдать строй и каждый пойдет по-своему, то солдат будет везде поровну и уже совсем нельзя будет отличить шеренги от интервалов, а следовательно, неупорядоченность возрастет еще больше. Но беспорядок все же не будет полным. Солдаты идут в одном определенном направлении, и если нам не удастся отличить одну часть колонны от другой, то мы сможем по крайней мере определенно судить о своем положении относительно их движения. С одной стороны мы будем видеть, что солдаты идут влево, с другой — вправо, с третьей — прямо на нас и так далее. Наконец, если солдаты будут двигаться совершенно хаотически, с разными скоростями в разных направлениях каждый, то, где бы мы ни стояли, одни будут двигаться на нас, другие — от нас, какая-то часть — влево, другая — вправо… Нам не удастся уже ни выделить определенные группы среди солдат, ни определить свое положение. Беспорядок станет гораздо более полным. Вернемся, однако, к молекулам и рассмотрим еще раз резервуар горячего газа, соединенный с объемом холодного газа. Если бы вы видели молекулы этих газов, вы могли бы отличить молекулы горячего газа от молекул холодного, опираясь на тот факт, что первые в среднем движутся быстрее, чем вторые. Но и не видя молекул, вы можете сделать это, наблюдая за ртутным столбиком термометра. Так как тепло переходит от горячего газа к холодному, разница в энергичности среднего молекулярного движения, а тем самым и в температуре уменьшается и различие между двумя газами становится все менее четким. Наконец, когда температуры обоих газов уравняются, отличить их друг от друга станет невозможно. Другими словами, когда тепло перетекает в направлении, предписанном Вторым началом термодинамики, беспорядок возрастает. Поскольку энтропия тоже увеличивается, вы могли бы подумать: уж не являются ли энтропия и неупорядоченность весьма родственными понятиями? По-видимому, так оно и есть. В любом самопроизвольном процессе повышается и энтропия, и беспорядок. Если перетасовать разложенную по порядку колоду карт, то получится беспорядочно перемешанная колода, но не наоборот. (Разумеется, при дьявольском везении вы могли бы, начав с беспорядочно перемешанной колоды и перетасовав ее, получить колоду, разложенную в полном порядке, но, говоря начистоту, станете ли вы пробовать и если да, то за какое время рассчитываете управиться? А ведь это задача всего-навсего с 52 объектами. Представьте себе, что то же самое нужно сделать с несколькими квинтильонами квинтильонов предметов, тогда вы не удивитесь, что чайник на плите не замерзает.) Если строю солдат разрешить разойтись, они быстро станут беспорядочной толпой. С другой стороны, весьма мала вероятность, что по чистой случайности в беспорядочном движении толпы вдруг образуется безупречный строй парада. Все самопроизвольные процессы влекут за собой увеличение беспорядка и повышение энтропии, причем и тот и другая идут рука об руку. Можно показать, что из всех форм энергии теплота самая беспорядочная. Соответственно во всех самопроизвольных процессах, связанных с другими (не тепловыми) формами энергии, некоторая часть энергии всегда превращается в тепло, а это само по себе уже означает увеличение беспорядка, а с ним и энтропии. Зато ни в каких реальных условиях весь запас теплоты в системе невозможно перевести в какой-либо другой, нетепловой вид энергии, ибо это само по себе означало бы возрастание порядка и тем самым понижение энтропии. Наоборот, если некоторое количество теплоты претерпевает понижение энтропии, переходя в другую форму энергии, то остальная тепловая энергия должна испытать такое повышение энтропии, которое с избытком окупило бы первый процесс. Общее изменение энтропии всей системы должно сводиться к ее увеличению.
* * *
Не трудно, конечно, привести случаи понижения энтропии, коль скоро речь идет не о всей системе, а о части ее. Например, мы видим, как человечество извлекает металлы из руд и создает машины исключительной сложности из металлических болванок. Видим, как скользят вверх лифты, катят в гору автомобили, строятся в колонны солдаты и раскладываются по порядку карты. Все эти и очень многие другие действия связаны спонижением энтропии, вызываемым жизнедеятельностью человечества. Возникает впечатление, что разумная жизнь способна «повернуть вспять энтропию». Тут, однако, не все учтено. Люди поглощают пищу и поддерживают свою жизнеспособность благодаря энергии, извлекаемой из химических реакций в организме. Они сжигают уголь и нефть, чтобы дать энергию машинам. Используют энергию гидроэлектростанций, чтобы получить из руды алюминий. Короче, вся направленная на понижение энтропии деятельность человека осуществляется за счет повышающих энтропию процессов, связанных с потреблением пищи и топлива. Действия, повышающие энтропию, далеко перевешивают всю деятельность по понижению энтропии. Общий конечный результат — повышение энтропии. Сколько бы мы ни стучали по столу и ни призывали: «К порядку! К порядку!», порядка нет, а беспорядок увеличивается. На самом деле, говоря об изменении энтропии на Земле, несправедливо рассматривать Землю в отрыве от Солнца, ибо она постоянно потребляет его энергию. Поток энергии Солнца питает все процессы на Земле, которые связаны с местными понижениями энтропии: образование угля и нефти из растительности, круговорот веществ в атмосфере и океане, дальние перемещения масс воды в виде пара и так далее. Именно благодаря щедрости этого источника мы продолжаем извлекать энергию из сжигаемого угля или нефти, используем силы ветра, рек, водопадов и т. д. Всеми этими запасами энергии прямо или косвенно мы обязаны Солнцу. Понижение энтропии на Земле настолько мало по сравнению с возрастанием энтропии, в грандиозных масштабах происходящим на Солнце при превращении массы в энергию, что оно попросту поглощается им. Солнечная система в целом испытывает колоссальное, не прекращающееся ни на миг повышение энтропии. Так как то же самое должно происходить и в других звездах, физики XIX столетия рассудили, что энтропия всей Вселенной, по-видимому, быстро растет и рано или поздно наступит момент, когда конечный запас энергии, заключенный в конечной Вселенной, достигнет состояния с максимальной энтропией. В таком состоянии во Вселенной иссякнет энергия, которую можно было бы превратить в полезную работу. Вселенная придет в состояние максимального беспорядка. Она будет представлять собой однородную массу с одинаковой повсюду температурой. Не будет происходить никаких изменений, по которым можно было бы измерить время, и, следовательно, время не будет существовать. Не будет возможностей отличить одно место в пространстве от другого, и, следовательно, пространство также прекратит свое существование. Такое состояние с максимальной энтропией было названо «тепловой смертью Вселенной». Но, конечно, при этом подразумевалось, что Вселенная конечна, то есть имеет пределы. Если она бесконечна, то и запас энергии в ней неограничен, а для того чтобы энтропия достигла максимума, потребуется вся бесконечная вечность. Кроме того, можно ли неопровержимо доказать, что законы термодинамики, выведенные в наших лабораториях из наблюдений за небольшими объемами пространства и верные (или как будто верные) для чуть-чуть бóльших объемов — нашей астрономической округи, верны и для всей Вселенной в целом? Возможно, во Вселенной происходят совершенно неизвестные нам процессы, которые понижают энтропию так же быстро, как она повышается звездной активностью, так что суммарное изменение энтропии — нуль. Это могло бы оказаться верным, даже если предположить, что небольшие участки пространства, скажем отдельные галактики, претерпевают длительное повышение энтропии и могут когда-нибудь погрузиться в состояние, соответствующее местной «тепловой смерти». Теория непрерывного сотворения материи[7] предполагает, по существу, постоянный уровень энтропии во Вселенной в целом.
* * *
Но даже если Вселенная конечна и даже если ее постигнет «тепловая смерть», означает ли это конец всего и вся? Коль скоро нам удалось дотасовать карты до совершенной неупорядоченности, то неумолимо придет момент, если ждать достаточно долго, когда непрерывное тасование приведет по крайней мере к частичному порядку. Ну, а ждать «достаточно долго» во Вселенной, находящейся в состоянии тепловой смерти, — это не проблема, так как времени в ней не существует. Поэтому можно не сомневаться, что после периода «безвременья» во Вселенной, имеющей максимальную энтропию, чисто случайный поток частиц, несущий чисто случайно приобретенную энергию, сможет то там, то здесь, то раньше, то позже привести к частичному восстановлению порядка. Было бы любопытно знать, не является ли наша нынешняя Вселенная, столь необъятная и столь трудная для нашего понимания, просто результатом небольшого случайного упорядочивания в очень маленькой части немыслимо огромной Вселенной, находящейся фактически в состоянии тепловой смерти? Может быть, мы просто скользим по поверхности крошечной волны, случайно всколыхнувшей на мгновение безмятежную гладь пруда, и лишь ограниченность нашего бесконечно малого кругозора в пространстве и времени создает у нас ощущение, будто мы несемся в реве космического водопада повышающейся энтропии, водопада колоссальной величины и продолжительности.
11. Современная демонология
Зная, кто я и что я, вы, надо полагать, считаете, что, появись у меня хоть малейшая возможность подмешать элемент фантазии в какую-нибудь серьезную научную дискуссию, я тотчас принялся бы за дело под сверкание неоновых огней и пальбу фейерверков. И все же в предыдущей главе, посвященной энтропии, я совершенно умолчал об одном самом знаменитом плоде фантазии в истории науки. Но не сделал я этого только потому, что хочу посвятить ему целую главу. Когда горячее тело соприкасается с холодным телом, тепло стихийно переходит от горячего к холодному, и оба тела в конце концов приходят к температурному равновесию. Такова одна из сторон необратимого возрастания энтропии при всех самопроизвольных процессах в замкнутой системе. В начале XIX века было общепринято, что теплота — это жидкость, перетекающая от горячего к холодному, точно так же как камень скатывается с высокого уровня на низкий. Упав с горы в ущелье, камень остается неподвижным. Точно так же, когда два тела достигают температурного равновесия, уже ни при каких условиях не может возникнуть потока тепла. Однако в середине XIX века шотландский математик Джеймс Клерк Максвелл встал на другую точку зрения; он истолковал температуру как меру средней кинетической энергии частиц системы. Частицы горячего тела движутся (в среднем) быстрее частиц холодного. Когда они приходят в соприкосновение, их энергии перераспределяются. В целом наиболее вероятно такое перераспределение, при котором скорость (и, следовательно, кинетическая энергия) быстрых частиц снизится, а скорость (энергия) медленных частиц повысится. В конце концов средняя скорость частиц в обоих телах станет одинаковой. С позиций такой теории «частиц в движении» представлялось возможным, чтобы поток тепла не прекратился и после достижения теплового равновесия. Представьте себе, например, два сосуда с газом, соединенных узкой трубкой. Вся система находится в тепловом равновесии. Это значит, что средняя энергия молекул в любой достаточно заметной порции газа (не меньшей, скажем, чем можно разглядеть в микроскоп) равна средней энергии любой другой достаточно заметной его порции. Это не значит, что энергии всех до единой молекул одинаковы. Среди них есть молекулы, движущиеся быстро, есть движущиеся очень быстро и даже движущиеся необыкновенно быстро. Есть и медленные молекулы, и очень медленные, и очень-очень медленные. Однако здесь царит полнейший хаос и отчаянная давка. Более того, они еще и сталкиваются друг с другом миллионы раз в секунду, так что скорость и энергия каждой из них постоянно меняются. Поэтому всякая достаточно заметная порция газа имеет свою справедливую долю и быстрых, и медленных молекул, а в результате — и ту же температуру, какую имеет всякая другая достаточно заметная порция. Но что, если — пусть это будет редкая случайность — несколько молекул высокой энергии вдруг перешло бы по соединительной трубке из правого сосуда в левый, а несколько молекул низкой энергии — из левого в правый? Тогда левый сосуд нагрелся бы, а правый охладился (хотя общая средняя температура осталась бы той же самой). Итак, несмотря на тепловое равновесие, возник бы поток тепла и энтропия понизилась бы. На самом деле есть некоторая бесконечно малая вероятность (невообразимо близкая к нулевой), что это случится просто благодаря хаотическому движению молекул. Разницей между «нулем» и «почти-почти-почти нулем» в практике можно пренебречь, но с точки зрения теории она колоссальна; так вот, по теории «тепловой жидкости» возможность переноса при температурном равновесии равна нулю, а по теории «частиц в движении» она равна «почти-почти-почти нулю». Максвеллу нужен был какой-то эффектный драматический образ, для того чтобы эта разница стала предельно выпуклой. Вообразите, сказал Максвелл, что в трубке, соединяющей сосуды с газом, сидит крошечный демон. Пусть он пропускает быстрые молекулы только справа налево, а медленные — только слева направо. Тогда быстрые молекулы соберутся в левом, а медленные — в правом сосуде. Левый сосуд нагреется, а правый охладится. Энтропия повернет вспять. Если, однако, теплота представляет собой непрерывную текучую жидкость, то «демон Максвелла» ничего подобного сделать не сможет. Так Максвелл успешно упразднил расхождение между теорией «тепловой жидкости» и теорией «частиц в движении».* * *
Демон Максвелла, кроме того, дал возможность уйти от роковой неизбежности возрастания энтропии. Как я уже объяснял в предыдущей главе, возрастание энтропии означает увеличение беспорядка, истощение, износ. Коль скоро энтропия обязана непрерывно и безудержно повышаться, везде во Вселенной когда-то должна установиться одна и та же температура. В таких условиях жизнь, как всякое движение, невозможна (разумеется, это более чем далекое будущее). Некоторые представители человеческого рода воспринимают это почти как посягательство на их личное бессмертие. Поэтому существует сильная психологическая потребность не признавать, что энтропия должна расти. В демоне Максвелла сторонники этой точки зрения находят опору своей позиции. Конечно, демона не существует, но его главная функция заключается в умении выбирать между движущимися молекулами. Научные возможности человечества все расширяются, и может прийти день, когда оно создаст какое-нибудь устройство, выполняющее функцию демона Максвелла. Неужели человечество не сможет тогда понизить энтропию? Увы, в этом рассуждении есть изъян. Мне больно говорить это, но Максвелл сплутовал. В присутствии демона газ нельзя считать самостоятельной изолированной системой. Полная система состоит в этом случае из газа и демона. В процессе выбора между быстрыми и медленными молекулами повышение собственной энтропии демона с избытком перекрыло бы то небольшое понижение энтропии, которое он произвел бы в газе. Я, конечно, понимаю: вы сильно сомневаетесь в том, что я когда-нибудь действительно занимался изучением каких бы то ни было демонов, не говоря уже о демоне специальной, максвелловской разновидности. Тем не менее я убежден в истинности своего утверждения, ибо каждый кирпичик всего здания человеческой науки требует, чтобы энтропия демона вела себя именно так. И если человек изобретет когда-нибудь устройство, которое будет выполнять функцию демона, вы можете биться об заклад, что повышение энтропии этого устройства будет больше понижения энтропии, которое ему удается осуществить. Это как раз тот случай, когда можно смело спорить на что угодно.
* * *
Энтропию нельзя понизить, и это просто факт. Никто и никогда ни при каких обстоятельствах не измерил понижение энтропии и не доказал, что в конечном счете оно произошло в какой-либо независимой части Вселенной. Но в строгом смысле понятие энтропии применимо только к проблемам, связанным с потоками энергии. Можно дать ее точное математическое определение через количество теплоты и температуру и везде, где речь идет о теплоте и температуре, точно измерить ее. Что же произойдет, если мы выйдем за рамки этих случаев и распространим понятие энтропии на другие явления? Тогда энтропия потеряет строгий научный смысл и станет лишь довольно расплывчатой мерой упорядоченности или грубым мерилом общих свойств всех стихийных изменений. Но можно ли хотя бы здесь, за пределами строгих количественных связей, построить рассуждение, которое доказало бы, что где-то произошло то, что мы называем понижением энтропии в широком смысле этого слова? Вот пример, приведенный моим другом в одном довольно горячем споре. Он сказал: «Как только мы покидаем мир энергии, понижение энтропии идет как ни в чем не бывало. Люди это делают все время. Вот большой толковый словарь Уэбстера. В нем вы найдете все слова шекспировского „Гамлета“ и „Короля Лира“, расположенные в особом порядке. Шекспир взял эти слова, разместил их в ином порядке и создал свои пьесы. По-видимому, слова в пьесах являют собой более высокую и более значительную степень порядка, чем слова в словаре. Значит, в каком-то смысле здесь произошло понижение энтропии. А где соответственное повышение энтропии в самом Шекспире? Создавая свои пьесы, он ел столько же и тратил столько же энергии, сколько потратил бы, бражничая все это время в таверне „Русалка“». Боюсь, здесь мой друг припер меня к стене. Поэтому мне пришлось снова прибегнуть к своей старой уловке, особенно удобной, когда нужен выход из такого безнадежного положения. Я переменил тему разговора. Но с тех пор я не раз мысленно возвращался к этому вопросу. Так как я чувствую (интуитивно), что повышение энтропии — всеобщая необходимость, то мне, по-видимому, следовало бы построить какое-нибудь доказательство того, что закон возрастания энтропии приложим и к творчеству Шекспира. И вот как представляется мне эта проблема теперь. Коль скоро мы сосредоточиваемся только на самих словах, то давайте вспомним, что слова Шекспира имеют для нас смысл лишь потому, что мы понимаем по-английски. Знай мы только польский, страницы Шекспира и страницы словаря казались бы одинаково бессмысленными. Поскольку поляки, как и англичане, пользуются латинским алфавитом и поскольку в обоих алфавитах последовательность букв одинакова, то из этого следует, что человек, говорящий только по-польски, мог бы найти в словаре любое английское слово без труда (даже не зная его значения), но в английском тексте пьес Шекспира он мог бы найти то же самое слово только по счастливой случайности. Поэтому слова, рассматриваемые лишь как слова, более упорядочены в словаре, и если понятие порядка в том смысле, какой оно имеет для словаря, приложимо к текстам Шекспира, то создание пьес приводит к повышению энтропии. Но, рассматривая слова только как некие сочетания букв, я, конечно, увожу вас в сторону. И делаю я это, только чтобы вообще исключить слова из своего рассуждения. Слава Шекспира не в том, что он использовал слова-символы, а в идеях и образах, которые он выразил посредством этих символов. Стоит нашему польскому другу взять польский перевод Шекспира, как он не колеблясь предпочтет чтение Шекспира чтению польского словаря. Поэтому оставим в стороне слова и займемся идеями. Тут уж глупо сравнивать произведения Шекспира со словарем. Глубокое проникновение Шекспира в сущность человеческой природы идет не от словаря, а от острой наблюдательности и понимания людей. Так что если уж пытаться в этом случае определить, в какую сторону изменяется энтропия, то будем сравнивать не слова Шекспира со словами из словаря, а шекспировский взгляд на жизнь с самой жизнью. Из того, что никто в истории литературы так превосходно не отобразил мысли и чувства человечества, как Шекспир, еще не следует вывод, что он превзошел саму жизнь. Просто невозможно с любым количеством действующих лиц, меньшим, чем все люди, которые когда-либо существовали, и в любом переплетении страстей, более или менее слабых, более или менее сложных и запутанных, чем все порожденные жизнью, полностью воспроизвести жизнь. Шекспир был вынужден брать лишь самое важное и характерное в жизни, и сделал он это исключительно хорошо. Двадцать его героев за три часа обнажают больше чувств и отражают больше различных сторон человеческой природы, чем это мыслимо в жизни для любой реальной группы из двадцати человек в течение тех же трех часов. В этом смысле Шекспир делает то, что мы могли бы назвать локальным понижением энтропии. Но если мы возьмем всю систему и сравним всего Шекспира со всей жизнью, то станет бесспорно ясно, что Шекспир неизбежно упустил значительную долю сложности и глубины духовной жизни человечества и что его пьесы отражают в общем повышение энтропии. А что верно для Шекспира, то верно, как мне кажется, и для интеллектуальной жизни всего человечества. Я не уверен, что сумел бы развить эту мысль достаточно четко, но я считаю, что в самом деле не может существовать творения человеческого духа, созданного из ничего. Все возможные математические соотношения, законы природы, комбинации слов, линий, красок, звуков… все существует хотя бы потенциально. Отдельный человек открывает то или другое, но, говоря совершенно строго, не порождает открываемого. Обнаружение потенциальной возможности и воплощение ее в что-то конкретное всегда сопряжены с какими-нибудь потерями, а это, вообще говоря, и будет повышением энтропии в данном, так сказать, превращении. Потеря может быть очень небольшой, как, например, в математике. Отношения, выраженные теоремой Пифагора, существовали и до Пифагора, до зарождения человечества и Земли. Когда эта теорема была понята, она была понята в том виде, в каком уже существовала. Я не вижу каких-либо существенных потерь, связанных с процессом ее осознания. Увеличение энергии, в сущности, равно нулю. В физических теориях нет такого явного совершенства и потому более ощутимо повышение энтропии. А в литературе и в искусстве, которые имеют целью воздействовать на наши чувства и показать нам нас самих, повышение энтропии (даже если это делают такие сверхгении, как Софокл и Бетховен) должно быть огромным. И, уж конечно, никогда невозможно превзойти потенциально возможное; никогда не создается ничего такого, что не существовало бы потенциально. А это не более чем другой способ утверждать, что энтропия не понижается никогда.
* * *
Другой пример того, что, по-видимому, являет собой постоянное понижение энтропии в больших масштабах, — это эволюция живых организмов. Я говорю совсем не о том, что организмы создают из простых соединений сложные, растут и размножаются. Это делается за счет солнечной энергии, и не требуется большой сноровки, чтобы доказать, что здесь имеет место общее повышение энтропии. Я имею в виду гораздо более тонкое явление. Специфические свойства живых клеток (а через половые клетки, следовательно, и свойства многоклеточных живых организмов) передаются от поколения к поколению путем копирования генов. Гены — невероятно сложные соединения, а копирование должно быть в идеале абсолютно точным. Но где в нашем несовершенном мире достижимы идеалы? В копии вкрадываются погрешности, отклонения от совершенства, которые мы называем мутациями. Так как появление ошибок — процесс случайный, а очень сложное химическое соединение имеет гораздо больше возможных путей упрощения, чем дальнейшего усложнения, то подавляющее большинство мутаций ведет к худшему, то есть клетка нового организма утрачивает какую-либо способность, свойственную родительской клетке. (Точно так же существует гораздо больше способов, сильно колотя по хрупкому механизму изящных часов, сломать их, чем внести в них какое-либо заметное усовершенствование. По этой причине, если часы стали, не бейте по ним молотком и не ждите, что они после этого начнут ходить.) Такая «мутация к худшему» согласуется с тенденцией к повышению энтропии. От поколения к поколению первоначальный «портрет» гена стирается. Беспорядок увеличивается, каждая новая «копия» утрачивает что-то от родительского организма, и жизнь идет к вырождению вплоть до вымирания. Это было бы неизбежно, если бы все зависело только от мутаций. Но этого не происходит. Больше того: происходит противоположное. Эпоха сменяет эпоху, и в целом живые организмы становятся все сложнее и приспособленнее. Из одноклеточных вышли многоклеточные. Из двух зародышевых листков вышло три. Из двухкамерного сердца вышло четырехкамерное. Эту форму явного понижения энтропии не удастся объяснить, ссылаясь на энергию Солнца. Разумеется, приток энергии в умеренных количествах (то есть ниже смертельного уровня) ускоряет темп мутаций. Но он не влияет на относительную долю благоприятных и неблагоприятных мутаций. Приток энергии просто быстрее толкал бы жизнь к генетическому хаосу. Нам остается только призвать демона (как сделал Максвелл), умеющего делать выбор между мутациями, пропуская одни и закрывая путь другим. Такой демон действительно существует, хотя, насколько мне известно, я единственный, кто так его назвал и приравнял к демону Максвелла. Открыл же его английский естествоиспытатель Чарльз Роберт Дарвин, и поэтому мы назовем его «демоном Дарвина», хотя сам Дарвин называл это естественным отбором. Те мутации, которые делают живое существо менее приспособленным к борьбе с другими за пищу, продление рода и к самозащите, действуют, очевидно, в таком направлении, что безвременный конец для этого существа становится вероятнее. А те мутации, которые повышают его способность к борьбе за существование, очевидно, ведут к расцвету вида. И, разумеется, приспособленность или отсутствие ее относится только к тем определенным условиям, в которых существо живет. Что толку верблюду от лучших в мире плавников? Значит, действие мутаций наряду с естественным отбором направлено в сторону постоянного повышения приспособляемости каждого данного существа к данной среде, а это уже повышение энтропии. Может показаться, что в данном случае мы слишком произвольно определили повышение энтропии, противореча тому, что понимается под этим обычно; у нас повышение энтропии означает увеличение, а не уменьшение порядка. Однако противоречия нет. И я постараюсь объяснить это путем аналогии. Допустим, у вас есть несколько небольших фигурок различных форм и размеров и вы выстроили их в шеренгу посередине большого подноса. Если встряхнуть поднос, фигурки сместятся и строй нарушится. Это похоже на процесс мутаций без естественного отбора. Энтропия явно повышается. Но предположим, что в подносе есть вмятины, к которым различные фигурки точно подходят. Если фигурки располагались на подносе как попало, но не лежали каждая в своей вмятине, то при встряске они рано или поздно найдут свои углубления и установятся в них. Как только фигурка в результате случайных перемещений найдет свою вмятину, выбить ее оттуда удастся уже лишь весьма сильной встряской. Это похоже на процесс мутаций, сопровождающийся естественным отбором. Энтропия здесь тоже повышается, ибо все фигурки оказались во вмятинах, где их центры тяжести расположены ниже, чем в любом другом близком к этому положении. А понижение центра тяжести — это обычный путь повышения энтропии; скажем, так растет энтропия, когда камень скатывается с горы.
* * *
Организмы, которые мы знаем лучше других, усовершенствовали свою приспособленность к среде за счет некоторых очень заметных усложнений. Поэтому мы обычно думаем, что эволюция — это непременный переход от простого к сложному. Мы обманываемся. Там, где упрощение помогает приспособиться к среде, эволюция идет в обратном направлении — от сложного к простому. Пещерные животные, обитающие в абсолютной темноте, теряют зрение, хотя у родственных им видов, живущих в других условиях, со зрением все в порядке. Пресмыкающимся стоило, так сказать, великого труда развить две пары ног, достаточно сильных, чтобы поднять тело над землей. Змеи отказались от ног и, скользя на брюшной чешуе, чувствуют себя лучше всех современных рептилий. Особенно большие упрощения претерпели паразиты. Солитер превосходно приспособился к своей среде, отказавшись от пищеварительного аппарата, в котором он больше не нуждается, и от функций передвижения. Он сохранил только умение поглощать поверхностью, снабженной хоботками, которыми он прикрепляется к внутренней стороне кишок своего хозяина, и способность бесконечно продуцировать яйца. Такие изменения обычно называют (с заметным оттенком неодобрения) дегенерацией. Однако это лишь наш предрассудок. Почему обязательно одобрять приспособляемость одних и не одобрять приспособляемость других? В холодном и хаотическом мире эволюции приспособляемость есть приспособляемость. Если мы спустимся до биохимического уровня, то увидим, что люди лишились способности синтезировать многие органические соединения, которой обладают другие виды, в частности растения и микроорганизмы. То, что мы потеряли способность вырабатывать различные витамины, ставит нас в зависимость от нашей диеты, а тем самым и от других организмов, более разносторонних в этом отношении. Это такое же дегенеративное изменение, как и отказ солитера от желудка, который ему не нужен, но, незаслуженно хорошо относясь к самим себе, мы стараемся не замечать таких вещей. И, конечно, никакое приспособление не является окончательным. Если среда изменится, если климат планеты станет значительно холоднее или теплее, суше или влажнее, если какой-либо хищник станет более опасным или появится новый хищник, если паразитические организмы станут более заразными или ядовитыми, если по какой-либо причине иссякнут источники пищи… тогда приспособление, которое было удовлетворительным прежде, станет неудовлетворительным и вид вымрет. Чем выше приспособленность к определенной среде, тем меньшее изменение ее приведет к вымиранию вида. Следовательно, долго живут те виды, которые выбирают особенно устойчивую среду, и те, которые как бы сохраняют универсальность, хорошо приспособившись к одной среде и успешно соперничая в ней с другими видами, но не настолько хорошо, чтобы уже не быть в состоянии сменить среду на более подходящую, если первая подведет их.
* * *
Когда мы говорим о демоне Дарвина (как и о демоне Максвелла), встает вопрос о роли разума. Но здесь уже дело не в том, чтобы имитировать демона, а скорее в том, чтобы свести его роль на нет. Многим кажется, что развитие нашей техники сводит на нет действие закона естественного отбора. Техника дает возможность людям с плохим зрением ни в чем не уступать остальным, просто купив очки, диабетикам — прекрасно чувствовать себя благодаря инъекциям инсулина, а душевнобольным — жить как ни в чем не бывало за счет благотворительных и медицинских учреждений и т. д. Некоторые люди называют это «опасностью мутационного вырождения» и, как вы можете судить по самому выражению, весьма серьезно обеспокоены этим вопросом. Все без исключения, насколько мне известно, считают это положение опасным для человечества, хотя практически никто не предлагает каких-либо конкретных решений. А так ли уж это опасно для человечества? Вывернем-ка «опасность мутационного вырождения» наизнанку и посмотрим, нет ли тут чего-нибудь еще, кроме опасности. Во-первых, свести действительно на нет демона Дарвина невозможно, потому что естественный отбор по самому своему определению должен действовать вечно. Человек есть часть природы, и его воздействие на окружающую среду так же естественно, как и действие ветра и воды. Итак, допустим, что закон естественного отбора действует; рассмотрим же, как он действует. Поскольку он сводится к приспособлению человека к среде (единственное, что дарвиновскому демону под силу, или по крайней мере единственное, что он делает), нужно выяснить, в чем суть среды, окружающей человека. В некотором смысле наша среда — это весь мир от влажных, жарких джунглей до ледяных просторов. Люди всегда, на какой бы низкой стадии развития они ни находились, сплачиваются в общества, что дает им возможность изменять среду в соответствии с нуждами человека, даже если они умеют лишь разводить костры, или обтесывать камень, или обламывать ветви деревьев. Поэтому, не вызывает сомнений, что самым важным из условий среды для человека являются другие люди — или, если хотите, человеческое общество. В сущности, подавляющая часть человечества неразрывно связана с жизнью в очень сложных обществах, определяющих все стороны нашего существования. Если близорукость в Нью-Йорке не такая беда, как в примитивном охотничьем обществе, а диабет в Москве не такое неудобство, как в обществе, не знающем биохимии, то откуда взяться «эволюционной нужде» в совсем не обязательных хорошем зрении и хорошо функционирующей поджелудочной железе? Человек все в большей мере становится иждивенцем всего общества; может быть, то, что мы называем «опасностью мутационного вырождения», есть просто приспособление человека к новой роли, подобное приспособлению солитера к своей. Даже если этот факт не ласкает нашего самолюбия, как эволюционное изменение он вполне разумен. Многих из нас раздражают ограничения, связанные с жизнью в многолюдных муравейниках, которые мы называем городами. Раздражают рабская зависимость от часовой стрелки, заботы и волнения. У некоторых бунт выливается в правонарушения, в «антиобщественное поведение». Другие ищут пустынные уголки Земли, где можно вести жизнь робинзонов. Но если нашим «муравейникам» суждено выжить, то нам понадобятся и люди, которые будут жить их интересами: не станут ходить по газонам, бить светофоры и вываливать мусор на тротуары. Тут уж можно положиться на тех, кто страдает нарушением обмена веществ, потому что они не могут позволить себе бороться с обществом, которому фактически обязаны жизнью. Диабетик не будет тосковать по широким просторам, — там ему негде будет возобновить запас инсулина. А если это так, то демон Дарвина делает лишь то, что естественно. Но из всех сред самая неустойчивая и хрупкая — это, по-видимому, среда, созданная современной сложной техникой. В нынешнем своем виде наше общество существует не более двухсот лет, а дальнейшее его существование могут решить несколько ядерных бомб. Разумеется, эволюция проявляет себя в длительные периоды времени, и двух столетий далеко не достаточно, чтобы вырастить Homo technikos (человек эпохи техники. — Ред.). Разрушение нашего зависящего от техники общества в припадке ядерного неистовства было бы губительным даже в том случае, если бы многие миллионы людей остались в живых. Среда, к которой мы приспособились, исчезла бы, и демон Дарвина, не задумываясь, беспощадно стер бы человечество с лица Земли.
12. Высота самого высокого
Большинство из нас считают поверхность Солнца довольно горячей. Судя по типу ее излучения, температура ее равна примерно 6 тысячам градусов. Однако Homo sapiens с его маленькими горячими руками может добиться и более высоких температур. При взрыве атомной бомбы легко достигается температура выше 100 тысяч градусов. Но для природы и это, конечно, не предел. Температуру солнечной короны оценивают примерно в 1 миллион градусов, а температуру центра Солнца — примерно в 20 миллионов градусов. И эту температуру человек перекрыл. При взрыве водородной бомбы развивается температура примерно 100 миллионов градусов. И все-таки природа превысила эту рекордную температуру: центральные области некоторых очень горячих звезд (Солнце — лишь среднетеплая звезда), как свидетельствуют оценки, могут достигать температур до 2 миллиардов градусов. Два миллиарда градусов — температура значительная (даже по сравнению с температурой самого жаркого дня в Нью-Йорке). Но вот вопрос: до каких пределов она может расти? Есть ли у нее потолок? Иными словами, как горячо самое горячее? Это все равно что спросить: как высоко самое высокое? И я не стал бы тратить время на такие вопросы, если бы в нашем XX веке кое-что из самого высокого уже не было тщательно определено. Например, в добрые старые времена ньютоновской физики считалось, что скорость не имеет предела. Вопрос «какова быстрота самого быстрого» не знал ответа. Появился Эйнштейн, который выдвинул положение, ныне признанное всеми, что скорость света — это максимально возможная скорость и равна она 299 779 километрам в секунду. Ныне считают, что это и есть быстрейшее из быстрых. Так почему же не говорить и о наивысшей температуре? Мне хочется заняться этим вопросом еще и потому, что можно по ходу дела затронуть проблему различных температурных шкал, а ее обсуждение было бы, бесспорно, полезно для читателя. Например, почему я придерживался температурной шкалы Кельвина, приводя цифры в предыдущих абзацах? Была бы какая-нибудь разница, если бы я воспользовался другой температурной шкалой? Если бы была, то какая и почему? Ну, что ж, давайте выясним.* * *
Измерение температуры — дело новое, известное всего лет триста пятьдесят. Чтобы прийти к измерению температуры, нужно было сначала осознать, что существуют явные физические особенности, изменяющиеся более или менее плавно в соотношении с нашими субъективными ощущениями перемены от «холодного» к «теплому». А коль скоро такое свойство замечено и измерено количественно, мы можем заменить субъективное «что-то жарко становится» объективным «термометр показывает на три градуса больше». Одна из самых подходящих физических особенностей, которую, наверное, замечали случайно очень многие люди, — это способность вещества при нагревании расширяться, а при охлаждении сжиматься. Первым, однако, кто попытался использовать ее для измерения температуры, был итальянский физик Галилео Галилей. В 1603 году он опустил перевернутую пробирку с нагретым воздухом в чашу с водой. Охладившись до комнатной температуры, воздух сжался, и вода в пробирке поднялась. Галилей сразу сообразил, в чем дело. Уровень воды продолжал меняться вместе с изменениями комнатной температуры. Воду выталкивало вниз, когда воздух в пробирке нагревался и расширялся, и втягивало в пробирку, когда воздух в ней охлаждался и сжимался. Так Галилео создал термометр (что по-гречески значит «измеритель тепла»). Единственным его недостатком было то, что воздух имел доступ в чашу с водой, а атмосферное давление то и дело менялось. Это тоже заставляло уровень воды то подниматься, то опускаться независимо от температуры и путало расчеты. К 1654 году великий герцог тосканский Фердинанд II изобрел термометр, который не был подвержен влиянию атмосферного давления. На этот раз в закупоренную трубочку была помещена жидкость, которая сама, расширяясь и сжимаясь, указывала изменение температуры. Объем жидкостей изменяется не так заметно, как объем газов, но, использовав большой резервуар, из которого жидкость могла вытесняться лишь в очень тонкую трубку, Фердинанд легко следил по падениям и повышениям уровня жидкости в трубке даже за самыми малыми изменениями объема. Это был первый довольно точный термометр и один из немногих случаев, когда голубая кровь внесла вклад в развитие науки.
* * *
С повышением точности измерений постепенно зрела мысль, что, вместо того чтобы просто наблюдать, как повышается и понижается уровень жидкости в трубке, следует нанести на ней через равные интервалы отметки, которые обозначали бы точные количественные меры температуры. В 1701 году Исаак Ньютон предложил поместить термометр в тающий лед и пометить на нем уровень жидкости нулем, а при температуре человеческого тела — числом 12 и получившийся промежуток разделить на 12 равных частей. Использование двенадцатиградусной шкалы для измерения таких температур было логичным. Англичане питают особое пристрастие к двенадцатиричной системе, а надо ли напоминать, что Ньютон был англичанином? В футе 12 дюймов, в аптекарском фунте 12 унций, в фунте стерлингов 12 шиллингов, в дюжине 12 единиц и в гроссе 12 дюжин. Почему бы и не быть 12 градусам в температурной шкале? Делить шкалу мельче, на числа кратные 12 (скажем, на 24 или 36 градусов), не имело смысла, так как прибор не позволял измерять температуры с такой точностью. Но в 1714 году немецкий физик Габриэль Даниэль Фаренгейт сделал значительный шаг вперед. В первых термометрах использовались либо вода, либо спирт. Однако вода замерзает и термометр перестает работать уже при не очень низкой температуре, а спирт закипает, приводя в негодность термометр, при температуре совсем не высокой. Фаренгейт решил использовать ртуть. Она остается жидкой даже при температуре значительно ниже точки замерзания воды и не закипает при температуре гораздо более высокой, чем точка кипения спирта. Более того, ртуть расширяется и сжимается под влиянием температуры более равномерно, чем вода или спирт. Использовав ртуть, Фаренгейт сделал наилучшие из известных тогда термометров. В своем ртутном термометре Фаренгейт использовал предложение Ньютона, но внес в него кое-какие изменения. Он не взял точку замерзания воды за нуль (может быть, потому, что зимой температура нередко опускается ниже этой точки, а Фаренгейт не хотел усложнять шкалу отрицательными делениями). Вместо этого он решил, что нулевой будет самая низкая температура, какую ему удастся получить в своей лабораторий, а получал он ее, смешивая тающий лед и соль. Затем он пометил цифрой 12 температуру человеческого тела (как и предлагал Ньютон), но и это ненадолго. Термометр Фаренгейта был так хорош, что делить шкалу лишь грубо на 12 градусов не было никакой необходимости. Термометр Фаренгейта мог мерить температуру в 8 раз точнее, поэтому Фаренгейт принял температуру человеческого тела за 96 градусов. При такой шкале точка замерзания воды была немного ниже 32, а точка кипения — немного ниже 212. Фаренгейт, должно быть, обратил внимание на одно счастливое совпадение: разница между двумя этими точками составляет 180 градусов, а число 180 необыкновенно удобно: ведь его можно без остатка поделить на самые разные целые числа: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60 и 90. Поэтому, сохранив нулевую точку в первоначальном виде, Фаренгейт решил, что точкой замерзания воды будет ровно 32, а точкой кипения — ровно 212. В результате получилось, что температура человеческого тела равна (примерно) 98,6 градуса — числу нецелому, но это не столь уж и важно. Так появилась шкала Фаренгейта.
* * *
В 1742 году шведский астроном Андерс Цельсий, работая с ртутным термометром, применил другую шкалу. Он отсчитывал температуру вниз от точки кипения воды, приняв ее за 0, а температуру ее замерзания — за 100 градусов. На следующий год он перевернул шкалу, поскольку естественнее было обозначать возрастающими числами увеличение тепла. Шкала Цельсия стала общепринятой в большей части цивилизованного мира. Ученые находят, что она особенно удобна потому, что в ней жидкое состояние воды укладывается как раз в интервал от 0 градусов в точке замерзания до 100 градусов в точке кипения. Для большей части химических опытов используются водные растворы; вода используется и в физических опытах, связанных с теплотой. Таким образом, область жидкого состояния воды — это область исследований, а поскольку ученые все больше тяготеют к описанию своих измерений в десятичной системе (вскоре они все перейдут на метрическую систему, которая сплошь десятична), то 0 и 100 их вполне устраивают. Шкала из десяти делений давала бы слишком приблизительные данные, шкала из тысячи делений была бы излишне точной. Таким образом, сто делений — это то, что нужно. Однако англичане приняли шкалу Фаренгейта. Они привыкли к ней и ввели ее в колониях, которые, став Соединенными Штатами Америки, сохранили ее. Конечно, в какой-то мере такое постоянство англичан является результатом их «традиционного традиционализма», но в данном случае есть и другая веская причина. Шкала Фаренгейта необыкновенно удобна в метеорологии. Температура воздуха в Западной Европе колеблется самое большее от 0 до 100 градусов по Фаренгейту. Температура ниже 0°Ф или выше 100°Ф в тени там показалась бы крайне необычной. Те же температуры укладывается в шкале Цельсия в интервал от –18 до +38°. Это не только не круглые числа, но и неудобные из-за отрицательных величин. Итак, ныне шкала Фаренгейта в ходу в странах, где говорят на английском языке, а шкала Цельсия — во всех других странах (включая и те, которые не считаются «англосаксонскими», хотя в них говорят по-английски). Более того, ученые повсюду, даже в Англии и Соединенных Штатах, пользуются шкалой Цельсия.
* * *
Но это еще не все. В 1787 году французский химик Жак Александр Сезар Шарль открыл, что при нагревании газ равномерно расширяется, а при охлаждении так же равномерно сжимается. С изменением температуры на 1 градус Цельсия газ прибавляет или теряет ровно 1/273 объема, который он занимает при 0 градусов по Цельсию. Расширение газа при нагревании не удивляет, но вот сжатие его наводит на любопытную мысль. Предположим, охлаждается газ, имеющий объем 273 кубических сантиметра при 0 градусов по Цельсию. При –1 градусе по Цельсию он потеряет 1/273 первоначального объема, который сократится до 272 кубических сантиметров. Легко догадаться, что если газ будет терять по одному кубическому сантиметру на каждый градус, то при –273 градусах по Цельсию он «съежится» до нулевого объема и исчезнет с лица земли. Шарль и его последователи, несомненно, понимали это, но не беспокоились. В действительности газы при охлаждении не следуют до конца закону Шарля (так теперь называется это открытие). Сжатие постепенно прекращается, и еще до –273 °C все газы (об этом и тогда догадывались, а теперь все знают) превращаются в жидкости, а закон Шарля к жидкостям неприменим. Конечно, можно представить себе совершенный газ, который ведет себя в точном соответствии с законом Шарля. Совершенный газ сжимался бы действительноравномерно и неуклонно, он никогда не превратился бы в жидкость и исчез бы при –273 °C. Но поскольку совершенный газ — это всего лишь химическая абстракция, которая не может реально существовать, то беспокоиться не о чем. В течение первой половины XIX столетия постепенно утвердилось мнение, что газы состоят из отдельных частиц — так называемых молекул, находящихся в быстром и хаотичном движении. Следовательно, каждая из них обладает кинетической энергией (то есть энергией движения), а температура представляет собой меру кинетической энергии молекул вещества при данных условиях. Температура и кинетическая энергия движения молекул возрастают и уменьшаются одновременно. Два вещества имеют одну и ту же температуру, когда молекулы каждого из них движутся с одинаковой кинетической энергией. В сущности, именно это равенство кинетических энергий воспринимается человеческими органами чувств (и нашими бесчувственными термометрами), когда мы говорим, что оба вещества имеют одинаковую температуру. Но отдельные молекулы в данном объеме газа при любой температуре отнюдь не обладают одинаковыми энергиями. Энергии отдельных частиц будут самыми различными, что вызывается случайными столкновениями, в результате которых одни молекулы временно оказываются обладателями большого запаса энергии, а другие — сравнительно малого. Однако при каждой температуре газ можно охарактеризовать определенной средней кинетической энергией. В 1860 году шотландский математик Джеймс Клерк Максвелл вывел формулы, которые выражают распределение энергии по молекулам газа при любой температуре и позволяют подсчитывать среднюю кинетическую энергию. Спустя некоторое время английский ученый Уильям Томсон (которому был только что пожалован титул лорда Кельвина) предложил строить температурную шкалу, исходя из кинетической энергии молекул. При 0 °C средняя кинетическая энергия молекул любого вещества имеет некоторую определенную величину. С понижением температуры на каждый градус Цельсия молекулы теряют 1/273 своей кинетической энергии. (Это напоминает закон Шарля, но уменьшение объема газа происходит не совсем равномерно, тогда как убывание энергии молекул, — а уменьшение объема является лишь неизбежным косвенным следствием этого — происходит совершенно равномерно.) Это означает, что при –273 °C, или, точнее, при –273,16 °C молекулы имеют нулевую кинетическую энергию. Вещество — любое вещество — больше охладить нельзя, так как отрицательная кинетическая энергия — вещь немыслимая. Следовательно, температуру –273,16° можно считать «абсолютным нулем». Если построить новую шкалу, в которой за начало взять абсолютный нуль, а каждое деление взять равным обычному градусу Цельсия, то любое показание шкалы Цельсия можно пересчитать в соответствующий отсчет по новой шкале, просто прибавив к нему 273,16. (Новую шкалу называют абсолютной шкалой, или шкалой Кельвина, что более справедливо, раз уж решено называть шкалы по имени их изобретателей; градусы этой шкалы обозначаются либо буквой А, либо буквой К.) Таким образом, вода замерзает при температуре 273,16°К, а кипит при 373,16°К Вообще
К = С + 273,16;
С = К – 273,16.Вы можете спросить, кому нужна шкала Кельвина. Что меняется от простого прибавления 273,16 к каждому показанию шкалы Цельсия? Что это дает нам? А вот что. Очень многие физические и химические свойства материи меняются в зависимости от температуры. Возьмем в качестве простого примера объем совершенного газа (с которым мы встречались, когда говорили о законе Шарля). Изменение температуры при неизменном давлении вызывает изменение его объема. И было бы очень удобно, если бы объем менялся строго пропорционально температуре, то есть удвоение одного отвечало бы удвоению другой. Но если пользоваться шкалой Цельсия, то пропорциональности не получается. При увеличении температуры, скажем, с 20 до 40 °C объем совершенного газа не удваивается. Он просто увеличивается на 1/11 часть первоначального объема. Напротив, если температуру отсчитывать по Кельвину, то удвоение объема в самом деле соответствует удвоению температуры. При возрастании ее с 20 до 40°К, затем до 80°К, до 160°К и так далее объем газа каждый раз будет удваиваться. Короче говоря, в шкале Кельвина более удобно описывать поведение всего, что есть во Вселенной (и ее самой) при изменениях температуры, чем в шкале Цельсия или любой другой. Здесь же я хочу сказать о том, что, охлаждая любое вещество, физик отнимает у молекул какую-то кинетическую энергию. Все когда-либо изобретенные для этой цели устройства могут изъять лишь часть кинетической энергии, как бы мало ее ни было. При каждой попытке охладить вещество кинетической энергии остается в нем все меньше и меньше, но всю ее вещество никогда не сможет отдать охлаждающему устройству. По этой причине ученые не достигли абсолютного нуля и не надеются сделать это, хотя они уже творят чудеса, достигая температур порядка 0,00001°К. Во всяком случае, мы обнаружили здесь еще один предел, ответив на вопрос: «Как холодно самое холодное?»
* * *
Но предел холода — это скорее «глубина самого глубокого», а меня интересует «высота самого высокого», то есть вопрос, нет ли предела горячему и если есть, то где он. Обратимся еще раз к кинетической энергии молекул. Элементарная физика учит, что кинетическая энергия Е движущейся частицы равна 1/2mv2, где m — масса частицы, a v — ее скорость. Решив уравнение Е = 1/2mv2 относительно v, мы получим
 (1)
Но количество кинетической энергии, как я уже упоминал, можно измерить температурой T. Поэтому в формуле (1) можно вместо Е поставить Т (я также изменю постоянную, чтобы получилось правильное число в тех единицах измерения, которыми нам предстоит пользоваться). Итак,
(1)
Но количество кинетической энергии, как я уже упоминал, можно измерить температурой T. Поэтому в формуле (1) можно вместо Е поставить Т (я также изменю постоянную, чтобы получилось правильное число в тех единицах измерения, которыми нам предстоит пользоваться). Итак,
 (2)
Если в этой формуле температуру Т брать в градусах Кельвина, а массу частицы m — в атомных единицах масс, то средняя скорость частиц v получится в километрах в секунду.
Рассмотрим, например, некий объем газообразного гелия. Он состоит из отдельных атомов гелия, причем масса каждого из них равна 4 в атомных единицах. Пусть его температура равна температуре таяния льда (273°К). Тогда в формуле (2) на место Т станет число 273, а на место m — число 4. Подсчитав результат, мы узнаем, что средняя скорость атомов гелия при температуре таяния льда равна 1,31 км/сек.
Так же вычисляются скорости при других значениях Т и m. Скорость молекул кислорода (масса равна 32) при комнатной температуре (300°К) равна
(2)
Если в этой формуле температуру Т брать в градусах Кельвина, а массу частицы m — в атомных единицах масс, то средняя скорость частиц v получится в километрах в секунду.
Рассмотрим, например, некий объем газообразного гелия. Он состоит из отдельных атомов гелия, причем масса каждого из них равна 4 в атомных единицах. Пусть его температура равна температуре таяния льда (273°К). Тогда в формуле (2) на место Т станет число 273, а на место m — число 4. Подсчитав результат, мы узнаем, что средняя скорость атомов гелия при температуре таяния льда равна 1,31 км/сек.
Так же вычисляются скорости при других значениях Т и m. Скорость молекул кислорода (масса равна 32) при комнатной температуре (300°К) равна  , то есть 0,48 км/сек, скорость молекул двуокиси углерода (масса 44) при температуре кипения воды (373°К) равна 0,46 км/сек и так далее.
Формула (2) говорит нам, что при любой данной температуре чем легче частица, тем быстрее она движется. Она также показывает, что при абсолютном нуле (T = 0) скорость любого атома или молекулы, каковы бы ни были их массы, равна нулю. Это еще один путь убедиться в абсолютности абсолютного нуля. Абсолютный нуль — это точка абсолютного (почти абсолютного) покоя атомов и молекул.
Но если нулевая скорость молекул и атомов — нижний предел температуры, то нет ли у нее и верхнего предела? Разве скорость света, о чем мы уже говорили в начале статьи, не является верхним пределом скорости? Когда температура поднимается так высоко, что v в формуле (2) достигнет скорости света и уже не сможет подняться выше, разве мы не достигнем абсолютной вершины, где настолько горячо, что уж горячее быть не может? Давайте предположим, что так и есть, и посмотрим, что из этого получится.
, то есть 0,48 км/сек, скорость молекул двуокиси углерода (масса 44) при температуре кипения воды (373°К) равна 0,46 км/сек и так далее.
Формула (2) говорит нам, что при любой данной температуре чем легче частица, тем быстрее она движется. Она также показывает, что при абсолютном нуле (T = 0) скорость любого атома или молекулы, каковы бы ни были их массы, равна нулю. Это еще один путь убедиться в абсолютности абсолютного нуля. Абсолютный нуль — это точка абсолютного (почти абсолютного) покоя атомов и молекул.
Но если нулевая скорость молекул и атомов — нижний предел температуры, то нет ли у нее и верхнего предела? Разве скорость света, о чем мы уже говорили в начале статьи, не является верхним пределом скорости? Когда температура поднимается так высоко, что v в формуле (2) достигнет скорости света и уже не сможет подняться выше, разве мы не достигнем абсолютной вершины, где настолько горячо, что уж горячее быть не может? Давайте предположим, что так и есть, и посмотрим, что из этого получится.
* * *
Перепишем формулу (2) так, чтобы можно было подсчитывать прямо. У нас получится
T = 40mv2. (3)Коэффициент 40 нужно брать только в том случае, когда мы пользуемся шкалой Кельвина для температуры и километрами и секундами для скорости. Возьмем величину скорости молекул v сразу равной максимальной возможной скорости, то есть 299 779 км/сек — скорости света. Тогда мы получим, по-видимому, максимально возможную температуру (Tмакс).
Тмакс = 3 600 000 000 000 m. (4)Но теперь нужно знать величину m (массу частиц). Чем выше значение m, тем выше максимальная температура. А при температурах, исчисляемых миллионами градусов, все молекулы и атомы рассыпаются, остаются голые ядра. При температурах в сотни миллионов градусов уже возможны реакции слияния простых ядер в сложные. При еще более высоких температурах должен происходить обратный процесс: все ядра должны развалиться на простые протоны и нейтроны. Итак, надо думать, что где-то около максимально возможной температуры (а она, по-видимому, лежит далеко за триллионом градусов) существуют только свободные протоны и нейтроны. Их массы в атомной шкале равны единице. Таким образом, с точки зрения формулы (4) мы делаем вывод, что максимально возможная температура равна 3 600 000 000 000°К. Но действительно ли мы должны принять этот вывод? Увы, надо признаться, что во всем доказательстве начиная уже с формулы (3) была ошибка. Я предполагал, что значение m постоянно, то есть если уж атом гелия имеет массу, равную 4, то он сохраняет ее неизменной при любых обстоятельствах. Вообще так и было бы, если бы взгляды Ньютона на Вселенную были абсолютно правильны. Но в ньютоновской Вселенной нет такой вещи, как максимальная скорость, и, следовательно, температура не может иметь верхнего предела. В эйнштейновском понимании Вселенной верхний предел скорости установлен, следовательно, есть и надежда определить верхний предел температур, но масса, по Эйнштейну, не постоянна. Масса любого предмета (какой бы ничтожной при обычных условиях она ни была, лишь бы нулевой) растет с повышением скорости, становясь бесконечно большой в пределе при скорости света (коротко это можно записать так: «Масса становится бесконечно большой при световой скорости»). При обычных скоростях, скажем не более нескольких тысяч километров в секунду, масса возрастает настолько незначительно, что добавку к обычной массе покоя учитывают разве что в самых точных расчетах. Однако, когда речь идет о скоростях, почти равных или равных скорости света, масса m в формуле (4) бесконечно возрастает и становится неограниченно большой, какую бы частицу ни взять. Следовательно, то же самое происходит и с Tмакс. Ни в ньютоновской, ни в эйнштейновской Вселенной нет предела увеличению температуры. Здесь нет наивысшей высоты самого высокого.
Часть IV Астрономия

13. Ну и температура!
Любой уважающий себя ученый или просто человек, близкий к науке (я говорю о близких к науке, чтобы не оставить за бортом самого себя), мечтает оставить в ней заметный след. Разумеется, в самом хорошем смысле этого слова. Увы, большинству из нас приходится расставаться со своей мечтой. Я давно понял, что мечтаю напрасно. Сердце подсказывает мне, что никогда «закон Азимова» не попадет на страницы учебников физики, никогда «реакция Азимова» не будет запечатлена в учебниках химии. Возможность создать «теорию Азимова» и даже просто высказать «гипотезу Азимова» ускользнула от меня, и я остался ни с чем. Ни с чем — это значит с электрической пишущей машинкой, зычным голосом и тайной надеждой, что какая-нибудь моя мысль, пусть даже случайно высказанная, заронит искорку в более светлую голову и поможет ей придумать что-то стоящее. Так оно и случилось. Через несколько недель после того, как был впервые опубликован материал предыдущей главы, я получил письмо от доктора Чу, работавшего после защиты докторской диссертации в Институте высших исследований в Принстоне. Он изложил свои соображения о максимальной возможной температуре, указав при этом, что выводы предыдущей главы возникли из предположения о бесконечности Вселенной. Если бы Вселенная была конечна, то она имела бы и конечную массу. Если бы вся конечная масса, кроме одной частицы, была полностью превращена в энергию и эта энергия сконцентрировалась бы на единственной оставшейся частице (а мы предположили бы, что можно измерить температуру в системе, состоящей всего из одной частицы), тогда мы наконец добрались бы до максимальной возможной температуры материи. Он вычислил, какова была бы эта температура. Она оказалась чудовищно высокой, но, разумеется, не бесконечной. Однако проблема максимальной возможной температуры при условиях, существующих ныне во Вселенной, продолжала занимать доктора Чу даже после того, как он покинул Принстон и стал работать в Институте космических исследований в Нью-Йорке. В письме, которое он мне послал 14 ноября 1961 года, говорилось (цитирую его с любезного согласия доктора Чу):«Я переключился с физики элементарных частиц на астрофизику тотчас после того, как получил докторскую степень. Ваша статья возбудила во мне интерес к сверхновым звездам. Как известно, горячéе недр этих звезд не бывает ничего. Может быть, именно там верхний предел температуры?»Вскоре он опубликовал статьи в «Физикал ревьюз» и «Анналз оф физикс», в которых в общих чертах излагалась его теория образования сверхновых звезд. С сугубо корыстной целью мне хотелось бы дать вам некоторое представление об этой новой теории, но прошу вас помнить, что доктор Чу ответственности за то, как я ее изложу, не несет. В своих статьях он пользуется двойными интегралами, гиперболическими функциями и математическими приемами всех видов, которые, разумеется, не укладываются в элементарную алгебру и даже меня иногда ставят в тупик. Поэтому, возможно, я могу неверно истолковать некоторые высказывания. Однако я сделал все, что было в моих силах, и, как всегда, начну с самых истоков вопроса, то есть с субатомной частицы — нейтрино. Начало ее волнующей истории связано с именем Эйнштейна. В 1905 году в своей специальной теории относительности Эйнштейн показал, что масса неразрывно связана с энергией и что величина этой энергии может быть подсчитана по простой формуле. (Да-да, я говорю о формуле Е = МС2.) Эта формула была применена к процессу излучения альфа-частиц. Атом урана теряет альфа-частицу и становится атомом тория. Альфа-частица и атом тория вместе имеют массу, которая хоть и ненамного, но все же меньше массы атома урана. Но недостающая масса не исчезает, а превращается в кинетическую энергию стремительной альфа-частицы. Следовательно, все альфа-частицы, испускаемые данным типом атомов, имеют одинаковую энергию. (Вернее, одну из небольшого числа различных энергий, потому что данный тип атома может существовать в нескольких различных энергетических состояниях, и, когда он находится в состоянии, которому отвечает большая энергия, он испускает альфа-частицу с несколько более высокой энергией.) Такое объяснение вполне удовлетворяло ученых. Масса не пропадала, а переходила в энергию, концы с концами сходились, и физики, сияя, потирали руки. Но теперь надо было показать, что и в случае испускания бета-частиц дебет с кредитом сходятся в энергетическом балансе. Хотя масса бета-частицы (электрон) составляет всего 1/7350 массы альфа-частицы (ядра гелия), в принципе это не должно было иметь никакого значения. Однако радиоактивные изотопы не испускали бета-частицы с одинаковой энергией. Оказалось, что бета-частицы испускаются с любой энергией вплоть до определенного максимума. Это максимальное значение определялось «дефектом массы», однако таких значений энергии достигает лишь ничтожно малое число электронов. Практически все частицы испускались с меньшими энергиями, а некоторые имели даже очень малую энергию. В общем получалось так, что некоторое количество энергии куда-то пропадало. Можете себе представить состояние физиков, которые теперь чем-то напоминали бухгалтеров, обнаруживших недостачу. И в самом деле, если энергия исчезала, то нарушался закон сохранения энергии, а ни один здравомыслящий физик не позволит себе предположить это до тех пор, пока не будут изучены все другие возможные варианты. В 1931 году швейцарский физик Вольфганг Паули высказал любопытное предположение. Раз электрон не уносит всю энергию, которая получается в результате потери массы, то, следовательно, должна существовать еще одна частица, которая уносит с собой часть энергии. Однако эту частицу найти не могли, так как у нее, по-видимому, не было каких-либо поддающихся обнаружению отличительных свойств. Из всех этих необнаруженных свойств электрический заряд был самым известным, и, так как потери заряда не обнаруживалось, Паули постулировал, что частица нейтральна. Кроме того, в случае обратного превращения энергии в массу той кинетической энергии, которая оставалась после образования бета-частицы, не хватало бы для создания очень крупной частицы главным образом потому, что большая часть энергии должна была бы превратиться в энергию движения. По-видимому, масса частицы должна быть намного меньше даже массы электрона, а возможно, эта частица совсем не имеет массы покоя. По предположению Паули, частица была так мала, как это только можно себе представить. Ни заряда, ни массы… лишь стремительный призрак, уносящий энергию. Другого объяснения исчезновения энергии не было. В 1932 году обнаружили и назвали нейтроном тяжелую нейтральную частицу (столь же тяжелую, как протон). Затем итальянский физик Энрико Ферми предложил назвать частицу Паули, которая тоже нейтральна, но много меньше нейтрона, нейтрино (что по-итальянски значит нейтрончик). Нейтрино спасло не только закон сохранения энергии, но и закон сохранения спина[8] частицы и образования пары частица — античастица. Но, может быть, эта частица была просто чем-то вроде «постоянной Файнейгла»[9], изобретенной для того, чтобы превращать неправильные ответы в правильные? Действительно ли это нейтрино существовало или оно было придумано остроумными физиками ad hoc (для данного случая), чтобы не дать развалиться шаткому сооружению, которое якобы служило моделью реального мира? Все стало бы на свои места, если бы только нейтрино действительно удалось обнаружить. Для того чтобы заявить о себе, им следовало бы вступить во взаимодействие с другими частицами. Но, к сожалению, нейтрино не делали этого, а если делали, то так редко, что этого никто не замечал. Было подсчитано, что нейтрино может пройти сквозь слой воды толщиной 100 световых лет и при этом у него будут равные шансы и вступить и не вступить во взаимодействие с другими частицами; а вы только представьте себе, как трудно соорудить трубу длиной 100 световых лет! При прохождении сквозь слой воды всего в 50 световых лет шансы нейтрино вступить во взаимодействие понизятся до 25 %, при толще воды в каких-то 25 световых лет шансы уменьшаются до 12,5 % и так далее. В самом деле, существует конечная, хотя и весьма малая, вероятность того, что нейтрино вступит во взаимодействие, проходя через слой воды, скажем, в 2 метра. Известно, что в ядерных реакторах постоянно выделяется большое число нейтрино. Если поместить баки с водой поблизости от ядерного реактора и установить приборы, обнаруживающие гамма-излучение как раз с той длиной волны, которой следует ожидать от взаимодействия нейтрино с протоном, то вероятность того, что одно из великого множества нейтрино вступит во взаимодействие при толще воды всего 1 метр, значительно повысится. Именно так в 1953 году в Лос-Аламосе и доказали существование нейтрино. Это действительно самая настоящая «живая» частица, у нее нет ни массы[10], ни заряда, и она так мала, как это только можно себе представить, но она существует, а физикам только этого и надо. Когда же образуется нейтрино? Самые известные реакции, при которых получается нейтрино, — это реакции превращения нейтрона в протон и наоборот. Нейтрон превращается в протон и электрон — образуется нейтрино. Протон превращается в нейтрон и позитрон — образуется антинейтрино. (Нейтрино и антинейтрино — это разные частицы, отличающиеся друг от друга по спину но обе они не имеют ни массы, ни заряда. В этом разделе обе частицы я буду называть просто нейтрино.) До сих пор самыми значительными источниками нейтрино были звезды. Возьмем для примера Солнце. Его энергия получается в результате превращения водорода в гелий. Ядро водорода состоит из одного-единственного протона, а ядро гелия — из двух протонов и двух нейтронов. Следовательно, при превращении четырех атомных ядер водорода в одно ядро гелия два из четырех протонов атомных ядер водорода должны превратиться в нейтроны, в результате чего образуется два нейтрино (а также позитроны и фотоны). Значит, при превращении каждых двух атомов водорода создается одно нейтрино. Для того чтобы поддерживать выработку энергии, Солнце должно ежесекундно превращать 4,2 миллиона тонн вещества в излучение. При превращении водорода в гелий теряется 0,75 % массы, а для того, чтобы потерять 4,2 миллиона тонн, надо переработать 560 миллионов тонн водорода. Исчезновение более полумиллиарда тонн водорода каждую секунду может показаться нам чудовищной потерей, но в общем-то беспокоиться нечего. Около 3/5 массы Солнца — это водород, так что в Солнце имеется добрый октильон тонн водорода. Если водород будет и дальше расходоваться теми же темпами и никаких других ядерных процессов не последует, то запаса водорода в Солнце хватит примерно на 60 миллиардов лет. Нас с вами к тому времени, по-видимому, уже не будет в живых. Во всяком случае, превращение 560 миллионов тонн водорода в секунду означает, что каждую секунду в ненасытную утробу ядерной машины Солнца должно поступать 2,8 · 1038 атомов водорода. Следовательно, каждую секунду излучается 1,4 · 1038 нейтрино. Нейтрино, которые образуются в недрах Солнца, излучаются во всех направлениях. Конечно, почти все они пролетают мимо такой крошечной цели, как Земля, находящейся примерно в 150 миллионах километров от Солнца. Однако было подсчитано, что через каждый квадратный сантиметр поперечного сечения Земли за секунду пролетает около 10 миллиардов нейтрино с Солнца. Это значит, что они проходят сквозь атмосферу, сквозь океаны, сквозь кору земного шара и его ядро, сквозь нас. Они пролетают сквозь нас постоянно, будь то в ясный или пасмурный день, будь то ночью или днем. Ночью нейтрино сперва проходят сквозь Землю, а затем уже и сквозь нас. И так как они движутся со скоростью света, то достигают вас ночью с задержкой всего лишь 1/23 секунды — из-за того, что им дополнительно нужно пройти расстояние, равное земному диаметру. И пусть это вас не пугает. Максимальная поверхность вашего тела, постоянно подвергающаяся нейтринной бомбардировке, равна 10 000 квадратных сантиметров (а это не так уж мало); в таком случае каждую секунду сквозь вас проходит 100 триллионов (1012) нейтрино. Человек в основном состоит из воды, а одно нейтрино, проходя сквозь слой воды толщиной в 100 световых лет, имеет равную возможность и вступить и не вступить в реакцию. Однако, когда мы подставляем под поток нейтрино поверхность своего тела, которое имеет толщину всего 30 сантиметров, все 100 триллионов нейтрино проходят в целом сквозь 100 триллионов слоев воды толщиной 30 сантиметров, и затратят они на это в общей сложности примерно 1/300 светового года. Это означает, что в среднем одно нейтрино будет вступать в реакцию с частицей в вашем теле каждые 30 000 секунд (и при этом оно еще имеет равную возможность и вступить и не вступить в нее), или примерно каждые 8 часов, а несколько квинтильонов нейтрино проследуют сквозь вас с высокомерным безразличием. А что значит одна нейтринная реакция каждые 8 часов? Пустяк — ведь каждую минуту в теле человека распадаются всего лишь 1 200 000 атомов калия (К40) и 180 000 атомов углерода (С14) (оба элемента всегда есть в человеческом организме и обладают естественной радиоактивностью), пронзая его тело мириадами бета-частиц и гамма-лучей. Так что не стоит обращать внимания на эти нейтрино.
* * *
Высокая температура недр Солнца, равная, по-видимому, 20 миллионам градусов[11], должна обеспечить достаточно большую силу, обусловленную давлением излучения и газовым давлением, для противодействия неимоверной силе сжатия, порождаемой тяготением. И такая игра в «кто кого» происходит во всех звездах. Масса (а следовательно, и сила тяготения) стремится сжать звезду; температура (а следовательно, и световое давление) стремится расширить ее. Пока эти две силы уравновешивают друг друга, все идет хорошо. Однако, когда водород преобразуется в гелий, 4 протона водорода, расположенные сначала на сравнительно большом расстоянии, превращаются в двухпротонное-двухнейтронное гелиевое ядро. Плотность в центре звезды повышается, и, по мере того как образуется все больше и больше гелия, увеличивается также концентрация массы, а следовательно, и сила поля тяготения. Чтобы противодействовать этому и восстановить равновесие, температура в центре звезды должна повыситься. В конце концов температура поднимается так высоко, что «воспламеняются» ядра атомов гелия; они вступают в реакции синтеза и образуют еще более сложные ядра. Пока продолжается этот процесс, температура все растет, и постепенно образуются все более сложные атомы. В конце концов получаются атомы железа. Самыми сложными атомами, которые могут образоваться в результате обыкновенных звездных реакций, являются именно атомы железа. Никакое дальнейшее усложнение ядер не станет источником энергии. Атомы более сложные, чем атомы железа, сами становятся «потребителями» энергии. Поэтому для обычных процессов в звездах появление железа — это уже тупик. Такая звезда напоминает луковицу, так как ее слои имеют различный химический состав. В самом центре звезды находится железное ядро, окруженное слоем кремния, затем следуют слои магния, углерода, гелия и, наконец, слой водорода, который образует поверхность звезды. В каждом слое непрерывно идут реакции слияния ядер, в результате которых образуются более тяжелые ядра, опускающиеся в очередной нижний слой; в конечном счете больше всех от этого выигрывает железное ядро, а проигрывает наружная водородная оболочка. Поле тяготения продолжает увеличиваться, но теперь в центре нет дополнительного источника энергии, который бы поддерживал равновесие. Поскольку центр продолжает разогреваться, то после какого-то критического предела звезда вдруг сжимается. При этом внезапно увеличивается давление в верхних слоях, где еще имеется ядерное горючее, необходимое для реакций синтеза; эти реакции ускоряются, и выделяется колоссальное количество энергии, что кончается взрывом, «вдребезги» разносящим звезду. В результате взрыва возникает гигантская сверхновая звезда, энергия которой создает условия для синтеза (слияния) даже атомов железа и образования еще более сложных атомов… вплоть до урана и, весьма возможно, калифорния. Взрыв рассеивает эти тяжелые элементы в космосе, и образуются новые звезды и звездные системы (вроде нашей), которые сначала включают небольшие количества материи. Означает ли это, что каждая звезда на какой-то поздней стадии своего существования обречена на то, чтобы стать сверхновой? По-видимому, нет. Чем массивнее звезда, тем сильнее ее поле тяготения и, следовательно, выше внутренняя температура и больше светимость на данной стадии цикла ядерных реакций. (Это и есть «зависимость масса — светимость», открытая в 1924 году английским астрономом Артуром С. Эддингтоном. Он первым подсчитал чудовищную температуру звездных недр.) По-видимому, для того чтобы наступила стадия, когда происходит взрыв и образование сверхновой звезды, ее масса с самого начала должна по крайней мере в 1,5 раза превышать массу нашего Солнца. Это «предел Чандрасекара», названный так в честь астронома, который первым его вычислил. Итак, что бы ни случилось с нашим Солнцем, сверхновой звездой оно никогда не станет. Оно даже не сможет разогреться как следует.
* * *
Но какой именно ядерный процесс ведет к этому катастрофическому сжатию и взрыву? И, в частности, какова температура в центре звезды, которая вот-вот должна стать сверхновой? По-видимому, это и будет самая высокая температура во Вселенной, а ее-то доктор Чу и хотел узнать. Оказывается, звезды теряют энергию двумя способами. Они испускают и электромагнитное излучение, и нейтрино, которые ведут себя по-разному. Электромагнитное излучение так сильно взаимодействует с материей, что гамма-лучи, образовавшиеся в центре Солнца, то и дело сталкиваются с протонами, нейтронами и альфа-частицами, поглощаются, снова испускаются и так далее. Это длительный и сложный процесс, поскольку излучение должно пробиться из самых недр Солнца к его поверхности. Лучшее подтверждение — тот факт, что поверхность Солнца, оказывается, нагрета до каких-то 6000 градусов. По земным представлениям она горячая. Однако не следует забывать, что поверхность Солнца находится всего в 700 тысячах километров от скопления вещества, температура которого равна 20 миллионам градусов. Если бы между солнечным ядром и точкой, удаленной от него на 700 тысяч километров, не было ничего, то любое вещество в этой точке приобрело бы температуру порядка миллионов градусов. Сам факт, что вещество в этой точке имеет температуру всего 6000 градусов, показывает, каким великолепным теплоизолятором является вещество Солнца и как трудно излучению пробиться сквозь это вещество и уйти в пространство. Однако энергия, которую уносят нейтрино, ведет себя по-другому. Нейтрино просто уносятся из центра Солнца, где они образуются, со скоростью света. Они совершенно игнорируют обычное вещество Солнца и проходят сквозь него менее чем за 3 секунды. Но доля энергии Солнца, которая улетучивается в виде нейтрино, довольно мала. Потеря энергии, связанная с «побегом» нейтрино, вызывает, конечно, некоторое небольшое охлаждение недр Солнца, но это способствует только незначительному сокращению размеров светила (настолько незначительному, что его нельзя обнаружить). А на тех стадиях, когда образуются атомы более сложные, чем атомы гелия, случаи рождения нейтрино становятся еще более редкими, если принимать во внимание только превращение протонов в нейтроны и наоборот. Предположим, что для начала у нас имеется 56 ядер водорода. Они превращаются в 14 ядер гелия, которые в свою очередь на более поздних стадиях существования звезд превращаются в 1 ядро атома железа. 56 ядер водорода состоят из 56 протонов. 14 ядер гелия состоят из 28 протонов и 28 нейтронов, разделившихся на группы по 2 протона и по 2 нейтрона в каждой. Один атом железа состоит из 26 протонов и 30 нейтронов, скучившихся в одном ядре. Значит, при превращении водорода в гелий 28 протонов должны превратиться в 28 нейтронов и, кроме того, дать 28 нейтрино. При превращении гелия в железо только 2 протонам нужно превратиться в нейтроны и дать всего лишь 2 нейтрино. Казалось бы, возникновение нейтрино существенно только в стадии превращения водорода в гелий, и поскольку оно играет незначительную роль в «функционировании» Солнца, где превращение водорода в гелий происходит в грандиозных масштабах, то тем более ничтожна его роль в «функционировании» звезд, где «сгорают» гелий и еще более сложные ядра. Вот здесь пора сказать о новых предположениях доктора Чу, который считает, что нейтрино образуются двумя новыми способами: во-первых, в результате взаимодействия квантов электромагнитного излучения и, во-вторых, в результате взаимодействия электрона и позитрона. При таких низких температурах, как какие-то жалкие 20 миллионов градусов, эти реакции происходят в недрах Солнца столь редко, что случаи образования нейтрино вследствие таких процессов можно не принимать во внимание. Однако с повышением температуры число образующихся нейтрино становится все более значительным. Если температура достигает 1–2 миллиардов градусов (эта температура требуется для образования ядер атомов железа), то появление нейтрино в результате реакций доктора Чу происходит гораздо быстрее, чем при превращении протонов в нейтроны и наоборот. Это означает, что значительная часть излучения звезды, а именно ее электромагнитное излучение, которое очень медленно покидало недра звезды, превращается в нейтрино, которые мгновенно улетучиваются. Тем не менее звезда может постепенно, хотя и с трудом, восполнить потерянную энергию за счет сжатия, не ведущего к катастрофе. Но если температура в недрах звезды достигнет 6 миллиардов градусов, то нейтрино образуются так быстро, что теплота звездных недр уносится всего за 15–20 минут, и звезда катастрофически сжимается! Одно мгновение — и вот вам сверхновая звезда! Другими словами, температуры выше 6 миллиардов градусов в нашей Вселенной не бывает. Самое горячее вещество во Вселенной находится в центре звезд, и оно не может достичь температуры 6 миллиардов градусов, не вызвав взрыва, после которого сейчас же произойдет охлаждение. Итак, получен ответ на вопрос, который я поставил в предыдущей главе. Доктор Чу предполагает, что если его теория правильна, то окажется возможным определять по количеству нейтрино, испускаемых звездами, какая из них собирается стать сверхновой. Он утверждает, что перед взрывом скорость испускания достигает 1053 нейтрино в секунду. Это в квадрильон (1015) раз больше, чем их испускает Солнце. Даже если сверхновая звезда находится на расстоянии 100 световых лет, число нейтрино, достигших наблюдателя, потенциально по крайней мере в 1000 раз превышает число нейтрино, летящих от Солнца. «Следовательно, — говорит доктор Чу, — установка приборов, обнаруживающих нейтрино, в земных и космических лабораториях может помочь нам предсказывать появление сверхновых звезд».
* * *
Может быть, я слишком пристрастен в своих суждениях, но, мне кажется, эта теория настолько убедительна, что ее примут и будут разделять все астрономы. И, когда доктор Чу добьется мировой славы, которой, как я полагаю, он вполне заслуживает, я смогу поздравить и себя, так как мне будет приятно сознавать, что все началось с моей статьи. Разумеется, об этом никто не узнает, кроме доктора Чу и меня… и читателей этой книги… и случайных прохожих, которых я собираюсь, удерживая за пуговицу, посвятить в свои дела… и людей, слушающих телевизионные передачи… и…
14. Рецепт приготовления планеты
Американские ученые (и, я полагаю, независимо от них советские ученые) готовятся к тому, чтобы пробурить земную кору и добраться до слоя, который лежит под ней. Осуществление проекта «Мохол» (тем, кто еще не знает значения этого слова, я объясню его позже) в случае успеха даст нам первые прямые данные не только о тоненькой корочке, покрывающей нашу планету, но и о ее недрах. Событие это волнует по нескольким причинам, и в первую очередь потому, что оно спасет от гипертонии многих геологов: уже не первый год они наблюдают, как другие готовятся улететь на миллионы километров в космос, а сами даже в верхний слой Земли могут проникнуть всего на несколько километров. Конечно, им довольно досадно, что образец с поверхности Марса попадет в руки человека раньше, чем образец породы, взятой из недр родной планеты. И все же не стоит смотреть на это мрачно. Удивительно совсем не то, что мы совершенно бессильны перед несколькими тысячами километров непроницаемой тверди. Удивительно то, что, будучи бессильными, мы все же сумели собрать столько сведений о недрах Земли. Разумеется, имеются и такие области нашей планеты, которые мы можем рассматривать, ощупывать и анализировать при помощи различных приборов. С тех пор как Лавуазье положил начало современной химии, особенных препятствий при анализе состава атмосферы и океанов (гидросферы) не возникало. Наша атмосфера является в основном смесью азота, кислорода и аргона в пропорции приблизительно 78 : 21 : 1, а океаны и моря состоят в основном из 3-процентного водного раствора хлористого натрия с незначительными примесями. Кроме того, нам доступна самая верхняя часть твердой оболочки нашей планеты (литосфера). Однако в связи с этим возникает новая проблема. Атмосфера и гидросфера однородны (гомогенны), и, чтобы знать их состав в целом, достаточно проанализировать небольшую их часть. А вот твердая оболочка Земли неоднородна (гетерогенна). Именно поэтому в Кимберли есть алмазы, в Клондайке — золото, а за моим домом нет ничего, кроме мусора и бурьяна. Значит, для того чтобы узнать весь состав почв и горных пород, надо проанализировать их образцы, взятые в самых различных местах Земли, и после изучения вывести нечто среднее: столько-то имеется такого вида горных пород, а столько-то — такого. Различные геологи уже провели эту работу, и полученные ими результаты довольно точно совпали. Здесь приведены наиболее распространенные в земной коре элементы в порядке уменьшения их процентного содержания (по весу):Кислород … 46,60 Кремний … 27,72 Алюминий … 8,13 Железо … 5,00 Кальций … 3,63 Натрий … 2,83 Калий … 2,59 Магний … 2,09На долю 8 элементов приходится более 98,5 % веса самого верхнего слоя Земли. Остальные восемьдесят с чем-то элементов могут считаться незначительными примесями (разумеется, очень важными в некоторых случаях, так как среди них и такие элементы, как углерод, водород, азот и фосфор, без которых невозможна жизнь). Надо сказать, что ни один из перечисленных элементов в свободном виде не встречается; все они находятся в соединениях… друг с другом, разумеется, так как соединяться им больше почти не с чем. Наиболее часто встречается двуокись кремния, или кремнезем, — соединение кремния с кислородом (эти элементы вместе составляют 3/4 веса внешнего слоя Земли). Примером сравнительно чистого кремнезема служит кварц, менее чистого — кремень. Песок — это кремнезем, подвергшийся различным атмосферным воздействиям. В сочетании с 6 другими перечисленными элементами (все они металлы) кремний и кислород образуют силикаты. Короче говоря, доступная нам твердая часть Земли может считаться смесью кремнезема и силикатов.
* * *
Картина распределения элементов в земной коре представляется довольно однобокой, но оказывается, что при подсчете распределения элементов по весу, как это сделано в приведенном перечне, мы еще несколько скрыли эту однобокость. А теперь подсчитаем состав земной коры не по весу, а по числу атомов. Из 8 главных элементов самый легкий атом, оказывается, у кислорода. Это значит, что если взять какой-нибудь объем кислорода определенного веса, то в нем будет в 1,75 раза больше атомов, чем в образце кремния такого же веса, в 2,5 раза больше, чем в образце калия, в 3,5 раза больше, чем в образце железа. И если сделать расчет по числу атомов, то окажется, что из каждых 100 атомов земной коры 62,5 принадлежат кислороду. Другими словами, во взятой пригоршне земли каждые 5 из 8 атомов будут атомами кислорода. Как видите, картина получается еще более однобокая. Вступая в соединения с кремнием и 6 основными металлами, атом кислорода принимает электроны, которые дарят ему атомы всех остальных элементов. Когда атом принимает электроны, то эти дополнительные электроны попадают на орбиты (я не придерживаюсь строгой терминологии) на самых окраинах атома и вращаются далеко от ядра, которое удерживает их довольно слабо. Так как радиус аниона (атома, приобретшего несколько лишних электронов) возрастает до самой дальней электронной орбиты, то кислородный анион становится больше самого атома кислорода. С другой стороны, элемент, уступивший 1–2 электрона, пожертвовал самыми далекими от ядра и наименее прочно удерживаемыми электронами. Оставшиеся электроны теснятся сравнительно близко к ядру, и радиус такого катиона (атома, потерявшего несколько электронов) меньше радиуса атома в его первоначальном виде. В результате анион кислорода имеет радиус 1,40 ангстрема (один ангстрем равен одной стомиллионной сантиметра), катион кремния — 0,42 ангстрема и катион железа — 0,74 ангстрема; в то же время катионы и кремния, и железа значительно тяжелее сравнительно легкого аниона кислорода. Объем любого шара пропорционален кубу его радиуса, и поэтому различие в радиусах ионов сказывается на их объемах. Например, объем аниона кислорода равен примерно 11,5 кубического ангстрема, объем катиона железа — только 2,1 кубического ангстрема, а объем катиона кремния — только 0,4 кубического ангстрема. И вот оказывается, что, имея такое большое число атомов и большой объем отдельных анионов, кислород захватил 93,77 % всего объема земной коры. Твердая земля, по которой мы ходим, — это не что иное, как хорошо уложенный набор тесно прижавшихся друг к другу анионов кислорода, а в щелочках, образовавшихся между ними, там и сям втиснуты маленькие катионы других 7 элементов. Гибралтарская скала — это всего лишь груда кислорода с небольшими добавками. Разумеется, все эти сведения касаются только тех частей литосферы, которые мы можем поскрести, размельчить и подвергнуть исследованиям. А как же быть с теми частями, до которых мы не можем добраться? В поисках золота человечество раскопало земную кору на глубину 5 километров; разыскивая нефть, оно углубилось еще на несколько километров, но все это для Земли не больше чем булавочные уколы. Наши знания о Земле пока ограничиваются ее поверхностью, и возможно, так будет еще долго. Лентяй решил бы эту проблему просто. Он предположил бы, что поверхность земной коры точно представляет то, что скрывается в недрах Земли, и вся планета от самых глубин и до верхних слоев такая же, как и ее поверхность. Однако тех, кто ищет простые ответы, ждет разочарование. Даже на поверхности нашей планеты картина не такова. Если бы вся Земля была так богата ураном и торием, как земная кора, то от теплоты, выделяемой прирадиоактивном распаде, наша планета расплавилась бы. Земля тверда, и уже одно это показывает, что запасы урана и тория на небольшом расстоянии от «кожи» Земли иссякают, то есть хотя бы в этом состав земных недр с глубиной меняется. Кроме того, в массивах материков преобладает гранит, а дно океанов, по-видимому, состоит из базальта. Гранит богаче алюминием и беднее магнием, чем базальт, и поэтому некоторые геологи считают, что земная кора состоит из сравнительно легких континентальных массивов, богатых кремнекислым алюминием (силикатом алюминия, сокращенно сиаль) и плавающих на сравнительно тяжелом основании, в свою очередь богатом кремнекислым магнием (силикатом магния, сокращенно сима), а земной запас воды заполняет промежутки между массивами сиаля. Может быть, я нарисовал слишком упрощенную картину, но все же она дает представление о том, что состав Земли с глубиной изменяется. До сих пор дело касалось только металлов. В том, что я изложил выше, нет ничего умаляющего достоинства кремния и кислорода с точки зрения их господства. Что бы там ни изменялось в частностях, Земля, в сущности, остается силикатным шаром, или, другими словами, огромным каменным глобусом. Первые точные сведения о недрах Земли были получены только в 1798 году, когда Генри Кавендиш впервые определил массу земного шара. Объем Земли был известен еще во времена древних греков. Разделив массу, определенную Кавендишем, на объем, мы получим среднюю плотность Земли, которая равна 5,52 грамма на кубический сантиметр. Но ведь плотность земной коры равна примерно 2,8 грамма на кубический сантиметр, а это значит, что с глубиной плотность повышается. И в самом деле, плотность ее глубинных недр должна быть куда больше, чем 5,52 грамма на кубический сантиметр, чтобы компенсировать меньшую, чем средняя, плотность поверхностных слоев. Само по себе это нисколько не опровергает теории, что Земля — каменный шар, так как с глубиной давление, по-видимому, должно расти; вышележащие слои давят на нижние, и это давление увеличивается к центру Земли, где оно составляет примерно 3 500 000 атмосфер. Порода, которая имела на поверхности плотность 2,8 грамма на кубический сантиметр, будет раздавлена «в лепешку», и в центре Земли плотность ее составит 12 граммов на кубический сантиметр. Изучение землетрясений позволяет получать более подробные сведения о глубинных недрах Земли. К 1900 году Землю стали опоясывать сетью сейсмических станций, оборудованных приборами для изучения колебаний, сотрясающих тело планеты вследствие подземных толчков. Существует два главных типа сейсмических волн: Р (первичные) и S (вторичные). Р — это продольные чередующиеся волны сжатия и расширения, напоминающие звуковые волны. S — это поперечные волны; они похожи на извивы змей и ассоциируются у нас с волнами на воде. Продольные сейсмические волны распространяются быстрее, чем поперечные, и первыми достигают сейсмической станции. Чем дальше станция от места землетрясения, тем дольше будет промежуток времени между приходом продольных и поперечных волн. Для точного определения места (эпицентра) землетрясения достаточно, чтобы его зарегистрировали три работающие совместно станции, которые используют упомянутую разницу во времени. Зная, где находятся и эпицентр и станция, можно проследить весь путь волн сквозь толщу Земли. Чем больше расстояние между местом землетрясения и сейсмической станцией, тем глубже поступающие волны проникают в Землю. Если бы Земля была всюду одинаково плотна и тверда, то волны пришли бы на станцию, затратив на это время, пропорциональное расстоянию от эпицентра. В действительности плотность и твердость пород, из которых сложена Земля, с глубиной меняются. Лабораторные опыты с различными породами показали, как меняется скорость распространения двух типов волн в зависимости от плотности и твердости различных пород при разных температурах и давлениях. Эти данные можно экстраполировать на те температуры и давления, которые господствуют в недрах Земли, но не поддаются воссозданию в лабораторных условиях[12]. Это считается рискованным делом (как и всякая экстраполяция), но геологи уверены, что они могут истолковывать действительную скорость распространения сейсмических волн на данной глубине и определять плотность находящихся там пород. Оказывается, плотность Земли повышается довольно медленно и постепенно — с 2,8 грамма на кубический сантиметр на поверхности до 5,9 грамма на кубический сантиметр на глубине примерно 3450 километров. А затем вдруг происходит резкий скачок. Об этом можно судить по поведению сейсмических волн. Сначала волны распространяются по областям, где с глубиной плотность повышается, а затем возвращаются к поверхности по тем областям, где эта плотность убывает, и по пути меняют направление и рассеиваются, подобно тому как рассеивается свет, проходя сквозь слой воздуха с меняющейся плотностью. Пока плотность изменяется постепенно, направление движения волн тоже меняется постепенно, и изгиб получается ровный. Именно так происходит, пока волны не достигнут глубины 3450 километров. Представьте себе, что сейсмическая станция расположена на таком расстоянии от места землетрясения, что волны, возникшие от подземного толчка, проникают на указанную глубину. Все станции, находящиеся между нашей станцией и эпицентром, тоже принимают волны, проникающие вглубь на различные расстояния, но не достигающие 3450 километров. Станция, которая расположена несколько дальше от эпицентра землетрясения, чем наша, по-видимому, должна зарегистрировать волны, проникающие на глубину больше 3450 километров, но она не отмечает их совсем. А станции, находящиеся еще дальше, на 1500 километров и более, четко регистрируют волны, хотя расстояние между ними и эпицентром землетрясения гораздо больше. Короче говоря, на земной поверхности получаются районы («мертвые зоны»), напоминающие баранки, в центре дырок которых находятся эпицентры. В самой «баранке» волны не ощущаются. Это объясняется тем, что любая волна, проникающая на глубину более 3450 километров, вдруг резко меняет направление и минует «мертвую зону». Единственной причиной такого резкого изменения направления может быть неожиданно резкое изменение плотности. Анализ времени прибытия волны в районы вне мертвой зоны показывает, что плотность резко увеличивается — с 5,9 до 9,5 грамма на кубический сантиметр. Ниже 3450 километров плотность с глубиной продолжает по-степенно расти, достигая примерно 12 граммов на кубический сантиметр в центре Земли. Все это относится только к продольным сейсмическим волнам. Поведение поперечных волн более загадочно. Когда поперечные волны проникают на глубину более 3450 километров, они не просто меняют направление, а исчезают вовсе. Логичнее всего объяснить это так: продольные волны, в том числе и продольные сейсмические волны, могут распространяться в жидкости, а поперечные волны, в том числе и сейсмические, не могут. Следовательно, область Земли ниже 3450 километров должна быть жидкой. На основе данных, полученных в результате изучения поведения сейсмических волн, мы можем считать, что Земля состоит из жидкого «ядра», имеющего радиус около 2900 километров и окруженного твердой мантией толщиной 3450 километров. Резкое разграничение между этими двумя главными частями впервые было продемонстрировано в работе американского геолога Бено Гутенберга в 1914 году, и поэтому оно названо «разделом Гутенберга». В 1909 году сербский геолог Андрий Мохоровичич открыл неожиданное изменение в скорости сейсмических волн примерно на глубине 30 километров. Этот скачок скорости был назван «разделом Мохоровичича», который позже для простоты стали называть Мохо. Теперь общепринято, что Мохо — это граница, отделяющая мантию от находящейся поверх нее «земной коры». Подробное изучение Мохо показало, что этот раздел находится на разных глубинах. Под береговыми районами суши глубина его равна примерно 30 километрам (например, под Нью-Йорком 35 километрам), но под горными районами он уходит вглубь до 60 километров. (Так как земная кора легче мантии, то можно сказать, что горы потому являются горами, что здесь имеется необычное скопление легкой коры, которая плавает, неглубоко погружаясь в мантию.) И, наоборот, Мохо подходит довольно близко к поверхности в некоторых частях плотного океанского дна, которое глубже погружается в мантию, поскольку оно относительно тяжелее земной коры. В некоторых местах от уровня моря до Мохо всего 12–16 километров. Это особенно интересно, так как сам океан местами имеет глубину 8–10 километров, а пробурить воду совсем нетрудно. Если правильно выбрать место в океане, то останется пробурить только 5 километров твердых пород, которые фактически отделяют нас от Мохо. Один из проектов скважины, которую предполагается бурить до мантии, как вы теперь понимаете, следует назвать Мохол[13] (лучше не придумаешь!). Если мы хотим выяснить, из чего состоит Земля, то нам, в сущности, достаточно рассмотреть состав ядра и мантии. На ядро приходится 1/6 объема Земли, но, так как оно имеет сравнительно высокую плотность, масса его равна 1/3 массы планеты. Остальные 2/3 принадлежат мантии. Земная кора составляет всего лишь 1/250 от общей массы Земли, а гидросфера с атмосферой — и того меньше. Оказывается, мы можем совершенно не принимать во внимание именно те области Земли, о которых у нас есть прямые данные. Из чего же состоят мантия и ядро? Плотность и другие свойства мантии мало отличаются от свойств коры, и поэтому общепризнано, что она должна быть в основном силикатной. Лабораторные опыты показывают, что при высоких давлениях колебания распространяются в минерале оливине (силикат магния и железа) с теми же скоростями, с какими в мантии распространяются сейсмические волны. Создается впечатление, что мантия отличается от земной коры большей однородностью, большим содержанием магния и меньшим содержанием алюминия. А ядро? Наверно, оно тоже силикатное, но не подвергся ли этот силикат, залегающий на глубине 3450 километров, неожиданным структурным изменениям? Не получилось ли так, что на силикат давили все сильнее и сильнее, пока все его атомы не улеглись гораздо более компактно? (Примерно так же, как под действием высоких давления и температуры атомы углерода в графите располагаются более компактно и происходит превращение графита в алмаз.) Такое предположение существует, но нет никаких данных, подтверждающих, что при больших давлениях и температурах (которые нельзя воспроизвести в лабораторных условиях) силикат поведет себя именно так[14]. По мнению других, вещество Земли на этой глубине внезапно меняется по своей химической природе, и при этом сравнительно легкий силикат мантии уступает место некоему более тяжелому и жидкому веществу, из которого состоит ядро. Но из чего все-таки состоит ядро? Если мы ограничимся только элементами, чаще всего встречающимися в земной коре, то единственным веществом, которое было бы плотным при существующих в глубине Земли давлениях (но не слишком плотным) и при существующих там температурах, окажется железо. А может быть, это тоже очередной фокус? Не совсем. Есть еще ряд доказательств, хотя и не прямых, но весьма выразительных. В 1866 году французский геолог Дюбре впервые высказал предположение, что ядро Земли железное; это случилось примерно за 30 лет до того, как были получены сейсмические данные о существовании ядра вообще. Свое предположение он основывал на том, что очень многие метеориты почти полностью состоят из железа. Это означает, что астрономические тела частично могут состоять из чистого железа. А почему, собственно, ядро Земли не может быть железным? И в самом деле, есть три вида метеоритов: «железные метеориты», о которых мы только что говорили; группа гораздо чаще встречающихся «каменных метеоритов» и сравнительно редкие «троилитовые метеориты». Так и подмывает предположить, что эти метеориты являются остатками какой-нибудь землеподобной планеты (находившейся где-то между Марсом и Юпитером), которая разлетелась на куски; что каменные метеориты — это куски мантии планеты; железные метеориты — куски ее ядра; троилитовые метеориты — куски промежуточной зоны между мантией и ядром. Если это действительно так (а большинство геологов, по-видимому, придерживаются именно этой точки зрения), то, проанализировав все три вида метеоритов, мы, в сущности, проанализируем, по крайней мере приближенно, состав мантии и ядра Земли. Каменные метеориты в среднем имеют следующий состав (здесь и далее в процентах по весу):
Кислород … 43,12 Кремний … 21,61 Магний … 16,62 Железо … 13,23 Кальций … 2,07 Алюминий … 1,83Как видите, каменные метеориты состоят в основном из силиката магния и железа, которыми так богат оливин. Вместе с основными примесями, кальцием и алюминием, силикат магния и железа составляет 98,5 % общего веса каменных метеоритов. Таких распространенных в земной коре металлов, как натрий и калий, в мантии явно мало. Впрочем, очень хорошо, что в коре их больше, так как эти элементы полезны и важны для жизни. Состав железных метеоритов таков:
Железо … 90,78 Никель … 8,59 Кобальт … 0,63Сколько-нибудь значительных количеств других элементов в них нет. Вот почему ядро Земли часто называют железо-никелевым. Троилитовые[15] метеориты имеют следующий процентный состав:
Железо … 61,1 Сера … 34,3 Никель … 2,9Эти метеориты состоят главным образом из сернистого железа с небольшой примесью сернистого никеля. Поэтому геологи считают, что самая нижняя часть земной мантии состоит, весьма возможно, из сульфида железа, который занимает 1/12 общей массы Земли. Для того чтобы получить законченную картину состава Земли, надо предположить, что ее основные части соответствуют различным видам метеоритов, а затем выяснить, какие средние весовые данные дает нам изучение метеоритов. Геологи, высказывая предположения относительно общего состава той или иной части мантии, составляли таблицы, которые в частностях расходились, но в целом совпадали. Вот одна из итоговых таблиц химического состава всей Земли (в процентах):
Железо … 35,4 Кислород … 27,8 Магний … 17,0 Кремний … 12,6 Сера … 2,7 Никель … 2,7Эти шесть элементов составляют почти 98 % всего земного шара. Однако если бы мы перечислили эти элементы не по весовому содержанию, а по числу атомов, то сравнительно легкие атомы кислорода потеснили бы все другие и стали на первое место. В сущности, почти половина (47,2 %) всех атомов Земли — это атомы кислорода.
* * *
Теперь нам остается только дать рецепт приготовления такой планеты, как наша, и мне представляется, что в «Звездной поваренной книге» этот рецепт выглядел бы так: «Отвесьте примерно 2 септильона килограммов железа и добавьте туда для крепости 10 процентов никеля. Хорошо перемешайте это с 4 септильонами килограммов силиката магния, добавьте для придания особого аромата 5 процентов серы и небольшое количество других элементов по вкусу. (Для более успешного приготовления данной планеты пользуйтесь „Кратким звездным справочником специй и пряностей“.) В радиоактивной духовке разогрейте смесь, пока она основательно не расплавится и не распадется на два не смешивающихся друг с другом слоя. (Предостережение: не разогревайте слишком долго, так как блюдо можно пересушить, а это весьма нежелательно.) Охлаждайте постепенно, пока не затвердеет корка и не появится прилипшая к ней тонкая пленка из газа и жидкости. (Если она не появится, значит, вы перекалили планету.) Поместите планету на орбиту не очень близко, но и не очень далеко от звезды и крутните ее. Затем ждите. Через несколько миллиардов лет на поверхности начнется брожение. Забродившая часть, называемая жизнью, особенно ценится знатоками».
15. Троянский катафалк
В самом первом моем фантастическом рассказе (не помню уж когда опубликованном) говорилось о космическом корабле, попавшем в беду в зоне астероидов. Один из героев рассказа осуждал безрассудную храбрость командира, который не уводил корабль из плоскости эклиптики (то есть плоскости, в которой движется Земля вокруг Солнца; эта плоскость близка к той, в которой движутся, в сущности, все тела солнечной системы) и не хотел вывести корабль за пределы зоны астероидов, чтобы избежать почти неминуемого столкновения с ними. В то время я полагал, что зона астероидов усеяна этими небесными телами так же густо, как пляж галькой. Почти у всех, кто пишет и читает научную фантастику, это представление, по-видимому, живет и по сей день. Воображение рисует им, как рудокопы-одиночки в поисках ценных ископаемых легко перепрыгивают с одного астероида на другой. Отпускники разбивают палатки на одной планетке и, махая рукой, приветствуют друзей, расположившихся на другой. Но верна ли эта картина? До сих пор открыто немногим меньше 2000 астероидов, но, конечно, в действительности их гораздо больше. Мне встречались данные, что общее число астероидов достигает 100 000. Большую часть астероидов следует искать между орбитами Марса и Юпитера, причем астероиды обычно не отходят от плоскости эклиптики больше чем на 30 градусов в ту или другую сторону. Объем пространства между этими орбитами и в пределах таких углов наклона к эклиптике равен 820 000 000 000 000 000 000 000 000 (8,2 · 1026) кубических километров! Если мы для верности скажем, что общее число астероидов равно 200 тысячам, то на каждые 4,1 · 1021 кубических километров придется один астероид. Это значит, что среднее расстояние между астероидами составляет примерно 10 миллионов километров. Возможно, для отдельных более густо населенных астероидами районов мы можем сократить это расстояние до 1 миллиона километров. Если учесть, что диаметр большинства астероидов не превышает одного километра, то станет ясно, что с одного астероида другой, по всей вероятности, невооруженным глазом и не увидишь. Отпускник будет проводить время в одиночестве, а разведчику геологу придется поломать голову над тем, как добраться до другого астероида. Наверно, астронавты будущего при полете к дальним планетам будут просто проскакивать зону астероидов, так ничего и не увидев. И лишь в редких случаях совсем не страшный крик: «Виден астероид» — заставит космических туристов ринуться к иллюминаторам.* * *
Не следует думать, что астероиды равномерно распределены по всей зоне малых планет (так называют в астрономии астероиды. — Ред.). Там имеются и скопления их, и практически пустые области. И то и другое обусловлено сильным воздействием притяжения Юпитера на другие тела солнечной системы. Когда астероид во время своего движения подходит к Юпитеру (который тоже движется по определенной орбите) на самое близкое расстояние, гравитационное воздействие Юпитера на астероид достигает максимума. При этом максимальном гравитационном воздействии смещение астероида с обычной орбиты (возмущение) тоже становится максимальным. В обычных условиях смещение астероидов в сторону Юпитера происходит в различных точках их орбит. Из-за довольно большой вытянутости и значительных наклонений орбит большинства астероидов максимальное сближение их с Юпитером происходит в различных точках орбит, и иногда астероид смещается вперед, иногда — назад, иной раз — вниз, а иной раз — вверх. В конце концов эти возмущения компенсируют друг друга и астероиды движутся по орбитам, которые колеблются возле некой постоянной средней орбиты. А что, если астероид движется вокруг Солнца в среднем на расстоянии 480 миллионов километров? Период обращения его будет равен тогда примерно 6 годам, а Юпитер делает полный оборот за 12 лет. После максимального сближения Юпитера и астероида в какой-то момент времени Юпитер сделает за 12 лет один оборот вокруг Солнца, а астероид — два, и оба тела придут к тем же точкам максимального сближения. Это будет повторяться каждые 12 лет. После каждого нового оборота астероид будет смещаться в одном направлении. Возмущения перестанут компенсировать друг друга, а начнут складываться. Но если Юпитер будет каждый раз подтягивать астероид к себе во время максимального сближения с ним, то астероид постепенно перейдет на орбиту, более далекую от Солнца, и год его удлинится. Период обращения уже не будет совпадать с периодом обращения Юпитера, и возмущения перестанут складываться. И наоборот, если бы астероид постепенно вышел на более близкую к Солнцу орбиту, год его стал бы короче, он не совпадал бы с годом Юпитера и возмущения опять-таки перестали бы складываться. В общем ни один астероид не остается в той части зоны, где период обращения равен как раз половине периода обращения Юпитера. Любой астероид, который сначала находился там, смещается в ту или другую сторону: на прежней орбите он не остается. То же самое можно сказать и о том районе зоны, в котором астероид имел бы период обращения 4 года, потому что через каждые три оборота он встречался бы с Юпитером в одном и том же месте. Если бы астероид имел период обращения 4,8 года, то эта же картина повторялась бы через каждые пять оборотов и так далее. Районы зоны астероидов, которые были «очищены» Юпитером, известны под названием «пустот Кирквуда». Их назвали так в честь американского астронома Даниэля Кирквуда, который в 1876 году обратил внимание на эти пустоты и объяснил причины их возникновения.
* * *
Именно этим объясняется, что у Сатурна несколько колец, а не одно. Кольца были открыты голландским ученым Христианом Гюйгенсом в 1655 году. Ему казалось, что Сатурн окружен сплошным светлым кольцом, нигде не касающимся планеты. Однако в 1675 году французский астроном Джиованни Доменико Кассини (родом из Италии) заметил темную щель, делившую кольцо на широкую и светлую внутреннюю часть и на более узкую и менее светлую внешнюю часть. Эту щель шириной 4800 километров с тех пор стали называть «щелью Кассини». В 1850 году американский астроном Джордж Филлипс Бонд «подсмотрел» у Сатурна и третье кольцо, довольно тусклое и расположенное еще ближе к планете. Из-за своей тусклости оно было названо креповым кольцом. Креповое кольцо отделено от среднего, яркого кольца щелью шириной 1600 километров. В 1859 году английский физик Джеймс Клерк Максвелл указал, что из-за тяготения планеты кольца не могут быть сплошными, а должны состоять из многочисленных отражающих свет обломков[16]; сплошными они кажутся только на далеком расстоянии. Частицы крепового кольца более разбросаны, чем частицы светлых колец, и потому оно выглядит таким тусклым. Теоретическое предсказание подтвердилось, когда в результате спектроскопических измерений было обнаружено, что периоды обращения разных точек колец отличаются друг от друга. Если бы кольца были сплошными, то период обращения был бы везде одинаков. Внутренняя часть крепового кольца находится в каких-нибудь 10 000 километров от поверхности Сатурна. Эти частицы движутся по самым коротким орбитам и быстрее других. Они обращаются вокруг планеты примерно за 31/4 часа. Во внешних кольцах частицы движутся медленнее и должны покрыть большие расстояния, а это означает, что период их обращения растет. На внешней стороне крайнего кольца период обращения частиц равен примерно 131/2 часа. Если бы в щели Кассини были обнаружены частицы, оказалось бы, что они обращаются вокруг Сатурна за 11 часов с небольшим. Но в этом районе частиц нет, и потому он выделяется темной полоской на фоне окружающих его светлых колец. В чем же тут дело? Кроме системы колец, Сатурн обладает семьей из девяти более далеких спутников, и поле тяготения каждого из них возмущает движение частиц в кольцах. Ближайший из спутников Сатурна, Мимас, отстоит от внешнего края колец всего на 55 000 километров и имеет период обращения 221/2 часа. Период обращения второго спутника, Энцелада, равен 33 часам, а Тефии, третьего спутника, — 44 часам. Любая частица в щели Кассини имела бы период обращения, равный 1/2 периода обращения Мимаса, 1/3 периода обращения Энцелада, 1/4 — Тефии. Не удивительно, что этот район совершенно пуст. В действительности спутники — малые тела и они могут возмущать движение еще меньших тел величиной с гальку; именно из таких «камешков» и состоят кольца. Если бы это было не так, то спутникам самим пришлось бы сойти со своих орбит. Что же касается щели между креповым и внутренним светлым кольцами, то частицы в ней обращались бы вокруг Сатурна немногим менее чем за 7 часов, то есть за 1/3 периода обращения Мимаса и 1/6 периода обращения Тефии. В системе колец есть и более мелкие щели, существование которых объясняется теми же причинами.
* * *
Здесь я прерву повествование, чтобы рассказать об одном любопытном факте, — до сих пор я не встречал упоминаний о нем в литературе. В книгах по астрономии всегда отмечается, что Фобосу, ближайшему спутнику Марса, требуется меньше времени, чтобы обернуться вокруг Марса, чем самому Марсу, чтобы сделать поворот вокруг своей оси. Период вращения Марса вокруг своей оси равен 241/2 часа, а период обращения Фобоса — только 71/2 часа. Авторы книг по астрономии подчеркивали, что Фобос — это единственный спутник в солнечной системе, который ведет себя именно так. Такое утверждение будет правильным, если мы примем во внимание только естественные спутники солидных размеров. Однако каждая частица в кольцах Сатурна, в сущности, тоже настоящий спутник, а раз это так, положение меняется. Период вращения Сатурна вокруг своей оси равен 101/2 часа, а каждая частица в креповом и во внутреннем светлом кольцах обращается вокруг Сатурна за меньшее время. Следовательно, спутник типа Фобоса далеко не единственный, у него есть бесчисленные миллионы собратьев. Кроме того, почти всякий искусственный спутник, запущенный Советским Союзом и США, обращается вокруг Земли менее чем за 24 часа. Эти спутники относятся к той же категории, что и Фобос.
* * *
Гравитационные возмущения не только очищают от частиц некоторые районы, но и собирают эти частицы в одно место. Самый примечательный случай, — когда частицы собираются даже не в зоне, а буквально в одной точке. Чтобы пояснить это, мне придется начать с самых истоков вопроса. Ньютоновский закон всемирного тяготения полностью решал «задачу двух тел» (по крайней мере в классической физике, которая игнорирует такие «новшества», как теория относительности и квантовая теория). Другими словами, если во Вселенной есть только два тела, положение и скорость которых известны, тогда на основе закона тяготения можно точно определить положение двух тел относительно друг друга в любой момент времени в прошлом или будущем. Однако во Вселенной не два тела. Их бесчисленные триллионы. И следующий шаг к их учету состоит в решении «задачи трех тел». Как узнать положение трех тел во Вселенной относительно друг друга в любой момент времени, если известны их положения и направления движения в данный момент? И вот тут-то астрономы оказались в затруднении. Никакого общего решения этой задачи нет, поэтому нет смысла в переходе к «задаче триллионов тел», существующих во Вселенной. К счастью, это не остановило астрономов. Хотя в теории и есть изъян, ее все-таки можно использовать. Представьте, например, что ученым понадобилось бы рассчитать орбиту, по которой Земля обращается вокруг Солнца, чтобы затем вычислить положение этих тел по отношению друг к другу на следующий миллион лет. Если бы Солнце и Земля были единственными телами во Вселенной, то решить такую задачу было бы пустяковым делом. Но тут надо учитывать и притяжение Луны, Марса и других планет и — для полной точности — даже звезд. К счастью, Солнце настолько больше любого другого небесного тела в солнечной системе и настолько ближе к Земле, чем любое другое тело с большой массой, что его тяготение «глушит» все остальные. Если при расчете орбиты Земли в качестве исходных данных брать только эти два тела, то ответ получается почти правильный. Кроме того, учитывается довольно слабое влияние ближайших тел и вносятся соответствующие поправки. Но чем точнее мы хотим рассчитать орбиту Земли, тем больше поправок нужно внести, чтобы учесть все более и более мелкие возмущения. Принцип ясен, но на практике такие расчеты, разумеется, могут стать громоздкими и весьма утомительными. Формула, по которой более или менее точно рассчитывается движение Луны, занимает многие сотни страниц. Но она вполне пригодна для предсказаний времени и мест затмений с большой точностью и на большие сроки вперед. Тем не менее астрономы не удовлетворены. Очень хорошо рассчитывать орбиты на основе последовательных приближений, но как прекрасно и изящно выглядела бы формула, которая позволила бы простым и общим путем связать влияние всех или по крайней мере трех тел. Ближе всех подошел к этому идеалу французский астроном Жозеф Луи Лагранж. В 1772 году он действительно нашел некоторые весьма частные случаи, когда «задача трех тел» могла быть решена. Представьте себе в пространстве два тела. Если масса тела А в 25,8 раза больше массы тела В, то об этом теле В можно сказать, что оно обращается вокруг в сущности неподвижного A. Так, например, Юпитер обращается вокруг Солнца. Затем представьте себе третье тело, С, имеющее сравнительно незначительную массу и не нарушающее гравитационных взаимоотношений А и В. Лагранж нашел, что тело С можно так разместить по отношению к телам А и В, что С будет обращаться вокруг A, точно сообразуясь с движением В. Таким образом, положение всех трех тел по отношению друг к другу будет известно во все времена. Имеется 5 точек, в которые можно поместить тело С; они названы точками Лагранжа[17]. Три из них, Л1, Л2 и Л3, находятся на прямой, соединяющей A и В. В точке Л1 тело С оказывается между A и B. В точке Л2 — на той же прямой, но по одну сторону от A и B, а в точке Л3 — по другую. Значение этих трех точек Лагранжа невелико. Любое тело, помещенное в одну из них, когда-нибудь хоть немного сдвинется из-за возмущения некоего тела, находящегося вне системы, и в результате воздействия притяжения A и B на тело C оно должно отойти от точки Лагранжа еще дальше. Это похоже на длинную палку, которую поставили на острие. Достаточно ей хотя бы немного наклониться, как она будет наклоняться все больше и больше, пока не упадет. Две другие точки Лагранжа находятся не на прямой, соединяющей точки A и B. Если соединить их линиями с точками A и B, образуются равносторонние треугольники. Когда В обращается вокруг A, то точка Л4 всегда находится на 60 градусов спереди, а Л5 — на 60 градусов сзади. Это две точки устойчивого равновесия. Если тело в любой из этих точек немного изменит положение из-за возмущений, то под воздействием притяжения A и B оно вернется обратно. Таким образом, тела в точках Л4 и Л5 колеблются вблизи истинной точки Лагранжа, подобно тому как колеблется палка, когда ее пытаются удержать в равновесии на пальце, постоянно меняя его положение. Конечно, если палка отклонится от вертикального положения слишком сильно, то, несмотря на старания сохранить ее равновесие, она все же упадет. Так и небесное тело: если оно отклонится от точки Лагранжа слишком далеко, то может навсегда уйти из системы.
* * *
В то время, когда Лагранж решил «задачу трех тел», еще не было известно ни одного объекта во Вселенной, расположенного в предполагаемых им точках. Однако в 1906 году немецкий астроном Макс Вольф обнаружил астероид, который он назвал Ахиллом, по имени греческого героя из «Илиады». Для астероида он находился необычайно далеко. В сущности, этот астероид двигался так же далеко от Солнца, как Юпитер. Анализ его орбиты показал, что он всегда остается возле точки Лагранжа Л4 в системе Солнце — Юпитер. Таким образом, он почти все время на 780 миллионов километров опережает Юпитер в его движении вокруг Солнца. Несколько лет спустя в точке Л5 системы Солнце — Юпитер был обнаружен другой астероид. В честь любимого друга Ахилла он был назван Патроклом. Движется этот астероид вокруг Солнца, постоянно отставая от Юпитера на 780 миллионов километров. Со временем в обеих точках были обнаружены и другие астероиды. Сейчас их известно уже 15: 10 — в Л4 и 5 — в Л5. Раз уж первый астероид был назван Ахиллом, то и все остальные получили имена героев «Илиады». И поскольку в «Илиаде» речь идет о Троянской войне, то все тела в обоих положениях были названы общим именем — «троянцы». Так как в число астероидов в положении Л4 входит один, названный по имени вождя греков (Агамемнон), то их иногда выделяют как «греческую группу». Среди астероидов в положении Л5 есть один, названный в честь троянского царя Приама, и о всех этих астероидах часто говорят как о «чисто троянской» группе. Было бы неплохо, если бы в «греческую» группу входили только «греки», а в «чисто троянскую» — только «троянцы». К сожалению, об этом не подумали, и получилось так, что троянский герой Гектор входит в «греческую» группу, а греческий герой Патрокл — в «троянскую». От такой неразберихи любого знатока классической литературы хватил бы удар. Даже у меня появляется определенное чувство неловкости, хотя я не такой уж строгий ревнитель классики. «Троянцы» остаются единственным примером тел, находящихся в точках Лагранжа. Они так хорошо известны, что точки Л4 и Л5 обычно называют троянскими положениями. Внешние возмущения (особенно притяжение Сатурна) заставляют астероиды держаться возле этих точек. Иногда они разбредаются, какой-нибудь астероид может отойти от точки Лагранжа на расстояние до 150 миллионов километров. В конце концов такой астероид может быть оттянут далеко в сторону и начать движение по «нетроянской» орбите. С другой стороны, какой-нибудь астероид, ранее независимый, в результате возмущения может оказаться поблизости от точек Лагранжа и попасть в ловушку. В конце концов вместо одних «троянцев» появятся другие, но некоторое число их будет всегда. «Троянцев», несомненно, не 15, а гораздо больше. Но они находятся так далеко от нас, что видны только довольно большие астероиды, имеющие до 100 километров в диаметре. И все же, безусловно, есть десятки и даже сотни более мелких, невидимых обломков, которые мчатся за Юпитером или прочь от него, но в этой извечной гонке нет победителей.
* * *
Троянских положений во Вселенной должно быть много. Если бы отношение масс каждой пары взаимосвязанных тел было 25,8 : 1, то я не удивился бы, узнав, что в троянских положениях их сопровождают какие-то каменные обломки. Однако знать, что эти обломки существуют, — это еще не значит их увидеть; разумеется, обнаружить их где бы то ни было за пределами солнечной системы нельзя. Конечно, можно найти три взаимосвязанные звезды, но для подлинно «троянской обстановки» одно из тел должно иметь незначительную массу, и мы не сможем его увидеть при помощи астрономических инструментов, имеющихся сейчас в нашем распоряжении. В солнечной системе Солнце и Юпитер — самая большая пара тел. Другие тела, попавшиеся в ловушку в точках Лагранжа этой системы, сами по себе могут быть довольно большими, но массы их по сравнению с массой Юпитера совершенно ничтожны. С Сатурном дело обстоит далеко не так благоприятно. Так как Сатурн меньше Юпитера, астероиды в троянском положении, связанном с Сатурном, были бы в среднем меньше. Они были бы вдвое дальше от нас, чем астероиды Юпитера, и поэтому казались бы более тусклыми. Следовательно, их было бы очень трудно увидеть, и потому-то до сих пор ни одного из «троянцев» Сатурна не обнаружили. С Ураном, Нептуном и Плутоном положение еще хуже. Что же касается внутренних планет (Меркурия, Венеры, Земли и Марса), то у них в троянском положении могут находиться поистине лишь булыжники. Уже из-за одного этого их почти невозможно увидеть, даже если они существуют. Кроме того, астероиды Венеры и Меркурия терялись бы в сиянии Солнца. Астрономы и не надеются найти что-либо подобное «троянским» астероидам Юпитера у других планет солнечной системы, пока вне Земли не будут созданы астрономические лаборатории или, что еще лучше, пока космические корабли не исследуют различные точки Лагранжа. Но тут есть исключение — это место, в котором при наблюдении с земной поверхности, может быть, что-нибудь и обнаружится. Я говорю о точке Лагранжа, которая связана не с системой Солнце — планета, а с системой планета — спутник. Вы уже, конечно, догадались, что я говорю о Земле и Луне.
* * *
У Земли есть один-единственный спутник: это стало известно человеку, как только его мыслительные способности позволили ему вести целенаправленные наблюдения. Современный человек со всеми своими приборами так и не мог найти второго спутника. Во всяком случае, естественного. Астрономы твердо уверены, что, кроме Луны, вокруг Земли не обращается ни одно тело, диаметр которого доходил бы, скажем, до полукилометра. Это не исключает существования любого числа очень маленьких частиц. Данные, полученные с искусственных спутников, как будто говорят о том, что Земля окружена кольцом мелких, как пылинки, частиц, похожим на кольца Сатурна, но гораздо менее внушительным. Визуально такое кольцо можно было бы обнаружить только в местах, где частицы сконцентрировались с необычно высокой плотностью. Концентрация могла бы быть достаточно высокой только в точках Лагранжа Л4 и Л5 системы Земля — Луна. (Так как Земля массивнее Луны больше чем в 25,8 раза, а именно в 81 раз, объекты в этих точках занимали бы устойчивые положения.) В 1961 году польский астроном К. Кордилевский сообщил, что он и в самом деле обнаружил в этих положениях два слабо светящихся пятна неправильной формы. По-видимому, это пылевые облака, попавшие в ловушку. Именно в связи с этими «пылевыми спутниками» я подумал о практическом использовании точек Лагранжа. Мысль эта, насколько мне известно, до сих пор не высказывалась.
* * *
Все мы знаем, что одной из больших проблем, навязанных нам техникой космического века, является проблема избавления от радиоактивных отходов. Ее пробовали решать многими способами. Отходы прячут в контейнеры из сверхпрочных материалов. Предлагают заливать их расплавленным стеклом. Их можно зарывать в землю, складывать в соляных копях, сбрасывать в пропасти. Однако всякий раз радиоактивные отходы остаются на Земле, и ни одно решение этой проблемы нельзя считать удовлетворительным; в конце концов некоторые дерзкие умы стали утверждать, что радиоактивные отходы надо выбрасывать в космос. Безопаснее всего было бы отправлять их на ракетах в сторону Солнца. Однако сделать это не так-то легко. Потребовалось бы меньше энергии, если бы отходы запускались на Луну, но я уверен, что астрономы воспротивятся этому. Было бы еще легче просто вывести их на орбиту вокруг Солнца, и легче всего вывести их на орбиту вокруг Земли. Но в любом из последних случаев существует определенный риск засорить внутренние районы солнечной системы, и особенно окрестности Земли, скоплениями радиоактивных материалов. Мы жили бы, так сказать, среди собственного мусора. Хотя космос велик, а радиоактивные отходы по сравнению с ним ничтожны, возможность столкновения космических кораблей с радиоактивными обломками или приближения к ним все же не исключена. А как обстоит дело с нашей атмосферой? На протяжении всей истории человек беспечно выпускал в атмосферу газообразные отходы и продукты сгорания и был уверен, что все развеется и никакого вреда от этого не будет; в результате очистка воздуха стала одной из главных проблем нашего времени. Так что давайте не загрязнять космос! Выход из положения заключается в том, чтобы сконцентрировать радиоактивные отходы в небольших районах космоса и постараться удержать их там. Эти районы космоса можно затем объявить запретной зоной, и тогда мы избежим всяких неприятностей. Надо запустить отходы в одно из троянских положений, связанных с системой Земля — Луна, с тем чтобы они навсегда оставались в этой ловушке. Если это сделать должным образом, то отходы будут оставаться в точках, находящихся в 300 000 километров от Луны и Земли на период, безусловно достаточный для того, чтобы радиация снизилась до безопасного уровня. Естественно, что эти районы станут смертельно опасными для любого космического корабля, который пройдет сквозь них… это будет если уж не троянский конь, то, во всяком случае, «троянский катафалк». И все же ценой такого риска стоит решить проблему избавления от радиоактивных отходов.
16. Клянусь Юпитером!
Давайте спросим: «На какой из планет солнечной системы (кроме Земли, конечно) будет скорее всего обнаружена жизнь?» И мне представляется, что я слышу дружный и громкий ответ: «На Марсе!» Все доводы в пользу такого ответа я знаю наизусть, потому что сам не раз приводил их в спорах: хоть Марс и невелик, и холоден, и имеет не так уж много воздуха, но все же не настолько, чтобы на нем не могло существовать некоего подобия примитивной растительной жизни. С другой стороны, Венера и Меркурий явно слишком горячи, на Луне нет воздуха, а как остальные спутники планет солнечной системы, так и астероиды (не говоря уже о Плутоне) чересчур холодны, слишком малы или страдают и тем и другим. И затем мы добавляем примерно такую фразу: «Что же касается Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, то о них не может быть и речи». Однако Карл Саган, астроном из Гарвардского университета, полностью отвергает эту точку зрения, и его недавняя статья заставила меня поразмыслить о внешних планетах. В догалилеевское время Юпитер и Сатурн (Урани Нептун еще не были открыты) ничем не выделялись среди других планет, разве что они двигались на звездном небе медленнее, чем другие планеты, и потому казались дальше от Земли. Уже первый телескоп показал, что Юпитер и Сатурн — это диски, имеющие измеримые угловые размеры. Когда стало известно расстояние до этих планет, угловые размеры оказалось возможным перевести в километры, и результат привел всех в изумление. Диаметр Юпитера — 142 000 километров, а Сатурна — 120 000 километров, в то время как экваториальный диаметр Земли — 12 800 километров. Внешние планеты оказались гигантами! С открытием Урана в 1781 году и Нептуна в 1846 году появились еще две довольно внушительные планеты, так как экваториальный диаметр Урана равен 50 000 километров, а Нептуна (по последним измерениям) — примерно 45 000 километров. Разница в размерах между этими планетами и нашим плотным маленьким миром станет еще больше, если мы сравним их объемы, так как они пропорциональны диаметру, возведенному в куб. Другими словами, если диаметр тела A в 10 раз больше диаметра тела В, то объем тела А в 1000 раз больше объема тела В. Приняв объем Земли за 1, мы получим следующие относительные объемы планет-гигантов:Юпитер … 1300 Сатурн … 750 Уран … 50[18] Нептун … 42[18]У каждого из гигантов есть спутники. Как угловой размер планеты, так и расстояние от нее различных спутников измерить просто. Имея эти данные, можно быстро вычислить массу главной планеты. (Так как у Венеры и Меркурия нет спутников, то мы не можем судить о их массе с такой же уверенностью, с какой мы судим, например, о массе Нептуна.) Когда речь идет о массе, гиганты, естественно, остаются гигантами. Если взять массу Земли за 1, то массы гигантов будут равны:
Юпитер … 318 Сатурн … 95 Уран … 15 Нептун … 17Четыре гиганта, в сущности, вобрали в себя всю массу планет солнечной системы! Масса одного Юпитера равна примерно 70 % общей массы планет. Если взять, помимо планет-гигантов, остальные планеты, все спутники, астероиды, кометы и метеориты, то они составят менее 1 % общей массы. Разумные существа других систем, изучая солнечную систему с полной беспристрастностью, сделали бы, по всей вероятности, такую запись о Солнце: «Звезда x, спектральный класс G2, четыре планеты плюс обломки». Но взгляните еще раз на числа, выражающие массы планет. Сравните их с числами, выражающими объемы, и вы увидите, что масса этих планет довольно мала. Другими словами, Юпитер занимает в 1300 раз больше места, чем Земля, но вещества в нем больше всего в 318 раз. Следовательно, вещество Юпитера должно располагаться более свободно, а это значит (переходя на научный язык), что плотность Юпитера гораздо меньше плотности Земли. Если принять плотность Земли за 1, то плотность гигантов можно получить, просто разделив число, которым выражена масса, на число, которым выражен объем. Плотности гигантов таковы:
Юпитер … 0,280 Сатурн … 0,125 Уран … 0,250 Нептун … 0,425В такой шкале плотность воды будет равна 0,182. Как видите, Нептун, самый плотный из гигантов, примерно только в 21/4 раза плотнее воды, Юпитер и Уран — в 1,5 раза, а Сатурн даже менее плотен, чем вода. Помнится, я читал книгу по астрономии, в которой автор наглядно обыграл это обстоятельство: если бы нашелся достаточно большой океан, то Сатурн плавал бы в нем, погрузившись менее чем на 3/4. В этой же книге была дана впечатляющая иллюстрация, на которой Сатурн вместе со всеми своими кольцами плыл по бурному морю[19].
* * *
Но пусть проблема плотности не вводит вас в заблуждение. Сразу возникает мысль, будто Сатурн, в общем менее плотный, чем вода, состоит из какого-то пористого материала, вроде пробки. Однако это не так, и мне нетрудно разубедить вас. На поверхности Юпитера видны темные полосы, или ленты, и все приметные детали их движутся по диску планеты с постоянной скоростью. Проследив за этим движением, можно очень точно определить период вращения планеты; оказывается, что он равен 9 часам 50 минутам 30 секундам. Примерно так же, хотя и с большими трудностями, можно определить периоды вращения более далеких гигантов. И вот тут отмечается удивительное явление. Период вращения, который я назвал, относится только к экваториальной части Юпитера. Другие части планеты вращаются немного медленнее: период вращения Юпитера постепенно увеличивается по мере приближения к полюсам. Уже одно это показывает, что мы смотрим не на твердую поверхность, которая вращается как целое. Вывод совершенно ясен. Мы видим не поверхность Юпитера (и других гигантов), а облака в их атмосферах. Под облаками простирается громадная толща атмосферы, гораздо более плотной, чем наша, но все же не такой плотной, как камень или металл. Определяя объем гигантских планет, мы берем их вместе с атмосферой, и поэтому средняя плотность получается столь малой. Если бы мы учитывали только ядро планеты, находящееся под атмосферой, то плотность была бы такая же, как у Земли, и, весьма возможно, даже выше. Но какова толщина этой атмосферы?
* * *
Будучи дальше от Солнца, чем Земля, а следовательно, и холоднее ее, гигантские планеты отличаются от Земли главным образом тем, что сохраняют гораздо большее количество легких элементов — водорода, гелия, углерода, азота и кислорода. Гелий не образует соединений, но остается газом. Водород имеется в избытке; он не только остается в газообразном состоянии, но и вступает в соединения с углеродом, азотом и кислородом и образует аммиак, метан и воду. Метан — это газ. При земной температуре аммиак тоже находится в газообразном состоянии, а вода — в жидком. Если бы температура на Земле упала до –100 градусов или ниже, как на планетах-гигантах, то и вода (гидросфера), и аммиак затвердели бы, а метан остался бы газообразным. Данные спектроскопического анализа показывают, что атмосфера Юпитера состоит на 3/4 из водорода, на 1/4 из гелия и, кроме того, в ней имеются обильные примеси аммиака и метана. (Вода не обнаружена, но можно предположить, что она вымерзла.) Структура нашей планеты примерно такова: твердое каменное или металлическое центральное тело (литосфера), окруженное слоем воды (гидросфера), и все это в свою очередь окружено слоем газа (атмосфера). Легкие элементы, которыми особенно богаты гигантские планеты, скорее способствовали бы увеличению их атмосферы и гидросферы, чем литосферы. Следовательно, центральная литосфера у них была бы больше литосферы Земли (но не обязательно чрезвычайно большой) и окружала бы ее гигантская гидросфера и не менее гигантская атмосфера. Но что значит гигантская? Здесь мы можем принять во внимание сжатие гигантов у полюсов. Хотя диаметр Юпитера у экватора равен 142 000 километров, диаметр его от полюса до полюса составит всего 132 000 километров. Сплюснутость составляет 7 %, в то время как у Земли она равна примерно 0,33 %. У Юпитера явно эллиптическая форма. У Сатурна она выражена еще отчетливее, так как его экваториальный диаметр равен 120 000 километров, полярный диаметр — 106 000 километров, сплюснутость — примерно 12 % (Уран и Нептун сплюснуты меньше, чем Юпитер и Сатурн). Степень сплюснутости планеты частично зависит от скорости вращения и возникающей центробежной силы. Хотя Юпитер и Сатурн гораздо больше Земли, их периоды вращения равны примерно 10 часам в отличие от нашего двадцатичетырехчасового. Поэтому поверхность Юпитера на экваторе движется со скоростью 40 000 километров в час, а Земли — со скоростью 1600 километров в час. Естественно, поверхность Юпитера растягивается сильнее, чем земная (даже несмотря на большее тяготение Юпитера), и поэтому гигантская планета больше вспучивается на экваторе и больше сплющивается у полюсов. Сатурн значительно меньше Юпитера, и его период вращения приблизительно на 20 минут больше. Центробежная сила на экваторе у него меньше; несмотря на меньшее тяготение, он должен быть сплюснут слабее, чем Юпитер, — на самом деле он сплюснут сильнее. Причина в том, что степень сплюснутости зависит еще и от распределения плотности, и если атмосфера Сатурна намного толще атмосферы Юпитера, то и сплюснутость у него будет больше. Астроном Руперт Вильдт оценил толщину литосферы, гидросферы и атмосферы каждой планеты, для того чтобы получить наблюдаемую среднюю плотность и полярную сплюснутость. (С его соображениями согласны далеко не все астрономы, но мы все-таки примем их за основу.) Ниже (в таблице) приводятся полученные Вильдтом числа, к которым для сравнения я добавил данные, относящиеся к Земле.

1 Разумеется, наша атмосфера толще 13 километров и, в сущности, не имеет постоянной толщины. Однако я беру земную атмосферу (и позже подсчитаю ее объем) только до верхних слоев ее облаков, так же как в случае с гигантскими планетами.
Как видите, у Сатурна, который меньше Юпитера, гораздо более толстая атмосфера, что и объясняет его низкую плотность и необыкновенно высокую степень сплюснутости. У Нептуна самая тонкая атмосфера, и поэтому это самая плотная планета-гигант. Кроме того, оказывается, Земля не такой уж пигмей по сравнению с гигантами, если говорить только о литосфере. Но, приняв, что все литосферы имеют одинаковую плотность, и взяв массу земной литосферы за 1, мы получим такие массы литосфер у других планет:
Юпитер … 100 Сатурн … 45 Уран … 5,5 Нептун … 3,5Именно необычайная величина гидросферы и атмосферы обусловливает огромные размеры планет-гигантов.
* * *
Последнее утверждение лучше всего можно проиллюстрировать, рассмотрев не толщину различных составляющих планет, а их объем. Ниже (в таблице) названы объемы в триллионах кубических километров. И снова для сравнения приводятся данные, относящиеся к Земле.

Из таблицы видно, что литосфера гигантских планет составляет лишь небольшую часть общего объема, тогда как объем литосферы Земли почти равен общему объему планеты. Для большей наглядности выразим объем каждой составляющей в процентах к общему объему планеты.

В то время как на литосферу Земли приходится 99,5 % общего объема планеты, литосфера гигантских планет в лучшем случае составляет всего 8 %. Примерно 1/3 объема Нептуна — это газ. У Юпитера и Урана газ занимает 1/2 общего объема, у Сатурна, наименее плотного из четырех планет, объем газа составляет 4/5 общего объема. Гигантские планеты иногда называют «газовыми гигантами», и, как видите, свое название они оправдывают, особенно Сатурн.
* * *
На гигантских планетах все выглядит совершенно не так, как на Земле. Атмосферы их очень ядовиты, чрезвычайно протяженны и пропускают так мало света, что на поверхности планет даже на стороне, освещенной Солнцем, постоянно царит полный мрак. Атмосферное давление на этих планетах огромно, и, судя по тому, что мы видим в телескоп, там постоянно бушуют неистовые ураганы. Обычно считается, что самая высокая температура видимой поверхности этих планет (Юпитер) равна –100 градусам (по новым данным, –140 градусам. — Ред.), а самая низкая (Нептун) доходит до –230 градусов, так что если бы даже мы не погибли от ураганов, чудовищного давления и ядовитых газов атмосфер, то нам пришлось бы опуститься на колоссальный, покрывающий всю планету слой замерзшего аммиака толщиной в тысячи километров. Тут уж не только нельзя представить себе, что человек высадится на такую планету и станет жить на ней. На ней вообще невозможна какая бы то ни было жизнь, хотя бы отдаленно напоминающая нашу земную. А нет ли какого-либо изъяна в нарисованной нами картине? Есть и, возможно, большой: речь идет о температуре. Вероятно, на Юпитере совсем не так уж холодно, как мы думаем. Разумеется, от Солнца он находится раз в пять дальше, чем Земля, и поэтому получает раз в 25 меньше солнечного тепла. Однако суть дела не в том, чтобы получить побольше тепла, а в том, чтобы удержать его; 4/9 света, приходящего от Солнца, отражаются, а остающиеся 5/9 поглощаются. Поглощенная часть не доходит до поверхности планеты в виде света, но она все равно добирается до нее… в виде тепла. Планета обычно испускает это тепло в виде длинноволнового инфракрасного излучения, но компоненты атмосферы Юпитера (особенно аммиак и метан) довольно плохо пропускают инфракрасные лучи, которые вследствие этого удерживаются и вызывают повышение температуры. Лишь когда температура достаточно высока, для того, чтобы инфракрасные лучи пробились сквозь атмосферу, устанавливается температурное равновесие. Возможно даже, что благодаря такому «парниковому эффекту» температура поверхности Юпитера так же высока, как и температура поверхности Земли. И это не только теоретические выкладки, потому что радиоизлучение Юпитера, открытое в 1955 году, по-видимому, говорит о том, что температура его атмосферы гораздо выше той, которую долго считали возможной для этой планеты. На других гигантских планетах температуры, очевидно, тоже выше, чем считалось раньше, но весьма вероятно, температурное равновесие у них наступает при более низкой температуре, чем у Юпитера, так как другие планеты больше удалены от Солнца. Возможно, Юпитер — единственная гигантская планета с температурой поверхности выше 0 градусов. Это значит, что из всех гигантских планет лишь Юпитер, может быть, имеет жидкую гидросферу. По схеме Вильдта, вся поверхность Юпитера покрыта океаном глубиной 27 000 километров. С другой стороны, у Венеры тоже есть атмосфера с «парниковым эффектом», который поднимает температуру поверхности выше, чем думали прежде. Радиоизлучение Венеры показывает, что температура ее поверхности гораздо выше точки кипения воды и поэтому поверхность Венеры совершенно иссушена, а весь ее запас воды находится в облачном слое над поверхностью планеты. Странное дело: научные фантасты десятилетиями писали об океане, которым покрыта вся Венера. Такой «всепланетный» океан действительно есть. Только на другой планете — на Юпитере… клянусь Юпитером!
* * *
Говоря об океане Юпитера, профессор Саган утверждает: «Из этого следует вывод, что возможностей для жизни на Юпитере больше, чем возможностей для жизни на Венере». Такая осторожность похвальна, когда ученый выступает с заявлением в научном журнале. Но сам я, выступая со своей импровизированной трибуны, ни в коем случае не обязан быть столь осторожным и поэтому могу позволить себе высказываться об океане Юпитера гораздо более свободно. Итак, поговорим немного об океане. Если согласиться с картиной, нарисованной Вильдтом, то океан Юпитера должен быть в 500 000 раз больше земного, а по объему он равен 620 Землям. Этот океан окружен атмосферой того же типа, которая (по нынешним представлениям) окружала Землю, когда на ней зародилась жизнь. Все простые соединения (метан, аммиак, вода, растворенные соли) имеются в нем в невероятном (по земным масштабам) количестве. Для создания этих органических соединений требуются источники энергии, и весьма возможно, что одним из них является ультрафиолетовое излучение Солнца. (Как было сказано раньше, количество ультрафиолетовых лучей, достигающих Юпитера, в 25 раз меньше, чем лучей, достигающих Земли, и, кроме того, они не могут проникнуть глубоко в толщу атмосферы.) И все же ультрафиолетовые лучи, видимо, не стоит сбрасывать со счетов, так как окрашенные полосы в атмосфере Юпитера, вероятно, состоят из свободных радикалов (то есть из активных молекулярных осколков), выбиваемых из обычных молекул ультрафиолетовыми лучами. Постоянное перемешивание атмосферы увлекает свободные радикалы вниз, где они, возможно, отдают свою энергию, вступая в реакцию с простыми молекулами и образуя сложные. Даже если не принимать во внимание ультрафиолетовые лучи как источник энергии, то остаются еще два других. Во-первых, молнии. Молнии в атмосфере Юпитера могут быть более мощными и продолжительными, чем когда бы то ни было на Земле. Во-вторых, всегда существует естественная радиоактивность. А почему бы, собственно, в океане Юпитера не возникнуть жизни? Температура подходящая. Сырье имеется. Энергией он снабжается. Все условия, которых оказалось достаточно, чтобы появилась жизнь в первобытном океане Земли, есть и на Юпитере (если картина, нарисованная в этой главе, отражает действительное положение вещей), только они более благоприятны. А выдержат ли живые существа атмосферное давление и бури Юпитера, не говоря уже о его тяготении? Но бури, как бы они ни были жестоки, могут всколыхнуть только поверхность океана глубиной 27 000 километров. На глубине нескольких сот метров (или километров, если хотите) существуют только медленные океанские течения. Что же касается тяготения, то забудьте про него. Жители океана вообще могут не обращать внимания на тяготение, потому что его воздействие почти полностью нейтрализуется плавучестью. Как видите, ни одно из возражений не выдерживает критики. Разумеется, подобная жизнь должна возникнуть и развиваться без газообразного кислорода, но именно в таких условиях зародилась и развивалась жизнь на Земле. И сейчас на Земле есть бактерии, которые могут жить без кислорода. Давайте снова зададим вопрос: «На какой планете солнечной системы (кроме Земли, конечно) будет скорее всего обнаружена жизнь?» И теперь, как мне кажется, ответ должен прозвучать так: «На Юпитере, клянусь Юпитером!»
* * *
Конечно, если жизнь на Юпитере и существует, то она, к сожалению, находится в полной изоляции. Хотя в ее распоряжении громадный океан, путь в окружающий необъятный мир закрыт для нее навсегда. Даже если некоторые формы жизни на Юпитере обретут разум, который можно было бы сравнить с нашим (а есть основания полагать, что настоящие жители моря — прежде чем вы возразите мне, я напомню, что дельфины произошли от сухопутных животных, — не смогли бы обрести подобный разум), то им не удастся заявить о себе. Вряд ли возможно, чтобы даже разум, подобный человеческому, мог изобрести способ выйти из океана, пробиться сквозь тысячи километров бурной, густой, как патока, атмосферы, преодолеть колоссальное тяготение Юпитера, чтобы достичь ближайшего спутника планеты и с его поверхности обозревать Вселенную. А пока живые существа остаются в океане Юпитера, они и не подозревают о существовании Вселенной за его пределами, разве что косвенно ощущают поток тепла, очень слабое микроволновое излучение Солнца и, может быть, кое-что еще. Без какой-либо другой подтверждающей информации микроволновое излучение окажется совершенно необъяснимым явлением, даже если бы оно воспринималось. Однако — долой грусть, закончим главу радостной нотой! Если океан Юпитера так же богат живыми существами, как и наш океан, то 1/70 000 его массы составляет живая материя. Другими словами, общая масса морских животных Юпитера была бы равна 1/8 массы нашей Луны. Представляете, какое это колоссальное количество рыбы? А какая будет рыбная ловля на Юпитере, если только мы когда-нибудь туда доберемся! Ввиду невероятно быстрого роста нашего населения стоит поразмыслить еще над одним вопросом… Как вы думаете, съедобны ли живые существа, которые водятся на Юпитере?
17. Поверхностные рассуждения
Еще в прошлом веке серьезные фантасты, начиная с Эдгара По, мечтали о полете на Луну. Сейчас мы стараемся осуществить это на деле. Пожалуй, такой утилитарный подход уменьшает романтику космических проектов, но, если надо поступиться лишь этим, я думаю, нам остается только, вздохнув, еще энергичнее добиваться поставленной цели. Однако до сих пор, пожалуй, интересовались в основном тем, как добраться до Луны, а ведь нам, приверженцам научной фантастики, необходимо быть всегда на шаг впереди: мы сосредоточиваем свои помыслы на том, как заселить Луну. Естественно, мы можем не обращать внимания на такие мелкие обстоятельства, как отсутствие на Луне воды и воздуха. Вероятно, мы сможем выпаривать воду из глубоко залегающих пород и придумаем способ, как извлечь кислород из силикатов. Мы можем жить под поверхностью Луны, чтобы не страдать от жары днем и от холода ночью. И в самом деле, если сияющее Солнце не сходит с безоблачного неба две недели подряд, то солнечные батареи могут обеспечить колонистов колоссальным количеством энергии. Возможно, придет время, когда страна с высоким уровнем жизни будет находиться там, на небе. Может быть, на некоторых кратерах появится видная даже в маленький телескоп надпись: «Присылайте к нам уставших от тесноты людей, жаждущих вздохнуть свободно…» Кто знает, может, это и будет?* * *
Но если Луне суждено стать второй Землей и принять часть ее населения, то нам следует кое-что знать о ней, например ее размеры. Сразу встает вопрос, что мы подразумеваем под «размерами». Когда говорят о размерах Луны, чаще всего приводят величину ее диаметра, которая может быть получена прямым измерением, поскольку расстояние до Луны известно. Так как диаметр Луны равен 3470 километрам, а диаметр Земли — 12 800 километрам, большинство людей так и подмывает сказать, что Луна в 4 раза меньше Земли или что размеры Луны составляют 1/4 размеров Земли. (С этой точки зрения более точно было бы сказать, что размеры Луны составляют 0,273 размеров Земли или что Земля в 3,66 раза больше Луны.) Все наталкивает на мысль, что Луна — это мир весьма приличных размеров. Но давайте подойдем к этому вопросу с другой точки зрения. Кроме линейных размеров, интересно знать и массу тела в солнечной системе, ибо от массы зависит его тяготение. При прочих равных условиях масса пропорциональна диаметру, возведенному в куб. Если диаметр Земли в 3,66 раза больше диаметра Луны, то масса ее будет (3,66 · 3,66 · 3,66) в 49 раз больше массы Луны. Но это только в том случае, если плотности двух сравниваемых тел одинаковы. Оказывается, Земля в 1,67 раза плотнее Луны, и поэтому разница в массе больше, чем при простом возведении диаметра в куб. В действительности масса Земли в 81 раз больше массы Луны. Внушает беспокойство, что Луна вдруг стала такой карликовой. И встает вопрос: во сколько же раз Луна меньше Земли — в 4 или в 81? Пожалуй, это и не важно. Поскольку мы говорим о заселении Луны, нас интересует только площадь поверхности. На любом достаточно большом небесном теле при обычных обстоятельствах люди будут жить на поверхности. Даже если они зароются в почву, то проникнут на небольшую глубину, которая не идет ни в какое сравнение с диаметром любого мира размером с Землю или даже с Луну. Следовательно, нас должен волновать вопрос: какова площадь поверхности Луны по сравнению с площадью поверхности Земли? Попробуем получить эти «поверхностные» данные. Подсчитать это легко, потому что площадь поверхности пропорциональна квадрату диаметра. Здесь уже плотность не имеет никакого значения, и учитывать ее не надо. Если диаметр Земли в 3,66 раза больше диаметра Луны, то площадь ее поверхности будет (3,66 · 3,66) в 13,45 раза больше площади поверхности Луны.
* * *
Но это меня не удовлетворяет. Когда мы говорим, что площадь поверхности Луны в 13,45 раза меньше площади поверхности Земли, это звучит не слишком выразительно. Что же это все-таки значит? Велика ли такая поверхность? Предлагаю вашему вниманию следующий способ, который, по-моему, дает достаточно наглядное представление о поверхности Луны. Используем в качестве единицы измерения площадь США, равную 9 288 000 квадратных километров. Для примера составим таблицу, в которую войдут некоторые географические районы нашей планеты, и выразим их площади в принятых нами условных единицах.
Географический район / Площадь[20]Теперь, как видите, стоит мне сказать, что поверхность Луны равна 4,03 США, и вы сразу поймете, что заселение Луны предоставит в распоряжение человечества территорию, которая будет в 4 раза больше Соединенных Штатов или в 1,75 раза больше Советского Союза. Можно сказать еще и так: площадь Луны представляет собой что-то среднее между Африкой и Азией. Но пойдем дальше и предположим, что человечество собирается заселить в солнечной системе все, что можно или стоит заселять. Когда мы говорим «можно заселить», мы исключаем, по крайней мере на предвидимое будущее, газовые гиганты, то есть Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. (Чтобы вам было яснее, посмотрите предыдущую главу.) У нас еще остается 4 планеты: Меркурий, Венера, Марс и (только для того, чтобы картина была полной… и предусматривала все крайности) Плутон. Кроме того, имеется ряд крупных спутников (не говоря уже о нашей Луне), которые настолько велики, что их, по-видимому, тоже стоит заселить. Сюда входят четыре больших спутника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто), два больших спутника Сатурна (Титан и Рея) и большой спутник Нептуна (Тритон). Площадь поверхности этих тел легко подсчитать. Ниже приводятся результаты этих подсчетов (Земля и Луна включены для сравнения).
Австралия … 0,82 Бразилия … 0,91 Канада … 0,95 Соединенные Штаты … 1,00 Европа … 1,07 Китай … 1,19 Северный Ледовитый океан … 1,50 Антарктида … 1,65 Южная Америка … 1,90 Советский Союз … 2,32 Северная Америка … 2,50 Африка … 3,20 Азия … 4,70 Индийский океан … 7,80 Атлантический океан … 8,80 Общая площадь суши … 17,50 Тихий океан … 17,60 Общая площадь мирового океана … 36,80 Общая площадь поверхности Земли … 54,30
Планета или спутник / Площадь поверхности[20]Как видите, если мы исключим Солнце и газовые гиганты, то в солнечной системе останется еще целая дюжина тел, площадь поверхности которых превышает площадь США, и тринадцатое тело с немного меньшей площадью поверхности. Общая площадь поверхности этой чертовой дюжины миров приблизительно равна 225 США. Из них целую четверть занимает сама Земля, а Земля уже заселена человечеством. Другая четверть представлена Плутоном, колонизацию которого даже при самом горячем желании придется отложить на далекое будущее. Из того, что осталось (около 118 США), Венера, Марс и Луна составляют примерно 5/9. Эти миры самые близкие, и, следовательно, их легче достичь и заселить; пройдет довольно много времени, прежде чем человечество отважится подступиться к окрестностям Солнца и достичь Меркурия или ринуться в другую сторону, к большим спутникам внешних планет. Надежд на бóльшую площадь, по-видимому, слишком мало. Однако есть и другие пути, о которых я собираюсь рассказать. До сих пор я не упоминал об объектах солнечной системы, которые имели бы менее 1500 километров в диаметре (таков диаметр Реи). На первый взгляд их можно отнести в рубрику «не стоящих заселения» — просто потому, что площадь их поверхности невелика и проку от них ждать не приходится. Кроме того, притяжение их было бы настолько слабым, что, наверно, возникли бы всякие трудности, как физиологические, так и технические. Однако не будем обращать внимание на тяготение небесных тел и рассмотрим площади их поверхности. Правильно ли мы предполагаем, что площадь поверхности небольших тел так невелика, что ею можно пренебречь? В конце концов в солнечной системе имеется 23 спутника с диаметром меньше 1500 километров, а это почтенное число. С другой стороны, некоторые из этих спутников очень малы. Диаметр Деймоса, меньшего из спутников Марса, не превышает 15 километров. Чтобы управиться с площадью мелких миров, давайте воспользуемся другой единицей измерения. Самым большим городом Соединенных Штатов (по площади по крайней мере) является Лос-Анжелес, раскинувшийся на 1150 квадратных километров. Мы можем принять занимаемую им площадь за единицу. Это удобно, потому что на территории США поместится примерно 8000 таких городов, как Лос-Анжелес. Ниже представлено сравнение площадей поверхности мелких спутников солнечной системы. (Диаметры всех этих спутников определены не очень точно, и, следовательно, столь же неточны подсчитанные нами площади их поверхности. Однако в своих расчетах я основывался на последних имевшихся в моем распоряжении данных.) Общая площадь мелких спутников солнечной системы составляет, таким образом, до 20 000 Лос-Анжелесов, и если разделить это число на 8000, то получится примерно 2,5 США. Общая площадь поверхности 23 тел составляет чуть больше 1/2 площади поверхности Луны, или, другими словами, примерно площадь Северной Америки. Казалось бы, это подтверждает, что о мелких спутниках не стоит и беспокоиться, но… давайте поразмыслим еще. Все эти спутники, вместе взятые, составляют чуть больше 1/6 объема Луны, но площадь их поверхности превышает 1/2 площади поверхности Луны.
Земля … 54,3 Плутон … (54)(?) Венера … 49,6 Марс … 15,4 Каллисто … 9,0 Ганимед … 8,85 Меркурий … 8,30 Титан … 7,30 Тритон … 6,80 Ио … 4,65 Луна … 4,03 Европа … 3,30 Рея … 0,86
Спутник (планета) / Площадь поверхности[21]Это должно напомнить нам, что чем меньше тело, тем больше площадь его поверхности по отношению к объему. Площадь поверхности любого шара равна 4πr2, где r — его радиус. Это значит, что Земля, радиус которой равен примерно 6400 километрам, имеет площадь поверхности примерно 500 миллионов квадратных километров. Но предположим, что из Земли сделали ряд миров поменьше, причем радиус каждого из них равен 1/2 радиуса Земли. Объем пропорционален радиусу, возведенному в куб, и поэтому из Земли можно сделать не менее восьми «полуземель», каждая из которых будет иметь радиус примерно 3250 километров. Площадь поверхности каждой «полуземли» была бы равна примерно 130 миллионам квадратных километров, а общая площадь поверхности всех восьми «полуземель» — 1 миллиарду квадратных километров, то есть она вдвое превышала бы площадь поверхности Земли. Если мы возьмем какой-нибудь определенный объем вещества, то чем меньше тела, на которые она разделена, тем больше общая площадь ее поверхности. Но вы можете сказать, что этот анализ еще ничего не доказывает, так как 23 мелких спутника в любом случае имеют площадь не слишком большую. И, как бы ни возросла их общая площадь, она приближается всего лишь к площади Северной Америки. Однако сказано еще не все. Мы не упомянули о малых планетах, или астероидах. Считается, что масса всех астероидов равна 1 проценту массы Земли. Если бы все они каким-либо образом соединились в один шар, средняя плотность которого была бы равна средней плотности Земли, то такой шар имел бы радиус 1375 километров и диаметр, естественно, 2750 километров. Размер этого шара был бы почти таким же, как у одного из спутников Юпитера, а именно Европы, а площадь его поверхности была бы равна 2,6 США, то есть площади всех мелких спутников, вместе взятых. Но астероиды существуют не в виде воображаемого единого шара, а в виде большого числа маленьких тел, и вот тут-то выступает на сцену увеличение площади поверхности. Предполагается, что число астероидов доходит до 100 тысяч; если эта цифра верна, то средний астероид имеет диаметр 56 километров, а общая площадь поверхности всех 100 тысяч достигала бы 130 CША. Это значит, что общая площадь поверхности астероидов немного превышает площадь поверхности Земли, Венеры, Марса и Луны, вместе взятых, и в 7,5 раза — площадь земной суши. Да ведь это же золотое дно! Но давайте пойдем дальше. Зачем ограничиваться только поверхностью миров? По-видимому, мы можем углубиться в них и использовать то, что лежит втуне. На больших мирах с их могучими силами тяготения можно проникнуть лишь в верхний слой, а недра останутся вне досягаемости; на астероиде же тяготение, в сущности, отсутствует, и поэтому было бы сравнительно легко прокопать его насквозь. Я уже однажды описал это явление в рассказе о воображаемом астероиде Элсвире. Один из аборигенов дает гостю с Земли такие пояснения: «Мир у нас не маленький, доктор Ламорак. Вы судите о нас, исходя из привычного для вас двумерного мышления. Площадь поверхности Элсвира равна только 3/4 площади штата Нью-Йорк, но это не относится к делу. Помните, что мы можем освоить, если пожелаем, все недра Элсвира. Шар радиусом 80 километров имеет объем, превышающий полмиллиона кубических километров. Если бы мы заняли весь Элсвир, прорывая через каждые 50 метров новый этаж, то общая площадь поверхности внутри нашей планеты была бы равна 144 миллионам квадратных километров, что соответствует общей площади земной суши. И ни один из этих километров не оставался бы неиспользованным». Вот так обстоит дело с астероидом радиусом 80 километров и, следовательно, диаметром 160 километров. Астероид диаметром 56 километров имел бы только примерно 1/27 такого объема, и прорытые в нем этажи дали бы площадь поверхности лишь 5 миллионов квадратных километров, что тем не менее составляет более 1/2 общей площади Соединенных Штатов (точнее — 0,55 США). Тогда один маленький астероид диаметром 56 километров дал бы больше пригодного для заселения пространства, чем поверхность среднего спутника Сатурна — Япета. Порода, вынутая из астероида, тоже не пропала бы даром. Из нее можно было бы извлекать металл или силикаты. Не хватало бы только таких важных элементов, как водород, углерод и азот, но их можно было бы получать (помните, что мы всматриваемся в будущее сквозь розовые очки) в практически неограниченном количестве из атмосфер газовых гигантов, и в особенности из атмосферы Юпитера. Если мы представим себе 100 тысяч астероидов, более или менее полых, то жизненное пространство составит 500 миллиардов квадратных километров, или 55 тысяч США. Это превосходило бы более чем в 150 раз площадь поверхностей всех небесных тел солнечной системы (включая и газовые гиганты, и даже астероиды).
Япет (Сатурн) … 4450 Тефия (Сатурн) … 3400 Диона (Сатурн) … 3400 Титания (Уран) … 2500 Оберон (Уран) … 2500 Мимас (Сатурн) … 630 Энцелад (Сатурн) … 630 Ариель (Уран) … 630 Умбриель (Уран) … 440 Гиперион (Сатурн) … 280 Феба (Сатурн) … 280 Нереида (Нептун) … 120 Амальтея (Юпитер) … 70 Миранда (Уран) … 45 VI (Юпитер) … 35 VII (Юпитер) … 6,5 VIII (Юпитер) … 6,5 IX (Юпитер) … 1,5 XI (Юпитер) … 1,5 XII (Юпитер) … 1,5 Фобос (Марс) … 1,5 X (Юпитер) … 0,7 Деймос (Марс) … 0,4
* * *
Предположим, что этажи внутри какого-либо астероида заселены так же густо, как США. В среднем население каждого астероида достигало бы 100 миллионов человек, а общее население всех астероидов — 1013 (10 триллионов) человек. Возникает вопрос: как могло бы существовать такое население? Можно представить себе, что каждый астероид — самостоятельная единица, в которой все вещество включено в быстрый и эффективный процесс кругооборота. (Об этом-то и говорилось в рассказе, о котором я упоминал.) Узким местом таких астероидов было бы энергоснабжение, так как энергия всегда расходуется, несмотря на эффективность кругооборота. В настоящее время все наше энергоснабжение, в сущности, определяется Солнцем. (Исключение составляет, конечно, ядерная энергия и энергия приливов и горячих источников.) Использование солнечной энергии только для выращивания зеленых растений неэффективно, так как зеленым растениям нужно всего около 2 % всей солнечной энергии, падающей на Землю. Однако неиспользованные 98 % — это еще не главная потеря. Солнце излучает во всех направлениях, и, пока его лучи достигают земной орбиты, они успевают рассеяться по сфере радиусом 150 миллионов километров. Площадь поверхности такой сферы равна 2,8 · 1017 (280 квадрильонов) квадратных километров, тогда как поперечное сечение Земли равно всего лишь 128 миллионам квадратных километров. Доля солнечного излучения, получаемого Землей, следовательно, равна 128 000 000/280 000 000 000 000 000, или примерно 2 000 000 000 (одной двухмиллиардной). Если бы все солнечное излучение удалось уловить и использовать хотя бы с тем же к. п. д., с каким оно используется ныне на Земле, то это дало бы возможность существовать населению, которое было бы в два миллиарда раз больше населения Земли, то есть составляло бы примерно 6 · 1018 (6 квинтильонов) человек. Потребление энергии каждым человеком, безусловно, будет расти, но, по всей вероятности, будет увеличиваться и эффективность использования солнечной энергии, поэтому потребление энергии будет сбалансированно. Для того чтобы использовать всю энергию излучения Солнца, энергетические станции нужно расположить в пространстве «ступенчатыми орбитами» под разными углами к эклиптике. По мере того как будет возрастать потребность в энергии, увеличиваться поверхность станций или их число, образуется оболочка из энергостанции вокруг Солнца, и тогда ни один солнечный луч не минует той или иной станции. Это явление должно вызвать огромный интерес у любого разумного существа, которое будет изучать Солнце из окрестностей другой звезды. Видимый солнечный свет за очень короткий период времени (в астрономическом масштабе) померкнет. Правда, излучение не прекратится совсем, — изменится лишь его природа. Солнце начнет испускать только инфракрасные лучи. Может быть, именно так и бывает, когда разумная раса становится достаточно разумной, и нам следует присматриваться ко всем звездам, которые исчезают, не став сверхновыми… ко всем звездам, которые просто меркнут. Кто знает, что там происходит?
* * *
Можно высказать еще более фантастическую мысль. Я уже говорил, что, если исходить из энергетических соображений, численность населения может достигнуть 6 квинтильонов человек. С другой стороны, нами было подсчитано, что общее население астероидов (при такой плотности населения, как в США) составит каких-то 10 триллионов человек. Население может увеличиться еще в 600 000 раз, но где оно тогда разместится? Увеличение плотности населения может оказаться нежелательным, и жители астероидов будут бросать завистливые взгляды на другие миры. Предположим, что их внимание привлечет такой спутник Сатурна, как Феба, с предполагаемым диаметром 300 километров. Этот спутник мог бы быть расколот примерно на 200 небольших астероидов с диаметром каждого 50 километров. Вместо одного спутника с площадью поверхности 300 тысяч квадратных километров появились бы многочисленные астероиды с общей внутренней площадью более 1 миллиарда квадратных километров. Когда речь идет о Фебе, выигрыш, вероятно, окажется небольшим, так как разделить весь этот спутник Юпитера на этажи целесообразнее, чем расколоть его на части. Ну а как быть с Луной, где можно проникнуть только в самый верхний слой? Масса Луны больше, чем всех астероидов, вместе взятых, и если расколоть Луну, то образуется 200 000 астероидов диаметром 50 километров. Одним ударом число «посадочных мест» для человечества было бы утроено. Можно предположить, что со временем все миры солнечной системы будут раздроблены на куски и заселены людьми. Конечно, Земля составит исключение: отчий дом человеческой расы достоин уважения. Если бы все тела солнечной системы, кроме газовых гигантов и Земли, были раздроблены на куски, то общее число астероидов увеличилось бы примерно в 10 миллионов раз, а общее население могло бы тогда достичь максимума, позволительного с точки зрения имеющегося запаса энергии. Но тут наступает критический момент. Возможно, возникнут трудности с Плутоном. Во-первых, мы плохо знаем его природу. Вероятно, структура Плутона такова, что его нельзя расколоть на астероиды. Во-вторых, он находится очень далеко. Удастся ли эффективно передавать энергию с солнечных станций на все те миллионы астероидов, которые могут быть созданы из Плутона, находящегося на расстоянии 6,5 миллиарда километров от Солнца? Если пренебречь Плутоном, то человечеству остается только один путь, чтобы полностью использовать свои возможности, — придется ликвидировать Землю. Я уже предвижу затянувшийся спор между партиями традиционалистов и прогрессистов. Первые потребуют, чтобы Земля сохранялась в качестве музея истории человечества, и будут говорить, что не так уж важно использовать все возможности для увеличения населения, что нет никакой разницы, будет ли на несколько триллионов людей больше или меньше. Прогрессисты будут настаивать на том, что Земля создана для человека, а не человек для Земли, что человечество имеет право размножаться беспредельно и что все равно Земля прозябает в полной темноте, так как солнечные станции, находящиеся между ней и Солнцем, в сущности, вбирают все излучение, — и поэтому она вряд ли может стать музеем истории человечества. Мне кажется, что прогрессисты в конце концов возьмут верх и теперь, когда корабли космического флота готовятся взрезать Землю силовыми лучами, чтобы дать возможность теплоте недр разорвать ее на части и тем самым положить начало образованию новых астероидов, — я опускаю занавес.
Оглавление
Предисловие … 5 Вступление … 9 Часть I. Биология … 13 1. Вот так обстоит дело с величиной … 15 2. Яйцо-гигант и крошка вирус … 26 3. Вот она, жизнь! … 39 4. Жизнь в той ее форме, которая нам неизвестна? … 52 Часть II. Химия … 67 5. Совершенный элемент … 69 6. Как химики и физики нашли общий язык … 82 7. Четные берут верх … 94 Часть III. Физика … 107 8. А теперь — прислушайтесь … 109 9. До каких пор можно дробить секунду … 121 10. К порядку! … 132 11. Современная демонология … 146 12. Высота самого высокого … 159 Часть IV. Астрономия … 171 13. Ну и температура! … 173 14. Рецепт приготовления планеты … 185 15. Троянский катафалк … 197 16. Клянусь Юпитером! … 209 17. Поверхностныерассуждения … 221
Последние комментарии
16 минут 40 секунд назад
13 часов 58 минут назад
16 часов 24 минут назад
16 часов 58 минут назад
17 часов 11 минут назад
17 часов 18 минут назад