По заветам Корана и зову сердца
 «Я вышел из Танжера...»
«Я вышел из Танжера...»
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного...» — мертвую тишину Сахары пронизывает певучий голос имама. Рядом с имамом, вдоль прочерченной линии на песке, стоят неровным строем мужчины и юноши, обратившиеся в сторону Мекки. — «Направь нас по верной дороге, которой идут благословенные тобой... и не дай сбиться с пути», — заканчивает имам молитву словами из Корана. Караван готов к выходу. Люди опускаются на колени, кланяются, вдавливая лбы в песок.
В утренней прохладе караван вытягивается в цепочку. Верблюды, связанные в линию, ждут сигнала к движению. И вот предводитель дергает за недоуздок главного верблюда, и со звоном сковородок и чаш караван длиной в полмили, раскачиваясь, будто с неохотой, выступает в путь.
Главный в группе, Идрис Дауд, одет, как и его дед, водивший паломников, в длинные голубые одежды туарегских племен и черный тюрбан с накидкой, закрывающей все лицо, кроме глаз. На ремне через плечо свешивается длинный широкий меч в пыльных красных ножнах. Когда Идрис отлучается, чтобы осмотреть животных и тяжелый груз соли, он передает Томасу Эберкромби веревку от переднего верблюда и, к удивлению
того, сопровождает это следующим наставлением:
— Только не останавливайся. А то весь день нам придется разбирать сбившуюся кучу.
Особые чувства охватывают сегодняшнего человека, когда он ведет за собой 400 верблюдов к пустынному горизонту, соединяющему пески и небо. Почти так, как это было в XIV веке, во времена необычного путешествия Ибн Баттуты и арабских ночей, караванов и гаремов, плавающих по морю одномачтовых доу и вертлявых дервишей. То был мир разбойников и войн, когда главным оружием были лишь лук и стрелы, мир султанских пиров и фокусов факиров. Многое из этого дожило и до наших дней.
Уже знакомый нам Томас Эберкромби к этому времени успел побывать во многих районах мира, двигаясь по пути Ибн Баттуты. Теперь он пересекал Сахару и вышел на финишный отрезок. Как и многие столетия назад, так и ныне этот траверс проходил по землям с различными культурами, объединенными единой верой — исламом.
За 29 лет бесконечных скитаний Ибн Баттута, этот пилигрим, придворный политик, дипломат, юрист — все в одном лице — пересек два континента, прошел 75 тысяч миль (кстати, втрое больше, чем Марко Поло) по территория нынешних 44 стран. Его дневники, проникнутые духом своего времени, свидетельствуют об опасностях и трудностях пути, о богатстве стран и приключениях за время долгого путешествия. А начиналось оно в Марокко, когда ему был всего лишь 21 год...
«Я вышел из Танжера, где родился, 13 июня 1325 года с намерением совершить паломничество в Мекку, оставив всех моих друзей, мужчин и женщин, покинув дом, как птица покидает свое гнездо». Так начинается его арабский манускрипт «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий» с ломкими от времени страницами, хранящийся в Национальной библиотеке Парижа, манускрипту уже 630 лет. Автор указан своим полным именем — Шейх Абу Абдуллах Мухаммед Ибн Абдуллах Ибн Мухаммед Ибн Ибрахим ал-Лавати. «Ал-Лавати» означает бербер из племени лавати.
Ни одного прижизненного изображения знаменитого путешественника не сохранилось. Потому так различны портреты Ибн Баттуты, написанные современными марокканскими художниками и выставленные ныне в Культурном центре Танжера. На большинстве полотен Ибн Баттута изображен в марокканском плаще с капюшоном, в руках — посох путника. Пристальный взгляд, борода... Борода — единственная деталь его внешности, о которой нам точно известно из его собственных записок.
Танжер, город-страж, всегда имел стратегическое значение. Потому и переходил периодически из рук в руки. Им правили финикийцы, римляне, племена вандалов, арабы, испанцы. Понятно, рассказы заезжих купцов, солдат, капитанов возбуждали страсть к путешествиям у молодого Иби Баттуты. Сам он отмечает, что какое-то сверхъестественное чувство звало его в дорогу. И зов этот он слышал до самой Суматры — крайней точки своих странствий.
Учеба уже подходила к концу, когда он решил отправиться в 3000-мильный путь в Мекку через Северную Африку. Пристраиваясь к караванам, он, пройдя за десять месяцев Алжир, Тунис и Ливию, достиг Александрии в Египте. В своих дневниках он дает описание обширных гаваней в этом порту и знаменитого александрийского маяка, одного из семи чудес света, к тому времени уже лежавшего в руинах.
Куда бы ни попадал Ибн Баттута, он везде искал образованных и набожных мусульман, которые одаривали его гостеприимством и повествовали о местных краях. Он же, в свою очередь, рассказывал им о заморских странах и делился знаниями, почерпнутыми из Корана. Искал он встречи и с благочестивыми мудрецами. В деревне Фува, расположенной
в Пильской долине, путешественник остановился в уединенном доме известного аскета и мистика суфийского шейха Абу Абдалла аль-Муршнди. И вот, отдыхая ночью на кожаном мате на крыше скромной хижины, он увидел свое будущее. «Мне снилось, что я лечу на крыльях огромной птицы,— пишет Ибн Баттута,—которая несет меня к Мекке, потом поворачивает к Йемену и наконец направляется на восток и доставляет в сказочную зеленую страну».
На следующий день Ибн Баттута был поражен тем, что хозяин сам рассказал о его сне. Но шейх еще и объяснил ему, что приснившееся означает путешествие на Восток, и снабдил его в дорогу едой и серебряными монетами. Все это Ибн Баттута расценил как чудо. Согласно его записям, до этой встречи он и не помышлял о странствиях в далекие земли.
Пророчества начинают сбываться
В Каир марокканец прибыл во время правления Мамлюков — династии воинов-рабов. Эти султаны наследовали власть не от отца к сыну, а получили ее от восставших рабов, которые стали военачальниками и правителями. Египет при Мамлюках процветал. Ибн Баттута упоминает о толпах народа, «двигающихся по узким улочкам Каира, как морские волны». Пишет он и о «12 тысячах разносчиков воды», «30 тысячах грузчиков», «36 тысячах лодок, бороздящих воды Нила», а также «бесплатной больнице, распределяющей лекарства, с каждодневными пожертвованиями в тысячу динаров». Теперь на том же месте работает небольшая государственная клиника. Странно, но Ибн Баттута так и не удосужился посетить знаменитые египетские пирамиды. В своем описании он говорит о них лишь как о конусообразных строениях.
Каир — это многовековой город. Но сегодня из конца в конец можно доехать за пять минут на такси — от станции метро «Площадь Тахрир» до средневекового базара Хап-аль-Халили. Томас Эберкромби надолго задержался здесь, чтобы проникнуться духом прошлого. А оно напоминало о себе на каждом шагу. Особенно на улочках, где продавались трости паломников, кальяны, сделанные из хромированного стекла, лошадиные седла, молитвенные четки, костюмы для танцев, ладан. В кафе с резными деревянными скульптурами и зеркалами можно было выпить чашечку турецкого кофе. А на улице зазывали чистильщики сапог: «Позор для джентльмена ходить в грязной обуви». В духанах встречались старики, дымящие кальянами, шумные студенты, туристы. Желая проникнуться мировоззрением Ибн Баттуты, попал Эберкромби и в секту суфиев. Последователи этого учения имеют древние корни в исламском мире. Они ищут реальность за пределами разума, в прямом любовном союзе с Аллахом. Ибн Баттута тоже был склонен к мистике и тянулся к эзотерическим знаниям. Двое суфиев из Александрии предсказали ему, что путешествие уведет его намного дальше Мекки.
В субботу Эберкромби предстояло посещение мечети Аль-Абдин, недалеко от каирского Города Мертвых, где под ритмичные звуки барабанов и флейт собираются фанатики из беднейших кварталов. Муэдзин с агатовыми четками и в зеленом тюрбане поверх красной фески, высокий, чисто выбритый, казалось, всем существом отдавался молитве, размахивая в ритм певучим словам позолоченным жезлом:
— Аллах! Аллах! Аллах!
— Я верю во все религии,— признался Томасу один пожилой человек,— в ислам, христианство, иудаизм. Разве мы не все дети Адама? Какая разница, если Аллах такой же, как и остальные боги?
Его седые локоны были подкрашены хной, с собой у него был кривой посох — знак странствующего дервиша. Он пригласил американца на чашку чая в свое временное жилище в Городе Мертвых.
Томас и его новый знакомый прошли по лабиринту надгробий к жалкой лачуге, которую тот делил с семьей могилокопателя. Они присели, скрестив ноги по-турецки. Внутри жилища лежал лишь матрас и стоял черно-белый телевизор.
Дервиша звали Абу Абду. О жизни своей он рассказывал неохотно.
— Откуда ты родом?
— Один Аллах знает.
— Как ты живешь?
— Я отдал себя в руки Аллаха.
— Ты надолго задержишься в Каире?
— Все в руках Аллаха. Все в этом мире подчинено его воле, вплоть до крошечной чашки в твоих руках.

На такой же фелюке, какие сейчас под треугольными парусами перевозят глиняные горшки и известняк вдоль нильских берегов, Ибн Баттута отправился в Верхний Египет, пересек пустыню и вышел к Красному морю, чтобы предпринять хадж. Но в Мекку, лежащую в двухстах милях по морю, попасть не удалось: началось восстание, и все корабли были выведены из строя. Разочарованный, он вернулся в Каир. Вспомнилась арабская пословица: «Если нет того, чего желаешь, желай то, что есть». Пришлось присоединиться к каравану паломников из Дамаска. Он пересек Синай и вошел в Палестину, в оазис Газа, лежащий у моря. «Это обширное и заселенное людьми место, с прекрасными площадями и многими мечетями. Причем, никакие стены не защищают оазис»,— пишет путешественник об этом городе. Сегодня он не узнал бы его. Томасу Эберкромби потребовался целый час, чтобы пройти пропускные пункты, окружающие Газу. Это служба безопасности и контроля за тысячами арабов, ежедневно выезжающими на работу в Израиль. Проезды были завалены камнями и сгоревшими автомобилями, магазины закрыты, стены расписаны арабскими граффити.
— Осторожно, камни! — вдруг вы крикнул человек на улице.
Группа подростков выпустила град камней по машине, взятой напрокат Эберкромби. У нее были желтые (израильские) номерные знаки, а не голубые — палестинские.
Места, относящиеся к Палестине, в записках Ибн Баттуты читаются как путеводитель для паломников. «Я посетил Вифлеем, где родился Иисус». В Хевроне осмотрел могилы Авраама, Исаака и Иакова, святых пророков для мусульман, христиан и иудеев. В Иерусалиме он описывает Оливковую гору и церковь, где, по преданию, похоронена Святая Дева. Помолился Ибн Баттута и в мечети Харам Аль-Шариф, в те времена крупнейшей в мире, построенной на развалинах храма Соломона. Позолоченный купол мечети, ныне ставший символом Иерусалима, покорил путешественника, записавшего, что он «будто сам излучает свет и отбрасывает вспышки молний».
Далее, судя по записям Ибн Баттуты, его маршрут пролегал в Акр и Тир. О Бейруте он писал как о «небольшом городке с изобильными базарами». Находясь в Триполи, он углубился в сторону суши и попал в Хаму, один из прекраснейших городов Сирии, «окруженный садами и огородами, которые орошались с помощью водяных колес». В наши дни лишь немногие из этих приспособлений работают, со скрипом и треском поднимая воду на 20 метров от реки Оронт... Ибн Баттута соглашается со своими странствующими предшественниками, которые сравнивали эти места с женщиной, «сияющей, как невеста». Из Антиохии в Турции он проследовал на юг, через Латанию и Ливанское горы, чтобы присоединиться в Дамаске к каравану, совершавшему хадж.
К мусульманским святыням
Большой, хорошо экипированный караван за 55 дней прошел через Аравийскую пустыню до Мекки, лишь на несколько дней остановившись передохнуть у замка крестоносцев у Аль-Карака («Вороньего замка»), ныне находящегося в Иордании. Жажда и банды разбойников были главными опасностями на этом пути. Из-за нехватки воды паломников уже не могли защитить от воинственных племен сотни наездников на лошадях, охранявших обычно караваны в Северной Африке. Борясь с болезнями и одиночеством, Ибн Баттута полагался только на свою судьбу: «Если бог решит отнять у меня жизнь, то я умру на пути в Мекку и с лицом, обращенным к ней». До сих пор небольшие укрепления и сухие резервуары для воды напоминают о том изнурительном и трудном маршруте паломников. Томас Эберкромби провел целую ночь у такого источника с семьей бедуинов, добывавших воду для верблюдов и овец с помощью кожаного мешка на 150 литров, который вытягивала «тойота»-пикап.
В сплошной, без швов, одежде паломника Ибн Баттута с попутчиками наконец добрался до Священной Мекки. Он пишет: «Мы тотчас пришли к самой большой святыне Аллаха... и нашим взорам открылся Кааба.., окруженный людьми, пришедшими засвидетельствовать свое благоговение.., семь раз обошли вокруг него... поцеловали Священный Камень.., выпили воды из Священного колодца Земзем... и только потом поселились в доме неподалеку от ворот Авраама».

Шесть веков спустя все еще живы религиозные традиции. Во время своего третьего паломничества в Мекку Томас Эберкромби был приглашен на ленч с его величеством Фахудом Ибн Абдул Азизом, королем Саудовской Аравии, в его резиденцию на вершине холма за пределами Священного Города. Стол был сервирован в длинном зале для приемов. Арабский кофе подавался в сверкающих латунных чашках, разливали его разодетые слуги, вооруженные кинжалами в ножнах, обшитых золотом. После того как его величество приветствовал каждого из собравшихся, министр паломничества Саудовской Аравии благословил эту встречу цитатой из Корана, и неофициальный обед начался. В беломраморной столовой, кроме короля и американского гостя, находилось 588 дипломатов, журналистов и религиозных деятелей. Сотня кусков жареной баранины была разложена на большом подносе вместе с вареным рисом, тут же были рыба, креветки, салаты и корзины, полные фруктов.
Эберкромби уже закончил паломничество — ритуал, оставшийся неизменным за 14 столетий,— с того времени, когда его ввел Пророк. И тут его пригласили на борт вертолета Королевских ВВС Саудовской Аравии. «С воздуха вы можете увидеть одновременно все два миллиона паломников», — заметил при этом летчик. За гранитными холмами показались мраморные минареты Большой Мечети Мекки, потом открылись ее крыша и двор, переполненный народом, и наконец, черный кубической формы храм Кааба, с полмиллионом белых точек вокруг. Прикоснуться губами к этому священному камню считается высшим счастьем для мусульманина. Летчик сделал семь кругов над этим центром исламского мира. «Разве это не самый лучший путь попасть в рай в качестве ангелов?» — заметил штурман.

Ибн Баттута узнал бы многие земные приметы, проплывавшие тогда под вертолетом. Но в то же время ему пришлось бы и удивиться значительным переменам. Правительство Саудовской Аравии потратило уже миллиард долларов, чтобы поддержать возрастающий поток паломников. Для однодневной церемонии на равнине Арафата установлено до 100 тысяч палаток, многие с кондиционерами. С воздуха бросался в глаза и полуторакилометровый караван грузовиков с бутылками воды — на такой жаре путнику требуется почти четыре литра воды в день. С борта вертолета виден и морозильный завод в Мине, сохраняющий до миллиона бараньих туш, полученных во время жертвоприношения. Оттуда, напрямую через горы в Мекку идет новое 12-полосное скоростное шоссе, забитое автобусами, машинами, пешеходами.
Возможно, рассказы, услышанные Ибн Баттутой в Священном Городе, побудили его продвигаться дальше. Он присоединился к каравану, возвращавшемуся из хаджа в Багдад. Путь пролегал на северо-востоке от Евфрата, через ту же пустыню, что пересекали войска в феврале 1991 года во время операции «Буря в пустыне».
С караваном марокканец расстался на южных подходах к Ираку, в Наджафе, городе паломников-шиитов. Здесь шииты, составляющие большинство населения Ирака и Ирана, посещают мавзолей своего святого великомученика Али.
Сегодня палаты мавзолея, облицованные мозаикой из отполированных кусочков стеклянных зеркал, по-прежнему поражают богатством. Купол выложен 7777 золотыми пластинами и сияет, как «второе солнце».
Весь день Томас Эберкромби наблюдал, как похоронные процессии кружили вокруг величественного мавзолея. Трупы, завернутые в красные ковры, привозят сюда со всего Ирака на крышах такси. Затем их проносят на деревянных носилках следом за плакальщицами вокруг гробницы и только после этого хоронят среди белых и зеленых надгробий в обширной Долине Мира, на священном кладбище, которое само по себе выглядит целым городом.
Наджафе, Басра, Исфахан, Багдад, тогдашний центр мировой цивилизации, — все эти города посетил Ибн Баттута, прежде чем вновь вернулся в Мекку. Теперь он прожил там два года. Получив титул хаджи — действующего лица в священном ритуале, — Ибн Баттута отправляется в свое первое длительное морское путешествие, — в Йемен и вдоль побережья Восточной Африки. И доплыл он до самой Килвы, расположенной на 600 миль южнее экватора (ныне это территория Танзании). Возвращаться пришлось вновь через Мекку, но теперь уже другим путем, побывав в Омане, Персидском заливе, Бахрейне. Таким образом, состоялось еще одно паломничество.
Рассказы индийских паломников разожгли его воображение. По ним выходило, что богатый султанский двор в Дели щедро одаривал мусульманских ученых. Плохо перенося морские путешествия, Ибн Баттута решил отправиться в Индию по суше, через Анатолийское плоскогорье и степи Центральной Азии. Ему казалось, что на этом пути ему улыбнется удача.
Степными просторами
Ибн Баттута подытожил свое путешествие по Анатолии арабской поговоркой того времени: благословенны арабы, но турки добрее. «Где бы мы ни останавливались на этой земле, в ночлежках или частных домах, наши соседи, мужчины и женщины (которые ходили без паранджи), приходили и спрашивали нас, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь»,— пишет он. Они приносили ему хлеб, а взамен от ученого, говорящего на арабском, желали услышать молитву.
Ибн Баттута оказался гостем в Конье, городе Джелалиддина Руми, известного поэта из секты суфиев, который основал орден дервишей. Члены этого религиозного братства рассматривали танцы и верчение как часть божественного поклонения. Джелалиддин был «святым высокого класса», отмечает Ибн Баттута. И поклонники относились к нему буквально как к «нашему хозяину».
Этика и эстетика его учения воплощены в вибрирующей музыке, песнопениях из Корана, поэзии и восторженных танцах. Со временем Конья превратилась в мощный, даже слишком мощный, религиозный центр. В своем стремлении создать светское государство Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, закрыл суфийские ложи в 1925 году.
Томас Эберкромби был приглашен к суфиям на празднование в честь Ибн Баттуты в один из кварталов Стамбула. Его представили двумстам правоверным мусульманам, собравшимся, чтобы почтить идеи Пророка. После угощения, состоявшего из чечевичной похлебки, риса, бобов и айвы, гостя проводили в восьмиугольный молитвенный зал.
— Входите, всем добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам и делайте упражнения, которые освобождают душу.
Служба началась с глубоких вдохов и выдохов, а все собрание повторяло: «Ал-лах, Ал-лах, Ал-лах». Затем, в центре восьмиугольного пространства, под медленные барабанные ритмы молодой дервиш, в конической фетровой шапочке и в одежде, напоминающей юбку, начал крутиться против часовой стрелки, с вытянутыми руками—правая ладонь вверх, левая вниз. Эберкромби вовлекли в это действо, участники которого образовали концентрические круги вокруг танцовщика. Стоя плечом к плечу, люди вращались в направлении, противоположном движению дервиша, и распевали звонкую мусульманскую молитву: «Ла иллаха илла ллах», вначале медленно, потом быстрее и громче: «Нет бога кроме Аллаха».
Все кружились быстрее и быстрее, подобно атомам или планетам, как вселенские лунатики, забыв о времени и пространстве, отдавшись вихрю и ритму этого песнопения. Танцевальный экстаз, считают они сами, стирает грань между душой и телом.
И только позже, сидя в комнате хозяина, взглянув на часы, гость понял, что провели они за этим занятием почти час. Куда ушло это время? — спрашивал он себя. Он занял свое место у ног главы дома, эффенди Сафар Дала, который уже в ночное время затеял разговор на мистические темы. На эффенди был белый колпак, а поверх простых широких брюк и свитера надета серая мантия суфия.
— Время да время,— начал он медленно, закуривая сигарету в длинном черном мундштуке.— Но разве время реально? Или это просто иллюзия, что-то придуманное человеком, чтобы определять свое место в безвременном пространстве? Для каждого лично время обретает различные формы. Оно похоже не на текущую реку, а на спокойное озеро,— продолжал он.— Замечал ли ты, например, что в мечтах прошлое, настоящее и будущее слиты воедино?
Расстались они под утро.
Под мелким моросящим дождем темного январского утра Томаса Эберкромби доставили через Золотой Рог в иной мир — мир отелей и неоновых реклам. И на прощание он услышал: «Любовь, братство и щедрость — идеалы суфиев. Как и Ибн Баттута, ты никогда не останешься без друга в Турции».
Время не играло существенной роли для Ибн Баттуты, предпочитавшего неторопливые путешествия по суше более быстрым, но все же рискованным морским плаваниям. 51 день прождал он корабль и попутный ветер в черноморской крепости Синоп. А потом уже в море пережил такой кошмар, что ему с попутчиками пришлось молиться о лучшей участи. И вспоминать турецкую поговорку: «Чем прибыль на море, лучше безопасность на суше».
В Крыму он застал упадок городов, основанных генуэзцами. Теперь они были окружены миром «неверных» христиан. Его удостоили чести участвовать в особом пиршестве, устроенном христианским эмиром в Кафе (Феодосии). Находясь в небольшой мечети, окруженной церквами, он вспоминает, как неуютно себя почувствовал: «Мы услышали звуки колоколов со всех сторон, и, никогда прежде их не слышав, я был охвачен тревогой и попросил своего напарника подняться на минарет и прочитать Коран».
Путешествуя в глубь суши по обдуваемым ветрами степным просторам, Ибн Баттута дошел до территории, контролируемой кочевниками Золотой Орды во главе с ханом Мухаммедом Узбек-ханом. Передвигался путешественник на огромной четырехколесной арбе с войлочными шатрами. Он пишет, что каждый может устроиться на ней, как того пожелает; на ходу можно спать, есть, читать или писать. «Для собственного удобства я приготовил личную повозку, взяв в нее свою девушку-рабыню, другую повозку выделил для своего помощника... остальные попутчики передвигались на большой арбе, которую тянули три верблюда».
В Беш-Даге (нынешнем Пятигорске) путешественник был поражен лагерной стоянкой хана, представлявшей собой «обширный город на колесах... с мечетями и базарами в нем; дым кухонь поднимался в воздухе (еду готовили прямо на ходу)».
Ибн Баттута подружился с одной из жен хана, дочерью византийского императора Андроника III. Когда она изъявила желание совершить поездку домой в Константинополь, он решил сопровождать ее, хотя это и вынуждало его совершить дополнительный крюк в 2500 миль. Здесь, пожалуй, опять сыграла роль его природная любознательность и тяга, как бы мы сейчас сказали, к перемене мест. Это было не голое любопытство, а страсть к познанию в соединении с набожностью. А в христианский Константинополь мусульманину без особого приглашения попасть было не так просто, хотя и был он окружен в течение столетий поселениями турок и арабов. И Ибн Баттуте едва ли представился бы когда-нибудь еще лучший шанс побывать там.
Он получил аудиенцию императора Андроника и через еврея-переводчика поведал ему о своих впечатлениях от Вифлеема и Иерусалима. Довольный встречей, император пожаловал ему царские одеяния и лошадь, а также организовал поездку по столице под охраной своего двора.
Нынешний Стамбульский рынок, или «гранд базар», по которому когда-то проходил Ибн Баттута, теперь покрыт сводом и тянется на 13 миль. Это одна из крупнейших торговых площадей в мире. На ней расположено около 4 тысяч хорошо оборудованных лавочек с коврами, золотыми ювелирными изделиями, глиняной посудой, изделиями из кожи и меди; и здесь же находятся банки, рестораны, мечети.
Знаменитый храм Св. Софии Ибн Баттута увидел только снаружи. «Никому не разрешается войти, пока он не падет ниц перед огромным крестом, вправленным в золотую раму». Естественно, как мусульманин, он отказался сделать это.
Ненасытны стремящиеся к знанию
После пяти недель пребывания в византийской столице Ибн Баттута возвратился по своему маршруту, но теперь уже через скованные морозом южные степи, в ставку Узбек-хана в Новом Сарае. Пересекая замерзшую Волгу, он колол лед, чтобы растопить его и совершить омовение. Видно, испытал он все трудности, которые приносит с собой зима в этих континентальных условиях в центре Евроазиатского материка. «Бывало, надевал по три шубы и по двое штанов,— замечает он,— на ногах были валенки, а сверху еще и сапоги из стеганых полосок материи, поверх которых вдобавок надевались сапоги для верховой езды из медвежьей шкуры». И далее следует его признание в том, что, «упакованный» таким образом, он не мог сам без посторонней помощи взобраться на лошадь.
Но, кажется, Ибн Баттута никогда не жалел, что в своем стремлении к Индии он пошел таким окружным путем — через Сирию, Анатолию, Центральную Азию. Открывая эти страны для себя, он представлял их и всему миру.
Томас Эберкромби, так же как и его предшественник шесть веков назад, был укутан в теплую одежду, когда российский археолог Евгений Мусков вел его по ветреной промерзлой степи к месту раскопок в Новом Сарае, в двух часах езды от Волгограда. Чтобы попасть сюда, ему потребовалось разрешение КГБ. Они пробились через снежные наметы к 150 могилам, которые доктор исторических наук Мусков раскапывал последние десять лет.
Со слов специалиста, Новый Сарай во времена Ибн Баттуты был центром империи и включал прочные дома на речном берегу, расположенные на расстоянии дневного переезда друг от друга. Здесь на раскопках найдены бронзовые зеркала, глиняные фляги, множество серебряных монет с арабской вязью. А на поверхности от столицы Золотой Орды ничего не осталось, кроме отдельных кирпичей. Но даже и этот строительный мусор был подобран для различных нужд после того, как Тамерлан сровнял город с землей в 1395 году.
От Волги за 40 дней на повозке (теперь он делил ее с тремя девушками-рабынями) Ибн Баттута добрался до Хорезма, богатого, многолюдного оазиса, расположенного на юг от Аральского моря. Еще 18 дней потребовалось ему, чтобы верхом на верблюде пересечь голые пустыни Узбекистана и попасть в сказочные Бухару и Самарканд.
Бухара еще не оправилась тогда от опустошительных набегов татаро-монгольских орд. Ибн Баттута восхищается ее садами, но при этом замечает, что «мечети, медресе и базары все еще лежат в руинах».
Когда Эберкромби впервые посетил Бухару в начале 70-х годов, он нашел этот город сонным и апатичным. Восточная яркость соседствовала с серой одеждой русского крестьянина. Атеизм был господствующей «религией». («Бога нет, а наш пророк — Ленив»). Русский язык вытеснял узбекский и таджикский.
Теперь, 20 лет спустя, он обнаружил, что ислам вышел на поверхность. Молодой ректор показал ему медресе XVI столетия с голубым куполом, тщательно отреставрированное советскими архитекторами, провел его по классным комнатам, кухням, крытым аркадам, мечети. В главном дворе расхаживали студенты, заучивающие уроки по исламу, юриспруденции, арабскому языку. Одеты они были в тюрбаны, черные сапожки и чапаны — узбекские халаты из полосок хлопчатобумажной ткани.
Традиции мусульманского гостеприимства, поддерживающие Ибн Баттуту во время его длинного пути, не забылись в Средней Азии и сейчас. Поэтому Эберкромби не был удивлен, когда его друг в Самарканде пригласил к себе домой на чай. Стол был уставлен всем, что принесли братья хозяина со своих дворов: яблоками, грушами, абрикосами, виноградом, миндалем, персиками, свежеиспеченным хлебом.
Хотя ислам запрещает употребление алкоголя, все же многие узбеки ныне спокойно относятся к нему. За столом была открыта бутылка узбекского шампанского и бутылка коньяка, затем был дан сигнал женщинам нести главные блюда: луковый суп, маринованные помидоры, люля-кебаб в холодном виде, огурцы, кислое молоко, дымящийся плов из баранины.
Из Самарканда Ибн Баттута со своим отрядом повернул на юг и через Оксус (ныне Амударья) двинулся к главной цели своего путешествия — Индии. Но, как обычно, он выбрал наиболее кружной путь, на этот раз через Мешхед и Нишапур в Персии и пустынные плато северного Афганистана. В Кундузе он стал лагерем на шесть недель, чтобы дать возможность лошадям и верблюдам отдохнуть на пастбищах перед снежными перевалами Гиндукуша и пустынями Синда, что лежали за этими горами.
На Мултане, притоке Инда, между Синдом (нынешний Пакистан) и Индией, Ибн Баттуте удалось получить средства от местных купцов на подарки султану Моголов, потом отправить курьера с сообщением о своем предстоящем прибытии в Дели. Посланцы оказались даже более быстрыми, чем местный «пони-экспресс»: «От провинции Синда до столицы султана... на путешествие обычно уходит пятьдесят дней, но мое письмо... преодолело это расстояние за пять».
С комфортом довелось проехать Ибн Баттуте по этой населенной местности с отрядом персидской знати, их семьями, рабами и двадцатью поварами. Но это не уберегло от опасностей в пути. Он описывает, что «на открытом месте на нас напали гяуры — восемьдесят пеших и двое конных... но сражались мы стойко... убив одного из всадников и около двадцати пеших солдат... Одна стрела попала в меня, а другая — в мою лошадь, но великодушный Аллах хранил меня. Стрелы неверных не имеют силы. Мы довезли головы убитых до замка Абу Бакар... и вывесили их на стенах».
Оковы, и золотые, тяжелы
В Дели Ибн Баттута встретил легендарного индийского султана Мухаммеда Ибн Туглака в его дворце в Джеханпаннахе, в зале «тысячи колонн». Правителя сопровождал его визирь, дюжина министров, чиновники и рабы, включая «держателя веничка, гоняющего мух»,— за ними стояло окружение из 200 вооруженных солдат, 60 лошадей в царской сбруе и 50 слонов в шелке и золоте.
Путешественник описывает капризного султана как человека набожного, щедрого, смелого, но часто непредсказуемого: «... Из всех встреченных мной людей этот монарх больше всего любит делать подарки и проливать кровь. У своих ворот он никогда не оставляет без внимания бедняков и осыпает их дарами, но тут же может и казнить человека».
Несмотря на тяжелый характер султана, Ибн Баттута провел семь лет при его дворе, став судьей в Дели. Сносить своенравие властелина помогало великому путешественнику, теперь ставшему придворным человеком, в некотором смысле его раболепие. Сам он еще о первой встрече с султаном пишет: «При каждом его добром слове я целовал ему руку». Но то была скорее не личная черта Ибн Баттуты, а обычай того времени. И его покорность обильно вознаграждалась. Когда щедрые траты ввергли его в долги, золото султана возвращало ему платежеспособность. Но вот дружба с местными суфиями чуть не стоила ему жизни.
«Я был заперт в течение пяти дней и каждый день без конца повторял Коран от корки до корки», — рассказывает путешественник. Сектанта, которого он посещал, казнили, а Ибн Баттута был освобожден. В благодарность Аллаху он раздал все, что имел, поделившись с нищим даже своей одеждой торговца, и стал вести жизнь религиозного отшельника.
Через пять месяцев его вновь принял султан, сменивший гнев на милость. Как переменчива судьба: на этот раз султан назначил его послом в Китай! Бродячий ученый, вышедший из Танжера с несколькими грошами в кармане, теперь, в 1341 году, возглавил величественный караван. И какой! Сотня знатных и благовоспитанных людей, с наложницей для каждого и индусскими танцовщицами. При них был многочисленный и дорогой скарб: золотые подсвечники, парча, мечи, перчатки, вышитые жемчугами. С ними же возвращались десятки китайских посланников. И всех их сопровождала тысяча королевских всадников.
Новый посол повел свой царственный караван на юг, к Индийскому океану. И тут снова, как в свое время на пути к Индии, на Ибн Баттуту напали из засады разбойники. Ограбленный, лишившись одежды и своего меча, он почти погибал в безлюдной местности, когда был спасен мусульманским отрядом.
Оправившись от пережитого, он собрал свой посольский отряд и разместил его на четырех больших доу в Камбейском заливе и поплыл вдоль Малабарского побережья, населенного разным людом,— до Каликута. О последнем он замечает, что тот «посещается купцами из Китая, Суматры, Цейлона, Мальдивских островов, Йемена и Фарса (Персии)». Он нанял три китайские джонки для долгого плаванья на восток — два больших судна с 12 парусами и командой численностью почти в тысячу человек и меньший корабль для себя и своей свиты.
В день отплытия Ибн Баттута задержался на берегу, чтобы совершить пятничную молитву. В это время неожиданно разразилась буря. Шторм заставил весь флот войти в мелководную гавань, где неповоротливые джонки быстро сели на мель и были разбиты, сокровища, рабы и лошади пошли ко дну. А ему лишь приходилось смотреть, как его небольшой корабль со всеми товарами и рабами — причем один из них держал его ребенка — отчаянно пытался пробиться в море. Но пучина поглотила и его. Ибн Баттута остался на берегу с десятью динарами в кармане и молитвенным ковриком...
Это произошло в Каликуте, городе кораблестроителей, и Томас Эберкромби, посетив его, отметил, что до сих пор при сооружении парусных доу используют ручные пилы и киль для 600-тонного корабля устанавливают всей бригадой на глаз.
Услышанное не сравнится с увиденным
Боясь гнева султана Ибн Туглака, Ибн Баттута решил не возвращаться в Дели, а в одиночестве продолжил путь в Китай. Вначале он ненадолго отправился на Мальдивские острова, расположенные в 400 милях от южной оконечности Индии. Но когда Хадижа, королева Мальдив, узнала о его учености и выданных двором верительных грамотах, она с помощью золота и чар девушек-рабынь настояла, чтобы он остался. Какое-то время он играл заметную роль в местной политике, женившись на дочери знатного вельможи. И стал судьей в главном городе острова — Мале. В то же время он собирал образцы деревьев, рыб, раковин, идущих на женские украшения. В его записях появляются такие строчки: «Большинство носят лишь набедренные повязки. В таком одеянии они прогуливаются по базарам. Как судья острова, я пытался приказать женщинам ходить одетыми, но безрезультатно».
Рыбу и пальмовые орехи Ибн Баттута считал главным источником «необычной любвеобильности островитян». Он сам имел «четырех жен, не считая любовниц, и ... проводил с каждой ночь по очереди». Всего же жениться и развестись ему довелось шесть раз. Мальдивпы запросто предлагают приезжему своих женщин для временного брака. Пожил какое-то время, а потом можешь произнести троекратную формулу развода и отбыть куда угодно. И сейчас на Мальдивах, по статистике, самый высокий в мире процент разводов, но и... самая низкая преступность.
Описание Мальдивских островов Ибн Баттутой можно отнести к высоким образцам географической литературы. Страницы, посвященные Мальдивам, были первыми переведенными на европейские языки из всего написанного Ибн Баттутой. Столь восторженные строки вышли из-под его пера, кажется, еще и потому, что только здесь он впервые познал спокойствие семейного очага и умиротворенность.
Томас Эберкромби тоже побывал на островах, которые Ибн Баттута назвал «одним из чудес света». Нынешняя Мале, столица Республики Мальдивские Острова, размещается на одной квадратной миле, и здесь проживает большинство из 213-тысячного населения страны. Посетить правительственных министров оказалось для Эберкромби делом доступным и несложным — все они проживают в одном здании.
Экономика страны ориентирована главным образом на индустрию туризма. Ежегодно сюда прибывает до 200 тысяч туристов. Так что на каждого жителя приходится по одному приезжему. Около 60 современных отелей разбросано по 400-мильному архипелагу, по одному на каждый крупный остров, утопающий в тени пальм.
На Цейлоне Ибн Баттута еще раз стал паломником. «Как только я добрался до острова, у меня было лишь одно желание, а именно: посетить святую стопу Адама»,— пишет он об Адамовом пике, чтимом во многих религиях. Гостеприимный правитель острова снабдил его «паланкином, который несли рабы, и послал со мной четырех йогов, трех брахманов и еще пятнадцать человек, чтобы они несли провизию».
С помощью цепей и подпорок они достигли святой вершины, где путешественник и обнаружил «почитаемый отпечаток стопы нашего отца Адама, углубленный в камень на достаточную глубину, чтобы вызывать удивление». «Когда мы поднялись наверх, то облака скрывали от нашего взора подножие горы»... Восхождением на Адамов пик Ибн Баттута увенчал список мусульманских святынь, к которым он совершил паломничество во время скитаний.
Наш современник тоже не мог обойти священного места. Он нанял молодого тамила Гидома, и после полудня они двинулись в путь. Взбираясь наверх, они проходили мимо небольших храмов и буддийских ступ, полусферических или башнеобразных мемориальных сооружений или хранилищ реликвий. «Мы, индусы, верим, что это отпечаток следа Шивы, а буддисты считают его следом Будды»,— рассказывал по дороге проводник. На узкой вершине они встретили лишь дзен-буддистского монаха и двух местных охранников, указавших им место для ночлега в одной из комнат храма.
Священная стопа оказалась «одиннадцати пядей (одна пядь — 22,8 см) в длину», как и писал Ибн Баттута. Но след был сильно выветренным и за столетия затертым руками фанатичных поклонников.
На краю земли
После непродолжительной остановки на Цейлоне Ибн Баттута двинулся дальше. И тут на него свалилось еще одно несчастье. Одно судно потерпело крушение, другое было ограблено пиратами. Наконец он бросил якорь в небольшом порту под названием Самудра. От него и получил Имя остров камфары, гвоздики и сандалового дерева — Суматра.
Индийские мусульманские купцы принесли ислам на этот остров лишь за полстолетия до Ибн Баттуты. Правитель Суматры Малик Аль-Захир оказался «смиренным человеком, который пешком отправлялся на молитву по пятницам. Он страстно отстаивал веру. И в округе подчинил себе всех неверных».
Путешественник едва ли мог себе представить, что новая религия пойдет дальше Суматры, охватит всю Индонезию, крупнейшую в мире исламскую страну, где живет ныне около 160 миллионов мусульман.
Ибн Баттута побывал и на Яве, в порту Тавалиси, уже не существующем на новых картах. Здесь он повстречал принцессу амазонок, которая возглавляла армию девушек-рабынь, «сражавшихся, как мужчины». В подарок она выделила ему двух буйволов, лимоны, рис, перец.
Во время дальнейшего плавания первую остановку Ибн Баттута сделал в Цюаньчжоу, на юго-восточном побережье Китая, как раз на берегу пролива, разделяющего Тайвань с материком. Произошло это в 1346 году. Здесь, у первого форпоста, основанного китайцами для торговли с заморскими купцами, начинался великий «морской шелковый путь». Порт произвел впечатление на путешественника, как «один из крупнейших, где насчитывалось до ста больших джонок».
С древнего каменного маяка Томас Эберкромби увидел в некогда шумной бухте Цюаньчжоу лишь редкие рыболовные суда да старый каботажный грузовой корабль. На берегу он заметил, что все мусульмане, как и в старину, обитают в древних кварталах у мечети. Этой первой китайской мечети уже 350 лет, и сооружена она примерно в тех местах, где молился Ибн Баттута. Непривычно было видеть на стенах исламский девиз, выписанный китайскими иероглифами: «Нет бога кроме Аллаха».
Китайская земля поразила даже много повидавшего уже к тому времени Ибн Баттуту. «Китай — одна из безопаснейших стран для путников,— писал он.— С большими деньгами человек может отправиться один в девятимесячное путешествие, ничего не опасаясь». Но если иностранец пускался в бегство по каким-либо причинам, его изображение рассылалось по всей стране для розыска. И когда Ибн Баттута увидел на стене свой собственный портрет, причем достаточно схожий с оригиналом, он был немало удивлен этому.
Но, несмотря на все восторги, Китай задел чувства правоверного мусульманина: «Китайцы — это гяуры, поклоняющиеся идолам и сжигающие своих мертвецов как индусы. Они едят свинину и собак, продавая их на базарах». Это и в наши дни можно увидеть в Гуаньчжоу (Кантоне), на рынках которого торгуют собаками, кошками, свиньями, черепахами...
Здесь, как нигде, путешественник почувствовал, как далек он от дома.
В Китае странствия Ибн Баттуты завершились. Он вышел к океану, который за несколько столетий до Магеллана назвал «Тихим». Океан представлялся ему бесконечным, а далекая страна, куда он попал,— краем земли.
Наступило время возвращаться домой.
Три года добирался он до своей страны, которая, по его словам, «лучшая из всех, потому что в ней есть в изобилии фрукты, протекает много рек, а сытной пищи имеется в достатке». Слова эти явно продиктованы тоской по родине, не угасшей за долгие годы странствий... Уже в Марокко он узнал о смерти матери, случившейся всего лишь за несколько месяцев до его прибытия; столь уважаемый им отец умер еще 15 лет назад.
Недолго пробыл Ибн Баттута в родных местах. Неугомонная натура жаждала новых впечатлений — и вот он уже на юге Испании, с отрядом марокканских добровольцев, защищающих Гибралтар от крестоносцев; потом были Малага и Гранада. А через три года после восточных странствий — изнурительный поход на верблюдах по Сахаре. 1500 миль через пески, в «Землю негров», как говорил Ибн Баттута, где у Марокко были свои торговые интересы.
Этот трудный путь повторил и неутомимый Томас Эберкромби, которому по-своему помогали записки Ибн Баттуты, предупреждая о том, чего можно ожидать в пути. А было все — песчаные бури, жажда, восстание туарегских племен, сводящие с ума миражи...
В последнем своем путешествии Ибн Баттута пересек западноафриканскую империю Мали, общаясь с мусульманами и воздавая хвалу Аллаху. И наконец, на два года осел в Фесе, работая над
трудом о своих путешествиях.
Помощником у него был андалузский поэт по имени Ибн Джузая. Из арабских источников нам известно, что последние годы прославленный путешественник служил судьей неподалеку от Феса и умер в 1369 году в возрасте 64 лет. Где находится его могила — остается загадкой. Одно из предполагаемых мест его захоронения — Танжер, где установлено небольшое надгробие. Но достоверных сведений об этом нет. Вероятно, Ибн Баттута согласился бы с турецким суфием, которым он восхищался: «Когда мы мертвы, ищите наши могилы не на земле, а в сердцах людей».
По материалам зарубежной печати подготовил Ю.Супруненко
(обратно)
Праздники всегда с нами

Отчего появились праздники? Не оттого ли, что ход жизни нашей нуждается в перебивке, перемене, чтобы не приелась и не навязла в зубах обыденность. Или чтобы не забывали люди важные в истории даты... Да сколько их может быть, этих причин...
Начала одних праздников четко зафиксированы: День основания, День рождения монарха и наоборот — День избавления от монархии, а то и День восстановления монархии (что имело уже место в последнее время). К этим дням, торжественным датам раздают ордена, почетные звания, и страны узнают своих лауреатов в области науки, техники и изящных искусств.
Корни других праздников в религии — Пасха, Рождество, Курбан-байрам. Их ритуал и порядок проведения четко регламентированы: когда вставать, куда идти, что есть. От этого они не менее радостны.
Еще есть праздники, о которых никто вам толком не скажет, откуда они взялись (хотя существует масса ученых и весьма обоснованных теорий). Начались они в далекой древности, в других культурах, а то и у совсем других народов — исчезнувших с карты мира, но вошедших в состав новых, появившихся на их месте. Ушло название, ушла этническая память, но остались — иной раз до мельчайших подробностей — праздники и обряды. Даже если никто не может толком объяснить: почему в этот день мужчинам следует переодеться в женское платье, а женщинам наклеить бороды и усы. И почему хозяин в этот день бежит выполнять приказы своего мелкого служителя. Такова стихия карнавала, когда все поставлено с ног на голову, когда разрешено — но только на эти дни! — запретное.
Мы хотим рассказать — в этом номере и нескольких следующих — о разных праздниках.
На 14 июля — День взятия Бастилии (праздник государственный) — во Франции устраивают карнавал (праздник древний, дохристианский). Среди ряженых — обязательные фигуры персонажей Французской революции. Маркиз, например, со всеми атрибутами контрреволюционера: пудреный парик, шпага, короткие панталоны-кюлоты и
шелковые чулки
. Но — и в этом перевернутая логика карнавала — его не тащат на гильотину, его нянчат в руках, подчеркивая его малость и слабость. Он смешон — и не страшен.
(обратно)
Таинственное исчезновение Лайонелла Крэбба, «человека-лягушки»

Дипломатический календарь апреля 1956 года оказался особенно перегруженным. Основным событием месяца, привлекшим к себе внимание как печати, так и общественного мнения, бесспорно, была поездка Б и X в Великобританию.
Находчивость главного редактора одной из английских газет, придумавшего, как бы похитрее обозначить двух советских государственных деятелей, была тогда вознаграждена с лихвой: ведь под этими загадочными буквами подразумевались Никита Хрущев и маршал Булганин. Только три года минуло с тех пор, как ушел из жизни «отец народов»,— его смерть знаменовала бесповоротный конец эпохи сталинизма. В то время Никита Хрущев стоял не один у кормила власти. За ним повсюду, точно тень, следовал Булганин. В середине пятидесятых в международной политике этот странный «тандем» стремился к одной-единственной цели — упрочить авторитет Советского Союза в глазах мировой общественности. Простота старого солдата-философа, с короткой бородкой, чей образ воплощал Булганин, умилял западных политиков. А деревенский юмор Хрущева мир уже воспринимал с чувством благодарного восторга. Тогда, в апреле пятьдесят шестого, Б и X решились на дерзкий шаг: они прибыли в Портсмут с явным намерением покорить сердца англичан. Маневр удался на славу — цель была достигнута.
Покуда два советских руководителя показывали искусство высшего пилотажа в сфере дипломатии, крейсер «Орджоникидзе», доставивший их к берегам Великобритании, тихо-мирно стоял на рейде Портсмута. Присутствие в английском порту флагмана Военно-Морского Флота СССР положило начало одной из самых волнующих историй, произошедших за последние тридцать с лишним лет.
19 апреля 1956 года в 7 часов утра двое постояльцев отеля «Саллипорт», что в старых кварталах Портсмута, покинули свой номер и оставили ключ у портье. Один из них был очень маленького роста — не больше 1 метра 58 сантиметров, худощавый, темноволосый, на вид лет сорока пяти; одет он был в серую шевиотовую пару. Как его звали? В книге постояльцев он записался как Лайонелл Крэбб. А товарища его, если верить той же регистрационной книге, звали Смит. Как позже засвидетельствует портье, этот Смит — «редкое» имя, ничего не скажешь! — был светловолосый, выглядел лет на тридцать и говорил с легким шотландским акцентом. В то самое утро, часов около семи, Смит предупредил портье, что они с Крэббом вернутся ближе к вечеру. Затем они вдвоем покинули отель. С тех пор никому в Англии не будет суждено увидеть Лайонелла Крэбба живым...

Кто же он был, этот Лайонелл Крэбб? Бесспорно — самым лучшим подводником, знаменитым «человеком-лягушкой», как в былые времена называли легких водолазов, или аквалангистов. В наши дни происходит столько чудес, что мы в конце концов к ним привыкли и совсем перестали удивляться. Однако представим себе современника Жюля Верна, вдруг перенесшегося во времена второй мировой войны и узнавшего, что есть такие люди, которые, облачась в скафандры, с автономным дыхательным аппаратом за плечами, позволяющим совершенно свободно плавать в морских глубинах, нападают на корабли и ведут жестокие подводные сражения. Современник великого писателя-фантаста наверняка подумал бы, что видит наяву потрясающие картины из «Двадцати тысяч лье под водой».
Нет, ничто, казалось бы, не предвещало Лайонеллу Крэббу славы на столь необычном — для того времени, разумеется, — поприще. Да неужели? — спросите вы. Вот именно — ничто! До войны наш герой даже не умел плавать. Он испробовал себя в самых разных специальностях, но ни в одной не задерживался подолгу. В сентябре 1939 года, после объявления войны, он решил пойти служить в Британский военно-морской флот. Но в призывной комиссии ему отказали. В самом деле, Лайонеллу Крэббу было далеко до атлета. Кроме того, он был маленького роста, худого, некрепкого телосложения — у него были слабые легкие. Не говоря уже о сильной близорукости — один глаз у него видел только на двадцать процентов. Но чего-чего, а силы воли и упорства Крэббу было не занимать — благодаря этим двум качествам он сумел попасть во флотский резерв и оказался в Гибралтаре — за писарским столом. Он, мечтавший о морских сражениях, теперь каждый божий день утопал в океане бумаг.
19 сентября 1941 года на танкере «Денбайвейл», стоявшем на гибралтарском рейде, вспыхнул сильный пожар. Не успели портовые власти опомниться, как огонь перекинулся на два соседних танкера — на всех трех произошел взрыв, и они в мгновение ока пошли ко дну. И это на самом неуязвимом рейде в мире! Да уж, тут было над чем поломать голову Британскому штабу ВМС. Атака подводных лодок? Исключено. Со стороны моря рейд был надежно защищен сплошной противолодочной сетью. Тогда, чтобы наконец разрешить загадку, под воду отправили водолазов. Те обнаружили, что «в сети, заграждавшей вход в порт, зияли огромные дыры». В своем отчете водолазы высказали предположение, что эти бреши были проделаны с помощью аппарата сжатого воздуха. И все сомнения разом разрешились — такое могли сотворить только «люди-лягушки». Как известно, о подвигах «людей-лягушек», или «людей-торпед», как тогда нарекли итальянских ныряльщиков, состоявших на службе у принца Валерио Боргезе, в ту пору ходили легенды. Значит, и в данном случае они прорвались сквозь, казалось бы, неприступное заграждение, защищавшее Гибралтар с моря. Ныряльщиков, в непромокаемых комбинезонах на шерстяной или толстой шелковой подкладке, с дыхательными аппаратами и в ластах, доставила в нужное место торпеда, или «свинья» — двухместный снаряд почти семиметровой длины и больше полуметра в диаметре. «Свинья» приводилась в движение с помощью электродвигателя. В носовой части у нее — съемном конусе — содержалось 300 килограммов взрывчатки. Диверсанты подвели торпеду поближе к кораблю-мишени и затем покинули ее. Сделав дело, они убрались восвояси вплавь.
Когда в Гибралтарском порту случилась эта трагедия, англичане даже понятия не имели о «людях-лягушках». Но вот появляется Лайонелл Крэбб. Раз итальянцы нападают под водой, значит, там же, в морских глубинах, им и надо давать отпор. Крэбб предложил Британскому адмиралтейству создать доселе невиданную команду легководолазов. И ввиду того, что опасность нападений итальянских диверсантов-подводников с каждым днем все возрастала, Адмиралтейству ничего не оставалось, как одобрить предложение коротышки Крэбба. Так появилась первая команда английских «людей-лягушек». Так было положено начало их героической эпопее, в которой подвиги Лайонелла Крэбба, вне всяких сомнений, занимают первое место.
Снаряжение британских легководолазов, выдержанное в чисто английском стиле, не имело ничего общего с амуницией итальянцев. Позднее Крэбб и сам признавал, что он и его товарищи выглядели «довольно забавно» в пляжных костюмах, теннисных туфлях на свинцовых подошвах и с допотопными кислородными баллонами, которые с грехом пополам крепились на спине с помощью ремней и пояса. Однако порой снаряжение играет далеко не первую роль. Главное — уметь действовать, в чем команде Крэбба отказать было нельзя. Для такой работы нужны были крепкие нервы — такие же железные, как сами корабли, которые приходилось защищать. Но лучше Крэбба об этом, пожалуй, никто не расскажет. Однажды ему пришлось обследовать дно рейда. И вдруг вдалеке он заметил какую-то тень. «Я тогда находился на пятнадцатиметровой глубине. Тень приближалась. Я уже различал ее шаровидные глаза и длинные белые руки. Это был итальянец. Он тут же напал на меня. У него был длиннющий острый нож — таких я еще в жизни не видывал. Я вытащил свой кинжал и приготовился отразить удар. Завязался бой. Одному из нас суждено было навсегда остаться на морском дне. А то и обоим. Рукопашная под водой происходит в замедленном темпе — движения скованные, неловкие. Думаю, мы являли собой престранное зрелище. Но нас никто не видел. Впрочем, нам обоим было совершенно все равно, как мы выглядим со стороны, нас заботило совсем другое. Снаряжение итальянца, как оказалось, давало мне некоторые преимущества. Он был намного тяжелее и действовал не так быстро. А я, в своих теннисных туфлях и старом пляжном костюме, передвигался легко и свободно. Ловким ударом я распорол ему комбинезон и перерезал шланг. И тут увидел, как вверх потянулся столб крупных пузырей воздуха из его акваланга. Итальянец хоть и захлебывался и начал тонуть, но сопротивлялся отчаянно. Через несколько дней мы выловили его тело в заливе».

В другой раз Крэбб наткнулся на мину, она была прилеплена к днищу английского корабля. Ее доставили итальянцы и закрепили с помощью трех вакуумных захватов. Подплыв поближе, Крэбб услыхал мерное тикание часового механизма, встроенного в мину. Сначала он было попытался разминировать ее. Но тщетно. И вдруг его пронзила мысль: если он замешкается и не дай Бог опоздает, корабль вместе с экипажем взлетит на воздух. Выплыв на поверхность, он поднялся на борт корабля и предупредил капитана, посоветовав немедленно эвакуировать экипаж. Потом он вновь ушел под воду. Довольно легко справился с первым захватом, затем со вторым. «Зато с третьим,— рассказывал он позже,— пришлось повозиться. Мне все никак не удавалось его отцепить, а при мысли о часовом механизме внутри мины меня то и дело бросало в дрожь». И снова Крэббу пришлось всплывать — за новыми баллонами с воздухом. И опять на глубину! «Вода была просто ледяная, от холода у меня начали пухнуть руки — совсем некстати. Все бы ничего, но от постоянного прикосновения к шершавому, как наждак, металлу я умудрился стереть в кровь ладони». Наконец последний захват поддался. Крэбб взял мину обеими руками. Часовой механизм продолжал работать. Проплыв довольно долго в обнимку с миной, он прицепил ее к самому дальнему бакену — чтобы в случае взрыва не пострадал ни один корабль. Там-то, в тишине и спокойствии — если можно так выразиться,— наконец обезвредил мину. «Позже, когда наши инженеры ее разобрали, они не без доли черного юмора заметили, что я мог бы и не спешить, ведь до взрыва в моем распоряжении оставалось целых 23 секунды».
Когда закончилась война, Крэбб без работы не остался. Теперь он возглавлял команду итальянских ныряльщиков, которых вызвали разминировать порты. Бывшие враги уже сотрудничали как лучшие друзья, итальянцы даже восхищались Крэббом, что сначала его удивляло. Потом он узнал, что в Италии о нем и вправду ходили легенды. Вскоре его наградили, и он ушел с флота. Как и многим другим демобилизованным, ему было нелегко заново привыкать к гражданской жизни. Спустя время он вместе с неким Мэтлендом Пендоком открыл в Лондоне небольшую мебельную фабрику. Однако, несмотря ни на что, работа под водой по-прежнему оставалась главной целью его жизни. Об этом знали в Адмиралтействе. И вот время от времени Крэбб, передав бразды правления фабрикой своему компаньону, стал отлучаться то на день, то на два, то на три. А по возвращении домой он с радостью рассказывал, как ему выпал случай снова надеть комбинезон и маску ныряльщика. Обычно ему поручали обследовать мели и обломки затонувших судов. И за каждое погружение он получал пятьдесят фунтов стерлингов. Но, сказать по правде, деньги его почти не интересовали. Истинным же счастьем для него были сами погружения в морскую глубину, где он мог как бы заново пережить приключения военных лет. В памяти лондонских друзей он остался как завсегдатай пивных и клубов, куда любил захаживать после работы.
Лайонелл Крэбб жил один. С женой Маргарет он развелся в 1954 году.
Крэбб охотно рассказывал о своих военных подвигах — как и всякий герой — и приключениях уже в мирное время, а вот о погружении в 1953 году он никогда не упоминал. В тот год королева Елизавета принимала военно-морской парад в Спайтхеде, в котором также принимали участие корабли великих морских держав. Был среди них и самый современный советский крейсер «Свердлов» — он-то и стал объектом всеобщего внимания. Перед заходом на предписанную якорную стоянку капитан «Свердлова», как ни странно, отказался не только от лоцмана, но даже от буксиров. Английские моряки, разинув рты от изумления, наблюдали, как «стремительно и уверенно» советский крейсер шел к своему якорному месту. «Всем было видно,— пишет Роберт Гэйл, — как капитан отдавал команды, просто нажимая на кнопки огромной панели управления, расположенной прямо перед ним». Невиданная доселе легкость в управлении и высокая маневренность корабля не поддавались никакому объяснению. Специалисты буквально терялись в догадках: может, у нового крейсера «несколько рулей, дополнительных винтов или какая-нибудь суперсовременная форма корпуса?»... Однако к единому мнению англичане так и не пришли, и тогда, по всей видимости, было решено обратиться за помощью к Крэббу и попросить его обследовать подводную часть «Свердлова»: что, если главный секрет спрятан именно там? Удалось ли Крэббу выполнить это новое задание? Вероятно, нет, поскольку спустя три года, когда «Орджоникидзе», крейсер типа «Свердлова», доставил Б и X в Портсмут, Крэбба попросили повторить погружение, которое в пятьдесят третьем, судя по всему, у него сорвалось.
Теперь давайте попробуем собрать воедино имеющиеся у нас сведения касательно того, чем занимался Лайонел Крэбб с 17 по 19 апреля 1956 года. Изучив все известные документы, специалисты из агентурной разведки Керт Синджер и Джейн Шеррод с точностью установили следующее:
17 апреля 1956 года.
«Орджоникидзе» в Портсмут еще не прибыл.
Лайонелл Крэбб появляется в отеле «Саллипорт» в сопровождении высокого светловолосого мужчины, записавшегося в книге постояльцев под именем Смит. Оставив вещи в номере, они покидают отель. Чем они занимались несколько часов, никто не знает. Известно только, что Крэбб заходит в парикмахерскую — постричься и побриться. Кроме того, он несколько раз звонит своему компаньону Пендоку в Лондон.
Вечером Крэбб один — интересно, куда подевался Смит? — заглядывает в бар «Нат». Потом — в другой, в отеле «Кеппельс Хед».
18 апреля 1956 года.
Вечером Крэбб снова наведывается в бары, где он побывал накануне.
19 апреля 1956 года.
В 7 утра Крэбб и Смит покидают «Саллипорт».
Днем Смит возвращается. Но уже один. Расплатившись по счету, он собирает вещи и отбывает в неизвестном направлении.
Через два дня, 21 апреля, хозяина отеля «Саллипорт» навещает человек, который показывает ему полицейское удостоверение на имя Стэнли Лэмпорта. Посетитель требует книгу проживающих. Ричмэн ее приносит. Лэмпорт, с книгой под мышкой, направляется в пустую приемную и запирается на ключ. Немного спустя он возвращает книгу, объясняя свое посещение так:
— Я действовал по распоряжению высокого начальства.
Слова непрошеного гостя показались Ричмэну странными и излишними. Он привык к полицейским проверкам. И при чем тут «высокое начальство»? Вскоре, однако, Ричмэну все стало ясно. Листая книгу, он заметил, что оттуда вырваны страницы с именами Крэбба и Смита.
Но почему?
Прошло несколько дней. Лондонские друзья Крэбба начинают беспокоиться. Первым бьет тревогу его компаньон. Друзья идут к нему домой — квартира Крэбба заперта на ключ. Квартирная хозяйка уверяет, что не видела его уже несколько дней. Сомнений нет: Лайонелл Крэбб исчез.
Вскоре о его таинственном исчезновении сообщает одна газета, потом другая. А вслед за тем эту весть подхватывает вся британская печать. Журналисты обращаются за разъяснениями в Адмиралтейство. Оно хранит полное молчание. Затем его официальный представитель заявляет журналисту «Тайме», что Адмиралтейство по данному делу никакими сведениями не располагает. В полиции говорят, что все это не имеет к ним ни малейшего отношения.
И лишь 29 апреля Адмиралтейство наконец выступает со следующим сообщением:
«Капитан 3-горанга Крэбб, очевидно, погиб в результате поломки дыхательного аппарата во время погружения в Стоукской бухте».
Погружение? Какое еще погружение? Скоро всем становится ясно, что никаких дополнительных разъяснений не последует. И тогда вдруг возникает предположение: что, если это погружение связано с заходом в английский порт крейсера «Орджоникидзе»? Что, если Крэбб погиб не случайно? Плавание под днищем советского крейсера больше смахивало на шпионскую операцию, нежели на обыкновенную подводную прогулку. А средства защиты против шпионов существовали испокон веков. И в таком довольно тонком деле русские были далеко не новички. И вот появляется Сидней Ноуэлс, товарищ Крэбба по команде ныряльщиков.
— Да, в исчезновении Крэбба есть какая-то тайна, — говорит он.— Поскольку власти проявили полное равнодушие к его судьбе, я решил действовать сам и уже было собрался нырять в поисках его тела. И тут, когда к погружению все было готово, ко мне подошел один офицер и сказал: «Не делайте этого. Крэбба там нет».
Странные слова, не правда ли? Однако давайте послушаем, что еще рассказывает Ноуэлс:
— Я начал его расспрашивать,— продолжает он.— Офицер ответил, что все знает про Крэбба, но сказать не может — мол, профессиональный секрет.
Теперь уже исчезновением Крэбба заинтересовались не только английские средства массовой информации, но и газеты, радио и телевидение всего мира. Палата Общин обращается с запросом в правительство. На трибуну поднимается Антони Идеен (премьер-министр Великобритании в 1955 — 1957 годах)
— В интересах общественности,— заявляет он,— было бы целесообразно не раскрывать обстоятельства, повлекшие за собой очевидную гибель капитана 3-го ранга Крэбба.
Тут следует обратить внимание на другую подробность: британское правительство официально уведомило мать Крэбба о том, что сын ее погиб. Но бедная женщина, однако, признавалась журналистам:
— А я чувствую, что он жив.
Но что сталось со Смитом? Разумеется, если бы удалось его разыскать и узнать, чем они занимались, когда он последний раз видел Крэбба, возможно, кое-что и прояснилось. На поиски Смита бросились лучшие английские репортеры. Но тщетно. Найти Смита не будет суждено никому.
Зато журналистам удается собрать другие свидетельства. Некоторые очевидцы, к примеру, говорили, будто 19 апреля видели Крэбба на плавбазе «Верной», предназначенной для тренировки ныряльщиков: в тот день «Верной» как раз стоял на якоре в полусотне метров от советских кораблей.
Вслед за тем, в свою очередь, в дело вмешалось Советское правительство. Выразив искреннее возмущение по поводу случившегося, оно обвинило Британское адмиралтейство в шпионаже. Русские заявили, что они уверены: капитан 3-го ранга Крэбб получил приказ обследовать под водой один из их кораблей. «А о том, что при выполнении своего позорного задания он исчез, русские ничего не знают, однако при этом они решительно протестуют против использования таких противозаконных методов».
Английскому правительству пришлось держать ответ. И оно поступило так, как принято действовать в подобных случаях, — агент был дезавуирован. Однако то, что на самом деле имели в виду англичане, когда в печати появилось их официальное заявление, можно было только предполагать: «Нас обвиняют в том, что мы распорядились произвести обследование подводной части крейсера «Орджоникидзе» в разведывательных целях, однако это неверно. Мы не можем нести ответственность за то, что якобы сделал капитан 3-го ранга Крэбб. Если он и совершил противозаконные действия, то только по собственной инициативе».
9 июня 1957 года произошло потрясающее событие. В тот день отставной моряк Джон Рэндол, вместе с братьями Джибби, вышел порыбачить в Принстидский залив, неподалеку от портового городка Чичестер, расположенного в узкой бухте на южном побережье Англии.
Вдруг Рэндол заметил «колыхавшуюся на волнах темную массу». Поначалу он принял ее за «сорванную с якоря ловушку для лангустов». Но у Тэда Джибби глаз оказался острее — ему почудилось, что это «обезглавленное тело человека-лягушки, у которого к тому же не было рук». Темно-серый цвет резинового комбинезона указывал на то, что его снаряжение было изготовлено по заказу Адмиралтейства.
Изуродованный труп доставили в Чичестер. Узнав о зловещей находке, британская полиция, ВМС и ВВС начали совместное следствие. И некоторое время спустя главный интендант чичестерской полиции Л.Симмондз заявил журналистам, что это, вне всяких сомнений, останки Лайонелла Крэбба. Столь поспешный и категорический вывод полицейского многих удивил. И немудрено: ведь тело — если это действительно были останки Крэбба — пролежало в воде больше года, кроме того, у него отсутствовали голова и руки, так что опознать его с точностью было практически невозможно.
— Говоря откровенно, ничего определенного мы так и не узнали,— был вынужден признаться после вскрытия трупа судебный врач доктор Кинг.
Более или менее сохранилась только нижняя часть тела, однако каких-то особых примет на ней не было.
Верхняя же часть оказалась в настолько плохом состоянии, что даже было невозможно точно установить причину смерти.
Тело предъявили для опознания бывшей супруге Крэбба. Та заявила, что «не может утверждать, что это тело ее мужа».
А следствие между тем продолжалось. И вот удача! Один из директоров фирмы «Хейнки», в Бердмонси, выпускавшей водолазное снаряжение, которым пользовался Крэбб, объявил, что узнает крэббовский комбинезон. Фабричная марка, качество материала, кое-какие секреты производства — все было налицо. Признал директор и темно-синий шерстяной нательный комбинезон, который Крэбб всегда надевал, когда испытывал снаряжение «Хейнке».
Но являлись ли слова директора бесспорным подтверждением того, что из воды выловили именно тело Крэбба? После того как его показания стали достоянием гласности, английский журнал «Рейнольдз ньюс» тут же подверг их сомнению, вынеся на суд читателей свою довольно неожиданную точку зрения: комбинезон и скафандр-де вполне могли принадлежать Крэббу, однако тело могло быть не его, а кого-то другого, которого «специально изуродовали до неузнаваемости». Но зачем этот маскарад? Журнал, приняв на веру сведения, просочившиеся из Восточной Европы, с уверенностью заявлял, что Крэбб жив и теперь находится за «железным занавесом». Что же касается тела, выловленного в Чичестерской бухте, то это был труп русского ныряльщика, а не Крэбба. В самом деле, за две недели до этого в том самом месте, неподалеку от берега, где нашли тело, были замечены советские подводные лодки.
Так кто же был прав?
26 июня следователь из чичестерской полиции Бриджмэн вынес заключение: труп, выловленный семнадцать дней назад, был телом Лайонелла Крэбба. Интересно знать, почему он пришел именно к такому заключению. Близкие Крэбба свидетельствовали, что у того был маленький размер ноги, — впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь его рост составлял метр пятьдесят восемь. Бриджмэн как раз и указывал на тот факт, что у выловленного трупа была «слишком маленькая нога, почти как у ребенка». Кроме того, у трупа на левом колене был шрам. А в 1945 году в Италии во время погружения неподалеку от американского корабля, огороженного сетью из колючей проволоки, Крэбб распорол себе левое колено.
Следователь ссылался и на отчет доктора Кинга, где говорилось, что смерть могла наступить полгода, а то и четырнадцать месяцев назад. А за это время, отмечал Бриджмэн, без вести не пропадал ни один ныряльщик. Надо полагать, тело Крэбба — до или после смерти — было чем-то завалено, причем «так, что туловище и ноги оказались защищенными от разлагающего действия морской воды».
5 июля 1957 года «Дейли Телеграф» опубликовала вот какое сообщение:
«Вчера в Портсмуте состоялось погребение капитана-подводника 3-го ранга Лайонелла Крэбба. Его тело было обнаружено 9 июня в Чичестерской бухте спустя год после того, как во время захода русских кораблей в Портсмут, в апреле месяце, он пропал без вести. Ни одного представителя ВМФ на похоронах не было».
Неужели дело Крэбба на этом и закончилось?
Одни именно так и думали. Другие по-прежнему терялись в догадках. «Трудно было понять,— пишет Роберт Гэйл,— как голова и руки могли отделиться от тела. Вот уж загадка так загадка! Тем более что из-за этих необъяснимых увечий опознать тело оказалось невозможно».
Минуло два года. О таинственном деле Крэбба» вспоминали уже изредка. И вдруг оно прогремело снова — точно гром среди ясного неба. В ноябре 1959 года в Британскую службу агентурной разведки и контрразведки от резидентов, работавших за «железным занавесом», поступило объемистое досье. Собранные в нем документы, и вправду сенсационные, касались непосредственно исчезновения знаменитого «человека-лягушки». Это досье легло в основу книги Дж.Бернарда Хаттона, которая так и называлась: «Невероятное дело человека-лягушки». Книга тут же стала бестселлером, поскольку ее автор совершенно определенно заявлял, что он знает решение загадки. По мнению Хаттона, Лайонелл Крэбб не погиб. И жил он теперь в России. В этой книге Хаттон подробно описывает необыкновенные приключения английских разведчиков, которые, рискуя жизнью, добывали сногсшибательные сведения для своего начальства. В конце концов благодаря их поразительному усердию удалось напасть на след Крэбба как раз в том самом месте, где он, казалось, потерялся навсегда. Итак:
19 апреля 1956 года. 7 часов утра. Вместе с неким Смитом — личность этого человека так и осталась загадкой — Лайонелл Крэбб покидает отель «Саллипорт». С собой он уносит чемодан, где лежит легководолазное снаряжение.
8 часов 24 минуты. На «Орджоникидзе» звучит сигнал тревоги. С борта крейсера под воду быстро погружаются советские ныряльщики. Но зачем такая спешка? Дело в том, что сигнальщики-наблюдатели заметили по борту корабля «человека-лягушку». Начинается погоня. Сначала советским ныряльщикам не удается обнаружить английского легководолаза. Когда же они наконец его замечают, тот пускается наутек и прячется за корпусом другого русского корабля, эскадренного миноносца «Смотрящий». Роковая оплошность! Со «Смотрящего» под воду уходят другие советские ныряльщики. С помощью товарищей с «Орджоникидзе» они окружают англичанина и берут в плен. В 8 часов 39 минут пленного поднимают на борт «Орджоникидзе». И помещают в лазарет. Но вовсе не потому, что он ранен или чуть не захлебнулся. А потому, что на военных кораблях лазарет находится в самом труднодоступном месте. Вскоре некто Возенский учиняет пленнику допрос:
— Кто вы?
Ответа нет.
— Нам известно — вы капитан 3-го ранга Лайонелл Крэбб. Вы это признаете?
По-прежнему молчание.
Первый допрос заканчивается безрезультатно. Чуть позже следует новый допрос. Но все тщетно.
Молчание англичанина приводит советских офицеров в замешательство. Но и в беспокойство тоже. Разумеется, согласно международному законодательству, судно того или иного государства теоретически является его территорией. И по закону «Орджоникидзе» — часть советской территории. Хотя он и стоит на якоре в Портсмуте. В Англии. Так что самое главное — не привлекать внимания британских властей. Для этого существует проверенный способ — его-то и применяют. К пленному подходит врач и делает ему укол. Пленный тут же засыпает. Он проспит несколько дней подряд. Ему понадобится много уколов. Кормить его будут искусственно. А имя пленного и так известно — Лайонелл Крэбб.
Визит Б и X завершился. Как нельзя лучше для Советского государства. В глазах англичан русский колосс отныне превратился в эдакого улыбающегося толстяка, в котором соединились черты маршала Булганина и Никиты Хрущева. 28 апреля «Орджоникидзе» снимается с якоря, унося на своем борту двух знаменитых пассажиров. 29 апреля в 6 утра над ютом советского крейсера зависает вертолет, с него спускают на тросе специальную люльку, туда «кладут бесчувственное тело человека, закутанное в серое одеяло. Затем люльку поднимают в кабину вертолета, и тот с рокотом улетает — прямиком на восток».
Спустя два часа вертолет приземляется на аэродроме в Щецине. Лайонелл все еще спит...
Очнется он только к вечеру. Ему принесут кофе и бефстроганов. Надо восстанавливать силы — впереди новый допрос. Вверенный на сей раз заботам профессионалов, Лайонелл Крэбб скоро понимает: дальше молчать бесполезно. И он признается. Да, его зовут Крэбб. Да, он капитан 3-го ранга британского ВМФ. Да, 19 апреля он совершил погружение с целью обследовать подводную часть крейсера «Орджоникидзе». Но он клянется, что это задание ему никто не поручал. Он выполнял его по собственной инициативе. Адмиралтейство ничего не знало. Теперь его допрашивает полковник. Некто Жаботин. Угрозы. Обещания. Тут существует целый арсенал испытанных полицейских методов, старых, как мир.
— Я знаю, вы работали на американцев! — кричит полковник Жаботин.
Быть может, он намеренно сбивает его с толку — чтобы выведать правду? Но Крэбб решительно отрицает свою принадлежность к американским спецслужбам. На другой день, однако, он признается, что нырял под «Свердлов» — в пятьдесят третьем:
— Но только чтобы убедиться, что днище корабля не заминировано.
Следом за тем Крэбба переправляют в Москву. Допросы продолжаются — по нескольку раз на дню. Вежливое обхождение уже в прошлом. Теперь Крэбб сидит на одном хлебе с водой, силы его слабеют день ото дня. Мучители, пользуясь слабостью пленного, упорно пытаются выбить из него признание в том, что он работал на американцев. У них это превращается в своего рода навязчивую идею. Надо заметить, что описываемые события происходят в самый разгар холодной войны. Вскоре угрозы обретают вполне конкретную форму:
— Известно ли вам, что можем расстрелять вас как шпиона?
— Известно.
— А знаете ли вы, что родина от вас отказалась? Английское правительство объявило о вашей гибели.
Напрасные старания — Крэбб не сдается. Стойкость его достойна восхищения. 22 мая полковник Мясков предлагает Крэббу сделку. Пленный сможет избежать военного трибунала, но лишь при одном условии: если перейдет служить в советский флот и станет обучать советских ныряльщиков. За эту работу ему будут ежегодно выплачивать тысячу фунтов стерлингов. Прежде чем дать окончательный ответ, Крэбб выдвигает требование: в случае его согласия он никогда не будет работать против своих.
На это Мясков мрачным голосом возражает:
— Крэбб, английское правительство вас уже давно похоронило, вернее, оно решило представить все так, как будто вы и впрямь погибли. Так что пути назад у вас нет. Теперь представьте, что англичане находят ваше тело. Вас похоронят в Англии, хотя на самом деле вы будете жить в России.
Дальше, как в хорошо отрепетированной сцене, появляются солдаты с носилками. Потрясенный до глубины души, в полном отчаянии Крэбб видит на носилках свое собственное тело, без рук и головы. Мясков объясняет, что в самое ближайшее время этот якобы «его» труп выловят у берегов Англии.
— Вы с ним одного роста. Потом, после долгого пребывания под водой узнать его будет невозможно. Кроме того, на нем будет ваше снаряжение.
После такого ужасного зрелища Крэбб ломается.
Крэбб опускает голову. И дает согласие...
7 декабря 1959 года во Владивостоке объявился лейтенант, он был приписан к военно-морскому штабу. Звали его Лев Львович Кораблев. Прибыл он из Одессы. Для советского лейтенанта-подводника у него был довольно большой послужной список. Особенно он отличился при работе на одном из советских ледоколов на Балтике.
Этот лейтенант говорил по-русски с иностранным акцентом. Про свою семью он никогда не вспоминал.
Теперь самое время подвести итоги. Спустя тринадцать с половиной месяцев после исчезновения Лайонелла Крэбба в той самой бухте, где потерялся его след, вылавливают тело, без головы и без рук. Установлено, что смерть наступила минимум шесть и максимум четырнадцать месяцев назад—стало быть, с медицинской точки зрения не исключено, что это труп Лайонелла Крэбба. На тело надет синий шерстяной комбинезон и легководолазный резиновый скафандр. Комбинезон со скафандром узнает изготовитель водолазного снаряжения, штатный поставщик Крэбба,— бесспорный факт, принятый во внимание при опознании тела. Добавим к этому, что у трупа был очень маленький размер ноги — как и у Крэбба. И что на левом колене у него обнаружен шрам — как и у Крэбба.
Однако Маргарет Крэбб, осмотрев останки, сначала сомневается, а потом решительно отрицает, что это тело ее бывшего мужа. А ей лучше, чем кому бы то ни было, известно и про размер его ног, и про шрам на колене.
Впрочем, скоро Маргарет Крэбб загадает нам новую загадку. Бернард Хаттон, автор упомянутой нами книги, по мнению которого, Крэбб остался цел и невредим и теперь жил по ту сторону «железного занавеса», основывал свои доводы — как мы помним — на некоем досье, доставленном из одной коммунистической страны, а точнее говоря — Восточного Берлина. После того как в Лондоне рассмотрели эти документы, их, очевидно, вернули назад, в полицейские архивы ГДР, «тайными подпольными путями». И это очень досадно.
Однако к упомянутому досье была приложена фотография с изображением группы советских офицеров, но оригинал или копия — неизвестно. Однажды Бернард Хаттон показал ее Маргарет Крэбб. И та совершенно определенно узнала своего мужа, облаченного в форму советского морского офицера.
Так что же теперь?
Да будет известно читателю, что книга Бернарда Хаттона, бывшего чешского журналиста, оставшегося в Англии, вызвала со стороны Адмиралтейства бурную реакцию. Как утверждали эксперты, фотография, показанная миссис Крэбб, была маленькой и нечеткой, так что «по запечатленному на ней изображению опознать Крэбба с точностью было практически невозможно». Что же касается самой книги, то официальный представитель Адмиралтейства назвал ее «фальшивкой, оскорбляющей честь и достоинство офицера и джентльмена». Эта же мысль была отражена и в письменном заявлении Адмиралтейства.
Конечно, если книга Хаттона и вправду была жалкой фальшивкой, высшие чины Британского адмиралтейства имели полное право выразить свое негодование по поводу изложенной в ней версии. Но если предположение Хаттона соответствовало истине, получалось, что английский ныряльщик, выполнявший шпионское задание — в мирное-то время! — своими действиями оскорбил советских руководителей, которые в это время находились с государственным визитом в Великобритании. Однако такой поворот дела никак не устраивал Британское адмиралтейство — потому-то оно и поспешило огласить свое гневное заявление, обвинив бедного журналиста в откровенной клевете.
Вот какой загадочной была эта история! Так что читателю самому предстоит разобраться, что в ней правда, а что домысел...
В 1967 году произошли два примечательных события — как будто История сама взялась разрешить эту великую тайну наших дней.
В январе 1967 года боннская газета «Бильд» объявила, что Крэбб жив и здоров и что в настоящее время он тренирует в Болькенхагене, в Мекленбургской бухте, восточногерманских ныряльщиков..
8 марта 1967 года на побережье неподалеку от Чичестера нашли верхнюю часть человеческого черепа. На челюсти — верхней, разумеется,— сохранилось семь зубов, на них не было обнаружено ни пломб, ни следов кариеса. Эти останки попали в руки того же судебного врача, который некогда обследовал тело Крэбба. Врач заявил, что, по его мнению, череп пролежал под водой около десяти лет. Это приблизительно совпадало с датой исчезновения Крэбба.
Но был ли это череп Крэбба?
Ален Деко
Перевел с французского И. Алчеев
(обратно)
Два Робинзона

Вы хотите побывать на острове Робинзона Крузо? — переспросила меня миловидная Анхелика Рохас, служащая одного из туристических агентств Сантьяго.— Нет ничего проще. Приобретайте у нас тур.
Я воспользовался ее советом. И только потом убедился, что, несмотря на заверения Анхелики, добраться до острова не так-то просто. Морское сообщение ненадежное: судно курсирует нерегулярно, в зависимости от погоды. А не внушавший доверия маленький двухмоторный самолет преодолевает семьсот километров, что отделяют остров от чилийской столицы, аж за три часа. И все это время мне и двум другим пассажирам казалось, что самолет, затерявшийся в безграничном воздушном пространстве, под которым был такой же безбрежный океан, так и не долетит до цели.
И даже когда перед нами предстали обнаженные вершины гор, к которым кое-где прилепились облака, и, резко снизившись, самолет коснулся земли и побежал по едва различимой полосе, расположенной на уровне отвесных прибрежных скал, беспокойство не прошло: казалось, самолет не сможет остановиться и, дойдя до конца полосы, свалится в пропасть. Но летчик за несколько метров до обрыва хладнокровно затормозил, развернул самолет и вырулил на стоянку, такую же пыльную, как и полоса. Рядом стояли два дощатых барака — аэродромное помещение, цистерна с горючим. Чуть в сторонке на специальной подставке развевался национальный флаг. Около флага — щит, гласящий: «Добро пожаловать! Вы прибыли в Национальный парк «Хуан Фернандес». Но и это не было концом нашего путешествия. Погрузившись на старенький «додж», за руль которого сел все тот же пилот, мы отправились дальше. Дорога, как и взлетная полоса, была едва обозначена. Она вела то круто вверх — и тогда «додж», напрягая последние силенки своего мотора, весь содрогаясь, натужно полз в гору, окутывая нас пылью. То резко спускалась вниз.

Через полчаса мы оказались на берегу залива, где нас поджидала «ланча» — четырехвесельная шлюпка с мотором, на которой предстояло добираться до поселка Сан-Хуан-Баутиста. В поселок можно было попасть и через горы, по козьим тропам. Но для этого понадобился бы весь световой день. На «ланче» — всего два часа. И, как утверждал пилот-шофер, прогулка по океану куда приятнее, чем пешее путешествие по горам.
Прогулка действительно могла быть приятной. Мы плыли мимо величественных гор, по склонам которых к изумрудной глади океана сбегали леса, мимо островков, похожих на нагромождение скал. Увы, мне не повезло. В тот день Тихий океан не соответствовал своему названию. Правда, волнение по местным меркам было незначительным — всего два-три балла. И островитянин, управлявший шлюпкой, да и сидевшие в ней местные жители не обращали на него внимания. Но мне, впервые оказавшемуся в открытом океане на такой легкой посудине, было не до красот.
Но всему бывает конец. Пришел конец и нашей прогулке по океану. Через два с небольшим часа шлюпка вошла в бухту Кумберленд, и мы поднялись на причал.
Поселок Сан-Хуан-Баутиста расположился в небольшой долине, самой природой предназначенной для обитания. С одной стороны ее подпирают горы, защищающие поселок от ветров и создающие благоприятный микроклимат; с другой — залив океана, образовавший удобную бухту для захода судов.
Остров же, где находится поселок,— один из трех, что входят в архипелаг Хуан Фернандес. И носит он имя Робинзона Крузо. Называется он так с 1966 года, когда президент Чили Эдуарде Фрей издал декрет о переименовании островов архипелага. Прежнее его название — Мас-а-Тьерра, то есть «Остров у берега». Два других острова — Александр Селькирк (раньше он назывался Мас-Афуэра, или «Дальше от берега») и Санта-Клара — необитаемые.

Острова эти были
открыты случайно. Испанский фрегат, капитаном на котором был Хуан Фернандес, направлялся к чилийскому порту Вальпараисо. Неожиданный шторм изменил маршрут судна и вынес его в открытый океан. Когда шторм стих, Хуан Фернандес обнаружил, что фрегат находится вблизи острова, которого не оказалось на его карте. Судно подошло к нему, и капитан увидел еще два острова. Недолго думая, испанец дал им названия. Тот, что был ближе к берегу, окрестили Мас-а-Тьерра. Дальний — Мас-Афуэра. Средний — Санта-Клара. А сам архипелаг получил имя Хуана Фернандеса. История не оставила точной даты открытия островов. Известно лишь, что произошло это между 1563 и 1574 годами.
На острове Робинзона Крузо многое напоминает о Даниеле Дефо и его героях: и мост «Робинзон Крузо», и небольшое кафе «Пятница», и отель с экзотическим названием «Альдеа-де-Даниель Дефо» («Деревня Даниеля Дефо»). Это действительно несколько обособленная миниатюрная деревушка, состоящая из полутора десятков строений, стилизованных под полинезийские хижины, каждая из которых представляет собой отдельный гостиничный номер для состоятельных туристов. Я уж не говорю о том, что островитяне до сих пор называют своих детей Робинзонами, Даниелями и даже Пятницей. Правда, как я убедился, не все местные юные Робинзоны, Даниели и Пятницы подозревают, кому они обязаны своим именем.
И конечно же, на острове хранится память об Александре Селькирке. Ну, скажем, знаменитый грот, в котором якобы жил Селькирк. Он находится не в самом поселке, а в пяти милях от него — в бухте Робинзона Крузо, где, как считают, высадился прототип героя Даниеля Дефо. Грот представляет собой пещеру — углубление в горе, вполне сухое и удобное для жилья, примерно три на четыре метра. В углу — очаг, на котором готовилась пища, посуда из обожженной глины. Над очагом растянуты козьи шкуры. Грубо сколоченный стол, два пня, служивших табуретками...
О том, что пещера принадлежала Селькирку, говорит и надпись на деревянном щите, установленном у самого ее входа:
«Этот грот был местом, где моряк Александр Селькирк обосновался во время своего добровольного изгнания.
В 1704 году он был вынужден покинуть судно «Пять портов», не имея с собой ничего, кроме Библии, ножа, ружья, фунта пороха и немного табака, а также ящика с одеждой.
14 февраля 1708 года (на самом деле в 1709 г.— Авт.) экспедиция в составе фрегатов «Герцог» и «Герцогиня» вызволила отшельника, который до самой смерти с любовью вспоминал об этом острове.
Четыре года спустя он вернулся в Англию. Его рассказы вдохновили Даниеля Дефо написать свое знаменитое произведение «Робинзон Крузо».
Действительно, именно история Александра Селькирка легла в основу повести Дефо. Этот двадцатисемилетний боцман судна «Пять портов», которое входило во флотилию под командованием Дампьера, в 1704 году отправился к берегам Южной Америки. Вспыльчивый и строптивый, он не раз досаждал капитану судна Страдлингу. После очередной ссоры, случившейся около острова Мас-а-Тьерра, вышедший из себя Селькирк потребовал, чтобы его высадили. Капитан тут же удовлетворил это требование. Боцмана доставили на берег. Правда, остывший моряк стал умолять капитана отменить свое распоряжение. Но тот был неумолим, и Александр Селькирк покинул остров только через четыре с лишним года.
Вернувшись в родной городок Ларго, Селькирк первое время жил более или менее спокойно. Часто посещал пивные, где рассказывал о своих приключениях. Судя по воспоминаниям современников, он был неплохим рассказчиком. Так, сэр Ричард Стил в 1713 году отмечал в журнале «Англичанин», что «его очень интересно слушать, он трезво мыслит и весьма живо описывает состояние своей души на разных этапах такого длительного одиночества».
Но то ли воспоминания были исчерпаны, то ли безмятежная жизнь в провинциальном городишке наскучила, но Селькирк так и не смог приспособиться к новой обстановке. Его вновь потянуло к приключениям. В конце концов он вступил в королевский флот в чине лейтенанта и погиб на борту «Веймута» у берегов Африки в возрасте 47 лет.
Так закончилась история моряка Александра Селькирка и началась история литературного героя Робинзона Крузо.
Правда, современники Дефо доказывали, что описанное им — плод его воображения и ничего общего не имеет с действительностью. Дело дошло до того, что писатель был вынужден выступить с опровержением. «Я слышал, что завистники, прочитав первые две части, утверждают, что эта история — вымышленная, что ее персонажи придуманные и что это лишь повесть, что никогда не существовал подобный человек, ни место, ни обстоятельства, о которых рассказывается,— писал он в предисловии ко второму изданию своей книги.— Я заявляю, что эти утверждения скандального характера и фальшивы, и утверждаю, что был такой человек и человек этот очень известный. Обстоятельства его жизни точно изложены в книге». К этому можно добавить, что биографы Дефо не исключают, что он встречался с Селькирком в Лондоне и из «первых рук» получил необходимую ему информацию.
Но, оказывается, у Селькирка был предшественник, чья судьба тоже нашла отражение в повести «Робинзон Крузо». XVII век стал веком флибустьеров, которые охотились не только за торговыми судами, но и друг за другом. Архипелаг Хуана Фернандеса нередко служил для них пристанищем. В январе 1680 года к острову Мас-а-Тьерра пристал английский корсар «Тринидад». Однако вскоре на горизонте появились три испанских судна, которые его разыскивали. «Тринидад» поспешил удалиться, в суматохе «забыв» на берегу моряка-индейца Вилли.
Более трех лет провел моряк на острове в полном одиночестве. Что самое интересное, испанцы знали о его существовании, разыскивали его. Но отшельник, будучи верным англичанам, избегал встреч с ними. У моряка на первых порах было немного пороха, нож, ружье. Питание себе он добывал охотой и рыбной ловлей.
22 марта 1683 года его обнаружил английский пиратский корабль, на борту которого находился другой индеец — Робин. Он узнал своего соплеменника и встретил его с такой радостью и восторгом, что это событие нашло место в капитанском дневнике. Дневник попал в руки Дефо. Так родился еще один персонаж — Пятница, прототипом которого стал Вилли. Дневник же подсказал писателю и имя героя — Робинсон (Робинзон) — то есть сын Робина. Выскажу и свое предположение. Кто читал повесть, не может не помнить, какую радость испытал Пятница, увидев среди пленников людоедов, прибывших на остров, своего отца. Как он отплясывал и ликовал! Не исключено, что эта сцена также навеяна дневником упомянутого капитана...
Уже вернувшись в Москву, я перечитал повесть и, в частности, его дневник, где 17 ноября он сделал запись: «Сегодня начал копать углубление в скале за палаткой, чтобы поудобнее разложить свое имущество». Через месяц с небольшим работа была закончена, и Крузо пишет: «20 декабря перенес все вещи и разложил по местам. Прибил несколько маленьких полочек для провизии. Вышло нечто вроде буфета. Досок остается мало, и я сделал еще один стол».
Конечно, соблазнительно поверить островитянам, но даже беглый осмотр пещеры говорит, что ей куда меньше, чем без малого три века, что прошли с тех пор, как там поселился Александр Селькирк. Скорее можно поверить, что пещера-грот сделана по описанию Даниеля Дефо. Тем более что, как известно, мятежный моряк жил не в пещере, а в хижине.
Но само место производит неизгладимое впечатление. За гротом — горы, поросшие лесом. На берегу, где гуляет океанский ветер, меланхолично шумят выстроившиеся в ряд тополя. Они высажены сравнительно недавно. А прямо передо мной, за каменными глыбами, расстилается пустынный океан. Все это создает ощущение тягостного одиночества, и нетрудно представить, что мог чувствовать Александр Селькирк, проведший на острове значительную часть своей жизни.
— Это место редко кто посещает,— нарушает затянувшееся молчание рыбак, доставивший меня к гроту.— Во-первых, оно находится в стороне от поселка. А во-вторых, добраться сюда не так-то просто, и не каждый турист отваживается посетить пещеру...
В последнем я убедился сам. Валуны, нагроможденные в заливе, и разбивающиеся о них волны не дают возможности подойти к берегу не только небольшому судну, но даже маневренной шлюпке.
— И все же раз в год,— рассказывает рыбак,— когда проводится праздник «Святой девы одиночества», здесь царит оживление. Сюда съезжаются жители деревушки, и весь день люди поют и танцуют.
Еще одно место на острове связано с Селькирком — Крузо. Это смотровая площадка, или обсерватория (мирадор), на которую, по существующим преданиям, поднимался изгнанник в надежде увидеть проходившие мимо острова корабли, привлечь к себе внимание, чтобы выбраться наконец из плена.
Площадка находится на небольшом плато, в расщелине, образовавшейся между двумя горными вершинами. Если верить указателю — от гостиницы, где я остановился, до обсерватории 1760 метров, а сама она находится на высоте 600 метров над уровнем моря.
Я рассчитывал подняться на площадку максимум за час. Однако был посрамлен в своей самонадеянности: подъем занял три с лишним часа. Дорога, а вернее едва приметная узкая тропинка, проходила в таких густых зарослях и порой настолько круто взбиралась по склонам горы, что меня не раз посещала предательская мыслишка: а не повернуть ли назад? И только сознание того, что быть на острове и не посетить то место, куда ежедневно (!) взбирались Селькирк и его литературный собрат, толкало меня вперед.
Площадка возникла передо мной внезапно. Тропинка в очередной раз резко свернула налево, и из-за густого кустарника неожиданно появилось плато. И я был вознагражден за свои усилия, передо мною и подо мною был весь остров, на десятки километров простирался океан. Я стоял в окружении плывущих облаков, а удивительную тишину нарушали лишь шум крыльев птиц да шелест травы...
Если вспомнить повесть Дефо, то нетрудно себе представить, как здесь, сидя в каменном «кресле» под сенью легендарного зонта из пальм, Робинзон «внимательно обшаривал горизонт на востоке и западе».

Что же касается Селькирка, то о нем напоминает щит: «В этом месте день за днем более четырех лет шотландский моряк Александр Селькирк всматривался с тоской в горизонт в ожидании судна, которое могло бы спасти его, вызволив из заточения, и позволило бы вернуться к своим соотечественникам, на родную землю».
Но, увы, я должен разочаровать читателей: Селькирк не поднимался на это плато. Более того, он избегал появлявшихся время от времени судов. В Сан-Хуан-Баутиста мне довелось встретиться с чилийской писательницей Лаурой Брессиа де Валье, большую часть жизни посвятившей изучению острова. Она рассказывала мне, что Александр Селькирк предпочитал умереть от голода или одиночества, но не попасться в руки моряков, которые высаживались на остров. Однажды здесь оказались испанцы. Селькирк зазевался и не успел спрятаться. Его заметили и гонялись за ним, как за диким зверем. Стреляли в него, когда поняли, что не смогут поймать. А бегать он навострился так быстро, что ловил диких коз.
Так продолжалось до февраля 1709 года, когда мимо архипелага проходила очередная английская экспедиция в составе фрегатов «Герцог» и «Герцогиня». Дальнейшую историю Лаура Брессиа де Валье излагает со ссылкой на дневник возглавлявшего экспедицию капитана Вудса Роджерса. В семь утра, пишет он, они подошли к островам Хуана Фернандеса. Выбрали ближайший к материку и самый крупный. Опасаясь французских и испанских кораблей, от острова встали так далеко, что спущенный на воду баркас добрался до него лишь к ночи. И вдруг в бухте блеснул огонь. Баркас пустился назад, к бою были приготовлены пушки и мушкеты. Но утром убедились: опасности нет. И на Мас-а-Тьерра отправилась команда за пресной водой. Вернулась она, привезя с собой человека, одетого в козлиные шкуры. Он выглядел более диким, чем рогатые первообладатели этого одеяния. По рассказам моряков, они с трудом поймали его. Он оказывал сопротивление, не хотел идти с ними, требовал, чтобы отпустили. Оказалось, что этот человек прожил на острове более четырех лет. Корабль, на котором он был боцманом, дал течь (и потом утонул, но этого отшельник не знал). С капитаном странный человек поссорился, и его высадили. Корабль назывался «Пять портов». Фамилия капитана — Страдлинг, а имя человека — Александр Селькирк.
Закончив рассказ, Лаура Брессиа де Валье вновь повторила свою версию об одиночестве Селькирка и его стремлении к уединению.
Но все же большинство людей желают видеть в истории Селькирка то, что описал Даниель Дефо. Не случайно там же, на площадке, находится еще одна мемориальная доска. Она скрыта в кустах папоротника и бурно разросшегося можжевельника. Раздвигаю папоротник и вижу массивную, потемневшую от времени бронзовую плиту. На ней выгравировано: «В память о моряке Александре Селькирке, рожденном в Ларго, графстве Файф, Шотландия, который сошел на берег с борта судна «Пять портов», водоизмещением 96 тонн с 16 пушками на борту, и жил на этом острове в полном одиночестве 4 года и 4 месяца и был спасен корсарским судном «Герцог» 12 февраля 1709 года. Он умер в звании лейтенанта флота Ее Величества на судне «Веймут» в 1723 году в возрасте 47 лет». И далее: «Эта доска установлена на обсерватории Селькирка капитаном Пауэллом и офицерами «Топаза» в 1868 году».
...На острове меня преследовало смешанное чувство. Конечно же, я знал, что Робинзон Крузо здесь не был. Даже Даниель Дефо указывает другое место: где-то «у берегов Америки, близ устья реки Ориноко». И места, где я побывал, лишь условно связаны с Александром Селькирком. И все же, находясь в гроте или поднимаясь на смотровую площадку — мирадор, я ощущал какую-то таинственную и необъяснимую веру и в существование Робинзона Крузо, и в то, что шел по следам Селькирка. Видимо, такова сила таланта Даниеля Дефо, который заставляет поверить в своего героя, в реальность его судьбы.
Но, как бы то ни было, Мас-а-Тьерра — так уж распорядилась судьба — это остров робинзонов. Архипелаг Хуана Фернандеса к моменту открытия был необитаем. В марте 1750 года к берегам острова Мас-а-Тьерра причалил испанский фрегат «Лас-Тальдес» и высадил около трехсот человек, в том числе 61 солдата, 22 осужденных, двух священников, одного врача и одного инженера. Это были первые поселенцы, которые должны были обживать остров и строить военные укрепления.
Вскоре началась англо-испанская война, и колонизация острова была приостановлена. Стихийные же бедствия, болезни да и разгул уголовников, чувствовавших себя здесь более чем вольготно, привели к тому, что население острова практически исчезло.
В конце прошлого века началась вторая колонизация. В 1905 году, например, здесь проживало 122 человека: чилийцы, итальянцы, немцы, один португалец, один француз, один англичанин, один швейцарец и один... русский. Когда я узнал об этом, попытался найти хотя бы одного его потомка. Но, увы, мне так и не удалось выяснить, кем был этот русский Робинзон, какая судьба забросила его сюда. Точно лишь узнал, что его потомков на острове сегодня нет.
Вынужденными Робинзонами оказались на острове Мас-а-Тьерра в начале XIX века 300 чилийских патриотов. Братья Хуан и Мариано Эганья, Хосе Порталес, Франсиско Перес, Мануэль Салас, Хоакин Ларраин вместе со своими единомышленниками подняли 14 июля 1810 года в Сантьяго антииспанское восстание, а некоторые из них вошли в первую правительственную хунту, провозгласившую независимость Чили от испанского господства.
В Чили к ним относились с большим уважением, а их именами названы площади, улицы. Но даже не все чилийцы знают, что когда в 1814 году испанцам удалось на время восстановить в Чили колониальный режим, они были сосланы на остров Мас-а-Тьерра, превращенный в «латиноамериканскую Бастилию». Пещеры, где они томились, сейчас — мемориальный комплекс и доступны для осмотра. Я побывал там. Эти катакомбы в горах, где патриоты провели три года, абсолютно непригодны для жилья. Даже в летний жаркий день стоит постоять в них несколько минут, как пробирает озноб и от холода, и от влажности — сквозь стены просачивается вода. Можно себе представить положение ссыльных в зимние месяцы, когда температура опускается до минус 14 градусов, а на остров обрушиваются штормовые ветры. Неудивительно, что, не выдержав холода и голода, практически все заключенные навсегда остались на острове. В 1859 году на остров был сослан и Бенхамин Викунья Макенна, крупный историк и видный политический деятель. Освободившись, он написал книгу «Подлинная история острова, где жил Робинзон Крузо».
Сейчас в поселке Сан-Хуан-Баутиста проживает около 600 человек, в том числе 184 мужчины и 143 женщины старше 18 лет. В основном все они принадлежат к нескольким семейным кланам, сложившимся несколько десятилетий назад. Один из них основал Дезире Шарпантье, французский моряк, спасшийся с судна «Телеграф», затонувшего у берегов острова незадолго до первой мировой войны. Другие — немец Шиллер, швейцарец Рон Родт, ирландец Грин, чилийцы Рекабаррен, Гонсалес. Именно они заправляют всем на острове. В их распоряжении и собственности — гостиницы (на острове их три), небольшие магазины-лавочки, рыболовецкое снаряжение — снасти, лодки и даже районы рыбной ловли. Я, например, жил в гостинице, хозяин которой, Рейнальдо Грин, выходец из Ирландии, владеет также несколькими самолетами частной авиакомпании «Такспа», занятой на перевозке как пассажиров, так и в основном грузов, промышленных товаров с континента на остров и продуктов моря — с острова на континент.
Надо сказать, что островитяне если не всем, то практически всем необходимым обеспечиваются с континента. Кроме самолетов, раз в год сюда приходит судно, которое доставляет самые разнообразные товары — от ниток до автомобилей.
На первый взгляд парадокс. Вспомним, Робинзон Крузо, который, по преданию, жил здесь, не только ежедневно обеспечивал себя мясом, но и создавал неплохие мясные запасы. Сейчас же мясо в основном завозится из Сантьяго или Вальпараисо. Дело в том, что остров с его богатейшей и редчайшей флорой в 1935 году был объявлен национальным заповедником (а несколько лет назад его включили во всемирную сеть биосферных заповедников, проект МАФ). Обосновавшийся же здесь филиал Национальной комиссии по сохранению лесов наложил строгий запрет на разведение не только коров, но и коз (они, кстати сказать, были завезены сюда Хуаном Фернандесом) под предлогом, что животные уничтожают ценные растения.
Одни кланы живут богаче, другие — беднее. Одни контролируют рыболовство, другие — туризм. Разумеется, нет социального равенства и внутри кланов. И тем не менее средний уровень жизни на острове выше, чем на континенте. И ни в какое сравнение не идет с уровнем жизни рыбаков, скажем, на юге Чили, самой рыболовной зоны страны.
Относительно высокий уровень жизни объясняется малонаселенностью острова — все жители поселка трудоустроены. Остров Робинзона Крузо, например, является чуть ли не монополистом по добыче и снабжению чилийцев таким деликатесом, как лангусты. На континенте шутят: хочешь попробовать лангусту, отправляйся на остров Робинзона Крузо.
Собственно говоря, для чилийцев этот остров связан не столько с героем Даниеля Дефо или печальной судьбой Александра Селькирка, сколько с лангустами.
Лангусты здесь действительно традиционное фирменное блюдо. Не успел я войти в гостиницу и вымыть руки с дороги, как Рейнальдо Грин пригласил меня к накрытому столу, на котором лежала огромная разрезанная пополам лангуста под майонезом.
Так уж случилось, что я тоже остановился в «Вилле Грин», владелец которой одно время, как писал французский журналист Тибо в журнале «Гран репортаж», одевался как настоящий Робинзон. Ее хозяин оказался доброжелательным, несколько стеснительным, подтянутым 70-летним джентльменом, внимательным к своим постояльцам. Был он без бороды и никогда не носил ее и не курил. И у меня как-то не вязался этот корректный и интеллигентный ирландец (а не англичанин, как утверждал французский журналист) с Грином, описанным Тибо. Я не выдержал и осторожно поинтересовался, не копировал ли кто-нибудь из владельцев местных гостиниц Робинзона Крузо. Рейнальдо Грин сначала не понял; потом, видимо, что-то вспомнил, смущенно улыбнулся и рассказал, что более двадцати лет назад он нанял одного островитянина, который одевался под Робинзона, встречал на причале туристов.
На острове я познакомился с итальянцем Марио Лабутти, который зарабатывал на жизнь изготовлением сувениров из местного материала. Я обратил внимание на небольшие кусочки дерева различной формы. Показав мне один из них, Марио заметил: это практически все, что осталось от сандалового дерева, а ведь в начале века здесь были его целые рощи. Однако после первой мировой войны на острове оказался предприимчивый немец, прекрасно осведомленный о качествах этой древесины. Он наладил столь массовое промышленное производство, что за какие-то пятьдесят лет рощи были, по существу, сведены на нет. И сейчас сандал можно встретить лишь на некоторых вершинах гор, например, Юнке, на высоте более тысячи метров. Ну а что касается кусочков, используемых итальянцем, то это щепки, которые он находит на месте бывшей рощи.
Практически то же самое чуть ли не произошло и с тюленями. Раньше, говорили мне местные рыбаки, их было столько, что порой приходилось отталкивать веслами от баркаса,— мешали плыть. Сейчас же тюлени — редкость, впору хоть заноси в Красную книгу...
Как и многие другие уединенные романтические места, остров Робинзона Крузо не смогли обойти легенды о сокровищах.
Знакомясь с поселком Сан-Хуан-Баутиста, я вышел к местному кладбищу. Оно ничем не выделялось. Одни могилы были поскромнее, другие — побогаче. Одни — ухоженные, другие — запущенные. Мое внимание, однако, привлек небольшой памятник со... спасательным кругом и морским якорем у его подножия. На круге надпись — «Крейсер «Дрезден». К якорю прикреплена табличка с фамилиями моряков судна, которые покоились под памятником.
В 200 метрах от кладбища я наткнулся еще на одно упоминание о «Дрездене». Это был деревянный щит, прикрепленный к скале, извещающий о том, что вблизи этого места и был затоплен, как оказалось, немецкий крейсер. Уже потом в беседах с островитянами мне удалось выяснить, что 14 марта 1915 года «Дрезден», у которого кончилось топливо, был вынужден бросить якорь недалеко от бухты Кумберленд в ожидании, что необходимое горючее ему будет доставлено из ближайшего порта Вальпараисо. Но его тут же обнаружили английские суда «Глазго», «Кент» и «Орама». Они расстреляли «Дрезден» буквально в упор; он пошел ко дну.
Предполагают, что на борту немецкого крейсера, следовавшего из Мексики в Германию, находилось золото. Однако его поиски пока не увенчались успехом: «Дрезден» до сих пор находится на 65-метровой глубине. Но планы его обследования в надежде все же обнаружить и поднять наверх драгоценный металл все еще разрабатываются. А пока волны выбрасывают на сушу лишь ржавые снаряды, какие-то черепки, детали корабельного оборудования. Попадаются они и в сети рыбаков. И в некоторых домах островитян я видел эту добычу, которую рыбаки выставляют на этажерках как украшения.
Нынешние жители Сан-Хуан-Баутиста — третье поколение выходцев с континента. Они не создали, во всяком случае пока, ни своего фольклора, ни своей обособленной культуры, ни своей цивилизации. Но у них сложился особый тип характера, отличный от характера чилийцев, живущих на континенте. Франсиско Колоане, известный чилийский писатель, отмечал, что «обитатели острова Робинзона Крузо — и чилийцы и не чилийцы. Чилийцы, так как их предки когда-то жили в Чили, а сами они поддерживают с ней связь. Не чилийцы, учитывая, что их многое отличает от нас, живущих на «большой земле». Они пленяют радостной улыбкой, своей доверчивостью и гостеприимством, открытостью и радушием, тем, чем мы обладаем куда в меньшей степени. Семейные кланы здесь куда прочнее и постояннее. У островитян глубоко сидят корни уважительного отношения к собственности. И отношение это надежнее многих замков».
Я могу лишь подтвердить эту характеристику. Меня, как и Франсиско Колоане, тронула атмосфера доброжелательности и дружеское отношение друг к другу и гостям острова, которые я ощущал все дни пребывания на острове. Первое время несколько смущало, что островитяне, независимо от возраста, при встрече приветствовали меня. На острове действительно не знают, что такое замок или закрытая на ключ дверь (первые дни пребывания в гостинице я закрывал дверь номера на ключ, а потом отказался от этой привычки). Никто не мог припомнить, отвечая на мой вопрос, когда здесь была совершена кража. Собственно говоря, сам вопрос вызывал недоумение.
Вспомним, что говорил о своем пребывании на острове Робинзон Крузо: «Природа, опыт и размышления научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворять наши потребности, что сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем их использовать, и не больше. Самый неисправимый скряга вылечился бы от своего порока, если бы очутился на моем месте и не знал, как я, куда девать свое добро».
Насколько я могу судить, этот философский подход к жизни свойствен и островитянам. Утверждать, что остров оторван от континента, вряд ли правомерно. С Вальпараисо и Сантьяго существует телефонная и телеграфная связь. В каждом доме — телевизор, по телексу можно связаться практически с любым городом страны.
И в то же время если не об оторванности, то, во всяком случае, о его уединенности говорить все же можно. Особенно в осенне-зимние месяцы, когда остров полностью отрезан от остальной страны. Да и в другое время, не считая полусотни туристов, приезжающих на остров ежегодно, Сан-Хуан-Баутиста практически никто не посещает. Учитывая дороговизну проезда, далеко не каждый островитянин может позволить себе выбраться в Сантьяго или другой город.
...Два года назад в Английской бухте, расположенной в 15 километрах от поселка Сан-Хуан-Баутиста, жил швейцарец. Он полностью изолировался от внешнего мира и не поддерживал ни с кем никаких отношений, тем самым «моделируя» жизнь своего прославленного предшественника. В другой бухте поставил палатку немец Отто Краус. Правда, он оказался не столь верным приверженцем Робинзона. Через одну из гамбургских газет отшельник пригласил любительницу приключений разделить с ним одиночество. На его объявление не только откликнулись две прелестные особы, но и и пожаловали к нему в гости. Некоторое время он ладил с обеими. Но затем с ним осталась наиболее «истинная» Робинзониха. Или верная «Пятница».
Анатолий Медведенко Фото автора
(обратно)
Подземный ход в Кремль

3акончилась война. Берсеневка вновь ожила, все как бы сначала, все как бы по-прежнему. Работала фабрика «Красный Октябрь», и ветер придувал запах ее продукции. В сумраке дворов все еще тянулись тощие деревья, кое-где были разбросаны проломанные скамейки. Фонтаны превратились в сборники мусора — их засыпали, заасфальтировали. Крыша в доме, поврежденная зажигательными бомбами и осколками зенитных снарядов, текла постоянно, и у кого-нибудь из живущих на последних этажах на полу, на стуле или на шкафу стоял таз. Не знаю, как у самого Иофана, он ведь тоже жил под этой крышей. Вахтеры давным-давно лишились униформы и, конечно, оружия. В основном дежурили теперь женщины, которые главным образом вязали и занимались воспитанием детей в подъездах. Магазин, не имеющий подсобных помещений, был завален со стороны двора пустыми грязными ящиками, коробками, бидонами, среди которых обрели место жительства кошки. Напротив магазина на балконе сидит Стасова, отдыхает и попутно наблюдает за продавцами, мелькающими то за окнами магазина, то во дворе. Если заметит какой-нибудь, по ее соображению, непорядок — звонит в магазин директору. Быстро и как-то «незряче» — кто и что вокруг — прошел-пробежал брат Надежды Аллилуевой Федор. После трагической смерти сестры переменился, замкнулся, да и вся семья Аллилуевых будто отгородилась от жизни... Медленно проплыл дежурный «роллс-ройс», достопримечательность, смахивал на старинного вида карету «скорой помощи»: являлся к старым большевикам по вызову, если кому куда надо было съездить. В стенах дома появились кое-как пробитые двери, оконца, пристроенные лесенки. Водосточные трубы не доставали до земли, обронив свои окончания. Козырьки над подъездами проржавели, прогнулись, каменные порожки перекосились. Иофан так и не в силах был сохранить свое детище, напоминавшее теперь действительно затонувший «Титаник» на дне истории...
Пройдет много лет, и мы с Олегом, спустившись на пристань к реке, услышим голос экскурсовода с прогулочного теплохода, рассказывающего о нашем доме на набережной — кто в нем в какое время жил, вспомнит он и Юру Трифонова, а в другой раз другой экскурсовод назовет и Леву Федотова... И еще, возможно, когда-нибудь будут рассказывать и про подземный ход в Кремль, который мы искали...
Теперь, уже совсем недавно, мы с Олегом выбрали свободный день, позвонили Артему Задикяну, нашему постоянному спутнику и фотографу, договорились о встрече на набережной возле Театра эстрады. Дошли до Большого Каменного, спустились к театру по боковому сходу, по тем самым ступенькам, на которых сын министра авиационной промышленности Шахурина застрелил дочь нашего посла Уманского, а потом и смертельно ранил себя. Причина? Неразделенная любовь. На одной из ступенек долго сохранялись их инициалы — Володи и Нины, выбитые кем-то из наших ребят. Теперь инициалы стерлись, растоптались: именно по этой лестнице устремляются потоки людей в театр, а потом обратно.
Появился Артем. Я махнул рукой, показал, что двигаемся к церкви. Только вошли в арку церковного двора, как Задикян остановился, пригнулся, присмотрелся и сказал:
— Отличный кадр.

Наружный ремонт храма закончился, и Никола сверкал новенькими красками. Во дворе свернули к палатам Аверкия Кириллова: надо было отыскать зам. директора Татьяну Петровну Ежову, чтобы получить разрешение на съемку. Повезло — натолкнулись на нее прямо в коридоре. Воистину замечательная женщина — не только мгновенно дала согласие, но и, выслушав мое краткое объяснение, по какому поводу мы здесь, повела нас по узенькой (ширина на одного человека) винтовой лестнице в Аверкиевские, а для меня и Олега — Скуратовские, подвалы-подклетки. Ниже и ниже. Глубже и глубже.
Артем начал работать фотокамерой, периодически озаряя винтовой спуск голубыми молниями подсветки.
Низкие серые своды, душные переходы, коробчатые «залы» наподобие тех, по которым мы прежде пробирались. Конечно, возник разговор о подземном ходе под церковью и под рекой.
— Есть где-то ход... Есть,— покачивал головой Олег, старательно удерживая равновесие на крутых, скользких поворотах лестницы.— Чую правду...
— И я чую...— Олег немедленно был поддержан мною.
— Его не могло быть,— сказала Татьяна Петровна.
— Это почему же? Вы исключаете возможность его существования? — И я, не ожидая никаких возражении, начал приводить неоспоримые аргументы: — А как в прежние времена создавали сложнейшие подкопы под крепости? А возведение монастырей из огромных каменных блоков? — Я ведь располагал аргументами Александра Ивановича Фролова из отдела музееведения.
— Не возражаю в отношении подкопов и монастырей, но в этих местах, как мне кажется, подземного хода не могло быть.
— Почему?
— Почва непригодная.
— Что значит непригодная, когда даже в скалах, на которых стояли крепости?..
— В скалах — да. Но здесь не скалы — вода.
— Где вода?
— Идемте.— Татьяна Петровна по
вела дальше по кирпичным подвалам
и в одном месте, где в каменном полу
был открыт большой люк, показала:
— Глядите.
И мы увидели перед собой колодец, заполненный водой.
— Здесь были болота. Вы, конечно, это знаете; состояние почвы не внушает уверенности в возможность работ под рекой.
— Все ясно,— сказал Олег и вполне серьезно добавил: — Кто-то все-таки открыл дверь, и вода хлынула.
— Какую дверь? — подняла брови Татьяна Петровна.
— Железную.
Брови Татьяны Петровны поднялись еще выше. Олег был доволен произведенным эффектом.
— Не удивляйтесь, Татьяна Петровна, Олег Владимирович прав. Я вам сейчас процитирую документ, вполне исторический.— И я торжественно произнес текст записки, составленный полвека тому назад Олегом для Левки: «... иди по проходу и, спускаясь все ниже, увидишь, как вода сочится, а справа будет железная дверь. Ее не открывать, ибо вода хлынет». Вот так. Но мы действительно лазили. Вода подтекала в некоторых местах, сочилась. На этот счет имеется настоящий документ: Левин дневник. И потом ваша уважаемая сотрудница Елена Петоян тоже лазила с подружками уже после войны, в пору юности, нашла осколки мозаик и еще что-то цветное.
Артем по-прежнему озарял подвал голубыми молниями, отбирал все новые и новые интересные точки для съемки. Меня вновь и вновь поражала невероятная «техническая оснащенность», которой располагал Артем: старенький, измученный временем аппарат, веревочки, проволочки, проводочки, самодельная, чуть ли не из консервной банки «вспышка», аккумуляторная батарейка засунута попросту в карман куртки, который имеет поэтому весьма оттопыренный вид. Катушки с пленками в жестяной коробке.
А наш спор с Татьяной Петровной не затихал.
— Когда мы пойдем в церковь, я вам покажу, откуда мы начинали,— сказал я.— Другие ребята начинали с другого места. По нашим расчетам, мы добрались уже до реки, подземный ход сделался необычайно узким. Выложен был каменными блоками. Может быть, мы ошиблись и попали в боковое ответвление, а не в основную часть... В ловушку, как думает один инженер, который прислал нам письмо из Киева и чертеж предполагаемого основного хода и ловушки. И получается, что мы были совсем рядом с основным ходом.
— Какая-то особая сушь была,— кивнул Олег.— Лезвие ножа, помнишь?
Широкое, как у кинжала? Было вбито между камнями.
— Да. Хотели вытащить, но не смогли. Ржавчина припаяла к камням...
И вот мы с Татьяной Петровной направляемся к церкви Николы. В церкви Артем начал снимать отдельные расчистки на куполе, которые напоминали почтовые марки из серии «Древняя Русь». Опаляя храм фотовспышками, Артем снимал одну «Древнюю Русь» за другой.
— Ну что же, идемте в ваш подвал,— сказала Татьяна Петровна, и мы отправляемся к заветным дверям, возле которых я впервые оказался в далеком детстве и перед которыми произнес: «Идите за мной, я тут знаю».
По-прежнему дверь из двух половинок, по-прежнему висячий замок. Вспомнил, как мы с Олегом заметали шапками следы.
— Татьяна Петровна, что у вас теперь в подвале? Тогда были старые, поломанные стулья.
— И теперь отслужившие свой срок стулья.
— Поразительно,— только и смог я произнести.— Не хватает, чтобы это были те же стулья.
— Боюсь, замок приржавел. Давно не отпирали.
Но ключ повернулся на удивление легко, и ушко замка отскочило. Отворили обе половинки. Еще дверь. Она была просто на засове. Тоже не возникло никаких хлопот. Татьяна Петровна щелкнула выключателем — вспыхнул свет. Впервые я увидел наш подвал при ярком освещении. Низкие своды. Круговая кирпичная кладка. И знакомые — и пыль, и цвель. Листы фанеры, доски, стекла в плоских деревянных футлярах, оконные рамы. Быстро направляюсь дальше, туда, куда мы пришли полвека назад, привели Левку. В правом углу — гора стульев, бывших стульев. И опять — доски и какие-то железные конструкции. Но теперь к старым, отслужившим свой век стульям прибавились колоссального размера катки бумаги. С трудом добираюсь до того места стены, где у самого пола должно быть прямоугольное отверстие вышиной с полметра — вход в подземелье. Но, как мне показалось, он заложен относительно свежим кирпичом.
— Вот здесь должен быть вход.
Крайняя арка. Вторая. Мы начинали отсюда...
Артем ринулся было расшевеливать, двигать эти бумажные блоки, но это ему не удалось, подошли мы с Олегом — безнадежно: подвал не отдавал тайны. Здесь была когда-то старинная прямоугольная дверца, которая отворилась тогда перед нами «с кряхтением и вздохами», и Олег просунул свою руку с горящей свечой в отверстие двери и сам с кряхтением втиснулся туда.
И вдруг напротив того места, где была когда-то прямоугольная дверца, мы увидели огромный, в человеческий рост, пролом: очевидно, в подвал прорываются новые, подрастающие поколения искателей приключений! Валялись спиленные замки от входных дверей, лопаты, молот и метла. Я, конечно же, полез в пролом. Оказавшись в проломе, торжественно зажег свечу. Артем, соответственно, немедленно схватился за камеру. Бездонная темнота опалилась фотовспышкой.
Наведывались мы с Олегом на церковку и зимой, в общем, зачастили в /вой малютинские годы. Мы уже знали — подземный ход искали в 60-х годах, и дважды специальные поисковые группы искали и «церковный клад»: старинную культовую утварь (наткнулись же ребята Толи Иванова на один из ящиков с иконами). Не исключено, что и клад, спрятанный французским генералом в 1812 году, тоже обитает где-то в каменных недрах. Генерал тогда жил в доме Аверкия, в одном из уцелевших во время пожара в Москве.
... Сейчас начало июля, разгар лета. Цветут на церковке у самых ног одуванчики. Срываю один из них, осторожно держу седой шарик.
— Миха, почему мы не взяли тогда с собой Юрку Трифонова? — спрашивает Олег. Он стоит рядом, жмурится на солнце, зависшее над куполами Ни колы.
— Поленились позвонить ему на Калужскую, иного объяснения не вижу.
— Юра написал нам тогда.
И я прочитал первые две строчки Юриного стихотворения: «Где мой Левка неразлучный? Мишка, Димка и Олег?»
Текст стихотворения принес от Ольги Трифоновой-Мирошниченко, жены Юры, Артем Задикян. Через полвека мы узнали впервые, какие горькие строки своего отторжения оставил нам Юра.
Артем и поныне продолжает приумножать наш фотоархив. Мы с ним до последнего, что называется, камушка избороздили Берсеневку, Стрелку, где отходит водоотводный канал и где часто в старину добывали лед, заглядывали по пути во все старые дворы. Избороздили мы и Софийскую набережную с Мариинским училищем, в котором после революции располагалась наша 19-я школа. Артем все стремится проникнуть на чердак здания, так как слышал от нас, что в далекие довоенные времена мы нашли на чердаке портрет вдовствующей императрицы Марии Федоровны, попечительницы училища.
Мы все ищем предпосылки к возможным «пустотам» в этой старой, насыщенной тайнами части Московского острова. Артем пообещал, что в городских архивах раздобудет материалы археолога Игнатия Яковлевича Стеллецкого. А у Задикяна рука счастливая. На различных свалках, в брошенных домах ему удается обнаружить старые фотопластинки, фотопленки, с которых он делает отпечатки, и перед нами предстает в картинках давно ушедшая жизнь Москвы. Архив у Артема уникальный.
Я добивался, искал в недрах дома что-нибудь из Левиного наследия, а вот тут и совершил поразительную находку Артем. Ну ладно, когда в брошенном для капитального ремонта «булгаковском» доме на Садово-Кудринской он раздобыл ворох фотопленок, отпечатал, и пожалуйста,— дом на Серафимовича в довоенном виде и, мало того, наша девочка Таня Куйбышева тоже совсем довоенная. Но вот Артем отправился в новое здание школы на Кадашевской набережной, чтобы еще раз снять рояль Рахманинова, и по дороге в одном из домов, поставленных на капитальный ремонт (не мог же Артем пройти мимо!), в одной из комнат из-за радиатора парового отопления он вытаскивает (хотите верьте, хотите нет!)... главу из Левиного романа «Путешествие в недра Земли», рассказ «Действия ядовитой змеи», карандашный портрет Верди, помеченный датой 23/11-37 и личной подписью — Л.Федотов.
Артем Задикян появился у нас довольный: в руках — большой конверт. Извлекает из конверта фотоотпечатки рисунков из какой-то старинной книги, передает один за другим мне и Вике:
— Иван Грозный собственной персоной в двух вариантах. Его печать, громадина какая. А это Малюта, тоже собственной персоной. Это — роют подземелье. А это подземелье под Кремлевской башней. Тут и вовсе — черепа, кости. Жуть да и только. Смута и мятеж. Скорый суд. Кого-то постригают в монахи. А это — топор... Опричник на коне с метлой и песьей головой...
Артем так убедительно говорил, будто бы только что сам все это «схватил» объективом с натуры. Мы радовались вместе с ним его небывалой удаче. Потом Артем разложил на столе отпечатки страниц журнала двадцатых годов под названием «30 дней» — статью археолога Игнатия Стеллецкого, специалиста по московским подземельям, и фотографии его самого. Читаем и узнаем, что во всех каменных домах XVI — XVII веков в Москве имеются тайники и подземные ходы. Неизменно всякий старый дом, научно обследованный, дает тайник — будет ли то потайная палата для сокровищ или потайной ход для бегства. Самым интересным в этом смысле в Москве является дом Малюты Скуратова на Берсеневке.
При отце Ивана Грозного Василии III жил в Кремле, близ угловой башни, боярин Берсень Беклемишев. От него и название башни пошло — Беклемишевская. В районе Стрелецкой слободы, за Москвой-рекой, Берсень построил себе каменный дом, и вот дал свое имя набережной — Берсеньевская. Постепенно мягкий знак утратился. Василий III этого достойного боярина казнил из-за «неосторожной искренности». Дом Берсеня замечателен по древности и судьбе. Архитектура XVI века. В царствование Грозного принадлежал наперснику его Малюте Скуратову-Бельскому. Потом перешел к Борису Годунову, затем к Стрешневым и Курбатовым... (Н.Калачев. Дом Малюты Скуратова. 1867). Малюта к дому сделал пристройки, «сообразно инквизиторским вкусам его и Грозного». Под старым домом Берсеня — два мрачных сводчатых подвала (мы и спускались в эти подвалы с Олегом и Артемом), ниши... кольца в сводах... колодец, заполненный водой... В нишах, носящих следы железных ставен, хранились орудия пыток. На кольца подвешивались жертвы. Имелся потайной ход в пристроенной стене, идущий в подвал сверху. Ныне заложен кирпичом (мы его видели). Из подвала вел тайник, пока нами еще не обнаруженный. Другой тайник — на Солянке.
Читая материалы Стеллецкого, возникает вопрос — какая имеется в виду Солянка? Дальше Стеллецкий повествует, что эта вотчина Малюты полна романтики и подземных тайн. Здесь
были жилые помещения, куда вводились даже лошади, имелся колодец. Отрыт он был на глубине 15 аршин (аршин — 0,71 м) при сооружении электрической станции в 1906 году на Болотной набережной; сруб полусгнил. Игнатий Стеллецкий во время раскопок, сняв около 8 аршин сруба, обнаружил хорошо сохранившийся остов лошади, а под ним, на некотором расстоянии, скелет человека. Сапоги с загнутыми вверх носками боярской эпохи. Поблизости такие же женские сапоги.
Подземная вотчина в районе нашего дома. Да! Это она! Страшные подземные хоромы Малюты Скуратова-Бельского были на территории нашего дома, точнее, наш «хоромный» дом занял хоромную территорию Малюты, подземную. Все сходится!
«Мрачный и таинственный дом Малюты,— продолжает Игнатий Стеллецкий,— был подарен правительством бывшему Московскому археологическому обществу. Долгие годы простоял угрюмый и забвенный».
Но по некоторым документам мы знаем, что еще одна вотчина Малюты и его могила были в районе опричного Чертолья. Археологическое общество же с 1864 года занимало палаты уже думного дьяка Аверкия Кириллова. У нас хранится старая фотография (конечно, из архива Задикяна) дома Аверкия и надпись над входом — «Археологическое общество». Возникает вопрос — не построен ли дом думного дьяка на фундаменте, на подвалах бывшего малютинского? Ну, не будем себя лишать этого убеждения.
На этой же старинной фотографии, на заднем плане, слева от палат думного дьяка — колокольня. Не в районе ли этой колокольни пошли на поиск подземного хода Лена из Хабаровска с ребятами?..
Впервые я встретился с хабаровской Еленой на собрании по созданию музея Госдома в 1989 году. В детстве Елена жила в Хабаровске, поэтому она стала для нас — хабаровской. Инициатор создания музея, его теперешний директор Тамара Андреевна Тер-Егиазарян и члены общественного совета решали вопрос о розыске в архивах материалов по истории создания дома и его заселения. Вика бережет простенький пригласительный билет — «В этот день Вы сможете познакомиться с первыми экспонатами будущего музея, услышать рассказы сотрудников архива об истории дома 30 — 50 годов. 12 ноября 1989 года».
По просьбе Тамары Андреевны я принес для будущего музея документы и фотографии, связанные с нашими ребятами: Левой Федотовым, Олегом Сальковским, Юрой Трифоновым, Толей и Галей Ивановыми и другими моими друзьями. И, как всегда, разговор зашел о том, как Лева, Олег и я пытались обнаружить подземный ход под рекой.
Хабаровская Елена вдруг, как бы между прочим, говорит:
— Я тоже побывала в подземелье. И задолго до вашей экспедиции.
Ну я, конечно, ради вежливости поинтересовался:
— В каком году?
— Вскоре после взрыва Храма Христа. Когда его взорвали?
— В конце 31-го. Пятого декабря.
— Снега уже не было. Значит, я побывала весной или в начале лета.
— Откуда лезли и куда долезли? — довольно еще спокойно продолжал интересоваться я.
— Не из самой церкви, как она выглядит сейчас... Рядом что-то было. Какое-то еще строение...
— Рядом? Колокольня. Ее разобрали. И еще один старый деревянный дом.
Присутствующие невольно прислушивались к разговору.
— А результат вашей экспедиции? — я по-прежнему был спокоен.
— Выбрались на противоположный берег,— так же спокойно ответила Елена. Характер у нее сибирский, не сторонница эффектов, сенсаций: все предельно просто.
— Прошли под Москвой-рекой! — воскликнул я ошалело. Более точного слова, способного передать степень моего изумления, моего потрясения, не подберешь.
— Прошли.
— Как прошли?!
— Я же сказала — не из самой церкви.— Лена глядела на меня будто на больного ребенка.
— Значит, в районе колокольни,— пробормотал я,— или там, где когда-то была еще крытая стеклянная галерея.
— Возможно. Шестеро мальчишек, кажется, ну и я, девчонка, седьмая.
— Кто эти ребята? Откуда? Как звали? — засыпали вопросами Елену.
— Все из нашего дома. Имен не припомню, была маленькой. Сожалею, но что делать.
— И совершенно настоящий подземный ход? Под рекой? — не унимался я.
— Конечно, совершенно настоящий.— Лена даже улыбнулась.— Сперва — ступеньки серые, каменные. Идешь ниже, ниже. Какие-то деревянные воротца, что ли, остатки от них и потом — тоннель, и он углубился, и начался уклон. И тишина — ни трамваев не было слышно, ничего. Потом подъем, как бы в горку. Постепенный.
— Двигались в полный рост? — никак не унимался я. — Свободно совершенно?
— Да. Фонари-жужжалки были, механические, помнишь такие?
— Конечно. Жмешь на рычаг, он толкает маленькую динамку, и фонарь жужжит, светит, мигая при этом.
Значит, Толя Иванов, Валя Коковихин, Игорь Петере и Юра Закурдаев ходили в свой церковный маршрут со смоляными факелами, мы — со свечами, Елена — с жужжалкой. И прошла под рекой, а!
— В полный рост, говоришь, и свободно,— никак не успокаивался я.
Вспомнил письмо инженера из Киева — не мог же Малюта ползти на животе!..
— До потолка, наверное, не допрыгнула бы. И вернулись обратно. Положила в подол платья с разрушенного Храма мраморный цветок, утащила его. Территория Храма была огорожена деревянным забором.
— Вы оказались около храма за оградой?
— Ну да. Ходили раза три-четыре.
— И все под рекой? — меня прямо заклинило на этом.
— Ну конечно же! — не выдержала и уже громко засмеялась Лена.— И каждый раз я уносила по мраморному цветку. Складывала их у себя на бал коне.
Квартира и балкон Елены находились в том подъезде, в котором мы сейчас заседали.
— Цепи попадались? Кандалы?
— Железки. Уж не знаю, какие. То и дело спотыкались... Мальчишки нарочно еще кричали: «У-у! Вон голова полетела!» «А-аа! Рука вон торчит!» «У-у! Опять мертвец гонится!»
— Наша экспедиция была в тридцать девятом, твоя на семь лет раньше,— подсчитал я.— Где-то в тридцать втором.
— Получается так,— кивнула Лена.
Левка был прав, когда сказал: «Наверное, мы не туда двинули». Не зря упорно возвращался к подземным тайнам церкви Николы, хотел даже один слазить в подземелье. « На вид эта церковь маленькая, невзрачная,— отметил Левка в дневнике,— а под собой имеет такие обширные подземелья!»
Когда весной 1936 года Толя Иванов со своими ребятами спустились на 6 — 8 ступенек под церковь (напоминаю — с противоположной стороны от «нашего входа в наш подвал»), и начался низкий, узкий тоннель. Пробирались согнувшись, метров через 10 появилось боковое ответвление. Здесь же за решеткой и был в нише скелет с остатками цепей. Похоже, человек был к стене еще и прикован. Но кости давно осыпались, лежали горкой. Потом — трухлявая дверь, за ней — опять осыпавшиеся черепа и кости (дословная запись Толиного рассказа), потом обнаружили иконы в небольшом ящике. Взяли две или три. Прошли еще с десяток метров, сырость, затхлость, кладка каменная. Преграда из кирпича. Имели лом и лопату, поэтому начали долбить. Когда продолбили дыру, бросили в нее последний факел. Темень и темень, и больше вроде ничего. Маршрут прекратили: остались без света. Обнаруженные иконы отец Игоря Яков Христофорович Петере передал в музей специалистам. Специалисты датировали, кажется, четырнадцатым веком. Толя не помнит. Судьба оставшихся в ящике икон неизвестна.
— Ты достигла Храма Христа,— сказал я Лене.— Могла бы двинуться и дальше к Кремлю. Теперь выяснилось, что ходы тянулись и в сторону Кремлевского холма.
— Помещения под храмом были и ходы куда-то еще, но мы не рискнули. Очень боялись заблудиться.
Значит, не пострадал подземный ход от сильного наводнения в Москве 1908 года, о котором я впервые услышал от научного сотрудника Александра Ивановича Фролова и который не отвергает идею подземного хода под рекой.
— Что там еще под нашим домом, какие древности... Какие еще могилы, склепы, тайники,— проговорила в раздумье Тамара Андреевна Тер-Егиазарян...
Я вспомнил о памятниках потайной Москвы, о которых пишет Стеллецкий и которые восходят к концу XIII и началу XIV века. Особенностью подземелий этого времени является то, что они, будучи вырыты в плотных слоях материка, не были обложены камнем. Лишь в последующие века некоторые из тоннелей обложили кирпичом. Судить о возрасте подземелий только с точки зрения кирпичной обшивки противоречило бы требованиям подхода строго научного. Слово «тайник» имеет троякий смысл: потайная комната, слух (окно или дверь для подслушивания) и потайной ход.
Тайники бывают надземные (стены домов, купола церквей) и подземные. Выделяет Игнатий Стеллецкий и тайники, «вырытые к воде». Главным назначением их было снабжать крепость водой. В древнерусских крепостях они обшивались тесом. Тайник оставался неизменной тайной даже для ближайших слуг кремлевских правителей. Предание повествует о тайнике к Москве-реке из Водовзводной башни, а летописец — из Тайницкой и Беклемишевской. В районе Тайницкой башни был подземный ход, и проходил он близко от кремлевских дворцов. От тайника к воде недалеко и к тайнику под водой, под рекой.
«Подземные ходы,— далее замечает Стеллецкий, — элементарная принадлежность всякой древней крепости и замка. В Московском Кремле роль главного хода для бегства принадлежала так называемому тайнику Алевиза, идущему мимо Никольской башни под Китай-город. «Алевизовским» он назывался потому, что ров над ним, на Красной площади, был обложен камнем итальянцем Алевизом в 1508 году. Построен же этот ход самим творцом Кремля Аристотелем Фиораванти в 80-х годах XV века».
Итальянцы вообще владели в совершенстве не только искусством сооружать подводные ходы, но еще и обкладывать их своды свинцом и оловом для предупреждения сырости в тоннелях под дном реки. Так митрополит Макарий, застигнутый пожаром в Успенском соборе в 1547 году, избег гибели, пройдя тайным ходом под Тайницкой башней и Москвой-рекой в Замоскворечье. Ход, по преданию, был построен тем же Аристотелем Фиораванти.
Вообще, в Кремле «гордиев узел» подземной Москвы. Здесь «тайна тайн» московских.
Не будет удивительным, если под Москвой-рекой обнаружится впоследствии несколько свинцовых ходов. Есть... есть подземный ход под рекой, а дальше... дальше в сторону злополучного Кремлевского холма. И, вероятно, недалек час, когда мы с Артемом Задикяном его «распечатаем», но, конечно, уже с помощью археологов, с помощью «Фрома». Тем более совсем недавно «Московский комсомолец» оповестил читателей: в районе Ваганьковского холма, на котором возвышается дом Пашкова (главная библиотека страны), при прокладке коммуникаций под толстым слоем земли неожиданно обнаружился фрагмент настоящего подземного хода. Красный кирпич, невысокий и узкий проход в глубинах московской земли. Куда он вел? Какие хранит тайны? Только — версии. По самой распространенной из них — ход проведен Иваном Грозным. Говорят, кое-кто из метростроевцев будто бы наталкивался на него. И среди всяких обломков даже находил сундуки с золотом. Под покровом ночи за ними якобы приезжали какие-то люди и увозили в неизвестном направлении. А невольным свидетелям под страхом смерти приказывали молчать.
Другое открытие, почти сенсационное, поскольку ничего подобного на территории Москвы находить еще не доводилось — колодец, белокаменная кладка, диаметр 4,5 метра! Небывалая глубина. Строительные работы на данном объекте пришлось приостановить. До тех пор, пока не будут найдены методы сохранения колодца. И определено его назначение. Поначалу решили, что в нем хранился запас воды. Однако позднее, когда внутри обнаружили крепления винтовой лестницы и остатки бревен, эта версия разлетелась в прах. И ее место заняла новая гипотеза, связанная со входом в подземелье.
Михаил Коршунов, Виктория Терехова
Окончание следует
(обратно)
Петля на тигриной тропе

Карр, карр, карр...»— донеслось из лесу воронье карканье, когда мы подкатили к пустовавшему дому — кордону заповедника на реке Егеревке, и Володя Орлов заглушил двигатель мотоцикла.
— Ишь, раскаркались,— сразу же насторожился он.— Не тигр ли? Олени здесь по кустарникам бродят. Мог поохотиться.
Для меня это был последний день пребывания в Лазовском заповеднике, и я мысленно поднапряг себя: вдруг, как говорят охотники, «счастье накопилось» и сейчас-то желанная мне встреча с хозяином тайги произойдет? Кордон «Канихеза» был самым ближним к поселку Преображение, где находится лесничество заповедника. От поселка к нему и пешком можно было дойти часа за два. Но тигры в его окрестностях появлялись, и это было известно лесникам.
Мы не стали терять понапрасну время. Володя подкатил мотоцикл к крыльцу, забежал в дом, проверил, все ли там нормально, извлек из рюкзака и собрал двустволку, опоясался патронташем, и мы зашагали вверх по распадку.
На севере Сихотэ-Алиня еще лежали снега, буйствовали метели, а здесь, в Приморье, склоны сопок были по-весеннему темны. Снег стаял, под ногой шуршал прошлогодний лист, и о прошедшей зиме напоминали лишь до сих пор не растаявшие голубоватые наледи да промерзшие до дна ручьи — ключи, как их здесь называют. По чуть размякшему льду одного из них, стараясь не поскользнуться в резиновых сапогах и ступать как можно тише, мы вошли в таежную чащу. Вековые ильмы, кедры, дубы, липы обступили нас, и на какой-то миг мы почувствовали себя пигмеями, вступившими в огромный храм природы. Однако воронье не переставало будоражить тишину, заставляя не терять осмотрительности, быть начеку.
Вороны Приморья в отличие от европейских серых собратьев черны, как грачи. И поведением от всем известных своих товарок несколько отличаются. Не засиживаются на городских свалках и помойках, а кружат над побережьем и тайгой, высматривают и сопровождают хищников, питаясь остатками их трапез. Эту особенность ворон хорошо знают охотники и лесники заповедника, нередко по их голосам отыскивая в чащобе давленку — остатки тигриной добычи, порой еще свежую и вполне пригодную для употребления в пищу. Вполне возможно, что и мы могли наткнуться на давленку, но мне, конечно, хотелось увидеть тигра.

... В Лазовский заповедник я попал три года назад, привезя на преддипломную практику сына, учащегося лесохозяйственного техникума. Вот тогда-то и возмечтал заполучить собственного исполнения фотографию хозяина тайги. Правда, с детства еще застряло в мозгу вычитанное в книгах Арсеньева предупреждение старого Дерсу Узалы. Помните, как сказал он однажды? «Наша так говори. Такой люди, который никогда амба посмотри нету,— счастливый. Его всегда хорошо живи... Моя много амба посмотри. Один раз напрасно его стреляй. Теперь моя шибко боится. Однако моя когда-нибудь худо будет». И ведь верно, худо закончилась жизнь Дерсу... Но я не суеверен и, оказавшись в этом заповеднике, многие километры пройдя по тигриным следам, просто не мог не мечтать о том, чтобы встретить в тайге этого умного и осторожного хищника.
Навсегда отпечаталось в памяти удивление, когда совсем неподалеку от дачного поселка на лесной тропе при входе в заповедник я увидел крупные, очень отчетливые и совсем свежие следы самой большой в мире кошки. Подумалось: доведись наткнуться на них казакам самого Арсеньева, переполошился бы весь отряд. А две молоденькие сотрудницы, направлявшиеся заниматься научными наблюдениями в заповедник, не то что, как говорится, и бровью не повели, но и не побоялись прихватить с собой детей-школяров.
Галина Салькина, главный специалист по тигру, показала мне дерево, где зверь оставил пахучую метку ( от дерева и впрямь пахло кошками), затем характерные разбросы земли в местах туалета. Своих подопечных она знала не в лицо, а по следам, отпечаткам лап. В то время на небольшой сравнительно территории заповедника постоянно обитало от восьми до одиннадцати тигров, и за многие годы ни сотрудникам заповедника, ни местным жителям, соседям по территории, звери не причиняли вреда.
Однажды, рассказывала Салькина, их фотограф Володя Мезенцев собирался поснимать оленей в бухте Сяочингоу. Устроился на берегу в крохотной палатке-засидке, а вместо оленей в бухту возьми и приди целое тигриное семейство: тигрица с двумя годовалыми тигрятами. У фотографа же вся защита фальшфейер — сигнальная ракета, которую можно держать в руках. И ни одного человека на многие километры вокруг. Парень холодным потом покрылся, но спуск фотоаппарата несколько раз все же рискнул нажать. Теперь есть фотографии, где видно, как напрягшаяся тигрица смотрит пристально в объектив аппарата, а сами снимки отлично подтверждают, что не причини зверю зла — и он тебя не тронет. Постояв так несколько секунд, показавшихся фотографу вечными, тигрица обошла палатку и увела в тайгу тигрят.
Как было нам с сыном, после таких разговоров с женщинами, совсем безоружными, не рискнуть и не отправиться незнакомой дорогой сквозь тайгу к бухте Сяочингоу...
Тогда стояла тридцатиградусная жара. Под пологом леса было влажно и душно, как в бане. Иногда я раздевался и залезал в ямы с ледяной родниковой водой, которые, по всей вероятности, нарыли кабаны. Теряя тропу и вновь находя ее по затесам на стволах деревьев, мы здорово намучились, пока наконец-то не вышли к морю. И так ему обрадовались, что перво-наперво решили искупаться. А когда, наплававшись, выбрались на берег, то рядом с нашей одеждой на песке увидели свежайшие отпечатки тигриных лап. Как выяснилось впоследствии (это установила Салькина по следам), тигр сопровождал нас до моря, а затем обошел вокруг избушки и вернулся той же дорогой. Вот какие тигры жили в заповеднике...
Господи, думал я, балансируя теперь на скользких наледях, перебираясь через поваленные деревья и подходя все ближе к тому месту, где все еще переругивались вороны, — что за прекрасные были времена! В бухте Сяочингоу, не раз наведываясь, я провел в то жаркое лето несколько дней. Сфотографировал там семейство пятнистых оленей, выходивших на берег моря посолоноваться, поесть морской капусты. Видел белогрудого медведя, залезшего на дерево и лакомившегося кедровыми орешками, два раза встречал на скалах горалов — все редких, охраняемых в заповеднике животных. Но с тигром мне не повезло, так и не довелось его тогда повстречать.
На территории СССР, нашей бывшей страны, обитали тигры двух подвидов. Туранских тигров, живших в Средней Азии и на Кавказе, уже нет. Истребили полностью в советское время. Но амурскому, или уссурийскому, повезло: спохватились вовремя. К 1947 году, когда был объявлен полный запрет на добычу амурского тигра, зверей этих оставалось не более трех-четырех десятков. С тех пор численность их возросла до двухсот, и в газетах запестрели заметки: не может ли быть опасным для человека этот тигр? Уж больно много он жрет, а зверья в тайге становится все меньше, вот, мол, и придется ему нападать на собак и скот, а там идо человека может добраться. Исподволь, значит, подводили к тому, что пора бы и за охоту на зверя браться, но до злостного браконьерства все-таки дело не доходило.
Но времена, увы, меняются. Ныне Дальний Восток зримо демонстрирует преобразующую силу реформ. Открылись границы с Японией, Южной Кореей и Китаем, и вот уж импортные машины заполонили улицы дальневосточных городов, а во Владивостоке появилась первая в нашей стране автосвалка. Хлынула из-за кордона аудио-и видеотехника, джинсы и кроссовки, пуховики, а в «Вечернем Владивостоке» замелькали объявления: «Куплю шкуру тигра. Или меняю на иномарку».
«Экономические реформы» поставили на грань исчезновения все наше ценное, краснокнижное зверье. Поплыли за границу оленьи панты, медвежья желчь, шкуры, и за несчастных тигров взялись. В Индии, говорят, очень ценятся усы этого хищника, владение которыми дает якобы неограниченную власть над женщинами. В Корее и Китае, только дай, все мясо и кости переведут на напиток, делающий, как считается, человека безумно храбрым. За когти, сердце, желчь — особая плата. А за половой член, как не постеснялся сообщить своим читателям «Коммерсант», там готовы платить золотом: грамм за грамм.
Василия Сергеевича Храмцова, директора заповедника, я застал не совсем здоровым. Прошлой осенью, после того, как он взял с поличным команду судна-катамарана, охотившуюся в заповеднике на пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу, на него организовали покушение. Полупьяные бандиты дважды пытались сбить машиной, когда ходил он к колодцу за водой. Потом «спешились» и избили неугомонного защитника зверей до потери сознания.
Почти два месяца пришлось лечиться, но на одно ухо он оглох: слух уже не восстановить. Сельчане помогли задержать бандитов, вскоре должен состояться суд, но адвокаты уже крутят, подбирают им статьи помягче.
— Кабана нет, изюбра совсем не стало: повыбили, — пожаловался Храмцов.— Браконьерство возросло. Цены аховые, продуктов в магазинах нет, вот и берутся за ружья даже те, кто в тайгу раньше разве что за ягодой ходил. С тиграми плохо. Прежде, если их стреляли, мы потом хоть останки находили. Либо наши лесники, либо охотники о том говорили. В этом году такой информации не поступало. Точно знаю, да только с поличным пока взять не смог: на тигриных тропах в заповеднике ставят петли, а рядом — капканы! Вначале зверь головой в петлю попадает, а как биться начнет, пытаясь вырваться, тут уж и лапой встревает в капкан. Нашли мы одно место такое. Шерсть кругом, а капкан самодельный, но в заводских условиях изготовлен. Берут, значит, тигров полностью и «черным ходом» через границу — в Китай, Корею или куда-то еще. Очевидно, люди нужные есть, помогают переправить. Слухи ходят, что уже семь красавцев загубили, и не понимают, что частицу родины, драгоценное богатство ее за доллары продают...
— Галина Салькина, no-женской логике,— мягко сказал директор,— не выдержала и о всех безобразиях этих жалобу президенту Ельцину направила, но ответа нет и нет. До тигров ли ему теперь? Совсем недавно неподалеку от села Киевка нашли двух мертвых тигрят. Видели будто вначале их с тигрицей, а потом она куда-то пропала. Не может тигрица детенышей бросить, значит, погибла. Скорее всего и ее подстрелили...
Грустно и тяжко было мне слушать Василия Сергеевича, ведь, следя за прессой, я знал, что «тигровая лихорадка» охватила не только заповедник, но и всю тайгу Приморья и Хабаровского края.
«...В Пожарском районе близ поселка Светлогорье неизвестными застрелены тигрица и два тигренка, туши зверей найдены без шкур. ... Задержан охотовед, везший в дровах шкуру тигра, возбуждено уголовное дело. ... Военные застрелили тигра из машины.... На пароме отобрана шкура тигра у инженера, пытавшегося переправить ее через границу»...— это выдержки из газет. И как логическое завершение этой преступной вакханалии — сообщение, появившееся в газете «Труд»: близ таежного поселка тигр насмерть задавил охотника.
О нападении тигров на человека не слышно было более двадцати лет. «Охотник был опытный,— сообщалось в заметке,— знал тайгу как свои пять пальцев. Скорее всего он надеялся достать «матрасовку», так на местном жаргоне называется шкура тигра, за которую дельцы, не торгуясь, отдают автомобиль-иномарку, хорошо приплачивая сверху». Что ж, если так, то и жалеть браконьера нечего, получил свое, должен же был хоть один тигр за своих сородичей постоять. Но опасно браконьерское дело еще и тем, что при неудачной охоте остаются подранки, а это, уже проверено, ведет к появлению тигров-людоедов.
После разговора с Храмцовым я решил наведаться в бухту Сяочингоу. Уж если не тигра увидеть, то хотя бы на знакомые места посмотреть. Сын теперь работал лесником в заповеднике, и мы отправились уже не безоружными, как прежде, а с двустволкой. Наступили новые времена в заповеднике.
По прежнему приезду запомнилась мне чистота и уют избушки, поставленной работниками заповедника на берегу моря. Печь, нары, крохотный столик — все, как в охотничьем простецком зимовье. На окнах висели белые занавески, всегда стояла на полке чистая посуда матрацы с подушками укрывали добротные одеяла. Иным увидел жилье лесников и научных сотрудников на этот раз. И тут оставили недобрые следы браконьеры. Выбили стекло в окне, пустили на тряпки занавески, сожгли лавочку и стол перед домом, за которым можно было пообедать в теплую пору. Изрезали ножом стол в избе, расписавшись и намекая, что пустили они на обед оленя-цветка, как еще называют пятнистого, действительно очень красивого летом оленя.
По дороге к бухте ни одного тигриного следочка не заметили. Два дня ходили по окрестным сопкам, вспугивая небольшие стада оленей, и лишь однажды на перевале приметили на снегу тигриный след. Тигр подходил к согнутому дереву и то ли чистил о него когти, то ли лежал, отдыхал на покатом стволе. В коре остались тигриные ворсинки, и несколько волосков я взял на память. Но был здесь тигр давно, след в снегу затвердел и оплавился, так что надеяться на встречу было нечего. Наставало время прощаться, как с заповедником, так и с надеждой сделать «портрет» тигра. Однако в последний день сын предложил: «Сходим на Канихезу».
…Вороны перестали каркать. Словно сговорились. Как в рот воды набрали. Молчат да и только. Владимир, обернувшись ко мне, разводит руками и продолжает идти по покрывшемуся водяной пленкой голубоватому льду ключа. Слышно, как подо льдом, меж камней струится вода. Впереди мы замечаем промоину, около нее чьи-то следы. Так и есть, тигр! Следы свежайшие. Тигр сошел с берега, подошел к промоине, опустил к нее морду, должно быть, попытавшись пить, а может, просто из любопытства. И ушел. Следы пропали. Но Вова тянет меня на берег. Там среди елей что-то желтеет.
Остались от козлика рожки да ножки, вспоминается мне детская песенка. На земле лежат рыжие ножки оленя с черными копытцами, а кругом — оленья шерсть.
— Это он, прежде чем съесть, стрижет на олене шерсть,— всерьез уверяет сын. Не маленький, знает, два с лишним года уже в заповеднике. Но я о подобной способности амурского тигра слышу впервые. А где же давленка — остатки мяса, скелет? Давленки нет. То ли тигр унес добычу с собой, то ли кто-то успел побывать здесь до нас. Не зря же кричали вороны.
Еще с полчаса мы поднимаемся по ручью в горы, пока не натыкаемся на следы. Но это уже следы не тигра, а зверя посерьезней. Два человека спустились с обрывистого склона и так же, как и мы, идут вверх по льду. Следы свежие, но насколько раньше они здесь прошли — сказать трудно. Владимир нервничает, рвется вперед, хочет догнать нарушителей, но их двое, а у нас всего лишь одно ружье. Неравны будут силы, ведь браконьеры ходят не иначе как с нарезными карабинами, а то и с автоматами. Да и время к вечеру, пора возвращаться. На этот раз я понимаю, что предстоит проститься с мечтой сфотографировать тигра в таежных дебрях. Но радуюсь тому, что видел свежие его следы. Живут еще звери в заповеднике.
Вечером, в гостевой комнате лесничества, мы встречаемся с только что вернувшимся из маршрута биологом Сергеем Хохряковым. Ростом он невысок, бледноват лицом, но среди сотрудников заповедника прославился как неутомимый ходок, скалолаз, преследователь браконьеров, борец за правду и самый большой специалист по горалу — горному козлу.
Горалы избрали для себя жизнь на горных кручах. Никакой хищник им там не опасен, кроме, понятно, человека с ружьем. Уверенный в своей недоступности, горал, застыв на острие скалы, может спокойно наблюдать за судном-катамараном, подплывающим к самому берегу. Откуда простаку-козлу знать, что сейчас из боевого карабина по нему будет открыт беспощадный огонь. И это не выдумка, огонь открывают. Хохрякову однажды довелось видеть такое.
Горалов на земле всего несколько сотен осталось. И биолог, хотя и живет, как все научные сотрудники ныне — в бедности, кажется, за своих любимцев готов жизнь положить. В двадцатикратный бинокль увидел он лицо стрелка, что стрелял по горалу. Запомнил и лицо капитана пиратского катамарана и, не пожалев ног, бросился в поселок, поднял милицию, пограничников, представителей власти, чтобы с поличным взять нарушителей, но не удалось с поличным...
Не оказалось на судне ни карабина, ни мяса горала, ни стрелявшего. Видимо, кто-то успел предупредить капитана и стрелка заблаговременно, до прихода в порт, ссадили где-то на берегу. Однако не поверить показаниям биолога не посмели, расформировали тот экипаж, все урок на будущее браконьерам будет.
— А недели две назад,— вспоминает, сидя на кровати, Сергей,— я с тигрицей столкнулся. Ну вот как с вами сейчас: лицом к лицу.
За сопкой Туманной есть бухточка, где на скалах небольшое семейство горалов вот уже несколько лет держится. Ищу их, куда-то пропали, пересчитать бы надо. На одну вершинку взбираюсь, перехожу на другую. На руках только подтянулся на карниз, чтобы площадку осмотреть,— мать честная, тигр! Чуть вниз не сорвался от неожиданности. Близко!
Тигренок то был. Месяцев восемь. О том, что тигрица с четырьмя тигрятами ходит в этих окрестностях, я знал. Еще зимой, по снегу, логово их определил, но уж никак не предполагал увидеть так высоко на скалах. Тигренок ощерился, подался назад, а из-за скалы — морда тигрицы. И ко мне.
— Назад, дура! — кричу.— Пистолет навел, но не стрелять же. Да и что от такого выстрела будет толку. Направил так, для угрозы, что ли. Ведь ей один прыжок — и нет меня. А она застыла. Смотрит. Лапа вскинутой замерла, потом начала медленно ее опускать. Совсем опустила. Я тоже пистолет опустил. Но тут тигрица опять вскинула лапу. И я пистолет поднял: «Прочь пошла, назад, дура!» — опять кричу. Тигренок уже куда-то смылся. И я медленно стал опускаться под скалу. Спустился, тигрица не помешала. Дала возможность уйти, но на душе нехорошо. Вдруг, думаю, она обежит вокруг да встретит меня внизу? Но нет, не встретила. А все, думается, потому, что она меня давно признала, не один раз, должно быть, наши дороги пересекались, и никогда мы друг другу зла не причиняли. Ведь звери-то говорить не умеют, но все понимают...
Слушая его, я вдруг подумал, что не потерян у меня шанс встретиться-таки с тигром. Не всякую людскую душу может сломать наша бестолковая нынешняя жизнь. Ведь Хохрякову, например, и в голову не пришло даже, чтобы себя защитить, — угробить тигра. Потому что жизнь без природы этот человек не представляет. И пока будут у нас подобные люди, а у нас их, слава Богу, пока еще немало, не исчезнет надежда, что будут в тайге и тигры и горалы, не удастся свести их под корень новоявленным предпринимателям. Только обществу не надо забывать об этих людях и в меру сил стараться помогать им.
В.Орлов Фото автора
(обратно)
Гигантские змеи Амазонии
 В начале XX века богатые каучуковые плантации, расположенные вдоль реки Абуны, одной из рек бассейна Амазонки, были яблоком раздора между Западной Бразилией, Северной Боливией и Перу, которые еще не установили четких государственных границ. Назревала каучуковая война.
Призванное сыграть роль посредника, Лондонское Королевское географическое общество направило тридцатидевятилетнего майора Перси Фосетта произвести точные топографические исследования на спорных территориях. Именно это неблагодарное назначение в места с ужасным тропическим климатом способствовало тому, что британский офицер потряс мир неожиданным открытием и вошел в легенды.
Анаконда майора Фосетта
В начале XX века богатые каучуковые плантации, расположенные вдоль реки Абуны, одной из рек бассейна Амазонки, были яблоком раздора между Западной Бразилией, Северной Боливией и Перу, которые еще не установили четких государственных границ. Назревала каучуковая война.
Призванное сыграть роль посредника, Лондонское Королевское географическое общество направило тридцатидевятилетнего майора Перси Фосетта произвести точные топографические исследования на спорных территориях. Именно это неблагодарное назначение в места с ужасным тропическим климатом способствовало тому, что британский офицер потряс мир неожиданным открытием и вошел в легенды.
Анаконда майора Фосетта
В январе 1907 года Перси Фосетт в первый раз услыхал о гигантских змеях, обитающих в окрестностях крохотного поселения серингеросов, недалеко от истоков Акры. Это был последний оплот цивилизации, за которым лежали неизведанные области.
«Чиновник из Иоронги,— писал в своих воспоминаниях Фосетт,— рассказал мне, что ему пришлось однажды убить анаконду длиной 18 метров. Естественно, я счел это преувеличением, но скоро мне пришлось повстречаться с еще более длинной змеей».
Это случилось два или три месяца спустя на реке Абуне, одном из притоков Мадейры, выше того места, где она встречается с рекой Рапиррао.
«Мы беспечно плыли по ленивому течению,— рассказывает Фосетт,— когда неожиданно из-под нашего каноэ показалась треугольная голова, а за ней и змееобразное тело. Это была гигантская анаконда. Я схватил свой карабин, и, когда животное выскочило было из воды на берег, почти не целясь, выстрелил пулей 44-го калибра. Пуля попала змее прямо в позвоночник в трех метрах от головы. Вода тут же вспенилась, и нос нашего каноэ получил несколько сильных ударов, как если бы мы наскочили на риф».
Майору с большим трудом удалось уговорить индейцев подвести лодку к берегу. Глаза их были расширены от ужаса; еще когда он готовился стрелять, они в один голос умоляли его не делать этого, опасаясь, что чудовище бросится на каноэ, что случается с этими змеями в минуту опасности. С большими предосторожностями они причалили к берегу и подошли к рептилии. Змея лежала неподвижно, но тело ее вибрировало от судорог. Фосетт сразу же попытался измерить длину змеи. Почти на четырнадцать метров ее тело выходило из воды, в воде же оказалось еще пять метров, то есть длина равнялась девятнадцати метрам, или, как пишет Фосетт, 62 ступням. Толщина была не слишком велика для таких колоссальных размеров: она не превышала 30 сантиметров, но, без сомнения, животное долго обходилось без пищи.
«Может быть, попавшийся мне экземпляр, — заключает Фосетт,— довольно редок, но в болотистых местах можно встретить следы анаконды шириной до 1,8 метра (6 ступней), а индейцы и сборщики каучука рассказывают, что в этих краях попадаются змеи, рядом с которыми встреченная мной кажется небольшой. Бразильская комиссия по границам зарегистрировала, например, змею, убитую на реке Парагвай, длина которой составляла двадцать четыре метра!»
Когда майор Фосетт сообщил в Лондон, что ему довелось повстречать анаконду девятнадцатиметровой длины, его единодушно объявили выдумщиком. Между тем можно в любом месте открыть его полевой дневник и нигде не найти ни малейшего расхождения его наблюдений с истинными размерами зверей, встреченных им в «амазонском аду».
Фосетт был мечтателем, но не лжецом. Его предположения или интерпретации подвержены некоторой фантазии, но все наблюдения изложены по-военному точно.
Какие же максимальные размеры анаконды (Eunectes murinus) были известны ученым в то время?
«Лично я,— пишет известный зоолог Х.Веррилл, — утверждаю, что размеры анаконды не могут превышать 6,1 метра. Я своими руками убил змею, от носа которой до кончика хвоста было ровно 6 метров 10 сантиметров. Но более длинных змей мне встречать не приходилось».
Однако если мы обратимся за справками к трудам прежних исследователей Амазонии и окрестных территорий, то не раз встретим упоминание о змеях, явно превышающих 6 метров доктора Х.Веррилла. Я приведу здесь лишь свидетельство маркиза де Эврина, президента Парижского общества американистов, который лучше, чем кто-либо, был знаком с обширными районами тропической и субтропической Америки.
Маркиз де Эврин не был по образованию зоологом, зоология не входила даже в перечень основных его увлечений. Но все особенности животного мира фиксировались им с педантичной старательностью.
В частности, много страниц его наблюдений посвящены анакондам:
«Обычно длина тех экземпляров, которые встречаются по берегам рек и ручьев, составляет от 6 до 8 метров. Мне приходилось видеть 10-метровую змею, но здесь встречаются, по рассказам местных жителей, значительно более крупные».
Однажды, плывя в пироге по одному из протоков, маркиз выстрелил в плывущую анаконду длиной приблизительно 8 метров. Он остановил лодку и хотел выловить змею, опустившуюся на дно, но один из индейцев сказал ему, что не следовало тратить порох на такой небольшой экземпляр, а возиться с ним тем более не стоит.
«На реке Гвавиаре,— сказал индеец,— в некоторых заводях и окрестных болотах встречаются змеи вдвое длиннее той, что вы подстрелили. Их толщина превосходит часто ширину нашей пироги».
Проводники-индейцы поведали белому пришельцу об одной встрече с такой анакондой.
... Во время разлива реки несколько индейцев пиапоко, возвращаясь в свою деревню в верховьях реки Ува, решили плыть более коротким путем, по озерам, слившимся друг с другом.
Затерянные миры существуют не только в романе знаменитого английского писателя А. Конан Доила, но и в некоторых труднодоступных уголках планеты. Джунгли Камеруна, если верить американскому зоологу Сандерсону, хранят тайну живых птеродактилей, а Мировой океан таит множество непознанных животных. Вполне возможно, что они окажутся родственниками тех, о которых рассказывает Б. Эйвельманс.
Пошли волны, хотя ветра не было. Оказалось, что волны были вызваны движением змеи, тело которой находилось сразу в двух озерах. Там, где только что проплыла пирога, вода бурлила особенно сильно, и если бы лодка не миновала это место, она неизбежно была бы опрокинута. Индейцы поклялись никогда больше не показываться здесь.
«Сукурию гиганте» отца Хейнца
Среди тех, кто верил в существование гигантской анаконды, был директор зоопарка в Гамбурге Лоренц Гагенбек. Не один век путешественники и ловцы зверей присылали Гагенбекам, известной семье натуралистов, описания фауны из стран всего мира.
В их семейном досье сохранились сведения о животных, позабытых учеными, а также о таких, существование которых вообще отрицалось. Одним из таких животных была водная змея из Амазонии, размеры которой превосходили длину анаконды и которую очевидцы называли «сукурию гиганте», то есть «гигантский боа».
Сделаем некоторые уточнения. Прежде всего напомним, что анаконда сама относится к семейству удавов, ее часто называют водяным удавом. Это не означает, что другие удавы не умеют плавать, но анаконда, ноздри которой способны герметично закрываться, может гораздо дольше оставаться под водой. Да и жить она предпочитает в сырых местах. У этой змеи только один вид окраски: темные пятна и овальные колечки по оливковому, серому или коричневатому фону. Между тем окраска удавов довольно разнообразна: на темном фоне могут быть разбросаны светлые овальные пятна, часто розоватые. Знаменитый боа-констриктор — самый крупный из известных удавов. Герпетологи утверждали, что не было случая, чтобы длина пойманного удава намного превышала четыре метра, хотя во все времена не было недостатка в историях, посвященных гигантским змеям.
Так, в досье Лоренца Гагенбека есть свидетельство священника отца Виктора Хейнца, от которого он и получил информацию о «сукурию гиганте», как назвал ее святой отец.
«Моя встреча с гигантским змеем,— пишет отец Хейнц, — произошла 29 октября 1929 года. Я возвращался рекой из Алемкера в 7 часов вечера, когда жара немного спала. К полуночи мы были недалеко от устья Пиабы. Внезапно мой экипаж, охваченный непонятным ужасом, принялся грести к берегу.
— Что случилось? — крикнул я.
— Там... Огромное животное! — ответил мне взволнованный голос.
В этот момент я различил бурлящий звук, напоминающий шум парового двигателя, а затем увидел на высоте нескольких метров над водой два зеленоватых фонарика, похожих на те, которые зажигают на мачтах речных пароходов. Тогда я закричал:
— Остановитесь, это пароход! Гребите в ту сторону, чтобы он не наскочил на нас!
— Это не пароход! — ответили мне.— Una cobra grande!
Застыв от страха, мы смотрели на приближающееся чудовище. Оно удалялось от нас к другому берегу. Чтобы пересечь реку, ему потребовалось около минуты, тогда как мы потратили бы на это времени раз в 10—15 больше.
Почувствовав твердую почву под ногами, мы осмелели и даже стали кричать, чтобы снова выманить его на обозрение. Чуть в стороне на другом берегу появился человек, размахивающий фонарем. Он решил, что кто-то сбился с пути. В этот же момент недалеко от него снова показалась голова змеи, и мы смогли отчетливо увидеть разницу между светом керосинового фонаря и фосфоресцирующими глазами чудовища. Позднее жители этого края рассказали мне, что в устье Пиабы живет сукурию».
Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что животное таких размеров обладает поистине титанической силой. Вот что еще сообщает отец Хейнц:
«На протоке, которая ведет из озера Маруриказа к реке Игуарапе, бразилец по имени Жуан Пеньа 27 сентября 1930 года очищал берег, чтобы облегчить путь черепахам. Случайно он заметил позади завала из принесенных потоком стволов, которые с трудом пробивает пятисоттонное судно и по которым часто можно, не замочив ног, перейти с одного берега на другой, два зеленых огонька.
Пеньа решил сначала, что это охотник за черепаховыми яйцами. Как вдруг весь завал взлетел в воздух, а бразильца опрокинуло волной в несколько метров высотой. На шум выскочили двое его сыновей, и все трое увидели огромную змею, выползшую на другой берег. Протока была освобождена, а стволы разбросаны на десятки метров вокруг».
Досье Лоренца Гагенбека пополнилось не только рассказами отца Виктора Хейнца, но и двумя редкими фотографиями с изображением неправдоподобно гигантских змей. Между этими фотографиями разница пятнадцать лет. Они были опубликованы в одной из газет Рио-де-Жанейро.
Чиновники, входящие в комиссию по границам, которые принесли первую фотографию, рассказали ее последнему владельцу, что изображенная змея была убита из пулемета в 1933 году. Извиваясь в агонии, она сломала несколько небольших деревьев. Змея была длиной около 10 метров, и четыре человека с трудом могли приподнять только ее голову!
Вторая фотография была сделана в 1948 году. Змея длиною, по словам очевидцев, 35 метров заползла в старые укрепления форта Абуна. Ее умертвили из автоматов, выпустив в нее около 500 пуль. Так как мясо быстро разложилось бы на жаре, а кожа не имела коммерческой стоимости, змею сбросили в реку.
Опираясь на собранные документальные свидетельства, Лоренц Гагенбек объявил, что «сукурию гиганте» — не миф, а реальное существо. Он считал, что эта змея достигает длины 40 метров и ширины 80 сантиметров, а вес ее может быть до 5 тонн! Цвет ее темно-коричневый, снизу грязно-белый, глаза крупные и в темноте светятся зеленоватым светом.
Допуская, что размеры, приписываемые чудовищным боа, очевидцы чаще всего преувеличивали (от страха!), следует признать: те, кто отрицает их существование, основываются на еще более сомнительных положениях и фактах.
Миньокао Фрица Мюллера
Приведу одну интересную цитату из записок уже упоминавшегося маркиза де Эврина.
«В верховьях реки Парагвай,— пишет он,— встречаются змеи, которых местные жители называют миньокао. По их словам, эти мифические существа, толщиною с широкую пирогу, превратились в водных змей из удавов. В верховьях реки
Параны мне также рассказывали об огромных змеях, способных утащить на дно пирогу с людьми. Эти чудовища обитают в ненаселенных местах и никогда не удаляются от воды. На жителей края они наводят священный страх».
Миньокао — не те ли это гигантские боа, о которых мы говорили? На первый взгляд кажется, что это они. Но когда внимательнее прислушиваешься к описаниям очевидцев, начинаешь сомневаться, можно ли отнести этих гигантов к анакондам или удавам-констрикторам да и вообще к змеям.
Первым зоологом, еще в прошлом веке заинтересовавшимся легендами о миньокао, был немецкий ученый Фриц Мюллер. Изучая зародыши некоторых ракообразных, он первым обратил внимание на то, что развивающийся эмбрион повторяет все предшествующие формы эволюции.
Развитие зародышей ракообразных Фриц Мюллер изучал как раз в Бразилии, где он оказался в качестве коммерсанта, и здесь же до него дошли слухи о таинственных миньокао.
Сначала он не придал значения свидетельствам местных жителей, сочтя их небылицами. Они и правда были похожи на вымысел, так как речь шла о существах пятидесятиметровой длины и пятиметровой ширины, вооруженных чешуйчатым панцирем, которые с легкостью переламывают могучие деревья и перекрывают реки, превращая сухие места в непроходимые болота.
Но мало-помалу он собрал множество сведений от разных лиц. Выходило, что все они видели животных впечатляющих размеров, неизвестных науке, но с правдоподобной внешностью. В результате зоолог опубликовал доклад, в котором высказал предположение о существовании в Бразилии гигантской амфибии змеевидной формы (или, используя его собственное выражение, «в форме червяка»).
В 1871 году, по его словам, миньокао обнаружил себя недалеко от Лога. Некто Франсиско де Амарал Варрелья встретил в десяти километрах от города необычного зверя огромных размеров, толщиной приблизительно в один метр. Свидетель не заметил, были ли у него лапы. Он не осмелился в одиночку нападать на животное, но пока Франсиско бегал за спутниками, оно исчезло, оставив в почве глубокую выемку. Неделю спустя на берегу той же реки обнаружили похожую выемку, которая могла принадлежать тому же существу. След терялся между еловых корней у болота. Такие же следы находили потом и другие жители края, и всегда они терялись у воды.
В «Никарагуанской газете» за 10 марта 1866 года появилась заметка некоего Полино Монтенегро, в которой сообщалось о гигантском «землероющем» звере, принятом за миньокао. Автор писал, что во время путешествия в Конкордию в феврале того же года он услышал от попутчика, что тот видел недавно в местечке, называемом Кушилла, огромную змею. Вместе с друзьями автор тотчас прибыл в указанное место, но вместо змеи обнаружил только ее след, свидетельствующий, тем не менее, о ее небывалых размерах и землеройных способностях.
Пятью годами раньше крестьяне из одной небольшой деревушки заметили странное явление. У подножия горы неожиданно возникла земляная насыпь в виде удлиненной платформы. Крестьяне посадили здесь несколько фруктовых деревьев, но вскоре обнаружили, что земля в нескольких местах просела, так что обнаружилась горная порода, хотя никакого водного источника поблизости не было. Мало-помалу молодые деревья стали наклоняться, и однажды в долину сорвался пласт холма, завалив дорогу из Чичигаса в Сан-Рафаэль-дель-Норте. На месте отрыва лавины зияли многочисленные пустоты: очевидно, холм был подрыт каким-то существом.
На всех возвышенностях, находящихся у истоков Уругвая и Параны, встречаются, по данным Фрица Мюллера, рытвины и «нивы», будто оставленные огромной землеройной машиной. Свидетели утверждают, что они появляются обычно после дождей, а следы всегда берут начало или исчезают в реке или болоте.
Создается впечатление, что знаменитый миньокао заинтересовал и Перси Фосетта, во всяком случае, он упомянул о нем в дневнике. После рассказа об акулах (последние, как известно, любят заплывать далеко в устья крупных рек Зеленого Континента), он замечает, что прибрежным хозяйствам наносит иногда вред крупное водное животное:
«В реке Парагвай встречаются пресноводные акулы, огромные, но лишенные зубов, которые, впрочем, имеют репутацию опасных хищников, нападающих на человека. Также здесь рассказывают о другом водном монстре — рыбе или четвероногом? — способном за одну ночь подрыть большой участок берега. Индейцы утверждают, что на берегу попадаются следы гигантского животного, которое живет в реке и окружающих ее болотах, но никто его до сих пор не встречал... Огромный землерой продолжает оставаться неуловимым. Поистине еще много загадок в этой таинственной стране. Если здесь на каждом шагу попадаются неведомые науке насекомые, рептилии и млекопитающие, то почему бы не существовать огромным чудовищам, которые не вымерли, найдя пристанище на обширных заболоченных территориях, куда еще долго не ступит нога человека? В Мадиди, например, находят впечатляющие следы, а индейцы рассказывают о гигантских созданиях, появляющихся из болот».
В приводимых сведениях отсутствуют точные размеры животных. Ни один свидетель не говорит о его лапах, но, как правило, животное оказывается частично скрыто в воде.
«Если животное не обладает лапами,— замечает доктор Будде, комментировавший работу Фрица Мюллера в своих «Натуралистических этюдах»,— следует признать, что ему остается только ползать, как червяку: чешуя поможет ему при случае зарыться в грунт».
Здесь уместно вспомнить, что некоторым змеям действительно свойственна способность зарываться в землю, как, например, рогатой гадюке, живущей в Сахаре.
Неуловимый миньокао мог вполне быть броненосцем очень крупных размеров, живым танком.
Вынесенные из описания детали, такие, как окостенелый панцирь, вытянутая морда, рога, которые могут являться не чем иным, как ушами — все эти детали подходят для какой-либо разновидности глиптодона. Если предположить в придачу и мощные когти, то это животное может быть вполне отнесено к землероям, какими и являются броненосцы. Если это так, то между ними должно существовать не только родство, но и сходство. Они должны были достигать около четырех метров в длину, а ходы, прорываемые ими, вполне могли служить причиной обвалов и оползней. Вспомним, что разрушения грунта африканским муравьедом приводят нередко к выходу из строя транспортных магистралей.
Некоторые ученые допускают, что миньокао принадлежали к группе колоссальных размеров броненосцев, доживших незамеченными до современной эпохи благодаря подземному существованию.
Если миньокао и глиптодон — одно и то же, то между ними все же есть одно большое различие, с которым не могут не согласиться зоологи. Как мы выяснили, таинственным существам полюбились сырые места обитания, что мало похоже на пристрастия броненосцев. Все же заметим: ничто не мешает предположить, что в силу определенных обстоятельств гигантский броненосец стал предпочитать заболоченные места. Мы вообще очень мало знаем о повадках этих бронированных монстров.
Известно достаточно примеров, когда в одном животном совмещались повадки амфибии и землероя. Кроме утконоса, к ним относятся многие насекомоядные, бобры, мускусная крыса.
Кроме того, тяжеловесный гигант мог стремиться облегчить в водной среде свой вес, наподобие динозавров, таких, как диплодок.
И, наконец, присутствие чешуйчатого покрова объясняет, почему ряд свидетелей принимали диковинного зверя за змею шириной в метр и больше.
Не исключено также, что легенды о миньокао создавались на основе смешанного образа, родившегося от созерцания одновременно глиптодонов и гигантских удавов, живущих на болотах.
Конечно, не помешали бы более точные описания легендарного гиганта, прежде чем делать какие бы то ни было смелые предположения. Современный взгляд на неоглиптодонов может оказаться далеким от действительности. Но какого бы древнего происхождения ни были эти животные, в их современном существовании я бы не усматривал ничего поразительного...
Бернар Эйвельманс,
Перевел с французского Павел Траннуа
(обратно)
Господин Голу
 Мы, русские, имеем также право сказать, что и мы внесли немалую лепту в это обширное море новых, неведомых стран и огромных пространств, менее известных человечеству, чем поверхность Луны.
Из выступления профессора М.Н.Анненкова на Бернском конгрессе географов в 1891 году.
Жарко. Влажная духота, пропитанная запахом рыбного соуса, пряностей и еще чего-то неведомого, липнет к телу. Который раз за последние годы оказываюсь я на улицах Ханоя. И каждый раз мне не дает покоя мысль, что я брожу по тем же самым местам, где еще четыре-пять десятилетий назад ходил мой выдающийся соотечественник, имя которого, известное всему миру, в России в течение многих лет пребывало в забвении.
Мы, русские, имеем также право сказать, что и мы внесли немалую лепту в это обширное море новых, неведомых стран и огромных пространств, менее известных человечеству, чем поверхность Луны.
Из выступления профессора М.Н.Анненкова на Бернском конгрессе географов в 1891 году.
Жарко. Влажная духота, пропитанная запахом рыбного соуса, пряностей и еще чего-то неведомого, липнет к телу. Который раз за последние годы оказываюсь я на улицах Ханоя. И каждый раз мне не дает покоя мысль, что я брожу по тем же самым местам, где еще четыре-пять десятилетий назад ходил мой выдающийся соотечественник, имя которого, известное всему миру, в России в течение многих лет пребывало в забвении.

Это имя — Голу, с ударением на последнем слоге, — придумали французы: так они называли Виктора Викторовича Голубева, переделав его фамилию на свой лад.
Виктор Викторович Голубев — русский ориенталист, всю свою жизнь посвятивший изучению Дальнего Востока, Вьетнама в особенности. Здесь, в Ханое, он и умер весной 1945 года.
И хотя состоялась гражданская панихида на европейском кладбище и директор Французской школы Дальнего Востока, где работал Виктор Викторович, Жорж Седее произнес трогательную прощальную речь, мало кто узнал об этом печальном событии.
Первые находки
Перед поездкой во Вьетнам я попытался собрать хоть какие-то сведения о судьбе Виктора Викторовича. Это был ученый, сделавший в археологии Вьетнама открытие мирового масштаба, изучивший бронзовые предметы эпохи, названной им Донгшонской — по имени деревни, где они были найдены. В Институте востоковедения мне дали телефон сотрудницы, географа по образованию, которая много раз бывала во Вьетнаме.
Инна Анатольевна Мальханова, к сожалению, тоже не смогла сказать ничего определенного, но снабдила меня адресом и рекомендательным письмом к своему вьетнамскому учителю Чан Дынь Зану и телефоном одного из своих учеников, которому она преподавала вьетнамский язык, сообщив, что его, Юры Ясносокирского, жена Инна работает в ханойских библиотеках, тоже знает вьетнамский язык и может чем-нибудь помочь.

...В один из свободных дней в Ханое я отыскал улицу 325, на которой живет Чан Дынь Зан. Профессору, преподававшему раньше в Ханойском университете географию, было уже за семьдесят. Он сказал, что ему знакома фамилия Голубев, однако ничего рассказать о нем не может. Но тут же засобирался и сообщил, что отведет меня в Институт археологии, к директору Ха Ван Тану.
Мы отправились пешком к этому институту, расположенному в 15 — 20 минутах ходьбы.
Ханой, который я знал главным образом по Шелковой улице и ее окрестностям, где постоянно прогуливаются приезжающие в город иностранцы, открылся мне по-новому. Он жил своей жизнью, в которой не было места суете, хотя люди и торопились по своим делам, покупали и продавали на перекрестке прямо с велосипедов зелень, мясо и рыбу — не для иностранцев, а для себя и, в общем-то, не обращали на меня внимания. И я впервые почувствовал себя здесь не чужим.
Ха Ван Тана в институте не оказалось, пришлось зайти к нему домой.
Нам открыли его комнату на втором этаже. Мы было устроились в деревянных креслах и начали пить традиционный чай, как появился хозяин. Выслушав нас, Ха Ван сказал, что о Голубеве как о личности ничего не знает, но завтра может показать его работы.
На следующий день, когда в назначенное время я переступил порог кабинета Ха Ван Тана в Институте археологии, меня ждала целая стопка книг с публикациями русского ученого.
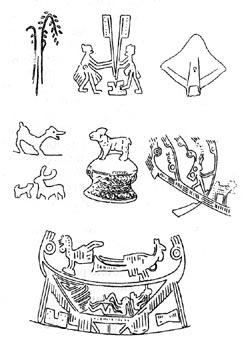 Донгшонская культура
Донгшонская культура
О том, как произошло первое знакомство с Донгшонской культурой, Голубев рассказывает в своем докладе на одном из конгрессов, проходившем в 1936 году в Тулуз-Фуа.
В мае 1925 года, находясь в провинции Тханьхоа, Голубев купил небольшую бронзовую вещицу, которая привлекла его внимание своей великолепной древней патиной. Из расспросов выяснилось, что вещица была найдена вместе с другими бронзовыми предметами недалеко от деревни Донгшон, на правом берегу реки Ма. Из-за недостатка времени ученый не смог тогда сам осмотреть указанное место, но, вернувшись в Ханой, сообщил о находке директору Школы Луи Фино. На следующий год Анри Парментье, шеф археологической службы Школы, приехал в Донгшон и начал здесь раскопки, которые велись затем в течение нескольких лет, принеся небольшой деревеньке мировую известность. Были обнаружены многочисленные захоронения тогда еще неизвестного типа. На небольшой глубине были найдены кости людей и среди них разнообразные бронзовые предметы, в том числе и так называемые бронзовые барабаны, аналогичные тем, что были описаны известным археологом Францем Хегером в 1902 году. Один из таких барабанов уже был в музее Луи Фино в Ханое, но его привезли из какой-то пагоды, расположенной в тонкинской провинции Ханам, и тогда его появление не вызвало особого интереса и отклика ориенталистов. Теперь же, после раскопок, все стало на свои места.
Находки были описаны А.Парментье, поступили в Музей Фино, где их изучением и занялся В.Голубев. А в 1930 году вышла в свет его работа, где он описывает самостоятельную Донгшонскую культуру.
На многих бронзовых предметах, но особенно на барабанах, были выгравированы сцены из жизни людей, различные орнаменты, силуэты животных. Изучение этих изображений позволило связать эту культуру с культурой даяков Борнео и батаков Суматры. Именно поэтому, считал В.Голубев, описанная им Донгшонская культура была культурой предков не аннамитов (или вьетов, как их теперь называют), населяющих в настоящее время эти места, а мыонгов, в небольшом числе сохранившихся во Вьетнаме — главным образом в провинции Хоабинь, соседней с Тханьхоа.
Когда я принес голубевские работы к себе в гостиницу и показал старшему другу и коллеге Лео Суреновичу Степаняну, он, увидев в них перерисованные с барабанов силуэты птиц и других животных, сказал, что необходимо написать об этом зоологическую работу. Ведь по этим рисункам можно очень точно определить виды изображенных животных и сравнить фауну времен изготовления барабанов с современной, той, которую сейчас изучаем мы.
Пропавший архив
После знакомства с теми работами, которые мне показал профессор Ха Ван Тан, мне еще больше захотелось посетить Национальную библиотеку Вьетнама в Ханое, которой, как я где-то читал, Виктор Голубев подарил перед смертью хранившиеся у него картины Н.К.Рериха и завещал свой архив.
Разыскав Юру Ясносокирского и его жену, я рассказал им о своих проблемах, и Инна стала моей постоянной спутницей — сначала в библиотеке, а затем и в бывшей Французской школе Дальнего Востока. Библиотека располагалась в середине огромного двора, занимающего полквартала в центре города. Двор с одной стороны был ограничен книгохранилищем, с другой — зданием Государственного архива, от улицы его отделял забор с красивыми узорчатыми металлическими воротами в характерном колониальном стиле.
Во дворе стояли каменные лавочки, нагревавшиеся за день, пестрели цветами ухоженные клумбы, росли тенистые деревья. Все располагало к неторопливым раздумьям... В огромном зале библиотеки было довольно прохладно даже в самую жару.
Листая «Бюллетени Французской школы Дальнего Востока», издававшиеся ежегодно с момента ее основания, я обнаружил, что сотрудники откликались на смерть своих коллег обязательным некрологом. Я, конечно, тут же начал искать «Бюллетень» за 1945 год — когда умер сам Голубев. Но тщетно. В более поздних томах о смерти ученого тоже ничего не говорилось. У меня закрались сомнения, действительно ли Голубев умер в Ханое в 1945 году.
Во время первых же посещений библиотеки я познакомился с заместителем ее директора Ха Тху Кук. Она не только показала имеющиеся в библиотеке работы Голубева, но и, к моей огромной радости, подарила мне последнюю книгу Виктора Викторовича, издание которой ему удалось подготовить за несколько месяцев до смерти и в которой он объединил тексты трех выступлений и двух статей под общим названием «Монахи и паломники на земле Азии».
Из расспросов Ха Тху Кук о Викторе Голубеве и судьбе его архива, к сожалению, выяснилось, что в библиотеке ничего, кроме некоторых изданных работ Голубева, нет. Она предложила отвести меня в Государственный архив, который расположен рядом с библиотекой.
Но и там меня ждало разочарование: ничего, относящегося к В.Голубеву, найти не удалось, видимо, все было вывезено во Францию.
Ну что ж. Оставалась еще надежда на бывшую Французскую школу: там теперь находится Институт научной информации по общественным наукам.
Нгуен Тхи Бао Ким, заместитель директора института, оказалась не менее любезной, чем другие мои новые знакомые. Она показала остатки картотеки, по каким-то причинам не вывезенной французами. В картотеке удалось найти не только каталог многих работ Виктора Голубева, но наконец-то и некролог. Он был написан другом В.Голубева и его коллегой-ориенталистом, хранителем Ангкора Генри Маршалом. Этот некролог и стал путеводной нитью для моих дальнейших поисков. В небольшом предисловии к некрологу Голубев назван «великим Французом, который испытывал к этой стране и ее народу только любовь и преданность».
А знакомство с фотоархивом, хотя и небольшим, но великолепной сохранности, позволило найти несколько фотографий В.Голубева. На одной из них — он в окружении своих коллег по Школе.
Семья
«У Надворного Советника Виктора Федоровича Голубева и законной жены его Анны Петровны, обоих православных и первобрачных, сын Виктор родился тридцатого января (по новому стилю 12 февраля.— В.Р.), а крещен двадцать третьего марта тысяча восемьсот семьдесят восьмого года». Так записано под номером восьмидесятым в метрической книге С.-Петербургского Казанского собора за 1878 год, как свидетельствует документ, представленный при поступлении будущего ориенталиста в столичный университет. Виктор был самым младшим в семье: сестра Мария родилась в 1873 году, брат Лев — в 1875-м. Сам отец Виктора родился в семье нижегородского дворянина.
В 1903 году в возрасте 62 лет Виктор Федорович умер и был похоронен в своей родной Пархомовке. Дети построили церковь-усыпальницу, пригласив для разработки ее проекта архитектора В.А.Покровского. В 1906 году большой заказ по росписи к тому времени церкви по просьбе Виктора Голубева взял на себя его университетский друг Николай Константинович Рерих, к тому времени уже известный художник. Однако Рериху удалось сделать только эскизы мозаик и росписей интерьера, которые он и передал Виктору Голубеву. Где теперь эти 12 картонов — неизвестно.
Особо надо сказать о старшем брате Виктора Федоровича, дяде будущего ученого-ориенталиста.
В 1900 году в Омске Западно-Сибирским Отделом Императорского Русского Географического общества был выпущен биографический очерк «Александр Федорович Голубев». Он начинался словами: «Имя Александра Федоровича Голубева, мало знакомое современному русскому обществу, занимает выдающееся место в ряду имен первых ученых путешественников и исследователей Средней Азии...»
Век Александра Федоровича был очень скоротечен: он умер в возрасте 34 лет, подорвав здоровье в экспедициях. Поездка в Италию на лечение его не спасла, и он скончался от чахотки 28 февраля 1866 года в Сорренто. Там его и похоронили.
1859 год стал годом первой экспедиции капитана А.Ф.Голубева, во время которой он провел важные астрономические наблюдения в Заилийском крае и Семиречье, в районах озера Иссык-Куль и Кульджинской провинции Западного Китая. Именно здесь и было подорвано его здоровье...
В 1862 году А.Ф.Голубев вновь отправляется в Среднюю Азию, в район озера Алакуль, с целью установить границы между Западным Китаем и Россией. Но вновь резко обостряется болезнь...
Учеба
Но вернемся к молодым годам будущего ориенталиста.
«Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить сыну моему Виктору Викторовичу Голубеву, окончившему полный курс реального училища, слушание лекций в С.-Петербургском Императорском Университете по факультету естественно-математических наук».
Виктор Голубев, поступив в С.-Петербургский Императорский университет по факультету естественно-математических наук, посещает лекции известных профессоров. Но пока ничто не говорит о его увлечении Востоком. Впечатление такое, что молодой человек целенаправленно готовит себя к сельскохозяйственной работе. Проучившись так четыре курса, Виктор Голубев, уже губернский секретарь, в 1900 году пишет следующее прошение: «Прослушав, на положении постороннего слушателя, лекции на Естественном отделении физико-математического факультета в течение 8 полугодий (с 1896 года) и отправляясь в настоящее время за границу, в Гейдельберг и другие университетские города, для дальнейших занятий и предполагаемой защиты диссертации на степень доктора философии, я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о выдаче мне удостоверения в том, что я в течение 4 лет слушал лекции на физико-математическом факультете».
Так Голубев оказывается в Германии и поступает в старейший Гейдельбергский университет. Время, проведенное в этой средневековой резиденции князей Рейн-Пфальца на реке Неккар, дало знания не менее капитальные, чем в столице на Неве. В 1904 году он заканчивает и этот университет, получив за свою диссертацию о немецких переводах французского писателя XVIII века Мариво звание доктора филологии, специализирующегося в изучении искусства и археологии.
Обширные знания, свободное владение английским, итальянским, немецким и французским языками давали Голубеву возможность чувствовать себя как дома во многих странах, где он вел поиск художественных редкостей или занимался археологическими изысканиями. Не случайно современники Виктора Голубева сравнивали его с гуманистами эпохи Возрождения.
Жизнь в Париже
По окончании Гейдельбергского университета двадцатишестилетний Виктор Голубев с молодой женой и маленьким сыном отправляются в Париж, где обосновываются довольно прочно. Здесь у него много друзей. С этим эрудитом и светским человеком искали знакомства завсегдатаи различных художественных и литературных салонов, представители научных и политических кругов.
Работа в Лувре и Британском музее дала ему возможность удовлетворить интерес к культуре эпохи Раннего Возрождения — венецианскому кватроченто и опубликовать в Брюсселе обширную работу о рисунках Якопо Беллини, главы целой семьи итальянских живописцев венецианской школы. Эта публикация, кстати, свела его с замечательным издателем Жераром ван Оэстом; в дальнейшем судьба связала их настолько тесно, что Голубеву довелось писать и некролог на смерть друга.
В Париже Голубев организует путешествие в Турцию и Египет. А в 1910 году вместе с писателем Шарлем Мюллером и другими друзьями Виктор Голубев отправляется в археологическую экспедицию в Индию, где изучает главным образом монастырский комплекс Аджанты. По возвращении оттуда на следующий год ученый привез с собой, как сам он пишет, «более 1500 фотографических клише, 300 из которых были сделаны в пещерах Аджанты, живопись которых тогда была известна только по посредственным копиям Джона Гриффитса. К этим фотографиям прибавилась часть древней китайской живописи, приобретенная у антикваров Дели». Через несколько лет, в 1918 году, парижское издательство «Фламарион» выпустило книгу, написанную Шарлем Мюллером, Виктором Голубевым, Абелем Германтом и другими участниками этой поездки,— «Путешествие в Индию».
Материалы, привезенные из Индии, выставлялись в известном парижском музее — Музее Чернуского.
Здесь, на выставке, с Голубевым знакомится Николай Рерих, который под впечатлением от увиденного и от встречи с ученым написал статью «Индийский путь». Она заканчивалась словами: «Желаю В.Голубеву всякой удачи и жду от него бесконечно многозначительного и радостного...» Они вместе обсуждали планы совместной работы по исследованию восточных стран. От Голубева Рерих надеялся получить некоторые экспонаты из его коллекции для Петербургского Индийского музея, который он мечтал организовать. Рерих обращался в Академию наук, чтобы от ее имени была проявлена соответствующая инициатива, но, к сожалению, сделать так ничего и не удалось. А затем началась первая мировая война...
Лишь на Первой буддийской выставке, уже после революции организованной в Петергофе, были представлены фотографии рельефов знаменитого Борободура, сделанные Виктором Голубевым на Яве, куда ему удалось заехать во время индийского путешествия.
После возвращения из Индии во Францию Голубев до самой первой мировой войны преподавал индийское искусство в крупнейшем центре европейского востоковедения — в Школе восточных языков при Сорбонне. Жизнь Голубева и его семьи в Париже в значительной степени обеспечивало то состояние, которое принадлежало ему после смерти отца в России. Революция 1917 года лишила его всего, кроме любимых занятий искусством и археологией. За время своих путешествий по Ближнему Востоку и Индии Виктору Голубеву удалось собрать великолепную коллекцию персидских и индоисламских миниатюр. Эта коллекция очень заинтересовала одно из крупнейших художественных собраний Америки — Бостонский музей изящных искусств в своем бюллетене поместил ее описание.
Продажа этой замечательной коллекции позволила Голубеву еще какое-то время поддерживать приличное положение во французском обществе. Тем не менее необходимо было искать официальную должность. Именно это заставило его поступить во Французскую школу Дальнего Востока сначала временным, а затем и постоянным ее членом.
Делегат Русского Красного Креста
Потрясшие весь мир события августа 1914 года не миновали и Виктора Голубева. В Париже его застала весть о всеобщей воинской мобилизации, объявленной Николаем II, и в середине октября 1914 года он по распоряжению из Петербурга был аккредитован при французском правительстве как делегат Русского Красного Креста. В этом качестве в чине полковника он выехал на фронт, во французскую Пятую армию, с группой санитаров, экипировку которым передала императрица Александра Федоровна.
Позже, перед тем как Голубев отправился в Ханой в 1920 году, ему, генеральному уполномоченному Русского Красного Креста во Франции и Восточной армии, Президент Совета, министр иностранных дел французского правительства написал следующие благодарственные строки: «С августа 1914 года Вы руководили в Бордо организацией автомобильных формирований, подаренных Россией французской Санитарной службе... впоследствии Вы персонально занимались направлением этих формирований в зону боевых действий, и такие качества, как хладнокровие и смелость, которые Вы проявили в многочисленных опасных ситуациях, были отмечены господином маршалом, главнокомандующим, в приказе о награждении крестом «За боевые заслуги».
Этим маршалом, с которым свела судьба Голубева на войне, был Франше д"Эсперей. Весной 1939 года, перед тем как в очередной раз покинуть Париж и вернуться, как оказалось, навсегда в ставший столь привычным Ханой, Голубев, как обычно, зашел к маршалу на улицу Любек. Они вспоминали свою жизнь, Франше д"Эсперей передал привет сотрудникам Школы, сказал, что всегда будет любить Тонкий, долину Черной реки и кампанию 1885 года, во время которой французы одержали победу в продолжавшейся два года франко- китайской войне и положили начало колониальному периоду в истории Вьетнама. Эта встреча двух друзей оказалась последней: в 1942 году маршал умер. Виктор Викторович откликнулся на смерть маршала небольшой, но очень тепло написанной книгой воспоминаний: о том, как познакомился с ним, о его службе и карьере и тех боевых действиях 1915 — 1916 годов, в которых им вместе пришлось принять участие.
Запрос из посольства
Эту книгу подарил мне директор Национальной библиотеки Вьетнама Нгуен Тхе Дык, который с большим вниманием и сочувствием отнесся к моим поискам материалов о судьбе Виктора Викторовича Голубева и которому я очень признателен за его помощь. От него же я узнал, что в Государственном архиве видели приказ колониальных властей Индокитая о назначении Голубева членом Французской школы Дальнего Востока и что можно с него снять копию.
Из продолжительного разговора с Нгуен Тхе Дыком выяснилось, что в библиотеку официальный запрос о наличии архивов Голубева прислало наше посольство, но ничего найти так и не удалось. Для меня сообщение о таком запросе было новостью. Его автором оказался советник по культуре Александр Александрович Войтов, и я, конечно, отправился в наше посольство, чтобы встретиться с ним.
Он рассказал, что в посольство пришло письмо за подписью министра культуры Украины Ю.А.Олененко и председателя Украинского фонда культуры Б.И.Олейника с просьбой попытаться разыскать архивы В.В.Голубева во Вьетнаме. Выслушав о моих поисках архивов, Александр Александрович познакомил меня со своей сотрудницей Мариной Калачевой и попросил вместе с ней попытаться разузнать что-нибудь еще о судьбе В.Голубева.
Во Французской школе Дальнего Востока
Появление Французской школы Дальнего Востока было предопределено: Франция укреплялась в своих заморских владениях, и нужен был центр по изучению культуры народов, населяющих эти регионы. Это научное учреждение существовало с 1900 года, центр его был в Ханое. Исследователи, работавшие в Школе, занимались проблемами истории, археологии, этнографии, филологии стран Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Многие из тех, кто так или иначе связан с этой Школой, отмечают, что приход сюда в 1920 году Виктора Голубева, которого звали здесь не иначе, как Голу, ознаменовал собой новую эпоху в судьбе этого заведения.
О его крупнейшей работе, посвященной Донгшонской культуре и принесшей ему мировую известность, я уже рассказывал выше. Но значительная часть жизни Голубева была связана с путешествиями по Камбодже и исследованиями древней кхмерской столицы — Ангкора. Вот что пишет об этой стороне деятельности В.Голубева Генри Маршал: «В течение многих лет я имел возможность работать с ним, помогать ему в исследованиях и определять расположение старого города, который предшествовал тому, который теперь известен под именем Ангкор-Тома и где центральным храмом является храм Байон. По неправильному толкованию описания время постройки Байона было первоначально отнесено к IX веку. Позднее исследованиями Филиппа Штерна и Жоржа Седеса эта дата была перенесена на конец XII века, но необходимо было еще исследовать, каким образом храм был воздвигнут на горе, в центре королевского города, о котором говорилось в малопонятном описании и про который думали, что это Байон; многочисленные гипотезы предлагались одна за другой, но ни одна из них не стала окончательной. Именно тогда мой старый друг Голу выдвинул свою гениальную идею; он подумал, что храм, посвященный девараджи, расположенный на горе, в центре первоначального города, основанного в Ангкоре королем Яшоварманом в IX веке, мог находиться вне территории города, известного под названием Ангкор-Тома; он предположил также, что Пхном Бакхенг, построенный на естественном возвышении подобно религиозному акрополю и относимый ко времени короля Яшовармана, и является искомым храмом; но нужно было подтвердить эту гипотезу доказательствами. В результате многочисленных поисков в джунглях Голу, основываясь на карте ансамбля Ангкора, снятой в 1909 году лейтенантами Буа и Дюкре, установил существование двойной насыпи, являющейся юго-восточным углом обширного квадрата, центр которого довольно точно соответствовал Пхном Бакхенгу».
... Эта двойная насыпь и сегодня очень ясно видна, когда пролетаешь на самолете над южной частью Ангкор-Вата перед посадкой на аэродром. Различные остатки укреплений, мостовые и прасат, относящиеся к эпохе Бакхенга, были позже вновь найдены при расчистке от джунглей подступов к холму и подтвердили высказанную гипотезу.
Впоследствии Голубев занимался самим городом Ангкор-Томом, где он обнаружил целую систему каналов, которая показала, что этот город был как бы дальневосточной Венецией, а один канал, продолжавшийся внутрь крепостных стен города, соответствовал первому поясу укреплений.
Очень интересными оказались и попытки привлечения авиации для решения археологических проблем. Еще в первую мировую войну Голубев имел возможность наблюдать землю с самолета. И вот во время полетов вместе с офицерами военно-воздушных сил Индокитая над развалинами Ангкора ему удалось увидеть то, чего не было заметно с земли: складки местности, дамбы, улицы, которые давали представление о старых городских развалинах и укрепленных позициях. Об использовании авиации и полученных с ее помощью результатах Виктор Викторович также писал в своих научных исследованиях.
За все эти археологические работы в 1935 году Виктору Викторовичу Голубеву была присуждена премия французской Академией надписей и художественной литературы.
В архивах Петербурга и Парижа
Чем больше материала о жизни и деятельности В.В.Голубева удавалось мне найти во Вьетнаме, тем яснее становилось, что необходимо обращаться в Париж, в саму Французскую школу Дальнего Востока. На письмо, отправленное в Школу, мне ответил новый директор ее библиотеки, Марсель Труляй. Именно ему я обязан тем, что в моем архиве, касающемся Голубева, появились новые сведения об этом ученом.
Оказалось, что в архиве Школы, находящемся в Париже, хранятся многие документы, касающиеся Виктора Викторовича, его фотографии и записные книжки. Более того, кроме этих сведений, М.Труляй прислал мне две статьи Луи Маллере, в которых жизнь и деятельность В.В.Голубева описаны наиболее полно и подробно. Кроме этого направления поиска, я решил попытаться что-нибудь узнать о В.В.Голубеве и в наших архивах: ведь в Санкт-Петербурге он родился, учился... Известно, какое сложное дело работать в архивах. Но Наталия Александровна Чекмарева из ЦГИА Ленинграда и Серафима Игоревна Варехова из ЦГИА СССР облегчили мне эту работу, насколько это было в их силах. Благодаря им удалось разыскать личные дела и самого Виктора Викторовича в период его учебы в университете, и дело его отца.
Личная трагедия
О личной жизни В.Голубева мало что известно. Как мог, он скрывал ее не только от посторонних, но и от своих близких и друзей. В одном из писем он просит даже журналиста, собиравшегося писать о его работах, касающихся археологических открытий в Ангкоре, не упоминать ни о его русском происхождении, ни о его связях с Россией и с царской семьей. «Для широкой публики я доктор Виктор Голубев, член Французской школы Дальнего Востока, археолог и искусствовед. И это все!»— писал он.
Тем не менее Луи Маллере, перу которого принадлежит наиболее полная биография Виктора Голубева, сообщает некоторые сведения и об этой стороне его жизни.
В сентябре 1900 года в Киеве состоялась свадьба Виктора Голубева и дочери киевского губернатора Наталии Кросс — красавицы из рода, как полагают, кавказских князей, которой в ту пору было 18 лет. До наших дней дошли и описание, и изображения Наталии парижского периода жизни Голубевых. Очаровательная «молодая женщина, очень высокая, очень бледная, очень белокурая, одетая в шиншиллу, с фигурой кошки, с высокими скулами, восходящими под треугольные светлые глаза» — так описывает ее в своих «Воспоминаниях» графиня де Грамон.
Близким другом семьи в Париже стал Огюст Роден, проявлявший, как и Виктор Голубев, живой интерес к искусству Азии. В его мастерской, на Университетской улице, Наталия подолгу позировала великому скульптору для бюста из мрамора, а чтобы скоротать время и развлечь и его, и себя — пела песни Шуберта. Мраморный бюст впоследствии пропал, но сохранился бронзовый бюст работы Родена.
Но это было позже. А после свадьбы молодожены уехали в Германию, где Голубев собирался продолжить свое образование. В первый же год их пребывания там у молодых супругов родился первенец, которого в честь деда назвали Виктором. В 1905 году, 15 декабря, когда Виктор и Наталия Голубевы уже прочно обосновались в Париже, у них родился второй сын — Иван. Впоследствии старший их сын вернулся в Россию со своей бабушкой, матерью Наталии. А следы младшего сына обнаруживаются во время войны в Испании, где он служил на Балеарских островах в ВМФ Франко.
Крепкое положение в обществе, любовь Виктора к своей жене, увлечение своей работой — ничто не предвещало резкого поворота жизни. Частые поездки в Италию были вызваны увлеченностью Виктора Голубева венецианским кватроченто. Будучи в Риме со своими детьми, 8 марта 1908 года Виктор и Наталия были представлены известному итальянскому писателю 45-летнему Габриэле Д"Аннунцио. Дата эта стала концом семейного счастья Виктора Голубева. Молодая женщина была очарована поэтом, и «из Венеции, куда она затем поехала, непреодолимая сила, в которой можно угадать древнюю силу рока, повлекла ее, как пяденицу, во Флоренцию, в небольшое местечко Сеттиньяно, еще все пропитанное воспоминаниями о детстве Микеланджело, где жил автор «Огня», но только в октябре она уступила своим терзаниям». Так пишет Луи Маллере.
Эта история стала широко известна французской публике после выхода в 1922 году французского перевода одной из сказок Д"Аннунцио, сюжет которой был выдуман автором, но в героине легко угадывались типичные черты Наталии. Литературная жизнь этой истории продолжалась и много позже, уже после смерти и писателя, и самой Наталии.
Конец Наталии был ужасен. Она умерла в 1941 году в холоде и нужде, в грязном отеле пригорода Парижа Медона. Хромая калека, одетая как нищенка, она питалась черствым хлебом и простоквашей. Когда бывало немного денег, она заходила в русский трактир на набережной Жавель, тратила там жалкие гроши на сигареты. Иногда, лишенная всего, отправлялась пешком по дороге из Медона в Париж, погруженная в свои воспоминания о славных днях молодости.
В.Голубев тяжело переживал уход Наталии к Габриэле Д"Аннунцио. И хотя никому ничего не говорил, продолжал любить ее, хранил слепок правой руки Наталии и по мере возможностей пытался помогать бывшей супруге. Говорят, что вся эта история была и одной из причин того, что Голубев отправился во Вьетнам — подальше от личных переживаний. А Италия с тех пор стала для него закрытой страной, и он даже не дописал третий том к уже вышедшим двум о рисунках Джакопо Беллини.
Кончина Голу
Луи Маллере, который побывал у Голубева незадолго до его кончины в Ханое, в одной из своих статей пишет, что на столике около кровати Виктора Викторовича стояла фотография белого дома в тени парка. Это был его дом на берегу Черного моря, в Сочи. Голубев хранил теплые воспоминания о своей родине, хотя декретом от 4 сентября 1925 года ему были предоставлены права французского гражданина.
После очередных конференций, лекций и встреч в Европе летом 1939 года Голубев вновь прибыл во Французский Индокитай, в Хайфон, и уже не покидал его. Началась вторая мировая война, и Индокитай оказался изолирован от Франции. Не имея возможности выбраться из Ханоя в Европу, с тревогой следил он за боевыми действиями немцев на восточном фронте. Сын его друга Николая Константиновича Рериха, Юрий, и Б.Н.Вампилов, авторы одной из публикаций, посвященных Голубеву в России, пишут, что «всю свою жизнь В.В.Голубев оставался патриотом. Сослуживцы В.В.Голубева передавали пишущим эти строки, что он особенно проникновенно говорил о победах советского оружия на полях минувшей Великой Отечественной войны и гордился участием членов своей семьи в рядах защитников родины».
В ноябре 1944 года у Виктора Викторовича обострилась болезнь почек, и ему пришлось лечь в клинику Святого Павла в Ханое. Она расположена буквально напротив советского посольства, и я проходил много раз мимо нее, даже не подозревая, что именно здесь прошли самые тяжелые месяцы жизни Виктора Викторовича.
До последнего момента он сохранял ясность ума и хорошее настроение. Генри Маршалу, написавшему некролог на смерть Голубева, главная сестра клиники, которая ухаживала за Виктором Викторовичем, рассказывала, что его моральный дух оставался крепким и он очень мужественно и с полным сознанием воспринял приближение своего конца.
У В.В.Голубева оставались книги, статьи, рукописи, наброски незавершенных статей, посвященных историко-этнографическому исследованию Индии, Китая, Французского Индокитая. Говорят, все это он завещал вьетнамскому народу. Но где это все теперь — в нашей стране до сих пор никому не известно. Нет сомнения, что очень многое находится во Французской школе Дальнего Востока, как я смог убедиться после переписки с Марселем Труляем. Но нет сомнения и в том, что многое осталось и у нас в стране. И, главное, есть попытки восстановить утраченное для России имя: Русским Географическим обществом намечено проведение конференции, посвященной Виктору Викторовичу Голубеву.
19 апреля 1945 года Виктор Викторович Голубев был похоронен на ханойском кладбище для европейцев. Ситуация во Вьетнаме была такая, что были запрещены многолюдные шествия и собрания людей. И только три человека из Французской школы Дальнего Востока — ее директор Жорж Седее, Поль Леви и преданный Голубеву Нгуен Ван То провожали покойного на кладбище, расположенное на улице Сержанта Ларриве, что неподалеку от Библиотеки имени Пьера Паскьера, бывшего губернатора Индокитая. Но там все-таки собрались многие друзья Голубева, приходившие туда поодиночке. Потом точно так же, поодиночке, они расходились с кладбища.
Теперь о кладбище, находившемся когда-то около Национальной библиотеки Вьетнама, ничто не напоминает. Да и людей, помнящих те времена, почти не осталось. Здесь центр Ханоя, здесь расположился один из многочисленных рынков, здесь кипит жизнь. Жизнь эта распорядилась так, что и после смерти прах В.Голубева, этого неутомимого путешественника, не обрел покоя. Могила Виктора Викторовича Голубева была заброшена, и имя его на ней было искажено. Луи Маллере в 1950 году пытался ее восстановить, насколько мог. А в 1962 году многие кладбища Ханоя, а потом Хайфона и других мест бывшего Тонкина были ликвидированы. Останки Виктора Викторовича Голубева и многих
других, покоившихся на кладбище, были перевезены во Францию, где и перезахоронены. Там наконец и обрел вечный покой этот выдающийся человек, в равной степени гражданин России, Франции и Индокитая...
Вячеслав Рожнов Фото автора
(обратно)
Альтдорфская примета. Джеймс Пауэлл
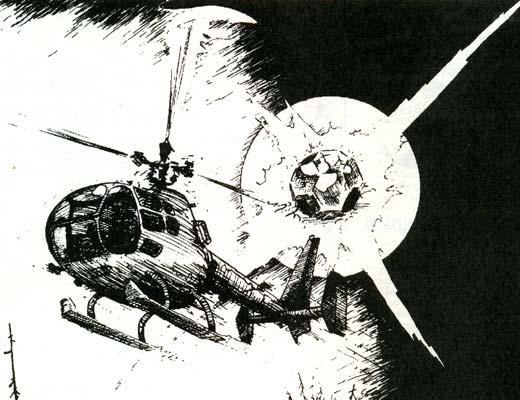
Оформляя билет на вертолет, девушка спросила мое имя.
— Филип Макграт, — сказал я.
И чуть было не добавил: новый вице-президент по вопросам экспорта фирмы «Спиртные напитки Э.П.Макграта».
Но промолчал и уселся на скамью, где другие пассажиры, тепло одетые и обмотанные шарфами, ожидали очередного рейса.
Я решил совершить путешествие от одного чикагского аэропорта до другого на вертолете, потому что раньше на вертолете никогда не летал. Я мог позволить себе маленький праздник. Ведь отныне мне уже не придется торчать в родном офисе в Торонто под боком у Э.П.Макграта. Может быть, у сынков других боссов другие заботы. Но лично мне в последнее время становилось все труднее и труднее выносить присутствие своего родителя.
Поглядев на него сегодня, вы ни за что не поверите, что этот самый человек догадался проложить медные трубы по дну реки Ниагары и качать виски с канадской стороны на американскую. Или что некогда близ мыса Гаттерас береговая охрана потопила его шхуну с контрабандным спиртным. В те времена он звался Фрэнчи Макграт, цедил слова сквозь зубы, крикливо одевался и носил канотье. К концу эпохи сухого закона он так нажился на контрабанде, что откупил дело своего главного поставщика и стал почтенным владельцем фирмы спиртных напитков.
Образ преуспевающего махинатора канадцы позаимствовали в США, но представление о респектабельности у нас сугубо английское. Поэтому папаша перестал подражать американскому гангстеру Алкапоне и приобрел манеры чопорного английского полковника.
Наш шофер Спэтс Ларкин, с детства потчевавший меня историями о прежних делишках отца, считает, что начало этого преображения пришлось на то время, когда папаша принялся ухаживать за моей будущей матерью. Тогда-то он и сменил «паккард» на «роллс-ройс», перестал садиться рядом с шофером и начал называть Спэтса «Жозеф».
— Мистер Макграт?
Я поднял голову. Человек в унтах и меховой куртке выкликнул мое имя по списку. Я встал, и он указал мне на дверь, ведущую на поле. Прочие пассажиры остались ожидать другого рейса. Я должен был лететь один.
Человек в унтах взял мой чемодан и, не говоря ни слова, двинулся по ярко освещенному прожекторами летному полю. Я поспешил за ним. Вертолет стоял на краю бетонной дорожки прямо за прожекторами. Он был маленький, тускло-черный, совсем старый.
За кабиной пилота размещались два пассажирских отделения с самостоятельными дверями, напоминавшие купе на английских железных дорогах.
Стены оказались отделаны темным лакированным деревом, а расположенные друг против друга кресла были покрыты каким-то ворсистым материалом, который я видел только в детстве в старинных вагонах на железной дороге, когда добирался за тридевять земель до летнего лагеря.
Сомнений не было, мне предстояло путешествие в самом что ни на есть допотопном вертолете.
Человек в унтах похлопал ладонью по стеклу кабины. Винт закрутился, и через несколько мгновений вертолет, чуть накренившись вперед, поднялся с земли. Этот крен да вдобавок тряска при полете превратили купе в настоящий старый дилижанс. Казалось, в любую минуту на нас могут напасть индейцы или снаружи просунется пара пистолетов и грабитель гаркнет: «Стой! Выкладывай деньги и вещи!»
— Далеко ли путь держите?
Я отпрянул от иллюминатора. Напротив смутно различалось чье-то лицо, наполовину скрытое воротником и шляпой. По крайней мере так казалось в сумраке.
— В Омаху,— ответил я.
— А! — последовало в ответ.
— А вы?
— В Блитцен, — сказал мой спутник. — Из Альтдорфа в Блитцен.
— Ага,— протянул я, не имея ни малейшего представления, где расположены оба этих места. — Конец немалый.
— Десять лиг, — сказал он. — Иными словами, около тридцати миль. Я нахожусь в пути с тысяча семьсот шестьдесят третьего года.
Я засмеялся.
— Очевидно, вас здорово подвело расписание.
В ответ он даже не улыбнулся.
— Разрешите представиться. Барон Гриндельвальд, адъютант герцога Альтдорфского.
— Филип Макграт, вице-президент по вопросам экспорта фирмы «Спиртные напитки Э.П.Макграта».
— Виски...— произнес он задумчиво. — Жаль. Боюсь, это вам мало поможет. Однако ближе к делу. Если моя история прозвучит несколько заученно, то это потому, что я рассказываю ее далеко не в первый раз. Разумеется, вы можете в любое время прерывать меня вопросами. Но я настоятельно советую вам задавать их только по существу. Например, обычно я начинаю с того, что я родился в тысяча семьсот двадцать пятом году. Значит, либо мне двести пятьдесят лет от роду, либо я буйно помешанный. На размышления по этому поводу я не советую тратить оставшееся у вас время. В вашем положении это бесполезно.
— Простите, а... в каком я положении? — спросил я.
— Сейчас вам все станет совершенно понятно,— ответил мой спутник.— Итак, начнем. Герцогство Альтдорфское было мельчайшим из мелких немецких государств восемнадцатого века. Его площадь не составляла и пятидесяти квадратных миль, и только один город по праву мог называться городом —сам Альтдорф. Основным источником дохода для герцога Карла Людвига служило его маленькое войско в пять сотен солдат, которых он отдавал внаем любому, кто мог хорошо заплатить. Помимо общей, так сказать, ренты за своих ландскнехтов, герцог получал определенную денежную компенсацию за любую рану и особую сумму за каждого убитого. Мой отец, который имел счастье лишиться руки в одном сражении, ноги во втором, глаза в третьем и, наконец, умер от ран, полученных в четвертом, был для герцога Карла Людвига идеалом солдата. Из уважения к памяти моего отца герцог назначил меня своим адъютантом.
Альтдорфский замок сохранил дух мрачного средневековья, а при герцогском дворе господствовала умеренность и старомодность. Никто бы не сказал, что герцог был расточителен в своем гостеприимстве. Гостям он предлагал только те развлечения, которые ему ничего не стоили — например, катание в лодках по крепостному рву. Свое долгожительство герцог объяснял постоянными физическими упражнениями, заключавшимися в том, что его верный слуга Оскар каждое утро несколько раз катал его в лодке вокруг замка в сопровождении гостей, почтительно следовавших позади.
Старомодность двора подчеркивала старая, состоявшая из ветеранов — стариков гренадеров в черно-желтых мундирах стража. Любо было смотреть, как эти старые служаки, высоченные и прямые, будто шомпола, топали ботфортами и вытягивались в струнку при появлении герцога, неверными шажками спускавшегося в залу. Откашлявшись, стражники хрипло восклицали: «Их светлость герцог!» Нередко они умирали от старости прямо на посту. Мне приходилось постоянно предупреждать гостей герцога, чтобы те остерегались падающих стражников.
Впрочем, не будем отвлекаться. Суть дела в том, что однажды вечером в замке случилась кража. Пропала Золотая звезда Альтдорфа, четвертый по величине бриллиант Европы, гордость герцогской сокровищницы. Мне приказали найти бриллиант и разыскать вора за сутки, иначе меня ожидала виселица. Я не сумел выполнить приказ. Вместо того чтобы смириться со своей участью, как того требует присяга, я улизнул из замка и сел на дилижанс, отправлявшийся в Блитцен. У меня были приятнейшие воспоминания об этом городке, расположенном сразу же за границей герцогства. Я вырос там и могу засвидетельствовать, что за исключением праздников, когда на церковной колокольне раздается оглушительный трезвон, этот город самый тихий уголок на свете.
И вот уже два века с лишним я нахожусь в пути и все еще не могу добраться до цели. Вскоре я понял, что верность присяге и собственная любознательность не позволят мне доехать до Блитцена, пока я не узнаю имени вора и местонахождение бриллианта, так и не выясненное, несмотря на мои тщательнейшие поиски.
За время путешествия мне довелось пользоваться, вероятно, всеми средствами передвижения, изобретенными человечеством. Я засыпал в Восточном экспрессе и просыпался в долбленом челноке на реке Ориноко, или на карусели в парке отдыха, или в нартах, влекомых по льду собачьей упряжкой. Каждый раз мне попадался попутчик, и я рассказывал свою историю то вежливому японскому офицеру в карликовой подводной лодке, то махарадже на спине у слона во время охоты на тигров. Например, до того как проснуться здесь, я находился в вагончике канатной дороги и совершал путешествие между двумя альпийскими вершинами в компании швейцарского торговца шоколадом герра Кнаппа.
История человека, путешествующего сквозь время, чтобы раскрыть загадку двухвековой давности, без сомнения, покажется вам бредом безумца или причудливой выдумкой. Сам я нахожу это занятие довольно скучным. Я никогда не любил путешествовать. Находишься ни здесь, ни там, а где-то между. Когда без конца рассказываешь одну и ту же историю и вынужден выслушивать одни и те же жалкие догадки, время тянется ужасно медленно. Когда же я, наконец, попаду в Блитцен!
— Нда... Нелегкое у вас положение,— сказал я.
— Нелегкое положение у нас с вами, мистер Макграт, — подчеркнул он.— Видите ли, если вы не разгадаете моей загадки, я убью вас.
Из темноты появился небольшой пистолет. Вероятно, мой спутник достал его из кармана.
— Извините,— продолжал он.— Это сравнительно недавнее добавление к моему рассказу, но, увы, оно необходимо. В прошлом, когда путешествия продолжались дольше, не было ничего лучше хорошей загадки, чтобы время бежало быстрее. Но с начала этого века попутчики обычно теряют всякий интерес к моей истории, как только выясняется, что для ее решения надо поработать мозгами. Чем это объяснить, мистер Макграт, распространением прессы, кинематографа, радио, телевидения? Итак, мне пришлось прибегнуть к стимулирующему средству. Вот оно,— и он указал на пистолет.
— Сначала я предполагал ограничиться только угрозой. Никогда не забуду тот единственный случай, когда я попытался это проделать. Я задремал, а когда проснулся, обнаружил, что нахожусь по пояс в воде в спасательной шлюпке с «Титаника» вместе с каким-то пожилым мужчиной в вечернем костюме. Лунный свет, помнится, отражался в рубиновой булавке на его крахмальной рубашке. Я представился, ввел его в курс дела и заявил, что застрелю его, если он не разгадает моей загадки. Помню, как он истерически захохотал, услышав мою угрозу. Сомневаюсь, дошло ли до него хоть одно слово моего рассказа. Он не отрываясь глядел на волны, перекатывавшиеся через борт, и сорванным голосом бормотал под нос полузабытые псалмы, заученные в детстве. Тогда-то я и понял, что угроза будет звучать неубедительно, если я не готов привести ее в исполнение. Теперь вам ясно, что вопрос о том, кто я такой, двухсотпятидесятилетний старец или буйный сумасшедший, никак не отразится на вашей участи. В любом случае этот пистолет вполне реален, и, будьте уверены, я воспользуюсь им.
Он говорил спокойно, и у меня не было причин сомневаться в его словах.
— А что сталось со швейцарским торговцем шоколадом герром Кнаппом? — спросил я.
— Бедняга Кнапп. Он так настаивал на том, что бриллиант кто-то проглотил. Я объяснил, что это не могло произойти. Под конец он совсем впал в отчаянье и, чтобы доказать, что такой вариант возможен, сам принялся глотать монеты и ключи. Он как раз давился часами с браслетом, когда я пристрелил его.
Барон Гриндельвальд немного помолчал.
— Ну-с, позволите ли продолжать мой рассказ?
— Вряд ли у меня есть выбор,— заметил я.
— Прекрасно,— сказал он.— Рад, что вы это поняли. Итак, и в тот вечер, когда случилась кража, герцог и его гости обедали в малой трапезной на четвертом этаже замка. После обеда герцог объявил, что мы будем играть в «найди булавочку», очень популярную игру моего времени. Водящий выходит из комнаты. Прячут булавку или какую-нибудь другую вещицу. Пока он ищет, остальные играющие барабанят ладонями по столу. По мере того, как он приближается к вещи, стучат громче, а если он удаляется от нее, стучат тише. После обеда герцог был не прочь вздремнуть за столом, потому-то он и любил эту игру, ибо громкий стук пробуждал его в заключительные, самые волнующие мгновения.
Слуга герцога Оскар внес в трапезную небольшой сейф. Я понял, что это значило. Время от времени один или два раза в год герцогу доставляло удовольствие играть в «найди булавочку» Золотой звездой Альтдорфа. Подобное развлечение для гостей было вполне в его духе — экстравагантно и без всяких расходов. Возможно, он хотел произвести впечатление на своего случайного гостя, графа Штокхорна, прибывшего утром того рокового дня.
Герцог открыл сейф и, удовлетворенно хихикая, достал оттуда бесценный бриллиант. Надо сказать, что с этого мгновения и до того момента, когда обнаружилась кража, ни одна душа не входила и не выходила из комнаты.
Для начала герцог передал бриллиант по кругу, чтобы каждый мог оценить великолепный камень. Пока бриллиант передают по кругу, разрешите представить вам гостей. Я сидел слева от герцога и, так как видел бриллиант до этого неоднократно, быстро передал его графу Штокхорну. Граф слыл щедрым покровителем литературы, а с недавнего времени и науки. Осмотрев бриллиант, он передал его Леонии фон Гаслебург, восемнадцатилетней красавице. Леония и ее мать постоянно приглашались на приемы в замок. Могу лично свидетельствовать, что девушка была глупа, как пробка.
Она охала и ахала, восхищаясь бриллиантом, а потом передала его некоему субъекту, называвшему себя маркиз де Карабас. За неделю до происшествия карету герцога остановил на сельской дороге какой-то наглый слуга в огромных сапожищах. Покручивая усы, слуга наплел герцогу невероятную историю, будто бы у его хозяина маркиза де Карабаса украли одежду, пока маркиз купался в пруду. С тех пор маркиз де Карабас — настоящий мошенник, могу поклясться! — торчал у нас в замке. Он носил одежду с чужого плеча и уверял, что ожидает откуда-то денег, которые позволят ему продолжить странствия.
Маркиз вручил бриллиант Вольфгангу Брюнигу, бледному, бедно одетому юноше, отпрыску почтенного, но обедневшего рода. Брюниг был довольно известным поэтом. Его доктора, как я слышал, считали, что без продолжительного лечения в Италии он не успеет закончить труд своей жизни, пространную поэму о молодом человеке, сошедшем с ума от любви. Брюниг пылко взглянул на Золотую звезду, как на солнце Италии, а затем передал ее баронессе фон Гаслебург.
Баронесса, старая корыстная карга, была во многих отношениях схожа нравом с герцогом Альтдорфским. Она мечтала поймать для красавицы Леонии состоятельного мужа, который увеличил бы богатство фон Гаслебургов.
Из рук баронессы бриллиант перешел к последнему гостю, капитану герцогского войска шотландцу Мактавишу. Отец капитана Мактавиша лишился титула и поместьев в тысяча семьсот сорок пятом году, поддержав в борьбе за престол не того претендента. Капитан считал делом чести выкупить поросшие вереском бесплодные поля, принадлежавшие некогда его предкам. Увы, он собирался сделать это, женившись на старой баронессе фон Гаслебург. Как выразился один молодой щеголь, которого потом я вынужден был прикончить, прострелив его роскошную енотовую шубу, капитан Мактавиш весь тот вечер строил баронессе глазки. В конце концов капитан Мактавиш нехотя вернул бесценный бриллиант герцогу.
На этот раз герцог придвинул бриллиант графу Штокхорну. Это означало, что графу первому предстоит спрятать камень и выбрать ведущего. Пока прятали камень, ведущего обычно отсылали в задернутый занавесом альков, имевший выход только в трапезную. Граф еще раз полюбовался бриллиантом, а затем оглядел присутствовавших, выбирая, кого бы отослать в альков. Рассматривая гостей, граф небрежно подбрасывал камень в воздух и ловил его. Быть может, графа забавляли лица гостей, ибо на каждой физиономии было написано страстное желание любой ценой завладеть бесценным бриллиантом.
Наконец баронесса фон Гаслебург воскликнула:
— Перестаньте, сударь! Вы действуете мне на нервы!
— Повинуюсь, мадам,— ответил граф. Он перестал подбрасывать бриллиант и, повернувшись к герцогу, заметил, что в последнее время драгоценные камни стали интересовать его все больше и больше. Герцог захихикал и предложил графу купить Золотую звезду за астрономическую сумму. Граф вежливо отказался. Вернувшись к игре, он выбрал в ведущие баронессу и предложил ей выйти из комнаты.
Когда она, опираясь на палку, проковыляла в альков, граф спрятал камень в ящик секретера, стоявшего в простенке между окнами. Сперва меня удивило такое отсутствие изобретательности. Думаю, что как галантный кавалер он просто хотел облегчить задачу баронессе, надо сказать, страшно близорукой. Мы начали барабанить по столу, и, руководствуясь нашим стуком, баронесса направилась, наконец, к секретеру, и, когда она выдвинула ящик, мы все вежливо зааплодировали. Но даже тогда из-за своего слабого зрения она не сразу разглядела бриллиант. Обнаружив камень, она вернула его герцогу.
Теперь вы поняли, как играют в эту игру. Должен заметить, что игра становится гораздо интереснее, когда прячется вещица поменьше, чем Золотая звезда.
Герцог придвинул бриллиант следующему из сидевших за столом, поэту Брюнигу. Вспыхнув, поэт остановил свой выбор на прекрасной Леонии, и та направилась в альков. Брюниг спрятал бриллиант среди лепестков розы в вазе с цветами, стоявшей на буфете. Леония была чрезвычайно глупа, поэтому ей понадобилось немало времени, чтобы обнаружить бриллиант. Однако я заметил, что, когда она нашла камень, она быстро спрятала за корсаж платья какой-то предмет.
Смею заметить, все мы знали, что Брюниг был безумно влюблен в Леонию, а она обращала внимание лишь на маркиза де Карабаса. Карабасу не нравилось, что Брюниг ухаживал за Леонией, и это, возможно, послужило причиной следующего пустячного инцидента. Пока Леония возвращала бриллиант герцогу, Брюниг в очередной раз достал из кармана табакерку, дешевую деревянную коробочку, из которой все время сыпался табак.
Карабас принюхался и воскликнул с ухмылкой:
— Какая шикарная табакерка, сударь!
Услышать такое от негодяя, которому не принадлежит даже его одежда! От оскорбления кровь бросилась в лицо Брюнигу. Однако в то же мгновение граф Штокхорн обернулся к поэту и промолвил:
— Как почитатель вашего таланта я считал бы большой честью для себя иметь вашу табакерку, о которой я говорил бы, что она некогда принадлежала самому Вольфгангу Брюнигу. Не смея просить ее в дар, предлагаю вам обменяться табакерками со мной.
И граф Штокхорн вынул серебряную табакерку самой тонкой работы. Это был великолепный жест. Граф говорил с такой сердечностью, что Брюниг принял его предложение. Этим не исчерпывалось великодушие графа, проявившего такую деликатность по отношению к гордому бедняку.
— Сударь, — продолжил граф,—возможно, новая табакерка покажется вам слишком вычурной, как это иногда кажется мне самому. Все ж она дорога мне как семейная реликвия. Если вам когда-нибудь захочется расстаться с новой табакеркой, я буду рад получить ее назад и возмещу вам ее вес в золоте.
Видите ли, мистер Макграт, граф Штокхорн был настоящим джентльменом, а Карабас просто-напросто мошенником. Происхождение всегда сказывается.
Впрочем, вернемся к игре. На этот раз герцог передал бриллиант мне. Пока я прикидывал, куда бы его спрятать похитрее, я машинально сделал камнем несколько царапин на основании своего бокала. Позже, я думаю, вы оцените всю важность этого факта. Я выбрал капитана Мактавиша, и тот удалился в альков. Я спрятал бриллиант в пудреный парик слуги Оскара и приказал ему во время поисков раза два пройтись от стола к буфету, чтобы сбить капитана со следа.
Должен пояснить, что во время игры все мы пили вино, но слуга подавал только герцогу. Кувшины с вином стояли на буфете вместе с блюдом сушеной рыбы, которую мы ели с солью, перцем и черным хлебом. Оскар прислуживал герцогу, а остальные сами выходили из-за стола и брали вино и закуску, причем мужчины прислуживали дамам. Между прочим, Карабас уверял, что герцогское дрянное желтое вино самого высшего качества, и хлестал его, как лошадь.
Ко всеобщему удовольствию моя маленькая хитрость на время озадачила капитана Мактавиша. В конце концов, капитан понял, почему мы так бессистемно барабанили по столу и со страшным шотландским ругательством обнаружил бриллиант.
Затем бриллиант перешел к баронессе, и она выслала в альков меня. Я быстро нашел камень в футляре бронзовых настольных часов. Следующим на очереди был Карабас. Он забрался на кресло и, восхваляя собственную сообразительность, спрятал бриллиант среди хрустальных подвесок люстры. Графа, однако, это не смутило, и он нашел камень за считанные минуты.
Потом Леония простодушным намеком спрятала бриллиант во вторую цветочную вазу среди незабудок. Нахальный Карабас мгновенно отыскал его и вернул герцогу. Затем капитан Мактавиш засунул камень в обивку кресла, где Брюниг через некоторое время обнаружил его. После этого герцог передал камень мне. Я отправил в альков графа Штокхорна.
Тут я совершил оплошность. Я хотел спрятать бриллиант в массивную серебряную солонку, но в ней оказалось слишком мало соли, чтобы прикрыть камень. Поэтому я положил его в перечницу, откуда вылетело облако перца прямо мне в лицо, и я расчихался. Конечно, граф услышал и сразу же догадался, где спрятан бриллиант. Граф, впрочем, похвалил меня за остроумный выбор и уверял, что никогда не нашел бы камня, если бы мой нос не выдал меня. Граф был настоящим джентльменом. Происхождение всегда сказывается.
Теперь расскажу о том, как была обнаружена кража.
Герцог придвинул бриллиант баронессе фон Гаслебург. Баронесса не успела схватить его, камень свалился со стола и... разбился вдребезги о мраморный пол.
Все присутствующие замерли от удивления. Разумеется, настоящий бриллиант не мог расколоться. Кто-то подменил Золотую звезду Альтдорфа стеклянной имитацией.
Герцог закричал:
— Гриндельвальд, разберись!
И я немедленно объявил, что все присутствующие должны быть обысканы. Герцог сказал, что раз уж он вынужден подвергать гостей подобному унижению, он разрешает обыскать и самого себя.
Я вызвал в помещение двух стражников и приказал им проследить, чтобы все гости оставались на своих местах. Потом я провел герцога и Оскара в соседнюю комнату, где я тщательно обыскал герцога с головы до ног.
— Гриндельвальд, — сказал герцог, — разыщи мой бриллиант и найди вора. Срок сутки. Если не справишься, повешу.
Когда герцог произносил эти слова, он был совершенно голый. Но я знал, что он выполнит свою угрозу.
Затем я обыскал Оскара, а тот, в присутствии герцога, обыскал меня. После чего я послал за своей женой, сообщил ей об ожидающей меня участи и велел ей в другой комнате обыскать женщин, пока я обработаю всех мужчин.
Что же мы обнаружили? Кое-что нашлось, но, увы, бриллианта не было и в помине. Обыскивая капитана Мактавиша, я, например, нашел на нем четыре серебряных ложечки, украденных у герцога. Поэт Брюниг набил один карман сушеной рыбой, а другой — черным хлебом. Учитывая важность произошедшего, я даже не донес герцогу об этих мелких кражах. Однако на ногах у так называемого маркиза де Карабаса я обнаружил шрамы от кандалов, и эта находка была куда серьезнее. Из мужчин только граф Штокхорн успешно прошел процедуру обыска. В его карманах не было найдено ничего, кроме носового платка, нескольких монет и двух-трех ключей. Это вызвало мои подозрения, и я обыскал его еще раз, но не нашел ничего нового.
В это время моя жена обнаружила в рукоятке палки баронессы фон Гаслебург потайное отделение, достаточно большое, чтобы там можно было спрятать камень. Но потайное отделение оказалось пустым. Осматривая Леонию, супруга натолкнулась на два листка бумаги. На одном из них было начертано стихотворение, озаглавленное «К Леонии», в котором Брюниг сравнивал ее с луной, розой и ранней весенней малиновкой. Насколько мне известно, стихи эти позже были положены на музыку Францем Шубертом. Второй листок представлял собой записку от Карабаса, в которой он напоминал Леонии о назначенном на вечер побеге и умолял ее захватить с собой все фамильные ценности, чтобы в будущем можно было вести жизнь, посвященную одной только любви, свободную от низменных материальных забот простых смертных. Надо ли говорить, какое величайшее удовлетворение я испытывал, глядя, как Карабаса под конвоем ведут в темницу, где после небольшого допроса с пристрастием он быстро сознался в том, что он мошенник, бродячий лудильщик, бежавший с каторги, куда угодил за кражу.
После обыска гостей отправили в их комнаты. Подыскали помещение и для Брюнига с Мактавишем, которые не ночевали в замке и были приглашены только на обед. Обыскав последнего из гостей, я понял, что бриллиант мог находиться только в трапезной или в алькове. Уверяю вас, за весь вечер окна в трапезной не открывались ни разу. Предположим, что вор швырнул бриллиант из окна алькова в ров? Предположим, что Золотая звезда лежит на дне, на глубине пятнадцати футов, или плавает на поверхности, заключенная в какой-нибудь легкий предмет или прикрепленная к нему, дожидаясь, чтобы вор подобрал ее во время ежедневной лодочной прогулки?
Я послал гонца во Франкфурт-на-Майне срочно нанять и немедленно доставить в Альтдорф искусных ныряльщиков. Затем я приказал начальнику стражи выслать людей в лодках с факелами и выловить все, что плавает во рву.
— А вдруг у вора имелся сообщник, ждавший в лодке под окнами и скрывшийся до того, как начались розыски? — спросил я.
— Наверное, вы имеет в виду слугу Карабаса, малого в сапогах? — предположил барон Гриндельвальд.— Он весь вечер торчал в караулке, обыгрывая старых солдат краплеными картами, и быстро оказался в одной темнице со своим хозяином. Нет, сообщничество начисто исключается. На всем протяжении рва на равном расстоянии друг от друга находились будки с часовыми. Больше всего в жизни герцог любил послать какого-нибудь шестидесятилетнего гренадера сквозь строй за незначительный служебный промах. Так что не сомневайтесь, гвардия ветеранов была стара, но бдительна.
Покончив с гостями и распорядившись насчет рва, я вернулся в трапезную и обыскал ее и альков тщательнейшим образом, пядь за пядью. Я не нашел ничего. Ровно ничего. Верьте мне, бриллианта там не было. Но тогда где же он? Ага, вы хотите что-то спросить, мистер Макграт?
— Помнится, вы сказали, что герцог использовал бриллиант Золотая звезда для игры в «найди булавочку», один или два раза в год по вдохновению?
— Совершенно верно,— сказал барон.
— Следовательно, вор имел заранее обдуманный план кражи, загодя подготовив для подлога имитацию драгоценного камня?
— Верно и на этот раз,— отозвался мой спутник.
— Теперь, если потайное отделение в рукоятке палки баронессы фон Гаслебург было достаточно велико для того, чтобы вместить Золотую звезду Альтдорфа, оно было достаточно велико и для того, чтобы вместить подделку?
— Верно и это,— сказал барон.— Старую баронессу часто приглашали в замок, поэтому можно предположить, что она постоянно носила с собой имитацию камня, терпеливо ожидая удобного случая для подмены. Но ведь сама подмена нужна для того, чтобы кража осталась незамеченной и баронесса смогла бы в конце вечера вынести подлинный бриллиант в своей клюке.
— Возможно, она сумела как-то по-другому избавиться от камня,— сказал я,— Ведь подмена была обнаружена случайно.
— Может быть, и так,— произнес барон Гриндельвальд.— Тогда остается выяснить, что она сделала с камнем, и объяснить еще один весьма интересный факт. Я абсолютно уверен, что, когда фальшивый камень был передан ей в последний раз, баронесса нарочно уронила его на пол, где он и разбился. Вероятнее всего, потайное отделение в ее клюке предназначалось для нюхательного табака, ведь в ее возрасте многие женщины имеют эту тайную слабость.
— Ну, хорошо,— сказал я.— А что вы думаете о серебряной табакерке графа Штокхорна? Той самой, которую он подарил Брюнигу.
— Да,— подхватил барон,— граф вполне мог спрятать бриллиант в табакерку, обменяться с Брюнигом, а позже выкупить свою табакерку у бедного поэта, против чего тот не сумел бы возразить. В случае раскрытия кражи не граф, а Брюниг рисковал быть пойманным на месте как вор. Вашей версии, однако, противоречат три факта. Во-первых, откуда графу знать, что бриллиант используют для игры именно в этот вечер? А ведь стеклянная подделка была наготове. Во-вторых, я внимательнейшим образом обследовал серебряную табакерку и могу поклясться, в ней не было секретных отделений. И в-третьих, в момент передачи табакерки Брюнигу подлинная Золотая звезда Альтдорфа еще находилась в игре. Как сказано, я сам совершенно случайно подтвердил это, царапая бриллиантом основание своего бокала.
Я почувствовал, что теряю надежду.
— Тогда вино,— предположил я.— Судя по названию, Золотая звезда была желтоватой, как и вино. Вы отметили, что Карабас хвалил вино. Предположим...
Гриндельвальд расхохотался.
— Я знал, что рано или поздно вы к этому придете! — воскликнул он.— Каждый предлагает решение моей тайны, руководствуясь своим профессиональным опытом. Я так часто сталкиваюсь с этим явлением, что назвал его альтдорфской приметой. Помните швейцарского торговца шоколадом герра Кнаппа, уверявшего, что бриллиант проглотили, как леденец? Я встречал краснодеревщиков, клявшихся, что мебель в трапезной имела потайные отделения, сапожников, которые настаивали на том, что бриллиант был вынесен в выдолбленном каблуке башмака, и рыбаков, полагавших, что Брюниг спрятал бриллиант в сушеной рыбе. Вы торгуете виски, поэтому в первую очередь подумали о спиртном. Альтдорфская болезнь. Хотя предположение насчет вина не лишено остроумия. Благодаря своему цвету бриллиант был бы почти невидим в вине. Но дело в том, что, обыскивая комнату, я вылил все вино из бокалов и кувшинов, процедив его через собственные пальцы. Вот почему, как я говорил вам в самом начале нашей беседы, боюсь, что профессия, связанная с виски, вряд ли вам поможет, если вы, конечно, не думаете, что вор запил камень вином, как пилюлю.
Я порывался еще что-то сказать, но Гриндельвальд остановил меня.
— Минуту,— произнес он.— Я должен рассказать вам, что я предпринял после безрезультатного обыска трапезной и алькова. Я вызвал дворцового плотника и приказал ему просверлить в дубовой планке отверстие, несколько меньшее, чем диаметр Золотой звезды. Затем трое верных слуг под моим надзором измельчили все предметы, находившиеся в трапезной и алькове,— стол, кресла, буфет, люстры, столовое серебро, гобелены. Все было раздроблено, разрублено, сплющено и разорвано на мельчайшие кусочки, проходившие через отверстие в дубовой планке. Когда начальник стражи явился с подобранной на воде во рву добычей — четыре дохлые крысы и куча мусора,— ее тоже протащили через отверстие.
Рассвет застал меня одного в совершенно голом помещении. Ничто в нем не укрылось от осмотра, но бриллианта я так и не нашел.— Барон замолчал.— У вас есть ко мне вопросы, мистер Макграт? — спросил он.— Надеюсь, вы не потеряли интереса к моей истории, ведь она касается и вас.
— Я внимательно слушаю,— ответил я.— Просто мне кое-что пришло в голову.
— Искренне надеюсь, что вы близки к разгадке,— сказал Гриндельвальд,— ибо мы, кажется, начинаем снижаться, а это значит, что ваше время на исходе. Мне осталось рассказать немногое. От виселицы меня отделяла только одна-единственная надежда, что бриллиант лежит на дне рва. Ныряльщики прибыли к полудню. Я приказал им немедленно приняться за работу и достать со дна рва все, что они там увидят. К тому времени я совсем потерял надежду. Герцог и гости катались в лодках вокруг замка, и каждый раз, поравнявшись со мной, герцог зловеще восклицал: «Двадцать четыре часа, Гриндельвальд!» Ничего не знавшие об ожидавшей меня участи гости занимались своими делами. Поскольку негодяй Карабас пребывал в темнице, Брюниг катал в лодке Леонию, красота которой так заворожила его, что он несколько раз тыкался бортом лодки о стенки рва. Бедный капитан Мактавиш сидел в лодке с баронессой и строил ей глазки, мечтая добиться ее руки, высохшей от старости. Находившийся в отдельной лодке граф Штокхорн приглашал меня составить ему компанию, но я отказался.
Ныряльщики обшаривали дно рва целых пять часов и ничего не нашли. Я предложил им попытать счастья еще раз, посулив золото из собственного кармана. Перед заходом солнца, продрогшие и усталые, они вылезли из рва с пустыми руками. Во дворе замка уже стучали молотки плотников, сколачивавших виселицу. Я написал жене, что буду ждать ее за пределами герцогства, и сел в дилижанс, отправлявшийся из Альтдорфа в Блитцен. Я до сих пор не могу добраться до места. Зато ваши странствия теперь закончены навсегда. Если, конечно, вы не разгадали эту загадку.
Снизу на нас надвигались здания и огни. Вертолет приземлился на краю бетонной дорожки, мотор заглох, и винты постепенно замедляли свое вращение.
— Что же вы хотите узнать сперва — кто оказался вором или как бриллиант ускользнул от вас? — спросил я.
Гриндельвальд недоверчиво засмеялся.
— Самое интересное оставим напоследок,— сказал он. — Сначала назовите мне имя вора.
— Граф Штокхорн,— произнес я.
— В таком случае,— устало сказал барон,— вы должны убедить меня, что благодаря невероятному совпадению у графа оказалась с собой стеклянная имитация Золотой звезды и именно в тот вечер, когда она смогла пригодиться.
— Фальшивый камень не принадлежал графу,— сказал я. — Его принесла баронесса фон Гаслебург.
— Тогда зачем же она нарочно разбила его об пол?
— Потому что хотела разоблачить кражу.
Барон недоверчиво хмыкнул и поднял пистолет.
— Постойте,— сказал я.— Прежде чем началась игра, камень побывал в руках у всех сидевших за столом. Герцог вручил его вам. Вы передали его графу Штокхорну, и тот, убедившись, что это подлинный бриллиант, отдал его Леонии. Так камень обошел всех гостей и возвратился к герцогу. Герцог придвинул камень графу Штокхорну, чтобы граф начал игру.
Граф Штокхорн с удивлением обнаружил, что на этот раз перед ним оказался фальшивый камень. Очевидно, пока бриллиант передавали из рук в руки, кто-то подменил его. Граф понял, что у него самого появился шанс заполучить Золотую звезду, поэтому он ничего не сказал о своем открытии. Вместо этого он начал высоко подбрасывать фальшивый камень и ловить его, внимательно вглядываясь при этом в лица присутствовавших. Ведь только еще один человек знал, что камень фальшивый и может разбиться при падении.
Когда баронесса попросила графа Штокхорна перестать подбрасывать камень, он понял, что нашел вора. Слова графа о его недавно появившемся интересе к драгоценным камням должны были объяснить баронессе, что ее проделка раскрыта. Вероятно, она подумала, что граф предоставляет ей возможность вернуть Золотую звезду.
У нее не было выбора. В алькове она вынула из своей палки подлинный бриллиант и вернулась с ним в трапезную, рассчитывая обменять его на фальшивый камень. Удары по столу привели ее к ящику секретера, куда граф на ваших глазах спрятал фальшивый камень. На самом деле граф оставил его у себя. Когда баронесса открыла ящик, он был пуст. Тогда-то баронесса и поняла, что граф Штокхорн собирается похитить Золотую звезду сам. Поскольку вы все аплодировали баронессе, ей не оставалось ничего другого, как продемонстрировать настоящий бриллиант, будто бы вынутый из секретера, и вручить его герцогу. Дальше в игру вступил подлинный камень, что вы сами доказали, царапая им свой бокал.
Теперь представим себе положение графа. Поддельный бриллиант находился у него, но он не пытался снова подменить камень, пока не придумает верного способа вынести Золотую звезду вопреки неизбежному обыску, вроде вашего, включающему осмотр гостей, трапезной, алькова и рва.
— Я не согласен,— сказал барон.— Откуда он мог знать, что поддельный бриллиант расколется и кража разоблачится.
— Он знал наверняка! — воскликнул я.— Он знал, что, если баронесса заподозрит новую подмену и увидит, что игра снова ведется фальшивым камнем, она разобьет подделку при первой же возможности. Тогда графа уличили бы в воровстве и баронесса была бы отомщена.
Наконец, граф Штокхорн придумал, как спрятать Золотую звезду, хотя для этого надо было пойти на риск. Только тогда он решился подменить камень. Помните, как Карабас спрятал бриллиант в люстру, где граф и обнаружил его? Вот когда граф совершил подмену и вернул герцогу фальшивый камень. Теперь весь риск заключался в том, что баронесса могла заполучить фальшивый камень раньше, чем графа выберут ведущим и он должен будет удалиться в альков. Вы сами помогли графу. Именно вы остановили выбор на нем, и он отыскал камень, спрятанный вами в перечницу. Находясь в алькове, он избавился от Золотой звезды.
— Как? — глухо спросил Гриндельвальд.— Как он ухитрился припрятать камень так, что я не сумел найти его?
— Вы искали там, где надо, но всегда не вовремя, — сказал я.— Припомните-ка снова, что вы нашли при обыске в карманах графа Штокхорна?
— Носовой платок, два-три золотых и несколько ключей, — пробормотал барон.
— А разве там не следовало находиться кое-чему еще? Разве там не должна была быть дешевая деревянная табакерка?
— Да, — задумчиво промолвил Гриндельвальд. — Деревянная табакерка Брюнига, которую граф выменял на свою серебряную.— Барон деланно рассмеялся.— Но не думаете же вы, что граф положил бриллиант в табакерку и сбросил ее в ров? Мы выловили все, что плавало на воде.
— Пока вы осматривали поверхность воды, табакерка лежала на дне, а когда ныряльщики обшаривали дно, табакерка снова всплыла на поверхность,— сказал я.— Граф Штокхорн...
— Молчать! — вскричал Гриндельвальд.— Еще слово, и я убью вас. Не думаю, чтобы я был когда-нибудь ближе к Блитцену. Я слышу, как там звонит колокол. Мерный погребальный звон. Чьи это похороны, мистер Макграт?
— Ваши, барон.
— Да, мои,— торопливо продолжил он.— Последние два века я не знал покоя. Сегодня здесь, завтра там. Разве это настоящая жизнь? Но как-никак я жил! Теперь я вдруг понял, что не хочу в Блитцен. Не хочу, чтобы мое путешествие за кончилось. Вот почему я повторяю вам — еще одно слово, и я вас убью.
— Не надо угроз, барон,— сказал я.— Одно мое слово может убить вас быстрее пули.
Пистолет исчез.
— Пожалуй, что так, — сказал Гриндельвальд. — Похоронный звон в Блитцене подтверждает ваши слова. Я не буду вам угрожать. Сейчас мы расстанемся. Ступайте своей дорогой, а я пойду своей, поверяя свою загадку попутчикам, как я это делаю более двух веков. Конечно, пистолет больше не понадобится. Чем меньше побудительных причин для раскрытия тайны, тем лучше для меня.
Человек в унтах открыл дверь в пассажирское отделение, мельком взглянул на меня и направился в багажный отсек. Он вынес мой чемодан и пошел по дорожке к ярко освещенным дверям аэропорта.
— Прощайте, мистер Макграт,— сказал барон.— Спасибо за компанию. Моя история, надеюсь, помогла вам скоротать время.
Говорить больше было не о чем. Я встал.
— Прощайте, барон,— сказал я и начал спускаться по трапу.
— Мистер Макграт! — голос барона заставил меня обернуться. Я посмотрел в купе через открытую дверь. Барон сидел в темном углу, и его совсем не было видно. Немного помолчав, он сказал:
— Согласитесь, что таскаться по свету еще двести лет, предлагая всем и каждому загадку, ответа на которую я не желаю знать, бессмысленно и глупо. Блитцен — это тихое, спокойное местечко. Я помню его с детства. Рано или поздно каждое путешествие должно закончиться, и я думаю закончить свой путь именно в Блитцене. Пожалуйста, объясните все до конца.
Я колебался.
— Прошу вас, продолжайте,— настаивал барон.
— Вы помните, почему вы спрятали бриллиант в перечницу? — сказал я.— Потому, что в солонке было слишком мало соли, чтобы прикрыть камень. Отправившись в очередной раз к буфету, чтобы выпить вина, граф набил деревянную табакерку солью. Когда вы отослали его в альков, он положил Золотую звезду в табакерку и кинул ее в ров. Наполненная солью, она погрузилась на дно.
Вода проникала в щели табакерки, соль понемногу растворялась, и табакерка становилась все легче и легче. Граф Штокхорн предвидел, что вы будете обыскивать дно и поверхность рва. Однако он знал, что ныряльщики могут работать только при свете дня, а гладь воды можно осмотреть и ночью при факелах. Как покровителю наук, графу Штокхорну не составило труда вычислить количество соли, необходимое для того, чтобы табакерка всплыла примерно на рассвете. Даже если бы ныряльщики прибыли раньше, чем это случилось в действительности, они скорее всего не обратили бы внимания на предмет, плавающий на поверхности. Впрочем, думаю, что граф подобрал табакерку из воды во время утренней лодочной прогулки еще до того, как ныряльщики приступили к работе.
Слышно было, как барон вздохнул в темноте.
— Значит все произошло так просто.— Он помолчал, а затем добавил: — Последний вопрос, мистер Макграт. Надеюсь, он вас не оскорбит. За время странствий я встречал людей с более развитыми аналитическими способностями, чем ваши, и, сказать по правде, более острого ума. Однако рано или поздно моя история всегда ставила их в тупик. Как же вы додумались до разгадки?
— Стоило только догадаться, как был спрятан бриллиант, а дальше уже оказалось совсем нетрудно определить вора и характер его действий,— сказал я.— А как спрятали камень — соль, ров, табакерка,— вы подсказали мне сами.
— Я?
— Помните, вы смеялись над моей неудачной догадкой насчет вина? Вы еще сказали, что раз уж я связан с торговлей виски, то должен думать, что вор запил бриллиант вином. Это явление вы окрестили альтдорфской приметой. Но ведь виски можно не только пить. Виски годится и для контрабандной торговли. Во времена сухого закона контрабандисты, переправлявшие спиртное на судах, часто нагружали ящики с виски каменной солью. Если им угрожал досмотр, они выбрасывали груз за борт, замечали место и возвращались туда через день, когда ящики уже всплыли на поверхность и покачивались себе на волнах в целости и сохранности. Это был неплохой трюк. Кстати, его изобрел мой отец.
— Ага! — воскликнул
Гриндельвальд.— Как я не раз говорил, происхождение всегда сказывается.
В этот миг фары тягача, перевозившего багаж с другой половины поля, осветили внутренность вертолета, и я впервые смог хорошенько рассмотреть барона Гриндельвальда. На нем была поношенная черная шинель со стоячим воротником и треуголка с потускневшей черно-желтой кокардой. Он не был похож ни на сумасшедшего, ни на человека двухсот пятидесяти лет от роду. Он выглядел осунувшимся и усталым, как после долгого пути.
Барон слегка поклонился.
— Благодарю вас, мистер Макграт,— сказал он.
Но прежде, чем я смог понять, что было написано на его лице — умиротворенность или просто покорность судьбе, — тягач изменил направление, и внутренность вертолета погрузилась во тьму.
Мгновение я медлил, раздумывая, не окликнуть ли барона. Потом я повернулся и пошел по бетонной дорожке к ярко освещенным дверям навстречу последнему этапу своего путешествия до Омахи.
Перевел с английского М. Родионов
(обратно)
Оборотни. Уайтлей Стрибер
 Глава девятая
Глава девятая
На столе Карла Фергюсона зазвонил телефон. Доктор ответил, но затем позвал Уилсона. — Это вас, Андервуд. Уилсон взял трубку.
— Черт побери, Герби, как ты узнал, что я здесь?
— Я вычислил. После шести звонков в разные места оставалось только это.
— Точно. Так что ты хочешь?
— Кто убил Эванса?
— Ты же это отлично знаешь, милый Герби.
— Волки?
— Оборотни, те самые, что укокошили шестерых других.
— Как шестерых?
— А так. Сегодня утром нашли скамейку, и на ней только пятна крови. Это все, что они оставили от № 6. Группа первая, резус отрицательный! Никаких других следов.
— Послушай, на меня насела орава журналистов. Их полно и в парке. Они слетелись отовсюду: Эванса хорошо знали. Пока еще никто не связал его смерть с остальными происшествиями, но сходство очевидно. Поэтому не стоит этого подчеркивать, если ты понимаешь, что я хочу сказать.
— Само собой. У меня все еще недостаточно доказательств, которые могли бы поставить тебя в затруднительное положение. Есть рыбка, но я ее еще не подсек.
— Что за рыбка?
— Улика, которая тебя убедит. Как только я ее раздобуду, сразу же сообщу в газеты, но не раньше. На это ты можешь рассчитывать.
— Черт знает что, Джордж. Если бы не этот допотопный параграф 147, я бы тебя немедленно уволил.
— Так валяй, Герби, чего ждешь? Ты был туповат еще мальчишкой и с тех пор ничуть не изменился. Тебе следовало бы сделать это давно, в тот самый день, когда ты понял, что я прав.
— А точнее?
— В тот самый первый раз, когда ты услышал мою версию. Ты прекрасно это знаешь. Но, чтобы это признать, ты слишком упрям или же чересчур глуп. А может, и то и другое вместе.
Установившаяся на линии тишина затянулась настолько, что Уилсон подумал, не повесил ли Андервуд трубку, пока он все это ему выкладывал. Но в конце концов тот заговорил снова.
— Инспектор Уилсон, ты уже думал о реакции публики в том случае, если ваша версия окажется правдой?
— Сцены паники, нанесение увечий, кровь на улицах, не считая голов, которые полетят с плеч. Тех, кто ничего не сделал, когда еще было время.
— То есть моей. И ты ради этого пожертвовал бы целым городом! А подумал ли ты, чем это обернулось бы для экономики? Отсюда побежали бы тысячи людей начался бы массовый исход населения. И грабежи. Нью-Йорк — большой город, Уилсон, но, думаю, что ты поставил бы его на колени.
— Пожалуй, и тебя вместе с ним. Люди возвратятся, как только узнают, что оборотни покинули город. Но ты, Герби, уже не вернешься. Ты сгинешь навсегда.
— Надеюсь, что ты ошибаешься.— В голосе Андервуда слышалась горечь.— Сейчас мое самое горячее желание — наподдать тебе хорошенько. Это доставило бы мне на стоящее удовольствие.
На сей раз, судя по отбою, Уилсон был уверен, что тот бросил трубку.
— Бог ты мой,— воскликнула Бекки.— Какая муха тебя укусила, что ты в таком тоне разговариваешь с ним?
— Он совсем рехнулся. Впрочем, он всегда был таким. Господи, да он был ненормальным уже тогда, когда половину лета таскался в этих своих тошнотворных плавках. Дурень в кубе.
— Но это не дает тебе права... я знаю, что вы вместе выросли и все такое... Но, боже, ты же все провалишь.
— О чем это вы тут оба говорите, черт побери?
Они с изумлением обернулись на этот обращенный к ним незнакомый голос. Небольшого росточка тип в тесном дешевеньком пальто рассматривал их с несколько натянутой улыбкой.
— Меня зовут Гарнер. Я из «Нью-Йорк пост». А вы инспекторы Нефф и Уилсон?
— Зайдите попозже. Пока мы ни в чем не нуждаемся.
— Но, Уилсон, дай ему хоть...
— Нам ничего не надо!
— Всего один вопрос: почему это доктор Эванс был убит в вашей машине? Что вы на этот счет думаете?
Он так и впился в их лица. Естественно, он и не рассчитывал на прямой ответ. Для него важным было увидеть, как они воспримут его вопрос. Если в этом деле что-то не так, он все прочтет по их лицам.
— А ну выметайтесь отсюда, господин «Я-Все-Знаю». Вы что, оглохли? Прочь!
Репортер быстрым шагом пересек холл, поднялся по лестнице с расплывшимся в улыбке лицом. Блестяще! Чертовски занятная получится история! Сев в машину, он немедленно попросил закрепить за ним фотографа. Было бы неплохо сделать два-три снимка этих копов при выходе их из музея. Отличные кадры, которые могут пригодиться потом.
— Я иногда думаю, а не нужно ли все им рассказать,— заявил Фергюсон после ухода журналиста.— Если бы больше людей было в курсе, это, возможно, помогло бы нам.
— Так идите и растолкуйте им все!
— Ну, для меня это исключено. У меня недостаточно...
— .. .доказательств. У нас тоже. И поэтому ни вы, ни мы не можем ничего им рассказать. Подождем намеченной съемки этих бестий. И тогда, получив фото, мы сможем обнародовать новость даже в Москве. Но я не буду делать этого преждевременно ради развлечения. Вы только представьте себе: полицейские утверждают, что судмедэксперта убили оборотни! Андервуд будет на седьмом небе от радости.
Говоря это, Уилсон вдруг почувствовал, что полностью выбился из сил. Накопившаяся с ночи усталость неодолимо захлестывала его всего целиком. Он ощутил все усиливавшиеся рези в желудке. В комнате стемнело. В это время года дни стали уже заметно короче, а ночи длиннее. Сегодня вечером луна взойдет поздно. Чего-чего, а темных уголков в городе через несколько часов, несмотря на уличное освещение, будет предостаточно. Весь окружавший его мир вдруг показался Уилсону безумно враждебным. Даже в самой мягкости этого вечера скрывалась подозрительная жестокость. А уж если что-то сильно себе представить, то начинаешь в это верить и на самом деле. То, что казалось цветком, вдруг оборачивается зияющей раной. Быстротекущее время его бесило, неумолимо приближая... момент истины: они погибнут. Он знал это. Ему уготованы те же муки, что и Эвансу: клыки этих монстров вспорют ему живот. То же ждет и Бекки, а ее чудесную кожу разорвут на мелкие кусочки... Сама мысль об этом была невыносима.
У Уилсона всегда был определенный дар предвидения, но в этот момент наступило что-то вроде яркого предчувствия. Он увидел себя стоящим посередине комнаты Бекки;
одна из этих тварей в молниеносном прыжке сквозь шторы на окне с лету вгрызается ему в живот. Умирая от боли, он видит, как она в экстазе виляет хвостом. Уилсон будто нырнул в состояние глубокого шока.
— Эй! Приятель, да что это с тобой?
— Бекки?
Бекки тормошила его.
— Полегче, полегче... не так сильно. Давайте посадим его. Это от переутомления. Говорите, говорите с ним. Не давайте ему забыться.
— Уилсон!
— Чт-о-о... да...
— Вы с ума сошли, немедленно вызовите врача! Что это с ним? Он весь обмяк.
— Это от усталости. Он смертельно измотан. Продолжайте разговаривать с ним, и он придет в себя.
— Уилсон, черт, очнись же!
Вместо ответа он привлек ее к себе, обнял, прижался, сдавленно всхлипнул, дрожа как осиновый лист. Его трехдневная щетина царапнула Бекки по щеке, а спекшиеся губы коснулись щек, резко пахнуло от его мятой куртки. Через какое-то время она оперлась о его плечи и отступила; он беспрекословно отпустил ее.
— Черт возьми, до чего все это ужасно.
Фергюсон протянул Уилсону картонный стаканчик с водой, и тот его опрокинул.
— Тьфу, я...
— Спокойно, тебе было плохо.
— Это — реакция на стресс,— сказал ученый,— явление довольно распространенное. Такое часто случается с людьми, пережившими авиакатастрофу или побывавшими в пламени пожара. Если это не навсегда, то пройдет,— с вымученной улыбкой попытался он пошутить.—Я читал статьи по этому вопросу, хотя сам феномен наблюдаю впервые,— как-то нескладно добавил он.
Уилсон закрыл глаза, склонил голову и прижал сжатые кулаки к вискам. У него был вид человека, защищавшегося от неминуемого взрыва.
— Боже, когда это все кончится?
Он выкрикнул это так громко, что царивший в соседнем рабочем зале деловой шум внезапно стих.
— Прошу вас, потише,— сказал Фергюсон,— у меня из-за этого будут неприятности.
— Извините, доктор. Простите.
— Вы должны понять...
— Ну да, ну да. Бекки, я сожалею.
— Да-а, а я тоже.
У него был умоляющий вид, и она ответила ему успокаивающим взглядом.
— Не думай о смерти. А ты весь ушел в нее. Лучше задумайся о... нашем аппарате. Сегодня ночью мы сделаем снимки, и это продвинет наше дело. Фото плюс другие доказательства, и ни у кого никаких сомнений больше не останется.
— И тогда они будут нас охранять?
— Конечно! В любом случае. И на все время. Будет несравненно спокойнее, чем сейчас.
Впервые Бекки осмелилась подумать на эту тему. Каким образом обеспечат им охрану? У нее вдруг засосало под ложечкой: единственный по-настоящему эффективный способ — посадить их за решетку. Может быть, вначале это и даст возможность хорошенько выспаться, но вскоре сделается совершенно невыносимым: она с таким положением свыкнуться не сможет. И в то же время каждая минута, проведенная вне закрытого помещения, будет для них чрезвычайно опасной. Эти мысли неотступно преследовали ее. И неожиданно перед ней ярко предстала картина собственной гибели: интересно, что чувствуют люди, когда их рвут на куски? Безграничный ужас или же какой-то участок мозга обеспечивает облегчение мук?
Основное сейчас — не думать о будущем, заниматься предстоящими заботами. Аппаратом, например. Как солдат на поле боя: сосредоточиться на том, куда попадет следующий снаряд, отвлечься от зловещего свиста пуль, от стонов тех, кому не повезло, пока сам в свою очередь...
Она с трудом оторвалась от этих раздумий и устало сказала:
— Дик, наверное, уже достал аппарат. Почти три часа.
Может, поедем ко мне домой и отшлифуем наш план на месте? Ночь предстоит долгая.
Фергюсон еле заметно улыбнулся.
— Я, откровенно говоря, уверен, что она будет захватывающе интересной. Конечно, это опасно. Но, боже мой! Подумайте только о важности научного открытия! Человечество на пороге встречи с другим разумным видом живого на нашей планете. И это будет необыкновенный момент!
Потрясенные инспектора молча рассматривали ученого. Действительно, в силу присущего им образа жизни и способа мышления во всем этом деле они видели только одну сторону — опасность. Но слова Фергюсона приоткрыли и другую грань — удивительное. Разве сам факт существования оборотней не перевернет всю жизнь человечества? Не получится ли так, что вслед за волной ужаса и паники ему придется принять новый для него вызов? Ведь до сих пор оно боролось только с природой, неизменно выходя победителем. А тут оно будет вынуждено смириться с наличием на Земле мыслящих оборотней. И этот вопрос был из категории тех, что не решаются в простой схватке.
Бекки почувствовала себя уверенней. Такое состояние духа ей было более привычным. Она испытывала его всякий раз, когда приходилось расследовать особенно гнусное дело, одно из тех, в которых вы любой ценой стремитесь раскрыть преступление. В тех случаях, когда речь шла об убийце какого-нибудь сбытчика наркотиков или бродяги, полицейские обычно особой прытью не отличались. Но если жертвой оказывался невинный или пожилой человек, а также ребенок, она жаждала поймать преступника. Это было ее личной местью. И слова Фергюсона подействовали на нее именно в таком направлении. Да, и в самом деле настал ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ момент. Человечество еще не ведало, в каком оно очутилось положении, но оно имело право знать это. И если они в ближайшее время и не имели возможности предпринять сколь-нибудь существенные усилия, то люди, во всяком случае, были вправе воочию увидеть своих убийц.
— Позвоним Дику, выясним, готов ли он. Не стоит болтаться по улицам, если в этом нет необходимости.
Она сняла трубку телефона.
— Спроси, есть ли у него воки-токи,— буркнул Уилсон,— гражданского образца. Не горю желанием сесть на полицейскую волну.
Дик ответил после первого же звонка. Тон у него был мрачный, говорил тихо. Очевидно, что спрашивать его, знает ли он о смерти Эванса и о том, как это произошло, не стоило. Разговор она закончила быстро и повесила трубку.
— Аппарат у него. Пару портативных воки-токи он достанет сегодня после обеда — из тех, которыми пользуются маклеры на бирже.
После разговора с мужем у Бекки возникло какое-то новое чувство. В его голосе она уловила теплоту, близость и доверительность, более непосредственные, чем когда-либо, даже сразу после их свадьбы. Если бы он оказался в эти минуты рядом, она обняла бы его, хотя бы ради того, чтобы почувствовать его физическую близость. Ему на самом деле сейчас приходилось туго. Слишком он добр для копа, слишком мягок, чтобы воспринимать жизнь как силовую борьбу. И хотя комиссии по расследованию будет в высшей степени начхать на эти нюансы, все равно это был справедливый поступок — наложить выкуп на организованную преступность ради того, чтобы оплачивать пребывание отца в хорошем доме для престарелых. Своего старика. Несладко придется им, когда Дика уволят, и даже очень.
Глаза Уилсона были по-прежнему затуманены, он все еще боролся с охватившим его оцепенением.
— Эй, Джордж! Да встряхнись же ты наконец! Ты где-то витаешь за тысячу километров отсюда. Раз уж мы решили начать подготовку съемок, давай делать это вместе. Надо выбрать с помощью аппарата ориентиры, найти точку, полностью покрывающую поле обзора, и покончить со всем остальным. Лучше всего уехать отсюда сейчас же, чтобы все завершить до наступления ночи.
Бекки не могла позволить себе углубляться сейчас во все детали предстоящего дела. Главное — покинуть музей, эту гавань спокойствия, и достойно встретить опасность на улице. Но раз она не акцентировала внимание на этом, другим, казалось, это и в голову не пришло. Ничего! Уилсон наверняка, когда потребуется, выдержит экзамен.
— А я и не заметил, что настало время уходить,— сказал Фергюсон.— Но прежде желательно было бы кое-что услышать от вас. Есть ряд моментов, которые я никак не могу понять, и хотелось бы до ухода получить по ним разъяснения. Это может иметь значение.
Бекки нахмурилась.
— Хорошо. Выкладывайте, что там у вас.
— Так вот, я не очень ясно представляю себе утренние события. Каким точно способом был убит Эванс?
Бекки промолчала — ей самой хотелось бы послушать объяснения Уилсона. Было очевидно, что оборотни — первоклассные охотники, но их действия в течение дня не были ясны до конца и ей.
Уилсон начал монотонно бубнить.
— Все, должно быть, началось с того момента, когда мы прибыли на место их последнего преступления в западной части Сентрал Парка. Они наверняка были там и вели за нами наблюдение.
По спине Бекки пробежал холодок; она вспомнила картину сегодняшнего утра — группу копов, скопление машин, залитую кровью скамейку. Тогда их спасло присутствие столь большого числа полицейских. Уилсон продолжал:
— Они знали, что так просто с нами им не справиться, требовалось, чтобы мы оказались хотя бы на некоторое время на отшибе. Поэтому они устроили нам ловушку, которую используют уже целые поколения охотников. И в данном случае она превосходно сработала. Они направились в парк, заметили там полицейского-одиночку, участвовавшего в облаве, и ранили его. Тот факт, что он затем умрет, для них не имел ровно никакого значения. В Африке негры, завлекая льва, держат на привязи специально пойманных для него диких животных. Те вправе считать свое положение несправедливым, но это отнюдь не продлевает им жизнь.
Такую приманку подставили и нам. Едва мы припарковались, как оборотни начали осторожно подползать к машине. К нашему возвращению они уже лежали бы под днищем, оставалось лишь выскочить и вонзить в нас клыки... и тогда в Нью-Йорке стало бы на двух убитых полицейских больше. Думаю, мне вовремя удалось разгадать их маневр.
Он пошарил в карманах. Бекки протянула ему сигарету. Все молчали. Лицо Уилсона буквально на глазах приобретало сероватый оттенок. Глубоко, прерывисто вздохнув, он добавил:
— Мне повезло, но уж больно не укладывалась в голове мысль о том, что они не дорезали парня. Вот тут-то я и усек.
Засада! И я приказал Бекки оседлать мотоцикл.
— А Эванс?
— Последний раз я его видел сидящим в «понтиаке».
Можно было предполагать, что он запрет дверцы, но, видно, об этом он и не подумал.
— Так что же, они... открыли дверцы?
— А что в этом удивительного?
Он был прав. И все же согласиться с этим было нелегко, несмотря на все, чему Бекки уже была свидетелем. Казалось невозможным, чтобы звери поступили таким образом, но ведь они не животные, не так ли? Эти существа мыслили, и, следовательно, их нужно было рассматривать как... что-то иное. Они наши исконные враги. Ненависть друг к другу заложена в генах как у них, так и у нас. И наличие разума не давало оснований считать их равными человеку. Но так ли это? Были ли у них права, чувство долга, обязанности? Абсурдный вопрос. Несмотря на развитие мозга, им не было места в человеческом обществе.
Только в роли охотников. Так, лев имеет свою четко определенную природой нишу в мире газелей, а леопард среди бабуинов. С их присутствием смирились, к нему приспособились, потому что другого выхода нет. Как бы ни старались газели и бабуины, они все равно не сумеют отделаться от своих губителей-хищников. По этой причине установившийся порядок отражает реальное положение дел. Обезьяны оберегают потомство и жертвуют пожилыми особями, им ненавистно такое поведение, но оно вынужденное.
Первым наступившее после разъяснений Уилсона молчалив прервал Фергюсон.
— Да, хитро,— сказал он.— Очень тонко задуманный план. Они, должно быть, до сих пор не пришли в себя, оттого что вы его сорвали.
— Если только это не забава с их стороны.
— Не думаю. Вы оказались для них слишком опасной дичью. Неужели вы не отдаете себе отчета в том, насколько им невыносима сама мысль о том, что всему их виду угрожают два человека? Проклятье! Да они потребляют по одному-два таких субъекта в день всего лишь ради пропитания, и вначале им казалось, что справиться с вами будет легче легкого. Но теперь не думаю, чтобы они все еще развлекались. Просто выяснилось, что ликвидировать вас — слишком трудное для них дело. Это вообще типично для хищников: при нападении на жертву в расцвете сил у них всегда возникают проблемы. Они не созданы для того, чтобы выдерживать упорное противодействие. Среди животных это кончается смертным боем. Молодой лось затаптывает волка. С этими существами дело обстоит точно так же либо они, либо мы.
Уилсон согласно кивнул головой. Бекки заметила, что слова Фергюсона, кажется, подняли ему настроение. Она и сама вдруг почувствовала, как наполняется новой силой. Это не устраняло страха, но хотя бы несколько по-иному выстраивало перспективу. Если они внушат себе мысль о всемогуществе оборотней, то и вести себя станут подобно мышам, ожидающим, когда же кот подустанет развлекаться с ними... Фергюсон, видимо, был прав. В конце концов до сего времени они успешно избегали их ловушек. Так почему бы этому не продолжаться и впредь? Но неожиданно ей пришла в голову другая тягостная мысль.
— И до каких же пор они будут охотиться за нами?
— Долго,— откликнулся Фергюсон,— пока либо они нас не перегрызут... либо мы не отвадим их от этого.
Бекки была категорически не согласна с этим. Такая двойственность им не позволительна. Исход должен быть однозначно в их пользу.
— О"кей, приятели, за дело! У нас полно работы.
Перед зданием музея напряжение нарастало. Солнце стояло уже совсем низко. В послеобеденном воздухе потянуло первыми запахами кухни. Когда над улицей останавливался метропоезд, металлические опоры с возрастающей частотой вибрировали. По давно заведенному обычаю в это время люди начинали разъезжаться по своим берлогам. И те двое, которых они так ненавидели, тоже сейчас отправятся к себе. Значит, не стоило рисковать, проникая в здание. Вскоре эти люди проголодаются, их начнет клонить ко сну, и они выйдут оттуда сами. Скоро, очень скоро. От этого ожидания у них учащался пульс. Но они знали и цену терпения.
Гарнер вернулся в редакцию, чтобы забрать фотографа Рича Филдса, которого газета посылала вместе с ним для написания репортажа в парк, где было найдено тело Эванса.
— Сейчас твоя задача — сфотографировать двух копов, — сообщил он Филдсу.
— Зачем?
— Так просто. Не стоит тратить на них пленку. Достаточно несколько снимков со вспышкой, не более того.
— Отлично. Толково. Но сначала убеди меня в необходимости сделать это.
— Помолчи, Филдс. Ты слишком туп, чтобы понять это.
Они сели в машину Гарнера и вдоволь натряслись на ухабах, пересекая парк. Наконец они выползли на улицу, и журналист проделал весь путь обратно до музея. Он был в приподнятом настроении. За всем этим скрывалась какая-то ядреная история, и оба копа явно находились в центре циклона. Ну и славная же выйдет статейка! Пусть «Тайм» посылает хоть пятьдесят работяг в город осаждать комиссара полиции. Он, Сэм Гарнер, присосется, как пиявка, к этим двум инспекторам, пока не наберет материала для репортажа.
Он припарковал машину прямо напротив музея и в ожидании выхода полицейских комфортабельно устроился на сиденье.
— Пора начинать?
— Заткнись, идиот. Я скажу, когда. И в твоих интересах недурить. Мне надо, чтобы ты застал их врасплох, чтобы, пустив в ход «вспышку», ты вывел бы их из себя.
— А плату потом за лечение в больнице будешь вносить ты, дорогуша?
— Ты просто занимайся своим делом. А уж «Пост» о тебе позаботится, любовь ты моя.
Он внимательно рассматривал массивное здание. Оба копа вот-вот появятся на площадке перед входом и начнут спускаться по лестнице. Филдс помчится позлить их своим фотоаппаратом. Больше ни слова и никаких вопросов. Оба копа уже перепугались. На этот раз их охватит паника. Если они скрывают что-нибудь стоящее, то этот небольшой сеанс с-позированием перед объективом убедит их в том, что «Пост» в курсе дела. Так что, когда в следующий раз Сэм Гарнер свалится им на голову, они запоют, как миленькие, во избежание нервотрепки.
Так уж не раз бывало. Информацию порождает обеспокоенность. Это первая заповедь репортера. Убедите людей, что вам известно о них вполне достаточно, чтобы их повесили, и они выболтают все, что вам так не терпится разузнать. В голове Сэма уже мелькали потрясающие заголовки. Он не представлял себе их содержание, но они так и плясали перед ним. Гарнер чуял, что ему предстоит неделя, начиненная динамитом. Его шефу это в высшей степени понравится. Видимо, случилось что-то по-настоящему ужасное. Никто точно не знал, что произошло, но кое-кому удалось увидеть тело судебно-медицинского эксперта. Оно было растерзано на куски. Эванс был не просто убит, а искромсан. Плоть выдрана, обнажив кости, а голова держалась буквально на ниточке. Шея вообще куда-то исчезла. Живот вспороли. Части тела были изуродованы настолько, что когда санитары попытались вытащить труп из машины, ноги отвалились, упав на пол. Это было какое-то извращенное, до глубины порочное преступление. Чудовищное. Внезапно журналисту стало дурно. Казалось, его сейчас вырвет. «А ну хватит!» — шепотом приказал он сам себе. По окончании этого репортажа он позволит себе надраться до чертиков.
— Я кое-что разнюхал насчет этого Эванса,— прервал его мысли Филдс.— Это была... настоящая бойня.
— Я как раз об этом думал. Но факт сам по себе ничего нам не дает. В любом случае убийца должен был дьявольски его ненавидеть. И ведь все произошло днем в самом центре парка. Как видишь, весьма странно и воистину необычно.
— Эй, босс, куколка и старик — это они?
— Да, давай, шустри!
Филдс открыл дверцу машины и бросился к статуе Рузвельта, возвышавшейся перед входом в музей. Стоя за пьедесталом, он мог незаметно дождаться, пока полицейские спустятся вниз. Они двигались быстро. Вплотную за ними шел, скрестив перед собой руки и немного сутулясь, третий человек. Их манера идти что-то смутно ему напоминала. Внезапно Филдс понял: точно так ходили парни под огнем во Вьетнаме.
Они приближались. Он уже слышал, как хрустит у них под ногами снег. Филдс внезапно выскочил из-за укрытия и нацелил объектив. Яркая вспышка взорвала скудость послеполуденного освещения. В ее свете было видно, как три силуэта неожиданно подскочили. Он даже не успел сообразить, что к чему, как старикан уже держал в руке револьвер. Женщина также уже целилась в его сторону. Все дальнейшее, казалось, происходило, как в замедленной съемке и напоминало начало атаки на войне. Вы уже втянуты в действие, и события видятся вне всякой связи друг с другом. Затем все застывает, обычно в самом пике напряжения: слух раздирают воющие снаряды. Люди вырисовываются как китайские тени на фоне буйно подсвеченного неба. Кругом крики, дым... «Боже, у них оружие, а у меня всего лишь фотоаппарат!»
Он видел, как промелькнуло еще что-то, и услышал, как рявкнул револьвер пожилого полицейского.
— Не стреляйте!
Но оружие, изрыгая пламя, прогремело вновь. Пронзительно закричал сопровождавший полицейских высокий мужчина. В дело вступила женщина. Выстрелы сотрясали ей руку, она палила, не переставая. А там, на заснеженной поляне, возникла неясная черная масса, удиравшая с быстротой молнии... за ней другая. Они стреляли по ним, а не по нему, Филдсу. Внезапно все трое кинулись к машине Сэма.
— Быстро, за нами! — прокричала ему, обернувшись, женщина.—Иначе пропадешь!
Рич не заставил просить себя дважды. Он ласточкой влетел на заднее сиденье прямо на колени Бекки. Она захлопнула дверцу и освободилась из-под фотографа.
— Ходу! — прокричал старикан.— Жми на всю железку!
Но Сэм и не думал трогаться с места, а развернулся лицом к инспектору, который вкатился на сиденье рядом.
— Это что еще за дерьмовщина? — смешно взвизгнул он.
Уилсон сунул ему под нос револьвер.
— Живо заводи тачку, не то разнесу башку,— прорычал он.
Сэм проворно вклинился в движение. Какое-то время он и Рич молчали.
— В одного попали,— заявила Бекки.
— Но не насмерть,— уточнил Уилсон.
Бекки повернулась к Ричу, который сидел рядом с ней, находясь под большим впечатлением от исходившего от нее терпкого запаха духов и горячего прикосновения ее бедра.
— Спасибо,— сказала она.— Без вас нам была бы крышка.
— Что все-таки произошло? — дрожащим тоном осведомился Сэм.
— Ничего,— ответил Уилсон.— Совсем ничего. Ваш придурок вывел нас из себя своей «вспышкой».
— Послушайте, Уилсон. Да расскажите вы им все,— попытался высказать свое мнение Фергюсон.
— А вы, доктор, закройте рот,— сурово оборвала его Бекки.— Предоставьте это дело мне. Нам пресса ни к чему.
Причину мы вам уже объяснили.
Уилсон повернулся назад. Его лицо неузнаваемо изменилось, как будто он надел маску.
— Если вокруг этой истории пойдут слухи,— сказал он,— на нас тут же можно ставить крест! Нет, дорогой мой, доказательств, а без них нас объявят свихнувшимися. Хотите знать, что произойдет? Эти коровьи лепешки из штаб-квартиры выставят нас на пенсию под предлогом некомпетентности. Объявят нас недоумками. А представляете, что последует за этим? Ну, конечно же, вы и сами это знаете! Эти твари-ублюдки нас живо прищучат!
Он засмеялся, скорее зубоскаля. Затем отвернулся и стал смотреть вперед. Фергюсон уставился ему в спину.
— Подбросьте нас до угла 115-й и 88-й улиц,— сказала Бекки,— и держитесь как можно дальше от парка. Следуйте по Колумбус, затем по 57-й.
— И раскочегарьте этот чертов драндулет,— отрывисто добавил Уилсон.— Вы же тертый репортер, значит, должны уметь водить машину,— он сухо и устало булькнул коротким смешком.
— Что ты наплетешь в отчете об израсходованных патронах? — спросил он у Бекки.
— Все якобы произошло нечаянно, когда чистила оружие. При этом трижды выстрелила.
Уилсон покачал головой.
— Черт вас всех побери, да объясните же наконец, что происходит? — взорвался Сэм.— Поймите, именно я имею право на информацию. Я, единственный из всех журналистов в этом городе, оказался достаточно хитроумным, чтобы понять, что ключ к тайне — в ваших руках. Все остальные недотепы штурмуют штаб-квартиру полиции, дожидаясь заявления комиссара. Скажите мне хотя бы, что случилось с Эвансом. Я даже не интересуюсь тем, что только что произошло на моих глазах.
Пока он говорил, Бекки наклонилась вперед. Уилсон отвечать был не в состоянии.
— Эванс был убит. Если бы мы знали чуть больше, то давно бы уже арестовали виновного.
— Ну, тогда эта стрельба была просто так, ради потехи. Да, умора с вами обоими. Никогда еще я не видел копа, так мгновенно выхватывающего револьвер и открывающего пальбу всего лишь из-за собаки. Если это и на самом деле так, то это дерьмо, а не информация!
— Конечно, а то как же! Лучше помалкивайте, пожалуйста, и продолжайте вести машину.
— С гражданином так не обращаются.
— А вы не гражданин, вы репортер. В этом вся разница.
— И в чем именно?
Бекки не ответила. Пока шла перебранка, Фергюсон сидел неподвижно, прижавшись к ней и отодвинувшись как можно дальше от дверцы, почти к середине сиденья. Сэм заметил, что Уилсон держался точно так же. Он готов был поклясться, что оба опасались, как бы что-то не вспрыгнуло им на загривок из-за стекол... хотя те были наглухо закрыты.
(обратно)
Оборотни. Уайтлей Стрибер. Продолжение
Глава десятая
Проклятая вспышка света! Вожак стаи — его они звали «Старшой» — подстерегал добычу, лежа за оградой, отделявшей лужайку от главной лестницы музея. Он притаился там потому, что, по его расчетам, обе жертвы, вероятнее всего, выйдут именно через эту дверь. На его долю выпала опасная, трудная и даже в чем-то печальная задача. Охотиться на людей было главным смыслом жизни его сородичей, но в создавшихся сейчас условиях, вынуждавших его убивать молодое и полное жизни существо, он задумался над своей ролью в этом мире. Его дети воспринимали человечество лишь как пищу для себя, но многолетний опыт убедил его в том, что человек тоже мыслит и любуется красотами Земли. Он, как и они, тоже имел свой язык, прошлое, будущее. Но понимание этого обстоятельства ни в чем не умаляло его потребности — назовем ее постоянной тягой — убивать и пожирать свои жертвы. Всякий раз при виде человека он по привычке немедленно примерялся к нему. Он любил это ощущение: челюсти с хрустом входят в тело, по горлу струится теплая кровь. С тех пор, как Старшой перебрался в город, он наслаждался дурманом запахов. Его стая жила припеваючи, так как обосновалась в густонаселенном районе. Ему нравилось это состояние изобилия, которого он добился нелегкой ценой. Когда-то в молодости главарь их прежней стаи предпочитал изолированную жизнь в сельской местности. Ни одному члену другого клана и в голову не пришло бы польститься на лоскутную территорию этого старого труса. Члены его стаи гибли зимой, прятались летом, постоянно держались начеку из-за боязни быть раскрытыми.
Став взрослым, он увел свою сестру к югу, в легендарные края, где, по слухам, жили бесчисленные орды людей. Во время перехода им не раз приходилось принимать вызов со стороны других кланов, и всегда из всех схваток они выходили победителями. Ему случалось биться целыми днями, оттачивая в этих баталиях ненависть, которая питает любовь к своему виду. Эти стычки всегда заканчивались одним и тем же: соперник выбывал из борьбы; его сестра и он отмечали свою победу радостным кличем и снова пускались в путь. Таким образом, они закрепили за собой превосходную территорию. Обозначив ее границы, они вывели первое потомство: в тот раз их было трое — две особи мужского и одна женского пола. Самого слабого из самцов забили, и те двое, что были покрепче, подкрепились его мясом. Не повезло, что не получился идеальный помет из четырех, но иметь двоих все же было лучше, чем одного. Два года спустя они еще больше расширили свои владения, и сестра дала приплод вторично. Она ощенилась самцом и самочкой, причем оба были в отличной форме.
Этой весной старшая пара совокупится, как и они с сестрой, еще раз. Если повезет, то у них появятся четверо новых членов стаи. А если крупно повезет, то их будет шестеро или даже восемь. А на следующий год настанет черед пары молодых. Пройдет несколько лет, и он возглавит довольно крупную стаю. Трудные времена прошлых скудных мест останутся далеко позади; он был горд своим успехом.
Единственно тревожный момент — эти двое, которые знали слишком много. Если они растрезвонят о них повсюду, придется, уподобясь глупым животным, удирать отсюда... и тогда он, охотник, сам окажется дичью и будет заклеймен печатью позора. Веками все кланы будут вспоминать об этом провале, а его имя предадут проклятью. Его семейная линия начнет чахнуть, пока не угаснет совсем. И о нем будут говорить: «Уж лучше бы он продолжал отсиживаться в горах».
Старшой тяжело вздохнул, затем вернулся к текущим проблемам. Было еще довольно светло, и запах дичи все усиливался. Видимо, они приближались как раз к двери, которую он вычислил. Он клацнул челюстями — по этому сигналу другие члены стаи рассыпались перед входом. Вторая пара пересекла улицу и улеглась под припаркованными машинами. Таким образом, даже если добыча ускользнет от его клыков, ей все равно далеко не уйти. Молодняк, вторая пара, присоединилась к нему и легла, выжидая, рядом. Его сестра с поблескивающей шерстью зрелой самки и красивым личиком, на котором отражались бесстрашие и предвкушение удовольствия, вскочила на противоположную стену. Все ее жесты были пронизаны спокойствием и королевской грацией.
На сей раз эти двое попались. Это конец. А его семья даже получит премию: будет устранен и этот высокий человек, с которым их враги так долго разговаривают.
Превосходно. И все же, какое это гнусное дело! Нельзя отнимать жизнь у еще молодого существа. Даже дикие животные не делают этого. Конечно, причина здесь самого что ни на есть практического порядка: совладать с ними достаточно трудно. Но присутствуют и более благородные мотивы. Чтобы жить, надо убивать. Но убивать молодых — отвратительно. Когда кто-то из них становился слишком старым, его умерщвляли. Но пока не пришел час, в каждом пылало бешеное желание жить. И всякий раз, когда они изредка были вынуждены убивать цветущее создание, он, насытившись, испытывал неловкость.
Наконец мощная струя запаха известила, что все трое показались на пороге. Женщина пахла остропикантно, совсем необычно для привычной им пищи. Другой мужчина тоже. Зато ослабленное тело старика источало знакомый кисло-сладкий аромат. Смесь этих трех запахов чем-то походила на фейерверк. Он снова вздохнул и бросил взгляд на вторую, распластавшуюся рядом с ним пару. В их глазах отражался испуг. Он настоял на том, чтобы они сопровождали его только по одной причине: на этом примере они должны будут понять, что никогда нельзя забивать еще молодую дичь и что всегда надо умело прятаться от человека. Молодняк уловил его печаль и никогда не забудет этого урока. Сейчас он полностью раскрыл перед ними свое эмоциональное состояние — смотрите, слушайте, чувствуйте. И вожак с радостью убедился, что предстоящее действо, поначалу воспринимавшееся ими как захватывающая дух охота, превратилось для них в то, чем и должно было быть — печальной и постыдной необходимостью.
Их тела напряглись и запахли совсем по-иному. У Старшого участился пульс, как только он отметил всплеск внимания у молодых. Между тем их жертвы стали спускаться по ступеням. Судя по манере держаться и структуре исходившего от них запаха, они были настороже, но, несмотря ни на что, слепо продвигались прямо в западню. Хотя он давно знал людей, но эта их своеобразная привычка сломя голову устремляться навстречу опасности каждый раз приводила его в замешательство. На лицах врагов выступали какие-то небольших размеров трубочки, с помощью которых они дышали — то был совершенно бесцельный нарост, помогавший им лишь делать вдох и выдох.
Они уже достигли основания лестницы... Вторая пара перемахнула через ограду. В этот момент какой-то прятавшийся за статуей человек рванулся вперед, что-то ярко сверкнуло. Вожак взъярился: он его, конечно, заметил, но не придал этому факту никакого значения! И вот результат... молодая пара от неожиданности оцепенела... нельзя останавливаться, вперед... Слишком поздно. Сбитые с толку, с глазами, в которых разом взвихрились недоуменные вопросы, они уже отступали. Что делать? И оружие уже тут как тут! Все члены стаи бросились врассыпную, воздух наполнился уханьем выстрелов. Одним махом преодолели стену, спасаясь, кто как мог, бросились в кусты.
Они вновь собрались вместе недалеко от того места, где все это произошло, даже слишком близко с точки зрения безопасности. Но все сразу почувствовали: кто-то из них истекает кровью.
Не хватало самого молодого самца. Отец потерся мордой со всеми членами семьи. Это успокоило всех, за исключением самой молодой самочки. Ее глаза вопрошали: «Ну зачем ты нас заставил это делать?» И она хотела сказать: «Мы же самые молодые, наименее опытные и так боялись!» В порыве гнева она даже заявила, что если умрет ее брат, то не будет считать себя его дочерью.
Он знал, что она испытывает бешеную ярость. И никакими мольбами ее не проймешь. Снять это ничем нельзя. Ушами и глазами сестра сказала ему: «Ты хоть погляди на себя: трясешь головой, как глупый волк! Отец ты им или мальчишка?»
Ее презрение унижало Старшого, но он стремился не показывать этого. Несмотря на мимолетное желание, он не стал поднимать дыбом шерсть на загривке. Он сжал анальное отверстие: нельзя поддасться инстинкту и вопреки желанию распустить мускусный запах волнения и растерянности. Он удержал хвост прямо — не впадая в заносчивость, но и не выказывая чрезмерного смирения. Просто держал его напряженно, неподвижной палкой: нейтральная, полная достоинства и церемонности поза.
Однако в награду за эти усилия он услышал: «Выпусти свой мускус, покажи детям, что тебе тягостно. У тебя не хватает смелости даже на это!»
Он расслабился. Брызнула, испачкав землю, струя мускуса — терпеть было невмоготу. Тяжелый запах повис в воздухе. Он был взбешен, так как тем самым обнаружил и продемонстрировал свою слабость.
— Я ваш отец,— заявил он, максимально работая на этот раз хвостом.
Он гордо стеганул им по воздуху, уши встали торчком, глаза сверкнули. Но от него исходил запах страха. Его поражение было очевидным. Подошел старший сын.
— Позволь мне разыскать брата,— сказал он, самым неуважительным образом щелкнув челюстью и дернув хвостом.
Все четверо — сестра, две дочери и сын — отправились на поиски самого молодого самца, руководствуясь запахом, исходившим от его раны. Как только они скрылись с глаз, их отец поддался неодолимому позыву опрокинуться навзничь. Какое-то время он пребывал в этом положении, слегка перебирая задними лапами. Его окатило теплой волной: он решил подчиниться обстоятельствам. Старшой перестал хорохориться и выбросил на какой-то миг из головы мысль о том, что он все еще оставался их вожаком. Но никто из сородичей не видел его в этот момент и не было рядом сына, который мгновенно схватил бы его за горло. Он так и катался на спине наедине с безучастным небом.
Затем раздалось тихое и нежное подвывание. Он задрожал, услышав скрытую в нем грусть. Его сестра вела мелодию смерти! Значит, раны оказались роковыми. Он помотал головой, чтобы прийти в себя. Затем побежал выполнить предстоящий ему жуткий долг. Скоро на его место заступит другой, но пока еще он Старшой, и проделать церемонию предстояло ему. Он остановился, подняв морду. Пусть люди слышат! Он затянул траурный гимн и гордо исполнил его до конца. Ему ответил испуганный скулеж его второго сына. Он вновь побежал рысцой и вскоре присоединился к своим, окружавшим серую массу, распростертую на земле. Их черты исказила боль, они оскалились, с отвислых губ капала пена.
Его они игнорировали. Тотчас же после исполнения своей последней обязанности он перестанет быть их вожаком. Он приблизился к своему сыну и обнюхал его: тот дрожал от холода, глаза затуманились. Его боль отозвалась в каждой клеточке тела Старшого. Он гордился им, потому что тот, несмотря на серьезный характер ран, сумел добраться до скрытого от постороннего взора места. Затем его сын глубоко вздохнул и надолго задержал взгляд на отце. Наконец он слегка приподнял морду над землей и закрыл глаза.
Старшой не колебался ни секунды. Одним свирепым движением челюстей он убил его, рванув за горло. Тело содрогнулось от этого резкого удара. Пасть широко раскрылась. Отец еще заглатывал первый кусок его разорванного горла, как тот уже умер. Тотчас же остальные окружили его, и тогда вожак понял, кто его преемник, им оказалась сестра.
Настал решающий момент; у него был выбор — либо драться, либо подчиниться. Если он выберет первое, то все четверо объединятся против него — они кипели от бешенства. Он прикинул и понял, что у него есть шанс выйти победителем. Но какой ценой! Полные ненависти оставшиеся члены семьи будут подчиняться презираемому теперь отцу скрепя сердце. Ради спасения всего им созданного он предпочел опрокинуться на спину перед сестрой. Но она, задрав хвост, отодвинулась и пренебрегла этим актом смирения. Напротив, его самая молодая дочка, все еще дрожа от пережитого горя, приняла его капитуляцию. Когда она схватила его за горло, он закрыл глаза в ожидании смерти. Случалось, что молодняк, исполняя этот обычай, терял контроль над собой и убивал провинившегося. Ему казалось, что прошла целая вечность, пока она наконец не отпустила его. И тогда все они надменно забили хвостами. А он свой — поджал. Все, он уже не
вожак. Теперь ему предстоит жить в постоянном ожидании подвоха. При малейшем проявлении властности все четверо набросятся на него. И до тех пор, пока его сестра, дочь и он сам не обзаведутся новыми спутниками, чтобы образовать пары, обстановка в их стае будет трудной и неустойчивой.
Прежде чем покинуть это место, они перевернули тело своего брата на спину и целиком сожрали его, включая кости. Осталось лишь несколько клочков шерсти. Такой ритуал был необходим: тем самым они запомнят его навсегда. Отныне они будут носить в себе воспоминание о его примерной жизни и героической смерти. Затем они затянули мелодию «надежды жизни». В завершение все встали в круг, потерлись мордами и, несмотря на полные скорби сердца, бурно выразили свою радость, что снова все вместе. Каждый из них широко разинутой пастью вдыхал вместе с остальными один и тот же воздух, был пронизан взаимным чувством близости и слияния.
Тем не менее бывший Старшой и его сестра уже не составляли пару. Ей требовалось найти супруга, замену брату, согласного воспринять ее как главаря. Большинство самцов из числа вольных охотников, чей лоб был помечен знаком какого-нибудь ужасного прегрешения, достаточного для того, чтобы быть изгнанным из стаи, с удовольствием бы пошли на это. Его дочь также не замедлила бы найти компаньона. Обе самочки уже источали аромат желания, это возбуждало двух самцов. Да и Старшой тоже бешено возжелал свою столь прелестную сестру. Но для него сезон любви, несомненно, завершится на этот раз без любовных игр, разве только он встретит самку, которой так же не повезло, как и ему. «Но пусть пройдет немного времени,— подумал он,— и настанет день, когда я снова докажу свою мужскую доблесть. Пусть все поутихнет... Зарубцуются раны».
Весь в смятении, он какое-то время не знал, что делать. Он от всего сердца воззвал к наблюдавшей за ним сестре. Ему так хотелось, чтобы она разделила его печаль. Но та оставалась невозмутимой, держа хвост торчком. Стая была их общим делом, но дети не могли согласиться с тем, чтобы ими командовал отец, допустивший такую пагубную ошибку. Это было вполне справедливо, и отныне надлежало научиться жить таким образом. Однако видеть бывшего супруга в подобном состоянии было выше ее сил! Он отступил с униженным видом, со страхом поглядывая на каждого по очереди. Его суровая красота и безграничная гордость улетучились. Она создавала этот клан вместе с ним, и ей было невыносимо думать, что придется продолжать дело с кем-то другим. Они оба были из одного помета в четыре особи и сразу же полюбили друг друга, как только родители решили сделать из них пару.
До этой проклятой минуты жизнь их семьи была вполне счастливой. Их благосостояние неуклонно возрастало. Они могли позволять себе щадить немало жертв, отбирая только самых лучших. Даже убивать в пропорции один к десяти!
В день катастрофы они готовились к новой охоте. Уже подыскали приятное местечко, где ей предстояло ощениться. Оно было лучшим из всех, что встречались до сих пор. Радовались все члены стаи, поскольку зима представлялась им безмятежной, а весна должна была принести процветание.
И именно в этот момент нахлынули дурные вести. Первая плохая новость пришла ясным осенним утром. Они узнали о ней на границе своей территории. Старшой тогда встретил отца соседней стаи, который сообщил ему об ужасной ошибке, допущенной их собственным молодняком во время первой охоты. В возбуждении они загрызли молодых мужчин, что было табу из табу. Люди обратили на это внимание. Они собрались толпой на месте происшествия, что-то искали, в тот же день увезли трупы. Итак, человек что-то заподозрил, он явно узнал чересчур много. Затем последовало это кошмарное событие, породившее нынешнее тягостное положение. Люди начали расследование. И как бы это ни казалось невероятным, но они проникли в их логово, унеся остатки некоторых из их жертв. Как же они тогда проклинали себя за то, что вовремя не сгрызли их кости! Но было уже слишком поздно. Какое-то время они надеялись, что эти люди собьются с пути, но этого не случилось. Два человека, на которых они теперь охотились, явились в их берлогу, всюду совали свой нос и даже чуть их не перестреляли.
И с тех пор продолжалась эта отчаянная облава. Она нарушила весь их жизненный уклад, вынудила пробраться вслед за дичью в центр города, где надежные укрытия попадались так редко. И вот сегодня их счастье окончательно рухнуло. Матери хотелось запрокинуть голову и излить в долгом плаче всю свою скорбь, но она не могла этого сделать. Сумеет ли она управиться со стаей лучше, чем ее брат? Она сомневалась в этом. Единственный вариант состоял в том, чтобы назначить главарем ее старшего сына, но этот бунтарь был явно не способен выйти на уровень отца.
Она не доверяла ему. Мать пригляделась: он слишком откровенно демонстрировал свою радость в связи с новым характером взаимоотношений с отцом. А ее горячо любимый брат шел на это унижение! Он мужественно соглашался с таким положением ради сохранения единства в семье. Нет, чрезмерно спесивому сыну надлежало преподать урок. Она подошла к нему и понюхала у него под хвостом. От ярости у того даже вздыбилась холка, но она заставила его отступить. Это был крупный, суровый трехлетка, и его сверкавшие глаза насмехались над матерью, даже когда та его наказывала. Ладно, пусть смеется! Все, что она просила,— это подчиниться. Перевернувшись на спину, он довольно охотно уступил ей, но заметно переигрывал при этом. Это стало той каплей, которая переполнила чашу ее терпения: ухватив сына за глотку, она больно его куснула. От удивления его тело пронзила дрожь — он, должно быть, подумал, что сейчас она его прикончит. Отлично, пусть думает и впредь, что мать способна убить своего сына. Пусть знает, до какой грани довело ее это вызывающее поведение! Она приказала подняться, и он, удрученный, быстро вскочил на лапы. Его глаза широко раскрылись, всем своим видом он выражал глубокое огорчение. По шерсти стекали капельки крови. Его сестра подошла к нему и пристально посмотрела на мать. Очень хорошо, она проявляет лояльность. Повернувшись спиной, мать удалилась. Дети поняли, что ей хотелось остаться наедине со своими мыслями и что идти за ней не следовало. Ее разум обжигала мысль, что младший сын погиб, а брат унижен, сама она оказалась вынужденной возглавить стаю в отчаянной ситуации. Организации их клана был нанесен серьезный удар.
Особенно трудно ей было свыкнуться с мыслью о гибели младшего сына. Он был таким живчиком, такой увлекающейся натурой, жизнь била в нем через край. К тому же он был сильным и резвым, самым быстрым из всех детей, которых она когда-либо видела! Следовало все же признать, что разум его не соответствовал живости тела. Когда они собирались вместе, чтобы насладиться красотой окружающего мира, он, похоже, этого не понимал. И когда отец во время охоты уступал ему главную роль, это всегда кончалось тем, что его место занимала сестра. Но зато какой красавец, добряк, жизнелюб!
Она услышала рядом с собой шорох и повернулась, ничуть не испугавшись. Ни о какой опасности им речи идти не могло, ее-то она давно бы уже учуяла. Она увидела, как горят в глубине кустарника глаза ее брата. Зачем он пришел сюда? Эта привычка не считаться с обычаями так отвечала его характеру. Но как он осмелился стоять там и смотреть на нее? Она попыталась поднять шерсть на загривке, но у нее не получилось. Хотела предупреждающе зарычать, но издала лишь слабое мурлыканье.
Не спуская с нее глаз ни на секунду, отец приблизился, отряхивая снег со своей великолепной бурой шерсти. Видеть его, чувствовать, что он так близко, слышать знакомый ритм его дыхания — все это острой болью отдавалось в ней где-то в самой глубине. Она откинула назад уши и пошла ему навстречу. Они потерлись мордами. Ей так захотелось заплакать, но она встряхнулась и в порыве негодования отодвинулась. Сев на задние лапы, он продолжал наблюдать за ней. Его глаза были полны любви и поразившей ее спокойной радости.
«Теперь за все отвечаешь ты»,— сказал он. Внезапно она почувствовала страх.
Он это мгновенно уловил и резким ударом хвоста по земле ободрил ее: «Верь в себя!» Ее завораживал фейерверк огоньков в его взгляде. Он даже не казался опечаленным. Будто прочитав ее мысли, он поднял голову: «Я сбросил с себя тяжелую ношу,— тихо взвыл он. Затем, как он это часто делал, отец закрыл глаза.— Ты должна ее принять,— сказал он тремя короткими рывками хвоста. Он вывалил наружу язык, улыбаясь ей. Затем снова принял спокойный вид: — Тебе необходимо поверить в себя так, как я в тебя верю».
Этот разговор все в ней всколыхнул. Она знала, что он отказывается от всякой славы ради того, чтобы избежать раскола в их стае. Он явно хотел приободрить ее, но в то же время искренне в нее верил. Пока он изъяснялся, его запах слегка изменился: он неумело скрывал свою любовь и какое-то непонятное ему самому возбуждение от того, что теперь во главе клана встала она.
Мать сделала несколько жестов правой передней лапой и постучала когтями по земле. Он ответил тем же и согласился с ней. Она подчеркнула коротким пронзительным тявканьем то, что перед этим выразила движением. Объяснила ему, что единственная причина, подтолкнувшая ее принять эту роль на себя, состояла в том, чтобы держать под контролем старшего сына. Он одобрил ее. Затем они еще долго терлись мордами, закрыв глаза, слив воедино дыхание и нежно лаская друг друга языками. Теперь это был единственный способ выразить взаимные чувства. Впервые они не могли разделить все. И им не дано было знать, как долго это продлится. Может быть, позднее они еще и совокупятся, но все равно никогда уже это не будет происходить так, как бывало раньше.
Надо было решаться: сейчас или никогда. Она резко повернулась к нему спиной и ушла. Полная печали, она вернулась к детям. Они сгрудились в тени деревьев, от их застывших темных силуэтов исходил запах страха. Они только-только начинали постигать ужасающую новую реальность. Отец отныне был не достоин их доверия, а как проявит себя в этой ситуации их мать, было пока неясно.
Она подошла к ним со спокойствием, которого далеко не испытывала. Все трое встали перед ней, и она потерлась с ними мордами. Всего несколько часов тому назад она стояла вот так же, но вместе с ними, перед своим братом.
Мать изложила им свой план на предстоящую ночь. Тот не отличался оригинальностью: вернуться к дому женщины и ждать первой благоприятной возможности. Ничего лучшего в голову ей не приходило. Да и пресловутые хитроумные идеи ее братца привели к бесполезной гибели одного из членов стаи. А пока что ее дети наилучшим образом воспримут такую незамысловатую и прямолинейную схему боевых действий.
Она знала, что времени у них было мало. Они не могли бесконечно долго оставаться в центре города. А табу в отношении их существования следовало сохранить непременно. Они обязаны были добиться успеха, иначе она будет ответственна за все те несчастья, которые обрушатся на них; им надлежало выполнить намеченное любой ценой!
С какой чудовищной задачей предстояло столкнуться ее семейству! Если бы только... но прошлое ушло навсегда. «И необходимо примиряться с неудачами»,— подумала она, хотя сердце исходило воплем, требуя обратного. Ни в коем случае нельзя было потерпеть поражение.
Сэм Гарнер смотрел, как оба инспектора и их друг, словно зайцы, удирали к высотному зданию. Они вихрем проскочили мимо швейцара и исчезли. Для этого времени года послеобеденные часы были теплее обычного, и газетчики, не заботясь о лужах, шлепали по наполовину растаявшему снегу.
— Невероятно! А ты бы сумел сделать лучше?
— Чем шлепать-то по лужам?
Гарнер зажмурился. Филдс, понятно, отличный парень, но интеллектом явно не блещет.
— Я все время думаю, над чем они все-таки возятся?
— Да они просто выстрелили в собаку у музея.
— А собака ли это была? Ты уверен?
— Похожа на немецкую овчарку. И дьявольски прыткая, хотя в нее и всадили не менее двух пуль.
— А я ничего не заметил.
— Ну что еще тебе сказать? Она действительно промелькнула, как призрак.
Гарнер вписался в поток движения. Он хотел изучить заснеженную лужайку перед музеем. Если там на самом деле кого-то подстрелили, то должны остаться следы крови.
Поэтому они вернулись к месту недавней схватки.
— Захвати фотоаппарат!
Они помогли друг другу перелезть через ограду, отделявшую аллею от лужайки. И действительно, сразу же обнаружили следы. Подтаявший снег слегка их подпортил, но тем не менее отчетливо прослеживались отпечатки лап. В одном из уголков лужайки алели пятна крови. Чуть подальше, ближе к улице, они заметили совсем небольшое темное пятно. Они пошли вдоль стены, хотя фотограф, недовольный этим, отчаянно ругался. Сэм Гарнер начал рыскать вдоль стены Сентрал Парка, пока не наткнулся на то, что искал, — длинную окровавленную полосу на ее вершине.
— Сюда,— закричал он Филдсу, который выбивал снег из ботинок.
— У меня замерзли ноги,— захныкал тот.
— Давай-давай! Помоги мне взобраться на эту проклятую стену!
Филдс был рад, что все ограничилось лишь просьбой подсобить. Сэм забрался наверх и спрыгнул на другую сторону.
Обстановка мгновенно изменилась. Зимой в Сентрал Парке было так же спокойно, как и в пустыне, особенно в этой его части, расположенной в стороне от аллей и поросшей опушенным сейчас снегом кустарником. Гарнер оглянулся. Фотограф за ним не последовал. «Ну и ладно, — подумал он, — один распутаю это дело. Тем хуже для съемок». Он не стал продвигаться сквозь кустарники. Там было слишком холодно и влажно, а он не был подобающим образом одет. Репортер обогнул заросли и вновь вышел на след. Теперь отпечатков лап стало намного больше, и были они по меньшей мере трех видов. Оставившие их твари прошли здесь совсем недавно. Неужели речь идет о стае одичавших собак, гоняющихся за двумя копами, столь несдержанными в применении оружия? Хорошенькую же обещало это историю!
Пройдя по следу еще несколько метров, он остановился. Прямо перед ним на снегу растеклась большая лужа крови, и от нее тянулись к еще более густому кустарнику отпечатки, не заметить которые было просто невозможно. Проклиная все на свете, Гарнер подлез под нависшие ветви; каждый раз, когда он задевал их, комки снега падали ему за шиворот. Несмотря на это, он, согнувшись в три погибели, продолжал пробираться вперед, глубоко увязая в снегу. Наконец он выбрался на поляну: ветви вокруг поломаны, раскисший снег нещадно вытоптан, повсюду брызги крови. «Боже мой!» — только и смог вымолвить журналист. На земле валялись наполовину смерзшиеся куски мяса и свалявшиеся пучки шерсти. Зрелище было отталкивающим. Гарнер внезапно почувствовал свое полное одиночество, его охватил страх. Он пошарил взглядом в ближайших кустах. Что это? Вроде бы мелькнула тень? Сгустилось гнетущее беспокойство. Даже воздух, казалось, был пропитан каким-то зловещим преступлением. Здесь совсем недавно правило бал насилие, все кругом смердело. Его затошнило от этой мерзости. Пахло плесенью... чем-то напоминающим ему запах самки вперемешку со зловонными испарениями от крови. «Господи, да что ж это такое?» — пробормотал он. И Гарнер вернулся в мыслях к двум инспекторам, к странным событиям, свидетелем которых он оказался полчаса тому назад. «Что все-таки могло произойти?»
Он неспешно, осторожно отступил из зарослей. У него зуб на зуб не попадал, хотя он весь истекал потом. Репортера охватило всепоглощающее желание немедленно, что было мочи, бежать отсюда. Он вынудил себя идти как можно медленнее. Уже послышался приглушенный гул движения транспорта в западной части парка, совсем неподалеку от него. Но он чувствовал себя заброшенным куда-то за тысячи километров от всякой цивилизации — настолько все вокруг казалось ему диким и нечеловеческим, и последнее слово очень точно характеризовало обстановку. Чувствовалось присутствие чего-то чудовищного и всемогущего. Его охватил ужас, и на какое-то время он испугался, что запаникует. Журналист ускорил шаг, хотя на бег еще не переходил.
— Эй, Сэм,— позвал его далекий голос.— Сэм!
Гарнер слышал его, но был настолько напуган, что даже не решился ответить. Он был убежден, что кто-то находился совсем рядом и, прячась в тени, преследовал его по пятам. Он сначала пошел трусцой, а затем стремглав бросился бежать. Он раздвигал хлеставшие его по лицу ветви, потерял меховую шапку. Продираясь сквозь чащу, поранил руки.
— Рич! — завопил он.— Рич!
Фотограф стоял у основания стены. От удивления у него глаза полезли на лоб, и он пронзительно закричал.
— Помоги мне!
Гарнер подбежал к стене и судорожно вцепился в протянутые ему Филдсом руки. Он с трудом перевалил через ограду. Поддерживаемый фотографом, он шлепнулся на скамейку.
— Бог ты мой! Что стряслось? — пролепетал Филдс.
— Понятия не имею.
— Тогда смываемся отсюда, да побыстрей!
Филдс так стремительно побежал к машине, что чуть не угодил на шоссе под колеса. Гарнер тянулся за ним из последних сил. В парке произошло нечто такое, чему он никак не мог дать определения. Его преследовало какое-то исчадие ада.
Он вскочил в машину, сильно хлопнув дверцей, и сразу же нажал на кнопку замка. Затем прижался сплошь исцарапанным лицом к рулю.
— Что же это было? — прошептал он.
Журналист посмотрел на Филдса и неожиданно расплакался. Фотограф, застеснявшись, отвернулся.
— Не знаю. Это было нечто покрупнее собаки и с подобием... лица...— выдохнул он.
— Опиши его! Мне надо знать.
— Не могу... Я видел его всего лишь какую-то долю секунды.— Он медленно покачал головой.— Нет ничего удивительного в том, что копы немедленно пустили в ход свою артиллерию. Эта тварь прямиком пожаловала к нам из преисподней.
— Чушь,— огрызнулся Гарнер.— В ней не было ничего от потустороннего мира. Это реальное существо из плоти и крови. Не знаю, был ли это сам дьявол из Тасмании, но в одном я уверен абсолютно — это свободно шастает по Нью-Йорку, и из этого получится сенсационная статья.
— Дикое животное вырвалось на волю. Далее второй страницы не пойдет.
— Эх ты! Пораскинь немного мозгами. Убийство с увечьями в парке. Копы в панике удирают от чего-то, похожего на собаку. А теперь, когда мы повнимательнее к этому пригляделись, выходит, что никакая это и не собака.
Он замолчал. Нахлынуло яркое воспоминание об этом нечто, вплотную подобравшемуся к нему в чащобе. И хотя он и не разглядел его, воображение Гарнера заработало вовсю.
— Рич, там была кровавая баня. Как на бойне. Кто-то совсем недавно провел неприятные четверть часа, и это зловоние, черт возьми!
— Зловоние?
— Это была какая-то сплошная порнография. Как будто оросили все кустарники вокруг. Ничего не видно, но пахло, как... — Что?
— Не знаю. Неважно!
Ему показалось, что краешком глаза он увидел какую-то нечеловеческую «физиомордию», наблюдавшую за ним со стены. Он поспешно включил зажигание и сорвался с места, направив машину к центру города. С их пресс-карточкой проблем с парковкой не было, и поэтому они остановились прямо у «Балтимора», чтобы пропустить стаканчик.
— Ну здесь-то спокойно,— прошептал Сэм.— И призраков не водится. Мне нужно оклематься.
Филдс последовал за ним без возражений.
— Что ты обо всем этом думаешь? — спросил он Гарнера, как только они устроились на двух высоких табуретах у стойки роскошного бара из красного дерева.
Сэм не ответил.
— Бармен, один «манхэттен». Здесь они делают его бесподобно,— буркнул он.— И вообще, класс бара определяют по качеству приготовления этого коктейля.
— И все же, что там произошло, Сэм? — снова обратился к нему Филдс на этот раз уже более настойчивым тоном.
Он хотел это знать. Наклевывалась превосходная статья и понадобятся хорошие фото. А он успел заметить зверя, который преследовал репортера. Но он совсем не собирался ему рассказывать о нем. Тварь вышла из зарослей как раз в тот момент, когда Сэм добрался до стены. Уселась, наблюдая за ним. Потом ее уши прянули в его сторону, и она просто-напросто растворилась в воздухе. Это длилось не более секунды. Только что было нечто, напоминавшее большой серый шар, и в один миг — исчезло.
За эту секунду он успел бы сделать отличное фото. Но Рич Филдс упустил свой шанс. Потому что он окаменел, глядя во все глаза на кошмарное создание. Он никогда ничего более чудовищного в своей жизни не видел. И к тому же все произошло так быстро! И вообще он был не способен утверждать что-либо с полной уверенностью. Может быть, это всего лишь световые блики на пасти собаки. Он взглянул на Гарнера.
— Ну?
— Черт тебя побери, но откуда мне знать? Хватит приставать. Ты не главный редактор. Это какое-то, непонятно почему вызывающее тревогу животное. Его невозможно даже вообразить.
— Ну ладно, с этим ясно. Но именно оно убило Эванса?
Гарнер, вскинув брови, взглянул на фотографа.
— Ну конечно же. За ним также тянется шлейф той крови, что копы обнаружили сегодня утром на скамье. В парке обитает монстр.— Он задержал свой взгляд на бокале.— «Чудовище опустошает парк». Нет, такое название подойдет скорее для «Нэшнл геральд», правда? Но у нас с тобой нет доказательств, за исключением того, что, как нам показалось, мы видели. Но для «Поста» это мало.
Филдс нехотя кивнул. Он смаковал свой «мартини». Гарнер чувствовал себя в этом баре превосходно. Полжизни проводишь в каких-то забегаловках и забываешь, насколько сказочно приятным может быть «бифитер-мартини», сделанный по всем правилам. Он вдруг почувствовал себя кутилой.
— Может, позвоним?
— Еще рано. Слишком много неясных моментов. Если повезет, то, в конечном счете, состряпаем неплохую статейку. А эти двое инспекторов до чертиков перепугались. И знаешь что? Они пристрелили одного из этих монстров на лужайке перед музеем. Они опасались этого нападения. Я тебе объясню, что происходит: мы с тобой напали на какую-то жуткую хреновину, которая совершенно свободно болтается по этому городу, а полиция дрейфит сообщить об этом общественности.
Филдс улыбнулся.
— Но это же будет потрясающий материал, Сэм. Главное — собрать все кусочки-воедино. А это непросто. Нам не с руки устраивать засаду на этого зверюгу, и мы не в силах размотать историю сами без помощи этих двух копов. Думаю, что нам придется повертеться.
— Ну и острая у вас интуиция, доктор Фрейд. Дело весьма щекотливое, но мы его распутаем... если не сломаем прежде головы.
Филдс расхохотался, но это был деланный смех.
Как только человек спрыгнул со стены, окружавшей парк, Старшой сразу учуял чужака. Небольшого роста, тот отличался подвижностью, ловкостью, на лице чувствовалось любопытство. Однако продвигался он явно колеблясь, как будто с трудом отыскивая следы. Впрочем, так для него оно и было, поскольку он должен был идти от одного кровавого пятна к другому. Трижды Старшой думал, что тот терял отпечатки, но каждый раз он находил их снова. И неуклонно приближался, не замечая его.
Остаток стаи к этому времени уже покинул место, где произошла послеполуденная катастрофа. Задержался лишь он один. В грустном настроении он решил побыть немного на том месте, где погиб его сын. И уже собирался в путь к их новой берлоге на другом конце парка, как услышал поскрипывание снега под ногами, а затем и шум от приземления перемахнувшего через стену человека. Нюх немедленно подсказал ему: запах одежды был для него новым. Но, несмотря на ее толстый слой, он тут же ясно почувствовал особый аромат тела: человек обладал отменным здоровьем и был заядлым курильщиком с крепкими легкими. Он продвигался, шумно дыша, с треском и звоном. Когда он подошел совсем близко, Старшой чуть не задохнулся от могучего желания тотчас же убить его. Еще один из тех людей, что суют нос в их дела!
Затем этот человечек стал подниматься по склону. Он подлез под кусты и сдавленно вскрикнул, обнаружив лужу крови. Старшой одним прыжком оказался совсем рядом, чтобы рассмотреть его.
Незнакомец его не видел, но выскочил из зарослей так, как будто почувствовал его присутствие. Во всяком случае, его обуял страх: он натолкнулся на что-то ему неведомое, и это побудило его вернуться обратно к представителям своего вида, к людям. Он пустился бежать; Старшой не отставал от него. Его бросало в жар от желания растерзать врага, он уже широко открыл пасть. Понадобилось мобилизовать всю свою волю, чтобы не броситься на человека. Он знал, что это было бы ошибкой. Он не имел права так рисковать, к тому же этот свидетель ничего особенного и не обнаружил — всего лишь кровь, которая исчезнет, как только растает снег. И еще одно: рядом не было членов стаи, чтобы помочь ему спрятать тело. В этой ситуации он был бы вынужден оставить тело на месте, пока не сбегает за ними. Теперь, когда он уже не главарь, они бы не ответили на его призыв, хотя он мог войти с ними в контакт голосом на расстоянии в несколько километров. За это время другие люди могли бы обнаружить труп, и их неприятности от этого только бы усугубились. Следовательно, надо дать ему возможность улизнуть.
Человек уже подбежал к стене, взывая о помощи. Появилось чье-то бледное лицо. На миг их взгляды встретились. Смотреть в человеческие глаза было почти то же самое, что вглядываться в извечного врага... или в горячо любимую сестру.
Надо было уходить... Вперед! В мгновение ока он исчез в чаще. Затем он принюхался, выявил место, где находились члены его клана, и припустился в ту сторону. Его попеременно захлестывали чувства то облегчения, то вины за то, что он не загрыз этого человека. Такой внутренний разлад разъярил его и дал подпитку его отчаянию. Его охватили печаль и озабоченность. Его сородичи должны одержать победу над человечеством. Слишком много людей знали о том, что они есть на свете. Его будоражили свойственные их виду эмоциональные всплески. В мозгу вихрем проносились свирепые и неистовые мысли. Медлить было нельзя. «Сегодня ночью,— подумал он на бегу,— или никогда».
Перевел с английского Ю.Семенычев
Окончание следует
(обратно)
Оглавление
По заветам Корана и зову сердца
Праздники всегда с нами
Таинственное исчезновение Лайонелла Крэбба, «человека-лягушки»
Два Робинзона
Подземный ход в Кремль
Петля на тигриной тропе
Гигантские змеи Амазонии
Господин Голу
Альтдорфская примета. Джеймс Пауэлл
Оборотни. Уайтлей Стрибер
Оборотни. Уайтлей Стрибер. Продолжение
Последние комментарии
3 часов 29 минут назад
8 часов 32 минут назад
16 часов 21 минут назад
18 часов 52 минут назад
19 часов 4 секунд назад
2 дней 6 часов назад