Новая поправка лоции

Это странное сооружение с башней походило скорее на звездную обсерваторию. Оно высоко возвышалось над распластанным заливом, защищенным курчаво-зелеными холмами, и наводило на мысль, что рассчитано на бесконечную силу ветра... Все остальное в бухте Врангеля более или менее было мне знакомо. Четкие геометрические линии причалов, яркие разноцветные кубики контейнеров и синие лучи труб, бегущие над бетонной площадью, горы, как желтая пшеница, древесной щепы, локальные строения . с осветительными вышками-мачтами промышленного телевидения. Ангары из рифленого железа цвета сопок между сопок... И даже то, что я видел впервые, легко узнавалось, как, например, угольный пирс, похожий на палубу авианосца, стоящего кормой к берегу, лицом в открытый: залив. Но это странное сооружение, возникшее неожиданно, как белый корабль, у входа в Восточный порт на мысе Каменского...
— Что это? — спросил я, как только оказался у начальника порта Виктора Андреевича Васяновича.
— Электронный лоцман. — Он улыбнулся, и я понял: Васянович вложил в ответ самое доступное понятие. И он тут же посоветовал встретиться в Приморском морском пароходстве с Коротаевым.
— В этом сооружении есть доля его участия, — сказал Васянович, — а называется оно: Единая комплексная система управления движением в заливе Находка.
Вернувшись из Восточного порта в Находку, я нашел Коротаева в Службе безопасности мореплавания. Он сразу же узнал меня, а я, так же как и девять лет назад, отметил в его поведении завидную непринужденность, которая сняла мою неловкость за неожиданное вторжение.
Форменный пиджак его висел на спинке стула, и он, освободив узел галстука, широко улыбнулся, глаза его сузились, заискрились... Он поднес руку к седеющей голове, как бы напоминая о давности нашего знакомства в редкую для этих широт снежную зиму 1971 года.
Анатолий Владимирович в ту пору был капитаном Находкинского порта. Помню, знакомясь с городом, я опоздал на рейсовый катер и под вечер забрел к нему, попросил помочь добраться до бухты Врангеля. Случилось так, что наши заботы совпали, и вскоре мы с ним на небольшой служебной посудине уже пересекали залив и, стоя на открытой палубе, смотрели на редкие тусклые огоньки только недавно начавшего строиться порта. В бухте Врангеля я жил уже целую неделю и легко, даже на большом расстоянии, мог по огням отличать нехитрые строения на берегу бухты. И особенно многопалубное судно «Приморье», которое служило общежитием для одиноких и домом для семейных. Четыре огня этого судна были сосредоточены вместе. Два средних чуть выше двух крайних. Если соединить эти огни, получался контур двухмачтового судна. Правда, в бухте обычно до утра блуждали огни землечерпалки, но они и вблизи-то не очень светились и напоминали разбухшие светящиеся точки. А за кормой нашего катера оставалось зарево от огней многооконного города, огней судов, которые высвечивали голубовато-зеленую воду и, преломляясь, освещали корпуса транспортов. Их было много, стояли они и вдоль прибрежной полосы и на рейде «Да, — говорил Коротаев, — Находке уже тесно в ее удобной бухте, и хорошо, что начали строить другой порт в соседней бухте».
Помню, я спросил его, где бы мог прочесть описание бухты Врангеля, и Анатолий Владимирович посоветовал.
— Вы остановились в «Приморье»? Попросите у капитана лоцию Японского моря — в ней все четко и кратко.
В тот же вечер я раздобыл лоцию, нашел нужную страницу и прочел «Бухта Врангеля вдается в восточный берег залива Америка (в наши дни он переименован в Находку) между мысом Каменского и находящимся в восьми кабельтовых от него мысом Петровского Северный и северо-восточный берега бухты возвышенные. К восточному берегу подходит покрытая травой обширная низменная долина, по которой протекают впадающие в бухту речки Хмыловка и Глинка. Южный берег бухты образован пологими, а юго-западный более крутыми склонами прибрежных гор. Склоны гор покрыты кустарником и лесом».
Вот такой я увидел бухту Врангеля. Если не считать, что была зима, а сопки, покрытые почерневшей травой и редким лесом, — серыми и неуютными. И когда мы теперь познакомились с Васяновичем, я сказал ему об этом.
Как выяснилось, с Виктором Андреевичем мы знали друг о друге — у нас были общие знакомые, — но встретились впервые Я сразу почувствовал: он куда-то торопится, весь зажат в тисках забот. Но как бы ни скрывал Васянович свою занятость, светлые глаза выдавали смущение и нетерпение. И хотя наша встреча обещала быть непродолжительной, я начал издалека: спросил его о прошлом, что испытывает он теперь, вспоминая то время, когда здесь, кроме океана, сопок, тайги, ничего не существовало...
— Какие эмоции... — сказал Виктор Андреевич так, словно я своим вопросом хотел его сбить с делового настроя. — Естественные эмоции, — проговорил он жестко после некоторого замешательства. — В 23.30 в Находку мне вдруг позвонил из Владивостока тогдашний начальник Дальневосточного пароходства Бянкин, сказал, чтобы в восемь утра я был у него в кабинете. Я бросился искать шофера, нашел его в три ночи. А в пять утра выехали. Так что в восемь я был уже у Бянкина. «Вот мы посоветовались с краевым комитетом партии, — сказал он с ходу, — и решили назначить тебя начальником Восточного порта…» В тот день я просидел в пароходстве до семи вечера и после долгих раздумий наконец заявил о своем согласии. Возвращаюсь обратно и думаю, как создавать коллектив на голом месте? Тут ничего не было — ни воды, ни света. Где взять ведро, палатку, куда посадить отдел труда и зарплаты, вселять вновь прибывших? Как и каким транспортом ездить? Какие емкости найти для топлива? А тут еще и охрана окружающей среды. Ком вопросов. Помню, в ту зиму много ребят родились прямо на катерах — не успевали женщины дойти до находкинского роддома, потому что в заливе хоть и небольшие, но льды были. Ну а для катеров это... сами понимаете.
Виктор Андреевич посмотрел на часы и в знак того, что располагает еще несколькими минутами, продолжил:
— Надо было здесь жизнь создавать. Не только строить.
— А дальше?
— Дальше. Начали строиться — жилье, быт, поселок, и все это, как вы сами понимаете, в основном за десятую пятилетку. — Виктор Андреевич, на ходу предвосхитив мой вопрос, решил, не останавливаясь, ответить на него. — Понимаю. Хотя порт начал строиться в 1971 году, мы считаем — он детище десятой пятилетки, потому что все главные сооружения — щеповой, контейнерный и угольный комплексы — мы построили за это время… Сейчас фактически разработана вторая очередь строительства на одиннадцатую пятилетку, и мы предполагаем строить три контейнерных комплекса, еще один лесной причал, два комплекса по переработке зерна.
— Виктор Андреевич, зависит ли дальнейшее строительство порта от торговли со странами тихоокеанского бассейна? — спросил я.
— Еще и от строительства Байкало-Амурской магистрали. Вот вместо второго глубоководного угольного пирса мы пока решили строить рудный комплекс. Почему? С трассы БАМа в перспективе пойдет руда... Вообще-то многие считают выходными воротами БАМа в Тихий океан порт Ванино, потому что трасса приходит в Комсомольск на-Амуре, а оттуда в Совгавань и в Ванино. Но ведь географически выгоден выход БАМа на Восточный порт. Отсюда ближе в порты Японии и в Юго-Восточную Азию, к Австралии и ближе, через проливы, к США. Смотрите, вот она, карта. — Он встал попросил и меня подойти к огромному полотну во всю стену и остановил мое внимание на линии Татарский пролив — залив Находка. — Если взять расходы железнодорожные и морские, то выгодно было строить порт здесь, потому что мы слабо замерзаем, а Совгавань сильно. И если на угольный пирс поставить судно с чистой грузоподъемностью в сто пятьдесят тысяч тонн, то есть насыпать в него столько угля, то эту махину, несмотря на то, что у нас есть мощные ледоколы, провести во льдах практически невозможно. Пусть несколькими ледоколами. Такая громадина застрянет как утюг, и ее не сдвинешь с места. Это к тому, что Ванино замерзает... Убедил я вас?
В отличие от Васяновича Коротаев никуда не торопился, и, пока он говорил по телефону, я разглядывал полки, полные тайн и пищи для воображения человека, живущего далеко от моря. Солидные издания морских книг, пособий с астрономическими таблицами, звездными картами, и многое другое, что собиралось годами. Тут же, на видном месте, колонной стояли ежегодники английского издания «Порты мира». Я нашел самый последний том за 1980 год в ярко-желтой обложке, отложил на журнальный столик, И тут из телефонного разговора понял, что нахожусь не просто в помещении Службы безопасности мореплавания, но и в кабинете заместителя начальника пароходства.
Настроение хозяина располагало к неторопливой беседе, и, прежде чем говорить о деле, ради которого я пришел сюда, осторожно, как бы издалека, спросил об истории награждения его орденом Итальянской республики.
— Неужели ты из-за этого и пришел ко мне? — взорвался в заразительном смехе Анатолий Владимирович. Он достал несколько пачек сигарет разных мастей, выложил на стол. — Кури, выбирай, какие по вкусу... И давай-ка лучше выкладывай, зачем пришел.
Судя по тому, что Коротаев легко перешел на «ты», он отнесся ко мне как в давнему знакомому, и я, воспользовавшись этим, осмелел:
— Нет. Сначала об этом. За что наградили? — настаивал я, хотя слышал от своих владивостокских друзей-моряков, что он спасал итальянских моряков.
— Ну ладно... — небрежно бросил он, чтобы покончить с этим разговором. — В общем, получилось так: между Гаваями и Панамским каналом взорвался итальянский танкер. Когда мы подошли...
— Анатолий Владимирович, — прервал я его, — меня интересуют подробности.
— Подробно так подробно, — смирившись, сказал он. — Ты же знаешь, я работал раньше капитаном порта Находка. А по положению один раз в три-четыре года должен был выходить в море, чтобы не потерять свой профессионализм, что ли... Так вот, в 1974 году я пошел в рейс на теплоходе «Новиков-Прибой», ходил по маршруту: Владивосток — Япония — Канада — США — опять Канада... А в конце рейса в Японию и домой. После завершения в Америке грузовых операций я намеревался идти севером, через Алеутские острова, но там начались зимние шторма. Тогда-то решил пойти югом. Мы спустились почти до параллели Гавайских островов и, находясь между Сан-Франциско и Панамским каналом, получили радиограмму, что в таких-то, таких-то координатах терпит бедствие итальянский танкер «Джованни Лолигетти», ему необходима наша помощь... Это потом мы узнали, что танкер взорвался. По всей вероятности, один из танков судна был недегазирован... Мы от места катастрофы находились тогда в двухстах милях, и в радиограмме начальника береговой охраны западного побережья США указывалось на то, что мы — единственное судно, находящееся в этом районе и на борту которого есть врач. Вообще-то иностранцы привыкли к тому, что на советских судах врачи есть всегда. Но тут был один интересный момент...
Анатолий Владимирович умолк, с хитринкой посмотрел на меня и спросил:
— У тебя никакого вопроса не возникает? — И тут же сам ответил: — Береговая служба-то ведь не знала, что мы пойдем югом, а координаты «Новикова-Прибоя» имела точные. Так что эта служба США налажена очень хорошо... Когда мы подошли, от итальянского танкера уже ничего не оставалось: плавал кусок железа, помню еще какое-то светлое пятно на воде... Еще до нас пришел военный корабль с Гавайев, стоял тут же «норвежец», на борт которого и поднимали спасенных. И мы спустили бот. На нем пошел мой второй помощник, прекрасно владеющий английским языком, сейчас уже отличный капитан — Паша Чечехин, потомственный моряк: дед был капитаном и отец — капитан. Хороший парень, рекомендую тебе встретиться с ним... Он пошел, врач пошел и один из Механиков. Они выловили нескольких человек и подняли на норвежское судно. Остальных подобрали до нас. И оказывали им первую помощь; итальянцы были в тяжелом состоянии, обгоревшие, подавленные, некоторые без сознания... Делали переливание крови. И вот, когда подошел наш врач, посмотрел на трубку, по которой шла кровь, то заметил в крови пузырьки воздуха. Он вовремя перехватил, пережал трубку. Если бы воздух попал в кровеносные сосуды спасаемого, человек погиб бы... Занимался переливанием на «норвежце» фельдшер. Наши провозились на «норвежце» часов восемь...
И все как будто бы на этом и кончилось. Но позже, когда я был в Ленинграде в командировке, позвонили из Москвы, чтобы я немедленно прилетел: через день надо идти в посольство Италии. Вручал орден сам посол. Орден за заслуги перед Итальянской республикой...
Как-то после этого к нам в Находку пришло итальянское судно, я попросил одного из экипажа, знающего русский, перевести текст орденского диплома. «Если бы меня наградили этим орденом, — сказал он, — то меня называли бы не просто сеньором, а кавальеро».
— Почему не носишь? — спросил я Анатолия Владимировича.
— Чего носить в будни? — Он снял трубку телефона, набрал номер и спросил: — Пожалуйста, посмотрите, какие последние коррективы имеются по Восточному порту... Подождите, вы читайте, а я буду повторять. Так... Восточный порт находится в бухте Врангеля... Дальше читайте — вот, вот. Район приема лоцмана показан на карте. Портовые средства и оборудование... В порту погрузочно-отгрузочные работы механизированы... Можно произвести мелкий ремонт судов и электросварочные работы. Причальные сооружения приводятся в таблице...
На том конце провода кто-то подробно, не пропуская даже запятой, читал в телефонную трубку данные поправки лоции: номера и назначения причалов, их размеры, глубины у стенки, каналов и многое другое, знакомящее мореплавателей с обстановкой нового порта. Слушая Коротаева, нетрудно было догадаться, что он это делает для меня. Он напоминает наш давний разговор о лоции и показывает теперь, какие перемены произошли на берегах бухты Врангеля.
Поблагодарив за информацию, Анатолий Владимирович положил телефонную трубку и пристально посмотрел на меня:
— А теперь слушаю тебя.
Я рассказал ему о встрече с Васяновичем, сказал, что, когда коснулись системы управления движения в заливе Находка, Виктор Андреевич вскользь упомянул о причастности его, Коротаева, к этой системе.
— Ты вот о чем?! — воскликнул Анатолий Владимирович. — Ладно... Все это началось с того, что в 1972 году к нам приезжал министр морского флота Тимофей Борисович Гуженко. А у меня к этому времени как у капитана порта назрела проблема постройки береговой радиолокационной станции для проводки судов в туман и плохую погоду. Тимофей Борисович хотел посмотреть начало строительства Восточного. Пошли туда на катере — министра сопровождал начальник Дальневосточного пароходства Валентин Петрович Бянкин. Туда шли — стояла прекрасная погода, назад пошли — накрыл такой туман, что когда мы подходили к нефтепорту, то увидели пирс лишь на расстоянии пятнадцати метров. Конечно, для того чтобы обеспечить этот переход, я взял второй катер с радаром и, пока шли, поддерживал с ним связь... Вернулись обратно. Я тихо говорю Бянкину: давай, мол, скажем министру, что надо все-таки строить береговую станцию, и приведем в пример сегодняшний случай. «Сам обращайся», — посоветовал Валентин Петрович.
Помню, подошел к министру:
— Тимофей Борисович, видели, какие у нас туманы?
— Чего хочешь? — спросил он.
— Береговую радиолокационную станцию для порта Находка, — отвечаю.
— Мелко мыслишь, — вдруг говорит Тимофей Борисович, — строить так строить целую систему на весь залив...
— И что было после разговора с министром? — спросил я.
— Мне пришлось много повозиться с этим делом. Где-то через полгода вызвали меня в Москву на переговоры... Но то, что ты видел над мысом Каменским, не все. Это основной пост. Есть еще два вспомогательных — один на мысе Астафьева в бухте Находка, а второй возле нефтегавани. Каждый из этих двух постов связан с основным, где радиолокационная информация обрабатывается с помощью шестнадцати электронно-вычислительных машин. Одна, самая крупная, четвертого поколения, американская.
— А как судно проводится с помощью системы? — спросил я и увидел на лице собеседника едва уловимую тень усталости. Но он быстро овладел собой.
— Если только популярно. Очень популярно... На подходе судно дает данные о себе: груз, откуда и куда идет, название свое, тоннаж. И все это вводится сразу в память машин. Когда судно уже входит в зону радиолокационного наблюдения, даже в самый густой туман начинают за ним следить, а ЭВМ, связанные с локатором, определяют, правильно ли идет цель — судно, с присвоенным ему машинным номером. В случае если в сходящихся фарватерах возникает опасное сближение двух судов, то машина сразу информирует об этом и выдает рекомендации, как избежать столкновения. Либо, допустим, суда стоят на якорях в каком-то определенном районе, данные о котором заложены в память машины. Дует сильный ветер. И вдруг одно из судов начинает дрейфовать на якоре. Машина сразу начинает «шуметь»: цель такая-то вышла за пределы безопасной зоны. Соответствующие меры принимаются или операторами, или лоцманской службой...
— Анатолий Владимирович, и последнее. — Я протянул ему отложенный мною томик «Ports of the world» — «Порты мира». — Есть ли в этом справочнике что-нибудь о новом Восточном порте?
— Конечно! — шумно выдохнул он и быстро нашел нужную страницу. — Вот, — сказал он и начал читать, сразу переводя на русский: — «Восточный. 42 градуса 17 минут северной широты, 132 градуса 52 минуты восточной долготы. Глубина в бухте 18 метров. Порт может обрабатывать 360 тысяч тонн пиленого леса, 800 тысяч тонн древесной щепы, 700 тысяч тонн контейнеров и 6,2 миллиона тонн угля в год. Порт продолжает строить контейнерный терминал и, когда закончится строительство, будет обрабатывать до 140 тысяч контейнеров в год...»
Анатолий Владимирович еще несколько секунд молча глядел на раскрытый томик, думал о своем и, как бы завершая разговор, захлопнув томик, добавил:
— Это тоже можно отнести к поправке лоции...
Надир Сафиев
(обратно)
Край вождя Гуама
 Тень пяти континентов
Тень пяти континентов
Где-то далеко люди платят иены, франки и доллары, чтобы глотнуть из специального автомата чистого воздуха. Где-нибудь при въезде в Париж или Рим воют, бьются или просто с ненавистью друг друга пожирают глазами-фарами застрявшие в дорожной пробке автомобили. Захлебываются в удушливых парах бензина и выхлопных газов, проклинают человечество, выдумавшее двигатель внутреннего сгорания. Где-то даже живительный дождь не может просочиться сквозь мертвые пласты смога. Да и здесь, в какой-нибудь сотне километров, проносятся по Гаване с сумасшедшим ревом «огненные кобылы» (так называли когда-то индейцы первые американские паровозы, так сейчас называют в шутку гаванцы свои автобусы, беспредельно забитые висящими на руках и друг на друге, обливающимися потом, но веселыми пассажирами).
Здесь же — в национальном парке — тишина и спокойствие. Мы стояли, облокотившись на перила изогнутого над речушкой мостика и смотрели, как в прозрачной золотисто-зеленоватой воде жирный полуметровый зеркальный карп отдыхает после обеда на огромном, заросшем мягкими водорослями валуне. Рядышком с ним ежилось в воде солнце, проскальзывавшее сквозь высокий кустарник и густые кроны пальм. Из-под валуна выглядывали пряди густых белых облаков. Воздуха словно не было. Его не чувствовалось — так он легок и свеж.
У берега задумчиво перешептывался камыш. Над нами в пронзительной голубизне застыла большая белая птица...
Было так и в прошлом веке, и в прошлом тысячелетии…
Несколько веков назад неподалеку от лагуны жило большое индейское племя. Остатки захоронений, найденные археологами, рассказали совсем немного. Нашли несколько черепов, посуду и ложки из потемневших отполированных морских раковин, бусы из позвоночников уже несуществующих рыб и разноцветных замысловатых ракушек. Нашли идола из редчайшего черного камня.
— Несколько лет назад здесь фактически ничего не было, — рассказывал директор недавно построенного в национальном парке туристского городка Педро Флорес Морфа. — Только лагуна, пальмы и заливные луга. Идея создания заповедника принадлежит Фиделю. Решили по возможности восстановить былой вид этой индейской деревушки и назвать ее по имени вождя вымершего племени — Гуама. Из Гаваны приехали архитекторы, историки, биологи, художники... Вырыли каналы, очистили лагуну и речушки, посадили деревья и цветы, которые, по всей видимости, много веков назад росли на этом месте. Из многих стран мира привезли рыб. Этот зеркальный карп, например, из Южной Америки. На сваях поставлено было сорок четыре индейских хижины. Строили их по настоящему индейскому методу — из пальмы и покрывали большими пальмовыми листьями. Вообще старались, чтобы все выглядело, как в старой, доколумбовой, Америке. Даже современные и необходимые туристскому центру магазины, ресторан, бары, бассейны насколько возможно стилизованы под старину. Теперь у нас отдыхают туристы со всех континентов, и все, конечно, в восторге...
На правом берегу лагуны, на травянистой косе — глиняные скульптуры индейцев в натуральную величину. Несколько лет жизни отдала им известнейший кубинский скульптор Рита Лонга.
…Мускулистый юноша только что поймал крокодила, изловчившись накинуть ему на пасть веревку. Славная добыча!
Напряглись мышцы воина, пускающего дротик в заросли тростника и эвкалиптовых деревьев. Не уйти уже врагу. Хотя нет. Дротик нацелен в зверька «жутиас». Его не сразу заметишь среди ветвей. Еще один, еще... Да их здесь десятки! А у подножий деревьев беснуются загнавшие их наверх бесстрашные индейские собаки, тоже глиняные, но выглядят они совершенно живыми.
В камышах бесшумно плывет охотник на уток. Голова его прикрыта половиной большого кокоса. Наивная утка садится на эту шляпу, ничего не подозревая, и чистит перья. Р-р-раз! Как молния взлетает рука и накрывает птицу.
Стирает в глубоком глиняном корыте морщинистая, усталая и потемневшая от жизни старуха. Развеваются на ветру седые пряди волос, напоминающие высохшие водоросли.
Ласково смотрит совсем молоденькая тоненькая женщина на младенца, сладко сосущего ее полную материнскую грудь. Она что-то поет ему. Может быть, колыбельную, которые похожи у всех народов мира.
Настоящая индейская деревушка. Плетеные темно-коричневые мостики пересекают искусственные речушки, на дне которых блестит червонным золотом спина форели и мелькают, как светлячки, так называемые бешеные бычки, кружатся маленькие крокодильчики. Рыбная ловля здесь, естественно, запрещена, но раз в год проводятся международные соревнования рыбаков-любителей.
Разве что современные кровати, стол, зеркало да выложенный обожженным кирпичом очаг немного отличают хижины от настоящих индейских. В центре деревушки — небольшая площадь, на которой жители собирались для обсуждения общих проблем, для чествования победителей. Сейчас вечерами здесь гремит музыка из многочисленных колонок усилителей, танцует молодежь под джаз кумира кубинцев Пабло Миланеса.
Вокруг городка, в десяти метрах от хижины, — заповедник. Между кряжистыми, в три обхвата дубами, корявыми усталыми ягрумами, томными альмендрами и воздушно-легкими пробковыми деревьями лежат душистые мягкие травы, перемешанные с большими цветами. Деревья сюда тоже привозили со всех пяти континентов. И птиц, которых здесь тысячи — желтых, зеленых, фиолетовых, бордово-красных… Затрудняюсь перечислить их названия. Отдыхает в тени на берегу сонный сытый фламинго, гордо вышагивает по дорожке, выложенной камнем, пеликан, блестят на солнце капельки в красных перьях цапли, порхают тяжелые, в человеческую ладонь, бабочки.
До революции Куба, как и другие страны Южной Америки, славилась своими городскими парками. Еще Маяковский во время поездки на остров восхищался здешними «чудесами ботаники». Собственно, сама яркая, почти сказочная природа Кубы с небольшой помощью архитекторов создавала парки. Но примеров государственной заботы о цветах, деревьях и птицах заповедников и национальных парков почти не было. И растительный и животный мир в меру своих возможностей служил американскому туризму. Туристам некогда, да и незачем было думать о бережном отношении к этому миру: на временной для них огромной турбазе — острове отдыха — в бархатный сезон. Да и сами простые кубинцы, как писал Николас Гильен: «говорили себе, зачем нам нужен этот курорт Варадеро, если его пляжи принадлежат кучке американских миллионеров!.. Зачем вообще эта земля с ее нежной красотой, если принадлежит она тем, кто не ставит ее ни во что, кто готов продать ее за звонкую монету любому, кто предложит подходящую цену? Покупателей было предостаточно, наша родина была, по существу, почти полностью распродана. Не будь революции, кубинцам осталась бы ничтожно малая частица Кубы, если только осталось бы вообще. Так что народ в то время был чем-то вроде иностранца на собственной земле. А теперь мы смотрим на совершенно другую землю. Другую, поскольку мы вплоть до вчерашнего дня были плохо знакомы даже с ее географией, — другую, потому что на ней благодаря нашим общим усилиям открылись блестящие возможности для нашего творчества».
Доброе слово крокодилу
Находится на территории парка и крокодилий питомник. До революции вообще никаких питомников и в помине не было. Этих, может быть, самых древних аборигенов Кубы били, стреляли, даже взрывали: «Нет, ты посмотри, какая гениальная сумочка! А я хочу эти замечательные перчатки! А кошелек — чудо! А туфли — с ума сойти!»
Мясо крокодила напоминает хорошую свинину, а во взрослом крокодиле процентов пятьдесят съедобного мяса. Из жира его изготавливают целебные снадобья. Из зубов — дорогие украшения. Но все-таки главная его «вина» — красивая, легкая и прочная, особенно в первый год зрелости, шестой год жизни, кожа.
Если в Африке и Южной Америке говорили об угрозе исчезновения крокодилов, то на Кубе (которая испокон веков славилась обилием крокодилов) за несколько лет до революции и говорить-то, собственно, стало не о чем. Крокодилы были практически уничтожены. Биологи, а вместе с ними и профессиональные охотники, много труда положили на то, чтобы вернуть острову это ценнейшее животное. Сразу после революции полностью запретили охоту на крокодилов. Создали два больших питомника. В национальном парке Гуама строят экспериментальную станцию с оборудованными по последнему слову науки лабораториями для изучения и научного наблюдения за организмом крокодила, его кровью, мозгом, жизненными функциями, его повадками и характером.
Еще у входа в питомник я услышал жалобное мычание, чем-то напоминающее мычание теленка в темном сарае, когда на улице вовсю пригревает солнце, снег почти стаял и хочется попрыгать в телячьем восторге на воле. Нам объяснили, что все свои чувства — радость, горечь, грусть, любовь — крокодилы выражают мычанием. Не таким, конечно, громким и протяжным, как у коров, но достаточно выразительным. Мы подошли к длинному, густо заросшему по берегам камышом и приземистым светло-зеленым кустарником озеру. По всей окружности оно было окружено полутораметровой сетчатой оградой. Солнце лениво ложилось на неподвижную сонную воду, довольно мутную, с легким болотным запахом. На воде, в камышах и на берегу валялись обросшие буро-зеленой тиной трухлявые бревна.
— А где же крокодилы?
— Так вот же они и есть, самые настоящие ронбиферы. После обеда отдыхают.
Впервые я увидел крокодилов на свободе, и они меня, признаться, немного разочаровали. Еще по иллюстрациям в детских книжках мы представляем крокодилов огромными, ярко-зелеными, стремительными и кровожадными. Здесь же — дремлющие бревна, не способные, кажется, обидеть и мухи.
— Это только кажется, — многообещающе улыбается в густющие черные усы Энрике Алонсо.
Он работает с крокодилами с самого детства, знает их досконально, не боится совершенно. (Хотя раз пять и прощался уже с жизнью, и бессчетное количество раз — с пальцами, руками и ногами, но отделался лишь несколькими царапинами.) Он поглубже натягивает темно-синий берет, застегивает куртку и, взяв в правую руку толстую сукастую дубинку, почти не касаясь забора, перепрыгивает к крокодилам. Мы и ахнуть не успели — он вбежал по колени в воду и, повернувшись к самому большому, метра в три, ронбиферу, со всего маху шарахнул его по макушке дубиной. Тот лениво приоткрыл левый глаз, пошевелил правой лапой и снова уснул.
— Секундочку, — попросил Энрике и подошел к нему совсем близко.
Мы начали его уговаривать, уверять, что и так верим в проворность и жестокость его питомцев. Но Энрике ответил, что проделывает это исключительно ради спортивного интереса. И так огрел по спине трехметрового гиганта, что тот вскочил на мощные короткие лапы, отпрыгнул в сторону, мгновенно захватил дубину-обидчицу пастью и в долю секунды раскрошил ее как кусочек растворимого сахара... И устремил страждущие, желтые с кровавой поволокой глазки на то место, где секунду назад стояли ноги Энрике. Но тот уже радостно, как мальчишка, хохотал рядом с нами. Крокодил сердито промычал, сделал движение, очень напоминающее почесывание, прошелся по пляжу, осторожно ставя лапы, чтобы не наступить на загорающих товарищей, и снова лег, теперь в тени больших зеленых листьев альмендры. Он раскрыл пасть и, угрожающе выставив все свои шестьдесят, величиной с палец, острейших зубов, сладко уснул.
— Это еще что! Вот если бы Синюю Бороду видели! Наверное, он сейчас после очередной схватки на дне, в иле отлеживается. Герой! Всем крокодилам крокодил! Больше пятнадцати футов в длину! Настоящий Дон Жуан — самцы боятся, потому что все, пожалуй, уже испытали на себе его зубы, а самки влюблены по уши.
Энрике с какой-то даже отеческой гордостью рассказывает о своих крокодилах, совсем как о сознательных существах.
— Началось все с того, что в этом озере, на противоположном от нас берегу, поймали большого ронбифера. Ронбифер — здешний крокодил.
От акутуса (в питомниках он есть тоже) он отличается темно-желтой окраской, толщиной, рисунком чешуи и местом обитания. И до этого здесь ловили крокодилов, но тот ронбифер был удивительно крупным, красивым и сильным. Обычно достаточно накинуть на морду петлю-намордник, сдавить как следует, закрыть глаза, связать ему лапы за спиной — и крокодил становится совершенно беспомощным. Даже хвостом, которым вообще-то он способен запросто переломать ноги, ничего не может сделать. С тем же, первым ронбифером, боролись чуть ли не полдня несколько профессионалов-каскадеров. Убивать его было жалко. Справились. Потом отгородили ему заводь, нашли пару…
Сейчас в восемнадцати больших озерах питомника больше двадцати тысяч крокодилов. Живут крокодилы долго — 70—80 лет, взрослеют быстро. Лет в шесть-семь крокодил уже не прочь закусить своими меньшими собратьями. Поэтому их расселяют по возрастным группам, как по классам.
— Удачно вы приехали, — говорит Энрике. — Чуть попозже, перед закатом, увидите, как они ухаживают друг за другом. Интереснейшее зрелище. Это целая церемония. А вот супружеских пар, матримоний, практически не бывает. Любовь кончается, как только разговор заходит о детях. Откладывают крокодилицы тридцать пять—сорок яиц, из которых в течение часа вылупляются крокодильчики размером с карандаш. С матерью дети бывают три — четыре дня, но даже к концу такого короткого срока она успевает их забыть. Не говоря уже о папе, который прямо мечтает всех их слопать. И маме лапу откусит, если будет приставать с глупыми претензиями. Проблема развода и раздела имущества решается просто, — улыбается в усы Энрике.
— Смотрите! — кричит он. — Этот за ней уже дня четыре ухлестывает!
Из-за мостика появилась крокодилица, и с нашего берега плывет к ней навстречу жених — толстый, красивый, двух с половиной метров роста. Само воплощение мужского обаяния и нежности, даже цвет кожи изменился, стал чище и ярче. Ронбифер медленно подплывает к самке, остановившейся посреди пруда, у небольшого кустика, осторожно прикасается своим плечом к ее шее, трется носом о спину, о хвост, громко томно вздыхает и приникает своей пастью к ее пасти. В продолжительном поцелуе слышен лишь нежный стук зубов... Вдруг разнежившаяся самка резко вздрагивает и рывком отплывает от обольстителя. Очумевший от страсти ронбифер тоже встряхивается, фырчит и снова подплывает к желанной, настойчиво требуя продолжения игры. Где-то сзади нас, за деревьями, раздается громкий всплеск. С брызгами рассекая воду и свирепо чавкая, несется по направлению к молодым огромный темно-коричневый крокодил. Челюсти его грозно сомкнуты...
— Это тот самый ронбифер! — сразу сделавшись серьезным, тихо, с тревогой говорит Энрике и убегает куда-то вдоль берега, по камышам. — Это Синяя Борода! — размахивает он руками. — Хуан, Хуан! Скорей сюда!
Но из небольшого домика, стоящего на холме под пальмами, никто не отвечает.
— Это Синяя Борода! — беспрерывно повторяет Энрике. — И ничего уже не сделаешь...
Синяя Борода впечатляет. Длина его — три человеческих роста, толщина — вековой дуб. Шкура похожа на старую, побывавшую в боях броню танка. Правого глаза нет. И чуть ниже левого плеча не хватает доброго пуда мяса. Но рана уже зарубцевалась. Словно тяжелая торпеда, летит он на зеленого ронбифера-любовника... Не то что охотничьим ружьем, из автомата его не остановишь. Лишь снайпер способен уложить крокодила одной пулей, попав прямо в мозг. А мозг самого большого ронбифера или акутуса — меньше грецкого ореха!
Синяя Борода загнал зеленого ронбифера в камыши противоположного болотистого берега, зашел с правого фланга, дважды перевернулся вокруг себя, приподнял высоко чад водой пасть и, пронзительно зарычав, попытался одним махом отхватить у противника правую лапу. Но зеленый ронбифер увернулся и сам нанес удар-укус Синей Бороде снизу, на уровне задних лап. Тот еще раз развернулся и молниеносно вцепился зеленому ронбиферу в бок. Вода и камыши вокруг мгновенно окрасились кровью. Но зеленый в самый последний момент сумел-таки вырваться и вонзил свои зубы в правую, уже когда-то покалеченную лапу Синей Бороды. Гроза питомника тут же ушел под воду отлеживаться на дно, в ил. А зеленый ронбифер, ошалевший от неожиданной победы, долго в экстазе носился по воде.
— Редчайший случай, — удивленно, как-то растерянно улыбался Энрике. — Может, этот ронбифер ради вас постарался? Увидел в руках фотокамеру и решил во что бы то ни стало остаться в истории победителем?! Удивительно... Вообще-то они нечасто дерутся, ребята добродушные. Разве что самки сразу после родов. В первые дни на глаза матери лучше не показываться — она способна на все, может даже перепрыгнуть через ограду.
— Энрике, а убегают из питомника крокодилы?
— Бывает, но редко. Но если убежит, поймать его весьма непросто. Ронбифер ведь может нестись по суше со скоростью тридцать километров в час. Иногда сами возвращаются. В гостях-то хорошо, а дома лучше — привыкают к вкусной пище. Мы же их мясом кормим, иногда даже деликатесами потчуем — павшими лошадьми. И рыбу они здесь едят, сардинки... В день по десять килограммов каждый съедает... Да и к нам крокодилы как-никак привыкают. Нас в питомнике работает тринадцать человек, и все уже довольно давно. Но особенно хорошо они относятся к единственной нашей девушке — Мальте. Что бы она ни делала с ними, крокодилы не злятся. И она их очень любит, особенно десятисантиметровых детишек. Даже разговаривать умеет Мальта с крокодилами. Я не раз видел. Доброе слово и крокодилу ведь приятно.
Позже мы встретились с Хуаном и Мальтой. Мальта оказалась милой худенькой мулаткой с большими печальными глазами и тоненькими в запястьях руками. Так и видишь, как они вышивают, рисуют, нежно гладят густые волосы ребенка. И вовсе не верится, что эти прозрачные, несмотря на смуглость, руки управляются с «добродушными ребятами», как назвал их Энрике.
Мальта рассказала нам об истории крокодилов на Кубе, охоте на них — и промысловой, и ради острых ощущений богатых плантаторов-креолов. Рассказала о повадках, о характере, о том, как необходим крокодил местной природе: он, как и все хищники на земле, выполняет важную функцию санитара-чистильщика. А для человека, считает Мальта, крокодил фактически не опасен, надо лишь уметь с ним обращаться. Мы, естественно, на это промолчали и особого желания научиться общению не выказали.
— Уже благодаря этим двум питомникам, — говорил Хуан, — можно смело сказать, что на Кубе есть крокодилы и теперь они в безопасности. В ближайшие годы откроется еще несколько новых питомников. Самый крупный — не просто питомник, а настоящий заповедник — на острове Пинос. Там есть все условия, там всегда было много крокодилов. Так что скоро под строгим научным контролем возможно будет возобновить производство ценной крокодильей кожи...
Тихо и спокойно в заповеднике. Мирно квакают лягушки, сонно верещит уставшая за день птичка тоти. Шумит листьями альмендры легкий ветерок, облака плывут...
Сергей Марков
(обратно)
Под созвездием Ориона
 Телескопы — за атмосферу!
Телескопы — за атмосферу!
…Высоко над нами, отрезанный полосой тумана, поднимался Арарат. Подсвеченный лучами низкого, невидимого солнца, он напоминал некое космическое тело, готовое вот-вот причалить к Земле. Пожалуй, ничто больше не говорило здесь, в поселке Гарни, о причастности этого места к космосу ни пусковых комплексов, ни конусов ракет. Два десятка розовых из туфа домов в зеленых гирляндах кустов бежали к горам и останавливались, замерев на краю ущелья. Внизу шумела река.
— А где же ваши телескопы? — оглядывался я в надежде увидеть хоть один астрономический купол.
Джульетта Оганесян улыбнулась:
— Обсерватории наши далеко, отсюда не видно — на космических станциях Наблюдения ведут космонавты. Я же по ночам предпочитаю спать, — рассмеялась девушка и развела руками: мол, увы, но специалисты по внеатмосферной астрономии сами пока в космос не летают. — Однако мы готовим космонавтов-наблюдателей на Земле, консультируем их на орбите, ну и, разумеется, обрабатываем полученные результаты. Немалая часть этой работы делается здесь, в лабораториях Гарни…
Спрашиваю, как Джульетта стала астрономом. Наверное, сказалось влияние Бюракана, одной из лучших обсерваторий мира? Джулия не отрицает — экзамены сдавала самому Амбарцумяну... Уже с третьего курса — училась на физическом факультете — ездила в Бюракан слушать лекции и наблюдать. В университете считали, что будущий астроном должен расти, набирать силы среди коллег.
Перед студенткой раскрывалась величественная картина: парад звезд, планет, туманностей... У каждого небесного тела был свой век, как правило, несоизмеримый с веком человека. Но судьба была схожей с человеческой: звезды, как люди, рождались, жили, старели, умирали. Джулия интересовалась эволюцией звезд, загадкой их недр, где, как считают, бушует термоядерное пламя. Ей были ближе физические процессы: она мечтала, что люди, разгадав суть процессов внутри звезд, создадут на Земле термоядерное солнце — неиссякаемый источник энергии.
Мир звезд вызывал у нее противоречивые чувства. Ей было жутко и неуютно в бесконечности пространств среди светил-долгожителей. Думалось — а что там, за границами вселенной? И Джулия все больше углублялась в теорию астрофизики, как бы желая проверить гармонию космоса алгеброй расчетов. Ее влекло не наблюдать, а сопоставлять, размышлять. Быть бы ей, как говорят, чистым теоретиком... Но вдруг произошла встреча, которая усложнила и изменила всю ее судьбу. Джулия познакомилась с профессором университета, членом-корреспондентом АН Армянской ССР Григором Арамовичем Гурзадяном.
Профессор Гурзадян знакомил студентов третьего курса, и среди них Джульетту Оганесян, с азами новой, внеатмосферной астрономии. В небе все видно? Однако предсказанные теоретиками сверхплотные нейтронные звезды были обнаружены в не достигающих поверхности Земли рентгеновских лучах. Мы судим о вселенной по световым лучам, однако, говорил Гурзадян, «в энергетическом балансе вселенной на собственно оптическое излучение приходится ничтожная доля, основу же этого баланса составляют ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-излучения.. Между тем наши умозаключения о строении и развитии вселенной до недавнего времени еще зиждились на той скудной, по сути дела, информации, которую мы черпали средствами только наземной астрономии, то есть в оптических лучах».
Эти слова потрясали. Небо казалось теперь Джульетте глухим непрозрачным куполом с узкой щелью, пропускающей свет. Но как же можно познать вселенную, ведя наблюдения только с поверхности Земли? Увеличивать размеры и мощность телескопов? Однако этим не устранить мерцание звезд, которое вызывается волнениями воздушного океана и «является настоящим бичом на пути дальнейшего повышения разрешающей способности наших телескопов, — писал Гурзадян и добавлял. — Увеличению диаметра астрономических зеркал, разумеется, должен быть предел, но устремлениям человека проникнуть в дебри вселенной границ существовать не может».
И Гурзадян предлагает поднять большие телескопы в космос, заглянуть далеко за горизонт известного нам мира. Добиться такой зоркости, чтобы увидеть вблизи звезд отдельные планеты — возможные колыбели внеземных цивилизаций!
Вокруг Гурзадяна собирались ученики, готовые идти за ним куда угодно, даже в космос. Была середина шестидесятых годов: на орбиту выходили многоместные корабли. Только молодым армянским ученым все это казалось страшно далеким: космодромы, Центр управления полетами, герои-космонавты. А у них за спиной университет, работа, обычные земные дела. И до космоса им далеко, как до неба...
Когда внеатмосферная астрономия делала первые шаги, армянские ученые приняли посильное участие в наблюдении Солнца с ракет. Правда, телескопы поднимались на большие высоты ненадолго, всего лишь на считанные минуты. Но результаты получались хорошие. По перспективному плану, Который в 1959 году наметили академики С. П. Королев, М. В. Келдыш и А. Б. Северный, телескопы должны были занять место на спутниках и будущих орбитальных станциях.
Однажды, вспоминает Гурзадян, к нему подошел космонавт Константин Петрович Феоктистов:
— У вас есть идея внеатмосферного телескопа? Знаете, профессор, проектируется орбитальная станция «Салют». Чем быстрее вы дадите нам параметры своей обсерватории, тем легче будет вписать ее в будущую станцию.
Из Москвы Гурзадян возвратился окрыленный. Собрал научных сотрудников обсерватории. Рассказал об идее первого в стране внеатмосферного ультрафиолетового телескопа. Главное — подняться за пределы атмосферы и зафиксировать на пленку ту ультрафиолетовую часть излучения, которая не достигает Земли. Это сделают космонавты. Армянским же ученым предстояло изготовить саму внеатмосферную обсерваторию, которая получила впоследствии название «Орион».
«У нас было дело. У нас была цель, и нам завидовали», — вспоминает об этих днях инженер Роберт Оганесян. Сам он пришел сюда из другой организации, оставив насиженное место: Роберт сконструировал вакуумную камеру, которая могла пригодиться для исследований вне Земли.
— Берите камеру только вместе со мной, — сказал он Гурзадяну.
— Но я не могу дать вам прежний, высокий, оклад.
На том и порешили.
Привлекала дерзкая идея: создать в пустоте устойчивое основание под телескопом — такое же, как где-нибудь в Пулкове или Бюракане; направить объектив на звезду, удерживать ее в поле зрения должны будут автоматы; сфотографировать ее на пленку и кассеты увезти на Землю. Увезти, потому что большинство операций должен был проводить человек, космонавт-исследователь, первый в истории внеатмосферный астроном-наблюдатель.
Легко сказать, но как создать твердь в пустоте? Армянские космики предложили: подняв «Орион» на орбитальной станции или космическом корабле, сориентировать его по звездам, как бы привязать к ним, используя звездные датчики и очень точные механизмы. Чтобы затем объектив телескопа следовал за звездой, как подсолнух за Солнцем.
Для решения задачи был собран крепкий молодежный коллектив. Кроме Джулии, в него входили Шота и Михаил Арутюняны, Ашот и Артабазд Захаряны, Норайр Аракелян, Эдуард Какосян, Рафик Айвазян и Юрий Марданян — все они вместе с летчиками-космонавтами СССР Петром Климуком и Валентином Лебедевым были удостоены впоследствии премии комсомола Армении Общей компоновкой обсерватории руководил Александр Кашин.
Космос — арена для соревнования, и ребята понимали, не успеют вовремя сделать «Орион», могут прийти другие энтузиасты со своей идеей. А места на борту космических кораблей не так уж много.
— Работали мы, не зная ни дня ни ночи, — вспоминает один из создателей «Ориона». — Обедали и ужинали в складчину в обсерватории. Космос диктовал свои жесткие сроки. И когда «Орион» был наконец готов, вместе с разработчиками благодарность получил и шофер, который развозил нас иногда по домам...
«Орион» на орбите
— Нет ничего неправильнее, чем представлять дело так: из Еревана привезли «Орион», установили его на борту космического корабля, а мы, космонавты, уже подняли его на орбиту, — говорит летчик-космонавт Валентин Витальевич Лебедев. — Здесь не было творцов и исполнителей. Все те, кто готовил внеатмосферный телескоп и осуществлял полеты с ним, — соавторы космического эксперимента. Сотни часов конструкция «Ориона» не только испытывалась, но доводилась и исправлялась, прежде чем создатели его смогли присутствовать при радостном событии: обсерваторию установили на борту станции «Салют». Пока на Земле.
Началась подготовка космонавтов для работы на орбитальной станции Григор Арамович и Джулия консультировали их, читали лекции по астрономии в Звездном городке. На занятия приходил чуть ли не весь отряд космонавтов. Однажды Гурзадян спросил: «Кто будет наблюдать с помощью «Ориона»?» Его познакомили с инженером-электронщиком Виктором Пацаевым.
Виктор отличался в отряде своей незаметностью. Аккуратно посещал лекции. Много часов проводил на испытательном стенде «Ориона», не только привыкая работать с внеатмосферным телескопом, но и внося в конструкцию обсерватории свои идеи. Пацаев считал, что инженер сам лично должен опробовать свои конструкции на орбите.
— Учитесь терпению у Пацаева,— сказал как-то Сергей Павлович Королев
В 1971 году Добровольский, Волков и Пацаев приехали в Гарни. Здесь они закончили подготовку к работе с «Орионом». Прощаясь, Пацаев сказал Гурзадяну.
— До чего же здесь хорошо у вас. Вернусь, попрошусь к вам сюда работать. Примете?
6 июня 1971 года «Союз-11» стартовал.
Долгим и трудным был путь к этому старту, к первой длительной экспедиции вне Земли, к рождению внеатмосферной обсерватории.
...В январе 1969 года космонавт Владимир Шаталов вывел на орбиту «Союз-4», а Борис Вольтов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов — корабль «Союз-5». Корабли провели стыковку на орбите, Елисеев и Хрунов вышли в космическое пространство, выполнили ряд научных экспериментов, а затем перешли в орбитальный отсек «Союза-4».
...Год спустя Андриян Николаев и Виталий Севастьянов совершили первый в истории длительный полет на «Союзе-9». ТАСС сообщал: «Бортинженер Севастьянов в момент нахождения корабля в тени Земли опознал звезду Вега и, используя систему ручной ориентации, ввел ее по оптическому визиру в поле зрения звездного датчика».
...В начале 1971 года на орбиту вокруг Земли была запущена первая долговременная научная станция «Салют». 24 апреля «Союз-10» с В. А. Шаталовым, А. С. Елисеевым и Н. Н. Рукавишниковым на борту состыковали с «Салютом» свой корабль и провели в совместном полете более пяти часов.
И вот запуск «Союза-11»...
«Союз-11» состыковался с орбитальной станцией «Салют» на следующий день после старта. Их совместный полет продолжался 23 дня. Пацаев уверенно стал работать на внеземной обсерватории «Орион». «Известия» в те дни писали: «Пожалуй, с тех пор, как Галилей направил в небо первый телескоп, это один из самых революционных шагов в астрономии».
А с Земли за полетом следили создатели «Ориона». С борта космической станции картина звездного неба менялась в зависимости от ее положения в пространстве. Здесь несложно растеряться даже профессиональному астроному. Однажды Джулию разбудили среди ночи. «Пацаев спрашивает, что это за красная звездочка в объективе?» — «Это Марс», — ответила Оганесян. Вопрос этот был единственный. В дальнейшем Пацаев разбирался даже в самых сложных астрономических ситуациях, словно годы провел у земных телескопов. Когда бы ни спросили из Центра управления полетами, что делает Пацаев, командир отвечал: «Как обычно, работает с «Орионом». Данные медицинских приборов свидетельствуют: во время астрономических сеансов у Пацаева наблюдалось приподнятое настроение.
Этот полет длился почти месяц? А опыта столь долгого пребывания в космосе не было тогда ни у кого в мире. Особенно опасались врачи. Как космонавты перенесут двухнедельный рубеж: не затоскуют ли?.. Вероятно, поэтому на 14-й день после старта была дана команда отдохнуть, поговорить о чем-нибудь постороннем.
— Какая у вас погода?
— Отвратительная: льет как из ведра,
— Ох, как мне хочется под дождь! — донеслось из космической бездны.
«С той поры, — вспоминает Гурзадян, — где бы ни застал меня дождь, в Москве ли, в Ереване, я выхожу постоять под его струями. В память о Волкове, Пацаеве, Добровольском».
Как известно, герои погибли во время возвращения на Землю. Совершил посадку спускаемый аппарат «Союз-11», возвратились пленки, сделанные на «Орионе», дневник полета с записью Пацаева: «Вернусь — расскажу...»
С тех пор множество «Союзов» побывало на орбитах. Первая долговременная космическая экспедиция не стала последней.
Каждый полет — первый
«Космонавты как бы передают эстафету один другому, и каждый очередной полет — продолжение предыдущего», — пишет летчик-космонавт СССР Петр Климук. Я сижу, читаю его книгу «Рядом со звездами» в московской квартире космонавта Валентина Лебедева.
— Петя, конечно, прав, — говорит Лебедев, приглашая меня в свой кабинет. — Только для каждого из нас очередной полет все равно первый — другие задачи...
Возвращаю Валентина к временам «Ориона», и он вспоминает, как включили его в отряд космонавтов и стали готовить для полета на «Союзе-13».
— Вначале проходил подготовку со всеми, по общей программе — в это время было решено установить на «Союзе» более совершенную, чем на «Салюте», обсерваторию «Орион-2». Пропадал все дни в планетарии, изучал назубок карту звездного неба, а у каждой звезды еще греческое название, так я все зубрил. К нам приезжал профессор Гурзадян, расспрашивал нас прямо в планетарии. А вскоре был сформирован наш экипаж: я и Петр Климук.
Климук дополняет Лебедева в своей книге: «Собственно, полет наш был подготовлен по программе Бюраканской обсерватории. К нему мы старательно готовились. Десятки дней провели с Валентином в обсерватории, всматриваясь в ночное небо, слушали лекции специалистов... Не один раз побывал я в то время в Армении, в Ереване и на Севане, познакомился и даже подружился с членом-корреспондентом АН Армянской ССР Г. А. Гурзадяном. Он возлагал на нас большие надежды. Однажды даже пошутил:
— Сколько звезд заспектрографируете, столько звездочек будет на бутылке коньяка, с которой я вас встречу после полета...»
Петр Климук вспоминает: «А потом был Байконур и, наконец, тот день, 18 декабря... Не знаю, может, и забилось у меня сердце чаще, но тревоги, а тем более страха, не было». О том, что так оно и было, свидетельствует такая деталь: уже тогда Климук вместе с Севастьяновым готовился к следующему совместному полету. Улетая с Лебедевым, Петр Ильич попросил: «Виталий, не отдавай никому мое место в корабле». Затем ту же просьбу повторил во время сеанса связи с орбиты.
— Страха не было, — подтверждает Валентин Лебедев, — было огромное желание продолжить работу, начатую тремя нашими товарищами на «Салюте». Я прямо-таки с нетерпением ждал, когда начну работать с «Орионом-2»...
И вот команда с Земли:
— «Кавказы», я — «Заря»... На следующем витке выполнить эксперимент с «Орионом-2». Основная звезда — Сириус...
Петр Климук вспоминает: «Мы с Валентином заняли свои рабочие места: я — за пультом управления кораблем. Валентин — за пультом управления телескопом. На Земле мы находили Сириус за несколько секунд. А здесь? Смотрю в стекла визира. Замечаю созвездие. Какое? Напрягаю память. На Земле проще, там видишь созвездие целиком, а здесь визир осматривает его какую-то часть — несколько звездочек, Но глаз, как говорится, набит: узнаю Орион. Легким поворотом ручки управления нахожу «голову» созвездия. Сейчас все просто: Сириус, он в созвездии Большого Пса, находится внизу по направлению пояска Ориона. Осторожно разворачиваю корабль и неожиданно чуть ли не улыбаюсь от радости: в «глазу» визира Сириус. Стабилизирую корабль и предупреждаю бортинженера:
— Сириус в перекрестии! Не двигаться!
Валентин отвечает:
— Понял! Навожу визир телескопа!
— Работали строго по программе? — спрашиваю Лебедева.
— Что значит строго? Полет — дело творческое, программа тоже может меняться в зависимости от условий...
— В космосе?
— И на Земле...
Космический корабль на орбите, а на Земле продолжают соревноваться между собой программы. Если почему-либо не удастся одна, ей всегда есть замена. А за каждой программой стоят коллективы, месяцы, а то и годы труда.
Во время полета «Союза-13» выяснилось, что баллистические расчеты, сделанные Джульеттой Оганесян, неверны. А это значит, что на следующих сеансах нужные звезды не попадут в поле зрения «Ориона-2».
— Это и понятно: поручили столь ответственные расчеты какой-то девчонке…
Такой шепоток слышали армянские астрономы у себя за спиной.
К Гурзадяну подошел космонавт К. П. Феоктистов: «Сделайте доклад о полете. От этого зависит отношение к эксперименту». Член-корреспондент АН СССР Б. В. Раушенбах взял Гурзадяна под руку: «Я помогу вам. Давайте поработаем вместе».
Ночь прошла без сна. Наутро на стене висели ватманские листы с расчетами.
Гурзадян говорил минут сорок, но при этом страшно волновался. После доклада к нему подошел руководитель полета космонавт Алексей Елисеев: «Давайте уединимся. Выводы из доклада я сделаю сам». Потом доложил Главному конструктору. Лицо у Главного посветлело, он передал по громкой связи:
— Сегодня работаем по плану. На завтра — программа А-4.
А-4 означает вести наблюдения на «Орионе-2» четыре витка подряд. Более насыщенной, более «роскошной» программы в арсеналах исследователей просто не было. Лица у Гурзадяна и его учеников Джульетты Оганесян, Марата Крмояна и Александра Кашина засияли от радости.
— И дальше все шло по программе? — спрашиваю я Лебедева.
— Да.
Вспоминает Петр Климук: «Специалисты были довольны. Григор Арамович Гурзадян лично приехал в Звездный, чтобы поблагодарить нас за сделанную работу. Особенно рад был чистоте спектров. Вуаль от свечения ночного неба, мешающая наблюдать звезды с Земли, почти отсутствовала. Рад был ученый:
— Теперь мы имеем спектрограммы звезд, которые до нас вообще никто не получал. К тому же в той области спектра, что вообще недоступен для наземных наблюдений. Тысячи звезд! Где я вам такой многозвездный коньяк найду? — спрашивал он, шутя, — Такого нет даже в Армении.
Взял ставший знаменитым снимок: одна звезда среди роя других, более слабых светил, и надписал: «Дорогому Петру Ильичу. Г. Гурзадян».
Прощаясь с Лебедевым, оглядываю его кабинет. На стене фотография: он — командир отряда на строительстве БАМа. Рядом удостоверение члена ЦК ВЛКСМ — он был им ряд лет. На столе самодельный прибор, напоминающий логарифмическую линейку.
— Когда мой корабль приблизится к станции «Салют», с помощью этого устройства я проверю расстояние между ними — не врут ли приборы.
— Значит, будут новые полеты? Лебедев удивлен: разве может быть иначе?
Наш разговор состоялся в те дни, когда подходил к концу самый долговременный полет на орбитальном комплексе «Салют-6» — «Союз».
— Заметьте, — сказал Валентин Витальевич, — с каждым полетом растет удельный вес астрофизических экспериментов. Экипаж первого «Салюта» и мы работали с «Орионом», а экипажи «Салюта-6» — с субмиллиметровым телескопом и радиотелескопом. Человек вышел в космос, чтобы раскрыть тайны Земли и неба, и каждый эксперимент как бы ступень лестницы, уходящей ввысь.
Как говорили древние: «Ноги на земле, в звездах — взор...»
А. Харьковский, наш спец. корр.
(обратно)
Урановый бум в Ямбилууне

Даже в те далекие времена, когда название «Терра Аустралис инкогнита» робко появлялось на карте мира, пятый — еще не открытый — континент не был густо заселен. Невысоко приподнятая над уровнем моря страна, очень бедная лесами, небогатая реками, зато с обширными пустынями и полупустынями, не могла прокормить многочисленное население, которое к тому же не имело понятия о земледелии и занималось охотой и собирательством.
Коренные австралийцы кочевали в поисках пищи и лишь временами, в сезоны изобилия, задерживались на одном месте. Специалисты предполагают, что аборигенов Австралии было тысяч триста.
В конце XVIII века на берега Австралии высадились первые европейцы. Одни — навечно ссыльные каторжники, другие — на время службы солдаты и чиновники. Потом в страну устремились иммигранты, чтобы жить в молодой и развивающейся стране. И работать — разводить овец, распахивать поля.
Как ни малочисленны были аборигены, места они занимали много. Слишком много, по мнению поселенцев. Ведь для того чтобы выжить, бродячему племени требуется огромная территория. И хотя на границах племенных территорий не стояли полосатые столбы, каждое племя точно знало свои угодья и не заходило в чуждые пределы. Соответственно никаких документов, подтверждающих право собственности, у аборигенов не было владели они лишь тем, что могло им пригодиться в нехитрой их жизни, той жизни, что, не изменяясь, текла тысячелетиями до прихода белых.
Белым людям нужны были удобные для поселения места, и аборигенов вытеснили в безводные пустыни.
Надо сказать, что никто, наверное, на нашей планете не умеет осваивать абсолютно, казалось бы, непригодные для жизни места так, как коренные жители Австралии. Разве что бушмены африканской пустыни Калахари. Все исследователи восторженно отмечали необычайную способность аборигенов находить воду там, где ее просто и быть не может, выслеживать редкую дичь и собирать плоды скудной пустынной растительности.
Пустыня может дать средства к жизни очень ограниченному числу людей. Объективные законы природы четко определяют количество человек, способных (при наличии навыков) прокормиться с единицы площади. И без того немногочисленные некогда племена изрядно поредели. Точнее говоря, сохранились лишь те, у кого был опыт охоты и собирательства в пустыне еще до прихода белых. Всего аборигенов осталось тысяч сто двадцать. Причем в это число нужно включить и тех, кто влачит существование близ больших городов. Утратив культуру и язык, они перестали быть детьми природы, но и не превратились в людей двадцатого века.
Однако, казалось, хоть те немногие, что бродят по пустыне, они-то сохранили себя? Ведь места, где они живут, не нужны никому.
Но в 1974—1977 годах геологические экспедиции тщательно обследовали богом и людьми забытые пустынные районы и обнаружили в них гигантские залежи бокситов, железной руды и — самое главное — урана. Оказалось, что Австралии принадлежат двадцать процентов запасов урана капиталистического мира Залежи в Ямбилууне, Наббер-Лэйк, Кунгхуру, Йиллири в Западной Австралии, не до конца разведанные месторождения в Беверли и у горы Пинджарра в южной части страны Бокситы в Куинсленде, Мапуну, Вейпе. Руду — слой в шесть метров толщиной — прикрывают какие-то пятьдесят сантиметров почвы. Бери — не хочу, подгоняй бульдозеры и разрабатывай дешевым открытым способом.

И тут на пути к легкой и удобной добыче оказалось досадное, хотя и незначительное, препятствие — аборигены. Так уж получилось, что они живут почти во всех тех местах, где найдены ныне полезные — более, чем полезные! — ископаемые. А при чем здесь аборигены? Ведь все, что знает о них широкая публика, никак не говорит о том, что эти люди способны на организованный отпор, на отстаивание своих прав собственности современными юридическими нормами. На снимках они обычно голые, раскрашенные для корроборри, с бумерангами и копьями в руках. Конечно, это еще кое-где осталось, но аборигены уже не те, что были десять-пятнадцать лет тому назад. Кто-то из них получил образование, многие умеют читать, и сообщения печати о развернувшейся во всем мире борьбе за освобождение угнетенных народов и племен не прошли для них бесследно.
После десятка бурных демонстраций, в которых приняли участие и сочувствующие коренному населению белые австралийцы, принят был закон о правах землевладения аборигенов. Согласно ему племенам разрешено вести переговоры с горнодобывающими компаниями о создании шахт и прочих промышленных объектов на принадлежащих им территориях. Однако, если администрация территории издает приказ, аборигены не смеют его нарушать.
Администрация, естественно, издает такие приказы, которые прекращают дискуссии на тему о том, кому принадлежит земля.
Первый договор в истории Австралии между белыми и темнокожими был заключен в конце 1978 года. Высокие договаривающиеся стороны — федеральное правительство в Канберре и старейшины племени аньула — установили, что в трехстах километрах от города Дарвина будет заложено несколько шахт. Первые двадцать пять лет компании обязуются восполнять племени недостаток питания: ведь дичь уйдет от рева машин, исчезнет слой плодородной почвы.
Старейшины племени нарисовали под договором изображения кенгуру, крокодила и рыбы. Чиновники с трудом скрывали улыбки. Понимали ли старейшины, что их надули? Скорее всего понимали. Но так хоть что-то получило племя аньула, а ведь могло и ничего не получить.
...Когда через двадцать пять лет компании покинут изрытую, лишенную растительности землю, остатки племени аньула окончательно разучатся добывать другую пищу, кроме консервов с пестрыми наклейками…
Тем не менее при всем надувательстве первого из договоров значение он имеет весьма немалое: как-никак, а право аборигенов на землю — впервые! — закреплено на бумаге. Ведь и первопоселенцы Америки, когда покупали у индейских племен громадные территории за бочонок с порохом, дюжину ружей и мешок бус, не предполагали, что два века спустя индейцы предъявят договоры правительству США. Другое дело, что договоры эти, сколько их ни предъявляй, не вернут землю настоящим ее владельцам. Но, по крайней мере, они привлекают внимание общественности. А для индейцев Америки это пока важнее всего. Их «Длинный марш» 1 только начался.
Как же далеко австралийским аборигенам до американских индейцев! У них нет пока ни сознания единства, ни поставленных целей.
Итак, почти все залежи урана обнаружены были в семидесятые годы. Там, где среди аборигенов был хоть один грамотный, они начали протестовать. В Комиссию по делам аборигенов полетели петиции и жалобы. Надо сказать, что в этой комиссии есть немало чиновников, искренне сочувствующих коренным жителям.
Но... Существует в Канберре и другая комиссия — Комиссия по ядерной энергии. И она-то судьбой нескольких сотен голых дикарей не взволновалась ни в малой степени. И эта организация куда весомее в правительстве. Ураном занялись компании «Пеко уэлсанд» и «Ай зэт индастрйз», которые вначале воевали между собой, но в нужный момент соединили усилия и добились от федерального правительства полной поддержки
В Ямбилууне за уран взялись «Панконтинентал майнинг компани» и «Гетти ойл компани» За ними потянулись другие. Началась «урановая лихорадка». Американские индейцы бежали от «лихорадки золотой» в недоступные старателям и небогатые золотом места. Австралийским аборигенам бежать некуда.
Пока об огромных запасах урана почти не было известно, мало кто в Канберре обращал внимание на просьбы аборигенов. Когда же слухи о богатстве перестали быть слухами, в Дарвин немедленно вылетел министр по делам туземного населения Уайнер. Всеми правдами (а больше неправдами) следовало добиться от старейшин племен согласия на разработку.
Министр даже согласился покровительствовать Движению отдаленных поселений, главная цель которого — сохранить обычаи и традиции аборигенов в тех местах, где далеко от белого человека и его нравов аборигены сохраняют свой прежний уклад жизни.
В одном из северных племен мистер Уайнер даже раскрасился для корроборри и снялся со стариками, сохранив на себе, правда, отдельные части европейского наряда.
Старейшины, однако, не знали, что за пазухой снятого на время пиджака высокий гость держит проект закона, по которому «при чрезвычайных обстоятельствах правительство оставляет за собой право отменять владение племен на землю». Где убеждая, где обещая, а где и угрожая, министр получил согласие старейшин, сел в свой самолет и улетел в Канберру.
Потом был подписан первый договор. А потом власти предоставили компании «Комалко» три тысячи квадратных километров на западном побережье мыса Йорк и три тысячи пятьсот — на восточном. Рядом компания «Алкан» получила в удел шестьсот квадратных километров, а концерн «Шелл» — девятьсот. Для огромного государства — малозаметные точки на карте. Для местных племен — вся их страна. Племена выселили в Вейпу, Аурукуну и Малуку не так уж далеко, если смотреть из Сиднея или Мельбурна, и совсем другой мир — для небольшого племени.
Все компании обязались снабдить аборигенов пищей и одеждой, а желающим — предоставить работу.
И работу получили. Тридцать человек. Еще двадцать были наняты танцевать в традиционном наряде и метать бумеранги перед заезжими гостями.
Бумеранги при этом должны обязательно возвращаться.
Л. Мартынов
(обратно)
Шестьдесят шесть попыток Фернандо да Силва

Колючий ветер, пропитанный влагой с Дору, налетает порывами, заставляя прохожих втягивать головы в плечи, выворачивает мокрые блины зонтиков. Дождик не дождик, а так, водяная пыль, рваными волнами оседающая на булыжник мостовых и мозаику тротуаров. Машины опасливо пробираются по извилинам скользких узеньких улочек.
В такую пору лучше всего не выходить из дому, поджидая, когда пробьется сквозь толщу серого застиранного покрывала облаков луч солнца. Но дела есть дела, и торопятся куда-то люди, погруженные в свои заботы. К шести вечера жизнь в деловом центре Порту меняет ритм. В конторах, шикарных магазинах и убогих лавчонках опускают жалюзи, закрывают двери, выплеснув предварительно за порог людской поток, который, не успеешь оглянуться, растекается по закусочным, кофейням, забегаловкам.
— У вас свободно? — спросил меня молодой человек. В руках он держал поднос, на котором сиротливо стояла похожая на пиалу миска с супом алентежано.
— Да, сеньор, садитесь, пожалуйста.
Народ в столовую самообслуживания подходил, почти все места были заняты, и об уединении думать не приходилось.
— Скверная погодка, — заметил я, увидев как паренек отбросил со лба прядь мокрых волос.
— Прескверная, — поддержал разговор юноша. — Хорошо, что день прошел. Говорят, завтра опять дождь, опять придется мокнуть.
— Вам приходится работать на свежем воздухе?
— Была бы работа, согласен и на открытом, и где угодно. Только нет ее, работы-то, ищу, ищу — и все без толку.
Парень нахмурился и стал сосредоточенно ловить плавающие в бульоне с яйцом размякшие куски хлеба. Такой уж суп алентежано: густо сдобренный чесноком бульон, заправленный яйцом и хлебом.
— Может быть, — парнишка посмотрел на меня, — у вас найдется для меня какая-нибудь работа?
— Я журналист, живу в Лиссабоне и в Порту мало кого знаю. А есть у вас специальность?
— «Делай-что-скажут» — вот какая специальность. Но я окончил пять классов. Отец — он эмигрант и работает в Париже — взял меня с собой во Францию. Два года месили вместе бетон, таскали кирпичи на стройке. В декабре позапрошлого года вернулся в Порту. Вернее, отец отослал обратно. Думал сделать как лучше.
— Тяжелая жизнь была?
— Легкой мне не приходилось встречать. Конечно, тяжелая, но она была Хотя за каждый франк вкалывать приходилось Языка, правда, я не знаю... Португальцы мало общались с местными. Но я был с отцом и при деле.
— Почему же он отправил вас на родину?
— А тогда, в 1978-м, во Франции приняли закон, чтобы отправлять каждый год 200 тысяч иммигрантов обратно в свои страны. И отец решил: «Поезжай, Фернандо, — меня зовут Фернандо да Силва, — поезжай, Фернандо, домой, к тетке в Порту. Будешь жить у нее, за квартиру платить не придется. Пока не подыщешь работу, помогу тебе, а потом станешь на ноги — и будешь самостоятельным». Ну я и вернулся.
— Но ведь во Франции у вас уже была работа. А здесь-то ее надо было еще найти?
— Я и говорю — в июне 1978-го в Париже власти приняли закон. Каждый год обязаны уезжать люди. А знаете, сколько там португальских иммигрантов? Миллион!
— Меньше — около 900 тысяч.
— А разве это мало, 900 тысяч? Представьте, что бы творилось, если бы все они стали искать работу здесь? Вот отец и сказал: «Поскорее уезжай, пока не начали высылать. Будешь первым — легче найти работу». Я и послушался, скоро два года как приехал.
— Жалеете?
— Не то слово. Домой, естественно, хотелось. Это же моя страна, но, понимаете, отец говорил: «Будешь первым — легче найти работу», а разве я здесь был первым? Я стал последним в очередь за теми, кто здесь мыкается. Наверное, таких, как я, наберется тоже миллион.
— По официальным данным, около 350 тысяч человек, Фернандо.
— Это для вас, журналистов, интересно знать точную цифру. Не знаю. Для нас, таких, как я, что 300 тысяч, что миллион — работы-то нет.
— И на какие же средства живете?
— Отец до сих пор немного высылал. Но я-то знаю, что ему приходится туго. Да и стыдно сидеть на шее у отца. Я наврал ему — написал, что получил место сезонного рабочего. Работаю, мол, каждый нечетный месяц. Он и высылает мне по четным месяцам...
— Пособие по безработице получать не пытались?
— Раньше ведь я в Португалии не работал. Меня не увольняли с предприятия, так что о пособии хлопотать бесполезно. Не положено. Нет такого закона.
— А закон о выплате пособий тем, кто ищет свою первую работу? Был такой принят при правительстве Пинтасилгу. Ведь вы ищете свою первую работу в Португалии. Вероятно, этот закон как раз о вас?
— Что вы, я все такие законы изучил. Наверное, мог бы специалистом по безработице стать. Этот закон тоже знаю. Он меня не касается. Правда, есть в нем пункт о том, что средний доход каждого из членов моей семьи должен не превышать 60 процентов от официальной минимальной заработной платы. Если об отце не упоминать, можно достать бумагу, что живу один, без родственников.
— А вы пытались получить такую бумагу?
— Но ведь прежде чем иметь право на пособие, нужно не меньше года быть зарегистрированным на бирже труда. У меня же не хватает четырех месяцев до года.
— Ну хотя бы через четыре месяца начнете получать пособие?
— Как бы не так. Там дальше сказано, что каждый претендент должен иметь на своем иждивении в течение года хотя бы одного ребенка или же не меньше двух родных или родственников. А у меня же никого нет. Я не сумасшедший, чтобы жениться, не имея работы. Да еще обзаводиться детьми! Нет, этот закон не для меня. Вообще, не знаю я людей, которым этот закон поможет.
— Конечно, ситуация не из легких. А как же вы ищете работу?
— Хожу, спрашиваю, ищу. Раньше читал объявления. Утром платил киоскеру одно эскудо, чтобы тот позволял мне просматривать страницы объявлений в трех газетах Порту. Выписывал адреса, ходил по ним. Ничего не получалось. Специальности-то нет — и рекомендаций нет. Посмотрите вашу газету. В ней тоже публикуют объявления.
— Посмотрим, кто ищет работу или кто предлагает?
— Кто ищет, как и я.
— Вот пожалуйста:
«Молодой человек 25 лет, крайне необходима работа. Согласен на любую, в любую смену, размер зарплаты по договоренности. Звонить по телефону 891867».
Или это:
«18 лет, неполное среднее образование, согласен на любую работу. Телефон 924002».
Еще одно:
«24 года. Ищу работу. Срочно. Знакома с торговым делопроизводством. Окончила специальные курсы. Знаю машинопись, стенографию, владею французским. Россиу, почтовый ящик, 1692».
— Картина довольно ясная, не правда ли, сеньор?
— Веселого в ней мало. Еще объявление, прямо крик души:
«Ищу работу. 19 лет. Замужем. Муж безработный. Положение отчаянное. Жду предложений: почтовый ящик 86, улица Нова ди Алмада, 68».
— По скольким же адресам вы ходили в поисках работы за это время?
— Могу ответить точно. В блокноте отмечаю, где был, с каким результатом. Чтобы второй раз не полезть в то же место. Бывает, просят зайти через месяц или ближе к лету. На сегодняшний день обошел 58 мест. Нет, вру, 59. Вчера еще одно не записал. Такая моя жизнь, сеньор. Я много тут говорил. Но меня никогда журналисты не расспрашивали. Вы что, про меня писать будете?
— Может быть, Фернандо. Но было бы приятнее не заканчивать разговор на грустной ноте. Вот мой телефон. Когда вам повезет, позвоните?
— Хорошо, если вам интересно. Я расстался с Фернандо да Силва, вернулся в Лиссабон, сложил свои записи о встрече в ящик стола. И забыл о них. На днях звонок из Порту: Фернандо да Силва.
— Я, как обещал, звоню. Нашел работу. На шестьдесят шестой попытке повезло.
— Где же вы устроились, Фернандо?
— Замешиваю бетон, таскаю кирпичи. Пригодился французский опыт.
Олег Игнатьев
(обратно)
Плоды для крылана. Дж. Даррелл
 Дивный джак
Дивный джак
Вахаб, маврикийский лесничий, обсуждал с нами предстоящую экспедицию за крыланами на соседний остров Родригес.
— Только непременно возьми с собой фрукты, — говорил он.
— Фрукты? Это еще зачем? — спросил я.
Брать с собой фрукты на тропический остров представлялось мне таким же нелепым занятием, как возить уголь в Ньюкасл.
— Понимаешь, — объяснил Вахаб, — на Родригесе с фруктами вообще плохо, а сейчас к тому же конец сезона.
— Разумеется, — уныло отозвался я.
— А я попытаюсь найти для вас джак.
— А что это такое — джак? — осведомилась Энн, моя секретарша.
— Это такой крупный плод, крыланы его просто обожают, — ответил Вахаб. — Понимаете, у него сильный запах, и крыланы чуют его издалека.
— Он вкусный? — спросил я.
— Очень, — сказал Вахаб и осторожно добавил. — Смотря кто что любит.
В эту минуту мне рисовалось, как, привлеченные восхитительным ароматом джака, прямо в наши руки летят полчища крыланов.
Следующие два дня мы проверяли ловчие сети и прочее снаряжение, читали наличную литературу о Родригесе и использовали каждую свободную минуту, чтобы поплавать с маской у рифа, любуясь бесконечно разнообразной, многоцветной обитающей здесь морской фауной. До нас дошли слухи, что Вахабу оказалось не так то просто раздобыть плод джак и что на Родригесе впервые за восемь лет отмечен дождь. Мы не придали им большого значения, а между тем речь шла о вещах, которым было суждено существенно повлиять на наши планы.
За два дня до нашего вылета на Родригес позвонил Вахаб и сообщил, что ему удалось выследить и реквизировать для нас последний и единственный на острове Маврикий плод джак. Каковой он и посылает нам со специальным курьером.
— Плод уже спелый, Джерри, — объяснил он, — так что лучше во что-нибудь заверни его, чтобы запах сохранился, и держи подальше от тепла.
— Это каким же образом? — саркастически вопросил я, вытирая потный лоб. — Я и сам не прочь быть подальше от тепла.
— Но ведь твой номер с кондиционером? Вот и держи его там.
— В моем номере уже хранятся двадцать четыре пучка бананов, две дюжины авокадо, две дюжины ананасов, два арбуза и четыре дюжины манго, которые мы припасли для охоты на этих чертовых крыланов Фруктовый базар Порт-Луи ничто перед моим номером. А впрочем, один плод джак такой уж роли не сыграет, верно?
— Верно, — ответил Вахаб — Да, кстати, этот неожиданный дождь на Родригесе... Он может повлиять на ваши дела.
— Как повлиять? — встревожился я, ибо любая задержка сокращала срок, отведенный нами на поимку крыланов.
— Понимаешь, аэродром на Родригесе грунтовый, — объяснил Вахаб. — Он совсем раскис от дождей. Вчерашний самолет вынужден был вернуться. Ладно, будем надеяться, что все будет в порядке.
— Дай то бог, — уныло произнес я. — А то ведь, если долго прождем, придется вовсе отменить это путешествие.
— Ну что ты, до этого не дойдет, я уверен, — весело произнес Вахаб. — Непременно дай знать, если еще что-нибудь понадобится. А плод джак жди в первой половине дня. Пока.
Плод джак, запеленатый в полиэтилен и дерюгу, прибыл около полудня в объятиях лесничего в щегольской форме. Судя по объему свертка, плоды этого сорта были куда крупнее чем я думал. Мне представлялось нечто величиной с кокосовый орех, но плод явно не уступал размерами большому кабачку. В пути сверток сильно нагрелся, поэтому я отнес его в спальню и почтительно развернул, открывая доступ прохладному воздуху. Моим глазам предстал безобразный с виду зеленый шишковатый плод, смахивающий на останки марсианина. Впечатление это усиливалось тяжелым, сладковатым и весьма едким духом тлена. Мне еще предстояло узнать, что этот тошнотворный густой аромат пропитывает все и проникает всюду, как бывает с керосином, попавшим в неопытные руки. В невероятно короткий срок весь номер приобрел запах этакого огромного плода джак или морга с испорченной морозильной установкой. Наша одежда пахла джаком, пахла обувь, пахли книги, фотоаппараты, бинокли, чемоданы и сеть для ловли крыланов. Выбежав из гостиничного номера, чтобы глотнуть свежего воздуха, мы обнаружили, что запах не отстает от нас. Вся округа смердела плодами джак.
В попытке спастись от вездесущего аромата мы отправились на риф и погрузились в воду; однако можно было подумать, что у каждого в маске по плоду джак. Все, что мы ели за ленчем, было приправлено джаком; в обед — тоже. В день отъезда за завтраком с привкусом джака я был счастлив, что мы вылетаем на Родригес, где можно будет оставить сатанинский плод в лесу и избавиться наконец от его миазмов.
Стоило нам прибыть в аэропорт, как через несколько минут зал ожидания наполнился запахом джака до такой степени, что остальные пассажиры начали покашливать и беспокойно озираться. Нашу разношерстную компанию вполне можно было принять за угонщиков уж очень странно выглядел наш багаж — горы каких-то сетей и набитые самыми неожиданными фруктами корзины, по среди которых лежал и прел запеленатый в дерюгу и полиэтилен плод джак.
В конце концов, до нашего сведения было доведено, что багаж превышает норму. К нескрываемому удовлетворению мужа, олицетворяющего палату мер и весов, мы сели и умяли половину наших фруктов. Так и так подошло время ленча. В ту минуту, когда мы почувствовали, что на всю жизнь наелись бананов, было объявлено, что вылет откладывается из-за состояния посадочной полосы на Родригесе. Просьба явиться завтра в то же время.
Забрав свой плод джак, запах которого стал почти смертоносным, мы покатили обратно в гостиницу. Ее персонал только-только успел изгнать из наших спален въедливый аромат, так что нас приняли без большого восторга. На другой день все повторилось снова.
На третий день, заменив все перезрелые бананы и манго и в сотый раз пожалев о том, что у нас нет герметичного ящика для плода джак, мы опять направились в аэропорт. И вот мы уже сидим в кабине крохотного самолетика в разношерстной компании пассажиров, которые не без тревоги и скорби восприняли появление в тесной клетушке плода джак. Вооруженная охрана удалилась, самолет покатил по дорожке, взлетел над ярко-зеленым лоскутным одеялом плантаций сахарного тростника, вознесся в гиацинтово-синее небо, оставил позади риф и пошел над густой искристой синью Индийского океана,
Родригес лежит почти в 600 километрах к востоку от Маврикия; длина острова — около восемнадцати, наибольшая ширина — около девяти километров. У него интересная история и еще более любопытная фауна, включавшая удивительную эндемичную птицу-пустынника, которая вымерла вскоре после дронта; причиной ее гибели были уничтожение среды и жестокая охота. А еще на Родригесе водилась некогда в огромном количестве гигантская черепаха.
Бюрократия в тропиках
Самолет заложил вираж, снизился и сел на крохотном красноземном аэродроме. С воздуха остров выглядел коричневатым и бесплодным, если не считать растительности в долинах и разбросанных тут и там пятачков пыльной зелени. Выйдя из самолета, мы тотчас окунулись в атмосферу волшебного очарования, какое испытываешь только на далеких солнечных островках. По красному латериту проследовали в миниатюрное здание аэропорта с радушной надписью на фасаде: «Добро пожаловать на Родригес». А внутри я с удивлением узрел возле открытого окна конторку с дощечкой: «Иммиграционный контроль».
— Иммиграция? — обратился я к своему помощнику Джону, — Как это понимать? Они принимают в неделю всего-то один самолет с Реюньона и три с Маврикия.
— Не спрашивай меня, — ответил он. — Может быть, это нас не касается.
— Прошу приготовить паспорта для иммиграционного контроля, — развеял наши сомнения добродушный полицейский чин в щегольском зеленом мундире.
Хорошо, что мы случайно захватили паспорта: Родригес входит в государство Маврикий, и нам в голову не приходило, что они могут здесь понадобиться. В эту минуту появился и сам представитель иммиграционных властей, тучный шоколадный островитянин в красивой форме защитного цвета.
Мы выстроились перед ним, послушно приготовив паспорта. Чиновник приветствовал нас легким поклоном, прокашлялся и важно распахнул папку с въездными анкетами, содержащими всевозможные нелепые вопросы — от даты вашего рождения до состояния ногтей на ногах вашей бабушки.
Обливаясь потом, он прижал анкеты грузными локтями и взял паспорт Энн. Старательно переписал место и дату рождения, возраст и профессию. Задача была несложная, и он вернул паспорт хозяйке с широкой белозубой торжествующей улыбкой человека, полностью контролирующего положение.
Взяв мой паспорт, чиновник устремил на меня острый и проницательный взгляд.
— Откуда вы прибыли? — последовал вопрос.
Поскольку Родригес уже две недели не просыхал, и за все это время наш самолет был первым, прилетевшим с Маврикия, и никаких других самолетов на аэродроме не было, я слегка опешил. Задавать такой вопрос, скажем, в Лондонском аэропорту, где каждый час садится сотня самолетов, — еще куда ни шло. Но на Родригесе, куда в лучшем случае прибывало четыре машины в неделю, он отдавал страной чудес, где побывала Алиса. Подавив желание сказать, что я только что добрался вплавь до берега, я ответил, что прибыл с Маврикия. Чиновник поразмыслил над словами «писатель-зоолог» в графе «занятие» в моем паспорте, явно заподозрив, что за ними кроется что-то опасное, затем старательно («зоолог» дался ему не сразу) вписал их в бланк. Проштемпелевал паспорт и с чарующей улыбкой вернул его мне.
Потом чиновник допытывался у Джона, откуда прибыл он.
— Из Йоркшира, Англия, — простодушно сознался Джон прежде, чем я успел его остановить.
— Нет-нет, — возразил чиновник, озадаченный таким потоком информации. — Мне надо знать, откуда вы теперь?
— О, — сообразил Джон. — С Маврикия.
Чиновник тщательно записал ответ. Раскрыл паспорт и добросовестно скопировал данные о появлении Джона на свет. Потом перевел взгляд на графу «занятие» и увидел непонятное, ужасное слово «герпетолог». Глаза его зажмурились, и все лицо тревожно сморщилось
— Герпа... э... герпер, — произнес он и обратил молящий взгляд на полицейского.
— Герпетолог, — буркнул я.
— Ну конечно же, — глубокомысленно изрек чиновник
— А что это такое? — Полицейский явно уступал ему в сообразительности.
— Так называют человека, который изучает змей, — объяснил я.
Полицейский смотрел не отрываясь на мудреное слово.
— Вы прибыли сюда изучать змей? — спросил он наконец с видом человека, ублажающего психопата.
— У нас здесь нет змей, — властно произнес его
коллега; было очевидно, что уж он-то сделает все, чтобы ни одна змея не могла проникнуть через рогатки иммиграционного контроля.
— Да нет же, мы прибыли ловить летучих мышей, — неосторожно сказал я.
Они недоверчиво воззрились на меня,
— Летучих мышей? — переспросил полицейский
— Летучие мыши — никак не змеи, — возвестил чиновник с пафосом Чарлза Дарвина, одаряющего мир плодами своих многолетних изысканий.
— Конечно, конечно, — согласился я. — Мы прибыли ловить летучих мышей по приглашению Высокого комиссара, мистера Хэзелтайна.
Я в глаза не видел мистера Хэзелтайна, однако был уверен, что он простит мне этот невинный обман, Услышав фамилию Высокого комиссара, полицейский и чиновник дружно стали навытяжку.
— Вы знакомы с мистером Хэзелтайном? — спросил чиновник,
— Он пригласил нас, — ответил я.
Представитель иммиграционных властей умел признавать свое поражение. Тщательно выведя «герпетолог», он проштемпелевал паспорт Джона, затем Энн и с нескрываемым облегчением улыбнулся нам.
Зачем крылану джак?
Заняв отведенные нам номера и посетив Высокого комиссара, мистера Хэзелтайна, обитающего в импозантном старинном здании, среди обвешанных эпифитами могучих деревьев, за стеной с воинственного вида пушкой у ворот, мы познакомились с директором лесничества, мистером Мари, и он предложил отвезти нас в лес, чтобы посмотреть на крыланов. По его словам, колония поселилась в долине Каскад-Пиджен, километрах в пяти от Порт-Матурина. В других частях острова, говорил он, можно встретить две-три особи, ведущие одиночный образ жизни, но основная популяция сосредоточена в этой долине. Мы втиснулись в его «лендровер» и вместе с молодым лесничим, страстным натуралистом Жаном-Клодом Рабо, двинулись в путь.
На гребне долины мы оставили машину и на скользком каменистом откосе нашли тропу, более всего похожую на русло. На полпути вниз торчал утес; с него открывался вид на склон слева, покрытый невысокими, метров шесть-семь, деревьями, среди которых возвышались могучие, тенистые мангиферы с широкими глянцевитыми листьями. Эти великаны и служили обителью крыланов.
Посмотришь в бинокль — в первую минуту кажется, что мангиферы увешаны странными мохнатыми плодами шоколадного и рыжеватого цвета, но когда крыланы зевали и потягивались, становились видны перепончатые, как зонт, кожаные крылья. Крыловые перепонки — темно-коричневые; голова и тело покрыты мехом от ярко-желтого, будто золотая канитель, до густо-рыжего цвета. Никогда еще я не видел таких красивых крыланов. Округлые головы с маленькими аккуратными ушками и короткими притуплёнными мордочками придавали им сходство со шпицем. Основная масса колонии пристроилась на трех мангиферах, но отдельные особи разместились на меньших деревьях по соседству.
Итак, мы установили местонахождение колонии; теперь надо было поточнее определить ее численность. Это оказалось не так-то просто: многие крыланы укрылись в гуще листвы, — сразу и не рассмотришь. К тому же время от времени, то один, то другой крылан не спеша описывал круг над склоном, после чего возвращался на старое место. Стоя на утесе, все члены нашей пятерки порознь произвели подсчет; итоги сложили а разделили на пять. Конечно, этот средний результат был весьма приблизительным, поскольку часть крыланов находилась в непрерывном движении, но нас ободрило уже то, что двое насчитали больше, чем экспедиция Энтони Чика двумя годами раньше,
Жан-Клод уверял, что колония заметно выросла за эти годы, и подчеркивал, что лучше считать крыланов либо утром, когда они только вернулись с ночной кормежки, либо в полдень, когда солнце особенно припекает; в эти часы они ведут себя всего спокойнее. Сейчас было одиннадцать, поэтому мы решили дождаться полудня и повторить подсчет, а до тех пор присмотреть место для сетей на случай, если решим отловить несколько экземпляров. Джон обнаружил на склоне очень удобную прогалину; окружающие ее высокие деревья как нельзя лучше подходили для развешивания сетей и вместе с тем надежно защищали нас от солнца.
В тишине знойного полудня мы еще раз посчитали крыланов; они почти не двигались, лишь иногда расправляли темные крылья и обмахивались ими для прохлады. Получилось более ста особей. Эта цифра нас обрадовала, но во имя осторожности я попросил Джона и Жана-Клода повторить подсчет с другого склона.
Для полной уверенности мы посчитали, сколько крыланов вылетело этим вечером на кормежку и сколько возвратилось с охоты на другое утро. Окончательная цифра колебалась между ста двадцатью и ста тридцатью особями. Внушительной ее не назовешь, но все же она ободрила нас, так как выходило, что после экспедиции Чика прибавилось около тридцати пяти особей.
Воодушевленные этим фактом, мы заключили, что максимум, какой можно отловить, не боясь подорвать жизнеспособность колонии, и минимум, потребный нам для образования плодовитых групп, — восемнадцать экземпляров. Я исходил из того, что летучие мыши, как и большинство живущих колониями животных, нуждаются в общении с себе подобными, чтобы успешно освоиться и размножиться на новом месте, а потому брать одну, даже две пары бессмысленно. Должна быть пусть маленькая, но все-таки колония. Но одно дело постановить, сколько и какого пола особей отлавливать, даже если известно место; совсем другое — успешно выполнить задуманное.
Выбранная нами для охоты прогалина находилась примерно в полукилометре от колонии, на пути, которым, как мы приметили, следовали крыланы, вылетая вечером на кормежку. Строго говоря, они летели чуть ниже прогалины, но я уповал на то, что плод джак (он сразу придал нашей гостинице совершенно неповторимый колорит) сыграет свою роль и приманит летучих мышей на наш уровень.
Способ лова был предельно прост. С помощью Жана-Клода и его товарища мы развесили на деревьях восемь марлевых сетей так, что получилось нечто вроде прямоугольного загона размером пятнадцать на двадцать метров, с высотой стенок около двенадцати метров. Затем из проволочной сетки смастерили вместилище для приманки и подвесили в середине загона, старательно замаскировав ветками. Закончив все необходимые приготовления, мы помчались обратно в гостиницу, перекусили и снова направились в долину, вооруженные фонарями и фруктами.
Наступили зеленоватые сумерки, предшествующие серому полумраку, и крыланы уже начали просыпаться, готовясь вылететь на ночную кормежку. Они вели себя довольно шумно и поминутно снимались с мангифер, описывали беспокойные круги в воздухе, потом возвращались на место. С их точки зрения явно было еще недостаточно темно. Мы набили наш проволочный ящик перезрелыми манго, бананами и ананасами, а я вооружился секачом и подошел к плоду джак. Прежде чем он успел оказать сопротивление, я рассек его пополам, о чем тут же и пожалел. Мое убеждение, что дивный фрукт просто не может пахнуть еще сильнее, не оправдалось. Казалось, весь остров Родригес в несколько секунд пропитался острым ароматом джака. Надеясь, что крыланам, в отличие от нас, сей запах будет по душе, мы засунули плод в ящик и подтянули вверх вместе с маскирующими ветвями, так что он повис среди сетей на высоте шести-семи метров. После чего подыскали себе удобное укрытие в кустарнике и принялись ждать. К сожалению, нам пришлось для облегчения багажа оставить большую часть одежды на Маврикии, и мы были одеты лишь в шорты и майки с коротким рукавом — далеко не надежная защита от трех четвертей всей комариной популяции Родригеса, которой вздумалось разделить с нами бдение.
Под звон возбужденных, пронзительных, радостных комариных голосов мы проводили зеленый сумрак, небо посерело, и уже незадолго перед тем, как все потонуло в кромешном мраке, крыланы наконец тронулись в путь. Когда по одному, когда по три-четыре вместе, они летели над долиной в сторону Порт-Матурина. Проносясь мимо нашей прогалины, они казались неожиданно большими на фоне неба, и тяжелый, медленный полет их вызывал в памяти сцены из фильмов про Дракулу. С похвальной целеустремленностью крыланы держались избранного направления, не отклоняясь ни вправо, ни влево. И совершенно пренебрегали нами, нашими сетями и благоухающей приманкой. Окруженные комариной мглой, мы чесались и хмуро созерцали сторонящийся нас поток рукокрылых. Вскоре поток сузился до струйки, потом пошли отдельные лежебоки, догоняющие главную стаю. Но вот и они исчезли. И ни один крылан не проявил ни малейшего интереса к нашей прогалине, разящей джаком.
Нападение улиток
Прошло часа два, крыланы больше не показывались, и когда комары вернулись за главным блюдом, мы устроили военный совет. Я был за то, чтобы по меньшей мере один человек остался до утра на случай, если один или несколько крыланов, возвращаясь, попадут в сети. Убрать сейчас сложную ловушку не представлялось возможным, а мне не хотелось, чтобы какой-нибудь пленник провисел в ней всю ночь. Посовещавшись, мы решили остаться все: устроимся в кустарнике поудобнее и будем дежурить по одному, пока остальные спят.
Под утро пошел дождь. Без всякого предупреждения — ни грома, ни молний, ни каких-либо еще бурных прелюдий. Внезапно раздался гул, как от лавины стальных подшипников, и тучи обрушили на нас яростный поток воды, словно вдруг распахнулись затворы большой плотины. В несколько секунд мы промокли насквозь, и нас окружила стремнина, которая обещала сравниться в мощи с Ниагарой. По контрасту с душным и жарким ночным воздухом казалось, что нас поливают струи с горного ледника, и мы стучали зубами от холода. Поспешили из кустов перебраться под дерево — все-таки укрытие получше. Огромные дождевые капли долбили листву пулеметными очередями; по стволам бежали ручьи.
Мы удерживали позицию целый час, потом разведка установила, что небо над всем островом черным-черно и тучи явно простерлись от Каскад-Пиджен через Индийский океан до самого Дели. Было очевидно, что ни один уважающий себя крылан не станет летать под таким проливным дождем, а потому мы собрали мокрое снаряжение и направились обратно в гостиницу, чтобы скрыться от дождя и комаров и поспать два-три часа. Мы были твердо намерены вернуться к сетям на рассвете, когда летучие мыши, возвращаясь с кормежки, вполне могли угодить в наши тенета.
Причудливый зеленоватый рассвет застал нас, вялых, полусонных, подле ловчих сетей. Лес источал жаркое благоухание наподобие фруктового торта, только что вынутого из печи. Но как ни сильно пахли омытые дождем и согретые солнцем земля, и мхи, и листья, все эти скромные источники запахов забивались трубным гласом подвешенного в шести-семи метрах над нами плода джак. Вскоре небо прояснилось и показались крыланы, неспешно возвращающиеся к дневной обители — мангифере. Уже немалое количество их проследовало мимо, когда несколько особей отклонились, так сказать, от заданной траектории полета и осторожно покружили над нашей прогалиной. Ободренные этим проявлением интереса, мы остаток дня развешивали на деревьях дополнительные сети при деятельном участии внезапных ливней.
Наши помощники из лесничества, потрясенные тем, что мы провели ночь под одним из самых сильных дождей, какие обрушивались на Родригес за последние восемь лет, нарезали шестов и банановых листьев и соорудили в гуще кустарника небольшую лачугу, которую конголезский пигмей, возможно, счел бы роскошной усадьбой. Однако дареному жилью в зубы не смотрят, и мы решили, что как укрытие от непогоды лачуга сгодится, если Джон оставит свои колени снаружи.
А еще мы предусмотрительно посетили китайские лавки в Порт-Матурине (других нам не попалось) и приобрели полиэтилен и дешевые одеяла. С приходом темноты, когда крыланы проследовали мимо на кормежку, мы после бурных прений постановили, что Энн вернется в гостиницу, как следует выспится и присоединится к нам на рассвете. Проводив ее, мы с Джоном сделали из полиэтилена и одеял нечто вроде постелей и разместили в нашем лиственном коттедже свое имущество: солидный запас бутербродов и шоколада, термос с чаем, фонари, а также симпатичные плетеные корзиночки (один из главных предметов родригесского экспорта, местное название «тант»), в которые надеялись поместить крыланов, буде они попадутся в наши сети. Бросили жребий, кому дежурить первым, я выиграл, свернулся калачиком и быстро уснул.
Когда пришел мой черед нести караул, я для разминки совершил обход прогалины. Хотя уже несколько часов не было дождя, земля и растительность ничуть не просохли, и теплый воздух был до такой степени насыщен влагой, что при каждом вдохе казалось, будто легкие впитывают воду, как губка. Лежавшие кругом гнилушки были облеплены множеством маленьких фосфоресцирующих грибов, излучающих сильный зеленовато-голубой свет, так, что лесная подстилка местами напоминала вид ночного города сверху. Подобрав несколько гнилушек, я убедился, что при свете десяти-двенадцати грибов можно даже читать, если поднести их близко к странице.
В разгар этого эксперимента я услышал странный хрустящий звук, который как будто доносился из чащи за нашей лачугой. Звук был довольно громкий и почему-то напомнил треск спичечного коробка, сокрушаемого пальцами силача. Поразмыслив, я был вынужден признать, что при всей эксцентричности жителей Родригеса вряд ли они будут в три часа ночи бродить по мокрому лесу, ломая спичечные коробки. Я взял фонарь, вылез из хлипкой лачуги и пошел на разведку. Правда, особой отваги для этого не требовалось, поскольку в животном мире Родригеса нет опасных особей, если не считать двуногих прямоходящих. Тщательно обследовав заросли позади лачуги, я не обнаружил ни одной твари, чей голос мог бы напоминать хруст спичечного коробка. Изо всех увиденных мной живых существ самым агрессивным был крупный мотылек, который настойчиво атаковал фонарь. Я вернулся в лачугу и предался размышлениям. Удастся ли нам утром поймать крыланов? Наше время на исходе — может быть, есть смысл перенести сети поближе к их обители? Внезапно опять послышался хруст, причем на этот раз совсем близко и не с одной, а с нескольких сторон. Тут и Джон проснулся, сел и воззрился на меня.
— Что это такое?— сонно осведомился он.
— Ума не приложу. Началось это уже минут десять назад. Я выходил и смотрел, но ничего не высмотрел.
Тем временем хруст перешел чуть ли не в канонаду, и вся наша лачуга начала вибрировать.
— Что за чертовщина? — недоумевал Джон.
Я посветил на лиственную крышу — она дрожала и качалась, как от землетрясения. И пока мы соображали, что делать, крыша провалилась, и на нас обрушился каскад огромных улиток величиной с яблоко. Жирные, мокрые, глянцевитые улитки поблескивали в лучах фонарей, щедро выделяя пену и расписывая наши постели интересными слизистыми узорами. Десять минут понадобилось нам, чтобы избавиться от незваных брюхоногих гостей и починить крышу. После чего Джон, завернувшись в одеяло, снова погрузился в сон, а я продолжал свои размышления. Может быть, крыланы относятся к плоду джак вроде меня и потому никак не ловятся?
Через час Джон проснулся и объявил, что хочет есть.
— Съем-ка я бутербродик-другой, — сказал он. — Кинь сюда, если не трудно.
Я включил фонарь, посветил в угол, где помещалась наша провиантская база, и опешил: гигантские улитки, которых мы так старательно выдворяли из лачуги, прокрались обратно и, облепив янтарной грудой бутерброды, с явным наслаждением поедали хлеб. В роли подстрекательницы и соучастницы выступала небольшая крыса с блестящим серым мехом, белыми лапками и пышными черными усами. Улитки ничуть не испугались света и продолжали уписывать наш ужин, но у крысы нервы оказались послабее. Когда луч упал на нее, она замерла на секунду — только усы трепетали да глаза беспокойно вращались, — потом с пронзительным писком повернулась кругом и метнулась ко мне под одеяло, явно посчитав мою постель безопасным пристанищем. Пришлось разобрать все ложе, чтобы изгнать ее оттуда. Выставив крысу из лачуги в лес, я отнял у улиток остатки бутербродов и, пока Джон выбирал наименее пострадавшие и сколько-нибудь пригодные в пищу, снова отправил улиток на дальний конец прогалины. Через час с небольшим Джон опять проснулся и заявил, что все еще хочет есть.
— Не может этого быть, — возразил я. — Ты ел всего час назад.
— Ел, что осталось после улиток, — обиженно сказал Джон. — Но ведь у нас еще должно быть печенье. Печенье и чашка чая — это то, что надо!
Я вздохнул, включил фонарь и с удивлением обнаружил на нашем камбузе прежнюю сцену. Улитки приползли назад и уплетали печенье. Мэя серая подружка была тут же. Снова луч света заставил крысу с истерическим воплем кинуться к моей постели, причем на сей раз она явно заключила, что чем ближе ко мне, тем безопаснее, и попыталась протиснуться в штанину. Я решительно изгнал ее в лес, вышвырнул следом улиток и перенес остатки наших припасов к Джонову ложу. Пусть теперь он поближе познакомится с крысой... Понятно, после всех этих приключений нам уже было не до сна, и мы сели дожидаться утра, перебрасываясь отрывочными репликами. Перед самым рассветом. Мы услышали, как Энн пробирается к нам через лес.
— Поймали что-нибудь? — спросила она, подойдя к лачуге.
— Ничего, — ответил я, — если не считать улиток и крысу. Может быть, еще что-нибудь добудем, когда рассветет.
Постепенно небо приобрело лимонный оттенок, свет прибывал с каждой минутой, мы покинули нашу изъеденную улитками обитель и спустились к деревьям по соседству с сетями.
— Не могу понять, почему они не прилетают, — сказал я. — Запах этого окаянного джака, наверно, в Чикаго слышен!
— А я знаю, в чем дело, — отозвался Джон. — Я думаю...
Однако нам так и не привелось услышать, что думал Джон, потому что он наклонился вперед, напряженно всматриваясь.
— Что это? — показал он рукой. — Там что-то попало в сеть. Уж не крылан ли?
Мы дружно уставились на прогалину, где тонкие, как паутина, сети совершенно терялись на фоне деревьев и теней.
— Точно! — взволнованно подхватила Энн. — Я тоже вижу. Конечно, крылан.
— Похоже, вы правы, — сказал я. — Но каким образом, черт возьми, ухитрился он попасть в ловушку так, что мы ничего не заметили?
В эту минуту над прогалиной возник крылан, произвел быструю и осторожную разведку и удалился, позволив нам установить, во-первых, что полет этих рукокрылых абсолютно бесшумен, и, во-вторых, что сверху, где стояла наша лачуга, мы бы его никак не увидели: стоило крылану опуститься над прогалиной, как его тотчас поглотили неровные тени.
К этому времени стало совсем светло, и мы с волнением обнаружили, что в сетях застрял не один, а целый десяток крыланов. Наш восторг не поддается описанию, ведь по чести говоря, мы почти не надеялись на успех.
Крыланы висели неподвижно, не бились и не вырывались, и мы решили не снимать их с сети; подождем немного — может быть, поймается еще несколько штук. В последующие полчаса на прогалину залетал не один крылан, но они были слишком осторожны и держались слишком высоко, чтобы запутаться в тенетах. В конце концов, видя, что больше улова не будет, мы приготовили корзинки и стали выбирать добычу из ячеи.
Первым делом определили пол крыланов. И с досадой установили, что попались одни самцы. Вблизи они были еще красивее спина — яркого каштаново рыжего оттенка, плечи и живот переливаются золотой рябью, мягкие, словно замша, тонкие крылья — угольно черные. Пухлые золотистые мордочки с соломенно-желтыми глазами делали их похожими на сердитых игрушечных мишек с крыльями. Мелкая ячея сделала свое — крылья основательно запутались, и, истратив попусту четверть часа на попытку освободить одно крыло, мы сдались и стали просто разрезать сеть. Естественно, соблюдали предельную осторожность, чтобы не повредить нежные крыловые перепонки, да и сети старались не кромсать без нужды.
Это была нелегкая работа, тем более что негодующие крыланы при малейшей возможности вонзали в замешкавшийся палец острые, как иголка, зубы. Все же мы высвободили их без чрезмерного ущерба для сетей и разместили в корзиночках по одному. После чего нас еще ожидал кропотливый труд по починке и развешиванию сетей.
Крыланы обживаются
Городская школа великодушно предоставила в наше распоряжение новехонькое классное помещение площадью три на шесть метров, еще не освоенное жадными до знаний юными островитянами. Мы заключили, что свежепокрашенный и нарядно убранный класс как нельзя лучше подходит для содержания крыланов, набросали на пол ветки и развесили проволочные подносы для привезенного с Маврикия вороха фруктов. Решили предоставить самцам свободно летать по классу, а самок, когда поймаем, держать. в корзинках. Не желая прослыть женоненавистником, спешу уточнить, что кажущаяся дискриминация всецело объяснялась тем, что самки были для нас несравненно ценнее самцов, и мы приготовились беречь их, как зеницу ока.
В конце дня мы возвратились на прогалину к нашим двум верным помощникам, сторожившим крыланов, и в свете угасающей зари взобрались на утес, с которого было видно колонию. В целом крыланы вели себя спокойно, хотя сон их временами прерывался, и они весьма проворно меняли положение, ловко цепляясь за ветки когтистыми пальцами. Иногда то один, то другой снимался с дерева и вяло летал по кругу, чтобы затем вернуться на старое место или повиснуть на другой ветке. Царила почти полная тишина, лишь изредка завязывалась перебранка, когда какой-нибудь крылан случайно начинал теснить спящего товарища.
Впрочем, был в колонии один отнюдь не тихий экземпляр — толстый детеныш, которого мы окрестили Эмброузом. Мамаша не желала больше выкармливать его, а Эмброуза это никак не устраивало. Хотя детеныш размерами почти сравнялся с родительницей, он считал себя вправе по-прежнему висеть на ней и сосать материнское молоко, когда вздумается. А так как мамаша твердо стояла на своем, Эмброуз изливал свое негодование в отвратительных капризных звуках. Визжа и пища, он гонял злосчастную родительницу с ветки на ветку, норовя зацепиться за нее передними конечностями, и после каждой неудачной попытки давал выход своей досаде в злобных криках. Безобразный концерт прерывался лишь с те минуты, когда мамаша, не выдержав нервного напряжения, снималась с ветки и перелетала на другое дерево. Тут Эмброуз поневоле смолкал на короткое время, потому что все силы его уходили на то, чтобы собраться с духом и лететь следом за ней. В конце концов он настигал родительницу и, передохнув, снова принимался визжать и вязаться за ней.
— До чего же мерзкий отпрыск, — сказала Энн. — Будь у меня такой, я бы убила его
— Его место в школе-интернате, — рассудительно заметил Джон.
— Тогда уж скорее в исправительной колонии, — возразила Энн.
— По мне, так лишь бы он нечаянно не попал в наши сети, — вступил я. — Вот уж кого я сразу отпущу на волю, пусть даже это будет самочка.
— Точно, — сказал Джон — Не дай бог целыми днями слушать этот визг.
Когда стемнело, мы спустились в нашу лиственную обитель и провели ночь в обществе настойчивых гигантских улиток, нескольких миллионов комаров и парочки воинственно настроенных здоровенных многоножек. Крыса не показывалась, из чего я заключил, что она отсиживается в норе, оправляясь от нервного потрясения.
Утром обнаружилось, что пойманы еще две летучие мыши, и обе, к нашей радости, были самками. Мы извлекли их из сетей и со всеми предосторожностями отвезли в классное помещение. Первые наши узники прекрасно освоились, по всему классу были разбросаны фрукты, пол покрыт толстым слоем помета.
На следующий день нам предстояло в два часа вылететь на Маврикий, из чего следовало, что мы должны успеть с утра пораньше отловить недостающее до полной квоты количество крыланов. Успех всего предприятия, что называется, висел на волоске, и мы облегченно вздохнули, когда зеленоватый рассвет озарил попавшихся в сети тринадцать крыланов, в числе которых были и столь нужные нам самки. Всего мы отловили двадцать пять крыланов, так что можно было отпуск ять на волю семь самцов. Собрав заключительный улов и разместив пленников по отдельным корзинкам, мы свернули сети и в последний раз поднялись по каменистой тропе. Покидая Каскад Пиджен, мы слышали, как Эмброуз продолжает канючить, приставая к своей родительнице. Поистине, этот крылан был твердо намерен сделать все от него зависящее, чтобы не вымереть.
Доставив в классное помещение последнюю партию, мы приступили к проверке самцов, чтобы отобрать для своей колонии взрослых и молодых в надлежащем соотношении. За тем посадили в корзинки лишних, от везли их к устью Каскад Пиджен и, выбрав место повыше, стали одного за другим подбрасывать в воздух. Каждый из них сразу взял курс на расположенную в долине колонию. Дул довольно сильный встречный ветер, и мы с интересом отметили, что крыланам было нелегко с ним справиться, они то и дело опускались по пути на дерево, чтобы передохнуть. Мы спрашивали себя, каково то им приходится, когда зарядит буря на три четыре дня, а то и на неделю.
После этого, разместив по корзинкам отобранные экземпляры, мы на правились в аэропорт и погрузили необычный багаж в кабину. Представитель иммиграционных властей и полицейский приветливо помахали нам на прощание, самолет разогнался на пыльной дорожке и взлетел над рифом. Я с грустью покидал Родригес — он произвел на меня впечатление очаровательного и неиспорченного уголка природы. Хоть бы он еще долго таким оставался. А то ведь стоит туристам открыть этот остров, как его постигнет тот же удел, что и множество прекрасных уголков.
Приземлившись на Маврикии, мы отвезли крыланов в оборудованные вольеры в Блэк-Ривере. Они отлично перенесли путешествие и быстро освоились на новом месте. Вися под проволочной крышей, обменивались негромким чириканьем, а заготовленный для них разнообразный корм пользовался большим успехом. Воодушевленные удачей, мы вернулись в свою гостиницу, приняли ванну и отправились обедать. Когда дошло до сладкого, официант осведомился что мне подать.
— А что у вас есть? — спросил я.
— Есть чудесные фрукты, сэр, — ответил он.
Я посмотрел на него. Да нет, на розыгрыш непохоже.
— Какие именно? — спросил я.
— Мы получили отличные спелые плоды джак, сэр, — горячо произнес он.
Я попросил принести сыру.
Перевел с английского Л. Жданов
(обратно)
Несостоявшийся рай

По дороге из Рамаллаха в Иерусалим в машину подсаживается измученный израильский солдат. Он возвращается с очередного сбора резервистов, который проходил на бурлящем Западном берегу. Это были для него три недели бесконечных патрулей, отвратительной кормежки, когда кусок в рот не лезет, бессонных ночей, проклятий, а то и камней от арабов. «Я сыт по горло», — сердито говорит он, подкрепляя свои слова красноречивым жестом.
Палестинцы, еврейские поселенцы, армия, журналисты — ему наплевать на всех. «Вернусь домой, жена потребует денег — цены-то все время растут. На работе шеф будет ворчать, что за мной накопилась куча несделанного. Сын начнет канючить, чтобы я купил ему новый костюм. Разве это жизнь? А ведь за нее мы платим шестидесятипроцентный подоходный налог и никогда не знаем, что будет завтра».
Постепенно солдат успокаивается и, сжимая в одной руке автоматическую винтовку, а в другой букетик цветов для жены, пытается объяснить, каким образом большинство израильтян все же умудряются — нет не жить — существовать в таких условиях. «Мы отключаемся, — устало цедит он, — Выключаем из сознания наших вздорных политиканов, вечно грызущихся между собой. Еще на год забываем об армии. Какое нам дело до «Великого Израиля», ООН и палестинской автономии? Мы стремимся, чтобы просто день проходил за днем. Разве мы хотим так уж много?»
Конечно, в этой безрадостной картине, нарисованной солдатом, сказываются накопившиеся усталость и казарменная скука. Но так смотрит на вещи вовсе не он один. Израильтяне всегда отличались своей склонностью ныть и жаловаться. Жаловаться на все на цены и налоги, на своих политических деятелей и соседей. Но раньше это было все-таки жизнеспособное общество. Сегодня его целиком, снизу доверху, разъедает ржавчина отчаяния и цинизма, пронизывающая все аспекты повседневной жизни.
Причина этого кроется отнюдь не в каком-то конкретном политическом недовольстве, хотя и его хватает, и даже не в неуверенности в завтрашнем дне по мере того, как усиливается террор и все больше крови льется на Западном берегу. Она лежит во всеобщем чувстве обреченности, растущей убежденности, что Израиль уже не тот, что о« изменился к худшему.
Пока еще этот процесс не слишком бросается в глаза стороннему наблюдателю. На каждого резервиста, отказывающегося по моральным соображениям проходить службу на захваченных у арабов территориях, приходятся сотни тех, кто, подобно этому солдату, надевает погоны, думая про себя: «Оттрублю свои три недели, и пошли все к черту». Но бацилла горечи и недовольства уже посеяна. Она растет и заставляет звучать колокола тревоги в таких бесконечно далеких от всего этого ячейках израильского общества, как высшее военное командование и преподаватели классической музыки. Первое обеспокоено появлением острых идеологических и дисциплинарных проблем в армии. Вторые с горечью видят, что их самые одаренные ученики начинают покидать страну.
Трудно точно установить все симптомы упадка в израильском обществе, какими бы тревожными и ощутимыми они ни представлялись изнутри. Однако сигналов бедствия сколько угодно.
Инфляция увеличивается в год на 150 процентов, будучи самой большой в мире Доходы средней израильской семьи составляют 60 английских фунтов в неделю Микролитражка стоит 6 тысяч фунтов; литр бензина — почти полфунта; местный сыр — 1,25, а мясо — 1,85 за фунт. Утешением для израильтян может служить популярная у них шутка: «Какая разница между Израилем и банановыми республиками? О, там люди могут позволить себе покупать бананы».
Не менее тревожными темпами, чем инфляции, растет и эмиграция. Точные цифры держатся в тайне, но около 800 тысяч израильтян, или приблизительно 20 процентов населения, живут сейчас за границей. Причем большую часть их составляют лица, имеющие специальности. И наоборот, у приезжающих в Израиль общеобразовательная и специальная подготовка непрерывно ухудшается.
Как никогда прежде, в «земле обетованной» пышным цветом расцвела преступность. Шайки вымогателей взимают дань с ночных клубов, лавочек и даже рыночных торговцев. Проституция и торговля наркотиками стали обычным делом. Поскольку достать оружие в Израиле не составляет трудности, совершается все больше преступлений с его применением.
Усиливается взаимная отчужденность между членами общества. А это ведет к тому, что среди молодежи катастрофически растет число наркоманов; за бортом жизни оказывается все больше алкоголиков — по крайней мере 5 тысяч человек в год, причем в стране, где еще пять лет назад пьянство вообще не существовало; родители постоянно избивают детей, а мужья — жен. Но самое главное — возникает раскол самого израильского общества. Политические, социальные и религиозные группировки относятся друг к другу с беспрецедентной враждебностью, что чревато появлением нового израильского подполья и может подорвать моральный дух, дисциплину и боеспособность усиленно пестуемой израильской армии.
Габби и его жена с нежным именем Дейлия, что значит «георгин», — очень приятная, культурная пара. Вместе с двумя детьми они живут в одном из красивых пригородов Иерусалима. В последнее время у них росло смутное чувство тревоги. Теперь оно стало настолько острым и гнетущим, что супруги решили через несколько недель уехать в Европу. Формально это бегство именуется «поездкой в отпуск за свой счет», причем на этих основаниях живет подавляющая часть израильской диаспоры за границей. Фактически они намерены навсегда покинуть «землю обетованную». Работа, которую обещали им на новом месте, совершенно не привлекает ни Габби, ни Дейлию, но супруги надеются, что потом подвернется что-нибудь более подходящее.
Им трудно четко объяснить причины своего решения: «Нам больше нечего ждать в будущем, и нет ничего, что давало бы радость, в настоящем. Каждый день одни и те же мрачные известия: «Гуш эмуним» 1 усиливает террор, наши лидеры и выборные представители народа возятся в помойной яме политической грызни и интриг, цены подскочили чуть не до неба».
1 «Гуш эмуним» — «Союз веры» — крайне реакционная клерикальная организация, ратующая за полную аннексию оккупированных арабских территорий.
По израильским меркам Габби и Дейлия принадлежат к числу привилегированных. У них прекрасный дом, приносящая удовлетворение работа в Иерусалимском университете, которому чудом удалось избежать сокращения государственных ассигнований, затронувшего все гражданские учреждения. Однако немало их коллег уволили по сокращению штатов, а самим им известно, что многие перспективные научные проекты свернуты или же безнадежно урезаны из-за нехватки денег. Они знают и то, кто виноват в этом: «Правительство Бегина выбрасывает наши деньги на ветер: с нас берут колоссальные налоги, а средства тратят на эти дурацкие поселения на Западном берегу да еще на синагоги и прочую религиозную ерунду вроде школ по изучению библии, чтобы умилостивить закоренелых ортодоксов».
В свое оправдание Габби и Дейлия говорят, что уже отдали слишком много сил и давно заслужили право на более приличную жизнь, но она становится все хуже, а не лучше из-за бешеной инфляции. Супруги рассчитали домработницу, перестали выписывать газету, ходить в кино, на концерты и только раз-два в неделю едят мясо Они понимают, что даже если Бегин потерпит поражение на следующих выборах (самое позднее в октябре 1981 года), а его преемник попытается исправить положение, это все равно принесет лишь новые лишения.
Нельзя сказать, что Габби и Дейлия покидают Израиль без сожаления. Как бы там ни было, Дейлия хотела бы остаться: ее мать просто в отчаянии от того, что теряет единственную дочь и внуков. Но она, Дейлия, боится за детей. «Я с ужасом думаю о том, какие моральные ценности может воспитать в них наше общество. Моя семилетняя дочурка очень смышленая и запоминает многое из того, что передают по радио и телевидению. Может ли она научиться уважать политических деятелей вроде наших? Как помешать ей заразиться окружающей нас ненавистью?»
Что касается Габби, то, как и большинство израильтян его возраста, он участвовал в двух войнах, будучи строевым офицером. Однако Габби не намерен в качестве резервиста нести службу на оккупированных территориях, таких, как Западный берег или район Газы, поскольку считает, что их захват недопустим с моральной точки зрения и в конечном счете наносит ущерб будущему Израиля. Поэтому, подобно десяткам, а может быть, и сотням других резервистов, он частным образом договорился, чтобы его посылали проходить сборы в другие места. Это влечет за собой немалые неудобства его призывают чаще и на более длительные сроки, нередко во время учебного семестра, но с этим он вынужден мириться. «А что мне делать, если, не дай бог, начнется война? Ведь, как и каждому уважающему себя еврею, мне придется моментально надеть погоны, какое правительство ни стояло бы у власти», — с горечью говорит он.
Среди соседей этой пары еще три семьи получили туристские визы и купили билеты в один конец для поездки в США. Ясно, что и они пополнят ряды израильтян, живущих там, которые не намерены возвращаться обратно. По всему Израилю многие семьи потихоньку продают квартиры и мебель, чтобы добыть деньги для нового исхода, отнюдь непохожего на библейский. Не зря же перед американским консульством, где выдают въездные визы, постоянно стоят очереди.
Пока нельзя сказать, чтобы начавшееся бегство привело к катастрофической «утечке мозгов». Сокращение бюджетных ассигнований лишило работы многих людей со специальностями, поэтому уезжающие в некотором смысле облегчают положение остающихся. Но если смотреть на вещи в плане более длительной перспективы, картина в корне меняется: бегут именно те, в кого Израиль вложил больше всего денег и в расчете на чью энергию и таланты строил свои надежды на будущее. В свое время Бен-Гурион, основатель и первый премьер-министр Израиля, мечтал, что страна станет «ближневосточной Швейцарией». Однако сейчас возникает тревожная перспектива: экономика и военная машина, полностью зависящие от высокоразвитой технологии, скоро начнут испытывать нехватку инженеров, физиков, электронщиков, экономистов и других специалистов, без которых они не могут обойтись.
Израиль не всегда в состоянии найти места для желающих жить и работать здесь. Небольшое число израильтян, которых послали за границу для дополнительной подготовки в областях, считающихся жизненно важными для национальной безопасности, теперь не может вернуться домой. Причина проста: предназначенные для них должности «заморожены» из-за сокращения бюджетных ассигнований. Университеты и специализированные учебные центры увязли в долгах, причем политика экономии угрожает в будущем еще больше ухудшить положение вещей.
Что же касается израильских бедняков, тех, кто получает зарплату ниже средней и вынужден вести повседневную битву, чтобы как-то свести концы с концами, то их судьба воистину плачевна: попытки правительства обуздать инфляцию отодвинули на задний план моральные соображения и заглушили их мольбы о помощи Общины сефардов — «темных евреев», (выходцев из других стран Ближнего Востока и Северной Африки, — считают, что они попались в капкан и обречены вечно ютиться в трущобах. Эти люди жалуются на свою необразованность и невозможность устроиться хоть немного получше, в то время как для ашкенази, приехавшей из Европы и США элиты, которой наплевать на остальных, созданы все условия. Бедняки сефарды обеспечили Бегину победу на выборах и теперь справедливо возмущаются тем, что государственные ассигнования на социальные цели пожираются ненасытными акулами — поселениями на Западном берегу.
Недавно на пустыре в Иерусалиме не имеющие жилья молодожены и обитатели лачуг нелегально построили символический «палаточный лагерь». Несколько сот человек, составляющие его население, в том числе активисты сефарды из организации «Черные пантеры», ожидают и даже надеются на столкновение с полицией, когда власти попытаются выселить их. Ведь это явится прекрасным способом показать, какая пропасть лежит между ними и жителями поселений на Западном берегу, в основном недавними иммигрантами из США, чью безопасность день и ночь охраняет израильская армия.
Вообще армия представляет собой самый чувствительный социальный барометр в Израиле. Да и может ли быть иначе, если четыре пятых ее личного состава — это резервисты и проходящие начальную подготовку призывники. Причем военная служба считается одной из главных форм воспитания израильской молодежи в армии юношам и девушкам должны внушить, что они являются равноправными гражданами с определенными обязанностями перед обществом. Между тем происходящее в армии в последние два-три года не может не вселять тревогу. Причем дело не только в том, что, по словам начальника военной полиции, сейчас зарегистрировано не только рекордное число дезертиров, уклоняющихся от службы призывников, заключенных в военных тюрьмах, но и случаев нападения на сержантский состав. (Особенно резко подскочило в военных тюрьмах число содержащихся там солдат-девушек, которых призывают в армию наравне с юношами.) «Ведь армия является зеркалом общества, из которого она набирается, — говорит он. — Если в ней больше наркоманов, то это потому, что много израильской молодежи пристрастилось к наркотикам. Оружия стали воровать в несколько раз больше, поскольку организованная преступность создала для него обширный рынок». К этому можно добавить, что армию опозорил не кто иной, как сам начальник генерального штаба генерал Эйтан. Он помиловал трех израильских солдат, осужденных военным судом за убийство ни в чем не повинных арабов. Взять, например, дело лейтенанта Дэниеля Пинто, попавшего в тюрьму за то, что два года назад во время вторжения в Южный Ливан задушил четырех крестьян. Благодаря вмешательству генерала Эйтана Пинто провел за решеткой всего шестнадцать месяцев — по четыре за каждое убийство. Символичность этого не может не возмущать каждого, у кого есть хоть капля совести.
Филипп Джексон, Рут Кейл, английские журналисты («Обсервер»)
Перевел с английского С. Милин
(обратно)
Школа Дрем-Хеда

До сих пор он жил, как десятки других собак поселка: рыскал в поисках куска моржатины или оленьей кости, облаивал или обнюхивал прохожего, ждал — не перепадет ли чего, а в полнолуние или перед сильной пургой присоединялся к сводному песьему хору. Не то чтобы у него не было хозяина — было, даже два, — и каждый старался переманить его на свою сторону, но пес никого не признавал. Грех, конечно, жаловаться, жил не хуже других. Обычная собачья жизнь. И все же чего-то не хватало, что-то тревожило — быть может, внутренний голос нашептывал ему, что все-таки есть иная жизнь, более настоящая и прекрасная...
Надо сказать, пес был неунывающего нрава, к тому же молод — ему исполнился год. Он никогда не уходил далеко от поселка, лишь раз нюхал след медведя и, как рассказывают, бросился было в погоню, но его не пустили. Выглядел он образцово красивой рыжей масти, крупный, уши торчком и хвост серпом. Слегка удивляло только имя, необычное для чукотской лайки, — Барон.
Когда мы попросили его у одного из хозяев, чтобы взять с собой в горы на время экспедиции (Экспедиция эта состоялась в 1979 году и была организована Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР.), тот сразу согласился. И пес не колебался: спокойно дал надеть на себя ошейники увести. Перед отлетом он повертел головой, словно слепка раздумывая, потом решительно прыгнул в темное нутро вертолета.
В северо-западном углу заповедного острова Врангеля есть небольшая группа гор с таинственным названием Дрем-Хед. Место это — крупнейший в мире родильный дом белых медведей. К ним-то мы и прибыли. Вертолет окатил нас на прощание снежным душем и исчез. Мы остались одни четыре человека и собака.
Совершенная тишина — до звона в ушах — обступила нас. Молчало небо, высокое, туго натянутое, аккуратно заправленное за горизонт, скрепленное
огромным сургучом солнца. Молчала спеленутая сверкающим снегом земля. Молчало вдали изрезанное торосами, скованное льдом море. Кое-где в долинках висел морозный туман: испарялся снег, в этих наплывах вспыхивали обрывки радуги — такое часто бывает в высоких широтах в начале марта.
Избушка, в которой нам предстояло жить, еле виднелась из-под сугроба, наметенного у подножия склона. Пока мы откапывали ее и перетаскивали снаряжение, Барон обегал все вокруг и вернулся недоумевающий: куда он попал? Ни следа, ни запаха. Оборудовав себе жилье, мы и Барону вырыли удобную нору — на случай пурги и сильных морозов. Однако он устроился недалеко от порога, на снежном взгорке, свернувшись по обычаю северных лаек крендельком.
Больше всего поражает в Арктике простор, распахнутость пространства... Закат. Горы покраснели, потом стали нежно-розовыми, подернулись сединой. Снизу наливается холодная синева. На западе, над перевалом, небо еще подсвечено и прозрачно, горная гряда непроницаемо черна, выделяется резко, отчетливо.
С востока клубится сиреневая мгла — ничего не разглядишь в ней, проблескивают только самые крупные звезды. Вдруг мощный купол света опрокидывается из зенита, бахрома его полощется, как от ветра, стенки из зеленого ливня ходят ходуном. Северное сияние. Мороз загоняет под крышу. Но через несколько минут не выдерживаем, выходим опять. Световой шатер переливается малиновым и тускнеет, а на смену ему бьет из-за горизонта ярко-зеленый столб…
Так меняется ночь, с каждым часом переходя свои рубежи.
...Утром разбудил Барон — он заглядывал в тусклое оконце и царапал стекло лапой: пора, мол, вставать, лежебоки, впереди трудный день! Позавтракав, мы отправились в первый разведывательный маршрут, на поиски берлог.
С перевала Дрем-Хед открылся весь — от каменистых, черных, промороженных вершин до мягких, убаюканных ветрами распадков. Окруженный с двух сторон низкой полосой тундры, а с двух других морем, он возвышался в пустынном пространстве, в оранжевом мареве, как средневековый, засыпанный белым песком, давно вымерший город. Но жизнь здесь была. Мы знали, что на этих склонах и террасах, под покровом снега, лежат и даже передвигаются большие, сильные звери, а рядом с ними ползают их дети. Каждую осень несколько десятков медведиц приходят сюда из просторов Ледовитого океана, выбирают место для берлог, закапываются в снег, полярный ветер наносит над ними крышу, и там, под снегом, они выводят потомство. Сюда ведет их природный инстинкт...
Мы знали: звери есть, но где?.. Пока матуха не вскрыла свое убежище, обнаружить ее почти невозможно. Если, конечно, не провалишься в какую-нибудь берлогу с очень тонким потолком.
Целый день бродили мы по горам, отмечая мало-мальски подозрительные места, но ничего не нашли. Все это время Барон сновал челноком, поперечными галсами, успевал и обследовать склоны, и навестить каждого из нас — лихо, с разбегу бросался на грудь: как, мол, порядок? Пошли дальше? Его морда покрылась светлой опушкой инея. На крутых обледеневших скатах лапы его заплетались и скользили — не раз он кубарем летел вниз.
Уже на обратном пути мы услышали его громкий призывный лай. Он крутился и прыгал вокруг одной точки, разрывая ее лапами, совал морду в снег и тут же отскакивал, словно поддетый невидимой ногой. Подойдя ближе, мы расслышали приглушенное снегом грозное шипение...
Так дальше и пошло. Почти каждый день наш разведчик обнаруживал новые подснежные логова и все их запоминал. Потом нам чаще и чаще стали попадаться на склонах темные округлые дыры — это означало, что настал срок медведицам выводить малышей на свет.
Начальник нашего отряда Станислав Беликов объявил: начинаем мечение. Состоялся «военный совет»: распределили обязанности, обговорили возможные неожиданности, приготовили снаряжение. Не последняя роль в наших расчетах отводилась Барону.
Для начала мы выбрали очень удобную берлогу: недалеко от избушки, на невысоком пологом склоне. Все шло строго по плану. Барон лаем дает понять, что берлога обитаема.
Один из нас, взяв лопату, осторожно приближается к отверстию и забрасывает его снегом. Другой стоит рядом, с ружьем, заряженным «летающим» шприцем. В шприце — специальный препарат парализующего действия. Двое других — с карабином и ракетницей — поодаль, на страховке.
И все бы хорошо, если бы не Барон. Слишком уж он усердствовал: заскакивал в берлогу, а потом стремительно, задом вперед вылетал из нее и, конечно, разбрасывал тот самый снег, которым мы пытались закупорить отверстие. Отвести бы его, но куда? Вот проблема! Наконец укрепили у подножья горы шест и привязали к нему.
Снова «запечатываем» берлогу. Теперь надо открыть ее, но уже в нужном для нас месте. Щупаем наст длинной пикой, пока она не проваливается в пустоту. Тут и долбим щель. Потолок достаточно толст, так что медведица не выскочит наружу. Из берлоги бьет спертый звериный запах, мы видим под собой три черные точки — нос и глаза медведицы. И стоит матухе повернуться, как шприц с красным хвостиком уже торчит в ее боку.
Десять минут ожидания, пока препарат подействует, — и мы раскапываем берлогу. Когда медведица лежит обездвиженная, в ее позе, мохнатых «штанах», широких, разжатых лапах есть что-то трогательное: кажется, это человек силой злых чар превратился в зверя. И мается он в звериной шкуре, и тяжко ему, да ничего не поделаешь... Чуть дальше из темного лаза выглядывают два пушистых шара — медвежата.
Мы спешили, через час матуха должна была прийти в себя, а дел невпроворот: надо было поставить на уши всем троим метки, обмерить зверей и берлогу, взвесить малышей. С медвежатами возни хватало. Стоило протянуть к ним руки, они начали отбиваться, кусаться и пронзительно верещать. Этого Барон уже не мог выдержать. Обида захлестнула его. Как! Искать и добывать вместе, а плоды победы вкушать без него? Он сорвался с привязи и, нервно дрожа, махнул к нам в берлогу. Пришлось водворить его на место. Так повторялось несколько раз.
Медвежата, устав рычать и кусаться, подчиняются силе и начинают жаловаться, плакать, откровенно и обиженно. Мать рядом — тычутся в нее, но она недвижна, непонятно, что с ней. Остается спрятаться в угол берлоги, прижаться друг к другу и уснуть, забыться. Ведь они не знают, что скоро, совсем скоро мать придет в себя, накормит, согреет, успокоит и все будет хорошо…
Близкое знакомство с медведицей, а главное, наша видимая власть над ней прибавили Барону азарта. Он с утра рвался в маршрут, торопил нас, лая, подталкивая носом, всегда бежал впереди. Чувствовал: он нужен. Эта жизнь, опасная и захватывающая, явно была ему по душе. Домой он возвращался усталый, как и мы, но гордый, умиротворенный и с достоинством принимал еду, понимая, что заработал.
Все шло нормально до встречи с Толстухой — так назвали мы одну крупную, жирную, совершенно круглую медведицу. Настроена она была, не в пример прочим, весьма решительно. Она и не думала прятаться! Еще на подходе к берлоге мы могли наблюдать, как Толстуха и Барон «играют»: он наскакивает, а она пытается достать его то одной, то другой лапой, потом вылезает, плавно выжимается из берлоги, делает несколько стремительных бросков, шерсть на холке дыбом, и снова втягивается, утекает в берлогу. Вот тебе и Толстуха!
Нас она вовсе не испугалась. Встретила, высунувшись из берлоги по грудь и клацая зубами Что делать? Не успели мы подумать, раздался отчаянный визг — Барон, поджав хвост, покатился к нашим ногам. Из задней ляжки у него капала кровь. Рана была пустяковая, но мы решили дать медведице успокоиться и ретировались.
Немного утешила Барона игра с лепешкой, которую Толстуха оставила снаружи. Он грыз ее, подкидывал, катался, кувыркался — видимо, праздновал свою воображаемую победу над врагом...
А впереди у него была новая встреча — с овибосами...
15 апреля 1975 года из Америки в сторону Чукотки летел самолет. На его борту находились необычные пассажиры — бородатые, невозмутимые, массивного телосложения, в лохматых темно-коричневых шубах до пола, некоторые — с широкими рогами, сбегающими вдоль головы и круто завитыми на концах. Это были овцебыки, или мускусные быки, по-латыни именуемые овибосами. Спустя столетия они возвращались на землю, где когда-то жили. Овцебыки — современники мамонтов, но в отличие от них, к счастью, не вымерли. Ученые решили провести опыт реакклиматизации этих животных: одну партию завезли на Таймыр, другую — на остров Врангеля. «Таймырцы» успешно прижились, а вот о «врангельцах» мало что было известно. После того как их выпустили в долине реки Мамонтовой, они разделились на три независимые группы и разбрелись по горам и долам острова. Первые годы за ними следили и даже как будто видели новорожденных телят, но потом овибосы исчезли.
Целы ли они? Сумели ли приспособиться? Предстояло ответить и на эти вопросы. Наш воздушный экспедиционный отряд уже искал овцебыков, но мы, сидя на Дрем-Хеде, толком ничего не знали. И тут овибосы сами пришли к нам.
В ясное апрельское утро, когда уже ощутимо пригревало солнце, ничего не подозревая, взбирались мы по высокой террасе, обращенной к морю, и внезапно увидели на ровной прибрежной полосе, в километре от себя, какое-то бурое пятно. Подняли бинокли: овцебыки! Они лежали, похожие на каменные изваяния, четыре взрослых животных и один теленок. Это была важная новость. Ведь если овцебыки размножаются, значит, они прижились на острове.
Но вот они зашевелились, встали и быстро перестроились в тесную боевую группу: крупные самцы впереди, телки и малыш сзади. Прямо на них очертя голову несся Барон. Выходит, он раньше нас заметил гостей. И конечно, помчался знакомиться. В нескольких шагах от стада Барон, взвихрив снег, затормозил, и мы услышали его лающее приветствие. В ответ передний бык нагнул рога и бросился на Барона. Древняя схема отношений овцебыков с волком была разыграна как по нотам. Барон пустился наутек. Пробежав метров тридцать, бык резко остановился, помедлил несколько секунд, потом галопом вернулся в строй. Но Барон уже мчал за ним по пятам. Все повторилось. На этот раз бык отогнал собаку еще дальше Барон изменил тактику: он забегал к стаду то с одной, то с другой стороны — безуспешно! — овцебыки мгновенно перестраивались и посылали в атаку одного из самцов. Они были неуязвимы.
Барон возобновлял попытки знакомства, пока окончательно не выбился из сил и не махнул хвостом на всю эту затею. Он тихонько затрусил в нашу сторону.
Назавтра овцебыков и след простыл. В обдутой ветрами ложбине, где они паслись, зыбились над снегом только редкие колоски мытника да проглядывали кое-где на кочках листья нордосмии, которые, как говорят, очень любят овибосы...
Когти Толстухи и рога овцебыков не образумили Барона. Он крутился под самым носом у медведиц, залезал в берлоги и лаял там, словом, по-прежнему вел себя бесшабашно. Пока не случилось событие, которое круто изменило его отношение к медведям.
В тот день занялась поземка, она быстро перешла в низовую метель. Гуляли высокие вихревые столбы, Барон удивленно на них посматривал, иногда пускался вдогонку.
На самом верху крутого распадка набрели на берлогу. Хозяйка была на месте. Без особого труда забросали устье, начали долбить окошко. Тут Барон подскочил к входу в берлогу и сунул туда нос. И вдруг Барона не стало. Только что стоял здесь, перед глазами, и вдруг исчез. Из-под снега донеслись отчаянный визг, урчание матухи — и все стихло. Мы замерли. Несколько секунд не могли промолвить ни слова. Потом кто-то сказал:
— Кажется, мы потеряли Барона...
Бросаемся пробивать потолок. Скорей, скорей! Разрываю пошире дыру, Стае стреляет... осечка... Пока он проверяет ружье — ох, как долго копается! — дразню матуху пикой, чтобы отвлечь от Барона... В метре от меня глаза медведицы, пытаюсь прочесть в них что-нибудь и вижу злобу, ярость — эта спуску не даст. И урчит глухо, будто перекатывается вдалеке гром.
Еще выстрел — в этот раз шприц попал. Матуха опускает нос, становится вялой — подействовало. Хватаемся за лопаты. Прежде всего расчистить устье — там Барон. Вскоре мы натыкаемся на собаку. Она лежит неглубоко, головой внутрь берлоги и не движется. Мертвая?
— Барон! Барон! — Пес выползает медленно, не отрывая взгляда от лежащей медведицы, как загипнотизированный. Видимо, в шоке. Его начинает бить дрожь. Глаз залит кровью. Выбит? Счищаем кровь: цел. Разорвана губа, и на спине зияет рана — медведица распорола шкуру.
Но расправиться с ним она не успела. На счастье, наша пика вошла в берлогу прямо над медвежатами, и мать бросилась спасать их. Она крутилась в берлоге, поворачиваясь то к нам, то к Барону, но мы казались опаснее. Пес-то уж никуда бы от нее не делся. Он лежал, заваленный сверху снегом, а разворачиваться боялся. Барон оказался в ловушке у матухи, а она — в ловушке у нас.
Дома мы устроили Барона в тамбуре, в большом сухом ящике. Рядом положили ломтики мягкого мяса. Но он есть не стал, свернулся в клубок и затих.
С этого дня наш пес потерял всякий интерес к медведям. Из ящика он вылез, но все время лежал около избушки, вялый и грустный. Почти не ел, на ласку не отзывался, только поднимал голову и глядел куда-то в сторону тусклыми одинокими глазами. С нами он больше не ходил, да мы и не принуждали. Пусть поправляется! Невольную вину чувствовали перед ним — как-никак пострадал-то из-за нас. Оживился только, когда на Дрем-Хед подсел вертолет, доставивший нам почту и провизию. Пес побежал к вертолету и пытался взобраться в него...
Шли дни. Барон уже совсем поправился, раны зарубцевались, глаза повеселели. Он далеко провожал нас и встречал радостным лаем — скучал один. Однажды не выдержал, увязался за нами. Пока мы работали, сидел в сторонке, нарочито равнодушно наблюдал. Потом подошел ближе, хотя держался позади всех и не выдавал себя, помалкивал.
А еще через несколько дней как-то незаметно втянулся в работу. И мы увидели прежнего Барона. Тот, да не тот! На смену безудержной мальчишеской храбрости пришла разумная осторожность, в движениях появилась гибкость, неторопливость, в глазах — опытность. Наш пес прошел на Дрем-Хеде хорошую школу жизни.
В поселок Барон вернулся знаменитым. Мы не привлекли особого внимания — к экспедиционникам здесь привыкли. Все взоры были обращены на него «Тот самый... — слышались голоса. — Побывал в медвежьем плену... нашел овцебыков». Стало ясно, что пес, как шерстью, оброс легендами.
Теперь я часто вспоминаю Барона. Как живется ему там, на далеком полярном острове? Что поделывает? Дерется ли с другими собаками за прожиточный минимум или отправился в новую экспедицию?..
Виталий Шенталинский Фото автора и С. Беликова
(обратно)
Путешествие на озеро Туркана

Таинственные и разрозненные слухи с раскаленных лавовых плато севера Кении какими-то сокровенными путями достигали столицы Найроби, накапливались, разрастались и вдруг сенсацией века облетели весь научный мир: на восточном берегу озера Рудольфа найдены останки и орудия труда предка человека, возраст которых определяется в 2,5 миллиона лет! Автор открытия, директор Института палеонтологии Кении, доктор Кэмбриджского университета профессор Луис Лики, назвал своего австралопитека «Homo habilis» — «Человек умелый». В свое время Л. Лики в ущелье Олдувэи, в Северной Танзании, обнаружил во время раскопок череп человекоподобного существа, причем возраст находки равнялся 1700 тысячам лет. Открытие на озере Рудольфа «состарило» человека на целых 800 тысяч лет!
Выходит, Кения, страна, в которой мы живем и работаем, сетуя иногда, что она не находится в центре мировых событий, возможно, является прародиной человека, его колыбелью! Несколько моих друзей загорелись мыслью съездить к месту сенсационного открытия. Не беда, что никто из нас не был антропологом. Хотя бы взглянуть на древнейший очаг рода людского, ощутить воздух, краски, звуки этих мест, чувством воспринять связь времен, попытаться представить, что было до нас и как было, а возможно, и что будет после нас!
«После нас?» — переспрашиваю себя. Да, после нас? После нас останутся наши дети, после них дети наших детей, и так до бесконечности. Стоп! Здесь есть над чем задуматься. Район раскопок, как и в целом восточный берег озера Рудольфа, является выжженной каменистой пустыней, где человек не живет, а стоянки его далекого прародителя похоронены отложениями озера, периодически то поднимавшегося, то вновь отступавшего, занесены песками пустынь, в которые превратились некогда зеленые саванны, залиты лавой вулканических извержений. Эти изменения условий жизни, вынудившие человека покинуть свою колыбель, исчисляются миллионами лет. Но сейчас ученые всего мира с тревогой говорят и пишут, что за последние три-четыре десятилетия скорость перемен в природном мире, составляющем основу всего живого, определяется не размеренной и неторопливой поступью природы, а бурными темпами, беспечно порожденными человеком. Альберт Швейцер, всемирно известный мыслитель в области философии жизни, прямо заявлял: «Человек утратил способность предвидеть и предсказывать. Кончит он уничтожением всего земного шара». Насколько справедлив этот мрачный приговор?
Советские ученые смотрят на будущее с большим оптимизмом, справедливо считая, что при разумном и предусмотрительном подходе можно предотвратить опасные для жизни изменения природной среды: загрязнение воздуха и воды, отравление и истощение земли. Тогда не только мы, но и последующие поколения будут иметь право и возможность пользоваться теми естественными благами бытия, которые дает Природа. Сохранятся заповедные места с чистыми ручьями, тенистыми лесами и светлыми лугами, где наши дети смогут побыть наедине со своими мыслями и чувствами, пережить радостные минуты покоя и умиротворения, ощутить мгновения, когда рождаются «души прекрасные порывы». Интересуясь историей человека, его происхождением, средой его обитания, споря о его назначении и призвании на Земле, думая о своей судьбе, мы в то же время заботимся о судьбе наших детей и детей наших детей, и так до бесконечности...
Еще один давний исторический факт, порядком позабытый современниками, подогревал интерес к озеру Рудольфа. Русский человек поистине необычайной жизненной судьбы, потомственный дворянин, блестяще образованный офицер, землепроходец и... схимник, Александр Ксаверьевич Булатович в конце прошлого века по необыкновенному стечению обстоятельств с войсками абиссинского царя Менелика II первым из европейцев перевалил через отроги неизвестного хребта, открыл несколько новых горных вершин, исследовал никем не описанный обширный район. «Задача, которую я себе поставил, была выполнена. Удалось пройти через южные абиссинские области, удостовериться в действительности того, что река Омо впадает в озеро Рудольфа, и найти образующий истоки реки Джумбы и разделяющий бассейн Нила и Омо хребет. Последний до сих пор не значился на картах Африки, так как в этом направлении из Абиссинии к озеру Рудольфа еще никто не проходил, и я был первым», — говорил Булатович в своем докладе на общем собрании Русского географического общества в январе 1899 года. Помимо важных географических открытий, Булатович подробно описал ряд племен, обитавших в окрестностях озера Рудольфа. В их число входили и туркана, чьим именем теперь называется озеро. Естественно, нам любопытно было посмотреть: что изменилось в жизни этих племен за прошедшие восемьдесят с лишним лет, как отразился на их быте и образе мышления наш стремительный, динамичный век?
Когда у нас возникла идея отправиться на восточный берег озера Рудольфа, раскинувшегося на самом севере Кении, заходя своей маковкой на территорию Эфиопии, неожиданно выяснилось, что единственное там пристанище — туристский кемпинг, построенный чудаком-американцем (иначе и не назовешь человека, рассчитывавшего сделать бизнес на туристах в этом забытом богом месте), — разграблен и спален какой-то бродячей шайкой. В шестидесятые годы район этот считался неспокойным: здесь нередко происходили стычки кенийских и эфиопских кочевых племен из-за пастбищ и скота; действовали также отряды сомалийских сепаратистов — «шифта». Поэтому одно время территория эта даже была объявлена закрытой, а въезд туда был запрещен. Теперь: же «открывалась» целая страна — почти треть Кении, населенная нилотскими и кушитскими племенами, жизнь которых значительно отличается от быта племен, населяющих Кенийское, или, как его называли в колониальные времена, «Белое нагорье». Автомобильной дороги как таковой туда не было, хотя считалось, что в сухой сезон на надежной машине с двумя ведущими осями до оазиса Лоиенгалани, где находились военный пост и крошечная католическая миссия, добраться можно. Но даже в сухую погоду оставался определенный риск: случись какая поломка, можно сутками под палящим солнцем ожидать подмоги, ибо машины здесь проходят не чаще одного-двух раз в неделю.
— К чему рисковать? — отговаривали старожилы в Найроби. — Хотите посмотреть озеро, отправляйтесь на западный берег. До города Китале асфальтированное шоссе, с нагорья безопасный спуск по профилированной дороге, а там езжайте себе по накатанному в песках проселку на любой легковушке до Лодвара и далее до самого берега озера, где есть целых два рыболовных клуба: и кров и еда обеспечены, для рыбалки все предусмотрено в наилучшем виде — катера, снасти, опытные лоцманы-туркана. Договоритесь и, конечно, заплатив, можете на боте осмотреть восточный берег. Ехать же туда прямо из Найроби — удовольствие ниже среднего: бездорожье, безлюдье, глухомань!
Логика, безусловно, была на стороне старожилов. Но даже в центре Африки, в местах, где урбанизация и индустриализация, возводящие стену между человеком и природой, можно сказать, только начинаются и экзотики еще предостаточно, даже здесь человеком овладевает стремление заглянуть «за горизонт», туда, куда просто так заглянуть нельзя. Потому и дался нам восточный берег озера, что там мечталось увидеть то, что в других местах не увидишь. К тому же по пути туда лежал ряд городов, в каждом из которых у нас были дела.
Проблема транспорта не представляла неразрешимой трудности. Вместе с нами в путешествие собрался мой давний московский знакомый журналист, назову его Географом (что вполне оправданно, ибо журналист действительно дипломированный географ), который уверял, что он уже добирался до восточного берега Рудольфа на легковушке марки «волво», а на имевшихся у нас «газике» и «рафике» и подавно можно доехать.
Леопард на дороге
Итак, в конце октября наша маленькая экспедиция (трое русских — автор, Географ и шофер Саша, двое болгарских друзей — Серафим и Димитар, а также африканец Овиди) отправилась в путь. Первый, самый короткий и легкий отрезок пролегал по фиолетовому асфальту улиц Найроби: цвела жакаранда — экзотическое южноамериканское дерево, невесть какими путями попавшее на африканскую землю и каждую весну (не забывайте, что Найроби находится в южном полушарии и нашей осенью там весна) сплошь покрывающее дороги фиолетовыми цветками — ни дать ни взять подмосковные колокольчики, только растущие не на лугу, а на деревьях. О цветении жакаранды пишу по устоявшейся здесь журналистской традиции, вроде того как у нас редко обходятся газетные описания весны без упоминания цветения вербы, черемухи, яблоневых садов. В давние времена, когда я работал в центральной московской газете, помню, наш ташкентский корреспондент каждый год в марте начинал свой репортаж неизменной фразой: «В Ташкент пришла весна. Зацвел урюк». На редакционных планерках, когда редактор замечал, что вроде бы давненько молчит ташкентский корреспондент, кто-нибудь из признанных остряков в зависимости от времени года бросал реплику: «А урюк еще не зацвел» или «Урюк-то уже отцвел».
Наш начальный путь лежал по живописнейшим местам нагорья, густо заселенным, где деревня сливается с деревней, одна плантация переходит в другую. Среди пышной растительности не сразу приметишь скромные поля далматской ромашки, или пиретрума, по производству которого Кения занимает первое место в мире. Пиретрум, когда-то называвшийся в простонародье «клоповой травой», «блохомором», применяется как инсектицид — растительное средство для борьбы с паразитами и вредителями сельскохозяйственных растений, деревьев, кустарников. Далматская ромашка в отличие от обычной, дико растущей по полям, дорогам, огородам и считающейся вообще-то сорняком, культурное растение, высеваемое в хорошо вспаханное и удобренное поле. Уход за посевами несложен — мотыженье и прополка. Зато сбор урожая — довольно хлопотное и утомительное занятие. Цветочные головки обрывают вручную три-четыре, а то и больше раз в году. Головки сушат и уже потом на предприятиях «Пиретрум просесинг компани оф Кения» приготовляют из них порошок желтовато-серого цвета — пиретрин, ядовитый для вредных насекомых, но безопасный для животных и человека. В настоящее время до 80 процентов далматской ромашки выращивается в Кении африканскими фермерами.
Одно время над пиретрумом нависла смертельная угроза — ядохимикаты. Случилось это в самый канун 40-х годов, когда впервые были открыты инсектицидные свойства ДДТ, синтезированного еще в прошлом веке. Сразу же после войны ДДТ был признан мощным оружием фермеров в их упорной борьбе с вредителями полей и получил, прежде всего в США, широчайшее распространение, а ученый из Швейцарии Пауль Мюллер удостоился за свое открытие Нобелевской премии. Однако «победа» над природой вскорости обернулась бумерангом. Постепенно стали проявляться катастрофические последствия неумеренного применения ДДТ загрязнение окружающей среды, уничтожение полезных насекомых, рыб. птиц, зверей. Более того, убивая с помощью ядохимикатов насекомых и сорняки, человек стал отравлять и себя: оказалось, что «эликсир смерти» способен накапливаться в продуктах, употребляемых человеком в пищу ДДТ сейчас почти повсеместно запрещен, а пиретрум вновь получил право гражданства, и на полях Кении его белые соцветия безбоязненно тянутся к солнцу, к свету.
Миновав овощные хозяйства, банановые плантации и поля пиретрума, дорога углубилась в лес. Вскоре мы подъехали к не очень-то крутому повороту в зеленом туннеле, где один мой венгерский коллега, никогда не помышлявший о славе охотника, нежданно-негаданно стал обладателем великолепного трофея — прекрасной шкуры леопарда.
Дело было так. Накануне вечером я встретился с Шандором на приеме, с которого он быстро ушел, сославшись на то, что завтра уезжает по делам на два-три дня в Накуру. Однако утром я с удивлением увидел его на Кениата-авеню и, естественно, поинтересовался, почему он отложил поездку. «Понимаешь, со мной произошел потрясающий случай, ты можешь не поверить, но это сущая правда», — залпом выпалил Шандор и рассказал следующую историю.
Он выехал из Найроби еще до рассвета и, поскольку дорога была пустынной, гнал вовсю. Вдруг в свете фар мелькнула какая-то тень, раздался удар в капот. Шандор нажал на тормоза. Едва машина остановилась, он взял фонарь и выскочил на шоссе. Правая фара оказалась разбита, а капот сильно помят. Вернувшись немного назад и посветив на обочину, он увидел распростертого на земле крупного леопарда. «Я совершенно растерялся. Что делать? Подобрал камень, бросил в леопарда — никакой реакции. Убит наповал или притаился? Ружья нет, ножа нет, лицензии на отстрел тоже. Как быть? Махнуть на все и ехать дальше? Ну а шкура леопарда? Бросить жалко, такой случай бывает раз в жизни, тем более что я же сбил его неумышленно. Но недаром мне говорят, что я родился в рубашке. И на сей раз мне повезло», — рассмеялся рассказчик.
Пока Шандор размышлял, как поступить, к месту происшествия подъехал военный грузовик. Офицеру нетрудно было убедиться в подлинности происшествия. По его приказу солдаты быстро сняли шкуру, а офицер написал что-то вроде справки в Департамент охоты. Мой знакомый поспешил обратно в Найроби и, уплатив стоимость лицензии, отвез трофей на фабрику. Вскоре он стал обладателем отличной леопардовой шкуры. Мне рассказывали позднее, что, вернувшись на родину, Шандор несколько изменил историю своего трофея: по новой версии в глазах своих будапештских друзей он должен был выглядеть отважным и удачливым охотником, вроде хемингуэевского Уилсона, а вовсе не бесшабашным водителем, умудрившимся сбить леопарда в каких-нибудь 40 милях от кенийской столицы, на одной из оживленнейших магистралей. Увы, наша экспедиция миновала лесной участок без близкого знакомства с представителями джунглей.
Начинался Рифт-Велли, часть великого Африкано-Аравийского разлома, а попросту говоря, огромной щели в земной тверди, где, по мнению ученых, вероятнее всего удастся, пробившись через кору, добраться до мантии и доподлинно убедиться, что таковая действительно существует и состоит именно из тех элементов, о которых написано в учебниках и энциклопедиях.
Для обычного глаза Рифт представал величественной картиной: серпантин обрывистой дороги, широко раскинувшаяся глубоко внизу долина, переходящая у горизонта в зеленые, синие, фиолетовые и совсем уже темные холмы, на одном из которых угадывались белоснежные кубы и зеркальные сферы строящейся станции космической связи (примерно через год президент Джомо Кениата с понятной гордостью заявит, что его страна вступила в космический век). В долине можно было разглядеть мирно пасущиеся стада зебр, газелей, антилоп. Показалось озеро Найваша с его тысячными колониями птиц, и невольно подумалось, как было бы хорошо, чтобы и в космическом веке сохранилось уникальное богатство кенийской фауны. К этой мысли в течение длинного пути мы еще не раз будем возвращаться то с радостным, а нередко и с горестным чувством.
По берегам Найваши сейчас быстро развивается интенсивное овощеводство: плодородные земли, обилие тепла, близость воды позволяют получать по три-четыре урожая и круглый год бесперебойно снабжать свежими овощами не только многочисленные туристские отели Кении, но и отправлять их в европейские столицы.
Чья это земля!
Но вот что показалось нам странным и непонятным. Нагорье — самая благодатная часть Кении, житница, где выращивается большая доля продовольственных и экспортных культур — кофе, чая, пшеницы, кукурузы, овощей — и производится значительная часть мясомолочной продукции. Эти земли были обжиты африканцами еще до английской колонизации страны, а затем отняты белыми поселенцами, что вызвало среди африканских хозяйств чудовищный земельный голод и породило целую армию безработных изгоев. Однако обширные участки по сторонам дороги были огорожены проволокой и, по всей видимости, пустовали.
Обращаемся за разъяснениями к Овиди, нашему неизменному спутнику, шоферу, гиду, переводчику, парламентеру в сношениях с незнакомыми и не всегда дружелюбно настроенными к чужакам племенами, Овиди немного за тридцать. Он высок, строен, худощав, но мускулатура у него развита как у известного стайера Кипчего Кейно. Да это и неудивительно: в юношеские годы Овиди был портовым грузчиком в Момбасе. Там же приобщился к политике, принимал активное участие в профсоюзном движении. Сейчас профессиональный шофер высшего класса, машина у него всегда в идеальном состоянии. Овиди от природы наделен сообразительностью, тактом, причем ему свойственны независимость суждений и юмор. Его с полным основанием можно причислить к передовым представителям набирающего силы рабочего класса, которому предстоит еще сыграть ведущую роль в судьбах молодой развивающейся страны.
Полное имя нашего незаменимого специалиста — Овидий. Само собой разумеется, что никакого, даже самого отдаленного, отношения к римскому поэту Паблию Овидию Назону он не имеет да, откровенно говоря, и не слышал о нем. Общаясь с африканцами, я заметил, что католические, протестантские и иные миссионеры, обращая кенийских язычников в христианскую веру, давали им и их детям звучные европейские имена, связанные с примечательными страницами мировой истории, культуры или мифологии. Я запросто ездил на рыбалку или охоту с Самсонами, Прометеями, Соломонами, знакомился с их Пенелопами и Далилами. Теперь по мере роста национального самосознания африканцы, прежде всего передовая интеллигенция, начинают усматривать некий иронический оттенок в этих громких европейских именах и возвращаются к национальным корням, беря традиционные имена своих предков. Например, известный у нас кенийский писатель Джеймс Нгуги, автор прекрасного романа «Пшеничное зерно», несколько лет назад взял другое имя, и теперь его знают как Нгуги Ва Тхионго.
— Чьи это земли, Овиди, и почему они вроде бы пустуют?
— Это земли лорда Деламера, а пустуют потому, что так хочется лорду
— ?
— У лорда много земель по всей Кении, больше, чем у кого-либо другого. Одни земли обрабатываются, приносят большие доходы, а другие, как вот эти, законсервированы и пустуют. Ну не совсем пустуют, здесь пасутся дикие звери, гнездятся птицы, друзья лорда приезжают сюда отдыхать, охотиться.
— Можно ли надеяться, что эти земли вскоре будут возвращены африканцам?
— Каким африканцам?
— Ну «вананчи» (Граждане (суахили).), безземельным.
— В этом я сильно сомневаюсь
— Почему же, ведь в Кению пришла «ухуру» (Свобода (суахили)), и крестьяне борются за возвращение отторгнутых земель?
— Борются, конечно, но земли лорда Деламера к ним не отойдут.
— Но почему?
Овиди молчит, то ли не желая вдаваться в острый политический разговор, то ли давая понять, что мы и сами могли бы догадаться почему. В последующих поездках по стране, видя законсервированные или тщательно ухоженные поля, тучные пастбища, выслушивая от Овиди ответы на ставший уже традиционным вопрос. «Кому принадлежат эти земли?», мы познакомились с владениями графов Плимут, Аберкорн, Китченер, виконта Кобхена. До сих пор эти земли принадлежат их прежним хозяевам, и лишь незначительная часть перешла к африканцам, но не к крестьянам, а нуворишам главным образом из числа представителей государственно-бюрократической элиты.
Наличие крупного европейского землевладения — отличительная особенность кенийской экономики, что выделяет эту страну (наряду с недавно обретшей независимость Зимбабве) из всех молодых государств Тропической Африки. Вот две убийственные цифры накануне провозглашения независимости Кении в районах товарного хозяйства европейскому фермеру принадлежало земли в 470 раз больше, чем африканскому крестьянину, а более миллиона африканцев вообще не имело наделов! За годы независимости в Кении проведен ряд земельных реформ, направленных на африканизацию землепользования. Подвести объективные итоги этих реформ не так то просто ибо статистикой, как показывает жизнь, даже при наличии ЭВМ можно манипулировать так, что черное выдается за белое, как, впрочем, и наоборот. К тому же исследование современного землепользования в Кении не входит в задачу автора. Уместно, пожалуй, указать лишь на общие социально-экономические тенденции отказ властей от безвозмездной экспроприации земельной собственности белых поселенцев, сохранение большинства специализированных плантаций или ранчо в руках этих поселенцев, производящих значительную часть товарной продукции, подрыв традиционного общинного землевладения, насаждение частнокапиталистических отношений в деревне, всемерная поддержка «жизнеспособных» кулацких хозяйств, дальнейшее обезземеливание бедняков.
Но вот слева от дороги, в низине, просматривая с холмистой местности, как на ладони, показалось еще одно озеро — Накуру. Уже за несколько километров взор приковывает голубая гладь в четко очерченных, как на картинах Н. Рериха, розовых берегах. По мере приближения начинаешь замечать, что очертания озера вроде бы меняются: розовые берега как бы смещаются то к одной, то к другой стороне холмов, озеро становится то правильно круглым, то овальным; на нем вдруг образуются розовые полуострова и острова, которые вскоре расплываются, возникают в другом месте, а то и вовсе исчезают.
Что за фантасмагория? Игра света, обман зрения? И только уж совсем рядом наваждение проходит и отчетливо видишь, что розовые берега, появляющиеся и исчезающие острова — это многотысячная колония розовых фламинго, занятых своим извечным делом- добыванием пищи, любовными играми, заботой о потомстве. Стоя на берегу, можно часами, не уставая, наблюдать за этими красивыми крупными птицами. Изгибая длинные шеи и опустив головы в воду, одни прочесывали илистое дно в поисках пищи; другие, засунув черные клювы под крыло, стоя на одной ноге и прижав вторую к туловищу, очевидно, отдыхали. Вдруг без всяких видимых причин птицы смешно разбегались на своих длиннющих ногах-шарнирах и поднимались в воздух. За ними увязывались остальные, и вскоре целая стая, покружив над озером, приводнялась в другом месте или вовсе улетала с Накуру, тая на горизонте розовой дымкой.
Колония фламинго на озере считалась одной из самых многочисленных в Африке и доходила до миллиона двухсот тысяч особей. В последние годы она уменьшилась в несколько раз. Кенийская пресса писала, что виной тому построенный недалеко от озера завод химических удобрений и его стоки в озеро. Владельцы завода, само собой разумеется, отрицают свою вину и ссылаются на не познанные еще наукой законы миграции птиц. К сожалению, фламинго человеческой речью не владеют, чтобы изложить свои претензии.
Ясно одно: загрязнение окружающей среды, увы, добралось и до Восточной Африки Я не говорю о столице Кении — Найроби; он, как и всякий большой город, задыхается в выхлопных газах автомобильного транспорта Секретариат ООН по проблемам окружающей среды, разместившийся здесь, пока лишь добавил к населению города еще несколько сот международных чиновников с их лимузинами, увеличивающими концентрацию окиси углерода в воздухе города. Но даже на далеких от столицы пляжах Индийского океана, омывающего берега Кении, около дорожек и лестниц, ведущих к фешенебельным туристским отелям, стоят банки и бутылки с керосином, набором щеток и губок для отмывания ступней ног от налипших комьев нефти, хотя «черное золото» в Кении и не добывается.
Приведу еще один (не менее показательный) пример. На уединенном острове Ламу, славящемся своими девственно белыми дюнами, которые можно сравнить разве что с дюнами Куршской косы в нашей Прибалтике или пляжами Варадеро на Кубе, я находил на безлюдных берегах полузанесенные песком пластмассовые бутыли из-под «фанты», подошвы резиновых сандалий, полиэтиленовые мешки с фирменными знаками сигарет «Мальборо» и «Кент», головы пластмассовых кукол с выцветшими на жарком солнце глазами, словно бы вопрошающими, как и почему они очутились на этой пустынной полосе. Все эти не поддающиеся разложению и тлению предметы современного химико-пластикового быта явно не островного происхождения и принесены течениями с отбросами океанских лайнеров, пути которых проходят не столь уж близко от Ламу. Океан большой — что случится, если без лишних хлопот и особых затрат выгрузить контейнеры с мусором прямо за борт?! Нет, оказывается, ничто неразумное не проходит для природы бесследно. Возможно, когда-нибудь все люди-человеки поймут, что эстетическая ценность девственной природы — такое же наше богатство, как вода, почва, леса, залежи золота, меди, нефти, алмазов!
Город Накуру, третий по числу жителей, в прошлом был одним из центров белых поселенцев, в основном англичан, владевших крупными зерновыми и мясомолочными фермами, на которых, само собой разумеется, гнули спину черные сельскохозяйственные рабочие и арендаторы. В деловых кварталах чистенького одноэтажного городка разместились многочисленные отделения английских банков офисы различных компаний, магазины, отели. Здесь существовали филиалы знаменитых английских и международных клубов, а белые джентльмены стремились жить, сохраняя привычки, нравы, обычаи старой «доброй Англии», тщательно скрывая от постороннего глаза острую ностальгию по былому вепичию колониальной Британской империи.
В местном «Ротари клаб» попросили как-то выступить и меня. Тема была довольно актуальной: «Сотрудничество СССР с развивающимися странами Африки». В то время еще не улеглась скандальная история с книгой бывшего посла США в Кении У. Эттвуда «Красные и черные», в которой автор грубо искажал советскую внешнюю политику, ставил целью запугать молодые развивающиеся страны призраком «красной опасности». Кстати, у тогдашнего кенийского правительства хватило смелости и такта, чтобы запретить книгу Эттвуда в Кении. Мои волнения по поводу остроты вопроса оказались напрасными, хотя я и старался говорить без обиняков, называл вещи своими именами. Все было чинно, как и положено в чинной аудитории английских джентльменов неторопливый обед с разговорами на безобидные темы мое выступление, выслушанное с вежливым вниманием; два-три невинных вопроса, удар колокола, заменяющий здесь тост за королеву Англии и означавший сигнал к тому, что можно курить; несколько благодарственных фраз председательствующего в адрес докладчика, «сообщившего весьма полезные сведения», и джентльмены разошлись по своим делам. Мне сообщили, что на обеде и выступлении присутствовали все «видные бизнесмены Накуру» владельцы плантаций, представители «Лонро», «Долгети — Маккензи», «Юниливер», «Джеймс Финлей» и других монополистических объединений. Я уже хорошо знал английскую политику времен крушения колониализма — «уходя, оставаться», — а здесь лишний раз получил, что называется, наглядное свидетельство этой политики на деле. Кстати, ни одного чернокожего слушателя на обеде я не обнаружил: сложный процесс африканизации, когда национальная буржуазия стала настойчиво добиваться своего куска жирного пирога, тогда только еще начинался.
Дмитрий Горюнов Фото С. Кулика
Окончание следует
(обратно)
Неизвестный «квадрат Леваневского»
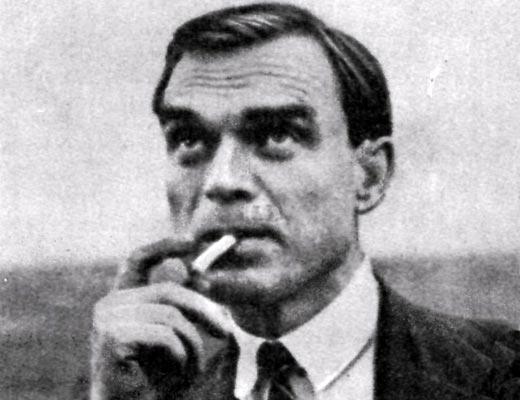
После публикации очерка «Релел» не отвечал...» почта принесла много писем, были и телефонные звонки. Несмотря на прошедшие десятилетия, людей по-прежнему волнует история трагического перелета экипажа Леваневского из СССР в США через Северный полюс в 1937 году...
Работая над документальным фильмом о знаменитом чкаловском перелете, я просмотрел и кинодокументы, связанные с самолетом Леваневского — СССР Н-209. Среди них нашел два эпизода, снятые на острове Рудольфа моим учителем.
Среди
них Анатолий Васильевич Ляпидевский — будущий первый Герой Советского Союза. Фотографии из Америки: Сигизмунд Александрович Леваневский возле самолета, на котором вскоре вылетел спасать челюскинцев; Леваневский, Слепнев и Ушаков на какой-то церемонии в Фэрбенксе вместе с американскими механиками — Биллом Лавери и Клайдом Армистедом, награжденными орденами Ленина за участие в спасении челюскинцев.
— Мы с братом были тогда в «Артеке», — рассказывала Элеонора Сигизмундовна, — все время следили за сообщениями, когда же начнется перелет? Наконец самолет вылетел, а через сутки пропал. Узнали о катастрофе, о поисках. Но долго не верили, что все они погибли в Арктике... Я помню, отец рассказывал, что привез из США чертежи антиобледенительного устройства и хотел их применить на этом самолете, но ему почему-то отказали. Видимо, было мало времени. А когда их вылет стал отодвигаться, он все больше мрачнел...
— Элеонора Сигизмундовна, а каким в вашей памяти остался отец?
— Строгим, — ответила она лаконично.
— Да, строгим был наш отец, — подтвердил и сын Леваневского, Владислав Сигизмундович. — Мама говорила, что у отца на первом месте были самолеты, на втором — мы, дети, а на третьем — она. Но мне кажется, что авиация забирала его целиком, без остатка. Особенно с 1933 года, когда он перешел в полярную авиацию. Конечно, если бы вам удалось узнать что-нибудь новое об этой катастрофе...
Леваневские дали мне для работы газетные вырезки тех дней. Вот одна из них — информация радиста Эрнста Кренкеля со станции « Северный полюс-1».
«В шесть часов утра Москва сообщила, что в Северной Америке по нашей просьбе мобилизованы все телеграфные, военные и любительские станции. Все слушают. Возможно, Леваневский появится. В семь часов утра лег поспать, больше терпеть не мог. Сорок часов без сна — тяжелая штука. Под конец слушал стоя, чтобы не заснуть. Уши болят от длительного сидения с телефоном... Настроение у нас подавленное. И все же, как ни больно, надо смотреть на вещи глазами истории. Разве поблек подвиг Амундсена от того, что смелый исследователь без вести погиб в арктической пустыне?.. Завоевание Арктики — это фронт, а потери на фронте неизбежны. Они будут, конечно, уменьшаться с ростом наших знаний, нашего опыта. Но будут, как был «Челюскин»...» «А что, если расспросить самого Ивана Дмитриевича Папанина о тех днях?» — подумал я, знакомясь с газетными сообщениями.
— Знаешь, как мы ждали Леваневского? — начал вспоминать Иван Дмитриевич. — Мы слушали в наушники все четверо. Сначала пролетел Чкалов. Близко прошел от нашей станции. Думали, сбросит газеты. Была сильная облачность, и самолет мы не видели. Потом немного стороной прошел Громов. А вскоре Москва сообщила о вылете Леваневского. Звук его моторов слышали, но сам самолет не было видно. Кренкель от приемника не отходил, я ему все кофе приносил, чтобы он мог держаться. Помню радиограмму: отказал правый крайний мотор, обледенение, снижаемся. Тогда в авиации еще не могли как следует бороться с обледенением. Оно их и погубило... А какая история с нами приключилась! Мы сидим на Северном полюсе, полярная ночь, темно — и вдруг оранжевый свет идет от горизонта. Мы вскочили и бегом навстречу: словно идет кто-то, фонариком «летучая мышь» светит. А Федоров как закричит: «Так это же Венера!» Это было в октябре 1937 года. Тогда день и ночь готовили аэродром для спасательных самолетов. К сожалению, он так и не пригодился...
— Иван Дмитриевич, как вы думаете, а что все-таки произошло с самолетом?
— Я же говорю: Леваневскому надо было вверх подниматься. Но началось обледенение. За короткое время оно создает вес, превышающий вес самого самолета. Огромное наслоение. И самолет, видимо, рухнул, даже, может быть, пробил лед и ушел на дно...
После нескольких встреч мне стала активно помогать в поисках Лидия Степановна Галковская, жена радиста экипажа.
— А вы встречались с Шелимовым? — как-то спросила она меня. — Он был помощником начальника связи ВВС и отвечал за радиосвязь в этом перелете.
Генерал-лейтенант в отставке Николай Павлович Шелимов выслушал нас с Лидией Степановной и стал вспоминать подробности перелета:
— Когда оставалось минут двадцать до старта, я сказал Николаю Галковскому — мы с ним некоторое время вместе работали, Николай был одним из лучших радистов ВВС, — чтобы он каждые полчаса между радиограммами, которые должен передавать, просто нажимал ключ, а наши радиопеленгаторы по импульсам засекут самолет. Тогда мы будем постоянно знать, где они находятся. Галковский обещал. В аварийной ситуации он мог воспользоваться радиотелефонной связью с помощью микрофона...
Я знаю, — продолжал Шелимов, — что в последней, девятнадцатой, радиограмме, переданной 13 августа в 14 часов 32 минуты, вы нашли цифровое окончание, принятое на Аляске и не принятое у нас, в Тикси. Но обратите внимание: там передано — высота 4600 метров. А я помню, как мне принесли текст радиограммы, которую Галковский передал микрофоном. Она была принята в единственном экземпляре, ее принимала наша станция, американцы и канадцы могли не понять русскую речь. Текст такой, как сейчас помню: «Аварийная. Высота 6200 метров, отказал правый крайний мотор, снижаемся, входим в облачность, обледеневаем». После этого наши радиопеленгаторы перестали получать сигнал с самолета, он был уже за полюсом, примерно на 120—200 километров ближе к Аляске. Эта радиограмма меня потрясла: гибли люди, мои товарищи. Дежурства я не снимал, продолжали слушать эфир, но ничего достоверного принято не было... Недавно я разговаривал с Громовым, он тоже помнит текст этой радиограммы. Михаил Михайлович высказывает предположение, что при сильном обледенении машина могла развалиться в воздухе или разбилась об лед при неуправляемом падении.
— Николай Павлович, а вы исключаете возможность планирования или какой-либо управляемой посадки?
— Абсолютно исключаю. Ведь больше никаких сигналов не было.
— Но ведь девятнадцатая радиограмма с цифровым окончанием говорит о том, что самолет предполагал садиться в квадрате, в который входят острова Банкс, Мелвилл и полуостров Бродер...
То, что самолет продолжал лететь после того, как его потеряли радиопеленгаторы, подтверждает и сообщение правительственной комиссии по организации перелета, опубликованное в «Правде» 14 августа 1937 года. «В 15 часов 58 минут по московскому времени якутская радиостанция приняла с самолета следующее сообщение: «Все в порядке. Слышимость Р-1» (что значит — плохая. — Ю. С). Затем в 17 часов 53 минуты радиостанция мыса Шмидта приняла с самолета следующую радиограмму: «Как вы меня слышите? РЛ (позывной самолета Леваневского. — Ю. С.) Ждите...» Многие летчики, с которыми мне приходилось говорить по поводу этих двух радиограмм, пожимают плечами и считают их недостоверными. Но ведь ни одной радиограммы не публиковалось без тщательнейшей проверки! Все споры можно было бы разрешить просто, если бы сохранился архив штаба перелета. Он принадлежал управлению авиационной промышленности, которое тогда входило в Наркомат тяжелой промышленности. Когда в октябре 1941 года из Москвы эвакуировались государственные и правительственные учреждения, часть архивов была уничтожена, часть — вывезена на восток. С тех пор архив штаба перелета пропал, и все попытки его найти пока безуспешны... Об этом мне рассказал старейший работник авиапромышленности, член штаба перелета Пантелеймон Степанович Анищенков. Последние дни и часы до старта он постоянно был с экипажем.
— Перед полетом, — вспоминает Анищенков, — Сигизмунд Александрович не хотел обедать. Я его еле уговорил. Сидели с ним вдвоем в столовой, он почти ничего не ел. Ну, день был теплый, он сидел без пиджака, в шелковой рубашке... Готовили этот перелет тщательно. Помню такие детали — в самолет погрузили бочонок черной икры, много пушнины, Кроме того, была почта, около двухсот писем, с прекрасными марками — большая ценность для филателистов. Первая часть перелета — к полюсу — шла четко. Причем по прогнозу до полюса они должны были иметь встречный ветер, но за полюсом предполагалось, что ветер изменится на попутный... Прошло более 40 лет, а я помню дословно девятнадцатую радиограмму, и она как гром среди ясного неба поразила нас всех. Перелет должен был проходить на высоте 6000 метров над облачностью. И когда отказал правый крайний мотор, получили эту радиограмму: «Высота 4600, очень тяжело, Леваневский». Эта фраза — «очень тяжело», врезалась в память, и навсегда. Почему-то никто из людей, писавших о перелете, на эту фразу не обратил внимания...
После этого разговора я снова листаю старую подшивку «Комсомольской правды» и нахожу снимок экипажа Леваневского. Внизу подпись: фото И. Шагина. А я не раз работал с кинооператором Игорем Шагиным и знал, что его отец — известный фотокорреспондент и наверняка хранит свой архив. Звоню Игорю. Действительно, его отец снимал отлет экипажа, негативы он хранит, и я могу поговорить с ним самим. Мы договорились с Иваном Михайловичем о встрече, и вот они — фотографии тех дней: экипаж стоит на фоне самолета; Леваневский, докуривая папиросу, внимательно смотрит вверх, в небо, — прекрасный снимок, вижу его впервые; Леваневского окружили советские и зарубежные корреспонденты — интервью перед взлетом самолета. Иван Михайлович подтверждает, что несколько фотографий не было опубликовано, и рассказывает:
— Многим летчикам не хватало времени для прессы. А Леваневский назначал время встречи и сам его точно соблюдал. Он был всегда вежлив, корректен, хорошо выглядел, и снимать его было интересно. Сказывался его опыт общения с газетчиками, который он приобрел во время поездок в Европу и Америку. Не капризничал, как некоторые, не мешал нам делать свое дело.
— А что вам больше всего запомнилось тогда?
— Я верил экипажу, но самолет показался мне каким-то тяжелым — это чисто внешнее впечатление. Казалось, что ему не хватит взлетной полосы. Но машина взлетела быстро и красиво. Я успел снять отрыв и взлет — уже в хвост, на фоне неба. Я и не предполагал, что снимал экипаж и самолет в последний раз...
Среди писем, которые пришли после публикации «Релел» не отвечал...», совершенно неожиданным было одно — из Якутии от командира вертолета Евгения Васильевича Попова. Он выдвигал версию, что самолет Н-209 упал в... Якутии. Вот фрагмент письма: «В течение лета 1965 года наш вертолет обслуживал поисковую экспедицию Якутии, базировался на озере Себен-Кюэль. В один из дней, гуляя по берегу, мы с бортмехаником обнаружили деревянную плиту, врытую в небольшой холмик. Эта плита с выжженной каллиграфическим почерком надписью меня очень поразила, я задумался, что это был за самолет с таким большим экипажем? К своему стыду, я тогда не знал фамилий участников этого перелета, и за ужином мы с бортмехаником А. Кирсановым рассказали о плите и тексте на ней в кругу главного геолога, начальника экспедиции и других товарищей. Текст надписи: «Здесь 13 августа 1937 г. в результате катастрофы самолета Н-209 погиб экипаж...» Далее фамилия — Леваневский, остальные трудно разобрать, но одна оканчивалась на ...ский, возможно, Галковский. Помню, я высказал тогда предположение, не тот ли это Леваневский, но все дружно и твердо растолковали мне, что эта эпопея закончилась со всем в другом конце земного шара и что, дескать, быть в этом месте такого не могло. После этого я услышал разговор нашего моториста с местным жителем — якутом, что на озере давно утонул самолет и, когда сильные ветры раскачивают воды озера, на поверхность всплывают остатки горюче-смазочных материалов. Плита была обнаружена недалеко от места базирования нашего лагеря в заросшем кустарником укромном месте... В июле этого года (1979 года. — Ю. С.) вместе с Е. К. Федоровым, А. Ф. Трешниковым и товарищами из Якутского обкома мы побывали на этом озере, но обнаружить плиту не удалось, так как на озере через три или четыре года после нас базировалась еще одна геологическая экспедиция. Местность в результате их хозяйственной деятельности очень изменилась, ориентира — сруба зимовья не удалось найти. Их обслуживал экипаж жиганского авиаотряда. Предполагаю, что плита была взята этим экипажем. К сожалению, их последний полет с озера в Жиганск закончился катастрофой...»
Прочитав это письмо (невероятный вариант!), я тут же бросился звонить в Ленинград Трешникову, директору Арктического и Антарктического института. Алексей Федорович подтвердил: да, летали, даже брали с собой двух аквалангистов, но озеро было покрыто льдом. На берегу ничего не нашли, кроме старого креста, на котором была сделана надпись, что в 1938 году здесь садился самолет Н-240, Трешников высказал сомнение относительно того, что Н-209 мог оказаться в Якутии, но как истинный ученый считает необходимым проверить эту гипотезу и провести магнитную съемку дна озера...
И все-таки возможно, что самолет Леваневского совершил вынужденную посадку и не разбился. К этому выводу я пришел, ознакомившись еще с одним архивным документом. 14 августа 1937 года, на вторые сутки после исчезновения самолета, ТАСС передал из Нью-Йорка: «Из Сиэттля корпус сигнальной службы заявил, что радиостанция в Анкорейдже на Аляске перехватила в 14 часов 44 минуты по гринвичскому времени сообщение о самолете. В нем говорится: «Не имеем ориентировки… затруднения с радиопередатчиком...» И далее ТАСС передает: «Радиостанция в Анкорейдже на Аляске заявляет, что она снова слышала самолет через несколько минут после первого сообщения, но не могла разобрать. В тексте первого сообщения, который принят только частично, было следующее: «19 Р-34 ее диапазоне».
По таблице кодов 19 означает «пеленгов нет», 34 — «отказал». Для выяснения истины очень важно установить — 13 или 14 августа была принята эта радиограмма? В телеграмме К. А, Уманского, советника нашего полпредства, переданной из Вашингтона в правительственную комиссию, есть строки: «Полпредство издало вчера сообщение в спокойных тонах, подчеркивая, во-первых, факт приема Анкорейджем сигналов самолета четырнадцатого, во-вторых, высокую полярную квалификацию экипажа Н-209...» Следовательно, радиограмма принята через 24 часа 12 минут после 19-й радиограммы, которая почему-то считается последней. Значит, при наихудшем варианте посадки кто-то остался в живых.
В этот же день, 14 августа 1937 года, Якутск передал в Москву: «14.08. 12 ч 25 мин захвачен конец передачи неизвестной станции на волне 26,54 метра по тону похожей на РЛ точно на его настройке тчк. Принята цифра 83 повторяемая три раза и знак ждать АС (аварийное сообщение. — Ю. С). Во время работы тон этой станции резко менялся. Соловей, радист из Якутска».
Может быть, «83» означает параллель?
Есть и другие радиограммы, в частности с острова Рудольфа — основной нашей поисковой базы, которые свидетельствуют, что экипаж пытался наладить связь. Все это ставит под сомнение вывод о том, что связь с самолетом оборвалась 13 августа 1937 года.
Автором еще одной непроверенной гипотезы является американский священник, любитель дальних полярных путешествий доктор Келлемс. Архивные документы познакомили меня с этим интересным человеком. Вот фрагмент из записи беседы доктора Келлемса с сотрудником советского полпредства в Вашингтоне: «...В прошлом году, в июле — августе 1938 года, доктор Келлемс возглавил экспедицию, которая на небольшом пароходе отправилась из Сан-Франциско на Аляску, к мысу Барроу со специальной целью воздвигнуть памятник летчикам Посту и Роджерсу на месте их гибели. Эта задача была выполнена экспедицией в конце июля прошлого года. Находясь на мысе Барроу, доктор Келлемс решил уделить внимание поискам экипажа Леваневского.
Захватив с собой переводчика-эскимоса, доктор Келлемс со своей командой отправился к группе островов Джонса, чтобы лично побеседовать с эскимосами, якобы видевшими самолет. По прибытии на указанное место доктор Келлемс познакомился с этими эскимосами; одного из них зовут Фостер Панегио, а другого — Роджер Клауд Кашак. Они рассказали следующее: 15 августа 1937 года они, как и другие эскимосы, проживающие в этом районе, услышали сильный шум моторов. Находясь на мысе Оликток (у устья реки Коливилл) и пользуясь имевшимся у них биноклем, они увидели, как над островом Тзитис стремительно пролетел самолет — он тел на восток к соседнему острову Спай, отстоящему от острова Тзитис на шесть миль. На пути между этими островами самолет упал в воду и затонул. Эскимос Панегио сделал об этом соответствующую запись в своем дневнике.
Пользуясь небольшим судном, доктор Келлемс отправился к острову Тзитис, тщательно его исследовал, но ничего не обнаружил. Затем он принялся исследовать водное пространство между островами Тзитис и Спай. Для этой цели он разбил свою команду на две группы (одна осталась на судне экспедиции, а другая поместилась в небольшой лодке). Он дал приказ о необходимости тщательно следить за малейшими отклонениями компаса и в случае такого отклонения тотчас же бросать якорь. После долгих исследований Келлемс получил извещение от члена команды, находившегося в лодке, что в одном месте стрелка компаса дала чрезвычайно резкое отклонение. Однако команда забыла указание Келлемса и якоря в этом месте не спустила. Келлемс тщательно проверил, имелось ли на лодке что-либо такое, что могло бы вызвать отклонение стрелки, но ничего не обнаружил. В течение последующих нескольких дней Келлемс со своей командой продолжал исследование, надеясь вновь найти то место, где произошло резкое отклонение стрелки. Но эти попытки успехом не увенчались.
Доктор Келлемс строит следующую гипотезу, с которой, по его словам, полностью соглашается и сержант Морган, начальник радиостанции на мысе Барроу: самолет Леваневского из-за порчи моторов, видимо, сел где-либо на льду между полюсом и Канадой. Экипаж самолета спустя известное время исправил моторы или часть моторов, поднялся в воздух и почти долетел до Аляски. (Очевидно, доктор Келлемс не знал о рассказах эскимосов с острова Бартер, которые 13 августа 1937 года тоже слышали гул самолета, и поэтому не учитывает их информацию. — Ю. С.) Ввиду неисправности моторов или вследствие недостатка бензина самолет, находясь уже у берегов Аляски, пытался совершить посадку на одном из островов Джонса, летя с подветренной стороны. Однако посадка не удалась, и самолет погиб где-то между двумя указанными островами... При этом доктор Келлемс заявил, что, если будет сочтено полезным и его участие в поисках, он готов предложить свои услуги...»
Запись сделана в Вашингтоне 9 февраля 1939 года.
Это новый неожиданный поворот сюжета поисков самолета СССР Н-209.
Доктор Келлемс ссылается на сержанта Моргана как на надежного человека, дающего достоверную информацию. «Не может быть, — подумал я, — чтобы начальник рации мыса Барроу не сообщил в советское посольство о падении самолета». И действительно, в архиве хранится радиограмма Моргана от 26 апреля 1938 года: «Вернувшись в Барроу из поездки для заготовок свежего мяса, 25-го числа Морган сообщил следующее: 19 или 20 августа три местных жителя Оликтока, поселка в 18 милях западнее Бич Пойнт, по их словам, видели и слышали то, что им показалось самолетом или большой моторной лодкой у острова Тзитис в 10 милях северо-западнее от Оликтока. Сначала услышали шум моторов, затем увидели большой объект, направлявшийся на восток. По их словам, они видели всплеск, когда объект коснулся воды два или три раза, а затем большой всплеск — и объект скрылся под волнами. Они наблюдали в бинокль остаток дня, но больше ничего не увидели. Неделю спустя Джек Смит, белый торговец с мыса Бичи, проплывая мимо острова, увидел воду, покрытую масляными пятнами. После того как Смит услышал рассказ местных жителей, он провел два дня в тех местах, но из-за неблагоприятной погоды ему не удалось что-либо увидеть. Он заявляет, что в те дни на побережье не было ни одной моторной лодки. Смит обещал взять команду из местных жителей для тщательного обследования района этой весной во время вскрытия льда. Он говорит, в такое время — вода чистая, и это позволит увидеть самолет, если он там...»
Радиоинженер Савва Алексеевич Смирнов, которого мне удалось найти после журнальной публикации, рассказывал, что он останавливался на мысе Барроу в доме радиста Моргана и считает, что этому радисту вполне можно доверять... Ясно, катастрофа могла именно так и произойти.
Расстояние между островом Бартер и группой островов Джонса — вдоль арктического побережья Аляски — около двухсот пятидесяти километров. Может быть, это и есть тот «квадрат Леваневского», который сегодня считается неизвестным? Хочется верить, что когда-нибудь экспедиция, оснащенная современной аппаратурой, проведет в этом районе необходимое исследование. Вторая мировая война, потом «холодная война» отодвинули разгадку этой арктической тайны. Но мы не теряем надежды...
Юрий Сальников
(обратно)
«…Сыскано мною у села Петрово»

День был морозный, пасмурный, стылый. Из окон дворца Петру была видна широкая литая полоса скованной реки. По ней туда-сюда спешили горожане. На стеклянном льду собирались космы поземки. По берегам дымили костры.
Во дворце было тепло и по-европейски пышно.
Здесь царь и подписал 10 декабря 1719 года документ, который круто изменил отношение к горному делу в России, — знаменитую берг-привилегию. При этом сенатор Яков Федорович Долгорукий заметил:
— Стужа во дворе, Петр Алексеевич, и сатана не возрадуется. А от подписанного тобою указа будто бы теплее стало.
— Но-но-но! — нахмурился Петр. — Льсти, дядя, да знай меру.
— А я не льщу, — без улыбки проговорил Долгорукий. Оставя партикулярный тон, перешел на официальный: — Не сдается ли вам, ваше величество, что первый пункт требует иного изложения? Не всем надобно бы позволять и не каждому
— Всем! — резко ответил Петр. — И каждому! — Помедлив немного, приказал Брюсу, президенту Берг-коллегии: — Так и пиши во всех списках указа, господин сенатор
— Содею, как велено, ваше величество, — поклонился Яков Вилимович Брюс.
Первый пункт берг-привилегии действительно начинался необычно. «Соизволяется всем, — говорилось в нем, — и каждому дается воля, какого б чина и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо...» Это могло означать: и крепостному крестьянину, и тягловому посадскому, и распоследнему ярыжке без роду-племени.
Тут же была определена и награда — «за каждый золотник (1/96 часть фунта, 4,266 грамма.), который из пуда руды выйдет, четыре рубля дается», а также указаны места, куда следует обращаться с находками: «В Санкт-Петербурге — в Берг-коллегию, в Москве, Сибири и Казани — к определенным горным офицерам».
Но «демократизм» документа оказался лишь внешним. Простолюдины по-прежнему даже с важнейшими открытиями не могли так просто, как гласил указ, попасть в Берг-коллегию. Тем более «предстать пред светлые царские очи». А ведь надо было как-то оглашать свои находки, чтобы не ушли они вместе с тобою в безвестье и чтобы не выть с голоду на пустом подворье. Простые люди искали собственные пути, чтобы громогласно заявить о себе. И эти пути были, пожалуй, удивительнее царского указа...
Ранней осенью 1722 года ктитор и пономарь синодальной службы в Кремле были посланы в Архангельский собор смахнуть пыль с гробниц да протереть тряпками лики святых. Помолясь, они принялись убирать храм. Ктитор старательно вытирал зазубрины в колоннах резной позолоченной сени над могилой малолетнего царевича Димитрия, чистил плиту крохотной усыпальницы. И вдруг из-под тряпки полетели на пол бумаги. Он поднял одну из них, стал читать по складам, близоруко щурясь:
— «Государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея Руси. Холоп твой непутевый крестьянишко Иван Палицын челом бьет. Умышления на здоровье твоего царского величества не имею и бунту и измены ни за кем не ведаю. А государево слово за собою сказываю того ради, что сыскано мною у села Петрово, что под Ряжском, при реке Чернавке земляное уголье, а также — руды, в разных местах. Копал я землю на три сажня в глубину...»
Пономарь, прислушиваясь, испугался:
— Вон чего похотел, аспид! Осподь не велел смертным ни над землей, ни под землей скитаться. Дай-кось, отец, ту колдовскую штуку.
— Свят, свят! — вскричал ктитор. — Не касайсь! Письмена со святых гробниц велено государю вручать немедля, слыхал? Впрок-от, гляди, пойдет.
— В коллегию попадет — не скоро в пресветлые руки дастся, — усомнился пономарь. — Инде застрянет, инде совсем исчезнет. Порвать и делу конец.
Но ктитор уже не слушал его.
— Делай свое дело, отче, я скоро возвернусь.
Такие письмена и в самом деле повелевалось немедленно отправлять в Петербург, в Берг-коллегию, или в ее отделение в Москве, но ктитор был хитер и смекалист. Много ли проку от того, что он передаст эту бумажку? Нет, он отдаст ее в свою синодальную службу, самому высокопреосвященному, и получит за это похвалу, а с похвалою, гляди, и мзду.
Он так и сделал. Высокопреосвященный милостиво обласкал слугу божьего, отпустил его в собор к прежним занятиям, а найденные на гробнице «колдовские штуки» велел немедленно отправить в Санкт-Петербург прямо в Кабинет его императорского величества. Пусть, дескать, знает царь, что о благе отечества печется не только горное ведомство.
В Кабинете хорошо знали, сколь ревностно относится царь к таким письменам. И хотя Петра и его личного секретаря А. В. Макарова не было в это время в столице — они находились в Персидском походе,— кабинетная служба тут же распорядилась послать на места, указанные в доношении, специальную группу солдат с офицером, дабы те «взяли по штуке означенных минералов и доставили на пробу».
Команда под началом поручика Луцкого драгунского полка Василия Басманова рьяно исполнила поручение и 9 января 1723 года доставила «штуки» угля и руд, найденных рязанским мужиком, московскому асессору Берг-коллегии Петру Ханыкову. Тот повелел опробовать минералы иноземному пробиреру на русской службе Кашперу Вейсу. И тут случилась неувязка. Руды пробовать этот Вейс взялся охотно и нашел в них признаки серебра, а вот исследовать привезенное уголье начисто отказался. То ли не умел сжигать русское уголье, которое не сравнить с английским, или, может быть, была иная причина — никто не знает. Привезенный Басмановым уголь долго пролежал в сарае, испортился, оземлился и сделался непригодным к сжиганию.
Требовалось отыскать опытного рудного искателя, чтобы послать в Рязанский уезд, в село Петрово, на ту речку Чернавку, чтобы он лично удостоверился, в самом ли деле есть в недрах той земли каменное уголье, или безвестный Иван Палицын из нужды рискнул отправить на имя царя столь наглое послание. Такого человека в столице пока не нашли — все члены Казенной команды рудознатцев были разосланы в разные концы огромного государства, потому что отовсюду как из рога изобилия сыпались заявки на сысканные минералы, и эти заявки необходимо было проверять.
Но вот весной 1723 года из поездки на Донец возвратился известный рудознатец Григорий Капустин. Ездил он с солдатом Никитой Столбовым в донецкие казачьи городки второй раз — по именному указу Петра. Еще в 1721 году нашел он на Донце добротное каменное уголье, да не признали его иноземные пробиреры. Им не с руки было признавать и русского мастера, и найденный им минерал. Россия уже длительное время закупала ископаемый уголь в Голландии и особенно в Англии, а нанятые на русскую службу пробиреры в основном были англичане.
На сей раз Капустин привез в Москву по кадке самого отборного донецкого уголья и был уверен, что пробы окажутся благоприятными. В ожидании результата он находился в Москве и жил здесь, как тогда определяли, «праздно», то есть не исполнял каких-либо обязанностей по службе. Асессор Петр Ханыков не мог допустить подобной праздности, хотя знал, что и рудознатец, и солдат, и все, кто с ними ездил на Донец в минувшую лютую зиму, издержались и пообносились, что всей группе требовался отдых.
Отдыха никому не дали, и Григорий Капустин был послан с тем же солдатом Никитой Столбовым в Рязанский уезд. Он поехал туда как государственный контролер и член Казенной команды рудознатцев, знающий толк не только в рудах, но и в новом минерале — каменном уголье.
Добраться в село Петрово оказалось не так уж сложно. В глубины рязанских земель вел хороший водный путь — по тем временам самый удобный. Сначала надо было плыть по Москве-реке, потом по Оке, затем, у Старой Рязани, повернуть в устье Прони, а там по речкам Ранове и Хупте до места. Рудознатец и солдат наняли лодку, гребцов и к началу мая были уже в селе Петрове — оно существует и поныне и находится у самого Ряжска.
Село как село. Деревянные избы, кабак, съезжая, церковь. Да речка Чернавка в зелени и кручах, да лес вдали, да клинья хлебных полей, да мужики в лаптях.
Подьячий в съезжей избе беспрекословно повиновался столичному человеку с солдатом. Он хорошо знал Ивана Палицына — тот часто «объявлял» здесь найденные им минералы и был человеком в селе известным, — и приказал посыльному, чтобы кликнул того Ивана. Но Капустин от услуг подьячего отказался. Спросил, где изба Палицына, и тотчас отправился туда. Подьячий, мотая косицами, заплетенными на затылке, подался следом.
Избу топили по-черному. Деревянные стены до половины были в копоти. Из полутьмы со скамьи навстречу вошедшим поднялся мужик в холщовой рубахе до коленей, в таких же портах и в добротных лосевых сапогах — в будний-то день!
Наметанным оком Капустин приметил не только эти сапоги, но и липовые маленькие кадки в избе — ими обычно пользуются рудные искатели, отбирая минералы для проб.
— Ты ли нашел земляное уголье на речке Чернавке и отписал про то государю?
Палицын смутился перед безбородым синеглазым человеком из столицы и перед солдатом в зеленом выцветшем мундире, выслал в дверь кучу ребятишек с одеревеневшей от неожиданности женкой и приготовился к битью.
— Вестимо, я, — ответил дерзко и смело, втягивая голову в плечи.
— Тогда здравствуй, Иван Палицын!
Дюжий в плечах приезжий человек поклонился ему как равному.
— Покажешь дыру-то, где уголье вынал?
— Хоть сей же час, господин хороший. Дозволь только побратима позвать. Тараску Суворова. Он помощник мне...
Ходили на речку Чернавку, взяв с собою кирки да заступы. В круче показал Иван Палицын место — сизую, «в аршин толстоты», полосу среди супеси и глины. Полоса простиралась очень близко от воды. Одним своим крылом она и вовсе уходила под воду. В прозрачной речной глади просматривалось дно и в дне — клином уходящая в глубь земли часть залежей.
«Угольная флетца», — определил Капустин. Он видел подобные пласты в некоторых местах на Донце. Только уголье там чернее, аспиднее.
В полосе зияла изрядная по толщине и глубине дыра.
— Ты долбил, Иван?
— Вестимо. Мы тут с Тараской старались.
Капустин взобрался на кручу. От реки к недальнему лесу тянулась обширная равнина, заросшая сочной травой. Справа и слева по ее границам виднелись крестьянские дворы с избами.
— Что же не рубите избы по равнине, ближе к реке?
— Волглая она, господин хороший, волглая равнина-то. Ключей много.
— Под нею и тянется подземная угольная флетца, — рассудил вслух Капустин. — Тут бы и угольный завод поставить. Или, как его называют иноземцы, — шахт. Вот только уголье какой пробы? Легко ли горит? Годно ли? — И тут же предложил: — А кузница в селе есть? Надобно испытать твое уголье.
В дыру, неожиданно отстранив всех, Капустин слазил первым. Неровным, колеблющимся светом горела сальная плошка. На глаз определил, тюкнув по угольной плоти киркой: должно гореть хорошо. Потом расстарались Иван Палицын и его помощник — угрюмый, бессловесный мужик Тарас Суворов. Нагребли самого лучшего минерала. Испытывали его в кузнице у сельского кузнеца. Уголье горело ровным, но чадным пламенем, — угарный дух шел от него. И все же найденный минерал оказался весьма годен. Даже в сравненье с английским. От того тоже дыму наглотаешься, пока железку скуешь.
Рудознатец приказал нагрести уголья в кадки, чтобы отвезти на пробу в Москву, и собрался было на другой день отплыть в обратный путь. Но Палицын неожиданно показал ему те кадки, что были в его избе, и поведал, вконец поверив в добрые намерения приезжего, где нашел эти руды.
Находки оказались из разных мест. Пришлось задержаться до середины мая. Ездили на речку Пару под село Кривели; в Пехлецком Стану — так называлась местность в междуречье — обследовали рудные жилы на речках Ключ, Летогоше, Кременке.
— Да ты истый рудоведец! — воскликнул Капустин.
На радостях Иван с Тарасом провожали Капустина и Столбова до Старой Рязани. Здесь показали еще одно рудное место — в устье Прони, недалеко от берега.
Через неделю Григорий Капустин со своей малой командой тем же водным путем возвратился в Москву, Он доложил асессору Ханыкову об углях Ивана Палицына, о том, что те угли горят «зело хорошо» и что доставлять их можно удобным водным путем.
Но Ханыков с явным недоверием выслушал рудознатца. Дело в том, что в Москве к этому времени уже был известен результат проб донецких углей. В Петербурге снова отнеслись к этим углям отрицательно.
«Приговор» пробиреров привел Капустина в отчаяние. Но, как бывает в подобных случаях с людьми сильными духом, придал и энергии. К решительным действиям побуждали знания и личная уверенность в том, что донецкие угли высококачественны, ничуть не хуже привозных, иноземных. Предстояло крепко постоять за себя, за свое достоинство, за честь русской рудоведческой школы. Будет признан он — будут признаны и отечественные угли, донецкий и подмосковный. По крайней мере, так Капустину казалось.
И рудознатец решается на опасный шаг: пишет в Берг-коллегию до-ношение и в нем уличает иноземных мастеров грозной «Артиллерийской канцелярии» в том, что они донецкому каменному уголью «не сущую пробу чинили», то есть обвиняет их в заведомой лжи и предвзятости. Подобной дерзости в Берг-коллегии не знали...
31 декабря 1723 года состоялось заседание Берг-коллегии, которое проводил сам Яков Брюс. Вопреки всему оно оказалось для рудознатца счастливым. Геологическую деятельность его высоко оценили советник Василий Татищев, асессоры Михайло Аврамов и Герасим Мансуров.
Их мнению пытались возражать иноземцы, особенно Винцент Райзер, бывший обер-аудитор (писарь в армии немецкого императора), приглашенный в 1719 году на службу в русскую Берг-коллегию в качестве асессора.
Всех примирил Брюс. Он сообщил, что о неурядицах с донецким углем узнал сам царь и, узнав, распорядился пригласить из Англии таких людей, которые «были бы искусны в своем мастерстве».
— Ныне, — сказал Брюс, — по велению его императорского величества прибыли угольные мастера под главенством Георгия Никсона. — И, обратившись к Григорию Капустину, который сидел тут же, но не за круглым столом, где восседали члены коллегии, а на скамье в числе приглашенных, приказал: — Повелевается тебе, Григорий Григорьев сын Капустин, ехать с ними в новую экспедицию, дабы показать все те места, где ты изыскал! каменное уголье и руды. Отныне государственная Берг-коллегия присваивает тебе чин подканцеляриста и определяет денежное жалованье. Служи его величеству и отечеству нашему так же верно, как и доныне.
— Буду верен по гроб жизни, ваше сиятельство, — достойно ответил Капустин и еще долго не мог унять волнения. Жалованье ему определили немалое: по восемьдесят рублей в год деньгами и по двадцати четвертей — хлебом, мукою и овсом (Казенная четверть равнялась девяти пудам.). Ни таких денег, ни такого провианта он никогда в жизни не имел.
2 марта 1724 года после тщательной двухмесячной подготовки из Петербурга по московской дороге направилась Большая угольная экспедиция. Она состояла из пяти прибывших в Россию иноземцев во главе с упомянутым Никсоном, нескольких солдат под командой унтер-офицера лейб-гвардии Преображенского полка Андрея Маслова, двух лабораторных учеников, возниц и подсобных рабочих — на одиннадцати телегах. Так называемую «русскую часть» экспедиции возглавил теперь уже не подьячий, а подканцелярист Берг-коллегии Григорий Капустин.
Большой экспедиции предлагалось, «не мешкая зря», ехать прежде всего в те места, где «приискал уголье и руды» Григорий Капустин: на Дон и Донец. Но попутно экспедиция обязана была исследовать серебряное месторождение в Москве под Андреевским монастырем, а после этого направиться в Рязанский уезд и, «сыскав Палицына с товарищи, ехать с ними на открытые ими месторождения и те места осмотреть и каменное уголье и руды искать».
Так открытие Ивана Палицына стало наконец достоянием гласности и пробилось в один из важнейших государственных документов того времени.
Однажды, докладывая царю, Яков Вилимович Брюс кратко изложил содержание инструкции, разработанной для Большой экспедиции. Петра, как никого другого, поразила близость от столиц совсем недавно открытых угольных месторождений. До них было рукой подать. Он, как всегда, увидел в этом ошеломляющую выгоду. Тут же посоветовал Брюсу:
— Вели оным мастерам, и нашему и английскому, немедля ехать в Рязанский уезд.
И вот 19 мая вдогонку экспедиции, которая уже проводила исследования в Москве под Андреевским монастырем, умчалась по ямской почте новая депеша: немедленно ехать под село Петрово.
Середина июля. Макушка лета.
На тихой речке Хупте, против раскинувшихся на берегу деревенских изб, вдруг, как на расцвеченной лубочной картинке, появились большой струг и лодчонки. Такого глухое село Петрово еще никогда не видывало, хоть и было дворцовым.
Никсон с короткой курительной трубкой в зубах недовольно хмурился на ярое солнце, на несносную жару, на убогие избы, где, по всему видать, трудно найти приличное пристанище. Его помощники, длинноногие молодцы в заморских коротких штанах, ухмылялись, разминали ноги. Лишь солдаты с сержантом да лабораторные ученики с гребцами торопливо сносили на берег снасти и провиант, укладывали все на поданные телеги.
Оробевшего Ивана Палицына подвели к Никсону. Тот недоверчиво смерил бородача с ног до головы, хмыкнул:
— Это не есть рудный искатель. Он есть мужик.
— Он настоящий искатель! — вступился за Палицына Капустин. — Не смотри, что на нем холщовая рубаха... Это он сыскал здесь уголье. И руды тоже. У него и помощник имеется, Тарас Суворов. Где же этот Тараска?
Тарас Суворов даже по сравнению с Палицыным выглядел бедно. Он и вовсе был дремучий мужик. Стоял в сторонке босой, с лаптями через плечо, готовый каждому плюхнуться в ноги.
Никсон сплюнул, буркнул что-то по-английски, не вынимая трубки изо рта, отошел прочь. Толмач Янсон перевел:
— Господин мастер сказал: «Шерт с ними». Пускай-де показывают места, где нашли руду. Он велел также, чтобы староста позаботился о жилье и баньке.
Вопреки здравому смыслу, Никсон не стал исследовать угольное месторождение, открытое Палицыным, а занялся осмотром найденных крестьянином рудных мест. Вопреки наказу Берг-коллегии «в поисках богатой руды и уголья вглубь иттить буровами, а не копкою», Никсон всюду нажимал на лопату и кирку. Ездили на те же речки Проню, Чевкину, Пару, Ключ, Летогошу, где годом ранее побывал Капустин, и везде рыли, а не сверлили землю инструментом. При этом рабочий день начинали поздно, кончали рано.
Как-то Никсон, блуждая по окрестностям, завернул к постройкам, дымившим невдалеке от дороги, и очутился на большом подворье. Это был один из железоделательных заводов купца Панкрата Рюмина. Никсона тут хорошо приняли. Как настоящего иноземного мастера. Повезли еще на один завод — рядом. Оказалось, что Никсон очутился за пятьдесят верст от села Петрова. Немало драгоценных летних дней пропало у него здесь попусту. И только на речку Чернавку, где была открыта угольная флетца, наведаться ему было недосуг. Хоть та Чернавка текла почти в самом селе Петрове и неподалеку от нее начинался лес.
А возле рудных месторождений лесов не было, крепить выкопанные шурфы-дудки было нечем, да и людей не хватало — началась уборочная страда, и окрестный мужик не соглашался идти внаем.
В довершение всего заупрямились помощники Никсона. 1 августа минул год с тех пор, как они приняли русскую службу. Срок контракта истек (Подмастерья были наняты на год, мастер — на пять лет.). А поскольку оплата всей английской группы производилась через Никсона, то его помощники в этот день прекратили работу и потребовали у него полного расчета. Никсон им отказал, выдумав явно бестактный предлог. Он заявил, что никаких денег на оплату их труда русская Берг-коллегия не выдала. Подмастерья ему не поверили — они хорошо знали своего мастера. В Берг-коллегию посыпались изветы. Увещевания русских членов экспедиции на иноземцев не подействовали. Григорий Капустин и Андрей Маслов убедились, что задание, порученное экспедиции самим царем, оказалось под угрозой срыва. Это ничего хорошего не сулило. И прежде всего им.
В ночь с первого на второе августа они решили, что одному из них надо немедленно ехать в Воронеж к губернатору Петру Измайлову и там заручиться строжайшим предупреждением Никсону относительно точного исполнения инструкции.
Поехал Андрей Маслов, на месте остался Григорий Капустин. Сержант повез с собою также письма, чтобы отправить их в столицу по почте: свое — на имя вице-президента Берг-коллегии Зыбина, Григория Капустина — в адрес асессора Аврамова.
— И вот еще что, — сказал перед отъездом Маслов Капустину. — Давай-ка не бояться отныне иноземца. Государь на нас за это не прогневается.
— Верно, — ответил Капустин. — Бояться нам следует одного государя — он-то уж не спустит нам за промах. А сей Никсон, как я полагаю, вовсе не угольный мастер. Правду говорят его помощнички: на родине он держит угольный завод. Стало быть, он купец, а не рудный искатель. На сей счет даже Иван Палицын догадался и как-то намекнул мне на это.
Надолго оставшись без Маслова, Капустин сделался непреклонным — куда подевалась та подьяческая угодливость, которой его учили всю жизнь! Как-то Никсон попросил у него лошадей съездить в Ряжск. Капустин догадался, зачем иноземцу нужна эта поездка, и отказал ему. Все это происходило на людях, и команда поняла, кто здесь настоящий мастер и хозяин. Никсон разразился бранью. Капустин вынул из-за пазухи инструкцию и пригрозил ему:
— Ежели не станешь творить по инструкции, именем его величества лишу тебя всякой оплаты по работе. Нам ныне всего дороже не руды, а камень-уголье, в
коем заинтересован государь.
— Не ты есть мастер, Григорий, а я! — пытался возражать Никсон.
Но команда, не сговариваясь, послушалась русского рудознатца. Капустин распорядился использовать поисковые инструменты, показал всем, как ими работать. Многие дивились тому, как железная труба от верчения все глубже вонзается в землю, а из нее, когда вынут и легонько постучат по ней, выползает круглая штука грунта и породы. Люди впервые видели эту диковинку.
Иван Палицын ни на шаг не отступал от Григория Капустина, которого уже перестал называть «господином хорошим», а величал просто по имени и отчеству.
Никсон понял, что угроза Капустина не случайна, отъезд Маслова — тоже. И струсил. Он теперь и при людях и в письмах своих говорил и писал так: «Григорий подсказал», «Мы с Григорием порешили», «Я при Григорье повелел...» Вскорости сам подошел к Капустину с толмачом Янсоном и попросил:
— Пусть тот мужик покажет свое угольное место.
— Так бы давно, — сухо ответствовал ему Капустин.
На другой день, а был уже конец августа, с самой зари на речке Чернавке, в том месте, которое год назад исследовал Капустин, и где годом ранее открыл уголье Иван Палицын, вертели большой бурав, отступив от берега саженей на шесть по предполагаемому ходу флетцы Палицын, Суворов, лабораторные ученики, солдаты — всех послал на эти работы Григорий Капустин — трудились с охотой. И сам он, закатав рукава рубахи, налегал на поручни бурава. Никсон сидел на бревне, курил трубку, командовал.
Другую группу людей — нанятых за повышенную плату мужиков во главе с сельским подьячим — Капустин послал в штольню идти подкопом от реки. Он твердо надеялся, что в какой-то точке под землею обязательно сойдутся кирки и инструмент. Этим будет доказано, что здесь тянется угольный пласт. Оттуда, из глуби, они наберут на пробу самого чистого камень-уголья.
Люди под землей боялись обвала. Приходилось Капустину часто наведываться туда самому.
Наступили сумерки, но работ не прекратили. Капустин и тут отказал Никсону в просьбе перенести все на завтра. Повелел зажечь костры. Он чувствовал вот-вот под землей сойдутся два инструмента — кирка и труба-желонка. Поздней ночью, чутьем угадывая, что наступил самый-самый момент, он послал в дыру Палицына.
— Полезай, Иванка, и гляди в оба: должна уж быть железка в угольной тверди.
А сам стал на его место — вертеть инструмент.
Палицын полез в дыру, усталый, возбужденный, хмельной от всего того, что вокруг делалось, и вскоре вылез на поверхность, крича:
— Есть труба в тверди, Григорь Григорьев! Есть!
Утром, а наступило уже 28 августа 1724 года, Никсон написал в Берг-коллегию- «Прошедшей ночью в здешнем месте получил я уголье, которое посылаю в мешочке в трех связках Я надеюсь, что оное покажется зело доброе...»
То, что он послал в Берг-коллегию пробы уголья «в мешочке в трех связках», вызвало между ним и Капустиным настоящий спор. Капустин резонно доказывал, что в мешочке да еще в связках уголь в дороге от тряски быстро испортится, превратится в пыль, что для этого существуют специальные кадки (кстати, их и предлагал Иван Палицын), но Никсон заупрямился, и пробы были отправлены в «мешочке»
К этому времени в Берг-коллегии скопились все документы-письма-рапорты Капустина и Маслова, доносы Никсона на своих подмастерьев, их жалобы на него, сообщения о пробах присланного в «трех связках» уголья, а также личная жалоба подмастерьев на своего мастера, отправленная на имя Я. В. Брюса.
Для Петра сделали выписку Правдивую, без лукавства — за неправду полагалось жестокое наказание
Восьмого октября Петр прочитал эту выписку и распорядился устно. Запись этого распоряжения находится в поденном журнале Берг-коллегии. Вот она.
«1. Понеже в оной экспедиции является несогласие мастера с подмастерьями, того ради послать от Берг-коллегии знатного, который бы мог их согласить и каждому по контракту жалованье оплатить. И чтоб каждый по должности дело свое управлял.
2. Село Петрово в Ряжском уезде — далеко ли оное от Оки-реки? Уголья какой квантитент (Количество.) обретен, есть или будет? То б немедленно прислана была проба со известием о квантитенте и о расстоянии от Оки. Прислать с нарочным унтер-офицером гвардии, которого отправить из Берг-коллегии вместе со знатным».
Петр, по сути, уже не сомневался в наличии ископаемого уголья. Он настойчиво добивался ответа на главный вопрос достаточно ли его для разработок и какими путями можно доставлять его к Оке? Он ставит вопрос широко, погосударственному уголь уже тогда требовался стране как хлеб и соль. Жаль, что пройдут еще десятки лет, прежде чем Россия утолит им свой голод,
Коллегия решила послать вдогонку угольной экспедиции — та уже покинула Ряжский уезд и направилась на юг, в Бахмут, — «знатного» Ивана Телепнева (он происходил из древнего рода Оболенских) и с ним сержанта гвардии Алексея Межаева. Им приказали все уладить и — главное — замечать, на каком расстоянии открытые угольные месторождения находятся от городов, полноводные ли реки текут неподалеку от них и можно ли по тем рекам пройти груженым судам. То есть тщательно выяснить то, о чем уже сообщали в свое время Капустин и Палицын — к огорчению, эти доношения так и не дошли до царя.
Никсон — это стало очевидно Телепневу по приезде в Бахмут — оказался вовсе ненужным в экспедиции Его раскусили до конца. В этом он сознается сам в одном из писем: «Шляхтич и сержант (так он называет Телепнева и Межаева — Авт.), велели извозчику мой харч выбросить вон, ежели я с ними идти не схочу» Телепнев в последний раз воззвал к совести Никсона, но тот ответил, что «за нынешним зимним временем работать невозможно», Тогда царедворец послал в столицу рапорт с просьбой разрешить продолжать исследования «русскими людьми» и выехал с экспедицией в село Петрово. Здесь, не ожидая ответа, приступил к работам.
...Вышли на Чернавку. Искрились под солнцем январские снега. На избах вместо кровель — снежные шапки. Из труб вьются ровные сизые дымы — к жгучему морозу. В берегу на речке Чернавке зияет под белой шапкой нависшего сугроба черная дыра.
— Здесь? — спросил Телепнев, стоя на снегу в ярко-синей добротной шубе.
— Вестимо, — ответил бородатый мужик в кожушке и худых валеных сапогах — Иван Палицын.
Он стоял рядом с Капустиным и, сказав эти слова, дрогнул, сробел: не ему бы следовало отвечать столь знатной особе.
Иван Телепнев подошел к ним и, к немалому изумлению иноземца, обнял обоих.
— Спасибо за службу добрую, за сметку и труд великий. А теперь — с богом, за дело!
Санный обоз стекся к угольному месторождению. Мужики посыпали к дыре. На ровном заснеженном льду застывшей реки обозначилось множество следов.
Через несколько дней после этого экспедицию настигла тяжелая весть в Санкт-Петербурге скончался царь Петр. У одних опустились руки, другие же, напротив, с каким-то неуемным остервенением принялись завершать начатое. Иван Телепнев нашел в себе силы продолжить исследования.
Однажды в ростепельный день в Петрове появился состоятельный человек. По окладистой, чесанной гребнем бороде, за ношение которой наверняка плачены немалые деньги, в нем признали давешнего купца Панкрата Рюмина. Купец объезжал окрестности своих Истинских и Улусских заводов. Он лазил в дыру, мял в руках угольные крохи, заинтересованно смотрел, как умело сжигают в горне добытый уголь Капустин и Палицын. Ударил напоследок челом самому Ивану Телепневу, пригласив того наведаться на свои заводы. С тем и уехал.
Телепнев принял приглашение, но съездить на заводы так и не успел. В конце марта в ответ на свое предложение продолжать работы «русскими людьми», он получил неожиданное повеление императрицы Екатерины Первой, которая требовала работы свернуть, отметив на будущее места находок.
Так и было сделано Телепнев, а с ним Капустин, Маслов, Межаев и Никсон в мае вернулись в Москву. Здесь им предложили отчитаться о совершенной работе. Интересен отчет Никсона. В первом же пункте своего рапорта он написал: «В селе Петрове при реке Чернавке буровал я и нашел уголье... Оное место имеет фундамент к лесу изрядный, и, по моему мнению, ежели б шахту сделать и ход найти, то не без пользы было бы».
В этом Никсон оказался прав: шахты надо было ставить уже тогда. Думается, что и тут не обошлось без «мнения Григорья», то есть без подсказки Григория Капустина, который сильно влиял на иноземца своим авторитетом и знаниями.
Вскоре Никсон был выдворен за границу. Остальные разъехались по местам службы. Иван Палицын, естественно, остался дома, в селе Петрове.
Рудознатец-самородок не ведал тогда, что его находке суждено стать одним из величайших геологических открытий. Он просто зарабатывал себе на хлеб и хотел получить то денежное вознаграждение, которое сулила каждому умельцу знаменитая берг-привилегия. Путь общения с царем через Архангельский собор оказался верным. Денежную награду, надо думать, он получил.
Вскоре после отъезда экспедиции из села Петрово туда наведался со своими людьми тот же купец Панкрат Рюмин. Он убедился, что угля в земле предостаточно, и в августе 1725 года обратился в Берг-коллегию с просьбой «отдать ему» угольное место в селе Петрове. Берг-коллегия просьбу удовлетворила и в своем определении потребовала: «Велеть им, Рюмину с товарищи, с получением сего указа начать строить угольные заводы и закончить их в четыре месяца».
В указанный срок «угольный завод» в селе Петрове был возведен. Это была первая каменноугольная шахта Подмосковья. С нее и начались первые промышленные разработки подмосковных углей.
Широко и вольготно раскинулся по европейской части Союза Подмосковный угольный бассейн. От Мещерских лесов — через Валдай — до Онежского озера. Экий исполинище лег под лесами и холмами русской равнины!
Село Петрово возле Ряжска — самая юго-восточная его ветвь. Отсюда бассейн взял свое начало. Здесь, на рязанской земле, и стоять бы памятнику рудознатцу-самоучке крестьянину Ивану Палицыну — первооткрывателю углей Подмосковья. Как стоят в Кемерове — открывателю Кузнецкого бассейна Михаилу Волкову, а в Лисичанске — виднейшему из рудознатцев, «Колумбу» угольного Донбасса Григорию Капустину.
Леонид Губин
(обратно)
Каменный зверинец

Село называлось Черноземным. Название дали землепашцы-переселенцы, которые издавна растили хлеб в приазовской ветреной степи. А что было до этого? Чем занимались люди, жившие здесь много веков назад?
Это и пытались выяснить ученые Запорожской экспедиции Института археологии АН УССР.
Было начало рабочего дня. Кабина быстро нагревалась, сквозь щели сочилась пыль. Прокладывая очередную траншею, бульдозерист пласт за пластом снимал влажный чернозем. Работа шла возле неприметного холмика посреди распаханной степи — на археологических картах он значился как курган № 1. Незадолго до этого в центре насыпи этого кургана была обнаружена выложенная известняковыми плитами могила времен срубной культуры, представители которой населяли эти места в XIV—XIII веках до нашей эры. На более значительные находки (во всяком случае, в этом кургане) археологи не надеялись. Вдруг нож бульдозера выворотил из земли обломок известняка. Старший лаборант Николай Ковалев, которого коллеги в шутку называли начальником кургана, спрыгнул в траншею, внимательно осмотрел обломок. С первого взгляда трудно было определить его назначение. Но явно просматривались следы ручной обработки. Вскоре нашли еще один обломок — поменьше. В ход пошли ножи, щеточки. Когда очистили известняк от земли, ясно обозначилась голова какого-то зверя. Присмотрелись — напоминает медведя. Приставили к найденному ранее обломку. Точно — каменный медведь!
Через несколько часов наткнулись еще на две известняковые скульптуры — голова коня почти в натуральную величину и животное, удивительно напоминающее верблюда. Вечером новые находки. В земле рядом с «верблюдом» лежал еще один медведь. Целое кладбище каменных фигур! Как они сюда попали? Времени на тщательный осмотр не было. Снова взялись за лопаты, и вот еще один приятный сюрприз — стела, на которой изображен человек, и каменный всадник с отбитой до плеч головой. Кое-что начало проясняться. Вполне возможно, что и на других фигурах не верблюжьи горбы, а всадники.
Скульптуры вытащили из траншеи, расставили в ряд. Каменные творения древних были чуть ниже пояса взрослого человека. Археологи сгрудились вокруг фигур. До сих пор исследователям не удавалось обнаружить каменных всадников в таврических степях. Посыпались догадки, предположения.
— Погребальная насыпь, — сказал начальник экспедиции младший научный сотрудник Института археологии АН УССР Виталий Васильевич Отрощенко, — это, несомненно, дело рук «срубников». Со скульптурами сложнее. Скорее всего они были установлены на кургане кочевыми народами через два с небольшим тысячелетия после возведения погребальной насыпи.
Вот так в небольшом захоронении переплелись судьбы и пути народов, когда то населявших эти места.
В. Супруненко
(обратно)
Учпулак

Кишлак Уба зеленым островком плывет по белому морю созревшего хлопка. Трудно представить, что всего в нескольких километрах с севера желтыми барханами подступают Каракумы, разделяющие Бухару и древний Хорезм. Здесь, у границы плодородия, три цвета определяют осенний пейзаж лазурь неба, зелень садов и белизна хлопковых коробочек. Весной гамма изменится, белый цвет исчезнет, но алым заполыхают тюльпаны. Все эти цвета собрала Хамро Рахимова, или биби Хамро — бабушка Хамро, — для раскраски своих глиняных игрушек — свистулек, по-узбекски «учпулак».
Я приехал в кишлак, расположенный километрах в двадцати на северо-восток от Бухары, и застал биби Хамро за работой. Во дворике ее дома безраздельно властвовало, отсвечивая от светлого пыльного грунта, ослепительное солнце. Поэтому Рахимова лепила фигурки внутри дома, в мастерской-чулане, где было почти так же жарко и душно, как на улице, но где яркий свет не резал глаза.

Старой мастерице уже восемьдесят, ее красивое лицо покрыли морщины, движения замедленны. Но глаза не желают сдаваться старости и недугам, добрые и живые, они придирчиво следят за тем, как в пальцах рождается будущая скульптурка. Рядом с биби Хамро стоит таз с влажной бурой глиной, она отщипывает от нее кусок, сворачивает ладонями валик с утолщениями на концах, затем из одного конца вытягивает передние ноги и голову какого-то неведомого пока зверя, а из другого — задние ноги и хвост. Уверенные движения смоченных водой пальцев — и неуклюжее создание превращается в симпатичного то ли барана, то ли козла, а может быть, и коня. Деревянной палочкой Рахимова делает углубления — глаза. Игрушки у биби Хамро довольно условны, она не стремится к детальному сходству. И разобрать, кто есть кто в пестрой компании фигурок из лессовой глины, удается не сразу. Правда, присмотревшись повнимательнее, их можно отличить по характерным деталям рога, курдюк, хвост, грива Биби Хамро приходит на помощь это баран — «кочкар», это лошадь — «от», а это слон — «филь».
Рахимова лепит только животных. У некоторых фигурок на спине всадница — обезьянка, у многих — сосуд, напоминающий кувшин, назначения которого мастерица объяснить не может: «Так лепили раньше, так леплю и теперь». На этой земле вода — синоним жизни, с ней связаны многие сюжеты и символы в народном искусстве: в древности в Средней Азии бытовали и зооморфные сосуды — водолеи. Но более вероятно, что это светильник, в котором возжигали огонь, чтобы дополнить силу фигурки — оберега действием святого огня.
Еще одна дань древнейшей магической символике — свистулька, непременный атрибут всех фигурок Рахимовой, кроме слона. По преданию, свистом вызывали весенний дождь «оби рахмат» — «воду милости».
История учпулак ведет в глубокую древность — достоверно известно, что она насчитывает более тысячелетия. Причем поразительно то, что изделия Рахимовой почти не отличаются от своих древних собратьев, сработанных в XII веке и найденных археологами.
Хотя Хамро Рахимова лепит всего несколько основных типов игрушек, ни одна из них никогда полностью не повторяет другую. Все лошадки в ее «табуне» легко отличимы: одной на спину залетела курица, у другой особенная сбруя, на третьей гарцует всадник. Все они разнятся высотой, комплекцией, деталями раскраски.
Высохнув, глиняные фигурки заметно светлеют: из бурых становятся почти белыми, после чего мастерица обжигает их в печи, но обжигает слабо, и поэтому, хотя ее изделия довольно массивны, они весьма хрупки.
После обжига биби Хамро раскрашивает фигурки. Пользуется она при этом разведенными на яичном белке красками и кисточкой из конского волоса. По моей просьбе, она и сегодня раскрасила несколько учпулак. Сначала провела по бокам коня широкую красную линию, замкнув ее по окружности. Потом также сплошной линией нарисовала сбрую и раскрасила морду животного, а затем по всей верхней части тела разбросала красные и синие горошины, оставив нетронутыми ноги и живот. По тому же принципу раскрасила она и других животных, всех опять-таки кроме слона. Слону горошин не досталось, и по сравнению с другими животными его украшения выглядели довольно скупо.
Отдыхая, биби Хамро рассказывает мне о себе и своем ремесле. Искусством лепки учпулак она овладела в ранней молодости — его передала ей старая Шамси. здесь, в Убе, куда Хамро переехала, выйдя замуж, издавна был центр гончарного промысла, и лепить игрушки умели почти все жители кишлака — свои работы сами же продавали на базаре. В двадцать четыре года Хамро получила «фатиха», то есть признание мастерства и право на самостоятельную работу. С тех пор, вот уже более полувека, Хамро Рахимова не расстается с любимым делом.
Работа на сегодня окончена. Мы выносим раскрашенные игрушки из полумрака мастерской в солнечный дворик — и происходит чудо: казавшиеся блеклыми в доме краски, впитав солнечный свет, загораются. Потом, в Москве, я выставлял учпулак биби Хамро на балкон, чтобы увидеть их во всей красе, но, увы, они стали уже не такими, как под родным палящим бухарским солнцем.
А. Миловский
(обратно)
Шпагоглотатель. Рон Гуларт

На стене танцевал старик. Он все увеличивался, затем дрогнул и исчез. Стихло жужжание кинопроектора, и в кабинете персикового цвета стало светло. Шеф моргнул большими круглыми глазами:
— Знаешь, кто это был? — Он достал из резной коробочки желтый кружочек и положил его на язык.
Бен Джолсон, сидевший по другую сторону низкого черного стола, слегка пошевелился и ответил:
— Человек, в которого вы мне собираетесь предложить воплотиться.
— Точно, — подтвердил шеф Микенс, проглотил таблетку и просветлел. — По этому делу шум в последнее время особенно усилился, Бен. Я говорю о неприятностях в Военном Бюро, — сказал он.
— Исчезновения.
— Именно. Сначала генерал Мусман, за ним адмирал Рокисл. Через неделю — Баском Ламар Таффлер, отец нервно-паралитического газа № 26. А сегодня утром, на рассвете, сам Дин Свифт.
— Пропал председатель Военного Бюро? — Джолсон даже привстал.
— Официального сообщения еще не было. Говорю об этом только тебе, Бен. В последний раз Свифта видели в его розарии. Выдающийся розовод!
— О нем был документальный фильм, я видел, — сказал Джолсон. — Так ваши из Центрального Бюро Шпионажа обратились в Корпус Хамелеонов за помощью?
— Да, — кивнул шеф Микенс. — Положение крайне серьезное. И нет нужды говорить, что наша Барнумова система планет не должна еще раз испытать ужасы мира.
— Подозреваете пацифистов?
— Подозреваем, — подтвердил шеф. — Конечно, у ЦБШ есть склонность повсюду видеть пацифистов. Ты ведь знаешь, не все согласны с методами, которыми Военное Бюро ведет колонизацию земных планет Барнумом.
— Особенно, когда с лица Земли стирают целое государство.
— Да государство-то карликовое. Шеф отправил пилюлю в рот. — Как бы там ни было, согласись, когда начинают пропадать руководители Военного Бюро... Во всяком случае, это могло быть и делом рук пацифистов.
— Что это за старик, которого вы мне показывали?
— Леонард Габни... — Шеф побарабанил по крышке стола, — Но он нас интересует лишь как джентльмен преклонного возраста, в которого тебе предстоит воплотиться. Сведения о нем тебе дадут гипнопедически, а мы займемся непосредственно заданием… Кимбро — вот кто нас интересует.
Джолсон покачал головой.
— Постойте, не этот ли Кимбро — посол на планете Эсперанса?
— Да, он возглавляет посольство Барнума.
— Нет, я не полечу на Эсперансу, хоть озолоти меня.
— Не полетишь? — переспросил шеф. — Да ты обязан, это записано в твоем контракте. Из Корпуса Хамелеонов не уходят.
— Эсперанса надолго мне испортит настроение.
— Людей ведь надо где-то хоронить, Бен.
— Но превратить в кладбище целую планету.
— На Эсперансе пятьсот тысяч жителей, — возразил шеф Микена. — Не говоря уже о... сейчас посмотрю... десяти миллионах туристов и почти десяти миллионах скорбящих близких, которые ежегодно посещают Эсперансу. — Он отложил памятку в сторону.
— Эта планета насквозь провоняла венками, — буркнул Джолсон.
— Дай мне наконец объяснить тебе задание... Судя по данным агентуры ЦБШ, посол Кимбро, возможно, замешан в этой волне похищений. Адмирал Рокисл исчез именно на Эсперансе.
— Знаю, — сказал Джолсон. — Он полетел туда возлагать венок на могилу Неизвестного Диверсанта.
— Надо установить, не Кимбро ли является слабым звеном. Со следующей недели он отдыхает в Непенте, близ Эсперанса-сити.
— Непенте? Омолаживающие воды для престарелых миллионеров?
— Да. Ты превращаешься в старикашку Габни, и мы забрасываем тебя в Непенте, — сказал шеф Микенс.
В Корпусе Хамелеонов Джолсона сделали оборотнем. Он мог принять облик любого человека.
— Моя задача — составить досье на посла? — спросил Джолсон.
— Нет. Тебе надо остаться с Кимбро наедине. Тогда ты пустишь в ход весь арсенал препаратов правды и узнаешь, имел ли он отношение к исчезновению адмирала Рокисла.
— О"кэй. — Джолсон откинулся на спинку стула. — Приходится соглашаться. Кто мой связник на Эсперансе?
— Сейчас из соображений безопасности я ответить тебе не могу. С тобой там свяжутся.
— Каким образом?
— Где-то у меня тут записан код. — Поискав в столе шеф Микенс выудил записку синего цвета. — Вот 15-6-1-24-26-9-6,
— Долго ли мне предстоит пробыть в Непенте?
— Номер заказан на неделю. Но результатов мы ждем раньше, — сообщил шеф Микенс и заглянул в зеленую памятку. — Неделя там стоит десять тысяч долларов, Бен... А теперь помоги мне отыскать флакон с микстурой малинового цвета.
И оба опустились на четвереньки
Автоприслуга для престарелых в отеле «Эсперанса-Пласа» упорно называла его дедулей Джолсон — сейчас сгорбленный, со старческими пятнами на коже, 84-летний — сидел в удобном кресле на балконе своей гостиной. Как и большинство стариков, он попросил, чтобы ему дали номер с видом на что угодно, только не на кладбище Габни, настоящий Габни, распоряжался телекинезом на всех планетах Барнума, и его имя достаточно весило, чтоб его поселили с видом на деловой район Катер из Непенте должен был прилететь за ним вечером…
В дверь позвонили.
— Да? — спросил Джолсон..
— Посольство Барнума поздравляет вас с прибытием на Эсперансу, — отозвался молодой женский голос. — У меня для вас корзина восстановленных фруктов, мистер Габни.
— Сейчас, сейчас. — Джолсон пошел открывать дверь
На пороге, в платье лимонного цвета, стояла стройная молодая брюнетка с резко очерченными скулами и короткой прямой прической. На руке у нее была повязка посольства Барнума, а на лбу — губной помадой написан номер 15-6-1-24-26-9-6. Хитро подмигнув Джолсону, она салфеткой стерла цифры с загорелого лба.
— Мы посещаем и приветствуем всех высоких гостей, прибывающих с Барнума, — сказала она. — Меня зовут Дженнифер Харк, мистер Габни.
— Охотно верю, милочка, — ответил Джолсон Дверь закрылась, и он добавил. — Итак?
Она отрицательно покачала головой и вышла на балкон. Опустив корзину с фруктами на расслабляющее кресло, она жестом подозвала Джолсона.
— В этой корзине — противоподслушивающее устройство. Оно обезвредит все.
— Кто, кроме прислуги, может меня подслушивать? — перебил он ее.
— Меры предосторожности всегда не излишни. — Она протянула ему недозрелый абрикос. — Возьмите. Если в Непенте возникнут осложнения, сожмите его, и я приду к вам на помощь. У меня для вас кое-что есть. К нам начали поступать косвенные данные о некой «Группе А».
— Замешана в похищениях?
— Не исключено. Посмотрите, что скажет Кимбро. Если все пройдет хорошо, доложите мне перед возвращением на Барнум. Найдите на улице Одиночества магазин «Нью-Рудольф» по продаже венков и назовите цифры. Все понятно?
Джолсон вышел из катера и, едва ступив на берег, провалился в горячую грязь. У края бассейна на корточках сидел, улыбаясь, блондин с квадратным лицом.
Блондин протянул ему руку.
— Мы начинаем курс сразу же по приезде в Непенте. Благодаря этому купанию, мистер Габни, вы уже на несколько недель помолодели. Меня зовут Франклин Трипп, я координатор и один из совладельцев курорта.
Трипп извлек Джолсона из бассейна и повел по выложенной плиткой дорожке. Над низкими бледно-голубыми зданиями Непенте на плато, расположенном на несколько миль выше Эсперанса-Сити, стояла тихая темная ночь. Ветерок, который гулял по плато, был сухим и теплым. Слуга в голубом комбинезоне выгружал его багаж. Украдкой Джолсон взглянул на чемодан с несгораемой прокладкой, в котором был спрятан набор препаратов правды.
Встретиться с Кимбро ему удалось лишь днем в парной, где они оказались в соседних кабинках.
— У них весь день для нас расписан? — спросил Джолсон посла.
— После обеда обязательный сон, а потом дается время на свободный отдых, — ответил парящийся посол. — Вы, случайно, не увлекаетесь стрельбой из лука, Габни?
— Кимбро, это моя первая любовь, — подтвердил Джолсон.
— Тут чертовски трудно найти кого-нибудь, с кем можно выйти на рубеж. Вчера я вообще был один на всей площадке.
— Даже так? — удивился Джолсон. — Мы можем поупражняться сегодня во второй половине дня. А чтобы было интересней, предлагаю за попадание в яблочко назначить премию.
— Превосходно, — согласился посол.
...Между ними и соломенной мишенью дрожал и перекатывался легкий туман. У Джолсона под теплой синей рубашкой был спрятан набор препаратов правды. Он провел зубами по зарубке на стреле и предложил.
— Может, понемногу чтоб разогреть кровь?
Щелкнул лук Кимбро и стрела исчезла в дымке.
— После того как увижу, что попал. — Туман почти закрыл мишень, они подошли ближе, но стрелы в мишени не оказалось. Джолсон извлек из бронзового футляра небольшую фляжку.
— Бренди?
— Что ж, — сказал Кимбро, — думаю, теперь капелька бренди не повредит. — Он взял фляжку и, отвернув крышку, сделал глоток. — А вы?
— Я ношу ее для друзей, — ответил Джолсон, пряча фляжку обратно.
Кимбро прокашлялся и вставил в лук новую стрелу.
— А как насчет «Группы А»? — вдруг неожиданно спросил Джолсон.
— Я скажу правду, — косясь на Джолсона, заявил Кимбро. — Да, я действительно взял диктостол тогда на Барафунде. А на слушании дела сказал, что в первый раз о нем слышу. Я солгал, Габни.
— Посол, известно ли вам что-нибудь о тех, кто похищает сотрудников Военного Бюро?
— Ну что ж, — сказал посол, — я передавал сведения. От таких денег не откажешься. Само собой разумеется, в Военном Бюро я знаю все ходы и выходы.
Джолсон придвинулся поближе. ЦБШ не ошиблось.
— Кому вы передаете информацию?
— Эсперанса-Сити. Окраина. Молодой человек.
— Как его зовут?
— Сын Брюстер Младший. Он артист. Не старше двадцати. Я передаю информацию Сыну Брюстеру.
— Зачем?
— Земля, Габни, — пошатываясь, ответил Кимбро.
— М-м?
— «Земля превыше всего». Они хотят добиться, чтоб когда-нибудь Земля стала превыше всего.
— Главарь — Брюстер?
— Нет, «А». «Группа А». Никаких имен.
— Где находится «Группа А»?
Кимбро выпрямился, веки и ноздри его зашевелились.
— Отвык от крепких напитков. Здорово меня стукнуло.
— Пойдем домой, Кимбро, — предложил Джолсон. — Время отдыха кончилось...
Джолсон сидел в кресле типа врачебного, откинувшись назад.
Курортный косметолог Нат Хокеринг втирал мыло в жидкие седые волосы Джолсона, при этом отклоняя его голову все дальше и дальше.
— Щиплет кожу, — пожаловался Джолсон.
Хокеринг мягко положил руку ему на горло.
— Можно вам сказать два слова?
— Да.
— Отпечатки пальцев.
— Что?
— Вы проиграли. У настоящего Леонардо Габни были другие отпечатки пальцев, — сообщил Хокеринг, толстыми пальцами сдавливая Джолсону адамово яблоко. — Наш человек имеет доступ к мусору в ЦБШ. Он подобрал третий экземпляр письма в Корпус Хамелеонов, в котором их просят прислать человека для расследования дела с Военным Бюро. Мы готовились к этой встрече.
— Трипп — ваш человек? — спросил Джолсон.
— Да. Плюс старый Кимбро, — пояснил Хокеринг, свободной рукой отводя цепляющиеся пальцы Джолсона. — А сейчас я вас, мистер лже-Габни, задушу. И утоплю в бассейне с грязью.
Джолсон сконцентрировался. Его шея начала расти и вытянулась сантиметров на двадцать, становясь все тоньше и ускользая из рук Хокеринга. Удлинив пальцы, Джолсон ткнул ими здоровяку в глаза.
Тренировка в Корпусе Хамелеонов дает некоторые преимущества. Джолсон сжался, стал сантиметров на тридцать меньше и пулей выскочил из кресла. У фена он затормозил, поднял его за металлическую стойку и с силой ударил Хокеринга сушильным колпаком по голове...
В своем синем тренировочном костюме Джолсон выскочил в коридор и смешался с отдыхающими. Дойдя до выхода, он выскользнул из главного корпуса и побежал через парк, надеясь найти на стоянке катер.
Вдруг он услышал, как кто-то выкрикивает ему числа. Свесив лестницу, в сумеречном небе покачивался катер с личным номером.
— Кто это? — заорал Джолсон.
— Я, Дженнифер Харк. Поднимайтесь быстрее.
— Проклятье, — выругался Джолсон и, прыгнув, уцепился за лестницу. — Я просил тебя не вмешиваться, — сказал он, забравшись в маленькую кабину.
— Вы же его сжали.
— Что сжал? — спросил он, усаживаясь в кресло для пассажиров.
— Абрикос, — ответила Дженнифер, ведя катер в сторону от Непенте. — Он передал сигнал тревоги добрых три часа назад. Я вылетела, чтобы вас выручить.
Спрашивать, как она собиралась это сделать, Джолсон не стал.
— Я этой штуки не касался. Скорее всего это они днем обыскивали мои вещи и пошалили с ним.
— Вам удалось допросить посла Кимбро?
Они летели по направлению к Эсперанса-Сити, и далеко внизу сверкали пестрые огни кладбищ.
— Конечно, — ответил Джолсон.
Он сообщил девушке о Триппе и Хокеринге и рассказал, что ему удалось выкачать из посла.
— У меня шифровка от шефа Микенса. Вам приказано проследить все собранные вами данные до их логического конца. Меняя облик в зависимости от ситуации.
— Знаю. Я всегда так делаю, — сказал Джолсон. — Передай в ЦБШ, пусть наблюдают за Непенте и проследят за Триппом и Хокерингом, если те улизнут, что они, видимо, сейчас и пытаются сделать. Но пока я не выйду на «Группу А», брать их не надо.
— Мы посадили двух агентов в часовню, из которой просматривается весь Непенте. — Она щелкнула тумблером рации. — Предупрежу их.
Пока она вела связь, Джолсон сидел в кресле, расслабившись и закрыв глаза. Потом произнес:
— Высади меня на окраине.
— На окраине вам надо выглядеть молодым, — сказала Дженнифер. — Кроме того, вы даже ничего не знаете о тамошних обычаях и моде.
— Усвою по пути. — Джолсон на миг закрыл лицо Ладонями, сделал выдох и стал двадцатилетним.
Девушка взглянула на него, и брови у нее задрожали.
— Не привыкла к такому. Давайте посмотрим. Волосы подлиннее. Обычно их зачесывают на левую сторону. А как быть с одеждой?
— Одолжи мне немного, остальное я подберу себе на окраине.
— Я когда-нибудь увижу вас настоящего? Как Бена Джолсона? — спросила она.
— Когда-нибудь, — ответил Джолсон...
В «Последней пристани» Джолсон заказал еще один антигистамин.
— Благословляю, заблудшая душа, — произнес человек с вывернутым воротником. Он едва держался на ногах. — Не засекал тебя раньше. Новенький?
— Чего надо, осеннее трепло? — спросил Джолсон, используя одну из выученных за два дня фраз жаргона окраины.
— Я священник. — Он был невысокого роста, с широкой грудью и трясущимся подбородком. — И я хотел бы с тобой посидеть потрепаться.
— Только не перепудри мне мозги.
— Меня зовут Преп Кокспур, — сообщил его преподобие, шлепнулся на свободный стул и сковырнул с потертого локтя кусок присохшей яичницы. — Какой на тебе хорошенький бенджаминчик.
— Я его слямзил, — сказал Джолсон.
— У всех есть свои слабости, мой друг. — Преп Кокспур засмеялся, откинув голову. — А вот и сам старина Сын.
В дверях, раздвинув бусы портьер, стоял стройный юноша. Его светлые волосы были заплетены в косички и украшены алыми лентами. Одет он был в костюм с серебряными блестками и канареечного цвета ботинки. За спиной у него висела мандолина, а в левой руке он держал усилитель.
— Сын Брюстер? — спросил Джолсон.
— Собственной персоной, — подтвердил Преп Кокспур.
— Давай грабли, Преп. Отвалю тебе пару рваных. — Сын извлек из кармана пачку купюр и протянул Препу Кокспуру. — А это что за тип?
— Мой друг, — ответил преподобный, пряча деньги в складках своей туники.
— Меня зовут Вилл Роксбери. А тебя? — спросил Джолсон.
— Сын Брюстер Младший, — ответил юноша. Он втянул щеки и прищурился. — Недавно на окраине?
— Ага.
— Сыграем в зениц?
Джолсон пожал плечами.
— По крупной или по мелкой?
— По десять минимум. Мелочь. — Сын аккуратно снял мандолину. — Подержи-ка ее, Преп...
В темной комнате сидело человек десять молодежи.
— Сейчас мы с этим типом в симпатичной хламиде сыграем партию в зениц, — обратился к ним Брюстер.
— Сделай из него шницель, Сын, — бросил рыжий парень
Оказалось, что зениц — это квадратные карты с изображением основных кладбищ, которые кидаются об стену. Кому выпадают самые ближние, тот выиграл кон. Через полчаса Джолсон имел уже восемьдесят долларов в плюсе.
— Хватит? — спросил он Сына.
Сын подергал себя за одну из косичек, забрал у Джолсона карты.
— Занят сегодня вечером?
— Нет. А что?
— Знаешь «Ползучую Эклектику»?
— Конечно.
— Жди меня там где-нибудь в районе обеда. Поиграем в лото и дурака. Идет?
— Посмотрим, — отвернувшись, сказал Джолсон и направился к двери.
В аллее он столкнулся с пожилой женщиной, торгующей подержанными венками.
— Если вы знаете какого-нибудь покойника по имени Аксминстер, могу вам кое-что предложить, — сказала она.
Крепко взяв ее за руку, Джолсон отвел женщину в сторону.
— Никогда не надейся на грим, Дженнифер. Хватит таскаться за мной. Давай-ка дуй к себе в посольство, пока тобой не занялся Брюстер и вся «Группа А».
— Трипп, Хокеринг и посол сейчас тоже на окраине.
— Тем более. А теперь иди... Смешайся с толпой. Быстро!
— Мои друзья. — Сын Брюстер, войдя в кабинет, указал на четырех белобрысых парней, которые сменяли на сцене женский ансамбль. Все юноши были высокие, широкоплечие, с такой же, как у Сына, прической. — Они себя называют «Фондом Форда».
После второй песни «Фонд Форда» побросал свои инструменты. Музыканты спрыгнули в зал и, сверкая лезвиями ножей, окружили кабинет.
— Ты подделка, Вилл, — встав и отступив назад, сказал Сын. — Трипп меня предупредил, что к нам залетела птичка из КХ, и я начал проверять всех незнакомцев. Ты не заметил, что мы играли в зениц не по правилам. И даже наш жаргон не заучил как следует.
Джолсон вспрыгнул на скамейку, на которой сидел, и, сделав сальто назад, перескочил в соседнюю кабину.
— Сделайте из него шницель, — заорал Сын.
Джолсон пересек танцплощадку и вскарабкался на сцену. Позади он услышал шум преследующего его «Фонда Форда», и, схватив контрабас, Джолсон запустил в первого из квартета, который попытался схватить его.
Второй выбросил вперед руку с зажатым в ней ножом. Джолсон ударил его ногой в живот. Юноша вскрикнул и согнулся пополам.
Двое других юнцов, держа ножи перед собой, бросились к Джолсону. Удлинив левую руку, он обернул ее несколько раз вокруг шеи одного из нападающих и резко дернул, отшвырнув его на другого. Когда они поднимались, Джолсон по разу ударил их ногой по голове. Затем оглушил тех двух, которые пытались убить его первыми. Приглаживая волосы, он повернулся к Сыну Брюстеру.
— Протестую, — заявил Сын Брюстер. — Я не дерусь.
Не сходя с места, Джолсон выкинул вперед руку и захлестнул ее вокруг горла Брюстера.
— Ну-ка расскажи мне про «Группу А», Сын.
— Нет.
Джолсон напряг обвитую вокруг шеи руку.
— Говори.
— Полегче. У них твоя девушка.
— Что?
— Та, с забавными скулами. Мы засекли, что она тут пасется.
— Где она?
— На острове.
— Что за остров?
— За кладбищами. Триста миль отсюда. Они там держат замороженных. На острове... Ты лучше успокойся, приятель. Ее уже час как заморозили, и если ты будешь себя плохо вести, она там и останется.
Джолсон едва не задушил его.
Потом, взяв себя в руки, ослабил хватку.
— Кто ее туда повез?
— Кто-то из «Группы А». Ее повезли на адском катафалке.
— Кто там, на острове?
— Этого я сказать не могу.
— Можешь.
— Дерьмо! — проговорил Сын, пытаясь глотнуть. — Его зовут Пурвьянс. Максвелл Пурвьянс. Он — за «Землю превыше всего».
— И чего он хочет, мира?
— Не знаю. Правда не знаю.
Джолсон достал из своего набора снотворное, сделал каждому из парней по инъекции и оттащил их в подсобную комнату за сценой. Теперь тревога поднимется не раньше, чем через шесть часов.
А меньше чем через час он уже выезжал с окраины на автобусе, везущем плакальщиков...
За автобусным окном мерцали красные, желтые, зеленые камни надгробий. Они проезжали одно из самых богатых кладбищ.
Больше часа они ехали вдоль кладбищенской ограды, пока не поравнялись с могилой Неизвестного Диверсанта. «Открыто всю ночь», — гласила надпись. Затем автобус свернул с дороги. В тупике между двумя кладбищами раскинулся бревенчатый трактир. Мигающая вывеска сообщала, что заведение называется мотель «Вечный Сон».
— Час на отдых и развлечения, — объявил одетый во все черное водитель автобуса.
— А что, если я хочу ехать дальше? — спросил Джолсон.
— Следующий автобус будет только утром.
— Черт побери, — сказал Джолсон.
— Здесь можно повеселиться, — успокоил его водитель. — Пивная работает круглосуточно.
Джолсон вышел из автобуса и окунулся в ночь.
Усевшись в пивной у прокопченной стены как можно дальше от организованного плача и причитаний, Джолсон потягивал темный эль. Официантка предложила ему поминальные закуски, но Джолсон отрицательно покачал головой.
Он наблюдал за жилистым, долговязым мужчиной, облокотившимся на стойку бара из темного дерева. Тот вошел несколько минут назад и сказал, что рядом у него стоит грузовик, полный цветов. Если ничего другого не подвернется, придется угнать грузовик. И ехать дальше на нем.
Кто-то похлопал его по плечу. Джолсон обернулся к сидящей справа от него компании. Они были обвешаны камерами и записывающей аппаратурой.
— Могу тебе представиться. Флойд Джейнвей, — произнес тощий человек в одежде, которая была ему явно мала. Он поднял свою пивную кружку и опорожнил ее. — Здесь я выполняю специальное задание. Наподобие тех, благодаря которым меня знает весь мир. Ты ведь слышал обо мне, так ведь?
— Еще бы, — ответил Джолсон. — Вы журналист. В системе Земли работаете в Новостях Девяти Планет, а здесь — в Барнумском Телекоме. А чем сейчас заняты?
— Это больше, чем «Джейнвей и восставшие Барафунды». Больше, чем «Джейнвей комментирует фиаско в Таррагонской гавани». «Джейнвей берет интервью у Пурвьянса». Ничего о нем не слышал, так ведь? Эти две недели пришлось пробивать несколько месяцев. Скоро он станет фигурой.
Джейнвей отхлебнул эля.
— Играть умеешь, мальчик?
— Смотря во что.
— Как, молодежь здесь все еще играет в зениц?
— Еще бы. Это что, вызов? — усмехнулся Джолсон.
Джейнвей встал.
— Будем играть в зениц могильными открытками вон там, у той перегородки.
Идя в другой конец зала рядом с репортером, Джолсон спросил:
— А когда у вас назначено интервью с Пурвьянсом, сэр?
— Начну завтра утром. С собой ничего не возьму, будут только Джейнвей и его блестящий ум. Из этой дыры мы тронемся после обеда.
Джолсон споткнулся, ухватился за Джейнвея и, удлинив пальцы, вытащил у него из туники пакет с документами.
— Простите, я поскользнулся.
— Если хочешь выиграть у меня в зениц, будь попроворней.
Поиграв с полчаса, Джолсон допустил новую неловкость. Набор препаратов правды выскользнул у него из-за пазухи и отлетел к Джейнвею.
— Ох уж эта молодежь с ее наркотиками, — улыбнулся репортер, поднял металлическую коробку и передал ее обратно.
В итоге Джолсон выиграл у Джейнвея шестьдесят три доллара. Затем попрощался, осторожно выбрался во двор и угнал грузовик цветочника. Он имел документы Джейнвея и отпечатки пальцев его правой руки. Когда же выехал на дорогу, ведущую к острову, он вплоть до кончиков пальцев был Флойдом Джейнвеем...
Посреди голубой глади озера лежал испещренный белыми точками кружащихся птиц светло-зеленый остров. Папоротники, пальмы, перекрученные лианы, пятна цветов — ранним утром все просматривалось четко и ясно. На вершине отлогого холма стояло украшенное орнаментами и завитками мраморных листьев нежно-желтое здание с колоннами.
На пристани сидел маленький бородатый человечек в плотном коричневом плаще и, обернувшись, наблюдал, как Джолсон поднимается по вьющейся, выложенной плитками дорожке,
— Хочешь, чтобы я перевез этот гроб с музыкой? — спросил он.
— Я приехал чуть раньше намеченного времени, Меня зовут Флойд Джейнвей, — сказал Джолсон.
Бородач выбрал из кучки камней, лежавшей рядом, плоский голыш и запустил его. Камень
запрыгал по воде,
— У нас здесь ничего, кроме холодильника для замороженных, нет, мистер.
— Я журналист Флойд Джейнвей, — сказал Джолсон. — Передай Пурвьянсу, что я здесь.
Мужчина встал, рассыпая грубыми сапогами плоские камушки.
— Стойте, где стоите, мистер. Медленно достаньте документы и бросьте их мне. Прямо на ваш зад сейчас нацелено три лазера, а еще два готовы подрумянить вам щеки,
Джолсон кинул ему пакет с документами,
— Что это у вас на руке, татуировка?
Бородач промолчал и подошел к Джолсону ближе.
— Поднимите большой палец правой руки, мистер.
Он перевел взгляд с документов на большой палец Джолсона. Хлопая крыльями, на левое плечо мужчины опустился голубь. Татуированной рукой бородач раскрыл птице грудь, и оттуда выскочил маленький микрофончик.
— Он тот, за кого себя выдает. Высылайте катер.
Джолсон ждал недолго. С дома с колоннами поднялся алый катер, подлетел к пристани и завис над ним...
Кресло-качалка было усеяно орлами. Черные, с распростертыми крыльями, переплетаясь в сложном резном узоре, они покрывали всю его поверхность. В кресле, медленно покачиваясь, сидел человек с плотно сжатым ртом, На нем были матерчатые штаны, свитер и широкополая шляпа с пером. Квадратными гладкими пальцами он держал трубку с желтым чубуком. Это был крупный, с широким лицом мужчина, который, даже расслабившись, держался прямо.
— Я, конечно, не хочу вас обидеть, — сказал он, — но мне кажется, что вы родились не на Земле. Я прав?
Джолсон сел поудобнее в мягком кресле напротив Максвелла Пурвьянса. (Джейнвей родился на Барнуме.)
— Да, — подтвердил он.
Небольшая комната была буквально закутана в материю, на полу лежали цветастые ковры, стены занавешивали тяжелые гардины. Прямо за головой у Пурвьянса висел вышитый символ «Земля превыше всего».
— Я определяю это безошибочно, — ноздри его расширились. — Такие вещи прямо чую.
— А может, вы это чуете дохлую кошку у себя под стулом? — поинтересовался Джолсон, показывая туда мыском башмака.
— Нет, эта свежая, — ответил Пурвьянс — Я на них проверяю еду. Видимо, завтрак был отравлен. Индивидуальную попытку отравления гораздо легче обнаружить, чем отравление, организованное властями. Водопроводная вода отравлена девятнадцатью различными ядами. Десять смертельных на случай, если вы измените политические убеждения, пять других доводят человека до упаднического образа жизни и нестандартных па в танцах, а четыре яда заставляют голосовать за кандидатов с социалистическим прошлым. Никогда не пью воды.
— А что же тогда?
Пурвьянс постучал кольцом с печаткой по кувшину на ближайшем столике.
— Яблочный сидр. Старинный земной напиток. С других планет я ничего не ем и не пью, мистер Джейнвей Земные продукты, и только их.
— С Землей ничто не сравнится, — сказал Джолсон. — А каковы ваши планы в отношении других систем, мистер Пурвьянс?
— До моей победы или после?
— Расскажите сначала до,
— Видите ли, мирам предначертано управлять Землей. К несчастью, в течение двадцати тысяч лет на Земле был так называемый умственный застой, чем воспользовались власти других планетных систем. Я верю, мистер Джейнвей, в права Земли, равно как и в то, что она снова станет центром вселенной.
— Я считал, — сказал Джолсон, глядя на раскачивающегося в кресле руководителя «Группы А», — что вы своего рода пацифист, борец против войн.
— Да, я против войны, если ее начал не я! — воскликнул Пурвьянс, поправляя упавшую на широкий лоб прядь прямых волос. — Скажу вам, — только это между нами, мистер Джейнвей, — в настоящее время я набираю большую группу военных советников. Кроме того, с Земли, из местечка под названием Париж, мне телепортировали одного очень известного модельера. Чтобы разработать форму для членов «Группы А». Чертовски трудно было найти подходящего человека, так как я приказал своим лейтенантам подобрать не какого-нибудь гнома, а крепкого, мужественного парня.
— И удалось найти такого?
— Откровенно говоря, он не совсем из Парижа. Он родом из Небраски, а в Париже проводил отпуск. Там мы его и схватили. Посмотрели бы вы его, какие он делает эполеты.
— Сколько здесь с вами живет народу?
Пурвьянс с отсутствующим видом опустил руку и потрогал дохлую кошку.
— Хочется сидра, а испытать его не на ком. Вы не?..
— Нет, вернемся к военным советникам. И модельерам.
— Так вот. Они у меня здесь, — сообщил Пурвьянс. — Я держу их на льду.
— Замороженными?
— Это мой хлеб. Морозильник мне достался в наследство от покойного отца. Мы его тоже поместили в морозильник, но он безвозвратно мертв. «Наш Основатель» — висит под ним маленькая табличка. И еще скажу конфиденциально: не люблю покойников. Даже замороженных. У меня от них мурашки. Но наш бюджет пока ограничен, а здесь я свободен от арендной платы и имею небольшой доход, не облагаемый налогом.
Джолсон потер подбородок на лице Джейнвея.
— А здесь можно было бы посмотреть ваше предприятие?
— Не все, только незасекреченные секции, — сказал Пурвьянс, поднимаясь с качалки. — Не забывайте, что вы под постоянным наблюдением. Лишнее движение грозит вам мгновенной дезинтеграцией.
— А сколько у вас здесь сотрудников «Группы А»?
Пурвьянс направился к двери
— Это закрытая цифра, мистер Джейнвей. Могу вам только сказать, что много.
Следуя за ним, Джолсон вышел в холодный коридор.
В павильоне было холодно. Джолсон внимательно оглядел высокую, затянутую туманом комнату.
— А где же парни, которые целят в нас из своих пушек?
— О, их не увидишь. Для этого они слишком хорошо замаскированы.
Джолсон потихоньку подбирался поближе к руководителю «Группы А». И вдруг неожиданным прыжком втиснулся между Пурвьянсом и стеной, обхватил рукой его шею, развернул Пурвьянса к себе спиной, прикрываясь им, как щитом. Затем он выбрал свободный от дверей угол и рванул туда Пурвьянса; принимая такую форму, чтобы полностью укрыться за шефом «Группы А».
— Мне нужна девушка, Дженнифер Харк, и люди из Военного Бюро. Прикажите их разморозить и привести сюда или я буду сжимать шею, пока вы не задохнетесь.
— Странные у вас, знаменитых журналистов, методы, мистер Джейнвей, — едва выговорил Пурвьянс. — Прекратите меня душить или вас испепелят.
— Вместе с вами.
— Именно.
Джолсон сжал руку.
— Ну, девушку и остальных. Велите вашим людям войти и сложить оружие.
— Всем моим людям?
— Начнем с тех, кто прячется за этими стенами.
— Кто вы? Из ЦБШДХ?
Джолсон напрягся.
— Отдавайте приказ. Быстро.
У Пурвьянса приоткрылся рот, и желтая трубка упала на пол. Пурвьянс закашлялся.
— Рокстрод, войди сюда.
Двери одного из нижних боксов распахнулись, и в комнату осторожно, держа перед собой бластер, вошел заросший щетиной человек в плаще.
— Тайлер моется, — сообщил он.
— Кто такой Тайлер? — спросил Джолсон.
— Он перевозил вас на катере, — объяснил Пурвьянс. — Он второй из двух моих людей.
— Двух?
— Здесь у нас небольшой отряд, — сказал Пурвьянс. — Только Рокстрод, Тайлер и я, да еще миссис Неш, она готовит и убирает.
— Не пытайтесь меня провести, Пурвьянс. «Группа А» состоит не из четырех человек.
— Да, в группе значительное число членов. Но живут здесь немногие. Дело в том, что основная часть доходов моего холодильного бизнеса идет на оплату услуг похитителей и убийц и на подкуп политических деятелей. У меня просто нет средств, чтобы содержать большую боеготовную армию. Это придет потом. Я знаю, что, как только я соберу лучшие военные умы этой системы, всех других систем, — стоит мне только заполучить их, — и проблемы для меня кончились. При такой военной машине, какая будет у меня, и столь высокой цели люди хлынут ко мне тысячами. Деньги польются рекой.
— И сколько времени на это потребуется?
— Не имеет значения, — ответил Пурвьянс. — Пока завоевывается вселенная, я всегда могу заморозиться, предоставив заниматься скучными мелочами моим вассалам.
— В таком случае, — произнес Джолсон, — вы не пацифист, а просто еще один чокнутый.
— У меня нет желания переубеждать вас.
— Рекстрод, — приказал Джолсон. — Бросай сюда свой бластер и иди оживлять пленников.
— Ладно, — согласился бородатый. — Хотя я и буду чувствовать себя изменником делу «Группы А». — С этими словами он отдал оружие и вышел.
— Это займет целый час. Может, пойдем посидим в качалках? — предложил Пурвьянс.
Джолсон толкнул Пурвьянса вперед и наставил на него ствол бластера.
— Садитесь на пол. Будем ждать здесь.
Пурвьянс сел.
Песок на берегу зеленой глади океана был мелкий и белый.
Джолсон босиком подошел к самой воде.
— Проклятый Пурвьянс, — сказал он.
— Он уже арестован. И поймана почти вся «Группа А», — стоя рядом с ним, произнесла девушка.
Глядя на солнце, Джолсон сдвинул брови.
— А я-то надеялся, что он действительно может прекратить войны, что именно это его цель, — вздохнул он.
— Жаль, что это оказалось не так, — сказала Дженнифер.
— Просто еще один чокнутый. — Джолсон опять принялся расхаживать вдоль кромки моря.
— Я так благодарна тебе, что ты спас меня. Я так благодарна, что ты согласился задержаться на несколько дней на Эсперансе. И еще, — девушка взяла его руку, — я рада, что ты — Бен Джолсон.
— Что?
— Я о том, каким ты стал. Ты ведь сейчас настоящий?
Джолсон потрогал свое лицо.
— Вроде бы да, — ответил он.
Перевел с английского Г. Темкин
(обратно)
На вес золота, и дороже

У нас эту птичку называют «зимородок». Немногие могут похвастаться, что видели на берегу ручья, у водопада, еще реже — на камне или на ветке, — пушистый, голубой, бирюзовый промельк. Должно быть, имя свое птица получила от людей, верящих в чудесную силу бегущей, живой и в стужу, воды — «зимой рожденный» — «зимородок». По-английски зимородка называют «король-рыболов» — «кинг-фишер». И точно; какая еще птица сумеет исчезнуть в стремнине, пробуравить воду и явиться во всем сверкающем оперении да еще и с солидной добычей, порой в половину собственного веса? Чем не король, собравший дань в рыбьем царстве?
Древние греки оплели жизнь этой яркой птички легендами, «Halcyon» — «рожденный морем» назвали ее. Птица-алкион, верили они, откладывает и насиживает яйцо каменной твердости в середине зимы, в самую стужу. И тогда боги-покровители устанавливают над морем «алкионовы дни», дни ледяного затишья, безветрия.
При всем разнообразии верований в волшебное происхождение зимородка — «короля-рыболова», «рожденного морем», — птица не избежала пристального внимания человека» Слишком пристального, И не только из-за своего великолепного оперения, Европейского зимородка в средние века уничтожали за то, что» мол, истребляет он форелевую молодь. А тушки его до недавнего времени считались прекрасным средством от домашней моли. Мореходы-рыбаки уповали на зимородка не менее, чем на компас: каждому ведь было достоверно известно, что подвешенная должным образом тушка покажет клювом на север.
Не только золото инков и шкуры пум от берегов Нового Света, слоновая кость и красное дерево из Африки, шелк и пряности из Азии шли в трюмах кораблей к берегам Европы. Был там и почти невесомый, но ласкающий взор груз — тушки, шкурки, чучела и живые птички в клетках. Где-то в XVIII веке для необъятных модных шляп потребовались неувядающие украшения. Тут уж пошли в ход не только перышки, крылья, хвостики, но и целые стайки птичек: колибри, зимородков, попугаев. В «приличных» гостиных непременным украшением стали хранимые под стеклянным колпаком чучела ярких пернатых. Цены в золоте на невесомый товар порой далеко превышали его реальный вес. И это, в свою очередь, толкало добытчиков на дальнейшее истребление носителей привлекательного оперения.
Зимородки не были единственной жертвой данной природой красоты…
Птица-лира получила свое современное название в двадцатые годы XIX века, На первых порах поселенцы побережья Восточной Австралии называли ее то горным фазаном, то райской птицей Нового Южного Уэльса, Теперешнее ее имя вовсе не означало, что она петь мастерица, Дело в хвостовом оперении, которым природа наградила самца… И его красота обрекала на смертоносное внимание со стороны охотников.
Появление хвоста к трем годам дает повод петушку начать жениховские хлопоты. На замененном папоротниками склоне он выстраивает несколько кучарен из лесного мусора. Усевшись на распростертой над аренами ветви, самец исполняет звучное вступление; слетает вниз и, издавая громкие булькающие звуки, начинаем коронный танец. Жених покачивает хвостом, и сложенные полуметровые перья звонко стучат не хуже бамбукового ксилофона. Постепенно разворачивая и поднимая «лиру», жених раскладывает ее на спине, как кружевной полог. Хвост и впрямь хорош; пара широких перьев образует изогнутую раму для нежного кружевного плюмажа. Когда песня достигнет высокой и громчайшей ноты — стоп. Самец складывает жениховский реквизит — хвост — и удаляется со сцены. Самочка — а она, естественно следит за действом — вольна последовать за ним. Потом, озабоченная судьбой наследника, она будет строить гнездо из веток, опавшей листвы и мха; потом — шесть недель — будет высиживать и охранять единственное яйцо… Дел у нее хватает, а пока она так занята жених успевает заворожить еще не одну даму.
У птицы-лиры природных врагов было немного — лисы, кукабарра, змеи; ящерицы Возможно, когда-то серьезную угрозу представлял для лиры сумчатый тасманийский волк-тилацин; пока сам не исчез с лица земли.
Зато стоило птице-лире (вернее, хвосту самца) попасться на глаза человеку, как он стал ее злейшим врагом. Местное население, несомненно, тоже ценило красоту плюмажа и издавна использовало его в своих украшениях. Катастрофическое истребление лиры началось с появлением пришельцев с огнестрельным оружием и длилось десятилетия. Еще в начале XX века на улицах Сиднея хвостовыми перьями птицы-лиры торговали, что называется, «пучок — пятачок».
А. X. Чисхолл, австралийский орнитолог, подсчитал, что через руки одного лишь сиднейского торговца за один лишь 1911 год прошло более 1300 хвостов: 500 он продал на месте, а 800 отправил «любителям красоты» за океан.
Робкие запреты разбойного промысла успеха в те годы, естественно, не имели, и в природе птица-лира теперь встречается, говорят, гораздо реже, чем на популярных австралийских марках.
В девственных лесах островов Карибского моря и Латинской Америки исторически совсем недавно, каких-нибудь три-четыре века назад, обитало множество крупных и удивительно ярких попугаев — макао. Но уже в XVII веке многие разновидности их исчезли бесследно. И опять, как в истории с птицей-лирой и зимородком, причина истребления — беззащитность пернатых перед вооруженным человеком. Макао достаточно защищены от естественных врагов крепким клювом, но уже перед стрелами из лука или духовой трубки-сарбакана неповоротливые и заметные птицы беспомощны. Что уже говорить об огнестрельном оружии?
На Ямайке желанной добычей индейцев был макао желтый. Макао красный последний раз упомянут в легендах, записанных в 1765 году. На Мартинике последний экземпляр макао сказочного замечен был в 1658 году. К началу XIX века стали редкостью на островах Карибского моря макао желтый и зеленый. Индейцы тут почти не виноваты. Конкистадоры и последовавшие за ними колонисты, уничтожавшие племена, снесшие с лица Земли целые цивилизации, скорее всего и не заметили, как нанесли непоправимые бреши природе. Сгинули миллионы птичек, заключенных в клетки, рассыпались, изъеденные молью, чучела и украшения шляп. Краса птичьих перьев и изделий из них дошла до нас порой лишь в праздничных уборах коренного населения.
Почетное право пользоваться материалом для невянущих и немеркнущих украшений, боевых и праздничных уборов принадлежало самым уважаемым членам племенной иерархии.
На Гавайях лишь опытные птицеловы-рабы добывали медовую пищуху. Из ее хвоста выщипывали лишь несколько нужных перьев. И знатность вождя определяли по тому, сколько у него птицеловов-рабов.
Можно долго говорить о месте птиц в верованиях разных народов. Скажем лишь, что и промысел перьев, и ремесло изготовления ритуальных и боевых украшений из них держали в своих руках посвященные. Строго зафиксированы были и орнаменты, и сам процесс их изготовления. Лишь высокородные женщины допускались к изготовлению браслетов и головных повязок из перышек. А наиболее важные части ритуальных одеяний — накидки, шлемы, плащи — смели косить только аристократы, такие, как гавайский король Камеамеа. И если он отправил уже в XIX веке в Петербург роскошный плащ из ярких перьев, значило, что он признал российского императора равным себе.
Для многих племен перья символизировали способность пребывания в недоступной для человека среде — воздухе. Почти невесомые, и тем не менее вполне реальные, осязаемые перышки связывали мир материальный и мир мечты, мысли. В своих видениях, снах, человек достигал недосягаемого. Мысль — видение — образ — идеал — красота — яркость — цвет — перо. Вот оно украшает птицу, несущую его в недосягаемой для человека среде — воздухе. И вот — в руках, на теле человека. Следовательно, желание человека можно осуществить, надев в самых важных житейских случаях перьевое одеяние… От духов, богов, зависело само конкретное существование племени, семьи. А если попросить высшие силы о помощи в борьбе с соседями, со стихиями? И немного призвать на помощь высшие силы, надев воздушное одеяние из перьев птицы? Конечно, самой яркой, самой заметной птицы?..
Для мексиканских индейцев ичола в перьях заключались животворные жизненные силы. Ими украшали одежду, из них изготовляли костюмы для обрядов и представлений. Ичола верили, что летающие существа способны заглянуть в прошлое и будущее — и мира духовного, и моря житейского. Немудрено, что на самих птиц, на их оперение переносили индейцы веру в чудесную силу познания, присущую пернатым. На ведунов, исполнявших обряды в перьевых одеждах, падал отблеск их духовной силы. Они получали от птиц-духов способность одолеть болезни, недуги, одолеть нечистые силы природы. Еще древние египтяне верили, что в загробном мире душу будут судить, сравнивая сердце умершего с «пером правды». Если сердце чисто, весы не колыхнутся, если отягощено неправыми делами, оно перетянет перо правды и будет обречено на муки.
Индейские вожди Тихоокеанского побережья Северной Америки украшали свои головные уборы перьями орла. Орла почитали родоначальником племени, мясо его нельзя было есть, даже плохо отзываться о нем запрещалось. Когда разметанные в танце, перья разлетались в толпу, благотворная сила переходила якобы на все племя.
Ведуны бразильского племени тапирапи надевали парики из красных перьев, чтобы переманить на себя силы молний и смерчей во время зловещих церемоний и заклинаний стихий. Когда колдун шаманил, перья метались, разлетались, отпугивая в итоге злые чары стихий.
Многие народы почитали сову — таинственную птицу, являвшуюся неслышно из мрака ночи и, очевидно, крепко связанную с силами тьмы. Приписывали волшебную силу и сойке — беспокойной, вороватой птице, безнаказанно разорявшей гнезда других пернатых. Народности европейского севера испытывали ужас перед гагарой с ее человеческим криком, страшным на закате. Добыть перья столь могущественных и страшных птиц было делом опасным и необходимым для шаманских ритуалов.
Все это, естественно, приводило к истреблению пернатых.
...Когда мужчины горских племен Новой Гвинеи, обряженные в накидки из перьев и шлемы, танцуют на плотно утрамбованных площадках свадебные танцы, они подражают птичке-шалашнице. Ее самцы для своих брачных танцев сооружают площадки-платформы на горизонтальных ветвях друг над другом. Птичий танец наделяет танцора неотразимой привлекательностью. Переливаются накидки, сделанные из тысяч перышек шалашницы. Чем наряднее плащ, тем богаче и могущественнее человек. На одну накидку отдали перья и жизнь сотни шалашниц...
К. Мышкина
(обратно)
Желтая лихорадка. Стив Шерман

Старик эскимос наклонился и спросил:
— Вы приезжие? — И расплылся в той неподдельной беззубой улыбке, присущей только круглолицым жителям севера с оливковым цветом кожи.
Рейнольдс тоже улыбнулся и, отпив немного виски, повернулся к мужчине, сидевшему рядом.
Ни Джон К. Рейнольдс, ни Дэвид С. Портер, сотрудники нефтяной компании «Энгол ойл» из Хьюстона, штата Техас, не были в восторге от этой командировки в Анкоридж. В сущности, Аляска представлялась им гигантской пустошью размером в пятьсот восемьдесят шесть тысяч квадратных миль. Их родными местами были Даллас, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Детройт, Чикаго — города, где жило много людей и все было ясно.
Но когда президент компании приказал ехать, они подчинились, Рейнольдс пилотировал «Навахо», двухмоторный самолет компании, из Хьюстона в Анкоридж и приступил к возведению бастиона будущего Аляски, Летом 1968 года на арктическом склоне этого самого сурового северного штата были обнаружены колоссальные запасы нефти. Примерно от десяти до двадцати миллиардов баррелей нефти, таящихся под необъятной тундрой у Северного Ледовитого океана, могли обернуться миллиардной прибылью для предприимчивых компаний, И «Энгол ойл» была одной из них.
Старый эскимос потянул Рейнольдса за рукав.
— Обследовался в больнице, — сказал он.
— А-а, — протянул Рейнольдс. Ему говорили, что местные пристают в барах. — А что случилось?
— Колол дрова у себя в поселке, — стал объяснять эскимос, — Топор сломался и попал в голову. Моя фамилия Неудачник, а зовут Гарольд,
— Гарольд Неудачник, — повторил Рейнольдс и пристально посмотрел в слезящиеся глаза эскимоса, — Ну, а я Джон Рейнольдс, а это Дэвид Портер
Они обменялись рукопожатием. У Неудачника оно было слабым, как у ребенка
— Вы из Техаса по нефтяным делам? — спросил он.
— Ищем работу. — Портер подмигнул Рейнольдсу. — Может, найдем на какой-нибудь буровой.
Рейнольдс подавил усмешку,
— Знаешь, где есть работа? — спросил он. — Водителем грузовика, сварщиком. Или что-нибудь в этом роде.
Неудачник покачал головой.
— Работы нет, — произнес он серьезно. — Лучше возвращайтесь обратно в Техас.
— Возможно, так и сделаем, — сказал Рейнольдс.
Внезапно старик поставил кружку с пивом на стойку и начал рыться в карманах. Его черные волосы свалились на глаза. Лицо было в грязных пятнах, а большие мокрые губы казались тяжелыми.
Он достал фотографию из заднего кармана и шлепнул ею о стойку.
— Когда-нибудь видали золотой самородок, как этот? — спросил он.
На цветной фотографии на густокрасном фоне был виден большой темно-желтый самородок неправильной формы. Линейка, положенная рядом, показывала, что длина самородка — три с четвертью дюйма.
— Это что-то просто невероятное! — воскликнул с неподдельным удивлением Рейнольдс. — Твой? Ты нашел?
Неудачник вытер рот рукавом и улыбнулся,
— Нашел его у себя в поселке Кивалина. Около Нома.
Рейнольдс поднял руку.
— Эй, Слим, — позвал он бармена. — Не мешало б повторить, а? Еще пива сюда для моего друга!
Старик озарился лучезарной улыбкой.
— Вот это кусок! — проговорил Рейнольдс, уже рисуя в своем воображении золотую лихорадку в Номе. — Стоит, должно быть, тысячи две.
— Девять тысяч долларов, — улыбнулся Неудачник и, схватив принесенную кружку с пивом, сделал три больших глотка.
Рейнольдс и Портер переглянулись.
— Девять тысяч, — тихо повторил Портер.
Неудачник наклонился к Ренольдсу.
— Старею, — пожал он плечами. — Зачем эскимосу такой самородок, а? Ему нужны только земля, океан, морж, кит и дикие ягоды.
Рейнольдс выдержал небольшую паузу.
— Ты хочешь сказать, что этот самородок все еще у тебя?
— Много больших самородков.
У Рейнольдса и Портера перехватило дух.
— Белый человек думает: Неудачник — помешанный старый эскимос, — прошептал старик, глядя то на Рейнольдса, то на Портера. — Может, старый, но не помешанный.
А двум ответственным работникам компании уже мерещились несметные сокровища, скрытые за сморщенным полупьяным лицом этого застенчивого эскимоса. И если старый Неудачник не может найти применение своим большим блестящим самородкам там, у Полярного круга, то уж они-то найдут способ и облегчат беднягу от тяжкого бремени.
— Знаешь, Неудачник, — слегка хлопнул по плечу старика Рейнольдс. — Я, кажется, понимаю: ты хочешь сказать, что это добро китов тебе не принесет, не так ли?
— Я ведь только эскимос, — тряхнул головой Неудачник.
— Вот что я тебе скажу, — проговорил Портер. — Посмотреть бы поближе этот самородок. А то, знаешь, я уже начал думать, все эти рассказы о золоте Аляски просто байки.
Неудачник рассмеялся и ладонью погладил фотографию.
— Кивалина слишком далеко отсюда. А вы, белые, останавливаетесь только в Анкоридже.
— Когда ты собираешься обратно? — спросил Рейнольдс.
— Должен ждать до следующей недели. — Неудачник отпил пива. С его подбородка свисала пена, которую он вытер пальцами. — Самолеты летают в Кивалину раз в неделю.
— Полагаю, тебе надо еще платить за еду, гостиницу, — посочувствовал Рейнольдс. — В городе ведь жить так дорого, правда?
Неудачник кивнул головой.
— Вот что. — Рейнольдс дружески обнял Неудачника. — А не хотел бы ты полететь в Кивалину раньше?
Старик не понял.
— У нашего друга есть самолет, — пояснил Рейнольдс. — А я умею пилотировать. Если мы вылетим рано утром, то сможем доставить тебя в Кивалину в полдень.
— У вас самолет?
— У моего друга, — подтвердил Рейнольдс, кивая головой. — Двухмоторный.
— Вы прилетите в Кивалину, — возбужденно заговорил Неудачник, — и я покажу вам большие самородки. Идет?
Портер взглянул на Рейнольдса и ухмыльнулся.
— Идет.
На следующее утро техасцы взяли Неудачника из гостиницы «Парсонс», что на Третьей авеню, и повезли его на аэродром «Меррилл», где стоял их самолет. Рейнольдс наметил схему полета, и в семь тридцать «Навахо» был уже в воздухе, держа курс на север.
По карте от Анкориджа до Кивалины по прямой около шестисот пятидесяти миль. Однако небольшой самолет должен был облететь высокий изрезанный Аляскинский хребет, что прибавило еще двести миль.
Они приземлились в Фэрбенксе для заправки. Затем взяли курс на запад к Ненане, пролетели над Монли-Хот-Спрингс, проследовали вдоль реки Юкон миль сто пятьдесят, перелетели холмистое плато Кокрайнс, реку Коюкук, горы Уэринг, реку Кобук, горы Бэрд, реку Ноатак, плато Малгрейв и, наконец, приземлились на гравий посадочной площадки Кивалины.
Поселок расположился на южном берегу реки Кивалины, где ее пресные воды впадают в Чукотское море. Здесь проживало только сто сорок человек.
Безлесное пространство и обитые досками дома продувались сильным холодным ветром. Тут и там валялись ржавые бочки из-под нефти. Тропинки и дорожки, беспорядочно извиваясь, казалось, никуда не вели. Одежда на детях была изношенная и рваная.
Рейнольдс и Портер сделали вид, что все это так и должно было быть. В Анкоридже плохо, а в Кивалине просто ужасно. Неудачник махнул рукой.
— Пошли, пошли за золотом.
И они последовали за стариком, подобно голодным щенкам. Эти дикие далекие места, славившиеся когда-то невероятными находками золота, будоражили их воображение: еще немного хитрости, и золотые самородки в их руках.
Неудачник остановился и показал вверх по течению на изгиб реки. Береговая кромка уже покрылась льдом — приближалась зима.
— В реке большие самородки, — усмехнулся Неудачник.
— В реке? — переспросил Рейнольдс, морща лоб.
— Эта земля наша, эскимосская, — объяснил старик. — И в ней мы держим самородки.
— Послушай, друг, — строго произнес Рейнольдс, — ты же говорил, что имеешь большие золотые самородки. Как тот на фотографии. Где же они?
— В реке.
— Где тот, что на фотографии? — потребовал Портер.
— В реке.
Белые люди посмотрели друг на друга, плотно сжав губы.
— Я ведь только эскимос, — сказал Неудачник. — Найду большой самородок, сфотографирую его и бросаю обратно в реку, чтоб сохранился. Ну зачем золото старому эскимосу?
— Слушай, Неудачник...
— Я покажу, как найти самородок.
Техасцы молчали.
— Оставайтесь в Кивалине на всю зиму. Весной лед в реке растает, и я покажу вам, где найти большой самородок.
— Проклятый придурок...
— Может, и проклятый, но не придурок, — ухмыльнулся старик.
Рейнольдс и Портер горели негодованием. Они повернулись с достоинством, на которое только были способны, и, устремив свой взгляд вперед, поспешили в поселок мимо глазеющих, улыбающихся, хихикающих и смеющихся эскимосов. Потом они завели моторы, и их «Навахо» с ревом промчался по гравиевой полосе со скоростью, которую только могли развить его два мотора.
Неудачник медленной походкой направился в поселок. Он проследил, как самолет скрылся в необъятном небе Аляски. Старик был дома и сэкономил сто шестьдесят восемь долларов на билете авиакомпании «Виеч консолидейтет эрлайнз». Этот метод срабатывал каждый раз.
Перевел с английского Алексей Азаров
(обратно)
Оглавление
Новая поправка лоции
Край вождя Гуама
Под созвездием Ориона
Урановый бум в Ямбилууне
Шестьдесят шесть попыток Фернандо да Силва
Плоды для крылана. Дж. Даррелл
Несостоявшийся рай
Школа Дрем-Хеда
Путешествие на озеро Туркана
Неизвестный «квадрат Леваневского»
«…Сыскано мною у села Петрово»
Каменный зверинец
Учпулак
Шпагоглотатель. Рон Гуларт
На вес золота, и дороже
Желтая лихорадка. Стив Шерман
Последние комментарии
43 минут 58 секунд назад
51 минут 47 секунд назад
1 час 1 минута назад
1 час 6 минут назад
2 часов 35 минут назад
2 часов 38 минут назад