[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА (повести и рассказы)

Предисловие
«…Одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и науке, — это желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей… Но к этой негативной причине добавляется позитивная. Человек стремится… создать в себе простую и ясную картину мира; и это не только для того, чтобы преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы в известной мере попытаться заменить этот мир созданной им картиной».Две опасности всегда подстерегают разыгравшееся воображение: оторваться от повседневных слез и страданий своих собратьев и забыть о тех вечных законах, которыми определяется вся наша жизнь. Может быть, поэтому наши соотечественники пытались изобразить чудо как элемент действительной жизни, как силу, с которой каждый может столкнуться в повседневности. Это и становится основным направлением в фантастике русских романтиков первой половины XIX века. Она не была еще, строго говоря, научной, но истоки следует искать именно здесь: человек пытался разобраться в окружающем мире, восполнить воображением недостаток знания, совместить в своих представлениях понятие единства и извечную противоречивость бытия. Необычное, вклиниваясь в реальную действительность, становилось органичной частью природы, внутренним миром человека. Оно освещало новым блеском противостояние начал добра и зла, подчеркивая чистоту одного и углубляя демоническую сущность второго. Оттенок мистицизма, нередко присущий фантастическому, становился дразнящей воображение читателя «изюминкой», сталкивал случайное и неизбежное. Воображаемое облекалось в плоть физически ощутимых реалий, поднимало дух над пошлым бытом. Конечно, в злой силе, с которой сталкиваются герои фантастических повестей первой трети XIX в., легче всего увидеть одно из воплощений дьявола. Но знаменательно, что полной уверенности в объяснении «чертовщины» не было ни у автора, ни у самих героев. Излюбленный прием того времени — двойная мотивировка событий, не дававшая читателю окончательно решить, вмешалась ли в жизнь героев нечистая сила, или они стали жертвой цепи невероятных совпадений. Позднее этот прием получит название завуалированной (неявной) фантастики. Достоевский назвал «верхом искусства фантастического» повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» именно за то, что читатель до самого конца не находит однозначного объяснения видению Германна: «вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов». Утверждая, что «фантастическое в искусстве имеет предел и правила», Достоевский считал одним из главнейших законов необходимость предельного сближения необъяснимого и привычного: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальностью, что Вы должны почти поверить ему». Правдоподобие невероятной ситуации может основываться, с одной стороны, на особенностях натуры героя, на анализе условий жизни и с другой, — на предвосхищении новейших научных открытий и изобретений, но это более характерно уже для фантастики XX века. В любом случае предметом изображения становится само познание, соотношение интуиции и логики, догадки и расчета, иллюзорного и истинного. Показательны в этом отношении повествования А. Погорельского «Пагубные последствия необузданного воображения» и Н. Полевого «Блаженство безумия», с описаниями оптических опытов и мнемо-физико-магических вечеров. Духи из языческих преданий вдруг одушевили природу, дав жизнь фольклорной фантастике, мир которой полон таинственных существ, незримо вершащихся судеб, осмысленно текущих процессов естественного бытия. Обостренный интерес романтиков к народным обрядам и фольклору отразился и на фантастике XIX в., дав жанровое, «сказочное» ответвление («Русалка» О. Сомова), где необычное принципиально не нуждается в объяснении. В настоящем сборнике условно вычленено несколько разделов, в которых хронологический принцип совмещен с характерным для определенной эпохи отношением к необычному. В первый вошли повести, ставшие классическим образцом «завуалированной» фантастики, второй составили фольклорные романтические рассказы. Далее следует философская фантастика, приключенческая и социальная. В глубокой древности народ создал мифы. Ими отмечено «детство» человечества. Время идет. Меняется жизнь, иными становятся и мечты. Воображение рождает новые легенды. Русскому читателю одним из первых раскрыл миф фантастики в своих балладах В. А. Жуковский. К народным преданиям тянулся А. С. Пушкин, в 20-летнем возрасте написавший поэму «Руслан и Людмила». Но реальная жизнь рождала фантасмагории совершенно другого характера. Разве не фантасмагоричным казался Петербург, являвший собой отталкивающее соединение роскоши и нищеты, красоты и безобразия, искренности и фальши, веселья и одиночества? Не был ли этот каменный город, с его прямыми проспектами, чуждым сыновьям деревянной Москвы, с кривыми улочками и русским Кремлем? И разве все, что сталкивалось с Петербургом, не теряло своего лица, не принимало другой, защитный облик — маску? И кто, как не Пушкин, лучше знал, что Петербург не прощает расслабленности, ошибок. Здесь самое невинное желание искажается и становится преступным. Черт, обольщающий героев «Уединенного домика на Васильевском», — плоть от плоти Петербурга. Он ничем не выделяется в светском обществе. Разве только более удачлив. Интуитивно чистые натуры сторонятся его; но зло и разврат, которые несет с собой Варфоломей, порождены не потусторонней мрачной силой, а реальным миром русского дворянства; его нравами, мерой ценностей. Реальное и фантастическое в «Уединенном домике» развиваются параллельно. И все же трудно отделить их друг от друга. Обыденность все время готова к превращению, постоянно может обнаружить свое сверхъестественное содержание. Вот Павел возвращается домой на извозчике. Он едет «невесть по каким местам». Сначала он удивляется, потом тревожится, наконец, с ужасом замечает на санях апокалипсический номер 666. Да полно, извозчик ли везет нашего героя? «Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаха ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и, когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом; „Потише, молодой человек; ты не с своим братом связался“. Вспомним аналогичное превращение: в повести Гофмана „Золотой горшок“ студент Ансельм только берется за дверной молоток, как тот превращается в лицо зловредной старухи колдуньи. Но внешнее сходство ситуации обманчиво. Ведь у Гофмана борьба разворачивается между двумя ненавидящими друг друга Духами (хотя Ансельм еще ничего не знает об этом). Любой предмет, любой человек может стать оборотнем, втянуть героя в опасную ситуацию. Реальность постоянно несет в себе угрозу. Завершая повесть, Пушкин спрашивает — скорее у себя, чем у читателя — „Откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела..?“ Судьба пушкинских Павла и Веры предопределена: гибель неизбежна, потому что они психологически готовы к встрече со сверхъестественным. Это-то и обеспечивает преимущество „чертей“. Павел и Вера не искали помощи таинственной силы, но не сумели противостоять ей. К тому же четкой связи между исполнением тайных желаний Павла (знакомство его с графиней и проч.) и действиями Варфоломея нет. Но тут же возникает более глубокий вопрос: задумываемся ли мы над тем, какой ценой оплачивается исполнение наших желаний, ради чего продаем мы душу — не дьяволу, так высшему свету, в который так стремится Павел? Герой „Страшного гадания“ А. Бестужева-Марлинского сумел спастись только потому, что вовремя остановился, внял голосу рассудка, предостерегавшего от опрометчивого шага. Черт ли в самом деле стал его спутником, или сбылось предновогоднее гадание, но рассказчик воочию представил драматические последствия своих достаточно невинных намерений. Одна недозволенная встреча — и вот он уже увозит возлюбленную от гнева мужа, от насмешек общества; убив соперника, вдруг понимает, что собственное чувство превращается в огонь адский. Традиционные элементы загадочного оборачиваются в повести символами: сон-предостережение, мотив утраты пути и дорожной путаницы, отражающий противоречивость чувств и намерений самого героя, смешение в жизни законного и незаконного, дозволенного и недозволенного; подчеркивание в облике спутника дьявола печати разврата. В сущности, молодой офицер спасается потому, что осознал власть потусторонней силы над земным. Аполлон Григорьев в одной из своих статей заметил о „Страшном гадании“: „Замечательно, что Марлинский, этот огромный талант допотопной формации, оканчивает свою повесть „Страшное гаданье“ мыслию — что призрачный мир, если только он глубоко воспринят душой, оставляет в ней такой же след, как и мир действительный“[1]. Впрочем, само предостережение — уже результат взаимовлияния двух миров, вмешательства высших сил, на сей раз благотворного. Таинственному внушению подчиняется и молодой художник Лугин, переселяющийся на другую квартиру под влиянием голоса, настойчиво диктующего адрес. Портрет старика, висящий в меблированной квартире, повергает героя в состояние грусти и лени. Самое же странное, что Лугин почти не удивился тому, что изображение начало оживать по ночам, и даже согласился играть с ним в карты, несмотря на внушающий художнику непреодолимый ужас залог старика. И все это ради короткого видения: „склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая… она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке“. Лермонтов не успел закончить свой набросок, и мы так и не знаем, что же дальше случилось с Лугиным и увиденною им красавицей. Впрочем, вмешательство сверхъестественных сил не сулит герою ничего хорошего. Прочитав „Штосс“ в 1845 году, Белинский счел нужным отозваться об этой публикации: „Несмотря на то, что его содержание фантастическое, читателя невольно поражает мастерство рассказа и могучий колорит, разлитый широкою кистью по недоконченной картине. С неприятным чувством доходишь до конца этого отрывка, в котором повесть не доведена и до половины, и становится тяжело уверить себя, что конца ее никогда не прочтешь…“[2] Однако замысел Лермонтова не пропал. Он послужил исходным материалом, например, для „Хозяйки“ Достоевского. Любопытная деталь: во всех подобных произведениях герой, столкнувшись с враждебным потусторонним миром, внезапно обнаруживает, что привычные земные связи нарушены, ощущает себя одиноким. Это одиночество трактуется как прямое следствие вмешательства сверхъестественного. Так, Антиох в повести Н. Полевого „Блаженство безумия“ воспринимает мир как пустынь. Не как пустыню, а как пустынь, место уединения и размышления. Отчуждение от земного приводит Антиоха в уныние, несмотря на то, что он никогда не отличался общительностью, любил уединение. Пусть его взгляд стал острее, проницательнее, но это уже не доставляет радости. Слишком несовершенными кажутся люди и сам мир. Совершенство же возможно только в другой жизни. „К сожалению, глаза людей заволакивает темная вода… Тяжело тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпение сонных. Пустыня жизни ужасна — страшнее пустынь земли) Как грустно смотреть, если видишь и понимаешь, чем могли б быть люди и что они теперь?“ — вот исповедь Антиоха, которого больше всего тяготит непонимание. Он жаждет поделиться с людьми истиной, внезапно открывшейся ему как далекое воспоминание о настоящей жизни, в которой душа обретает покой и полноту. Но окружающие, не исключая даже ближайшего друга Леонида, склонны приписывать эти „воспоминания“ не прозрению, а нервному расстройству. Фантастическая версия событий, которой придерживается Антиох, практически вытесняется из повести реальной. Прямого вмешательства потусторонних сил в жизнь героев мы не наблюдаем. Встреча Антиоха и Адельгейды, взаимная любовь, „узнавание“ родной души друг в друге происходят на наших глазах, в них, казалось бы, нет ничего таинственного. Но чем сильнее герои повести уверены в безумии Антиоха, тем более загадочной кажется читателю болезнь и смерть Адельгейды. Впечатление необычного создается с помощью полунамеков, штрихов, недоговоренности. Рассказчик, кажется, и верит Антиоху, но до какого-то предела. „Антиох открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный — мир, в котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением… Душа Антиоха была для меня этим новым волшебным миром“. И вдруг — вторгается нечто неведомое, что почувствовать может только Антиох, увлеченный идеями преджизни, переселения душ. Эта неведомая, фантастическая сила — любовь. Она управляет всеми дальнейшими событиями в повести, придает трагический оттенок мечте Антиоха, обрекая его на гибель. Не потому, что в этой любви есть что-то злое или недостойное. Но человек, выделившийся из общей массы, соприкоснувшийся с частицей иного, высшего мира, — в своем, реальном, уже обречен. Ему не найти не только счастья, но даже покоя. Любовь к Адельгейде — певице и артистке — внушает обществу только подозрение. И одно это делает жизнь влюбленных на земле невозможной. Та же романтическая ситуация, когда юноша-аристократ влюбляется в прелестную дочь плебея, возвысившегося своим искусством до сомнительной чести увеселять господ, использована в повести А. Погорельского „Пагубные последствия необузданного воображения“. Но подход у авторов разный. Если Адельгейда Полевого — обыкновенная девушка, то Аделина — кукла, сделанная искусным механиком и чревовещателем Вентурино. Мотив кукольности, искусственности, автоматизма позволяет точно установить источник сюжета, выбранного А. Погорельским. Это повесть Гофмана „Песочный человек“. Погорельский повторяет (причем намеренно) сюжетные ходы немецкого писателя, изменяя не только характеры героев, но и всю манеру повествования. Если у Гофмана доминирует чудесное, то Погорельский невероятное превращает в повседневность. По справедливому замечанию М. А. Турьян — исследовательницы творчества Погорельского, он внес социальные мотивы, открывая тем самым дорогу Полевому и Одоевскому[3]. Социальная сторона оказывается сильной в повести В. Одоевского „Косморама“. Успех графа Б., которому помогают адские силы, — доказательство несправедливости социального устройства. Любопытна расстановка характеров в системе двух „зеркальных“ миров-аналогов. Каждый человек имеет своего двойника в ином мире, „окном“ в который стала детская игрушка — косморама. Но двойничество не означает идентичности: в „звездном мире“ недалекий доктор Бин — умен, простодушная Софья — демонична. И только граф Б. всюду одинаков. Это негодяй, истязающий жену и детей. Странно соотносятся у Одоевского миры-аналоги. Как правило, земной человек не подозревает о существовании иной сферы. Знания и власть двойников гораздо глубже и сильнее. Исключение составляет только Владимир Петрович, которому на земле открывается неведомая сущность мироздания. Посвященный в тайну, он может видеть „обе стороны“, уловить связь событий, на первый взгляд далеких друг от друга. Но это проникновение абсолютно не зависит от его воли и желания. Сложная иерархия земного и звездного бытия (причем звездное, кажется, еще не самое высшее) дана писателем на выпуклом и достоверном фоне повседневности. Фантастическое пронизывает вое действие повести, кажется порою невероятным, почти мистическим. Не случайно близкая знакомая Одоевского, Н. Н. Ланская, отзываясь о „Космораме“, вспоминает известную своими мистическими увлечениями графиню Ростопчину: „Сегодня день мой начался с 5-ти часов утра и начался тобою. — Читала твою „Космораму“. — Если ты спросишь, нравится ли мне она? я скажу тебе: вероятно. Если бы я могла понять ее, то, конечно, она бы мне очень нравилась, но надо быть г. Ростопчиной, чтобы вполне понять ее“. Действительно, сверхъестественных событий в повести хватит с избытком. Герой наблюдает в чудесное окошко косморамы знакомых и незнакомых людей, постигает тайные пружины их поступков, приобретает способность в звездном мире казнить и преследовать несчастных. Невинная „земная“ девушка Софья, хитрая и расчетливая в „звездном мире“, спасает героя от гибели ценой жизни опять-таки своего земного двойника. Мертвец (граф Б.) с помощью адских козней возвращается к жизни и мстит своим обидчикам. Словом, везде и всюду следы вмешательства потусторонних сил. Кажется, нет на земле ничего и никого, не связанного с Зазеркальем, не испытавшего (даже не сознавая этого) влияния и давления сверхъестественного. И это так же странно, как сочетание предопределенности и свободы в поведении героя. Условия „игры“, то есть жизни, заданы заранее, приблизительно известна реакция, то есть поведение человека в этой ситуации. Но возможны неожиданности. Скажем, вмешательство доктора Бина, посвятившего Владимира Петровича в тайну, „воскресение“ графа Б., смерть Софьи. Всего этого было бы достаточно, чтобы смутить, заставить отказаться и от любви, и от чудесного дара. Однако герой Одоевского с завидным упорством добивается своего. Он не просто орудие в руках судьбы, поскольку в „звездном мире“, по собственному признанию, — „действователь“. Впрочем, и в реальной жизни он ведет себя очень активно, отличаясь этим от героев предшествовавших фантастических произведений, с покорностью принимавших свою судьбу и даже самую гибель. Проблематика Одоевского выводит повесть за рамки противоборства реального и фантастического. Сверхъестественное остается непостижимым, но из области мистики Одоевский переносит его в область физически закономерного, хотя и непонятного. Основа синтеза реального и фантастического — человек гармоничный и чистый. Вот почему Софья завещает герою: „Чистое сердце — высшее благо; ищи его“. Отчаяние не сводит Владимира Петровича с ума. Потрясенный и гибелью Элизы — своей возлюбленной, и самопожертвованием отвергнутой кузины, сам он все же остается жив. Но, очевидно, ему легче было бы умереть… Фантастическое нередко лишь форма выявления социальной трагедии, самой сущности века. Гибнет студент Вальтер Эйзенберг в одноименной повести К. Аксакова — героя преследует злая сила, которая неизбежно становится частью его самого. Разоряется и теряет царство Нурредин в новелле И. Киреевского „Опал“. И он также слишком поздно постигает простую истину: и зло, и добро, и реальность, и мистика — внутри нас. Завершают традицию психологической и философской фантастики XIX века повести И. Тургенева и А. П. Чехова. На первый взгляд, источником фантастического могущества по-прежнему остаются силы внешние. У Тургенева — Эллис, идеальное существо, которое показывает рассказчику то одну, то другую сторону жизни, путешествуя не только в пространстве, но и во времени. Основной прием Тургенева в „Призраках“ — контрасты. Психологические, эмоциональные, социальные. Герой, созерцающий красоту природы, внезапно, почти без всякого перехода оказывается в центре страстей и переживаний человеческих, наблюдает за шествием Цезаря, видит бунт Стеньки Разина. Душа художника внимает страданиям и горестям людским, осознает несправедливость социального устройства, но не находит выхода. Эллис настойчиво влечет своего избранника в прошлое, показывает ему сцены насилия и жестокости, которые он предпочитал (и предпочитает) не замечать. Вспугнутой птицей удаляется он от тяжелых впечатлений, Эллис даже упрекает его в малодушии. Ведь художник не должен отворачиваться от боли и несправедливости. Но было бы слишком просто видеть в „Призраках“ лишь аллегорию. Историк М. М. Ковалевский находил в повести „всю субъективно понятую историю человечества“. Сам Тургенев ценил в „Призраках“ ту же субъективность, лирическое начало, то, что критик П. В. Анненков назвал „элегией“, „историей художнической души“. Действительно, в свою „фантазию“ Тургенев внес слишком много личного, слишком много реальности, нарушая тем самым соотношение объективного и субъективного, чудесного и материального. Ф. М. Достоевский отмечал: „Призраки“ похожи на музыку», «наполнены тоской». Эта тоска вызвана как будто бы предчувствием. Превращение затрагивает не только героя, но и его спутницу. Эллис гибнет, так как ее преследуют какие-то высшие силы. Как бы ни была фантастична фигура «на бледном коне», в ней легко угадать апокалипсического всадника — Смерть, «ничтожество», по выражению Тургенева. Не потому ли гибнет Эллис, что она воплощает память? Если не считать несколько странной слабости да переживаний, герой Тургенева после встречи с Эллис не изменился, он не испытал никакого превращения, только способность летать покинула его навсегда. Тургенев сохранил еще внешнего носителя фантастики, даже попытался придать ему черты традиционного существа — вампира, но поставил под сомнение необходимость этого носителя[4]. Еще более очевидна условность явления-призрака в повести А. П. Чехова «Черный монах». Черный монах рассматривается и автором, и персонажами повести, даже самим героем, как проявление болезни, галлюцинация. Однако это видение номинально остается носителем фантастики, поскольку именно встреча с ним кладет начало всем происшествиям. Но первопричина происходящего — любовь Андрея Коврина к Тане Песоцкой. С первой встречи (после многолетней разлуки) он почувствовал увлечение. Вскоре (едва ли не на следующий вечер) Коврин уже рассказал легенду о черном монахе — не то быль, не то сказку, не то сон. Он даже не помнил, слышал ли он от кого-то об этом монахе, или придумал эту историю. А вскоре и сам увидел черного монаха. Воочию. Душевная болезнь Андрея Васильевича описана Чеховым подробно и профессионально достоверно. Но — так же, как в «Блаженстве безумия», — чем обстоятельнее убеждают нас в болезни героя, тем меньше мы в это верим. Может быть, потому, что она связана с развитием таланта, с оригинальностью, то есть с самой личностью Коврина. Таня говорит ему в первый вечер: «Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры или с мебели чехлы снимали». Так возникает в повести мотив «футлярности», ограниченности. Андрей Коврин в большей — по сравнению с другими — степени наделен свободой и способностью преодолевать узкие рамки действительности. Потому он — единственный, кто смог увидеть черного монаха и даже разговаривать с ним. Но и сам Коврин несет в себе элементы «футлярности». Его болезнь не в галлюцинации и не в том даже, что Андрей Коврин считает себя избранным. Черный монах— отражение внутренней идеи Андрея. Если Эллис раскрыла своему возлюбленному новые впечатления, подарила радость полета, но и вместе с тем показала ему несчастья человечества в прошлом и в настоящем, то черный монах излагает самые общие идеи, вероятно, те, что не раз уже приходили в голову герою. Он замыкается на сознании своего совершенства и исключительности. «Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими. Ты служишь вечной правде,» — говорит Андрею черный монах. Но в том-то и дело, что еще не служит. Нет у него той идеи, которой бы можно было отдать свою жизнь. Инстинктивные стремления безрезультатны: в чем заключается высшая правда, Коврину неведомо. Что страшнее для личности? Мания величия или сознание своей заурядности? Вот вопрос, который ставит перед читателем Чехов. Иную модель мира предлагала фольклорная фантастика, опиравшаяся на народные поверья, обычаи, традиции. Она также была весьма популярна, особенно в 20—30-е годы XIX века. В таком «простонародном» духе писали, например, О. Сомов, М. Загоскин. Основой для их рассказов становилось таинственное происшествие, связанное с вмешательством нечистой силы. Сама невероятность события как будто исключала возможность того, что оно произошло в действительности. В то же время народное сознание воспринимало их как реально существующие. В рассказе О. Сомова «Русалка» старуха мать хочет вернуть к жизни, воскресить дочку, которая с горя утопилась и превратилась в русалку. К кому же было обратиться бедной, как не к колдуну? Да только ничего не помогло — русалка не смогла и не стала жить в доме по-прежнему, как все… Черти из рассказа М. Н. Загоскина «Нежданные гости», наведавшиеся к помещику в день смерти его холопа, — род мороки, наваждения. Русалка и оборотни О. Сомова и М. Загоскина — персонажи сказочные, но они намеренно включены авторами в реальную обстановку. Более того: вмешательство волшебных сил не вносит существенных перемен. Фольклорная фантастика отличается от сказочной, пожалуй, большей детализацией, большим вниманием к быту. Но и это обстоятельство не может быть решающим критерием (провести четкую границу между фантастикой и сказкой, вообще говоря, очень трудно[5]). Так, история Иоланды, поведанная А. Ф. Вельтманом, очень далека от русской действительности. Автор изображает средневековую Францию. Обстановка, нарисованная писателем, схематична и вряд ли точно передает нравы и обычаи средневекового человека. Но вот народные поверья и суеверия отражены точно. Это и позволяет отнести «Иоланду» к типу фольклорной фантастики (конечно, не бесспорно). Вельтман подробно и со знанием дела описывает искусство церопластики, показывает, как Иоланда решила воспользоваться им для мести. Она должна проткнуть восковую фигуру своей соперницы и затем пригласить монаха, чтобы тот совершил обряд над «умирающей». Таков обычный порядок колдовства. Но он неожиданно нарушился. Вымысел не в том, что можно убить реального человека, убивая его подобие. Чудо заключается в другом: восковая статуя вдруг перевоплотилась в реальную девушку, и бездыханное тело ее в доме убийцы выдало тайну преступления… На этом, однако, загадочность не кончается: спустя некоторое время обнаруживается, что само убийство — обман, и вот настоящая Сан-ция с неподдельным удивлением и ужасом читает о своем убийстве. Непонятна дальнейшая судьба Санции и ее спутника. Автор намекает, что они погибли. Так ли это? Тайна не только не прояснилась, но еще больше запуталась. Неоднородность фольклорной фантастики, ее тяготение к философской подтверждает рассказ А. К. Толстого «Амена», действие которого развертывается в Риме времен первых христиан. Не то сама Венера, не то посланница Сатаны— Амена заставила юношу-христианина Амвросия для спасения его друга и невесты отречься от своей веры, забыть любовь. Но помощи он так и не получил. Стоило отречься герою от этой «ужасной женщины», от ее богов, «от ада и от сатаны», «как исказилось лицо Амены, изо рта побежало синее пламя; она бросилась на Амвросия и укусила его в щеку». Спасти друзей не удалось, но от власти Амены он избавился. Как видим, А. К. Толстой и А. Ф. Вельтман попытались мотивировать поступки и душевные движения, исходя из архаических представлений. По-иному используется склонность к суевериям в фантастике конца XIX — начала XX века. Ограниченность реальных знаний в смеси с ложными представлениями, неумение, даже нежелание задумываться над последствиями своих поступков и помышлений приводят к гибельному исходу Якова Алексеевича Саранина («Маленький человек» Ф. Сологуба). В центре рассказа прозаическая, бытовая идея. Саранин ищет средство, которое бы помогло жене уменьшиться: ему бы хотелось уничтожить досадную диспропорцию, существующую в их семье. Но, кроме естественного стремления наладить супружескую жизнь, им движет чувство зависти, обиды. Неизвестный, продающий ему нужный эликсир, — это, в сущности, его двойник. Ведь зло заложено в самом Якове Саранине. Таинственный торговец возникает в тот момент, когда коварный умысел созрел, пытается предостеречь Саранина, но после воплощения задуманного— исчезает… Герой не внемлет предупреждениям, забывает об осторожности — и чудесный эликсир губит его же, уменьшая до микроскопических размеров. Сологуб не ограничивается рассказом об ошибке Саранина. Он развивает свой сюжет, изображая, как меняется отношение окружающих к Якову Алексеевичу. Если в ранней фантастической повести герой, попавший под влияние неведомых сил, испытывал отчуждение, непонимание, то Саранин уже просто отторгается. Он даже не возбуждает сочувствия и жалости в своей жене Аглае. Некая предприимчивая фирма использует все укорачивающегося Якова Саранина для рекламы своих изделий, выставляя его в витрине, — и Аглая соглашается отдать мужа «внаймы». В конце концов Саранин уменьшается до размеров, недоступных невооруженному глазу. Он не умирает — он как бы выпадает из жизни, не вызывая ни в ком ни сожаления, ни даже любопытства. Более традиционно, в духе «фантастики приключений» и романтической фантастики XIX века, написаны «Звезда Соломона» А. Куприна, «Граф Калиостро» А. Н. Толстого и «Агасфер» Вс. Иванова. Иван Цвет из повести «Звезда Соломона» волею случая приобретает власть над миром, каждое его желание должно исполняться, ибо он нашел магическое слово, которому подчиняются духи зла. И что же? Это оказывается для него тяжело и утомительно. Цвет не пожелал узнать тайн мироздания, но в то же время не захотел и подчинить себе весь мир. Немножко наивный, чудаковатый и простодушный, Иван тяготится праздной обеспеченной жизнью. Он обладает «чистым сердцем», которое безуспешно искал герой Одоевского. Но эта чистота сопряжена с неразвитостью, с суевериями и вряд ли была бы способна удовлетворить взыскательных персонажей «Косморамы». Магическая сила доставляет Цвету одни только хлопоты. Он вынужден контролировать каждое, даже мимолетное желание, чтобы случайно не наделать беды. Например, стоило ему мысленно послать своего собеседника к черту — и тот убирался прямо из вагона движущегося поезда. В другой раз, увидев рабочего на куполе колокольни, у него мелькнуло: «А что, если упадет?» — и человек, действительно, сорвался. Только отчаянный крик Ивана: «Не надо, не надо!» позволил несчастному спастись. Еще один случай — в цирке, когда в аналогичной ситуации упала акробатка. Возникает парадокс: полученная сила становится для Ивана Цвета и для окружающих источником неприятностей и беспокойства. Он может управлять миром, но не способен справиться с самим собой. Как и герой «Косморамы», Цвет готов избавиться от этого обременительного дара. Наконец, ему удается обрести желанную свободу «такой понятной, простой и милой» жизни мелкого чиновника. Прощаясь со своим «хозяином», черт удивляется, что этот «чистый человек» не воспользовался возможностями создавшегося положения и добровольно отказался от власти. В рецензии на «Звезду Соломона» критик Вячеслав Полонский писал: «В ней так искусно и увлекательно перемешана быль с небылицей, явь с фантастикой, так остро и выпукло зарисованы „странные и маловероятные события“ из жизни маленького чиновника, сведшего знакомство с чертом, — что можно с уверенностью: сказать: „Каждое желание“ (первоначальное название повести Куприна. — В. Г.) станет одной из самых популярных вещей для любителей „таинственного“, „загадочного“, „неразгаданного“». Встреча мелкого чиновника и черта — сюжет традиционный для русской фантастики. Но если Пушкин, Бестужев, Одоевский пока-, зывали, как таинственная сила овладевает человеком и подчиняет его себе, то герой Куприна сам действует активно. Без желания Цвета «нечисть» бессильна, она подчиняется ему. Сюжетная схема XIX века наполняется новым содержанием. Куприн не дает ответа на вопросы, которые ставили Пушкин и другие романтики. Сама ситуация изменилась — и Куприн это показывает. Известным сюжетом воспользовался и А. Н. Толстой в «Графе Калиостро»: юноша влюбился в жену (более традиционно — в дочь) чародея-чернокнижника. При всей занимательности сюжетной интриги она все же вторична, повторяет во многом «ходы» русских романтиков, особенно писавших о «безумных». Повествователь вроде бы совершенно не заботится о правдоподобии. Но именно потому, что он не пытается объяснить чудо, мотивировать поступки героев, их психологию, читатель как-то сразу принимает условия «игры», ненавязчиво, но настойчиво предлагаемые ему автором. Эти условия включают, между прочим, и чуть-чуть наивное представление о мире как о застывшей потенциальной жизни, которую можно разбудить. Так незаметно «игра» переходит в жизнь, и не новая в общем история об ожившем изображении оказывается увлекательной и своеобразной. Не столь известна широкому читателю легенда об Агасфере. Но в литературе она разработана (на это указывает сам Вс. Иванов) довольно полно. Поэтому обращение к этой теме не дало бы желаемого эффекта, если бы автор не сделал своего героя Илью Ильича не только активно действующим лицом, но и победителем в борьбе с фантастической силой. Но если мы попробуем спросить — во имя чего ведется эта борьба, что — кроме желания сохранить или устроить свою жизнь — воодушевляет героев произведений? — ответ найти будет трудно. Фантастика в этих произведениях. становится самоценной, она — конечная цель. Другое дело рассказы А, Грина, В. Брюсова, А. Платонова, Е. Зозули. Думается, к ним применимы слова С. Лема: «Странный феномен образует только внешнюю оболочку художественного мира; ядро же его составляет вовсе не фантастическое содержание»[6]. Поэтому, если применить классификацию С. Лема, к «конечной фантастике» мы должны отнести рассказы О. Сомова, М. Загоскина, А. Вельтмана, к другой же ее разновидности, «несущей сигнал»,—А. Погорельского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова. Так, внешней оболочкой служит фантастическая канва в рассказе А. Грина «Ночью и днем». В первоначальном варианте он назывался точнее — «Больная душа». Командир английского военного отряда, пробирающегося через джунгли, по ночам перевоплощается в туземца и «мстит» завоевателям, убивая часовых. Причем днем он не помнит того, что делал ночью. Никаких объяснений — ни рациональных, ни сверхъестественных — автор не предлагает. Грин пользуется особым приемом, который можно назвать «удвоением фантастического», когда разъяснение первоначальной тайны само оказывается новой загадкой для читателя и не находит разрешения в рамках рассказа. Подчеркивая алогизм, разрыв причинно-следственных; связей в поведении майора ночью и днем, писатель показывает, что двоемирие в конечном счете разделяет самого человека, причем граница проходит между различными пластами в сознании персонажа, чаще всего отчленяя «высокое» от пошлого. Нечто похожее происходит и с героиней рассказа В. Брюсова «В зеркале», которая ведет смертельную борьбу со своим отражением, стремящимся вытеснить в хрупкий стеклянный мир свое настоящее «я», чтобы выбраться из зеркала и занять место человека, Происходит ли эта борьба в действительности, или в больном воображении женщины? Равно возможно и то, и другое объяснение… Стороннему наблюдателю не отличить подлинного человека от «зазеркального». А двойнику так легко потом разбить зеркало, в котором заключен его вечный враг… Здесь тоже налицо раздвоение сознания. Но соотношение реального и фантастического не изменяется. Брюсов противопоставляет героиню не всему окружающему миру, который не понимает ее, а самой себе. Безумие в данном случае — способ познания своего «я», борьба за него. К жанру утопии-предупреждения, популярному в XX веке, относятся рассказ А. Платонова «Потомки солнца» и повесть Е. Зозули «Гибель Главного Города». Поверив в свои силы, людям легко переоценить собственное могущество. Так произошло с персонажами рассказа А. Платонова «Потомки солнца». Человечество, застигнутое врасплох всемирной катастрофой, находит возможность объединиться ради великой цели — выживания. Все чувства, даже любовь, оказываются бесполезными. Энергия, тратившаяся на эмоции, вкладывается в дело. Кажется, настало время праздновать победу над стихией. Но это «пиррова» победа, ведь и сами люди изменились: превратились в вечных работников, которым недоступно наслаждение красотой, не нужна любовь, непонятно и не нужно различие мужчины и женщины. Единственное их увлечение — познание. Именно оно толкает на поиски другой родины, другого мира. Может быть, там удастся человечеству вновь обрести себя? Пока же рассказчик — «сторож и летописец опустелого земного шара» — обретает бессмертие. Это бессмертие — память… В рассказе Платонова Земля, как птичье гнездо, покинутое выросшими птенцами, еще не знающими ностальгии. «Гибель Главного Города» Е. Зозули — повесть о выборе между свободой и сытостью. Захватчики строят над поверженным городом верхний ярус. Побежденным вход туда запрещен. Всем, кроме неба, дневного света, они обеспечены. Забыты нужда, голод. Жителям Главного Города не хватает самой малости — того, что Твардовский назвал «правдой сущей». Для них создано даже особое министерство иллюзий, чтобы показывать не существующее для «плебеев» небо, солнце, которое заслонено Верхним Городом. И многим нравилось жить в обмане. Но иллюзии, как показывает жизнь, все-таки порою рассеиваются. Вспыхивает восстание. Гибнут оба города. Но над кровью, безумием и ужасом торжествует чистое небо.А. Эйнштейн. Принципы научного исследования.
* * *
Еще немецкий романтик Жан-Поль Рихтер показал два ложных способа создания фантастического. Первый — в том, чтобы «разоблачить» чудо, материализовать его. Второй, напротив, нанизывать чудеса одно на другое, не считаясь с правдоподобием. Истинная фантастика, считал Рихтер, должна не разрушать чудесное, но заставить его соприкоснуться с нашим внутренним миром. Немецкий романтик сравнивал истинную фантастику с прекрасной «сумеречной бабочкой». При виде этой «сумеречной бабочки» пробуждаются тайные желания человека, яснее становятся скрытые движения души… Впрочем, «тайные» не означает только неведомые. Высшая тайна — в самом мироздании, в его организации. Она становится доступной, когда возникает своего рода «гармония» или понимание, соприкосновение между душой человека и Вселенной. Для такого соприкосновения нужно, разумеется, особое отношение к чуду как к чему-то, что реально присутствует в нашей жизни. Сходные мысли можно найти у В. Ф. Одоевского. В 1836 году в статье «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» он подробно писал о поэтике тайны, сверхъестественного. «Фантастический род, на который была также мода в Европе и который, может быть, больше, нежели все другие роды, должен изменяться по национальному характеру, долженствующий соединять в себе народные поверья с неясною мечтою младенчества, — этот род целиком перешел в наши произведения и достиг до состояния настоящего бреда В этих произведениях не ищите убеждений, откровенности; не ищите новой точки зрения, которая делает рассказ занимательным если не по происшествию, то хотя бы по рассказчику; не ищите там глубоких изысканий, которые поднимают пред вами завесу… с тайных движений души современников… В сотнях томов вместо силы — напыщенность, вместо оригинального — чудовищное, вместо остроты — площадные шутки, — и между тем все чужое, все неестественное, все несуществующее в наших нравах». Одоевский также отстаивал чудо «сумеречной бабочки». Он знал: фантазия не должна подменять глубоких изысканий, ее задача — дать форму для их выражения, когда бессильными оказываются реально-бытовые ситуации. Закон этот действует и сегодня. Правда, современная фантастика немного дидактична, из всех известных видов чудес признает один — научное открытие. При этом элемент чудесного, то есть собственно фантастика, перестает играть роль нравственную. Необычное остается на уровне сюжета, но не оно определяет позицию героя. Решающее значение приобретает нравоописание, изображение профессиональной и бытовой сфер. Научная фантастика неожиданно воскрешает традиции «натуральной школы», «физиологического очерка». Особенно характерно это для школы И. Ефремова, в том числе для А. Казанцева, В. Щербакова и Ю. Медведева. Научное предвидение, социальный прогноз сочетаются со стремлением разглядеть непонятное и соприкасающихся с ним людей во всех подробностях. Отсюда снижение поэтической образности и рост значения чисто технических деталей — таково требование этого жанра. Но настоящее искусство и тут не ограничивается разработкой научной модели мира. В центре внимания писателя — человек и его место в данной модели: роль творца или жертвы, случайного свидетеля или вдумчивого исследователя, искателя приключений. Гейне писал, что мир кажется нам то пленительно юной красавицей, то ужасной брокенской ведьмой. Зависит это от того, через какие очки смотреть — выпуклые или вогнутые. Фантастика. позволила человеку увидеть сразу обе стороны действительности, убедила, что мир похож и на красавицу, и на ведьму. Такое наблюдение многих озадачивает, лишает покоя. Что делать — таков образ мира — и радующий, и пугающий. Понимать его двойственность, принимать ее смело и учит фантастика. Каждое желание человека может исполниться. Но всегда ли что нужно? Прежде стоит взглянуть на последствия через разные стекла. В. Н. Греков Иллюстрации и оформление А. И. ДобрицынаI
А. С Пушкин — В. П. Титов УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ (повесть)
Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкаетсярощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова, — всё погребено в серые сугробы, как будто в могилу. Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике, около означенной возвышенности, жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать всё, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Всё ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою. По праздникам в церковь; по будням утро за работою; после обеда мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею и другие священные книги или занимается с нею гаданием в карты — препровождение времени, которое и ныне в обыкновении у женщин. Вера давно уже достигла того возраста, когда девушки начинают думать, как говорится в просторечии, о том, как бы пристроиться; но главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца; она любила мать, любила по привычке свои повседневные занятия и, довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Старушка мать думала иначе: с грустью помышляла она о преклонных летах своих, с отчаянием смотрела на расцветшую красоту двадцатилетней дочери, которой в бедном одиночестве не было надежды когда-либо найти супруга-покровителя. Всё это иногда заставляло ее тосковать и тайно плакать; с другими старухами она, не знаю почему, водилась вовсе не охотно; зато уж и. старухи не слишком ее жаловали; они толковали, будто с мужем жила она под конец дурно, утешать ее ходил подозрительный приятель; муж умер скоропостижно и — бог знает, чего не придумает злоречие. Одиночество, в коем жила Вера с своей матерью, изредка было развлекаемо посещениями молодого, достаточно отдаленного родственника, который за несколько лет приехал из своей деревни служить в Петербурге. Мы условимся называть его Павлом. Он звал Веру сестрицею, любил ее, как всякий молодой человек любит пригожую, любезную девушку, угождал ее матери, у которой и был, как говорится, на примете. Но о союзе с ним напрасно было думать: он не мог часто навещать семью Васильевского острова. Этому мешали не дела и не служба: он тем и другим занимался довольно небрежно; жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут излишества в двух вещах: во времени и в деньгах. Он, как водится, искал и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от сих совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселения, ночные прогулки — всё призвано было в помощь; и Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей: иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе, в виде раскаяния или мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать Веру. Но мог ли он без угрызений сравнить себя с этой невинною, добродетельною девушкой? Итак, необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселия, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу; зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий; главное же, неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тягостнее — именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили иногда в голову странные подозрения; он даже решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея; но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. Притом: «Что мне за дело, — думал Павел, — какими средствами он добывает деньги? Ведь я за него не пойду на каторгу… ни в ад!» — прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей к тому же имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви; но Павел и сам был не слишком богомолен; притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга. Однажды в день воскресный, после ночи, потерянной в рассеянности, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни. Яркое солнце высоко блистало на горячем летнем небосклоне. Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как виноват я перед старухою, — сказал он себе; — в последний раз я был у ней, когда снег еще не стаял. Как весело теперь в уединенном сельском домике. Милая Вера! она меня любит, может быть, жалеет, что давно не видала меня, может быть…» Подумал и решился провести день на Васильевском. Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись, Варфоломей навстречу. Неприятна была встреча для Павла; но свернуть было некуда. — А я к тебе, товарищ! — закричал Варфоломей издали, — хотел звать тебя, где третьего дня были. — Мне сегодня некогда, — сухо отвечал Павел. — Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! пойдем. — Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы, — сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной руки Варфоломея. — Да! да! я и забыл об твоей Васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила; скажи, пожалуй, сколько лет ей? — А мне почему знать? я не крестил ее! — Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и твои лета и всех, кто со мной запанибрата. — Тем для тебя лучше, однако… — Однако не в том дело, — прервал Варфоломей, — я давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода чудная; я рад погулять. Веди меня с собою. — Ей-ей не могу, — отвечал Павел с неудовольствием, — они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени. — Послушай, Павел, — сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие. — Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же требовать. — Так! — отвечал Павел в смущении, — но теперь не могу исполнить этого, ибо… ибо знаю, что тебе там будет скучно. — Пустая отговорка: если хочу, стало, не скучно. Веди меня непременно; иначе ты не друг мне. Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал: — Слушай, ты мне друг! но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности? — Вот нашел присяжного волокиту, — прервал Варфоломей с каким-то адским смехом. — И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? честного слова я не дам: ты должен мне верить или со мной рассориться. Вези меня с собою или — давай левую. Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его и самое имущество находятся во власти этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений — и согласился. Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма божия, с душою, полною смиренными набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее врезанным в душу. Но не любовной силою приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно личине, скрывало все ее движение; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных. Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий, и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой, и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера — гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего, и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! да вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они показывают?»— спросила старушка с видом сомнения. — «А вот что», — отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала богу да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом; она дрожа перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел; он с прежней свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа верно продлилась бы до полночи, если бы наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост и им придется ночевать на вольном воздухе. Не станем описывать многих других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение всего времени Варфоломей всё более и более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забыла понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и, если сказать правду, так было за что: частые свидания с молодою родственницей возымели на юношу преблаготворное действие; он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера. Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако, он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренным, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях — что весьма обыкновенно в дружеской беседе на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести, — говорил Варфоломей, — но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Теперь недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение; ты думаешь жениться на Вере»… (при сих словах Варфоломей остановился на минуту, как будто забывшись)… «ты думаешь на ней жениться, — продолжал он, — и ничего не хочешь знать, кроме счастия семейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен; ан только начинается. Помяни ты мое слово — поживешь с женою год, опять вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей и правды не добудешь. Может быть, еще тебя стращает громкое имя: большой свет! Успокойся: это манежная лошадь; она очень смирна, но кажется опасной потому, что у нее есть свои привычки, к которым надо примениться. Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И…; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорили об тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу». Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного; но внутри — богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным; ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад, и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины, и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообразите себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа и искусство могут украсить женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращенье с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчивого Павла? Страсти загорелись в нем; он всё употребил, чтобы снискать благоволение красавицы, и после повторенных посещений заметил, что она не равнодушна к его стараниям. Какое открытие для пламенного юноши! Павел не видал земли под собой, он уже мечтал… Но случилась неприятность, которая разрушила все его отважные воздушные замки. Однажды, будучи в довольно многолюдном обществе у графини, он увидел, что она в стороне говорит тихо С одним мужчиною; надобно заметить, что этот молодец Щеголял непомерным образом и, несмотря на все старания, не мог, однако, скрыть телесного недостатка, за который Павел с Варфоломеем заочно ему дали прозванье косоногого; любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника, но удержался при мысли, что это подвергнет его новому, всеобщему посмеянию. Он тот же час оставил беседу, не говоря ни слова, и поклялся ввек не видеть графиню. Растревоженный в душе, он опять вспомнил о давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата вспоминает о пути спасения. Но на этот раз он не нашел близ милой девушки желаемой отрады; Варфоломей хозяином господствовал в доме и того, кто ввел его туда за несколько месяцев, принимал уже, как гостя постороннего. Старуха была больна, и не на шутку. Вера казалась в страшных суетах и развлечении; Павла приняла она с необычайною холодностию и, занимаясь им, сколько необходимо требовало приличие, готовила лекарства, бегала за служанкою, ухаживала за больною и нередко призывала Варфоломея к себе на помощь. Всё это, разумеется, было странно и досаждало Павлу, на которого теперь, как на бедного Макара, валилась одна неудача за другою. Он хотел было затеять объяснение, но побоялся растревожить больную старуху и Веру, без того уже расстроенную болезнию матери. Оставалось одно средство — объясниться с Варфоломеем. Приняв такое решение, Павел, извиняясь головною болью, откланялся немного спустя после обеда и, не удержанный никем, уехал, намекнув Варфоломею с некоторою крутостию, что желает его видеть в завтрашнее утро. Чтобы вообразить себе то состояние, в каком несчастный Павел ожидал на другой день своего бывшего друга и настоящего соперника, должно понять все различные страсти, которые в то время боролись в душе его и, как хищные птицы, словно хотели разорвать между собою свою жертву. Он поклялся забыть навеки графиню, и между тем в сердце пылал любовию к изменнице; привязанность его к Вере была не столь пламенна; но он любил ее любовью братскою, дорожил добрым ее мнением, а в нем почитал себя потерянным надолго, если не навеки. Кто же был виновник всех этих напастей? Коварный Варфоломей, этот человек, которого он некогда называл своим другом и который, по его мнению, так жестоко обманул его доверенность. С каким нетерпением ждал его к себе Павел, с какою досадою он смотрел на улицу, где бушевала точно такая же метель, как и в душе его! «Бездельник, — думал он, — воспользуется непогодою, он избежит моей правдивой мести; он лишит меня последней отрады — сказать ему в бесстыдные глаза, до какой степени я его ненавижу!» Но в то время, как Павел мучился сомнением, отворилась дверь, и Варфоломей вошел с таким же мраморным спокойствием, с каким статуя Командора приходит на ужин к Дон-Жуану. Однако лицо его вскоре приняло выражение более человеческое; он приблизился к Павлу и сказал ему с видом сострадательной приязни: «Ты на себя не похож, друг мой; что причиною твоей горести? Открой мне свое сердце». — Я тебе не друг! — закричал Павел, отскочив от него в другой угол комнаты, как от лютой змеи; дрожа всеми составами, с глазами, налитыми кровью и слезами, юноша опрометью высказал все чувства души, может быть и несправедливо разгневанной. Варфоломей выслушал его с каким-то обидным равнодушием и потом сказал: — Речь твоя дерзка, и была бы достойна наказания; но я тебе прощаю: ты молод и цены еще не знаешь ни словам, ни людям. Не так говорил ты со мной бывало, когда без моей помощи приходилось тебе хоть шею совать в петлю. Но теперь всё это забыто, потому что холодный прием девушки раздражил твою самолюбивую душонку. Изволит пропадать по целым месяцам, творит неведомо с кем неведомо какие проказы, а я за него терпи и не ходи, куда мне хочется. Нет, сударь; буду ходить к старухе, хоть бы тебе одному назло. Притом у меня есть и другие причины: не стану таить их — знай, Вера влюблена в меня. — Лжешь, негодяй! — воскликнул Павел в исступлении, — может ли ангел любить дьявола? — Тебе простительно не верить, — отвечал Варфоломей с усмешкою: — природа меня не изукрасила наравне с тобою; зато ты и пленяешь знатных барынь, и пленяешь навеки, постоянно, неизменчиво. Этой насмешки Павел не мог вынести, тем более что он давно подозревал Варфоломея в содействии к его разладу с графинею. Он в ярости кинулся на соперника, хотел убить его на месте; но в эту минуту он почувствовал себя ударенным под ложку; у него дух занялся, и удар, без всякой боли, на миг привел его в беспамятство. Очнувшись, он нашел себя у противной стены комнаты, дверь была затворена, Варфоломея не было, и, как будто из просонок, он вспоминал последние слова его: «Потише, молодой человек, ты не с своим братом связался». Павел дрожал от ужаса и гнева; тысячи мыслей быстро сменялись в голове его. То решался он отыскать Варфоломея хоть на краю света и размозжить ему череп; то хотел идти к старухе и обнаружить ей и Вере все прежние проказы изменника; вспоминал об очаровательной графине, хотел то заколоть ее, то объясниться с нею, не изменяя прежнему решению: последнее согласить, конечно, было трудно. Грудь его стеснилась; он, как полуумный, выбежал во двор, чувствуя в себе признаки воспалительной горячки; бледный, в беспорядке, рыскал он по улицам и верно нашел бы развязку всем сомнениям в глубокой Неве, если б она, к счастию, не была закутана в то время ледяною своей шубою. Утомилась ли судьба преследовать Павла или хотела только сильнее уязвить его минутным роздыхом в несчастиях, он, воротясь домой, был встречен неожиданным исполнением главного своего желания. В прихожей дожидал его богато одетый слуга графини И…, который вручил ему записку; Павел с трепетом развертывает и читает следующие слова, начертанные слишком ему знакомою рукою графини: «Злые люди хотели поссорить нас; я всё знаю; если в вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, придите в таком-то часу вечером. Вечно твоя И.». Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магические строки, забыл и дружбу Веры, и неприязнь Варфоломея; весь мир настоящий, прошедший и грядущий стеснился для него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует его, подносит несколько раз к свету. «Нет! — восклицает он в восторге, — это не обман; я точно, точно счастлив; так не напишет, не может написать никто, Кроме ее одной. Но не хочет ли плутовка зазвать и морочить меня, и издеваться надо мною по-прежнему? Нет! клянусь, не бывать этому. „Твоя — вечно твоя“, пусть растолкует мне на опыте, что значит это слово. Не то… добрая слава ее теперь в моих руках». В урочный час наш Павел, пригожий и разряженный, уже на широкой лестнице графини; его без доклада провожают в гостиную, где, к его досаде, собралось уже несколько посетителей, между которыми, однако, не было косоногого. Хозяйка приветствует его сухо, едва говорит с ним; но она недаром на него уставила большие черные глаза свои и томно опустила их: мистическая азбука любящих, непонятная профанам. Гости принимаются за игру; хозяйка, отказываясь, уверяет, что ей приятно садиться близ каждого из игроков поочередно, ибо она надеется ему принести счастие. Все не надивятся ее тонкой вежливости. Немного спустя: «Вы у нас давно не были, — говорит графиня, оборачиваясь к юноше, — замечаете ли некоторые перемены в уборах этой комнаты? Вот, например, занавесы висели сперва на лавровых гирляндах; но мне лучше показалось заме нить их стрелами». — «Недостает сердец», — отвечает Павел полусухо, полувежливо. «Но не в одной гости ной, — продолжает графиня, — есть новые уборы», и вставая с кресел: «Не хотите ли, — говорит она, — заглянуть в диванную; там развешаны привезенные недавно гобелены отличного рисунка». Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством забилось его сердце, когда он вошел в эту очарованную комнату. Это была вместе зимняя оранжерея и диванная. Миртовые деревья, расставленные вдоль стен, укрощали яркость света канделябров, который, оставляя роскошные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие, подвиги любви богов баснословных. Против анфилады стояло трюмо, а возле на стене похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого трюмо начинается роковое объяснение. Всякому просвещенному известно, что разговор любящих всегда есть самая жестокая амплификация; итак, перескажу только сущность его. Графиня уверяла, что насмешки ее над дурным французским выговором относились не к Павлу, а к одному его соименнику, что она долго не могла понять причины его отсутствия, что, наконец, Варфоломей ее наставил, и прочее, и прочее. Павел, хотя ему казались странными сведения Варфоломея в таком деле, о котором никто ему не сказывал, и роль миротворца, которую он принял на себя при этом случае, поверил, разумеется, всему; однако упорно притворялся, что ничему не верит. «Какого же еще доказательства хотите вы?» — спросила наконец графиня с нежным нетерпением. Павел, как вежливый юноша, в ответ поцеловал жарко ее руку; она упрямилась, робела, спешила к гостям; он становился на колени и, крепко держа руки ее, грозил, что не выпустит, да к этому вприбавок сию же минуту застрелится. Сия тактика имела вожделенный успех — и тихое, дрожащее рукопожатие, с тихим шепотом: «Завтра в 11 часов ночи, на заднее крыльцо», громче пороха и пушек возвестили счастливому Павлу торжество его. Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только что не дошло до драки. «Смотрите, — сказал один графине, запыхавшись от гнева, — я даром проигрываю несколько сот душ, а он…» — «Вы хотите сказать — несколько сот рублей», — прервала она с важностью. «Да, да… я виноват., я ошибся», — отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукой сняло. Павел на сей раз пропустил всё мимо ушей. Волнение души не позволило ему долго пробыть в обществе, он спешил домой предаться отдыху, но сон долго не опускался на его вежды; самая действительность была для него сладким сновиденьем. Распаленной его фантазии бессменно предстояли черные, большие, влажные очи красавицы. Они сопровождали его и во время сна; но сны, от предчувствия ли тайного, от волнения ли крови, всегда кончались чем-то странным. То прогуливался он по зеленой траве; перед ним возвышались два цветка, дивные красками; но лишь только касался он стебля, желая сорвать их, вдруг взвивалась черная, черная змея и обливала цветки ядом. То смотрел он в зеркало прозрачного озера, на дне которого у берега играли две золотые рыбки; но едва опускал он к ним руку, земноводное чудовище, стращая, пробуждало его. То ходил он ночью под благоуханным летним небосклоном, и на высоте сияли неразлучно две яркие звездочки; но не успевал он налюбоваться ими, как зарождалось черное пятно на темном западе и, растянувшись в длинного облачного змея, пожирало звездочки, — Всякий раз, когда такое видение прерывало сон Павла, встревоженная мысль его невольно устремлялась на Варфоломея; но через несколько времени черные глаза снова одерживали верх, покуда новый ужас не прерывал мечты пленительной. Несмотря на всё это, Павел, проспавши до полудня, встал веселее, чем когда-нибудь. Остальные 11 часов дня, как водится, показались ему вечностию. Не успело смеркнуться, как он уже бродил вокруг дома графини; не принимали никого, не зажигали огня в парадных комнатах, только в одном дальнем углу слабо мерцал свет: «Там ждет меня прелестная», — думал про себя Павел, и заранее душа его утопала в наслаждении. Протяжно пробило одиннадцать часов на Думской башне, и Павел, любовью окрыленный… Но здесь я прерву картину свою и, в подражание лучшим классическим и романтическим писателям древнего, среднего и новейшего времени, предоставлю вам дополнить ее собственным запасом воображения. Коротко и ясно: Павел думал уже вкусить блаженство… как вдруг постучались тихонько у двери кабинета; графиня в смущении отворяет; доверенная горничная входит с докладом, что на заднее крыльцо пришел человек, которому крайняя нужда видеть молодого господина. Павел сердится, велит сказать, что некогда, колеблется, выходит в прихожую, ему говорят, что незнакомый ушел сию минуту. — Он возвращается к любезной; «Ничто с тобой не разлучит меня», — говорит он страстно. Но вот стучатся снова, и горничная входит с повторением прежнего. — «Пошлите к черту незнакомца, — кричит Павел, топнув ногою, — или я убью его»; выходит, слышит, что и тот вышел; сбегает по лестнице во двор, но там ничто не колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на землю. Павел бранит слуг, запрещает пускать кого бы то ни было, возвращается пламеннее прежнего к встревоженной графине; но прошло несколько минут, и стучатся в третий раз, еще сильнее, продолжительнее. «Нет, полно! — закричал он вне себя от ярости, — я доберусь, что тут за привидение; это какая-нибудь штука». — Вбегая в прихожую, он видит край плаща, который едва успел скрыться за затворяемою дверью; опрометью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор и слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за кем-то. «Стой, стой, кто ты таков?» — кричит вслед ему Павел и, выскочив на улицу, издали видит высокого мужчину, который как будто останавливается, чтобы поманить его рукою, и скрывается в боковой переулок. Нетерпеливый Павел за ним следует, кажется, нагоняет его; тот снова останавливается у боковой улицы, манит и исчезает. Таким образом юноша следит за незнакомцем из улицы в улицу, из закоулка в закоулок и наконец находит себя по колена в сугробе, между низенькими домами, на распутии, которого никогда отроду не видывал; а незнакомец пропал безо всякого следа. Павел остолбенел, и признаюсь, никому бы не завидно, пробежав несколько верст, очнуться в снегу в глухую полночь, у черта на куличках. Что делать? идти? — заплутаешься; стучаться у ближних ворот? — не добудишься. К неожиданной радости Павла, проезжают сани. «Ванька! — кричит он, — вези меня домой в такую-то улицу». Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег под санями, луна во вкусе Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, всё нет места знакомого; и наконец вовсе выезжают из города. Павлу пришли естественно на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волковой поле, об извозчиках, которые там режут седоков своих, и т. п. «Куда ты везешь меня?» — спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут, при свете луны, он захотел всмотреться в жестяной билет извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено ни части, ни квартала, но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число Апокалипсиса, как он позднее вспомнил. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаху ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: «Потише, молодой человек; ты не с своим братом связался». Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный вихрь; экипаж, лошадь, ямщик — всё сравнялось с снегом, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха. На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька и, одной рукой держа вялую руку господина, часто отворачивался, чтобы стереть другой слезу, украдкой навернувшуюся на подслепую зеницу его. «Барин, барин, — говорил он, — недаром докладывал я вашей милости, что не бывает добра от ночной гульбы. Где вы пропадали? что это с вами сделалось?» Павел не слыхал его: он то дикими глазами глядел по нескольку времени в угол, то впадал в дремоту, впросонках дрожал и смеялся, то вскакивал с постели как сумасшедший, звал имена женские, потом опять бросался лицом на подушки. «Бедный Павел Иванович! — думал про себя Дядька. — Господь его помилуй, он верно ума лишился», и в порыве добросердечия, улучив первую удобную минуту, побежал за врачом. Врач покачал головою, увидя больного, не узнававшего окружающих, и ощупав лихорадочный пульс его. Наружные признаки противоречили один другому, и по ним ничего нельзя было заключить о болезни; всё подавало повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в теле. Больной почти ничего не вспоминал о прошедшем; душа его, казалось, была замучена каким-то ужасным предчувствием. Врач, убежденный верным дядькою, с ним вместе не отходил целый день от одра юноши; к вечеру состояние больного сделалось отчаянно; он метался, плакал, ломал себе руки, говорил о Вере, о Васильевском острове, звал на помощь, к кому и кого, бог весть, хватал шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь; вдруг больной успокоился — ему стало легче; но силы душевные и телесные совершенно были убиты борьбою; он погрузился в мертвый сон, после коего прежний кризис возобновился. Припадок одержал юношу полные трое суток с переменчивою силою; на третье утро, начиная чувствовать в себе более крепости, он вставал с постели, когда ему сказали, что в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не предвещало ему доброго; он вышел; старушка плакала навзрыд. «Так! еще несчастие! — сказал Павел, подходя к ней, — не мучь меня, голубушка; всё скорее выскажи». — «Барыня приказала долго жить, — отвечала старушка, — а барышне бог весть долго ли жить осталось». — «Как? Вера? что?» — «Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна помощь. Я прибрела пешком; коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту: она в доме священника церкви Андрея Первозванного». — «В доме священника? зачем?» — «Бога ради, одевайтесь, всё после узнаете». — Павел окутался, и поскакали на Васильевский. Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных летах оставляла не много надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который, кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность его была неутомима: он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такой скоростию, что Вера дивилась, где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении; о том, как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно, боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи, удастся ли найти другой поближе к городу, и проч. и проч. Мутная невыразительность кончины была в ее глазах, когда она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какой-то нелепою улыбкою говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим; я боюсь ослепнуть, и тогда уже не удастся мне смотреть на ваше счастие». Между тем рука смерти все более и более тяготела над старухою: зрение и память час от часу тупели. В Варфоломее не заметно было горести; может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает страшно перед браком? Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед богом, — думала девица; — не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Но он гораздо лучше Павла; посмотрите, как он старается о матушке: сам себя бедный не жалеет — стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились. «Он крутого нрава, — говорила она себе, — когда чего не хочет и скажешь ему: Варфоломей, бога ради это сделайте, — он задрожит и побледнеет. Но, — продолжала Вера, мизинцем стирая со щеки слезинку, — ведь я сама не ангел; у всякого свой крест и свои пороки: я буду исправлять его, а он меня». Тут приходили ей на ум новые сомнения: «Он, кажется, богат; честными ли он средствами добыл себе деньги? но это я выспрошу, ведь он меня любит». Так утешала себя добрая, невинная Вера; а старухе между тем всё хуже да хуже. Вера сообщила свой страх Варфоломею, спрашивала даже, не нужно ли призвать духовника; но он горячился и сурово отвечал: «Хотите ускорить кончину матушки? это лучший способ. Болезнь ее опасна, но еще не отчаянна. Что ее поддерживает? надежда исцелиться. А призовем попа, так отнимем последнюю надежду». Робкая Вера соглашалась, побеждая тайный голос Души; но в этот день, — и заметьте, это было на другой День рокового свидания Павла с прелестной графинею, — опасность слишком ясно поразила вещее сердце дочери. Отозвав Варфоломея, она ему сказала решительным голосом: «Царем небесным заклинаю вас, не оставьте матушку умереть без покаяния; бог знает, проживет ли она; до завтра» — и упала на стул, заливаясь слезами. Что происходило тогда в Варфоломее? глаза его катались, на лбу проступал пот, он силился что-то сказать и не мог выговорить. «Девичье малодушие, — пробормотал он напоследок. — Ты ничему не веришь… вы, сударыня, не верите моему знанию медицины… Постойте… у меня есть знакомый врач, который больше меня знает… жаль, далеко живет он». Тут он схватил руку девицы и, подведя ее стремительно к окну, показал на небо, не поднимая глаз своих: «Смотрите; там еще не явится первая звезда, как я буду назад, и тогда решимся; обещаете ли только не звать духовника до моего прихода?» — «Обещаю, обещаю». Тогда послышался протяжный вздох из спальней. — «Спешите, — закричала Вера, бросаясь к дверям ее, потом оборотилась, взглянула еще раз с умилением грусти неописанной на вкопанного и, махнув ему рукою, повторила: — Спешите ради меня, ради бога». — Варфоломей скрылся. Мало-помалу зимний небосклон окутывался тучами, а в больной жизнь и тление выступали в последние на смертный поединок. Снег начинал падать; порывы летучего ветра заставляли трещать оконницы. При малейшем хрусте снега Вера подбегала к окну смотреть, не Варфоломей ли возвращается; но лишь кошка мяукала, галки клевались на воротах, и калитку ветер отворял и захлопывал. Ночь с своей черной пеленою приспела преждевременно; Варфоломея нет как нет, и на своде небесном не блещет ни одной звезды. Вера решилась послать по духовника старую служанку; долго не возвращалась она, и не мудрено, потому что не было ни одной церкви ближе Андрея Первозванного. Но хлопнула калитка, и вместо кухарки явился Варфоломей, бледный и расстроенный. «Что? надежды нет?» — прошептала Вера. — «Мало, — сказал он глухим голосом; —я был у врача; далеко живет он, много знает…» — «Да что же говорит он, бога ради?» — «Что до того нужды?., за попом теперь посылать время. А! вижу; вы послали уже… туда и дорога!» — сказал он с какой-то сухостью, в которой обнаруживалось отчаяние. Чрез несколько времени, уже в глухую ночь, старая служанка прибрела с вестью, что священника нет дома, но когда воротится, ему скажут и он тотчас придет к умирающей. Об этом решились предварить ее. «С умом ли вы, дети, — сказала она слабо; — неужто я так хвора? Вера! что ты хныкаешь? Вынеси лампаду; сон меня поправит». Дочь лобызала руку матери, а Варфоломей во всё время безмолвствовал поодаль, уставив на больную глаза, которые, когда лампада роняла на них свое мерцание, светились как уголья. Вера с кухаркою стояли на коленях и молились. Варфоломей, ломая себе руки, беспрестанно выходил в сени, жалуясь на жар в голове. Чрез полчаса он вошел в спальню и как сумасшедший выбежал оттуда с вестью «Всё кончено!» Не стану описывать, что в сию минуту почувствовала Вера! Однако сила ее духа была необычайная. «Боже! это воля твоя!» — произнесла она, поднимая руки к небу; хотела идти; но телесные силы изменили, она полумертвая опустилась на кресла, и не стало бы несчастной, если б внезапный поток слез не облегчил ее стесненной груди. Между тем старуха, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья и пошла за иконою; но тут же от усталости ли, от иной ли причины, забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей подошел к Вере. У самого беса растаяло бы сердце: так она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь, — воскликнул он страстно; — я с твоею матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю», — отвечала она боязливо. Он упал к ногам ее: «Клянись, — говорил он, — клянись, что ты моя, что любишь меня более души своей». Вера никогда не ожидала б такой страсти в этом холодном человеке: «Варфоломей, Варфоломей, — сказала она с робкою нежностию, — забудь грешные мысли в этот страшный час; я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме божием нас благословит…» Варфоломей не выслушал ее и, как исступленный, ну молоть околесную: уверял, что это всё пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собою в какое-то дальнее отечество, обещал там осыпать блеском княжеским, обнимал ее колена со слезами. Он говорил с такою страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера Уже чувствовала твердость свою скудеющей, опасность пробудила ее силу душевную; она вырвалась и побежала к дверям спальней, где думала найти служанку; Варфоломей заступил ей дорогу и сказал уже с притворною холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься; тебе не добудиться ни служанки, ни матери: никакая сила не защитит тебя от моей власти». — «Бог защитник невинных», — закричала бедняжка, в отчаянии бросаясь на колени пред распятием. Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так, — возразил он, кусая себе губы, — если так… мне, разумеется, с тобою делать нечего; но я заставлю твою мать сделать тебя послушною». — «Разве она в твоей власти?» — спросила девица. «Посмотри», — отвечал он; уставивши глаза на полурастворенную дверь спальней, и Вере привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто покойница, при мерцании свечи нагоревшей, приподнимает голову с мукою неописанной и иссохшею рукою машет ей к Варфоломею. — Тут Вера увидела, с кем имеет дело. «Да воскреснет бог! и ты исчезни, окаянный», — вскрикнула она, собрав всю силу духа, и упала без памяти. В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую служанку. Она. очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить кувшин воды, в углу стоявший, и выплеснуть на поломя; но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую комнату, с криком: «Пожар, пожар!» Увидя свою барышню на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно, получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее намост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею. На зарево прискакала команда полицейская с ведрами, ухватами: ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал всё действие воды, все усилия человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенною милостию Николы Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и до конца жизни проповедовал в шинках, что на своем веку лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас бог увидеть окаянного». Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин, в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просвещенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника.
Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место, где стоял он, не знаю почему, до сих пор остается незастроенным. Престарелая служанка, при пособии благочинного с причетом приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с нею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случился столь нечаянно, и все обстоятельства оного были так странны, что полиция нашла нужным о причинах его учинить подробное исследование. Но как подозрение не могло падать на старую служанку, а еще менее на Веру, то зажигателем ясно оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его явным и тайным образом не только во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но все было напрасно: не нашли и следов его, что было тем более удивительно, что зимою нет судоходства и, следственно, ему никакой не было возможности тихонько отплыть на иностранном корабле в чужие край. Неизвестно, до чего могло бы довести долгое исследование; но благочинный, любя Веру душевно и не зная, до какой глубины могли простираться ее связи с этим человеком, благоразумно употребил свое влияние, дабы потушить дело и не дать ему большей гласности.
Таким образом Павел, за которым послали на третий день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Ионна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления. Ветреный молодой человек испытал В короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таинственной графини, и буйные веселия юности, сопряженные с такими пагубными последствиями. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для нее образцом верного супруга. В минуты уединенного свидания он решался предлагать ей сии мысли; но она, впрочем оказывая ему сестрину доверчивость, с неизменной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел, — говорила она, — а я отцвела мой век; скоро примет меня могила, и там бог милосердый, может быть, пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своею слабостью допустила злодея совершить погибель матери в сей, а может быть — кто знает? — и в будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее — небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы всеприемлющей.
Надобно догадываться, что Вера пред кончиною, кроме духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги, после его приезда, ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его. стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин не мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Однажды, шагая по своему обыкновению по комнате, он подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел задрожал: «Ты — не я уморил ее», — указал он отрывисто и через неделю просил прощенья у старого дядьки, ибо вытолкнул его так неосторожно, что тот едва не проломил себе затылок о простенок. «После этого, — говорил Лаврентий, — я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к его милости».
Павел умер, далеко не дожив до старости. Повесть его и Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?
Тит Космократов
В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую служанку. Она. очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить кувшин воды, в углу стоявший, и выплеснуть на поломя; но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую комнату, с криком: «Пожар, пожар!» Увидя свою барышню на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно, получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее намост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею. На зарево прискакала команда полицейская с ведрами, ухватами: ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал всё действие воды, все усилия человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенною милостию Николы Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и до конца жизни проповедовал в шинках, что на своем веку лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас бог увидеть окаянного». Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин, в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просвещенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника.
Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место, где стоял он, не знаю почему, до сих пор остается незастроенным. Престарелая служанка, при пособии благочинного с причетом приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с нею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случился столь нечаянно, и все обстоятельства оного были так странны, что полиция нашла нужным о причинах его учинить подробное исследование. Но как подозрение не могло падать на старую служанку, а еще менее на Веру, то зажигателем ясно оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его явным и тайным образом не только во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но все было напрасно: не нашли и следов его, что было тем более удивительно, что зимою нет судоходства и, следственно, ему никакой не было возможности тихонько отплыть на иностранном корабле в чужие край. Неизвестно, до чего могло бы довести долгое исследование; но благочинный, любя Веру душевно и не зная, до какой глубины могли простираться ее связи с этим человеком, благоразумно употребил свое влияние, дабы потушить дело и не дать ему большей гласности.
Таким образом Павел, за которым послали на третий день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Ионна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления. Ветреный молодой человек испытал В короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таинственной графини, и буйные веселия юности, сопряженные с такими пагубными последствиями. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для нее образцом верного супруга. В минуты уединенного свидания он решался предлагать ей сии мысли; но она, впрочем оказывая ему сестрину доверчивость, с неизменной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел, — говорила она, — а я отцвела мой век; скоро примет меня могила, и там бог милосердый, может быть, пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своею слабостью допустила злодея совершить погибель матери в сей, а может быть — кто знает? — и в будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее — небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы всеприемлющей.
Надобно догадываться, что Вера пред кончиною, кроме духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги, после его приезда, ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его. стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин не мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Однажды, шагая по своему обыкновению по комнате, он подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел задрожал: «Ты — не я уморил ее», — указал он отрывисто и через неделю просил прощенья у старого дядьки, ибо вытолкнул его так неосторожно, что тот едва не проломил себе затылок о простенок. «После этого, — говорил Лаврентий, — я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к его милости».
Павел умер, далеко не дожив до старости. Повесть его и Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?
Тит Космократов
А. А. Бестужев-Марлинский СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ (рассказ)
Посвящается Петру Степановичу Лутковскому.…Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее, — они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притвориться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете. Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть не понят или непонятен, но смешон — никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море. Так любил я… назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимою женщиною, я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее, — душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством. Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда я еще не был любим дотоле, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно… То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию. — Милый! мы далеки от порока, — говорила она, — но всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видеться! Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею. И вот протекло уже три недели, как я не видел Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии… позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал, — я стоял крепко. Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постели своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блестка наружной веселости, никакое случайное развлечение. И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда при звезде, молодцов рой, и шампанского разливанное море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул… Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее прости! Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое. Я сел, — катай! Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою, ходили хороводами; везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах и зажженные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собой: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предупреждением: — Ну барин, держись! — Заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой под тройкою, гаркнул — и кони взвились как вихорь! Дух занялся у меня от быстроты их поскока: они понесли нас. Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валек ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватись за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах… И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе… Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились, наконец, измученные бегуны, и когда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями: — Где мы? — спросил я у ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую. Ямщик робко оглянулся кругом. — Дай бог памяти, барин! — отвечал он. — Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андронова Пережога? Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу. — Ну, что? — Плохо, барин! — отвечал он. — В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озеру! — Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать не долга песня; садись и дуй в хвост и в гриву! — Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда, — возразил ямщик. — Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть, а собой такая смазливая — загляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладонь. — Что же, поцеловал ли он красавицу? — спросил я. — Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то что зааминить али зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вкруг да около, и, когда воротился домой, едва языка допыталися: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак ономесь повстречал тут оборотня, слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой, да и ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Cepera косой как порасскажет… — Побереги свои побасенки до другого случая, — возразил я, — мне, право, нет времени да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под льдяным одеялом, то ищи скорей дороги. Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево… Вот-вот, думаешь, видна дорога… Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало, — и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюблену и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время… Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно. Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливцем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьею шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер проницал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и проморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой… Тишь и пустыня окрест! Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, проницаемый не на шутку холодом, заплакал. — Знать, согрешил я перед богом, — сказал он, — что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы не шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня! Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостью: — Вот он, вот он! — Кто он? — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе. Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дрововозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина. Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна суконкою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчуемый радушным хозяином, и, попав вместо бала на сельские посиделки. Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о нежданном госте. Ряды молодиц в низаных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому — разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядинных и ситцевых рубашках, с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вязу». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из какой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы… Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значение коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.
Давно уже строптивые умы Отринули возможность духа тьмы; Но к чудному всегда наклонным сердцем, Друзья мои, кто не был духоверцем?..
 «Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, — это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!
Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.
«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, — это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!
Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.
М. Ю. Лермонтов < ШТОСС> («у граф. В… был музыкальный вечер…»)
1
У граф. В… был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело. В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты… одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли. — Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то, — я устала… скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей. — Скучно, — сказала Минская и снова зевнула, — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она. — И у меня сплин! — отвечал Лугин. — Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли? Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы: ― Вообразите, какое со мной несчастие: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской шкоды. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны. Минская улыбнулась. — Призовите доктора, — сказала она. — Доктора не помогут — это сплин! — Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее; «Мне бы хотелось его немножко помучить!») — В кого? — Хоть в меня! — Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить. — А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?.. — Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; я дурен — и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно — а правда!.. — Какой вздор! — сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась. Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников. Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине. Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал. — Куда вы? — спросила Минская. — Прощайте. — Еще рано. Он опять сел. — Знаете ли, — сказал он с какою-то важностию, — что я начинаю сходить с ума? — Право? — Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете — что? — адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко — точно торопится… Несносно!.. Он побледнел. Но Минская этого не заметила. — Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно. — Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант. — Когда же это началось? — Признаться ли? я не могу сказать наверное… не знаю… ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь. — У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит. — Нет, нет. Научите, как мне избавиться? — Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что… вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием. — Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду. Он встал, взял шляпу и вышел. Она посмотрела ему вослед с удивлением.2
Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например… у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, по-веся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство. — Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую. Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо. Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу. — Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный. Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?» — Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а подальше… — Да мне надо Штосса… — Ну не знаю, — Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: — Нет, не слыхать-с! Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи. Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая. Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег. — Эй! дворник, — закричал Лугин. Дворник что-то проворчал сквозь зубы. — Чей это дом? — Продан! — отвечал грубо дворник. — Да чей он был? — Чей? Кифейкина, купца. — Не может быть, верно, Штосса! — вскрикнул невольно Лугин. — Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! отвечал дворник, не подымая головы. У Лугина руки опустились. Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну. Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом: — Новый хозяин здесь живет? — Нет. — А где же? — А черт его знает. — Ты уж давно здесь дворником? — Давно. — А есть в этом доме жильцы? — Есть. — Скажи, пожалуйста, — сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере? Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина. — В двадцать седьмом номере?., да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой. — Разве его не нанимали? — Как не нанимать, сударь, — нанимали. — Как же ты говоришь, что в нем не живут! — А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают. — Ну, а кто его последний нанимал? — Полковник, из анженеров, что ли! — Отчего же он не жил? — Да переехал было… а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался. — А прежде полковника? — Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, — да этот и не переезжал; слышно, умер. — А прежде барона? — Нанимал купец для какой-то своей… гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался… «Странно!» — подумал Лугин. — А можно посмотреть номер? Дворник опять пристально взглянул на него. — Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами. Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность. Они, не знаю почему, понравились Дугину. — Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель… посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить… — В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю. «Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин. Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами. — Что ж, барин? — проговорил он наконец. — А! — Как же? коли берете, так пожалуйте задаток. Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин. «Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить, — думал Лугин. — Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? — ничего!» До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи… Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, гдевисел портрет. Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: Середа. — Какой нынче день? — спросил он Никиту. — Понедельник, сударь… — Послезавтра середа! — сказал рассеянно Лугин. — Точно так-с!.. Бог знает почему Лугин. на него рассердился. — Пошел вон! — закричал он, топнув ногою. Старый Никита покачал головою и вышел. После этого Лугин лег в постель и заснул. На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.3
В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живопись колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением. В этот день, который был вторник, ничего особенно с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерилось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться… он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело! Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери. — Кто там? — вскрикнул он. За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол. — Кто это? — повторил он слабым голосом. В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе. Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях; то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели. И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся. — Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя. Под халатом вздохнуло. — Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались. Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид. «Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся». — Не угодно ли, я вам промечу штосе? — сказал старичок. Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: — А на что же мы будем играть? я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение…) А если хотите, — продолжал он, — я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке. Старичка эта шутка нимало не сконфузила. — У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку. — Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, — что это? Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. — Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. — Идет, темная. Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой. — Еще талью! — сказал с досадою Лугин. Оно покачало головою. — Что же это значит? — В середу, — сказал старичок. — А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин, — так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли? Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.: — Хорошо, — наконец сказал, он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли… и мало-помалу все утихло. У Лунина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!.. «Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить, — переупрямил. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается. А как похож на этот портрет!., ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..» На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера. «Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он, — верно, что-нибудь необыкновенное!» Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы. Старичок сел, как накануне положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился. — Позвольте, — сказал он, — накрыв рукою свою колоду. Старичок сидел неподвижен. — Что бишь я хотел сказать! позвольте, — да! Лугин запутался. Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил: — Хорошо… я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия? Старичок улыбнулся. — Я иначе не играю, — проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту. — Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь. — Штос? это? — у Лугина руки опустились: он испугался.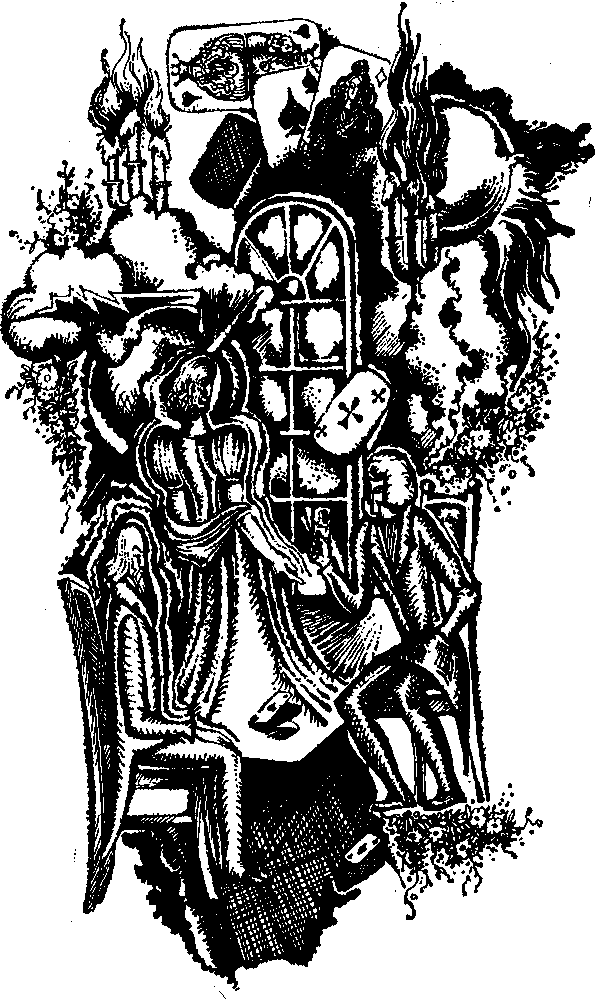 В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыханье, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу.
То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая… она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.
В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.
Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.
— Завтра, — сказал Лугин.
Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.
Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; она — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»… и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.
В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыханье, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу.
То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая… она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.
В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.
Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.
— Завтра, — сказал Лугин.
Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.
Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; она — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»… и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.
А. Погорельский ПАГУБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБУЗДАННОГО ВООБРАЖЕНИЯ
В мае 17** года предпринял я путешествие в Германию с молодым графом N…. которого отправил туда отец для окончательного учения в славном Лейпцигском университете. Наши родители служили долгое время вместе на поле чести и сохранили тесную связь дружбы в преклонных летах; а потому я не мог отказать в неотступной просьбе старому графу, который единственного наследника своего имени и богатства желал вверить сыну испытанного и неизменного друга. Сопутнику моему (я назову его Алцестом) было тогда не более двадцати лет. Природный ум, развитый и украшенный добрым воспитанием, благородные качества души и пленительная наружность оправдывали чрезмерную к нему горячность отца и любовь всех, кто только знал его. Я пятнадцатью годами был старее его и чувствовал к нему привязанность старшего брата к младшему. В нем не были заметны недостатки и слабости, столь необыкновенные в молодых людях, которые с младенческих лет видят себя отличенными от других знатною породою и богатством. Одна только черта в его характере меня тревожила: Алцест, одаренный пылким воображением, имел непреодолимую страсть ко всему романическому, и, по несчастию, ему никогда не препятствовали удовлетворять оной. Он заливался слезами при чтении трогательного повествования; я даже неоднократно видел его страстно влюбленным в героиню какого-нибудь романа. Романические сочинения хотя еще не имели тогда таких страстных приверженцев и защитников, как ныне, — но Гетевы Вертер и Шарлотта и Жан-Жакова «Новая Элоиза» были уже известны. Я знал, что несколько молодых людей в Германии до того потеряли рассудок от чтения сего рода произведений, что, желая подражать Вертеру, лишили себя жизни! К тому же в то время отвлеченная и запутанная философия Канта и Фихте была в большой моде в немецких университетах, и студенты, с свойственным неопытному юношеству жаром, предавались занятию наукою, которую и сами изобретатели едва ли понимали. Итак, я не без основания опасался, что неодолимая склонность Алцеста предаваться собственному слишком пылкому воображению может иметь пагубные для него последствия. Впрочем, меня некоторым образом успокоивало то, что он с терпением принимал дружеские мои советы. Несмотря на разность лет, отношения наши друг к другу основаны были на взаимном уважении. Алцест весьма обрадовался, узнав, что я согласен быть ему товарищем. Ему назначено было прожить два года в Лейпциге. Старый граф полагал, что сын его соделается чрез то более достойным высокого назначения, на которое знаменитое происхождение, заслуги отца и несметное богатство давали ему право. Итак, сколь ни трудно ему было расставаться с обожаемым сыном, но мысль, что разлука эта послужит к его пользе, превозмогла жестокую горесть родительского сердца, — и мы пустились в путь, снабженные достаточным числом векселей и сопровождаемые слезами и благословениями почтенных наших стариков. Дорогою я не пропускал случая остерегать любезного спутника моего от влияния неукротимого его воображения, и мне казалось, что старания мои не совсем были безуспешны. Прибыв в Лейпциг, мы остановились в Гриммской улице, в доме, приготовленном для нас банкиром Фр., который предуведомлен был о нашем прибытии. Первые две недели протекли в осматривании города и прелестных его окрестностей. Банкир познакомил нас в нескольких домах, коих хозяева, вопреки германской бережливости, любили принимать иностранцев. Читатель, которому случалось быть в Германии, конечно не оставил без замечания хорошего расположения немцев к русским. Итак, никому не покажется удивительным, что молодой, пригожий и богатый русский граф, изъясняющийся на немецком языке как природный саксонец, вскоре обратил на себя внимание всего небольшого, но многолюдного города. Алцест, имея в свежей памяти мои советы, был вежлив и ласков со всеми; но, казалось, не примечал ни своекорыстной похвалы матушек, ни приветливой улыбки дочек… Отвлеченные рассуждения важных и чинных профессоров и глубокие расчеты предприимчивых купцов занимали его более, нежели пленительные взгляды и шутливые разговоры лейпцигских красавиц. Подарив несколько времени бесшумным удовольствиям, новыми нашими знакомыми нам доставленным, мы вскоре принялись за настоящее дело, за которым приехали в Германию. Алцест с жаром предался ученым занятиям, и я должен был отвлекать его от трудов излишних и для здоровья вредных. Таким образом прожили мы около трех месяцев, как вдруг заметил я в товарище своем незапную перемену. Он сделался задумчив, убегал моего сообщества и охотно оставался один в своей комнате. Сначала приписывал я это какой-нибудь болезни или огорчению; но Алцест на вопросы мои отвечал, что он здоров и счастлив, и просил о нем не беспокоиться. Между тем задумчивость его час от часу увеличивалась. Когда казалось ему, что никто за ним не примечает, вздохи вырывались из груди его — и я поневоле должен был заключить, что им овладела сильная страсть к неизвестному мне предмету. Я внимательнее стал за ним примечать; но долго не мог ничего открыть. С некоторого времени он совершенно отстал от всех наших знакомых. Целые дни просиживал, запершись, в своей комнате, в которую неохотно впускал даже камердинера своего, находившегося при нем с самого младенчества. Не зная, каким образом объяснить странное поведение Алцеста, я решился поговорить о том с верным Иваном; но и от него ничего не узнал удовлетворительного. Старый слуга, покачав головою, сказал мне с печальным видом: — Ведь то-то и беда, что вы, господа, ничему не верите; я боюсь, чтоб графа нашего не заколдовали! Лучше было бы оставаться нам дома; здесь хорошему ничему не бывать. Что мне оставалось делать при таких обстоятельствах? Я любил Алцеста, как родного брата; трогательные просьбы почтенного отца его отзывались в душе моей; обязанность, принятая мною на себя, решительно требовала, чтобы я не допускал молодого графа предаваться задумчивости, тем более меня беспокоившей, что я не понимал ее причины. Я принял твердое намерение принудить его объяснить, хотя и не мог скрыть сам от себя, сколь таковая мера была затруднительна при пылком и непреклонном нраве юного моего друга. Однажды Алцест, отобедав вместе со мною, по обыкновению намерен был удалиться в свою комнату. — Не хотите ли вы прогуляться? — сказал я ему. — Погода прекрасная, и я поведу вас в такое место, которого вы еще не видали и которое вам, верно, понравится. — Извините меня, любезный Ф…, — отвечал он, — я не могу идти с вами. У меня болит голова; мне надобно отдохнуть! — Сказав это, он поклонился и ушел к себе. Я почти предвидел этот ответ; но, решившись во чтоб то ни стало принудить его к объяснению, я последовал за ним немного погодя и остановился у дверей. Граф ходил взад и вперед по комнате; потом подошел к окну, тяжело вздохнул и опять начал ходить. Я слышал, как он разговаривал сам с собою; казалось, будто он с нетерпением кого-то ожидал. Наконец он опять приблизился к окну. — Вот она! — воскликнул он довольно громко, подвинул стул и сел. В эту минуту я вдруг отворил дверь. Алцест вскочил поспешно, задернул у окошка занавесь и спросил у меня, закрасневшись и дрожащим голосом: — Что вам угодно? — Любезный граф! — отвечал я ему. — Я давно заметил, что вы от меня таитесь, и потому пришел спросить вас о причине этой скрытности, этой холодности, к которым не могу привыкнуть. Он смешался и по некотором молчании сказал, потупив глаза в землю: — Я люблю и уважаю вас по-прежнему, но, — прибавил он почти с сердцем, — мне нужно быть одному, и вы крайне меня обяжете, если оставите меня в покое. — Алцест! — возразил я, — я поехал с вами из угождения к почтенному родителю вашему и по собственному вашему желанию. Если мое присутствие вам в тягость, если я потерял вашу доверенность, то мне делать здесь нечего, и я немедленно отправлюсь назад. Прощайте! от всей души желаю вам счастия! Алцест взглянул на меня; он заметил, что глаза мои наполнены были слезами, и доброе сердце его не могло противостоять горести друга. Он зарыдал и бросился ко мне на шею. — Будь великодушен! — вскричал он, — прости меня! Я чувствую, что виноват пред тобою… Но с некоторых пор я сам не знаю, что делаю, что говорю… Сильная страсть, как бездонная пропасть, поглотила все чувства мои, все понятия! Я обнял его и просил успокоиться. — Вы меня удивляете, — сказал я. — Мне неизвестен предмет любви вашей; не понимаю даже, когда и где вы могли с ним познакомиться, но надеюсь, что он достоин Алцеста, и прошу мне открыть сердце ваше. — Ах! — воскликнул он, — это не девушка, — это ангел. Я не знаю еще ни имени ее, ни звания, но уверен, что и то и другое соответствует такой небесной красоте! Вы увидите ее, любезный Ф…, и не будете удивляться моей страсти. Он подвел меня к окну, отдернул занавесь и, указав на дом, находившийся против нашего, продолжал с восторгом: — Взгляните и признайтесь, что вы никогда не видели подобного ангела! Глаза мои быстро последовали направлению его перста; я увидел сидящую у окна девушку и в самом дел, изумился! Никогда даже воображению моему не представлялась такая красавица. Гриммская улица не широка, и я мог рассмотреть все черты прелестного лица ёе. Черные волосы небрежными кудрями упадали на плеча, белые, как карарский мрамор. Ангельская невинность блистала в ее взорах. Нет! ни гений Рафаэля, ни пламенная кисть Корреджия — живописца граций, не вдохновенный резец неизвестного ваятеля Медицейской Венеры никогда не производили такого лица, такого стана, такого собрания прелестей неизъяснимых! Он взглянула на нас и улыбнулась. Какой взгляд, как улыбка! — Алцест, — сказал я, — не удивляюсь вашей страсти; она для меня теперь понятна… Но скажите, к могли вы победить любопытство ваше? Неужели не старались вы узнать имя этого ангела? — Ах! — отвечал он, — я и сам недавно только узнал, что она здесь живет, хотя прелестный образ ее давно уже ношу в сердце. Месяца два тому назад я гулял за городом. Вечер был прекрасный, и я, задумавшись, забрел довольно далеко по большой дороге, ведущей в Алтенбург. Подходя к небольшому лесочку, я услышал спорящие между собою два голоса. Спор казался весьма жарким; но, не понимая языка, на котором говорили, я не мог отгадать, о чем шло дело. Из нескольких слов я успел только заключить, что изъяснялись по-испански. Вы знаете, что я не любопытен, однако в эту минуту какая-то непонятная сила понуждала меня подойти ближе. Я увидел сидящую неподвижно под деревом девушку с опущенными вниз глазами. Белый прозрачный вуаль, которым покрыто было ее лицо, не мешал мне различить ее прелестные черты! Она, казалось, не принимала никакого участия в том, что близ нее происходило, хотя, как я тотчас заметил, сама она была предметом слышанного мною жаркого спора. Перед нею стояли два человека, которых голос и движения изъявляли величайшую ярость. Один из них — высокий мужчина в красном плаще, в треугольной шляпе — хотел подойти к красавице; а другой — гораздо меньший ростом, худощавый, в светло-сером сюртуке, в круглой серой шляпе с широкими полями — не допускал его. Ссора кончилась дракою. Уже красный плащ повалил на землю своего соперника, уже протягивал он руки к сидящей под деревом девушке, — а я все еще стоял неподвижно, не зная, кому из них предложить свою помощь;.. Наконец взор, брошенный мною на лицо высокого мужчины, решил мое недоумение. Вы не можете представить, какая адская радость выражалась в его физиогномии! Уже схватил он за руку девицу, как вдруг я выскочил из-за кустов. — Остановись! — закричал я ему по-немецки. — Я не позволю никакого буйства! Неожиданное мое появление удивило их. Красный плащ взглянул на меня пристально и громко захохотал. — Пускай же эта госпожа сама решит, кому она хочет принадлежать! — вскричал он. Я подошел к ней, почтительно поклонился и сказал: — Ожидаю ваших приказаний, милостивая государыня! Но она все молчала… Я догадался, что она была в обмороке. Между тем мужчина в сером сюртуке подошел к своему сопернику. — Вентурино! — сказал он ему, — теперь ты со мною не сладишь. Советую тебе удалиться! — Хорошо! — отвечал красный плащ, — мы с тобою в другой раз разочтемся. А вас, — продолжал он, обратясь ко мне, — вас, граф, поздравляю от всего сердца. Рыцарский ваш подвиг в свое время будет достойно вознагражден. — Выговорив сии слова, он опять захохотал и скрылся между деревьями. Еще несколько минут спустя после того слышен был в дали громкий его хохот, который, не знаю почему, вселял в меня ужас!! Оставшись с соперником красного плаща, я изъявил сожаление и сердечное участие свое в положении страдалицы. — Это пройдет, — отвечал он, схватил ее под руку, и она открыла глаза! Я бросился к ней, но незнакомец не допустил меня предложить ей мои услуги. Он сам вывел ее из лесочка, посадил в коляску и, сев подле нее, приказал кучеру ехать. Я был в таком смущении, что не успел выговорить ни одного слова; когда же опомнился, то коляска была далеко. Не знаю, обмануло ли меня воображение мое, но я заметил, что при прощании со мною на лице незнакомца показалась та же адская улыбка, которая прежде поразила меня в его сопернике. Тут Алцест задумался и, помолчав несколько секунд, продолжал: — С этой роковой минуты образ неизвестного мне ангела не выходил из моей намята. Не поверяя никому чувствований сердца, я старался отыскать сам предмет любви моей и как безумный бродил по всем лейпцигским улицам. Но все поиски оставались тщетными. Единственное утешение мое состояло в том, чтобы, сидя в своей комнате, предаваться сладкой надежде когда-нибудь с нею опять встретиться. Образ ее сопровождал меня повсюду; но вместе с ним преследовали меня и пронзительный хохот красного плаща, и адская радость, изображавшаяся в чертах человека в сером сюртуке! Представьте ж себе мое восхищение, когда, сегодня поутру, нечаянно взглянув на этот дом, я увидел у окна свою прелестную незнакомку!.. Теперь я счастлив! Мы смотрим друг на друга… она мне кланяется и улыбается… и, если самолюбие меня не обманывает, то она не совсем ко мне равнодушна. Во все продолжение его рассказа я не спускал глаз с сидящей против нас красавицы. Она как будто догадывалась, что о ней говорят; от времени до времени приятная улыбка являлась на ее розовых устах, но чем более я в нее всматривался, тем страннее она мне казалась. Не знаю сам отчего, но какой-то страх овладел мною. Мне представилось, будто из-за прекрасных плеч ее попеременно показывались две безобразные головы: одна в треугольной черной шляпе, другая в круглой серой с большими полями. Стыдясь сам своего ребячества, я оставил Алцеста, дав ему наперед обещание употребить все силы для получения верных и подробных сведений о незнакомой красавице. В тот день было уже поздно, и я отложил исполнение своего обещания до другого утра. Между тем мне хотелось развлечь себя чтением, но глаза мои пробегали страницы, не передавая занятой незнакомкою душе моей ни одной мысли. Комната Алцеста была над моею спальней, и ко мне доходили его вздохи, слышались шаги его; он прохаживался по комнате и всякий раз у окна останавливался. Признаюсь, что и я не мог удержаться, чтоб не подойти к окошку. Незнакомка все еще сидела на том же месте. Удивительно, что прелестный образ ее и в моем воображении никак не мог разлучиться с отвратительным видом обоих соперников! Красный плащ и серый сюртук мелькали перед моими глазами в глубине ее комнаты, которая вся была видна из моих окошек. Настала ночь; незнакомка закрыла окно и отошла. При свете зажженных ламп я видел, что она села за арфу, и вскоре сладкие звуки итальянской музыки очаровали слух мой. Наконец я лег спать, однако с трудом мог заснуть. В самом глубоком сие звуки арфы раздавались в ушах моих и смешивались с пронзительным хохотом, о котором рассказывал Алцест… На другой день рано поутру я занялся собиранием сведений о незнакомке и узнал без больших хлопот, что весь тог дом занят приезжим профессором Андрони, прибывшим из Неаполя несколько недель тому назад. Андрони — сказано мне — испросил от Университетского Совета позволение читать лекции чистой математики, механики и астрономии и вскоре откроет курс сих наук. Он, по-видимому, человек весьма достаточный, ибо за наем дома платит довольно дорого, а за несколько дней перед его приездом прибыл сюда его обоз, состоящий из многих повозок и нескольких тяжело навьюченных мулов. Сам он живет в нижнем этаже, а верхний занимает дочь его, Аделина, девица красоты необыкновенной. Она еще ни с кем не знакома, и до сих пор ее видали только у окна. Впрочем, любимая его наука механика, и комнаты дочери его, сколько могли заметить соседи, наполнены разными машинами и инструментами, привезенными из Неаполя в обозе. С сими известиями я поспешил к Алцесту. Он кинулся ко мне на шею и в радостном восторге воскликнул: — Любезный Ф… мы будем слушать его лекции… мы с ним познакомимся… мы сблизимся с Аделиною!.. — Очень хорошо, — отвечал я, — но не забудьте, что с завтрашнего дня начинается ярмонка, которая продолжится две недели, и что лекции господина Андрони, вероятно, не прежде начнутся, как по окончании оной. Мы решились, однако, того же утра идти к нему и просить о принятии нас в число его слушателей. Граф не мог дождаться минуты, которая должна была познакомить нас с отцом Аделины. Он тотчас хотел к нему отправиться, хотя не было еще семи часов утра, и я с трудом мог упросить его дождаться удобнейшего времени. Он надеялся ее увидеть!.. Наконец ударил час, нетерпеливо ожиданный, — и мы почтительно постучались у дверей профессора. Андрони встретил нас сам. — Это он! — шепнул мне на ухо Алцест. На нем был богатый малиновый халат с крупными золотыми цветами. Маленький черный паричок с толстым пучком придавал какой-то странный вид длинному орлиному носу, огненным глазам и оливковому цвету лица, доказывавшим южное происхождение профессора. Он просил нас сесть и тонким пронзительным голоском спросил: ― Что к вашим услугам? Никогда не видывал я физиогномии более отвратительной. Какая-то язвительная насмешливость изображалась в вздернутых ноздрях, в судорожном кривлянии рта и в пискливом его голосе. Но я вспомнил, что он отец Аделины, и с учтивостию сказал ему, что он видит, пред собою русских дворян, желающих посещать его лекции. Он внес имена наши в записную книжку, поблагодарил за честь и сделал несколько вопросов о России. Казалось, что ему известно было многое, до отечества нашего относящееся. — Графа он либо не узнал, либо притворился, что никогда его не видывал. Заметив, что я со вниманием рассматриваю все предметы в его покоях, он с велеречием начал рассказывать о редкостях, вывезенных им из Египта, и о драгоценных манускриптах, найденных в развалинах Помпеи и Геркулана, главный надзор над коими некогда вверен ему был его величеством королем Неаполитанским. Он обещался, когда раскрыты будут ящики, привезенные в обозе, показать нам остовы чудовищ, извлеченных из пучин Скиллы и Харибды посредством изобретенной им машины. Будучи страстным охотником до древностей, я слушал рассказы его со вниманием, хотя неприятный голос его такое же на меня произвел действие, какое испытываем, когда острым железом царапают стекло или когда режут пробку. Между тем Алцест, попеременно бледнея и краснея, ожидал минуты, в которую удастся ему молвить слово об Аделине. Потеряв наконец терпение, он прервал речь профессора и сказал ему дрожащим от робости голосом: — Государь мой! позвольте мне… я некогда имел счастие… дочь вашу… каково ее здоровье?.. Андрони обратил на него огненные глаза, и тонкие губы его скривились в улыбку. — А, а! — вскричал он, — так это вы? понимаю!.. Он призадумался и потом прибавил: — Я очень благодарен вам за услугу, мне оказанную; но имею важные причины желать, чтобы вы не сказывали никому о случае, нас познакомившем… Я вижу, — продолжал он, заметив замешательство графа, — что тайна эта уже не может называться тайною, но если вы никому иному не вверили ее, кроме вашего товарища, то я буду спокоен, когда господин полковник Ф… даст мне честное слово, что он никому о ней говорить не будет. Требование профессора крайне меня удивило и увеличило отвращение, которое я уже к нему имел. Все неприятные впечатления, внушенные мне рассказом Алцеста и собственным моим наблюдением, как будто слились в одну точку в душе моей, и я хотел было сказать ему наотрез, что я тогда только соглашусь хранить его тайну, когда он объяснит причины, побуждающие его к такому требованию. Но Алцест предупредил меня; страшась прогневать отца Аделины, он поспешил его уверить, что я с удовольствием удовлетворю его желание, — и я принужденным нашелся дать ему честное слово. После того мы откланялись, и Андрони проводил нас до сеней, повторяя неоднократно, что посещения наши всегда будут ему приятны. Мы оставили дом его с разными чувствами. Алцест не помнил себя от восхищения, что успел проложить себе путь к сближению с Аделиною. Я же, напротив того, был задумчив и печален. Какое-то унылое предчувствие наполняло мою душу, хотя и сам я не понимал, отчего оно во мне возродилось. Странная фигура и отвратительное лицо профессора, неприятный его голос и злобная усмешка сливались в воображении моем с сверхъестественною красотою его дочери и с адским хохотом красного плаща… и все это вместе составляло смесь, от которой я чувствовал, что волосы мои подымались дыбом! Возвратившись домой, я старался успокоиться, смеясь сам над собою. «Андрони, — думал я, — не что иное, как чудак, каких на свете много. Он человек ученый, и это достоинство может заставить забыть неприятный голос его. Красный плащ, вероятно, какой-нибудь пренебреженный любовник; а Аделина… Аделина — прелестная девушка, в которую до безумия влюблен Алцест… Во всем этом ничего нет удивительного». С сими размышлениями я подошел к окну и опять увидел Аделину. Она взглянула на меня, поклонилась мне с неизъяснимою приятностию, — и печальные предчувствия мои исчезли как сон! На другой день мы опять явились у Андрони. Он принял нас, как старых знакомых, и, побеседовав немного с нами, сам предложил пойти в верхний этаж. Легко представить себе можно, с каким восхищением Алцест принял такое предложение! Казалось, что профессор это заметил; он обратился ко мне и сказал с усмешкою: — Вы теперь не увидите моей дочери; она никогда не жила в большом свете и потому чрезвычайно застенчива. Алцест тяжело вздохнул и печально взглянул на меня. Я понял причину его печали, и сам не мог не пожалеть о том, что не увижу Аделины. Андрони, по-видимому, не замечал нашего огорчения. Он показывал нам модели разных машин и объяснял в подробности их действия. Большие органы с флейтами обратили на себя мое внимание. Андрони дернул за снурок, и прекрасная музыка загремела. Я не мог довольно похвалить верность игры и приятный тон инструмента. — Это ничего не стоящая безделка! — сказал мне Андрони, — органы эти составлены мною в часы, свободные от важнейших занятий. В это время очаровательная гармония раздалась в ближней комнате, в которую дверь была заперта. — Моя Аделина играет на арфе, — сказал профессор, обратясь к нам с улыбкою. Мы слушали со вниманием. Никакое перо не в состоянии изобразить всей обворожительности, всей прелести игры ее. Я вне себя был от удивления! Алцест просил профессора позволить ему послушать вблизи небесную игру его дочери. — Аделина моя крайне стыдлива, — отвечал Андрони, — похвалы ваши приведут ее в замешательство, и я уверен, что она не согласится играть в вашем присутствии. К тому же, — прибавил он, — она не ожидала вашего посещения и теперь еще в утреннем уборе. В другой раз ей приятно будет с вами познакомиться. Пробыв еще немного, мы распрощались с хозяином и возвратились домой, очарованные талантами Аделины. Вечером посетил нас профессор. Он одет был по-старинному, однако ж весьма богато. Тот же черный паричок прикрывал его голову, но кафтан был на нем желтый бархатный, камзол и исподнее платье глазетовые, и маленькая стальная шпага висела на левом его бедре. — Я пришел предложить вам погулять по ярмонке, — сказал он. — Дочь моя никогда не видала такого многолюдства, и вы меня обяжете, если не откажетесь прогуляться с нами. Разумеется, что мы с удовольствием согласились на его предложение. Бывали ль вы в Лейпциге во время ярмонки, любезный читатель? Если нет, то трудно мне будет изобразить вам картину, представившуюся глазам нашим, когда мы подошли к площади Неймарк. Бесчисленное множество людей обоего пода и всех состояний в разных видах и одеяниях толпились по улицам; нижние этажи всех домов превращены были в лавки, которых стены и окна испещрены развешанными хитрою рукою разноцветными товарами. На площади так было тесно, что мы с трудом могли пройти по оной. Здесь взгромоздившийся на подмостки шарлатан, в шляпе с широким мишурным галуном, в кафтане, вышитом золотыми блестками, выхвалял свои капли и божился, что они исцеляют от всех болезней. Далее, на таких же подмостках, коверкались обезьяны. Тут вымазанный смолою и осыпанный пухом и перьями проказник выдавал себя за дикаря, недавно вывезенного из Новой Голландии; а там — большой деревянный слон удивлял зрителей искусными движениями хобота. Со всех сторон, на всех европейских языках купцы предлагали нам товары. Увлеченные толпою, которая пробиралась в один из домов, окружающих площадь, мы вошли в залы, где щегольски одетые, расчесанные и распудренные игроки с бриллиантовыми перстнями на всех пальцах метали банк. В Лейпциге правительство на время ярмонки отступает от строгих правил и позволяет азартные игры. Алцест, в начале прогулки нашей, желая идти с Аделиною, подал ей руку; но Андрони предупредил его, подскочив с торопливостию, и сам схватил ее за руку. Такая неучтивость профессора сильно огорчила графа. Мне самому она показалась странною, хотя, впрочем, я с удовольствием видел заботливость Андрони удалять графа от своей дочери. Странность профессора, красота Аделины и возрастающая к ней страсть моего друга делали неприятное на меня впечатление; но вскоре необыкновенное зрелище, представлявшееся глазам моим со всех сторон, привлекло на себя все мое внимание. Занимаясь рассматриванием разнообразных предметов, находившихся предо мною, и оглушенный шумом толпившегося около нас народа, я не замечал, что глаза всех обращены были на нас. Громкие восклицания не? скольких студентов, восхищавшихся красотою Аделины, наконец вывели меня из рассеянности: я взглянул на прелестную нашу спутницу. Она шла подле отца с потупленными вниз очами, не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг нее происходило. Можно было подумать, что она ничего не видит и ничего не слышит. Меня удивило такое равнодушие в молодой прекрасной девушке. Распростясь с Андрони и его дочерью и возвратясь домой, граф с восхищением говорил об Аделине. — Вы, кажется, совсем не разговаривали с нею? — спросил я у него. — Признаюсь, — отвечал он, — я почти уверен, что бедная Аделина весьма несчастна! Отец ее более похож на тирана, нежели на отца. Нельзя по крайней мере не подумать этого, видя столь непонятную робость и молчаливость. Беспрестанная ее задумчивость огорчает меня до глубины сердца. При прощании я спросил у ней, весело ли ей было на ярмонке, и, не получив никакого ответа, повторил мой вопрос. — Аделина! что же ты не отвечаешь, когда говорят с тобою? — вскричал профессор и с сердцем дернул ее за руку. Она вздрогнула, робко на меня посмотрела и вполголоса сказала: — Весело. При всем том, любезный Ф…, я имею причины надеяться, что она ко мне неравнодушна. Во время прогулки нашей она иногда взглядывала на меня с таким чувством, с таким выражением!.. — Алцест! — прервал я его. — Вы чувствительны и добродетельны; скажите откровенно, какие, думаете вы, будет иметь последствия та страсть, которая совершенно вами овладела? — Какие последствия? — вскричал он с жаром. — Можете ли вы ожидать иных, кроме женитьбы, если я ей понравлюсь и если отец ее на то будет согласен? — А ваш родитель? — Батюшка меня любит и не пожелает моего несчастия. Союз с таким ангелом, как Аделина, для меня не унизителен, не бесчестен. Она могла б быть украшением трона! Я замолчал, зная, что противоречие не произведет ничего доброго, а напротив, еще больше раздражит пылкого молодого человека. Но с первою почтою счел я обязанностию известить обо всем старого графа. День ото дня знакомство Алцеста с профессором Андрони делалось теснее. Я также посещал его довольно часто. Старик принимал нас ласково, но никогда не случалось нам наслаждаться сообществом его дочери. Он всегда находил какой-нибудь предлог, которым старался извинить ее отсутствие; то она, по словам его, не совсем была здорова; то занималась необходимыми по хозяйству делами, — одним словом, он, очевидно, хотел, чтоб мы не были вместе с нею. Казалось, что он опасался, чтоб мы не открыли какой-нибудь важной для него тайны. Признаюсь, мне неоднократно приходило на мысль, что Андрони не отец Аделины, а ревнивый опекун, влюбленный в свою воспитанницу. Между тем Алцест ежедневно проводил целые часы у окна и любовался Аделиною, которая, по-видимому, также находила удовольствие на него смотреть. Вскоре они завели взаимные между собою сношения знаками. Алцест уверен был, что она к нему неравнодушна, и любовь его еще более от того воспламенилась. Тщетно просил я его не предаваться так слепо страсти своей: советы мои не имели никакого действия! И я, с своей стороны, — хотя, впрочем, совершенно с другою целию — часто наблюдал за Аделиною, когда она сидела у окна. Я не мог не удивляться необыкновенной красоте ее; но, при всем том, я видел в ней нечто странное, нечто такое, чего никак не мог объяснить себе. На ее лице ни одного раза не заметил я ни выражения восторга, ни движения любопытства — одним словом, никакой страсти. Такая холодная нечувствительность, так сказать, отталкивала мое сердце и в иные минуты производила во мне невольный страх, которого я внутренно стыдился. Что касается до Алцеста, он не видал в ней никаких недостатков. Он любил ее так горячо, что каждый взгляд ее, каждое движение приводило его в восторг. Таким образом провели мы несколько недель, и страсть Алцеста перестала быть тайною. Все в городе говорили о близкой женитьбе молодого, богатого русского графа на дочери профессора Андрони, а я снетерпением ожидал ответа на письмо, отправленное мною в Россию. Однажды, рано поутру, пошел я к профессору, чтоб попросить у него объяснения одной трудной математической задачи. В нижнем этаже дверь была заперта, и я, считая себя домашним человеком, решился идти вверх, надеясь там найти его. В первой комнате не было никого, и я пошел далее. Вообразите ж себе, каким был я объят ужасом, когда, отворив двери, увидел Аделину, лежавшую без чувств на диване!.. Голова ее, опустившаяся с дивана, лежала на полу; длинные черные волосы, не связанные и ничем не придерживаемые, совершенно закрывали прекрасное лицо ее. Мне показалось, что в ней нет ни малейшей искры жизни. Я громко закричал, и в самое это мгновение вошел Андрони… — Скорей пошлите, — бегите за доктором! — кричал я ему. — Дочь ваша умирает, а может быть, уже… Андрони хладнокровно подошел ко мне, взял меня за руку и отвел далее от дивана. — Государь мой! — сказал он, — мне неизвестны русские обыкновения, но полагаю, что у вас так же, как у нас, в Италии, молодому человеку не позволяется входить без спросу в комнату молодой девицы. Равнодушие его меня взбесило. — Господин профессор! — отвечал я, — насмешка эта вовсе не у места. Удивляюсь хладнокровию вашему при виде умирающей дочери… Позвольте вам, однако, заметить, что близкое наше знакомство дает мне некоторое право принимать участие в положении Аделины.. При сих словах какая-то язвительная насмешливость выразилась в резких чертах Андрони. — Если участие ваше основано на дружеском ко мне и дочери моей расположении, — сказал он, — то вы, конечно, правы. Но в таком случае я должен вам объявить, что беспокойство ваше напрасно. Дочь моя здорова; это ничего не значащий припадок. Он приблизился к ней, схватил ее за руку и громко назвал по имени. Она в тот же миг открыла глаза и взглянула на меня как будто ни в чем не бывало!.. Андрони вывел ее в другую комнату, затворил дверь и возвратился ко мне. — Я надеюсь, что вы теперь успокоились? — сказал он, усмехаясь. Я был в крайнем замешательстве и не знал, что отвечать. Мы раскланялись с профессором; он проводил меня до дверей, и мне показалось, что он запер за мною задвижкой. Я невольно остановился и стал прислушиваться. Бее было тихо и безмолвно; потом услышал я какой-то странный шум, как будто заводят большие стенные часы. Опасаясь, наконец, чтоб Андрони не застал меня подслушивающего у дверей, я поспешно сошел с лестницы. Выходя на улицу, невольно взглянул я вверх и, к удивлению моему, увидел Аделину, сидящую у окна в полном блеске красоты и молодости! Необыкновенная, можно сказать, чудная сцена сия сделала глубокое на меня впечатление. Я решился рассказать о ней графу. Не успел я начать мое повествование, как вошел к нам Андрони. Я замолчал. — Вы, конечно, рассказываете графу о болезни моей дочери? — спросил он улыбаясь. — Господин полковник, — продолжал он, обратясь к Алцесту, — принимает самое живое участие в моей дочери! Маленький обморок, ничего не значащий припадок, которому часто бывают подвержены молодые и слишком чувствительные девушки, крайне испугал его. Хочу, однако, доказать вам, что дочь моя вне всякой опасности, и я, нарочно для этого, пришел вас попросить сделать мне честь пожаловать ко мне на бал сегодня вечером. — На бал? — вскричали мы оба в один голос. Чтобы понять, от чего произошло наше удивление, надобно заметить, что, кроме нас, Андрони не принимал никого в дом свой. Несмотря на все старания студентов и других молодых людей, никому, кроме нас, до сих пор не посчастливилось увидеть ее иначе, как только в окошко; и потому, невзирая на то, что мы уже некоторым образом привыкли к странностям профессора, намерение его — дать бал — изумило нас. Андрони не мог не заметить этого. — Приглашение мое вас удивляет? — сказал он нам. — Но я давно желал познакомить дочь мою с здешним модным светом. Пора отучать ее от робости, не приличной ее летам. Прощайте; спешу заняться приготовлениями к балу. Вечером мы увидимся! Пожав нам руки, он поспешно удалился. Мы остались одни. Тщетно старался я внушить Алцесту недоверчивость к Андрони и умолял его быть осторожным. Я, к крайнему огорчению, увидел, что советы и наставления мои были ему неприятны. Когда рассказывал я ему, в каком положении застал Аделину, на лице его изобразилось сильное беспокойство; но он ничего не находил необыкновенного ни в поступках старика, ни в внезапном выздоровлении дочери. Мысль, что он весь вечер проведет с Аделиною, совершенно овладела его воображением, и он не обращал никакого внимания на слова мои. Настал вечер, столь нетерпеливо ожиданный графом, и мы отправились в дом профессора, который, в праздничном бархатном кафтане своем, встретил нас с веселым видом. Вошед в залу, я не мог не удивиться искусству, с каким успел ее убрать Андрони в такое короткое время. Все было странно, но все прекрасно, все со вкусом. Глаза наши при входе не были поражены ярким светом ламп и многочисленных свечей. Алебастровая огромная люстра, висевшая посреди комнаты, изливала томный свет, как будто происходивший от сияния луны. Вдоль по стенам стояли померанцевые деревья, коих промежутки украшены были расставленными в фарфоровых вазах цветущими растениями, наполнявшими воздух благоуханием. Казалось, что профессор для украшения залы своей истощил все оранжереи Лейпцига и окрестностей. На зеленых ветвях больших померанцевых дерев висели разноцветные лампы, которых блеск сливался с сиянием от алебастровой люстры, и озаренные сим чудным светом двигающиеся по зале в разных направлениях гости, у которых на лице написано было любопытство и удивление, придавали всему вид чего-то волшебного. Собрание было весьма многочисленно, несмотря на то что незапное и неожиданное приглашение Андрони совершенно было противно германскому этикету. Почти ни один из гостей не был знаком с хозяином; но никто не отказался от бала: все любопытствовали видеть вблизи прелестную Аделину, о которой рассказывали в городе чудеса. При входе в залу глаза графа искали ее между лейпцигскими красавицами, но ее тут не было. Профессор объявил гостям, что дочь его скоро будет, и просил начать танцы, не дожидаясь ее прибытия. Все с участием спрашивали об ее здоровье и получили в ответ, что она занята необходимыми делами, по окончании которых непременно явится. В другое время дамы, удостоившие профессора посещением своим, вероятно, обиделись бы тем, что хозяйка их не встретила; но тут, где все было необыкновенно, где все носило на себе печать какой-то чудной странности, никто не изъявил неудовольствия за такую неучтивость. Танцы начались. По тогдашнему обыкновению, в Германии каждый кавалер при открытии бала избирал даму, с которою уже танцевал в продолжение всего вечера. Алцест, который во весь тот день занимался сладостною мечтою, что Аделина будет его дамою, обманутый в своей надежде, с печальным видом сел под померанцевое дерево и с рассеянностию смотрел на веселящихся гостей. Бал начался менуэтом, а за ним следовали и другие танцы. В средине одного шумного экосеза вдруг отворилась дверь и вошла в залу Аделина… Она одета была весьма богато, в испанском вкусе. Малиновое бархатное платье, вышитое золотом, богатый кружевной воротник, которого частые складки прикрывали высокую грудь ее, драгоценные каменья, украшавшие ее волосы, давали ей вид величественный и важный. При входе она с приятностию поклонилась. Андрони взял ее за руку и повел к стулу; а Алдест, увидев ее, в восторге своем не мог удержаться от громкого восклицания. Все оглянулись… гости забыли об экосезе и обступили Аделину, которая, с приметною робостию встав с своего стула, кланялась на все стороны. Не могу изобразить впечатления, произведенного ее появлением во веем собрании! В самом деле, она блеском красоты своей помрачала всех лейпцигских красавиц. Дамы перешептывались друг с другом; мужчины с завистию посматривали на Алцеста, который между тем пожирал ее глазами. Профессор с трудом мог уговорить гостей окончить начатый эгосез. Сам он ни на минуту не отходил от Аделины, которая на делаемые ей вопросы отвечала едва внятным голосом. Андрони часто говорил за нее, приписывая чрезмерную робость ее незнанию немецкого языка и непривычке находиться в таком многолюдном обществе. Что касается до меня, — мысль о ревнивом опекуне опять пришла мне на ум… и хотя, с одной стороны, мысль эта — внушала мне отвращение к Андрони, но, — с другой — она служила мне некоторым утешением, потому что горячность профессора к Аделине считал я оплотом против любви графа. Все гости, не исключая меня, желали, чтоб Аделина танцевала, и все приступали к Андрони… Он с замешательством извинялся, говоря, что дочь его, родившаяся в южной Европе и воспитанная в уединения, не имеет понятия о танцах, употребительных в Германия. Долго просьбы наши были безуспешны. Наконец, убежденный нашею докучливостию, профессор перед самым концом бала объявил нам, хотя, впрочем, с видимою досадою, что, для удовлетворения желания таких дорогих гостей, дочь его протанцует фанданго. Испанская пляска сия в тогдашнее время еще мало была известие в Германии; многие из гостей даже никогда не слыхивали ее названия, и любопытство собрания от того увеличилось. Загремела музыка, гости стали в пространный круг, и Аделина начала пляску свою. Неоднократно случалось мне во время пребывания моего в Гишпании видеть самых лучших танцовщиц, но я должен признаться, что ни одна из них не танцевала с таким искусством, как Аделина! Прелестные ножки ее двигались с неимоверным проворством; все движения тела были живописны. Но при всем: том мне показалось что в ней недостает той живости, той непринужденности, без которых самый искусный балетмейстер сходен с бездушною куклою, прыгающею на пружинах. Несколько раз в продолжение пляски Аделина сбивалась с такта и столь явно, что Андрони за нужное счел сложить вину на музыкантов, приписывая это их неведению и неискусству. Пляска кончилась при громких рукоплесканиях восхищенных зрителей. Аделина, казалось, весьма устала; она чрез силу дотащилась до стула с помощию отца, и Андрони довольно ясно дал заметить гостям, что бал кончился. Стали разъезжаться; мы с Алцестом были в числе последних. Граф стоял как вкопанный и в. безмолвном восторге не спускал глаз с Аделины… Между тем большая часть, разноцветных ламп погасла; померкнувший свет алебастровой люстры и темная тень от деревьев всем предметам давали вид неопределенный. Мне сделалось что-то грустно и вместе страшно; я настоятельно начал просить графа пойти домой и с трудом мог его уговорить. Когда мы выходили из залы, я нечаянно оглянулся, и мне показалось, будто из того угла, где сидели музыканты, вышел высокий мужчина в красном плаще и в треугольной шляпе… Медленными шагами прошел он чрез комнату и скрылся во внутренние покой. На лице его выражалось что-то зверское. Я не мог не вспомнить о Вентурино… Возвратясь домой, я рассказал о том графу, но он не хотел мне верить. На другой день рано поутру разбудила меня эстафета, присланная из Дрездена. Корреспондент мой. уведомлял меня, что банкир N. N., у которого хранилась значительная сумма, принадлежавшая графу, объявил себя банкротом. Присутствие мое в Дрездене было необходимо, и я принужденным нашелся немедленно послать за курьерскими лошадьми. Легко себе представить можно, каково мне было оставить графа в его положении! Но от Лейпцига до Дрездена не так далеко, особливо для русского. «Пробежать верст полтораста, — думал я, ― мне не в диковинку. Если возвращение мое сделается нужным, верный Иван отправит ко мне эстафету, и я тотчас явлюсь в Лейпциге». Сколько я, однако, ни старался утешить себя такими рассуждениями, какая-то непонятная тоска стесняла мою грудь! Чудное появление Вентурино в доме Андрони беспрестанно приходило мне на ум. Распростившись уже с графом, я опять к нему воротился и умолял его не посещать профессора в мое отсутствие. Но он не слушал меня и не понимал! Я с сокрушенным сердцем оставил его. Не буду говорить о пребывании моем в Дрездене. Неудовольствия, с которыми я там боролся, потеря весьма значительной суммы, все это ничего не значит в сравнении с ужасными событиями, ожидавшими меня в Лейпциге! На третий день получил я эстафету от Ивана, который умолял меня возвратиться к графу. «Барин мой, — писал он, — со времени отъезда вашего был неразлучен с проклятым итальянцем. Сегодня поутру он уведомил меня, что женится на дочери фигляра!.. Он даже не хочет дожидаться ни возвращения вашего, ни родительского благословения. Напрасно валялся я у ног его!.. Поспешите! может быть, вы успеете предупредить несчастие». Письмо это крайне меня испугало. В продолжение нескольких минут я не мог опомниться, наконец как сумасшедший побежал на почтовый двор. Просьбы мои, и в особенности звенящий кошелек, придали несколько живости почтмейстеру, и не прошло еще часу, как я сидел уже в дорожной коляске. Но какое мучение ожидало меня на пути! Кто не путешествовал по Саксонии, кто не испытал над собою флегмы саксонских почтальонов, тот не может понять моей досады, моего отчаяния! Ни просьбы, ни обещания, ни деньги, ни угрозы не в состоянии были принудить двигаться проворнее почтальонов, которых бесчувственность в этом отношении может равняться только с неповоротливостию тяжелых лошадей, ими управляемых. Как часто дорогою вспоминал я о любезной нашей России! Измученный напрасным старанием хотя немного оживить почтарей и терзаемый ожиданием несчастий, которые представлялись моему воображению, я дотащился наконец до Лейпцига. Это было поздно ввечеру. Когда въехал я в заставу, медленное движение коляски показалось мне еще несноснее; я с нетерпением выскочил и побежал по Гриммской улице, оставя далеко за собою изумленного своего саксонца. При входе в комнату Алцеста встретил меня Иван, бледный как полотно. — Где граф? — спросил я. — Граф сегодня ввечеру обвенчался и переехал к своему тестю, — отвечал он мне дрожащим голосом… — Я хотел идти за ним, но меня не пустили!.. Не расспрашивая его ни о чем более, я бросился в дом Андрони. В сенях попался мне навстречу высокий мужчина, которого лицо показалось мне знакомым. Я узнал Вентурино. Он одет был в черную мантию, какую обыкновенно носят в Германии духовные особы. На голове у него был распудренный парик с длинными локонами. «Вентурино в пасторском облачении!» — подумал я… и воображению моему ясно представилось, что такое беззаконное переряжение должно непременно означать какой-нибудь злой умысел, которого цель, однако, для меня была непонятна! В первой комнате нашел я профессора, занимающегося чтением, — и он, казалось, вовсе меня не заметил. — Ради бога! — вскричал я. — Что вы сделали с моим другом? — А! это вы, господин полковник? — сказал Андрони, обратясь ко мне с спокойным видом. — Мы не ожидали, чтобы вы так скоро кончили дела ваши. Зять мой очень обрадуется, когда узнает, что вы возвратились. — Зять ваш? — отвечал я с сердцем. — Неужели вы думаете, что я позволю вам ругаться над моим другом?.. — Вы забываетесь, господин полковник! — возразил Андрони, не теряя хладнокровия, — Говорите потише; вы можете испугать графиню, да и графу не очень приятно будет видеть любезного наставника своего в таком положении. Насмешка его вывела меня из терпения. — Изверг рода человеческого! — закричал я в исступлении. — Говори, что значит эта комедия? Зачем ты товарища своего — такого же плута, как ты сам — нарядил в пасторы?.. Но я разрушу ваши козни. Немедленно веди меня к Алцесту! Андрони очевидно смешался при этих словах. Он побледнел, губы у него задрожали, и огненные глаза его засверкали, от ярости. Вскоре, однако, он опять пришел в себя. — Государь мой! — произнес он, задыхаясь от злости, — вы не имеете права повелевать мною. Завтра поутру Алцест отмстит за оскорбленную честь своего тестя! Но сегодня вы его не увидите. Новобрачные желают быть одни. Итак, советую вам удалиться и не забывать, что вы находитесь в моем доме и что угрозы ваши совершенно бесполезны. — Завтра поутру, — отвечал я, смущенный уверительным его голосом, — завтра поутру я с тобою разделаюсь! Не воображай, что ты избегнешь заслуженного наказания! Я вышел из комнаты, захлопнул дверь и услышал за собою пронзительный хохот Андрони… Возвратясь домой, я предался размышлению. Замешательство. Андрони ясно доказывало, что мнимый пастор, встретившийся со мною, был не кто иной, как Вентурино. Но какие причины могли побудить профессора к столь беззаконному поступку? Какую пользу находил он в поругании собственной дочери, соединив ее с графом такими узами, которые могли быть расторгнуты без малейшего труда? Я терялся в догадках, однако твердо решился на другой день поутру объявить местному начальству о преступлении профессора. Признаюсь, я с некоторым удовольствием помышлял о том, что Алцесту приключение сие может послужить уроком, который навсегда излечит его от страсти к романическому… С сими мыслями я лег спать, хотя и предчувствовал, что беспокойство мое не даст мне во всю ночь сомкнуть глаз. Было около полуночи, когда я услышал, что кто-то бежит ко мне по лестнице. Немного погодя дверь отворилась, и я, к крайнему изумлению, увидел графа — в халате, с растрепанными волосами!.. Вид его показывал человека, находящегося в отчаянии. — Любезнейший Ф…! — вскричал он, бросившись ко мне на шею. — Спасите меня… спасите от сумасшествия! — Что с вами сделалось, любезный Алцест? — спросил я, испугавшись и вскочив поспешно с постели. Граф был в таком положении, что почти не мог говорить. Из отрывистых и несвязных речей его узнал я наконец такое происшествие, при воспоминании которого и теперь еще у меня волосы становятся дыбом! На другой день отъезда моего в Дрезден сильная страсть Алцеста дошла до того, что он решился просить у Андрони руку Аделины. Старик, по-видимому, весьма обрадовался этому предложению, но требовал — по причинам, которые впоследствии обещался объяснить, чтобы бракосочетание совершено было втайне. Влюбленный Алцест на все согласился. Ввечеру призван был пастор в дом Андрони, и обряд совершен в присутствии одного отца, без свидетелей. Аделина после того удалилась в свою спальню… Чрез несколько времени впустили туда и Алцеста. «Вы без труда поверите, любезный Ф…, — говорил мне граф, — что я с восторгом бросился в объятия жены моей. Мысль, что я обладаю Аделиною, что наконец могу назвать ее своею, приводила меня в неизъяснимое восхищение. Вообразите же себе, как я испугался, когда, осыпав ее поцелуями, заметил, что она не отвечает на ласки мои! Она лежала, как будто лишенная всех чувств… В смятении моем не знал я, что делать; вспомнив, однако, что на уборном столике стояла склянка с крепким уксусом, я вздумал потереть ей виски и грудь. Но какими словами опишу вам ужас, меня объявший, когда от сильного натирания вдруг прелестная грудь моей Аделины лопнула и из отверстия показался… большой клочок хлопчатой бумаги! Сам не помню, как я выбежал из комнаты и как очутился здесь!» Я не знал, что подумать, услышав рассказ Алцеста. Мне вообразилось, что несчастный друг мой лишился ума, и я всячески старался его успокоить. — Опомнитесь, любезный граф! — говорил я ему. — Вам, верно, пригрезился какой-нибудь страшный сон! — Нет! — отвечал он, обливаясь слезами, — я не спал… Я видел ясно хлопчатую бумагу, высунувшуюся из груди бедной моей Аделины… Пойдемте, пойдемте! я докажу вам, что это не сон! Желая его успокоить, я поспешил одеться и пошел с ним. Войдя в сени, граф от сильного волнения чувств пришел в такую слабость, что, конечно, упал бы, если б я не подхватил его под руку. Он дрожал всеми членами, и я с трудом взвел его на лестницу. Я сам был в ужасном положении… Сердце мое сильно билось; печальные предчувствия теснились в моей душе. В глубоком молчании прошли мы первые комнаты, где не встретили никого. Наконец отворил я спальню — и оцепенел при виде того, что мне представилось! Аделина на кровати лежала полунагая. Профессор сидел подле нее. На горбатом носу его надеты были большие очки; левою рукою он упирался об Аделину, а в правой держал кривую иглу, которою зашивал ей грудь!.. Из одного конца прорехи, еще не зашитой, торчала хлопчатая бумага. На обнаженном боку Аделины усмотрел я глубокое отверстие, в которое, при входе нашем, Вентурино вложил длинный ключ, какие употребляются для заведения больших стенных часов. Злодеи так были заняты своею работою, что не заметили, как мы вошли в комнату. Не успел я еще опомниться, как Алцест с ужасным криком бросился на Андрони. На лице его изображалась ярость… Он замахнулся на него тростью и, может быть, убил бы его на месте, если б Вентурино не удержал его руку. Андрони пришел в исступление от злости. Он схватил тяжелый молот, подле него лежавший, и ударил Аделину прямо в голову!.. В одно мгновение лицо ее совершенно преобразилось! Прелестный носик ее сплюснулся, белые жемчужные зубы посыпались из раздробленных челюстей!.. — Вот твоя жена! — приговаривал Андрони, продолжая ударять молотом по Аделине… От одного удара прекрасные голубые глаза ее выскочили из глазных ямок и отлетели далеко в сторону… Бешенство овладело бедным Алцестом… Он схватил с полу глаза своей Аделины и стремглав выбежал из комнаты, громко смеясь и скрежеща зубами!.. Я последовал за ним. Вышед из дому, Алцест остановился на минуту; потом испустил жалостный вопль и вдруг, как стрела, помчался вдоль по Гриммской улице. Я не мог догнать его. Когда уже был я на улице, мне слышался хохот Вентурино, пронзительный крик Андрони и стук молота, как будто разбивающего колеса в больших стенных часах. Остаток ночи и весь следующий день бродил я, с верным Иваном, по Лейпцигу и тщетно искал графа. В глубокую полночь возвратился я домой… без него! В окошках дома, занимаемого Андрони, не было огня. Дворник, отворяя нам дверь, рассказал мне, что в то же утро профессор выехал из города в открытой коляске, Подле него сидел высокий мужчина в красном плаще и в треугольной шляпе. За ними следовало несколько телег с разною поклажею. На другой день пришел ко мне начальник городской полиции и объявил, что на берегу реки Эльстер, подле самого глубокого места, найден батистовый платок с меткою С. А. и два финифтяные глаза. Платок был Алцестов, но тело несчастного моего друга не могли отыскать. Я поспешно уехал в Россию. В самый день отъезда вошел в комнату мою один из служителей старого графа, отправленный ко мне курьером. Под Варшавою разбили его лошади; он целые три недели без памяти пролежал на почтовом дворе и оттого замедлил приездом. Я распечатал пакет. Граф писал ко мне:«Умоляю вас всем, что для вас дорого, любезный Ф…, спешите исторгнуть сына моего из пропасти, в которую без вас он неминуемо повергнется! Если нужно, употребите силу, передаю вам родительскую власть мою. Профессор, о котором вы пишете, мне слишком известен. Он человек весьма ученый и притом искуснейший механик — вентрилок. Я познакомился с ним еще в молодых летах в Мадрите. Некоторый случай сделал его непримиримым врагом моим, и он поклялся мстить мне и всему моему роду… Ради бога, не теряйте времени!»Возвратясь в отечество, я уже не застал в живых старого графа… — Почтенный Двойник! — сказал я, выслушав рассказ о пагубном влиянии необузданного воображения. — Вы не хотели верить возможности появления Анюты в повести, которую имел я честь вам прочитать, а сами рассказали мне теперь совершенную небылицу. Есть ли какое-нибудь в том правдоподобие, чтоб человек влюбился в куклу? И можно ли так искусно составить куклу, чтоб она гуляла по улицам, плясала на балах, приседала и улыбалась… и между тем бы никто не заметил, что она не живая? — Что касается до первого вопроса вашего, — отвечал Двойник, — может ли человек влюбиться в куклу? то, мне кажется, мудреного в этом ничего нет. Взгляните на свет: сколько встретите вы кукол обоего пола, которые совершенно ничего иного не делают и делать не умеют, как только гуляют по улицам, пляшут на балах, приседают и улыбаются. Несмотря на то, частехонько в них влюбляются и даже иногда предпочитают их людям, несравненно достойнейшим! К тому же происшествие это совсем не ново: вспомните о Пигмалионе, который, как говорит предание, влюбился в статую, им самим сделанную, пред которою наша кукла по крайней мере имеет то преимущество, что она двигалась. — Может ли быть кукла, спрашиваете вы еще, — продолжал Двойник, — так искусно составлена, чтоб была похожа на живую? Ах, любезный Антоний! до чего не умудрится ум человеческий! Сколько примеров могу я вам напомнить об автоматах, не менее моей куклы удивительных! Не помню, где читал я, что какой-то механик составил деревянного ворона, который при въезде одного римского императора в город Ахен подлетел к нему и проговорил внятным, голосом весьма красноречивое приветствие на латинском языке… Кому неизвестно, что знаменитый Алберт (ученый астролог, живший в тринадцатом столетии и прозванный Великим) составил куклу, над которою трудился беспрерывно тридцать лет? Кукла эта, названная Андроидою Алберта Великого, по свидетельству тогдашних писателей, так была умна, что Алберт советовался с нею во всех важных случаях; но, к сожалению, один из его учеников, которому надоела неумолкаемая болтливость этой куклы, однажды в сердцах разбил ее на части. И в наши времена видели во всех столицах Европы одного искусника, который возил с собою и показывал за деньги небольшого деревянного турку, умеющего играть в шахматы и обыгрывающего известнейших игроков. Подобных примеров мог бы я насчитать множество, если бы у меня была не такая плохая память. В тысяча восемьсот пятнадцатом году физик Робертсон, бывший пред тем в России и показывавший фантасмагорические представления, хвалился, что он изобрел нового рода клавикорды, которые выговаривали целые слова человеческим голосом. Я сам видел клавикорды эти в Париже: к ним приделана была кукла в человеческий рост, щегольски одетая в женское платье, с модною на голове шляпкою. Робертсон садился за клавикорды, и, по мере того как перебирал клавиши, кукла выговаривала (правда, голосом довольно диким) несколько слов, как-то: papa, maman, mon frère, ma soeur, vive le roil![7] и тому подобное. Множество русских, бывших в то время в Париже, конечно, не забыли об этой кукле Робертсона. — При всем том, — возразил я, — вы никак меня не уверите, чтобы человек умный, каким описываете молодого графа, мог влюбиться в куклу. Пускай бы это случилось с глупцом; но человек такой умный… — Умный! умный! — прервал меня с некоторою досадою Двойник. — Да можете ли вы в точности определить, что такое умный человек? и разве никогда не случалось вам видеть, что люди, слывущие в свете умными, делают такие глупости, которые непростительны были бы дуракам? — В самом деле, — отвечал я, — нередко случалось мне видеть это, и я никогда не мог понять, отчего это происходит? Сделайте дружеское одолжение, любезный Двойник, объясните мне загадку эту и вместе с тем научите, каким образом должно определять степень ума у людей? Вы, верно, более меня в этом имеете сведений; а я, признаюсь, в течение жизни моей с умными людьми неоднократно попадал впросак. Я чувствительно вам буду обязан. — Вы знаете, дражайший Антоний, что я не в силах вам отказать в чем бы то ни было, а потому постараюсь исполнить ваше желание. Но оставим разговор этот до другого раза. Назначенное нами для разлуки время давно протекло. Прощайте!
А. К. Толстой АМЕНА отрывок из романа «Стебеловский»
Солнце уже было на закате, когда я, со стилетом в кармане, пришел в Колизей; но чудное освещение древнего амфитеатра не привлекало моего внимания; жажда мщения кипела в груди моей и вытесняла все другие мысли. Передо мной проходили одно за другим все обстоятельства, приведшие меня в эти развалины; я вспомнил свое знакомство с Пепиной; вспомнил все ядовитые шутки Мореля, который, как злой дух, не переставал преследовать меня во все пребывание мое в Риме; наконец, вспомнил его последнюю обиду и задрожал от ярости… Вдруг послышалось знакомое пение, раздался звон колокольчика, и длинный ряд людей с завешенными лицами вошел в ворота и потянулся вокруг арены, останавливаясь у каждой часовни и читая вполголоса молитвы. Обошед все до одной и преклонив колено перед крестом, на средине арены, братья милосердия в прежнем порядке вышли из амфитеатра; лишь один остался неподвижен, распростертый у подножия креста. — О друзья мои, прощаете ли вы меня? — произнес он глухо и таким странным голосом, что я невольно затрепетал. Незнакомец поднял голову, и сквозь прорезанные дыры его покрывала устремились на меня выразительные глаза его. — Молодой человек, — сказал он, — я знаю, кого ты ожидаешь и с каким намерением, и я затем здесь, чтоб остановить тебя на краю бездны и удержать от преступления. — Кто ты? — спросил я с изумлением, — и отчего тебе известны мои сокровеннейшие мысли? — Кто бы я ни был, — отвечал он торжественно, — благодари бога, что он дозволил тебе встретить меня, и внемли моим словам: на этом самом месте, где мы теперь стоим, совершилось некогда ужасное преступление, и жестоко за него наказан преступник! Слушай, — продолжал незнакомец, облокотись на капитель древней колонны, которой обломки разбросаны были по арене, — я расскажу тебе нечто, случившееся давно, очень давно: «Во времена императора Максимиана жили в Риме два друга, Виктор и Амвросий, и оба они были христиане. Сестра Виктора была помолвлена за Амвросия, и день их свадьбы уже приближался; но не брачный венец провидение назначало Леонии. В то время кесарь стал преследовать нашу святую веру, и целыми тысячами погибали его жертвы, иные растерзанные зверями, другие сверженные со скалы Тарпейской. Братья, дети и друзья этих несчастных собрались в отдаленнейшей части Рима и принесли перед крестом торжественный обет: скорее умереть в мучениях еще ужаснейших, чем хотя единым словом отречься от истинного бога. Виктор и Амвросий были между давшими сей обет. Они бросились в объятия друг друга и подкрепили слезами умиления священную клятву. Дабы существенным символом ознаменовать свой духовный союз, Амвросий снял с себя тогу, надел ее на Виктора, а сам покрылся тогою своего друга. — Можем ли мы быть счастливее? — сказал он Виктору. — Сестра твоя скоро будет моею женою; а есть ли в языческой древности хотя один пример такой дружбы, как наша? — Будем благодарить всевышнего, — отвечал Виктор, — даровавшего тебе любовь, а мне дружбу, как прекрасное предчувствие ожидающего нас в той жизни блаженства, но не забудем, что велика власть врага человеческого и что козни его неисчислимы. Счастье наше не от мира сего, и мы не должны ему предаваться вполне, но бдеть и молиться, дабы враг не раскинул нам сетей в самую минуту упоения. Амвросий не отвечал ни слова, но внутренне упрекнул своего друга в излишней боязливости. В тот самый вечер Амвросий, проходя мимо храма Венеры, которого развалины видны чрез эти ворота, услышал пронзительные вопли, смешанные с неистовыми криками; несколько факелов блеснули перед ним. Выхватив меч, он бросился вперед и увидел четырех преториянцев, влекущих за собою девушку с распущенными волосами, в растерзанной одежде. Несколько ударов меча рассеяли хищников. Амвросий поднял брошенный одним из них факел и хотел помочь девушке встать, но она была в обмороке. Он стал перед нею на колени и начал тереть ее виски, ладони и подошвы. Вскоре она раскрыла глаза, и лицо ее покрылось румянцем стыдливости, когда она взглянула на свою одежду. Амвросий хотел прикрыть девушку своей тогой, но лишь только сбросил ее с плеч, как услышал опять дикие крики и увидел блеск факелов. Преториянцы возвращались в сопровождении новых товарищей. Крики становились громче, проклятия внятнее, и факелы уже освещали их зверские лица, а Амвросий все еще стоял в недоумении, не зная, как скрыть их беззащитную жертву. Вдруг девушка приподняла голову и указала ему на стену храма, где было проделано, вроде двери, узкое, едва заметное отверстие. Потушив факел, Амвросий взял девушку на руки, вошел в отверстие и, ощупав ногою крутую лестницу, начал спускаться в подземелье. Ступени уже кончились, он чувствовал под ногами мягкие ковры, но незнакомка все еще обвивала его руками и крепко к нему прижималась. — Не страшись ничего, — сказал ей Амвросий, — похитители твои далеко, и ты можешь отдохнуть в этом безопасном месте. — Ах, — отвечала она, — я теперь совершенно спокойна и обнимаю тебя единственно из благодарности. Сказав это, она ударила в ладони, и две лампы зажглись как будто волшебством. Амвросий увидел богато убранную залу, среди которой стоял бронзовый стол с сосудами и плодами. У стола находился широкий триклиний, высеченный из красного мрамора и покрытый пурпуровыми подушками. Вдоль стен стояли седалища из бронзы и мрамора, также покрытые пурпуром. Когда, по приглашению неизвестной, Амвросий выпил бокал душистого фалерна, она села на триклиний к его ногам и начала следующим образом: — Тебе, конечно, кажется странным твое приключение, но чтобы объяснить его, я должна тебе рассказать, кто я и где ты находишься. Я родом из Греции, мое имя Анадиомена, но отец и мать зовут меня просто: Амена. В Греции жизнь моя текла тихо и спокойно, но лишь только я вступила в Рим, как начались мои несчастия, а виною тому ваш кесарь, изверг Максимиан… Тут Амвросий остановил Амену и приложил палец к губам. — Не бойся, — отвечала она, улыбаяся, — стены эти так толсты, что снаружи невозможно слышать ни одного слова. Максимиан, — продолжала она, — увидел меня однажды в храме и решился похитить. Несколько раз избегала я его сетей; но, видя наконец, что мне нельзя показаться на улице без того, чтобы два или три преторианца на меня не напали, я не стала выходить вовсе. В одну ночь толпа сих злодеев ворвалась ко мне в спальню и именем кесаря требовала, чтобы я шла за ними. Я от них ускользнула, нашла случайно это убежище и решилась в нем остаться. Я тайно уведомила отца о своей участи, и он доставляет мне все потребности жизни и присылает поочередно несколько девушек для моей прислуги. Сегодня неизъяснимая грусть мною овладела, и, считая окрестности этого подземелья безопасными, я не вытерпела и вышла подышать свежим воздухом ночи; но едва сделала несколько шагов, как ненавистные преториянцы схватили меня и, несмотря на мое сопротивление и крики, повлекли за собою… Если бы ты не подоспел ко мне на помощь, я бы теперь была во дворце Максимиана… О, я не могу подумать об этом без ужаса! Амена закрыла лицо руками, и Амвросий видел, как она покраснела. Оставшись несколько мгновений в этом положении, красавица взглянула на Амвросия и сказала ему с замешательством: — Рассказывая тебе мои похождения, я и забыла, что платье мое в беспорядке. Если позволишь, я оденусь в твоем присутствии, потому что жилище мое очень тесно… Она ударила в ладони— и вошли три девушки с разными принадлежностями женского наряда. Сперва Амена дала расчесать себе длинные волосы, потом приказала одной из них держать пред собою покрывало в виде ширм и, сняв тунику, велела освежить себя водою и натереть ароматным маслом. Пока девушки ей прислуживали, Амвросий чувствовал какое-то странное беспокойство; ему казалось, что не кровь, а огонь течет в его жилах. Он решился уйти, не простясь с Аменой; но лишь только сделал несколько шагов по ступеням, как услышал голос одного из преторианцев: — Клянусь Геркулесом, — говорил он, — я не отойду отсюда пока не отыщу этого проклятого молокососа и не отрублю ему ушей! — Этого мало, — отвечал другой, — с ним должно поступить, как Улисс поступил с неверным пастырем коз. Услыша эти слова, Амвросий счел, что было бы неосторожно показаться кровожадным грабителям, и возвратился к Амене. — Друг мой, — сказала она, — теперь уж поздно: если ты пустишься в путь об эту пору, то непременно будешь убит. Останься здесь на ночь, а завтра чем свет возвратишься домой. Ты можешь лечь на этой кровати, я же буду спать с своими девушками. Амвросий чувствовал непреодолимое влечение ко сну и, не отвечая ни слова, опустился на триклиний и вскоре забылся. Сквозь сон он слышал голос Амены, разговаривавшей с своими прислужницами, и шум воды, когда они выжимали грецкие губки в серебряные сосуды. Потом звуки эти так смешались, что ему показалось, будто бы то звон бокалов и гармоническое пение, сопровождаемые арфой. Ему представилось, что он сидит за столом, покрытым дорогими яствами и душистыми винами. Седой слепец, стоя перед ним, ударял в струны и пел ту самую песнь, которую в „Одиссее“ поет Демодок и где описывается, как Марс и Венера пойманы были сетями Вулкана. Человек в блестящей короне, сидевший подле него, спросил его, улыбаясь: — Хотел бы ты быть на месте Марса, с тем чтобы тебя, подобно ему, накрыли сетями? Амвросий вспомнил о своей невесте и хотел сказать: „Нет!“ — но язык его нечаянно повернулся, и он невольно произнес: — Да, если бы Венера походила на Амену! Тут звуки арфы сделались гораздо сладостнее, зала наполнилась облаками, и он почувствовал, что возносится кверху. Когда облака рассеялись, Амвросий находился на высокой горе, откуда виднелись ему цветущие нивы, зеленые леса, светлые реки и необъятное голубое море с бесчисленными островами. Человек в золотой короне сидел пред ним на высоком престоле, окруженный множеством людей в светлых одеждах. Когда он шевелил бровями или потрясал черные кудри, то вся гора дрожала и молнии рассекали гнездившиеся вокруг нее тучи. — Друг мой, — шепнул ему знакомый голос, — ты теперь на Олимпе и видишь перед собою собрание бессмертных, готовых принять тебя в свой круг, если ты отречешься от христианства! Амвросий оглянулся и увидел Амену, но он догадался, что то была сама Венера, потому что у ног ее ворковали два голубя. — Согласен ли ты для меня забить свою веру? — спросила она опять. — Муж мой стар и хром, ты же, как Марс, и красив и молод: я охотно променяю на тебя мужа, скажи только, что ты согласен! Амвросий опять вспомнил о Леонии и хотел сказать: „Нет, ни за что на свете!“ — но язык его вторично повернулся, и он чуть было не проговорил: „Согласен!“ — как вдали увидал друга своего Виктора и сестру его Леонию, которые манили его к себе, показывая мученический венед. В эту минуту Амвросий нечаянно поднял глаза, увидел, что над ним раскинута тонкая сеть из огненных ниток. Амена показалась ему уже не столь прекрасною, а вместо голубей из-под ног ее вспорхнули две летучие мыши. Он сотворил внутреннюю молитву и проснулся. Вокруг него было темно; но что-то горячее причиняло ему сильную боль в голове, и, ощупав лоб, он почувствовал на нем руку Амены. Он вскочил с кровати и бросился из подземелья; но едва успел пройти несколько шагов, как опять услышал голоса преториянцев. — Клянусь Геркулесом, — говорил один, — если мне попадется этот мальчишка, то я его растерзаю на части! — Этого мало, — отвечал другой, — с ним должно поступить, как Тезей поступил с Прокрустом! Слова эти показались так ужасны Амвросию, что он не решился выйти из подземелья и возвратился ощупью на свое место. Лишь только глаза его сомкнулись, он увидел себя в очаровательной стране, на берегу ручья, где вокруг серебряных тополей вился изумрудный виноградник, скрывая под широкими листьями спелые золотистые грозда. Нимфы играли на мягкой траве с резвыми сатирами, в ручье плескались наяды, а в зелени деревьев пели красивые птицы. Из рощи выходили центавры в дубовых венках и, вмешавшись в толпу сатиров и нимф, начинали с ними веселую пляску. Амвросий чувствовал нестерпимую жажду, но, подобно Танталу, он, не мог ни напиться из ручья, ни достать рукою гроздий. В то время как он тщетно нагибался и протягивал руки, сладкий голос произнес близ него: — Сними с себя крест, хотя на одно мгновение, и ты тотчас утолишь свою жажду! Он оглянулся и в кругу нимф узнал Аману; но он догадался, что это не Амена, а Ветера, ибо на ней был золотой пояс необыкновенной работы, придававший ей удивительную красоту. Он не мог противостоять ее словам и уже дотронулся до креста, как ему показалось, что вдали он видит толпу народа. Вглядевшись в нее пристально, он узнал Виктора; несколько людей клали его на деревянный станок, и палач, с обнаженною грудью, готовился истязать его раскаленными клещами, между тем как четверо других привязывали Леонию к большому колесу. — Прощай, Амвросий, — кричали ему друг и невеста, — мы умираем за нашу веру и будем молиться у престола всевышнего, чтобы он избавил тебя от ослепления! — Нет, мои друзья, и я хочу умереть с вами! — вскричал Амвросий и внезапно проснулся. Он вскочил с одра и опрометью побежал из подземелья; но лишь только очутился на ступенях, как услышал два грубые голоса: — Клянусь Геркулесом, — говорил один из них, — если бы теперь попался мне этот повеса, я бы отрубил ему ноги и руки. — Этого мало, — отвечал другой, — я бы с ним поступил, как Аполлон с Марсиасом! — Я не боюсь ваших угроз! — вскричал Амвросий, — умереть от рук ваших или от палачей Максимиана для меня все равно! Он выбежал на свежий воздух и увидел, что уже настало утро. У храма Венеры не было ни одного преториянца, и оя спокойно дошел до своего жилища. Слуги Амвросия уведомили его, что ночью стража кесаря вломилась в дом Виктора, наложила на него цепи и увела с собою. Начальник стражи ¡обвинял его в сопротивлении законной власти и в нападении на исполнителей Максимиановых повелений; уликою была тога с именем Виктора, которую преступник, по словам его, сбросил во время бегства. Амвросий поспешил в дом своего друга, чтобы от его сестры узнать подробности этого происшествия. Он застал ее на коленях перед образом спасителя. Крупные слезы блистали в ее глазах, но лицо ее не показывало никакого отчаяния. — Амвросий, — сказала она с ангельскою улыбкою, — все несчастия ниспосылаются нам свыше! Сегодня друг твой без всякой вины брошен в темницу; завтра, может быть, погибнет твоя невеста; но да будет воля господня!» Тут брат милосердия остановился и, помолчав немного, спросил меня: — Известны ли тебе картины Рафаэля? — Да, — отвечал я, — и ни на одну из его Мадонн я не могу смотреть без сердечного умиления. — Так, — продолжал незнакомец, — я вижу, что ты понимаешь великого художника. Но если бы ты знал Леонию, ты бы уверился, что в чертах, ее было неменее кротости, не менее небесной чистоты, чем в Рафаэлевых Мадоннах. — Но, — прервал я рассказчика, — ты говоришь об ней, как будто бы сам ее видел? — Не прерывай меня, — отвечал он торжественно, — и слушай далее: «Свидание с Леонией произвело на Амвросия странное действие. Ночное происшествие оставило в нем тягостное впечатление, а все, что он думал и ощущал в подземелье Амены, показалось ему так презренно, так нечисто в сравнении с чувством, проникавшим его в присутствии Леонии, что он сам. не понимал, как мог забыть ее хотя на одну минуту… Ему хотелось пасть к ее ногам, признаться в своем заблуждении и просить прощения, но ложный стыд удержал его. С другой стороны, он боялся огорчить Леонию, открыв ей, что тога, послужившая уликой Виктору, была брошена им самим и что он не может спасти ее брата, не погибнув наместо его. Однако он решился, не теряя времени, отыскать начальника стражи, освободить Виктора, и обвинить себя в преступлении, которое приписывали его другу. Пока он бегал по всему Риму, чтобы узнать, кто именно предводительствовал преторианцами, схватившими Виктора, и в какой темнице он заключен, прошел целый, день. Было уже поздно, когда он, собрав нужные сведения, шел по дороге в темницу. Ему надлежало проходить мимо храма Венеры. Лишь только он поравнялся с местом, где накануне спас Амену, кто-то тихонько назвал его по имени. Он остановился и услышал, что голос выходит из подземелья. — Сойди: ко мне на минуту, — говорил голос, — ты устал, и тебе надобно подкрепить свои силы! — Не нужно, — отвечал Амвросий довольно сухо и продолжал свой путь. — Амвросий, Амвросий! — закричал голос, — я знаю, куда ты спешишь; но ты не спасешь своего друга, а тол ко погибнешь с ним вместе. Есть другое средство его спасти, сойди ко мне, и я тебя научу, что должно делать! Слова эти показались Амвросию так убедительны, что он спустился в подземелье. Ковры на этот раз были усы паны свежими розами, и благоухание их было так сильно, что Амвросию показалось, будто бы он от него пьянеет. Амена с полураскрытыми глазами лежала на подушках. — Я тебя ожидала, — сказала она ему, — и нарочно велела убрать свое жилище как можно лучше. Выпей немного вина и омой себя водою: смотри, как ты уста и запылился! — Она ударила в ладони, и прислужницы внесли несколько сосудов холодной воды и разные ароматы. Когда Амвросий выпил чашу вина, они сняли с него обувь и, освежив его ноги, окатили ему голову и плечи. — Теперь ложись и отдохни, — сказала Амена, — а я покамест уйду к своим девушкам. Амвросий давно хотел ее спросить, каким образом ему спасти Виктора; но лишь только он начинал говорить, Амена его прерывала. Наконец он, не обращая внимания на ее речи, спросил, что ему надобно делать? — Ты очень нетерпелив, — отвечала Амена, — но чтобы скорее тебя успокоить, я скажу тебе, как ты должен! поступить, чтобы избавить друга твоего от смерти, не подвергая себя опасности. Если ты теперь явишься к тюремному начальнику и скажешь ему, что ты настоящий! преступник, а что Виктор невинен, то хотя тебя и посадят в темницу, но Виктора из нее не выпустят; напротив, претор почтет его твоим сообщником, — и вместо одной жертвы погибнут две. Вы принадлежите, — продол-жала Амена с видом соболезнования, — к такому сословию, которое всякий может губить безнаказанно и для которого нет ни суда, ни законов. Подумай только, что будет с твоей невестой, когда ни брата ее, ни тебя не останется для ее защиты? Каждый хищник, каждый кровопийца станет на нее смотреть как на свою добычу, которую никто не осмелится и не захочет у него отнять! О если бы вы не так были упрямы и согласились возвратиться к вашим прежним богам, тогда еще все бы можно поправить! Амвросия это заключение чрезвычайно поразило, и когда он нечаянно поднял голову, ему снова показалось, что над ним раскинута тонкая сеть из огненных ниток. Однако он не мог не сознаться, что доводы Амены справедливы, и спросил ее, что ему остается делать? — Во-первых, — отвечала Амена, — ты должен сколь можно менее показываться: связь твоя с Виктором так известна, что рано или поздно она тебя погубит, если ты не будешь осторожен. Во-вторых, никто не может спасти твоего друга, кроме его сестры. Пусть она завтра же пойдет во дворец кесаря, бросится перед ним на колени и молит его о помиловании ее брата. Максимиан изверг, но ему случается показывать проблески великодушия; я уверена, что молодость и красота твоей невесты тронут его каменное сердце… Тут ужасная мысль поразила Амвросия. — Как! — вскричал он, — но если эта самая молодость и красота… — Я понимаю, что ты хочешь сказать, — прервала его Амена. — Ты боишься, чтобы грубая чувственность тирана не побудила его к какому-нибудь насилию; но будь спокоен. Максимиан теперь занят одною мною, а неудача вчерашнего предприятия так раздражила его любовь, что никакая другая мысль не войдет в его голову. Впрочем, если бы даже это и было возможно, то такой случай одно предположение; а когда ты своею опрометчивостью лишишь Леонию брата и жениха, тогда в каждом воине кесаревой стражи она найдет Максимиана! Амвросий согласился с справедливостию этих слов; но, несмотря на просьбы Амены, непременно хотел продолжать путь свой и посетить Виктора в его темнице. Лишь только он приблизился к выходу из подземелья, как услышал снаружи разговор двух преториянцев. — Я уверен, — говорил один из них, — что человек, скрывшийся около этого храма, сообщник того негодяя, который вчера помешал нам похитить Амену и которого завтра утром прибьют ко кресту! — В том нет никакого сомнения, — отвечал другой, — и я позволю назвать себя бабой, если отойду отсюда, не дождавшись этого бездельника! Услышав, что друга его казнят на другое утро, Амвросий очень испугался. Ему хотелось прорваться сквозь толпу преториянцев и силой освободить Виктора; но, после краткого размышления, он увидел, что мысль его безрассудна и что он погибнет без всякой пользы для своего друга. Он решился возвратиться к Амене и рассказать ей подслушанный разговор. — Ты видишь, — сказала Амена, — что совет мой всего вернее. Так как опасность, угрожающая Виктору, гораздо ближе, чем я полагала, то и ты должен поспешить его спасением. Вот пергамен, напиши сейчас к Леонии, чтобы она чем свет шла ко дворцу и ожидала появления кесаря. Скажи ей, что ты ручаешься за успех. Ты можешь ее смело в этом уверить, ибо могла ли бы я, обязанная твоему мужеству более чем жизнию, дать тебе дурной совет? Одна из моих прислужниц выберет удобную минуту и выйдет с твоим посланием из подземелья. Преториянцы ее не увидят, а если бы и заметили, то пропустят без затруднения. Амвросий хотел сделать еще какое-то возражение, но почувствовал, что сон его одолевает. Он взял пергамен, написал, что проговорила Амена, и, склонив голову на стол, крепко заснул. Этот раз он ничего не видал во сне, но его пробудил горячий поцелуй Амены. — Встань, — говорила она ему, — теперь уже утро, преториянцы ушли, ты можешь безопасно дойти до дома. Амвросий чувствовал большую усталость, но он вскочил с триклиния, куда, вероятно, его перенесли во время сна, и вышел из жилища Амены. Солнце было уже высоко, и он поспешил в дом Леонии, чтобы узнать об успехе ее поступка. На дворе встретили его слуги; они плакали и рвали на себе одежду. Двое из них рассказали ему, что Леония, получив его письмо, очень была им поражена, но тотчас велела им следовать за собою и пошла ко дворцу Максимиана. Она бросилась пред ним на колени и стала умолять его о прощении брата. „Клянусь Юпитером, — сказал кесарь, — я ничего не знаю о ее брате! Что он за человек?“ — „Он? — отвечал один центурион, — он христианин, которого за разные дерзкие поступки и, между прочим, за сопротивление твоим приказаниям я велел посадить в тюрьму“. — „Ты хорошо сделал, — отвечал кесарь, — и можешь поступить с этим христианином как заблагорассудишь; но сестра его мне нравится, и я хочу составить ее счастие“. Тут, по знаку Максимиана, подвели к нему Леонию. „Хочешь ли меня полюбить?“ — спросил он ее. „У меня есть жених и брат, — отвечала Леония с кротостию, — и, после бога, я люблю их одних!“ Услыша такой ответ, продолжали слуги, мы побледнели; ибо глаза кесаря налились кровью и белая пена показалась на его устах, однако ж он удержался и продолжал довольно ласково: „Полюби меня, и я осыплю тебя золотом и прощу твоего брата“. — „Жизнь его в твоих руках, — отвечала Леония, — но если ты его погубишь, то на это будет воля божия; любить же тебя я не могу!“ — „Послушай, — продолжал кесарь, — если ты будешь упрямиться, то я обойдусь и без твоего согласия, а брата твоего и жениха заставлю умереть пред твоими глазами в ужаснейших мучениях!“ Здесь твердость Леонии ее покинула. Она упала к ногам Максимиана и, заливаясь слезами, обняла его колени. „Сжалься надо мной, — вопияла она, — могу ли я любить тебя, пролившего безвинно столько христианской крови! Будь великодушен, отпусти меня и прости моего брата!“ Кесарь долго молчал и смотрел на Леонию ужасными глазами. „Есть одно средство, — сказал он наконец. — Если ты и брат твой откажетесь от вашей веры и согласитесь поклоняться богам, то я вас обоих отпущу, не сделав вам ни малейшего вреда; если же нет, то брат твой погибнет. Твои единоверцы доселе так были упрямы, что всё приносили в жертву своему богу. Мне любопытно знать, до какой степени доходит это упорство!“ Леония опять бросилась на колени, но кесарь подал знак, и ее отвели в темницу. Услыша этот рассказ, Амвросий впал в отчаяние. — О Амена! — кричал он в исступлении, — ты виновница этого несчастия! Твои хитрости и лукавые советы причиною, что я погубил друга и невесту! Но если я не в силах их спасти, то, по крайней мере, умру вместе с ними! Он побежал к префекту, рассказал все, что с ним случилось в последние два дня, и просил, чтоб его подвергли казни, но освободили бы Виктора и Леонию. Что предсказывала Амена, случилось. Префект велел отвести его, скованного, в глубокую темницу и засмеялся ему в глаза, когда он упомянул об освобождении друга и невесты. Амвросий провел ночь в мучительном беспокойстве. На другой день пришел тюремный страж и предложил ему свободу от имени префекта, с тем чтобы он отказался от христианства. Амвросий с негодованием отвергнул это предложение. Прошел день, тюремщик явился с прежним вопросом. Ответ Амвросия был тот же. Таким образом, он недели две провел в темнице, получая пищи ровно сколько было нужно, чтоб не умереть с голоду, и не видя никого, кроме тюремного стража, приходившего каждое утро с тем же предложением и уходившего в глубоком молчании. Была уже ночь, как Амвросий, лежа на мокрой земле, услышал под собою глухие шаги. Вскоре яркий луч осветил темницу, и он увидел Амену, с лампою в одной руке и с амфорою в другой. — Можно ли быть столько неосторожным! — сказала она ему, и слезы блистали в ее глазах. — О, если бы ты меня послушался! — Горе мне! — отвечал Амвросий, — что я тебя послушался! Если бы не ты, Леония не была бы теперь в руках Максимиана. Но удались отсюда и не обольщай меня более! — О, как ты мало меня знаешь! — сказала Амена. — Я ли виновата, что невеста твоя так гордо отвечала кесарю? Он вспыльчив и когда войдет в ярость, то бешенству его нет пределов. Но я уверена, что он бы смягчился, если б Леония отказала ему с большею кротостью. Впрочем, надежда еще не потеряна, и если ты последуешь моему совету, то можешь завтра же выйти из тюрьмы и спасти твоих друзей. — Что ж мне делать? — спросил Амвросий. — Выпей немного вина, — отвечала Амена, — и я тебе сейчас скажу. Амвросий приблизил амфору к губам, и, по мере того как он втягивал в себя душистую влагу, странное чувство разливалось по его жилам. Цепи перестали его тяготить; ему казалось, что темница наполняется золотистыми облаками и что перед ним мелькают нимфы, сатиры, центавры и наяды. Все блестящие картины языческой мифологии постепенно развивались в его воображении, и сердце его трепетало от сладострастной неги. — Я бы могла, — продолжала Амена, — тебя освободить теперь же. Цепи твои распилить мне нетрудно, а подземный ход, чрез который я вошла, имеет сообщение с моим жилищем; но это бы значило совершить только половину дела, и товарищи твои остались бы в темнице. Чтобы действовать благоразумно, ты должен непременно, хотя на несколько дней, притвориться, будто переходишь в нашу веру. Когда об этом узнает кесарь, он захочет тебя наградить и, по своему обыкновению, велит спросить, чего ты желаешь? Ты потребуешь прощения Виктора и Леонии, и когда они будут освобождены, вы убежите из Италии и в отдаленной Испании дождетесь кончины Максимиана. Амвросию казалось, что отречься от своего бога, хотя только для виду, смертельный грех; к тому ж он не был уверен, что Максимиан будет так великодушен, как предполагала Амена; но он подумал о мучениях, ожидающих его друзей, и решился принять на себя ответственность поступка, не одобряемого его совестью. Когда настало утро и тюремщик вошел к нему с обыкновенным вопросом, Амвросий отвечал, по наставлению Амены, что во сне ему предстал Меркурий и убедил его перейти к поклонению богов олимпийских. Тюремщик удалился, и вскоре несколько человек кесаревой стражи вошли в темницу, сняли с него цепи и повели к префекту. — Кесарь знает о твоем похвальном намерении, — сказал ему префект, — и приказал мне вручить тебе этот знак его благоволения. — Он подал Амвросию богатый перстень с редкою жемчужиной. — Однако, — продолжал он, — чтобы доказать, что обращение твое чистосердечно, ты должен сегодня же совершить всенародное жертвоприношение в храме Юпитера. Теперь ступай домой и приготовься. Пришед к себе, Амвросий увидел в комнатах множество золотой посуды. Мешки с золотом лежали на полу, а на дворе стояли колесницы с прекрасными конями в богатых сбруях. — Что это значит? — спросил Амвросий. — Это прислал тебе кесарь! — отвечали слуги, не радуясь его приходу и поглядывая на него исподлобья. Сердце Амвросия болезненно сжалось. В полдень он всенародно принес жертву Юпитеру и отважился просить помилования Виктору и Леонии. Ему отказали и дали золота; он в отчаянии побежал к Амене. — Еще не все потеряно, мой друг! — сказала она. — Напиши к своим друзьям, чтобы они, подобно тебе, на время притворились. Прислужница моя найдет средство доставить им твое письмо и к утру принесет ответ. Не пренебрегай также подарками кесаря; они тебе пригодятся для опасения друзей, если нам не останется другого средства, а отказом ты только раздражишь Максимиана. Амвросий послушался Амены и старался утопить в вине угрызения совести. — Не будь так печален! — сказала ему Амена. — Если ложное зазрение не удержит твоего друга и невесты, то их простят так же, как простили тебя, а с твоим золотом вы можете бежать на край света. Впрочем, я уверена, что они поймут всю цену твоего самоотвержения и не откажутся последовать твоему совету! Она взяла в руки лиру, и тихие ее звуки погрузили его неприметно в сладостный сон. Ему представилось, что он древний герой, презирающий все труды и опасности и жертвующий собою для спасения других. В воображении своем он уже могучею рукою и хитрым умом одолевал все препятствия и преграды. Виктор и Леония были освобождены и со слезами благодарности обнимали его колени. — Если бы ты не был христианин, — шептала ему Амена, — ты бы вступил в число полубогов! Он предавался упоению гордости, но его разбудил поцелуй Амены. Она подала ему ответ Виктора и Леонии. „Неверный брат! — писали они, — слухи о твоем отступничестве до нас дошли, но мы не хотели им верить. Нас нарочно вывели из темницы, дабы мы собственными глазами увидели, как ты преклоняешь голову перед идолом и приносишь ему нечестивую жертву; мы сочли это адским наваждением. Но ты сам к нам пишешь, ты хочешь, чтобы мы следовали твоему примеру; да оградит нас сила господня! Напрасно ты нас уверяешь, что поклонялся ложным богам только для вида и чтобы в награду за свою измену получить наше освобождение. Ты бы не должен принять тогда золота от Максимиана, а мы не хотим быть спасены этою ценою! Покайся, пока еще время, искупи кровию свое заблуждение, или я, Виктор, отрекаюсь от твоей дружбы, а я, Леония, перестаю быть твоей невестой. Ты уже и так изменил своему слову: мы знаем, что ты проводишь время с презренной женщиной, совращающей тебя с пути веры и обязанностей!“ Когда Амвросий кончил чтение, Амена закрыла лицо руками и горько заплакала. — О, я несчастная! — сказала она, — вот как они толкуют мою благодарность и преданность к тебе! Теперь ты меня возненавидишь, и я умру с тоски. — Амена, — отвечал Амвросий, чувствуя сильную досаду на Виктора и Леонию, хотя он сам себе не признавался, что причиною этой досады было лишь оскорбленное самолюбие, — Амена, я знаю, что дружба твоя чистосердечна и что ревность к вере соделала друзей моих несправедливыми. — Нет, мой друг, — сказала Амена, горько рыдая, — они говорят правду, я одна виною твоего несчастия, я виною, что они тебя отринули; но все это я сделала, желая спасти их, ибо не только для тебя, но и для всех, которые дороги твоему сердцу, я готова пролить до последней капли крови. Амвросий! — вскричала она, упав перед ним на колени, — прости меня, я страстно люблю тебя! Да, я люблю тебя, — продолжала она, не давая ему времени отвечать, — я умру, если ты меня покинешь; но покинь, забудь меня, я сама тебя о том умоляю, у тебя есть невеста, мы сыщем другое средство спасти ее, мы подкупим стражей, вы убежите из Италии и будете счастливы; вот все, что я желаю; у меня же останется воспоминание счастливых дней, проведенных с тобою, и сознание, что я содействовала вашему счастию! Столько любви, столько самоотвержения в сравнении с строгими словами Виктора и Леонии, отвергавших его любовь и дружбу в то самое время, когда он ожидал их благодарности, поколебали разум Амвросия. Признательность и удовлетворенное самолюбие, с одной стороны, досада и гордость — с другой, сострадание к Амене, ее обворожительная красота — все это затмило в его душе образ невесты и друга. Он без сопротивления предался ласкам Амены и вспомнил о Леонии только на другой день; в нем пробудились угрызения совести; но, по странному противоречию сердца человеческого, он вместо раскаяния чувствовал негодование к Леонии за то, что мысль об ней вырывала его из сладостного забвения и напоминала ему вину его. Амена всячески старалась развлекать его и так в том успела, что он в продолжение нескольких дней не выходил из ее подземелья и наконец перестал вовсе думать о Леонии и Викторе. Однажды Амена предложила ему прогуляться по Риму. — Мы можем показаться без всякой опасности, — сказала она. — Тебя, который теперь в милости у кесаря, никто не тронет, а обо мне он уже давно забыл. Прихоти Максимиана так же скоро проходят, как и рождаются. Амвросий согласился, и они пошли на Форум. Все им давали место, все на них глядели с почтением. Около полудня Амена почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. Дом Амвросия был близок, и они вошли под его портик и расположились у фонтана. — Ах, — сказала Амена, — как бы обрадовались мои родные, если б они могли меня видеть! Не позволишь ли ты послать за ними? — Амвросий хотел отвечать, но в эту минуту прекрасный юноша, в легкой одежде, с посохом в руке, подошел к Амене и что-то ей шепнул на ухо. — Родные мои, — сказала Амена, — предупредили мое желание. Вот Гермес, служитель моего отца, пришел тебя просить, чтобы ты им позволил прийти. Амвросий согласился и, позвав слугу, приказал ему приготовить богатое угощение. Когда солнце зашло, гости стали собираться. Один из них был высокий мужчина с кудрявой, черной бородой и с длинными волосами, похожими на львиную гриву. Важное его лицо показалось Амвросию знакомым, и он вспомнил, что уже видел его во сне. Другие обоего пола гости были все прекрасны собою, кроме одного, запачканного сажей и сильно хромавшего. Когда они улеглись вокруг стола, то, кроме Амвросия и Амены, было всех-навсе одиннадцать человек. Вскоре между ними завязался разговор. Они говорили очень увлекательно, особенно мужчина с кудрявой бородой. Пока Амвросий его слушал, в нем разверзались совершенно новые понятия, и он стал смотреть на жизнь, на веру и на добродетель совсем другими глазами. Собеседники его все более или менее придерживались философии Эпикура, и спор состоял только в том, что должно почитать высшим удовольствием в мире? Один превозносил любовь, другой вино, а третий славу. Амвросий несколько раз пытался им противоречить, но они легко опровергали его убеждения и так умно шутили над любовью Платона, учением Сократа и воздержанием Сципиона, что самому Амвросию мнения его показались смешными. Чтобы веселее провести время, кто-то предложил послать за плясунами и танцовщицами. Они вскоре явились, и искусство их так понравилось Амвросию, что он начал бросать им мешки золота, один за другим; потом стали играть в кости, и Амвросий проиграл большую часть богатства, недавно ему доставшегося. С первым криком петуха гости удалились, и с Амвросием осталась одна Амена. Он только что хотел отдохнуть от проведенной в шумных удовольствиях ночи, как услышал сильный стук у дверей. — Отвори нам, проклятый обманщик, — кричали грубые голоса. — Ты притворился, будто поклоняешься Юпитеру, а между тем носишь на себе крест и еще обратил знаменитую римлянку в свою нечестивую веру! Но вы от нас не уйдете и завтра же будете сожжены живые! И, говоря это, множество людей стучали в двери так, что она трещала. — Сбрось с себя крест! — шепнула ему побледневшая Амена, — иначе мы оба пропали: я узнаю голоса преториянцев! Между тем удары сыпались градом на дверь, и одна верея уже отскочила. — Сбрось крест, сбрось крест! — умоляла Амена, упав перед ним на колени…» Здесь незнакомец замолчал. — Что ж сделал Амвросий? — спросил я. — Он сбросил с себя крест! — отвечал незнакомец с тяжелым вздохом. — Что ж было после? — опросил я опять, видя, что брат милосердия хранит глубокое молчание. — Ты, честный отец, так принимаешь рассказ свой к сердцу, как будто бы сам знал Амвросия. — Не мешай мне, — отвечал брат милосердия, — и слушай, что мне остается тебе сказать: «Вломившись в дом, преториянцы обыскали Амвросия и Амену, обшарили все комнаты, углы и застенки и, не нашед креста, удалились, не сделав никому вреда. Настало утро, и Амвросий забыл об этом происшествии. Прежде хотя редко, но случалось, что он, среди наслаждений и шума, вдруг вспоминал о друзьях и как будто с испугом просыпался от продолжительного сна. Амена обыкновенно его уверяла, что друзей его скоро выпустят из темницы, что невинность их открыта и что кесарь намерен богато вознаградить их. Тогда угрызения его совести умолкали, и он вновь утопал в удовольствиях. Теперь же, после потери креста, никакое воспоминание его более не тревожило, и он постоянно оставался в каком-то чаду, в приятном опьянении, мешающем ему замечать, как проходило время. Дни он проводил в театрах, ночи в шумных оргиях с родными Амены. Между тем время текло; золото уменьшалось, и однажды он с ужасом заметил, что от прежнего богатства у него не осталось ничего. Кони, колесницы и дорогая посуда давно уже были проиграны. — Не печалься, — говорила ему Амена, — на что тебе деньги, разве мы и без них не довольно счастливы? В моем жилище найдешь ты все, что нужно для тихой и беззаботной жизни, а любовь моя заменит нам потерянную роскошь! — И Амвросий опять погружался в удовольствия и не помышлял о будущем. Однажды он услышал, что два преступника осуждены на съедение зверям в этом самом Колизее, где мы теперь находимся. Ужасное предчувствие в первый раз им овладело, и он вмешался в толпу народа, бежавшую с криками радости по дороге к амфитеатру. Амена за ним последовала. Когда они поместились на ступенях, он обратился к своему соседу и спросил его, знает ли он имена преступников? — Их зовут Виктор и Леония, — отвечал сосед, — они оба христиане и умирают за упорство в своей вере. Тут один человек продрался сквозь толпу и, приблизясь к Амвросию, сказал ему на ухо: — Через четверть часа друзья твои должны быть растерзаны зверями. Я тюремный страж; дай мне тысячу сестерций, и я им помогу убежать! — Амена, — вскричал Амвросий, — ты слышишь, что говорит этот человек? — Слышу, — отвечала Амена, — но какое тебе до них дело? Они христиане, а ты поклонник богов олимпийских! — Как, Амена, — продолжал Амвросий в отчаянье, — разве я не христианин? — Ты? — отвечала Амена, — разве ты не приносил жертвы Юпитеру? Разве ты не сбросил с себя креста? — Дай мне пятьсот сестерций! — продолжал тюремный страж, — и я освобожу твоих друзей! — Ты слышишь, Амена, — умолял ее Амвросий, — достань мне пятьсот сестерций, только пятьсот! — У тебя были горы золота, — отвечала Амена, — куда ты его дел? — Слушай, — продолжал тюремщик, — дай мне один асе, и друзья твои свободны! — О, я несчастный! — вопиял Амвросий, — у меня нет и обола! — Так ты, видно, не хочешь спасти друга и невесты! — сказал тюремщик и скрылся в толпе. — Амена! — вскричал тогда Амвросий, и холодный пот градом побежал с его лица, — ты одна всему виною: по твоим советам я сделался богоотступником, для тебя забыл невесту и друга; спаси же их теперь, на коленях умоляю тебя, спаси их! — Как, — сказала Амена, странно улыбаясь, — ты все это сделал для меня и по моим советам? Разве ты, прежде чем меня увидел, не поклялся своему богу, что никакие мучения не заставят тебя от него отречься? Какие же ты испытал мучения? Ты от него отрекся добровольно, ты принял в награду золото и подарки от Максимиана и истратил их на свои прихоти! Разве не я сама тебя просила, чтобы ты меня покинул и остался верен своей невесте? Но невеста и друг приняли твои советы не с такою благодарностью, как ты ожидал, они тебя справедливо упрекали в клятвопреступлении, и ты на них вознегодовал и предал их Максимиану. Во всем этом я не виновата нисколько; я наслаждалась твоею любовью, но ее не вынуждала. У тебя был свой рассудок и своя совесть, — пеняй же теперь сам на себя! В эту минуту ввели в арену Виктора и Леонию. Лица их были спокойны, поступь тиха и величественна. Пришед на середину арены, они преклонили колена и устремили к небу глаза, исполненные умиления и восторга. — Виктор! Леония! — закричал отчаянным голосом Амвросий; но они его не слыхали. Ничто земное уже не могло коснуться праведников: казалось, они в предсмертный час внимали небесной гармонии и пению серафимов. — Римляне! — закричал Амвросий, — бросьте меня в арену, я вас обманывал: я христианин и хочу умереть за свою веру! — Он сумасшедший, — сказала Амена, — не слушайте его, он сумасшедший! Тут Амвросий встал со ступеней, выступил вперед и сотворил крестное знамение. — Кто бы ни была ты, ужасная женщина, — сказал он, обращаясь к Амене, — я отрекаюсь от тебя, отрекаюсь от твоих богов, отрекаюсь от ада и сатаны! — Услыша эти слова, Амена испустила пронзительный визг, черты ее лица чудовищным образом исказились, изо рта побежало синее пламя; она бросилась на Амвросия и укусила его в щеку. В эту минуту из-за железной решетки впустили в арену четырех львов. Амвросий упал без чувств на ступени амфитеатра».Незнакомец опять замолчал, и я долго не смел пре-рвать его молчания. — Кто ты, таинственный человек? — спросил я наконец, видя, что он хочет удалиться. Вместо ответа брат милосердия отбросил покрывало! страшно бледное лицо устремило на меня выразительный взгляд, и на его щеке я увидел глубокий шрам, как будто из нее мясо было вырвано острыми зубами. Он опять закрыл лицо и, не сказав ни слова, медленными шагами вышел из арены и исчез между развалинами.
II
О. М. Сомов РУСАЛКА малороссийское предание
Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею Горпинкою, дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в дрибушки, отливались, как вороново крыло, под разноцветными скиндячками, большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полуистлевшие угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду, сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее, как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение. Что же милая Горлинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше, как вешняя птичка, и не прыгает, как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по сагам днепровским и по лесам вокруг Киева, стреляя крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горлинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась однако ж ни богатырского его вида, ни черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым, красивым мужчиною, сущая правда. Горлинка поверила словам Казимира; случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива. В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горлинка не отвечала ни слова, села на лавку в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала ей делать выговоры и сидела, также молча, за пряжею; вдруг Горлинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса: — Матушка! — у меня есть жених. — Жених?., кто? — спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь. — Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат; это молодой польский пан… Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его Обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паньей. — Берегись, — говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, — берегись лиходея; он насмеется над тобою да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика?.. А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе! злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много колдунов и ведьм. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью. Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери. «Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово, и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом, он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы — Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год — о нем ни слуху, ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что неосмысленная полюбила ляха-иноверца!» Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла, как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: «Он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело!» Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла. Осенний ветер взрывал волны на Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею сталось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндячки оборваны; но он не подмел близко подплыть к ней, из страха, что то была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы. Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет встала она и бродила далеко, далеко, по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горлинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи угодникам Печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце, но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все также напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости бедной Горлинки, омыть их горючими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого, последнего утешения, лишала ее злая доля.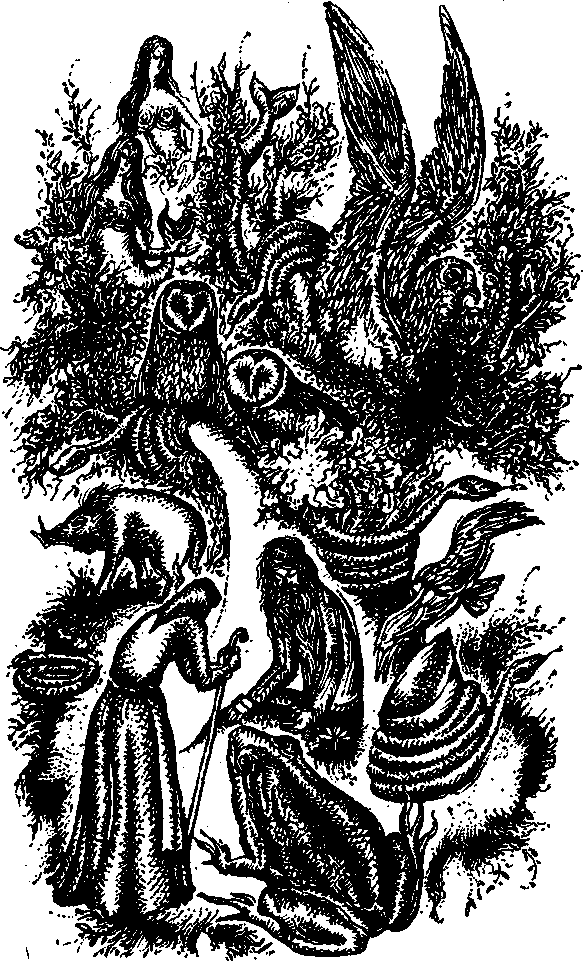 Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда был он родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая Фенна, мать Горлинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила… Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза, а за кругом кипел и вился клубами всякий гад и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся; но, увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг, — прохрипел старик чуть слышным голосом, как. будто б этот голос выходил из могилы, — и слушай: ты — плачешь и тоскуешь о дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли быть опять с нею?»
— Ох, пан-отче, как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу…
— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу…
Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глаза, в один прыжок, скокнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.
— Скоро настанет зеленая неделя, — продолжал старик, — в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и стащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам и монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет…
Старухе показалось, что жаба в эту минуту страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора Однако ж, до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.
В последний день зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро, как вихрь, помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плечи. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горлинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылающую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинкиной. В кругу Горлинка стояла, как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом.
— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой неделе и снова погрузиться в подводные наши селения… Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимою нам тепло подо льдом, как под шубой; а летом в ясные ночи мы выходив греться на лучах месяца, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами… Мать! отпусти меня: мне тяжко, мне душно быть с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь…
Старуха не слушала и все вела ее к своей хате, но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горлинку в хату; она села против печки, облокотись обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела и Горлинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны, как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза открытые, тусклые и не видя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы то ни стало.
Проходит день, настает ночь — Горлинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь со своей ужасною гостьей, но, скрепя сердце, она осталась. Проходит и ночь — Горлинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.
Прошел и год; все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и зеленая неделя. На первый день, околополуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою: лицо Горлинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и прокричав: наши, наши, наши пустилась, как молния, за шумною толпою… и след ее пропал!
Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь, в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.
На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк, в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое, но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что «покойника русалки защекотали».
Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда был он родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая Фенна, мать Горлинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила… Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза, а за кругом кипел и вился клубами всякий гад и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся; но, увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг, — прохрипел старик чуть слышным голосом, как. будто б этот голос выходил из могилы, — и слушай: ты — плачешь и тоскуешь о дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли быть опять с нею?»
— Ох, пан-отче, как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу…
— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу…
Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глаза, в один прыжок, скокнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.
— Скоро настанет зеленая неделя, — продолжал старик, — в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и стащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам и монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет…
Старухе показалось, что жаба в эту минуту страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора Однако ж, до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.
В последний день зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро, как вихрь, помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плечи. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горлинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылающую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинкиной. В кругу Горлинка стояла, как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом.
— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой неделе и снова погрузиться в подводные наши селения… Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимою нам тепло подо льдом, как под шубой; а летом в ясные ночи мы выходив греться на лучах месяца, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами… Мать! отпусти меня: мне тяжко, мне душно быть с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь…
Старуха не слушала и все вела ее к своей хате, но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горлинку в хату; она села против печки, облокотись обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела и Горлинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны, как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза открытые, тусклые и не видя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы то ни стало.
Проходит день, настает ночь — Горлинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь со своей ужасною гостьей, но, скрепя сердце, она осталась. Проходит и ночь — Горлинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.
Прошел и год; все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и зеленая неделя. На первый день, околополуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою: лицо Горлинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и прокричав: наши, наши, наши пустилась, как молния, за шумною толпою… и след ее пропал!
Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь, в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.
На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк, в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое, но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что «покойника русалки защекотали».
М. Н. Загоскин НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ
Отец мой был человек старого века, — начал так Антон Федорович Кольчугин, — хотя, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть — выстроить хоромы саженях на пятнадцати, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи; но он во всю жизнь свою ни разу и не подумал об этом; жил себе в маленьком домике, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами, и под веселый час так-то, бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который, не тем будь помянут, попивал, а лихо, разбойник, играл на гуслях; бывало, как хватит — «Заря утрення взошла» или «На бережку у ставка» — так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами, а красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге; вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать; и коли проезжие хоть мало-мальски не совсем простые люди, дворяне, купцы, или даже мещане, так милости просим на барский двор; закобенились — так околицу на запор, и хоть себе голосом вой, а ни на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить: любил пображничать, покойник! Бывало, как залучит к себе гостей, так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море разливанное; чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков, сортов до десяти, в подвалах не переводилось, а уж о наливках и говорить нечего! Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после кончины моей матушки, сидел он один-одинехонек в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело шло к ночи; во дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так заколодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтоб провести время до ужина, — а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу, принялся за Четьи-Минею. Развернул наудачу и попал на житие преподобного Исакия, затворника печерского. Когда он дошел до того места, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая: «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канапе и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что-то зазвенело, он очнулся: слышит — бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга, Андрей, и поставил на стол две зажженные свечи. — Что ты, братец? — спросил батюшка. — Пришел, сударь, доложить вам, — отвечал слуга, — что на селе остановились приказный из города да казаки, которые едут с Дону. — Ну так что ж? — перервал батюшка. — Беги скорей на село, проси их ко мне, да не слушай никаких отговорок. — Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут, — пробормотал сквозь зубы Андрей. — Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину, — продолжал батюшка, — и вели принесть из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай! Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три казака и один пожилой человек в долгополом сюртуке. — Милости просим, дорогие гости! — сказал батюшка, идя к ним навстречу. Зная, что набожные казаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он промолвил, указывая на образ спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: «Вот здесь!» — но, к удивлению его, казаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура, — подумал батюшка, — что это крапивное семя не знает бога; но ведь казаки — народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели!» Меж тем нежданные гости раскланялись с хозяином; казаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка, хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и вместо ответа на его кудрявое приветствие закричал: «Гей, малый! запеканки!» Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану. — Ну-ка, любезные! — сказал батюшка, наливая их вровень с краями. — Поотогрейте свои душеньки; чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно! Гости чин-чином поклонились хозяину, выпили по чарке и, не дожидаясь вторичного приглашения, хватили по другой, хлебнули по третьей; глядь-поглядь, а в штофе хоть прогуливайся — ни капельки! «Ай-да питухи! — подумал батюшка. — Ну!!! нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них какие!» В самом деле, нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного казака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего глаза были зеленые, а нос крючком, как у филина, и у всех волосы рыжие, а щеки, как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех куриознее показался ему приказный в долгополом сюртуке: такой исковерканной и срамной рожи он сродясь не видывал! Его лысая и круглая, как бильярдный шар, голова втиснута была промежду двух узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий подбородок, как набитый пухом ошейник, обхватывал нижнюю часть его лица; давно не бритая борода торчала щетиною вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие, прищуренные глаза вертелись И; сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь зверьку, или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся, «но эта улыбка, — говаривал не раз покойный мой батюшка, — ни дать, ни взять, походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у другой собаки отнять кость». Вот как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать. — Ну что, приятели, — спросил он казаков, — что у вас на Дону поделывается? — Да ничего — отвечал казак с толстым брюхом. — Все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем… — Попевайте, любезные, — продолжал батюшка, — попевайте, только бога не забывайте! Казаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал: — Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая порука: мы его не помним, так пускай и он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трынь-трава! Батюшка нахмурился; он любил пожить, попить, пображничать; но был человек благочестивый и бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда? — Из уголовной палаты, сударь, — отвечал с низким поклоном приказный. — Ну что поделывает ваш председатель? — продолжал батюшка. А надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник. — Что поделывает? — повторил приказный. — Да то же, что и прежде, сударь: служит верой и правдою… — Да, да! верой и правдою! — подхватили в один голос все казаки. — А разве вы его знаете? — спросил батюшка. — Как же! — отвечал казак с совиным носом, — Мы все его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует. — Да разве он хотел у вас побывать? — И не хочет, да будет, — повторил казак с большой головою. — Не так ли, товарищи? Все гости опять засмеялись, а подьячий, прищурив Свои Ишачьи глаза, прибавил с лукавой усмешкою: — Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! Месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал. — Как так? — вскричал батюшка, — да месяц тому назад он при смерти был болен. — Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу. — А, понимаю! — прервал батюшка. — Верно, доктора советовали ему ехать туда, где потеплее? — Разумеется! — подхватили с громким хохотом казаки. — Ведь у нас за теплом дело не станет: грейся сколько хочешь. Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравилось батюшке; но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай! Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтоб подавали ужинать. Не прошло получаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату: а все хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди, но всякий раз как нарочно кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Казаки рассказывали ему про свое удальство и молодечество; а приказный про плутни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не желая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки — это еще не диковинка: покойный мой батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояло пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок, которое выпил один покойный батюшка; он видел, что гости наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться; и он точно этому удивлялся — только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уж вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить; но четыре бутылки сантуринского и почти штоф крепкой наливки хоть кого подрумянят. Вот к концу ужина он так распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех казаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее; они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми, и даже — страшно вымолвить! — забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники принялись попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме; а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: удалая голова, не ходи мимо сада, и вошел в такой задор, что хоть сейчас вприсядку. Меж тем казаки, наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебенным, а третий ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ею играть, как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет! все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со смеху. — Эге! — вскричал подьячий. — Да вот там на последнем окне стоит никак запасная бутылочка с наливкою: нельзя ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин; я и так ее достану, — промолвил он, вытягивая руку через всю комнату. — Ого! какая у тебя ручища-то, приятель! — закричал с громким хохотом батюшка. — Аршин в пять! Недаром же говорят, что у приказных руки длинны… — Да зато память коротка, — прервал один из казаков. — А вот увидите! — продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола. — Небось, вы забыли, чье надо пить здоровье, а я так помню: начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских молодцев, за удалых подьячих с приписью! Чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать; чтоб они почаще умирали, да пореже каялись!.. — Что ты, что ты? — проговорил батюшка, задыхаясь со смеху. — Да этак у нас все суды опустеют. — И, хозяин, о чем хлопочешь! — продолжал приказный, наливая стаканы. — Было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной — ура! — Выпили? — закричал казак с крючковатым носом. — Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшого. Кто станет с нами пить, тот наш, а кто наш, тот его! — А как зовут вашего старшину? — спросил батюшка, принимаясь за стакан. — Что тебе до его имени! — сказал казак с большой головою. — Говори только за нами: да здравствует тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит. — Но кто же он такой? — Кто наш отец и командир? — продолжал казак. — Мало ли что о нем толкуют! Говорят, что он любит мрак и называет его светом: так что ж? Для умного человека и потемки — свет. Рассказывают также, будто бы он жалует Содом, Гомор и всякую беспорядицу для того, дескать, чтоб в мутной воде рыбу ловить; да это все бабьи сплетни. Наш господин барин предобрый; ему служить легко: садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся, да не верь тому, что печатают под титлами, — вот и вся служба. Ну что? ведь не житье, а масленица, — не правда ли? Как ни был хмелен батюшка, однако ж призадумался. — Я что-то в толк не беру, — сказал он. — А вот как выпьешь, так поймешь, — прервал подьячий. — Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир! Все гости, кроме батюшки, осушили свои стаканы. — Ба, ба, ба! Хозяин! — закричал подьячий, — Да что ж ты не пьешь? — Нет, любезный! — отвечал батюшка, — я и так уж пил довольно. Не хочу! — Да что с тобой сделалось? — спросил толстый казак, — о чем ты задумался? Эй, товарищи! Надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам? — А что, в самом деле! — подхватил приказный. — Мы посидели довольно, — не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут. — Плясать так плясать! — закричали все гости. — Так постойте же, любезные! — сказал батюшка, вставая. — Я велю позвать моего гуслиста. — Зачем? — прервал подьячий. — У нас и своя музыка найдется. Гей, вы — начинай! Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякие другие инструменты; загремели бубны и тарелки; потом послышались человеческие голоса; целый хор песельников засвистал, загаркал, да как хватит плясовую — и пошла потеха! — Ну-ка, хозяин, — проговорил казак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза, — посмотрим твоей удали! — Нет! — сказал батюшка, начиная понимать как будто бы сквозь сон, что дело становится неладно. — Забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану. — Не станешь? — заревел толстый казак. — А вот увидим! Все гости вскочили с своих мест. Покойного батюшку начала бить лихорадка, — да и было отчего: вместо четырех, хотя и некрасивых, но обыкновенных людей, стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее. — Не станешь! — повторил, ухмыляясь насмешливо, подьячий. — Полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами плясывали, да еще посторонние, а ведь ты наш. — Как ваш? — сказал батюшка. — А чей же? Ты человек грамотный, так, верно, читал, что двум господам служить не можно; а ведь ты служишь нашему. — Да о каком ты говоришь господине? — спросил батюшка, дрожа как осиновый лист. — О каком? — прервал большеголовый казак. — Вестимо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за стол не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что печатают под титлами. — Да что ж он мне за господин? — промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело. — Эге приятель! — подхватил подьячий, — Да ты никак стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертишься! Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько: молился ли ты сегодня когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому назад, когда ты прочел вон в этой; книге слово: «Наш еси Исакий, да воспляшет с нами!»; Что? Разве ты этому поверил? Вся кровь застыла в жилах батюшки. Вдруг как будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все, сделалось для него ясным. — Господи боже мой!.. — проговорил он, стараясь оградить себя крестным знамением, да не тут-то было! Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так и пошли писать! Сначала он один отхватил голубца с вывертами да вычурами такими, что и сказать нельзя; а там гости подцепили его, да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно, как комната наполнилась огнем и дымом, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, спускали как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как, наконец, протанцевав на голове казачка, он совсем обеспамятел. Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе и что вокруг него стоят и суетятся его слуги. — Ну что? — прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя как полоумный. — Ушли ли они? — Кто, сударь? — спросил один из лакеев. — Кто! — повторил батюшка с невольным содроганием. — Кто!.. Ну вот эти казаки и приказный… — Какие, сударь, казаки и приказный? — прервал буфетчик Фома. — Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался, и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы, — не при вас будь слово сказано, — коверкала вас какая-нибудь черная немочь. — Так у меня сегодня гостей не было? — сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги. — Не было, сударь. — Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! быть не может! — продолжал батюшка, охая и подхватывая себя за бока. — А кости-то почему у меня все так перемяты?.. А эти две свечи? Кто их на стол поставил? — Не знаю, — отвечал буфетчик, — видно, вы сами изволили их зажечь, да не помните спросонья. — Ты врешь! — закричал батюшка. — Я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал и кушанья подавал. Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова. — Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? — продолжал батюшка. — Говорят вам, что у меня были гости и что Андрей служил за столом. — Помилуйте, сударь? — сказал буфетчик Фома;— Иль вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит больной в горячке. — Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне Андрея! Где он? — Вы изволите опрашивать, где Андрей? — проговорил наконец Ванька-гуслист. — Ну да! где он? — В избе, сударь; лежит на столе. — Что ты говоришь? — вскричал батюшка. — Андрей Степанов?.. — Приказал вам долго жить, — прервал дворецкий, входя в комнату. — Он умер!.. — Да, сударь! Ровно в десять часов. Кольчугин замолчал. — Ну подлинно диковинный случай! — сказал Алексей Иванович Асанов, — и если твой отец не любил красного словца прибавить… — Терпеть не мог, батюшка! Он во всем уезде слыл таким правдухою, что псовые охотники не смели при нем о своих отъезжих полях и борзых собаках словечка вымолвить. — Да что ж тут странного? — прервал приятель мой Заруцкий, — ваш батюшка заспался, не помнил, что зажег две свечи и видел просто во сне то, что за несколько минут читал наяву. — Так, сударь, так! — продолжал Кольчугин. — Да только вот что: спустя несколько времени узнали, что действительно в эту самую ночь три казака с Дону и приказный из города проезжали через село, только нигде не останавливались; и в том же году, когда стали проверять бутылки в погребе, так четырех бутылок виноградного вина и двух бутылок наливки нигде не оказалось. — Да! это довольно странное стечение обстоятельств, — сказал исправник. — И все этому дивились, батюшка! — промолвил Кольчугин. — То есть проезду казаков и подьячего, — прервал Зарудкий, — а что в погребе не нашлось нескольких бутылок, так это доказывает только одно, что ключник покойного вашего батюшки любил отведать барского винца и наливки, и при сем удобном случае свалил всю беду на безответного черта. — Вот о чем хлопочет! — сказал Черемухин, взглянув исподлобья на моего приятеля, — ты настоящий Фома неверный. Да что тут удивительного? Такие ли бывают случаи в жизни?..А. Ф. Вельтман ИОЛАНДА
I
В один иа прекрасных июльских вечеров 1315 года Гюи Бертран, славный деропластик, недавно приехавший в Тулузу, сидел задумчиво подле открытого окна в своей рабочей <комнате>. Он жил против самого портала церкви св. Доминика. Заходящее солнце освещало еще вершину башни. Гюи Бертран смотрел на эту вершину. Тень поднималась выше и выше по туреллам[8], лицо его более и более омрачалось, и казалось, что все надежды его уносились вместе с исчезающими лучами солнца на башне. Он имел все право предаваться отчаянию: кроме тайного горя, которое отражалось во всех чертах его, искусство, доставлявшее ему пропитание, было запрещено под смертною казнию после суда над шамбеланом Франции Энгерраном Мариньи, его женою и сестрою, обвиненных в чаровании короля Людовика X. — Вот последнее достояние! — проговорил Гюи Бертран, вынув из кармана серебряную монету и хлопнув ею по косяку окошка. — Жена придет за деньгами на расход… я отдам ей все, что имею, а она скажет: этого мало!.. Завтра голодная жена и дети будут просить милостыню, а я буду пропитаться на счет моих заимодавцев в тюрьме Капитула[9]! И с этими словами Гюи Бертран схватил лежавший на окне резец и вонзил его глубоко в дерево. В эту самую минуту кто-то постучался у дверей. — Вот она! — произнес Гюи Бертран, вставая с места и отдергивая задвижку. Но вместо жены вошел неизвестный человек в широком плаще, бледный, худощавый, высокий, с впалыми глазами. — Гюи Бертран? — Так точно. Неизвестный, входя в рабочую, припер за собою дверь. — Угодно вам принять на себя работу? — Очень охотно приму… разумеется, скульптурную. — Нет, работа будет относиться собственно до вашего искусства… — сказал неизвестный, вынимая из-под плаща небольшой портрет. — По этому портрету вы должны сделать восковую фигуру. — Восковую? Не могу! — и Гюи Бертран, осмотрев с ног до головы неизвестного, невольно содрогнулся. — Вы, может быть, думаете, что я фискал инквизиции, ищу вашей погибели? Нет! Впрочем, я найду другого церопластика, который будет снисходительнее… Неизвестный взял под плащ портрет и хотел идти. — Позвольте… Если вы мне скажете, для какого употребления заказываете… — Вот прекрасный вопрос! — Но… вы знаете, что можно сделать злое употребление… — О конечно, из всего можно сделать злое употребление; однако же, покупая железо, не давать же клятвы, что оно не будет употреблено на кинжал. Впрочем, будьте покойны: это для коллекции фамильной. Угодно взять? Гюи Бертран думал. — Извольте отвечать скорее! — Берусь… но… мне не дешево станет эта работа… и вам также. — Насчет этого не беспокойтесь: вот вам в задаток… здесь в кошельке двадцать луидоров. Через неделю должно быть готово… только сходство разительное… — Можете положиться… — Неизвестный удалился. Гюи Бертран запер двери, спрятал портрет в шкаф, бросил кошелек на стол и сел снова подле окна в раздумье. Вскоре вошла жена его. — У тебя, Гюи, кто-то был? Не для заказов ли? — Да! — ответил Бертран. — Слава богу! — Да! — отвечал Бертран. — Это что такое? — Деньги. — Слава богу… — повторила жена, — двадцать луидоров!.. Это все твои? — Да! — отвечал Бертран. — Я возьму на расход?.. — Возьми. — Ты, верно, обдумываешь заказанную работу?.. Я не буду тебе мешать. Она вышла, а Гюи Бертран просидел до полуночи перед окном.II
На другой день рано утром Гюи Бертран вошел в свою рабочую, вынул портрет, поставил его на станок и, заложив руки назад, стал ходить из угла в угол. — Какое очаровательное существо! — сказал он, смотря на портрет. — Так же хороша была и дочь моя! Где ты теперь, неблагодарная Вероника! У него хлынули из глаз слезы. Он закрыл лицо руками и отошел от портрета, сел подле окна в безмолвии… Когда в нем утихло горькое воспоминание, он подошел снова к портрету. — Чувствую, что не на добро заказано это!.. — повторял он, говоря сам с собою и посматривая на портрет. — Бедная девушка! Может быть, и тебя преследует соблазн или мщенье? Если я буду средством к твоему истязанию? Этот человек в оборванном плаще так похож на чернокнижника!.. Нет сил приниматься за работу…! Долго ходил Гюи Бертран по рабочей, то посматривал на портрет, то на распятие, которое стояло на столе в углу комнаты. — Нужда! — вскричал он наконец и, заперев двери, принялся за работу. Чрез неделю, поздно вечером, незнакомец явился; восковая фигура была уже готова и уложена в ящик. — Вы ручаетесь за сходство? — Ручаюсь. — Вот еще тридцать луидоров: помогите вынести. Гюи Бертран с трепетом помогал выносить ящик на улицу, где стояла уже готовая фура. — Прощайте, — сказал неизвестный; и фура и он исчезли в темноте.III
Солнце склонилось уже на запад, и тени как будто украдкой приподнялись из земли, из-под гор, холмов и зданий, построенных на кладбищах давних поколений, и потянулись к западу. Медленно сливались они друг с другом и застилали мрачной одеждой своей вечерний свет на красотах природы. Вдоль Пиренеев, по обе стороны пролома Роландова, казалось, что гиганты стали на стражу вокруг своих старшин с белоснежными главами, озаряемых последними лучами утопающего света в океане. В это время в комнате со сводами и окном с узорчатой решеткой, сквозь которое перед потемневшим небом видны были за шумным порогом Гаронны влево Тулузский замок под горою, а вправо — пространные луга, предметы потухли, все тут было черно и казалось пусто, безмолвно. В углу только светилось еще распятие над Адамовой головой, но против него, в боку комнаты, мрак, казалось, шевелился. С трудом можно было рассмотреть, что подле ниши, задернутой черной занавеской, сидела женщина. — Теперь… ты готова, Санция! — раздался ее голос. — Недостает только Раймонда, чтобы полюбоваться в последний раз на красоту твою!.. Но кто знает!.. Может быть… он… О! если б он обнимал тебя в эту минуту!.. нежил, клялся в любви, осыпал поцелуями… и вдруг невидимая рука… В руке женщины что-то блеснуло. Кто-то постучался в двери. Женщина вздрогнула, на второй стук она подошла к дверям и отперла. Вошел монах. — Мир ищущим утешения в завете Христа! — произнес он. — Отец! — сказала женщина. — Я призвала тебя прочитать отходную над умирающей. — Кто она такая? — Моя ближняя… — Как ее имя? — Санигия. Монах подошел к ложу с молитвой; женщина припала подле на колени. Монах стал произносить исповедь. — Отец, она не может отвечать, но я за нее порука… Она безгрешна!.. Монах читал отпущение грехов и отходную и потом прикоснулся распятием к челу лежащей на постеле, накрытой белым покрывалом. Женщина встала, положила деньги в руку монаху, и он тихо вышел. Женщина заперла за ним двери, подошла снова к ложу. Потухавшая лампада перед распятием ожила и мгновенно бросила томный свет на бледное, но прекрасное лицо женщины; она была в черной одежде. Взглянув с содроганием на отпускаемую с миром в мир горний, она откинула назад свое покрывало и бросилась в кресла подле ложа. — Теперь ты готова, Санция!.. возлюбленная моего Раймонда! — сказала она дрожащим, но твердым голосом. — Выслушай же Иоланду… Она хочет оправдать сердце свое… Ты можешь играть любовью Раймонда… ты дитя… ты дочь высокородного капитула… А я, я не могла играть его любовью… Для меня любовь его была священна!.. Я дочь бедняка, но я боролась с будущим своим несчастием еще в то время, когда на этом несчастий была маска земного блаженства… Я говорила Раймонду Толозскому, когда он обольщал чувства мои: «Оставь меня у отца и матери! не увози в Тулузу, где есть Санция, которую будут венчать в образе Изауры Толозской… Вот невеста тебе… Ей предайся… Представительница Изауры бросит на тебя взор любви с золотого престола!..» — «Нет! — сказал мне Раймонд. — Санция— восковая фигура, я тебя люблю, Иоланда!..» Он заглушал слова мои клятвами, пресмыкался змеей… целовал колени мои… а я верила, пригрела его на груди!.. Но и в минуту безумия собственного я еще говорила: «Оставь, не срывай бедную фиалку, возвратись к розе!..» А он оковал меня!.. Я говорю правду… Верь мне, дочь высокородного капитула!.. Вот свидетель мой!.. Видишь, Санция? Я хочу воротить Раймонда не к сердцу своему, а к собственной его крови!.. Хочу разлучить его с тобою; но кто может разлучить два сердца, кроме смерти!.. Да, только смерть… Смерть тебе, Санция!.. И с этими словами она бросилась к ложу. Три раза, посреди окружавшего ложе мрака, блеснули струи молнии. Она остановилась, зашаталась на месте и с диким криком упала без памяти подле ложа. Из рук ее выпал кинжал и зазвенел.IV
В зале аббатства св. Доминика, за длинным столом, накрытым сукном, сидел главный инквизитор, сидели и члены инквизиции толозской. Окна были задернуты зелеными занавесами, от которых все лица казались помертвевшими. В простенке задней стены, между впадинами, возвышалось до самого свода распятие. Стол судилища стоял на некотором возвышении. Дьяк судилища сидел в конце стола, на табурете, с непокрытой головой; члены же и инквизитор сидели в креслах, на спинках которых было красное изображение креста. Все они были в черных с белыми полосками мантиях, застегнутых спереди и покрывавших только грудь, в шапках четвероугольных, расходящихся кверху. После тихих совещаний главный инквизитор стукнул молотком по столу. Вошел сбирро[10] в красной мантии и в красной высокой шапке, с булавой в руках. Вслед за ним вошли несколько стражей в подобной же одежде, но с секирами в руках; они выстроились по обе стороны двери. За ними ввели под руки женщину в черной одежде; лицо ее было завешено покрывалом. Ее подвели к самому столу и посадили на табурет. Инквизитор подал знак, стражи вышли. — Сбрось покрывало! — сказал ей инквизитор. Женщина откинула покрывало. — Кто ты такая? — Иоланда! — ответила она тихим голосом. — Откуда родом? Женщина молчала. — Зачем ты здесь? — Я призвана инквизицией. — Что имеешь ты сказать? — Ничего. — Читайте показание. Дьяк читал: «Показание хозяина Иегана Реми. Иоланда, не объявляющая ни мест своего рождения, ни роду, ни племени, по показанию жителя Толозы Иегана Реми, ремеслом мельника, проживает у него реченного в доме более года в тишине и неизвестности, платя исправно за постой; посещал ее реченную Иоланду по вечерам неизвестный молодой мужчина и неизвестные люди, приносившие ей съестные припасы, а с недавнего времени посещал ее и другой неизвестный человек подозрительной наружности. Третьего же сентября 1815 года, в ночь, услышав вопли в ее половине, реченный Иеган Реми пошел к ней, но двери были заперты изнутри, почему и поторопился дать знать о сем городской страже, которая, прибыв в дом во время ночи, разломала запертые двери и взяла с собой реченную Иоланду, после чего реченный Иеган Реми и не видел уже сию женщину». — Кто такие люди, посещавшие тебя? — спросил снова инквизитор. Женщина молчала. Инквизитор подал знак. Из другой комнаты внесли носилки, накрытые черным покрывалом. — Это чьих рук дело? — спросил инквизитор, показывая на носилки и приказав сдернуть покрывало. Иоланда оглянулась, вздрогнула с криком и затрепетала. Ее поддержали. На носилках лежала очаровательной красоты девушка, на щеках румянец не потух, уста улыбались, но глаза ее были неподвижны, окованы смертью. — Читайте обвинение. Дьяк читал: «Иоланда обвиняется принадлежащей ко второму разряду преступных. Второй разряд преступлений составляют демонские науки: черная магия, порча, колдовство, чары, заочные убийства. Иоланда обвиняется в заочном убийстве: в нанесении трех ударов в сердце дщери высокородного капитула Бернхарда де Гвара, как то признано отцом и матерью и всеми капитулами. Реченное убийство явно подтверждается тем, что дщерь реченного капитула Бернхарда де Гвара, Санция, в ту ночь из замка Гвара внезапно исчезла, что и заставляет полагать утвердительно, что демонская сила исхитила ее из объятий родительских, чтобы предать чарам Иоланды». — Сознаешься ли ты в убийстве? Но Иоланда не отвечала: она без чувств лежала на руках двух сбирров. — Приговор свой услышишь ты в свое время, — продолжал инквизитор и подал знак, чтобы ее вынесли. Иоланду положили на носилки подле Санции, накрыли покрывалом и вынесли.V
Настал день ауто-да-фе, день торжества инквизиции, в который министры мира ожигают жертвы человеческие во славу Милосердого, во спасение людей и искупление их мукою времени от муки вечной. Еще до света раздался в Тулузе печальный, унылый звон колоколов, повещающий народу великое зрелище. Со всех концов города стекались любопытные. Процессия доминиканцев выходила на площадь; несли шитое и окованное золотом знамя с изображением св. Доминика, учредителя инквизиции, с мечом и миртой в руках и с надписью «Justitia et misericordia»[11]. Вслед за знаменем шли рядами преступники, обреченные казни, босые, в одежде печали и отвержения; в руках каждого был факел из желтого воска, подле каждого шел нареченный отец и исповедник с крестом в руках. Но за этими рядами преступников несли распятие, которое, склонясь над головами их, означало надежду на милосердие; только одна жертва, шедшая позади всех, была лишена этой надежды. Эта жертва была женщина. Ее вели под руки; на ней был черный бадахон, а сверх его sarama, или нарамник серого цвета, испещренный изображениями демонов и ада; на передней полости его был нарисован портрет преступницы посреди костра, обнятого пламенем. На голове ее была carochas, остроконечная высокая шапка в виде сахарной головы, с подобными же изображениями нечистой силы. Преступников провели во внутренность храма св. Доминика и посадили на лавки; подле каждого заняли место нареченные отцы и исповедники. Посредине алтарной стены возвышалось распятие, по обе стороны на хорах под балдахином сидели инквизиторы, в стороне была кафедра дьяка. По совершении молитвы дьяк стал читать обвинение и приговор каждого из преступников, после чего главный инквизитор объявил не обреченным на сожжение милосердное отпущение грехов и назначение на галеры. На сожжение обречена была только женщина. — Как хочешь ты умереть: христианкой или отступницей? — спросил ее член судилища. Она упорно молчала на этот вопрос, несколько раз повторенный. Ее сдали исполнителям казни и повели на площадь. Там был уже костер с столбом посредине. Когда процессия исполнителей казни остановилась подле костра, проповедник произнес к обреченной казни увещание, хотел поднести к устам ее распятие, но она отклонила руку проповедника и сказала тихо: — Я не достойна. Ее ввели на костер. Палачи привязали ее руки к столбу. Факелом, который она несла, один из доминиканцев зажег костер; костер мгновенно весь вспыхнул. — Раймонд!.. — простонала несчастная. Пламень обвил ее. Никто не знал, кто она такая. Все смотрели на нее, как на чаровницу, без сожаления. Но вдруг купа дыму и пламени как будто раздалась мгновенно, послышался вопль младенца, стон несчастной жертвы заглушил его. Все содрогнулись. Но, может быть, народу, окружавшему костер, это почудилось.VI
На другой день у входа в храм св. Доминика народ толпился и смотрел на портрет сожженной женщины! изображена была голова на пылающих головнях, с надписью:Чародейка Иоланда, сожженная за заочное убийство Санции, дщери высокородного капитула толозского Бернхарда де Гвара.Гюи Бертран видел из своего окна эту толпу, любопытство повело его посмотреть на портрет преступницы. Он подошел, взглянул и грохнулся на помост. В это время прогремел по мостовой фиакр, перед которым бежал скороход и за которым ехали два рейтара. В нем сидели: прекрасный собою мужчина в одежде капитулов тулузских и необыкновенной красоты женщина в голубой бархатной одежде и в такой же шапочке с белыми перьями. Заметно было, что любопытство ее было причиной остановки фиакра против портала. Мужчина подал ей руку, и они вошли на помост храма; толпа раздалась перед ними. — Он умер, умер, — говорили в толще. — Гюи Бертран умер! — Раймонд! — вскричала женщина с ужасом, прочитав надпись. — Что это значит? Мое имя!.. Но Раймонд стоял уже бледный и немой. Глаза его безумно двигались, весь он дрожал. — Раймонд! — повторила женщина, взглянув на него. Не говоря ни слова, он увлек ее за собой к фиакру; фиакр загремел вдоль по площади, но мужчина и женщина, сидевшие в нем, были уже бледны, как мертвецы.
III
В. Ф. Одоевский КОСМОРАМА
(Посв. Гр. Е. П. Р-ой) Quidquid est in externo est etiam in interno.[12] Неоплатоники
Предуведомление от издателя
Страсть рыться в старых книгах часто приводит меня к любопытным открытиям; со временем надеюсь большую часть из них сообщить образованной публике; но ко многим из них я считаю необходимым присовокупить вступление, предисловие, комментарии и другие ученые принадлежности; все это, разумеется, требует много времени, и потому я решился некоторые из моих открытий представить читателям просто в том виде, в каком они мне достались. На первый случай я намерен поделиться с публикой странною рукописью, которую я купил на аукционе вместе с кипами старых счетов и домашних бумаг. Кто и когда писал эту рукопись, неизвестно, но главное то, что первая часть ее, составляющая отдельное сочинение, писана на почтовой бумаге довольно новым и даже красивым почерком, так что я, не переписывая, мог отдать в типографию. Следственно, здесь моего ничего нет; но может случиться, что некоторые из читателей посетуют на меня, зачем я многие места в ней оставил без объяснения? Спешу порадовать их известием, что я готовлю к ней до четырехсот комментариев, из которых двести уже окончены. В сих комментариях все происшествия, описанные в рукописи, объяснены как дважды два— четыре, так что читателям не остается ни малейших недоразумений: сии комментарии составят препорядочный том in —4° и будут изданы особою книгою. Между тем я непрерывно тружусь над разбором продолжения сей рукописи, к сожалению, писанной весьма нечетко, и не замедлю сообщить ее любознательной публике; теперь же ограничусь уведомлением, что продолжение имеет некоторую связь с ныне печатаемыми листами, но обнимает другую половину жизни сочинителя.РУКОПИСЬ
Если бы я мог предполагать, что мое существование будет цепью непонятных, дивных приключений, я бы сохранил для потомства все их малейшие подробности. Но моя жизнь вначале была так проста, так похожа на жизнь всякого другого человека, что мне и в голову не приходило не только записывать каждый свой день, но даже и вспоминать об нем. Чудные обстоятельства, в которых я был и свидетелем, и действующим лицом, и жертвою, влились так нечувствительно в мое существование, так естественно примешались к обстоятельствам ежедневной жизни, что я в первую минуту не мог вполне оценить всю странность моего положения.Признаюсь, что, пораженный всем мною виденным, будучи решительно не в состоянии отличить действительность от простой игры воображения, я до сих пор не могу отдать себе отчета в моих ощущениях. Все остальное почти изгладилось из моей памяти; при всех усилиях вспоминаю лишь те обстоятельства, которые относятся к явлениям другой, или, лучше сказать, посторонней жизни, — иначе не знаю какназвать то чудное состояние, в котором я нахожусь, которого таинственные звенья начинаются с моего детского возраста, прежде, нежели я стал себя помнить, и до сих пор повторяются, с ужасною логическою последовательностию, нежданно и почти против моей воли; принужденный бежать людей, в ежечасном страхе, чтобы малейшее движение моей души не обратилось в преступление, я избегаю себе подобных, в отчаянии поверяю бумаге мою жизнь и тщетно в усилиях разума ищу средства выйти из таинственных сетей, мне расставленных. Но я замечаю, что все мною сказанное до сих пор может лишь для меня, или для того, кто перешел чрез мои испытания, и потому спешу приступить к рассказу самых происшествий. В этом рассказе нет ничего выдуманного, ничего изобретенного для прикрас. Иногда я писал подробно, иногда сокращенно, смотря по тому, как мне служила память — так я старался предохранить себя и от малейшего вымысла. Я не берусь объяснять происшествия, со мной бывшие, ибо непонятное для читателя осталось и для меня непонятным. Может быть, тот, кому известен настоящий ключ к иероглифам человеческой жизни, воспользуется лучше меня моею собственною историею. Вот единственная цель моя!
* * *
Мне было не более пяти лет, когда, проходя однажды через тетушкину комнату, я увидел на столе род коробки, облепленной цветною бумажкою, на которой золотом были нарисованы цветы, лица и разные фигуры; весь этот блеск удивил, приковал мое детское внимание. Тетушка вошла в комнату. «Что это такое?» — спросил я с нетерпением. — Игрушка, которую прислал тебе наш доктор Вин, но тебе ее дадут тогда, когда ты будешь умен. — С сими словами тетушка отодвинула ящик ближе к стене, так, что я мог издали видеть лишь одну его верхушку, на которой был насажен великолепный флаг самого яркого алого цвета. (Я должен предуведомить моих читателей, что у меня не было ни отца, ни матери и я воспитывался в доме моего дяди.) Детское любопытство было раздражено и видом ящика, и словами тетушки; игрушка, и еще игрушка, для меня назначенная. Тщетно я ходил по комнате, заглядывал то с той, то с другой стороны, чтобы посмотреть на обольстительный ящик: тетушка была неумолима; скоро ударило 9 часов, и меня уложили спать; однако мне не спалось, едва я заводил глаза, как мне представлялся ящик со всеми его золотыми цветами и флагами; мне казалось, что он растворялся, что из него выходили прекрасные дети в золотых платьях и манили меня к себе — я пробуждался; наконец, я решительно не мог заснуть, несмотря на все увещания нянюшки; когда же она мне погрозилась тетушкою, я принял другое намерение: мой детский ум быстро расчел, что если я засну, то нянюшка, может быть, вый-дет из комнаты, и что тетушка теперь в гостиной; я притворился спящим. Так и случилось. Нянюшка вышла из комнаты — я вскочил проворно с постели и пробрался в тетушкин кабинет; придвинуть стул к столу, взобраться на стул, ухватить руками заветный, очаровательный ящик — было делом одного мгновения. Теперь только, при тусклом свете ночной лампы, я заметил, что в ящике было круглое стекло, сквозь которое виднелся свет; оглянувшись, чтобы посмотреть, нейдет ли тетушка, я приложил глаза к стеклу и увидел ряд прекрасных, богато убранных комнат, по которым ходили незнакомые мне люди, богато одетые; везде блистали лампы, зеркала, как будто был какой-то праздник, но вообразите себе мое удивление, когда в одной из отдаленных комнат я увидел свою тетушку; возле нее стоял мужчина и горячо целовал ее руку, а тетушка обнимала его; однако ж этот мужчина был не дядюшка: дядюшка был довольно толст, черноволос и ходил во фраке, а этот мужчина был прекрасный, стройный, белокурый офицер с усами и шпорами. Я не мог довольно им налюбоваться. Мое восхищение было прервано щипком за ухо, я обернулся — передо мной стояла тетушка. — Ах, тетушка! Как, вы здесь? А я вас сейчас там видел… — Какой вздор!.. — Как же, тетушка! И белокурый, пребравый офицер целовал у вас руку… Тетушка вздрогнула, рассердилась, прикрикнула и за ухо отвела меня в мою спальню. На другой день, когда я пришел поздороваться с тетушкой, она сидела за столом; перед ней стоял таинственный ящик, но только крышка с него была снята, и тетушка вынимала из него разные вырезанные картинки. Я остановился, боялся пошевельнуться, думая, что мне достанется за мою вчерашнюю проказу, но, к удивлению, тетушка не бранила меня, а, показывая вырезанные картинки, спросила: «Ну где же ты здесь меня видел? покажи». Я долго разбирал картинки: тут были пастухи, коровки, тирольцы, турки, были и богато наряженные дамы, и офицеры; но между ними я не мог найти ни тетушки, ни белокурого офицера. Между тем этот разбор удовлетворил мое любопытство, ящик потерял для меня свое очарование, и скоро гнедая лошадка на колесах заставила меня совсем забыть о нем. Скоро, вслед за тем, я услышал в детской, как нянюшки рассказывали друг другу, что у нас в доме приезжий, братец гусар и проч. Когда я пришел к дядюшке, у него сидели с одной стороны на креслах тетушка, а с другой — мой белокурый офицер. Едва успел он сказать мне несколько ласковых слов, как я вскричал: — Да я знаю вас, сударь! — Как знаешь? — спросил с удивлением дядюшка. — Да я уже видел вас… — Где видел? Что ты говоришь, Володя? — сказала тетушка сердитым голосом. — В ящике, — отвечал я с простодушием. Тетушка захохотала. — Он видел гусара в космораме, — сказала она. Дядюшка также засмеялся. В это время вошел доктор Вин, ему рассказали причину общего смеха, а он, улыбаясь, повторял мне: «Да, точно, Володя, ты там его видел». Я очень полюбил Поля (так называли дальнего братца тетушки), а особливо его гусарский костюм; я бегал к Полю беспрестанно, потому что он жил у нас в доме — в комнате за оранжереей; да сверх того он, казалось, очень любил игрушки, потому что, когда он сидел у тетушки в комнате, то беспрестанно посылал меня в детскую то за тою, то за другою игрушкой. Однажды, что меня очень удивило, я принес Полю чудесного паяца, которого только что мне подарили и который руками и ногами выкидывал удивительные штуки; я его держал за веревочку, а Поль между тем за стулом держал руку у тетушки, тетушка же плакала. Я подумал, что тетушке стало жаль паяца, отложил его в сторону и от скуки принялся за другую работу. Я взял два кусочка воска и нитку, один ее конец прилепил к одной половине двери, а другой конец к другой. Тетушка и Поль смотрели на меня с удивлением. — Что ты делаешь, Володя? — спросила меня тетушка. — Кто тебя этому научил? — Дядя так делал сегодня поутру. И тетушка и Поль вздрогнули. — Где же это он делал? — спросила тетушка. ― У оранжерейной двери, — отвечали. В эту минуту тетушка и Поль взглянули друг на друга очень странным образом. — Где твой гнедко? — спросил меня Поль. — Приведи ко мне его, я бы хотел на нем поездить. Второпях я побежал в детскую, но какое-то невольное чувство заставило меня остановиться за дверью, и я увидел, что тетушка с Полем пошли поспешно к оранжерейной двери, которая, не забудьте, вела к тетушкиному кабинету, тщательно ее осматривали, и что Поль перешагнул через нитку, приклеенную поутру дядюшкою, после чего Поль с тетушкою долго смеялись. В этот день они оба ласкали меня более обыкновенного.Вот два замечательных происшествия моего детства, которые остались в моей памяти. Все остальное не заслуживает внимания благосклонного читателя. Меня свезли к дальней родственнице, которая отдала меня в пансион. В пансионе я получал письма от дядюшки из Симбирска, от тетушки из Швейцарии, иногда с приписками Поля. Со временем письма становились реже и реже, из пансиона поступил я прямо на службу, где получил известие, что дядюшка скончался, оставив меня по себе единственным наследником. Много лег прошло с тех пор; я успел наслужиться, испытать голода, холода, сплина, несколько обманутых надежд; наконец, отпросился в отпуск, в матушку-Москву, с самым байроническим расположением духа и с твердым намерением не давать прохода ни одной женщине. Несмотря на время, которое протекло со дня отъезда моего из Москвы, вошедши в дядюшкин дом, который сделался моим, я ощутил чувство неизъяснимое. Надобно пройти долгую, долгую жизнь, мятежную, полную страстей и мечтаний, горьких опытов и долгой думы, чтоб понять это ощущение, которое производит вид старого дома, где каждая комната, стул, зеркало напоминает нам происшествия детства. Это явление объяснить трудно, но оно действительно существует, и всякий испытал его на себе. Может быть, в детстве мы больше мыслим и чувствуем, нежели сколько обыкновенно полагают; только этих мыслей, этих чувств мы не в состоянии обозначать словами, и оттого забываем их. Может быть, эти происшествия внутренней жизни остаются прикованными к вещественным предметам, которые окружали нас в детстве и которые служат для нас такими же знаками мыслей, какими слова в обыкновенной жизни. И когда, после долгих лет, мы встречаемся с этими предметами, тогда старый, забытый мир нашей девственной души восстает пред нами и безмолвные его свидетели рассказывают нам такие тайны нашего внутреннего бытия, которые без того были бы для нас совершенно потеряны. Так натуралист, возвратясь из долгого странствования, перебирает с наслаждением собранные им и частию забытые редкие растения, раковины, минералы, и каждый из них напоминает ему ряд мыслей, которые возбуждались в душе его посреди опасностей страннической жизни. По крайней мере, я с таким чувством пробежал ряд комнат, напоминавших мне мою младенческую жизнь; быстро дошел я до тетушкина кабинета… Все в нем оставалось на своем месте: ковер, на котором я играл; в углу обломки игрушек; под зеркалом камин, в котором, казалось, только вчера еще погасли уголья; на столе, на том же месте, стояла косморама, почерневшая от времени. Я велел затопить камин и уселся в кресла, на которые, бывало, с трудом мог вскарабкаться. Смотря на все меня окружающее, я невольно стал припоминать все происшествия моей детской жизни. День за днем, как китайские тени, мелькали они предо мною; наконец, я дошел до вышеописанных случаев между тетушкой и Полем; над диваном висел ее портрет; она была прекрасная черноволосая женщина, которой смуглый румянец и выразительные глаза высказывали огненную повесть о внутренних движениях ее сердца; на другой стороне висел портрет дядюшки, дородного, толстого мужчины, у которого в простом, по-видимому, взоре была видна тонкая русская сметливость. Между выражением лиц обоих портретов была целая бездна. Сравнив их, я понял все, что мне в детстве казалось непонятным. Глаза мои невольно устремились на космораму, которая играла такую важную роль в моих воспоминаниях; я старался понять, отчего в ее образах я видел то, что действительно случилось, и прежде, нежели случилось. В этом размышлении я подошел к ней, подвинул ее к себе и с чрезвычайным удивлением в запыленном стекле увидел свет, который еще живее напомнил мне виденное мной в моем детстве. Признаюсь, не без невольного трепета и не отдавая, себе отчета в моем поступке, я приложил глаза к очарованному стеклу. Холодный пот пробежал у меня по лицу, когда в длинной галерее косморамы я снова увидел тот ряд комнат, который представлялся мне в детстве; те же украшения, те же колонны, те же картины, также был праздник, но лица были другие: я узнал многих из теперешних моих знакомых, и, наконец, в отдаленной комнате самого себя; я стоял возле прекрасной женщины и говорил ей самые нежные речи, которые глухим шепотом отдавались в моем слухе… Я отскочил с ужасом, выбежал из комнаты на другую половину дома, призвал к себе человека и расспрашивал его о разном вздоре только для того, чтоб иметь при себе какое-нибудь живое существо. После долгого разговора я заметил, что мой собеседник начинает дремать, я сжалился над ним и отпустил его; между тем заря уже начинала заниматься; этот вид успокоил мою волнующуюся кровь, я бросился на диван и заснул, но сном беспокойным; в сновидениях мне беспрестанно являлось то, что я видел в космораме, которая мне представлялась в образе огромного здания, где все — колонны, стены, картины, люди, — все говорило языком, для меня непонятным, но который производил во мне ужас и содрогание. Поутру меня разбудил человек известием, что ко мне пришел старый знакомый моего дядюшки, доктор Бин. Я велел принять его. Когда он вошел в комнату, мне показалось, что он совсем не переменился с тех пор, как я его видел лет двадцать тому назад; тот же синий фрак с бронзовыми фигурными пуговицами, тот же клок седых волос, которые торчали над его серыми, спокойными глазами, тот же всегда улыбающийся вид, с которым он заставлял меня глотать ложку ревеня, и та же трость с золотым набалдашником, на которой я, бывало, ездил верхом. После многих разговоров, после многих воспоминаний я невольно завел речь о космораме, которую он подарил мне в моем детстве. — Неужели она цела еще? — спросил доктор, улыбаясь. — Тогда это была еще первая косморама, привезенная в Москву, теперь она во всех игрушечных лавках. Как распространяется просвещение! — прибавил он с глупо-простодушным видом. Между тем я повел доктора показать ему его старинный подарок; признаюсь, не без невольного трепета я переступил через порог тетушкиного кабинета, но присутствие доктора, а особливо его спокойный, пошлый вид меня ободрили. — Вот ваша чудесная косморама, — сказал я ему, показывая на нее… Но я не договорил: в выпуклом стекле мелькнул блеск и привлек все мое внимание. В темной глубине косморамы я явственно различил самого себя и возле меня доктора Вина; но он был совсем не тот, хотя сохранил ту же одежду. В его глазах, которые мне казались столь простодушными, я видел выражение глубокой скорби, все смешное в комнате принимало в очаровательном стекле вид величественный; там он держал меня за руку, говорил мне что-то невнятное, и я с почтением его слушал. — Видите, видите! — сказал я доктору, показывая ему на стекло. — Видите ль вы там себя и меня? — С этими словами я приложил руку к ящику, в сию минуту мне сделались внятными слова, произносившиеся на этой странной сцене, и, когда доктор взял меня за руку и стал щупать пульс, говоря: «Что с вами?» — его двойник улыбнулся. «Не верь ему, — говорил сей последний, — или, лучше сказать, не верь мне в твоем мире. Там я сам не знаю, что делаю, но здесь я понимаю мои поступки, которые в вашем мире представляются в виде невольных побуждений. Там я подарил тебе игрушку, сам не зная для чего, но здесь я имел в виду предостеречь твоего дядю и моего благодетеля от несчастий, которое грозило всему вашему семейству. Я обманулся в расчетах человеческого суемудрия; ты в своем детстве случайно прикоснулся к очарованным знакам, начертанным сильною рукою на магическом стекле. С той минуты я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную способность; с той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая всегда будет открываться для тебя неожиданно, против твоей воли, по законам, мне и здесь непостижимым. Злополучный счастливец! ты — ты можешь все видеть — все, без покрышки, без звездной пелены, которая для меня самого там непроницаема. Мои мысли я должен передавать себе посредством сцепления мелочных обстоятельств жизни, посредством символов, тайных побуждений, темных намеков, которые я часто понимаю криво или которых вовсе не понимаю. Но не радуйся: если бы ты знал, как я скорблю над роковым моим даром, над ослепившею меня гордостию человека; я не подозревал, безрассудный, что чудная дверь в тебе раскрылась равно для благого и злого, для блаженства и гибели… и, повторяю, уже никогда не затворится. Береги себя, сын мой, береги меня… За каждое твое действие, за каждую мысль, за каждое чувство я отвечаю наравне с тобою. Посвященный! сохрани себя от рокового закона, которому подвергается звездная мудрость! Не умертви твоего посвятителя!..» Видение зарыдало. — Слышите, слышите? — сказал я, — Что вы там говорите? — вскричал я с ужасом. Доктор Бин смотрел на меня с беспокойным удивлением. — Вы сегодня нездоровы, — говорил он, — долгое путешествие, увидели старый дом, вспомнили былое, все это встревожило ваши нервы, дайте-ка я вам пропишу микстуру. «Знаешь ли, что там у вас, я думаю? — отвечал двойник доктора. — Я думаю просто, что ты помешался. Оно так и должно быть — у вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в вашем мире говорит языком нашего. Как я странен, как я жалок в этом образе! И мне нет сил научить, вразумить себя, — там грубы мои чувства, спеленай мой ум, в слухе звездные звуки, — я не слышу себя, я не вижу себя! Какое терзанье! И еще кто знает, может быть, в другом, в высшем мире я кажусь еще более странным и жалким. Горе! Горе!» — Выйдемте отсюда, любезный Владимир Петрович, — сказал настоящий доктор Бин, — вам нужна диета, постель, а здесь как-то холодно, меня мороз по коже подирает. Я отнял руку от стекла: все в нем исчезло, доктор вывел меня из комнаты, я в раздумье следовал за ним как ребенок. Микстура подействовала: на другой день я был гораздо спокойнее и приписал все виденное мною расстроенным нервам. Доктор Бин догадался, велел уничтожить эту странную космораму, которая так сильно потрясала мое воображение по воспоминаниям ли или по другой какой-либо неизвестной мне причине. Признаюсь, я очень был доволен этим распоряжением доктора, как будто какой камень спал с моей груди; я быстро выздоравливал, и, наконец, доктор позволил, даже приказал мне выезжать и стараться как можно больше искать перемены предметов и всякого рода рассеянности. «Это совершенно необходимо для ваших расстроенных нервов», — говорил доктор. Кстати я вспомнил, что к моим знакомым и родным я еще не являлся с визитом. Объездив кучу домов, истратив почти все свои визитные билеты, я остановил карету у Петровского Бульвара и вышел с намерением дойти пешком до Рождественского Монастыря; невольно я останавливался на всяком шагу, вспоминая былое и любуясь улицами Москвы, которые кажутся так живописными после однообразных петербуржских стен, вытянутых в шеренгу. Небольшой переулок на Трубе тянулся в гору, по которой рассыпаны были маленькие домики, построенные назло всем правилам архитектуры, и может быть потому еще более красивые; их пестрота веселила меня в детстве и теперь снова поражала меня своею прихотливою небрежностию. По дворам, едва огороженным, торчали деревья, а между деревьями развешаны были разные домашние принадлежности; над домом в три этажа и в одно окошко, выкрашенным красною краскою, возвышалась огромная зеленая решетка в виде голубятни, которая, казалось, придавливала весь дом. Лет двадцать тому назад эта голубятня была для меня предметом удивления; я знал очень хорошо этот дом; с тех пор он нимало не переменился, только с бока приделали новую пристройку в один этаж, и как будто нарочно выкрасили желтою краскою; с нагорья была видна внутренность двора; по нем величаво ходили дворовые птицы, и многочисленная дворня весело суетилась вокруг краснобая, пряничника. Теперь я глядел на этот дом другими глазами, видел ясно всю нелепость и безвкусие его устройства, но, несмотря на то, вид его возбуждал в душе такие чувства, которых никогда не возбудят вылощенные петербуржские дома, которые, кажется, готовы расшаркаться по мостовой вместе с проходящими и которые, подобно своим обитателям, так опрятны, так скучны и холодны. Здесь, напротив, все носило отпечаток живой, привольной домашней жизни, здесь видно было, что жили для себя, а не для других, и, что всего важнее, располагались жить не на одну минуту, а на целое поколение. Погрузившись в философские размышления, я нечаянно взглянул на ворота и увидел там имя одной из моих тетушек, которую тщетно отыскивал на Моховой; поспешно вошел я в ворота, которые по древнему московскому обычаю никогда не были затворены, вошел в переднюю, которая также по московскому обычаю никогда не была заперта. В передней спали несколько слуг, потому что был полдень; мимо их я прошел преспокойно в столовую, передгостиную, гостиную и, наконец, так называемую боскетную, где под тенью нарисованных деревьев сидела тетушка и раскладывала гранпасьянс. Она ахнула, увидев меня; но когда я назвал себя, тогда ее удивление превратилось в радость. — Насилу ты, батюшка, вспомнил обо мне, — сказала она. — Вот сегодня уж ровно две недели в Москве, а не мог заглянуть ко мне. — Как, тетушка, вы уже знаете? — Как не знать, батюшка! По газетам видела. Вишь, вы нынче люди, тонные, только по газетам об вас и узнаем. Вижу: приехал поручик. Ба! — говорила я, да это мой племянник! Смотрю, когда приехал — 10-го числа, — а сегодня 24-е. — Уверяю вас, тетушка, что я не мог отыскать вас. — И, батюшка, хотел бы отыскать — отыскал бы. Да что и говорить — хоть бы когда строчку написал! А ведь я тебя маленького на руках носила, — уж не говорю часто, а хоть бы в светлое воскресенье с праздником поздравил. Признаюсь, я не находил, что ей отвечать, как вежливее объяснить ей, что с пятилетнего возраста я мог едва упомнить ее имя. К счастью, она переменила разговор. — Да как это ты вошел? Об тебе не доложили: верно, никого в передней нет. Вот, батюшка, шестьдесят лет на свете живу, а не могу порядка в доме завести. Соня, Соня! позвони в колокольчик. — При сих словах в комнату вошла девушка лет 17 в белом платье. Она не успела позвонить в колокольчик… — Ах, батюшка, да вас надобно познакомить: ведь она тебе роденька, хоть и дальняя… Как же! Дочь князя Миславского, твоего двоюродного дядюшки. Соня, вот тебе братец Владимир Петрович. Ты часто об нем слыхивала; вишь, какой молодец! Соня закраснелась, потупила свои хорошенькие глазки и пробормотала мне что-то ласковое. Я сказал ей несколько слов, и мы уселись. — Впрочем, немудрено, батюшка, что ты не отыскал меня, — продолжала словоохотливая тетушка. — Я ведь свой дом продала да вот этот купила. Вишь какой пестрый, да, правду сказать, не затем купила, а от того, что близко Рождественского Монастыря, где все мои голубчики родные лежат; а дом, нечего сказать, славный, теплый, да и с какими затеями: видишь, какая славная боскетная; когда в коридоре свечку засветят, то у меня здесь точно месячная ночь. В самом деле, взглянув на стену, я увидел грубо вырезанное в стене подобие полумесяца, в которое вставлено было зеленоватое стекло. «Видишь, батюшка, как славно придумано. Днем в коридор светит, а ночью ко мне. Ты, я чаю, помнишь мой старый дом?» — Как же, тетушка! — отвечал я, невольно улыбаясь. — А теперь дай-ка, похвастаюсь моим новым домком. С сими словами тетушка встала, и Соня последовала за ней. Она повела нас через ряд комнат, которые, казалось, были приделаны друг к другу без всякой цели; однако же, при более внимательном обзоре, легко было заметить, что в них все придумано было для удобства и спокойствия жизни. Везде большие светлые окошки, широкие лежанки, маленькие двери, которые, казалось, были не на месте, но между тем служили для более удобного сообщения между жителями дома. Наконец мы дошли до комнаты Сони, которая отличалась от других комнат особенною чистотою и порядком; у стенки стояли маленькие клавикорды, на столе букет цветов, возле него старая библия, на большом комоде старинной формы с бронзою я заметил несколько томов старых книг, которых заглавия заставили меня улыбнуться. — А вот здесь у меня Соня живет, — сказала тетушка. — Видишь, как все у ней к месту приставлено; нечего сказать, чистоплотная девка; одна у нас с нею только беда: работы не любит, а все любит книжки читать. Ну, сам ты скажи, пожалуй, что за работа девушке книжки читать, да еще по-немецки — вишь, немкой была — воспитана. Я хотел сказать несколько слов в оправдание прекрасной девушки, которая все молчала, краснела и потупляла глаза в землю, но тетушка прервала меня: — Полно, батюшка, фарлакурить! Мы знаем, ведь ты петербуржский модный человек! У вас правды на волос нет, а девка-то подумает, что она в самом деле дело делает. С этой минуты я смотрел на Соню другими глазами; ничто нас столько не знакомит с человеком, как вид той комнаты, в которой он проводит большую часть своей жизни, и недаром новые романисты с таким усердием описывают мебели своих героев; теперь можно и с большей справедливостью переиначить старинную поговорку: «скажи мне, где ты живешь, — я скажу кто ты». Тетушка была, по-видимому, смертная охотница покупать дома и строиться; она подробно рассказывала мне, как она приискала этот дом, как его купила, как его переделала, что ей стоили подрядчики, плотники, бревна, доски, гвозди. А я отвечал ей незначащими фразами и со вниманием знатока рассматривал Соню, которая все молчала. Она была, нёчего сказать, прекрасна: рассыпанные по плечам á la Valiere русые волосы, которые без поэтического обмана можно было назвать каштановыми, черные блестящие глазки, вострый носик, маленькие прекрасные ножки, — все в ней исчезло перед особенным гармоническим выражением лица, которого нельзя уловить ни в какую фразу… Я воспользовался той минутой, когда тетушка переводила дух, и сказал Соне: «Вы любите чтение?» — Да, я люблю иногда чтение… — Но, кажется, у вас мало книг? — Много ли нужно человеку! Эта поговорка, примененная к книгам, показалась мне довольно смешною. — Вы знаете по-немецки. Читали ли вы Гёте, Шиллера, Шекспира в переводе Шлегеля? — Нет. — Позвольте мне привезти вам эти книги… — Я вам буду очень благодарна. — Да, батюшка, ты Бог знает чего надаешь ей, — сказала тетушка. — О, тетушка, будьте уверены… — Прошу, батюшка, привезти таких, которые позволены. — О, без сомнения! — Чудное дело! Вот я дожила до 60 лет, а не могу понять, что утешного находят в книгах. В молодости я спросила однажды, какая лучшая в свете книга? Мне отвечали: «Россияда сенатора Хераскова». Вот я и принялась ее читать; только такая, батюшка, скука взяла, что я и десяти страниц не прочла; тут я подумала, что ж, если лучшая в свете книга так скучна, что ж должны быть другие? И уж не знаю, я ли глупа или что другое, только с тех пор, кроме газет, ничего не читаю, да и там только о приезжающих. На эту литературную критику тетушки я не нашелся ничего отвечать, кроме того, что книги бывают различные и вкусы бывают различные. Тетушка возвратилась в гостиную, мы с Софьею медленно за ней следовали и на минуту остались почти одни. — Не смейтесь над тетушкой, — сказала мне Софья, как бы угадывая мои мысли, — она права, понимать книги очень трудно, — вот, например, мой опекун очень любил басню «Стрекоза и Муравей», я никогда не могла понять, что в ней хорошего; опекун всегда приговаривал: ай-да молодец муравей! А мне всегда бывало жалко бедной стрекозы и досадно на жестокого муравья. Я уже многим говорила, нельзя ли попросить сочинителя, чтобы он переменил эту басню, но надо мной все, смеялись. — Немудрено, милая кузина, потому что сочинитель этой басни умер еще до французской революции. — Что это такое? Я невольно улыбнулся такому милому невежеству и постарался в коротких словах дать моей собеседнице понятие о сем ужасном происшествии. Софья была, видимо, встревожена, слезы показались у нее на глазах. — Я этого и ожидала, — сказала она после некоторого молчания. — Чего вы ожидали? — То, что вы называете французскою революцией, непременно должно было произойти от басни «Стрекоза и Муравей». Я расхохотался. Тетушка вмешалась в наш разговор. — Что у вас там такое? Вишь, она как с тобой раскудахталась, а со мной так все молчит. Что ты ей там напеваешь? — Мы рассуждаем с кузиной о французской революции. — Помню, помню, батюшка; это когда кофей и сахар вздорожали… — Почти так, тетушка… — Тогда и пудру уж начали покидать; я жила тогда в Петербурге, приехали французы — смешно было смотреть на них, словно из бани вышли; теперь-то немножко попривыкли. Что за время было, батюшки! Долго еще толковала тетушка об этом времени, перепутывала все эпохи, рассказывала, как нельзя было найти ни гвоздики, ни корицы; что вместо прованского масла делали салат со сливками и проч. т. п. Наконец, я распростился с тетушкой, разумеется, после клятвенных обещаний навещать ее как можно чаще. На этот раз я не лгал: Соня мне очень приглянулась. На другой день явились книги, за ними я сам, на третий, на четвертый день — то же. — Как вам понравились мои книги? — спросил я однажды у Софьи. — Извините, я позволила себе заметить то, что в них мне понравилось… — Напротив, я очень рад. Как бы я хотел видеть ваши заметки! Софья принесла мне книги. В Шекспире была замечена фраза: «Да, друг Горацио, много в сем мире такого, что и не снилось нашим мудрецам». В «Фаусте» Гёте была отмечена только та маленькая сцена, где Фауст с Мефистофелем скачут по пустынной равнине. — Чем же особенно понравилась вам именно эта сцена? — Разве вы не видите, — ответила Софья простодушно, — что Мефистофель спешит; он гонит Фауста, говорит, что там колдуют, но неужели Мефистофель боится колдовства? — В самом деле, я никогда не понимал этой сцены? — Как это можно? Это самая понятная, самая светлая сцена! Разве вы не видите, что Мефистофель обманывает Фауста? Он боится — здесь не колдовство, здесь совсем другое… Ах, если бы Фауст остановился!.. — Где вы все это видите? — спросил я с удивлением. — Я… я вас уверяю, — отвечала она с особенным выражением. Я улыбнулся, она смутилась… — Может быть, я и ошибаюсь, — прибавила она, потупив глаза. — И больше вы ничего не заметили в моих книгах? — Нет, еще много, много, но только мне бы хотелось ваши книги, так сказать, просеять… — Как просеять? — Да! Чтобы осталось то, что на сердце ложится. — Скажите же, какие вы любите книги? — Я люблю такие, что, когда их читаешь, то делается жалко людей и хочется помогать им, а потом захочется умереть. — Умереть? Знаете ли, что я скажу вам, кузина? Вы не рассердитесь за правду? — О, нет; я очень люблю правду… — В вас много странного; у вас какой-то особенный взгляд на предметы. Помните, намедни, когда я расшутился, вы мне сказали: «Не шутите так, берегитесь слов, ни одно наше слово не теряется; мы иногда не знаем, что мы говорим нашими словами!» Потом, когда я заметил, что вы одеты не совсем по моде, вы отвечали: «не все ли равно? не успеешь трех тысяч раз одеться, как все пройдет: это платье с нас снимут, снимут и другое, и спросят только, что мы доброго по себе оставили, а не о том, как мы были одеты?» Согласитесь, что такие речи до крайности странны, особливо на языке девушки. Где вы набрались таких мыслей? — Я не знаю, — отвечала Софья, испугавшись, — иногда что-то внутри меня говорит во мне, я прислушиваюсь и говорю, не думая, — и часто что я говорю, мне самой непонятно. — Это нехорошо. Надобно всегда думать о том, что говоришь, и говорить только то, что вы ясно понимаете… — Мне и тетушка то же твердит; но я не знаю, как объяснить это, когда внутри заговорит, я забываю, что надобно прежде подумать — я и говорю или молчу; оттого я так часто молчу, чтобы тетушка меня не бранила; но с вами мне как-то больше хочется говорить… мне, не знаю отчего, вы как-то жалки… — Чем же я вам кажусь жалок? — Так! сама не знаю, — а когда я смотрю на в мне вас жалко, так жалко, что и сказать нельзя; мне все хочется вас, так сказать, утешить, и я вам говор говорю, сама не зная что. Несмотря на всю прелесть такого чистого, невинного признания, я почел нужным продолжать мою роль моралиста. — Послушайте, кузина, я не могу вас не благодарить за ваше доброе ко мне чувство; но поверьте мне вы имеете такое расположение духа, которое может быть очень опасно. — Опасно? отчего же? — Вам надобно стараться развлекаться, не слушать того, что, как вы рассказываете, внутри вам говорит… — Не могу — уверяю вас, не могу; когда голос внутри заговорит, я не могу выговорить ничего кроме тог что он хочет… — Знаете ли, что в вас есть наклонность к мистицизму? Это никуда не годится. — Что такое мистицизм? Этот вопрос показал мне, в каком я был заблуждении. Я невольно улыбнулся: «Скажите, кто вас воспитывал?» — Когда я жила у опекуна, при мне была няня немка, добрая Луиза; она уж умерла… — И больше никого? — Больше никого. — Чему же она вас учила? — Стряпать на кухне, шить гладью, вязать фуфайки, ходить за больными… — Вы с ней ничего не читали? — Как же? Немецкие вокабулы, грамматику… да! и забыла: в последнее время мы читали небольшую книжку… — Какую? — Не знаю, но, постойте, я вам покажу одно место из этой книжки. Луиза при прощанье вписала <его> в мой альбом; тогда, может быть, вы узнаете, какая это была книжка. В Софьином альбоме я прочел сказку, которая странным образом навсегда запечатлелась в моей памяти; вот она: — Два человека родились в глубокой пещере, куда никогда не проникали лучи солнечные; они не могли выйти из этой пещеры иначе, как по очень крутой и узкой лестнице, и, за недостатком дневного света, зажигали свечи. Один из этих людей был беден, терпел во всем нужду, спал на голом полу, едва имел пропитание. Другой был богат, спал на мягкой постели, имел прислугу, роскошный стол. Ни один из них не видал еще солнца, но каждый о нем имел свое понятие. Бедняк воображал, что солнце великая и знатная особа, которая всем оказывает милости, и все думал о том, как бы ему поговорить с этим вельможею; бедняк был твердо уверен, что солнце сжалится над его положением и поможет ему. Приходящих в пещеру он спрашивал, как бы ему увидеть солнце и подышать свежим воздухом, — наслаждение, которого он также никогда не испытывал; приходящие отвечали, что для этого он должен подняться по узкой и крутой лестнице. — Богач, напротив, расспрашивая приходящих подробнее, узнал, что солнце огромная планета, которая греет и светит; что, вышедши из пещеры, он увидит тысячу вещей, о которых не имеет никакого понятия; но когда приходящие рассказали ему, что для сего надобно подняться по крутой лестнице, то богач рассудил, что это будет труд напрасный, что он устанет, может оступиться, упасть и сломить себе шею; что гораздо благоразумнее обойтись без солнца, потому что у него в пещере есть камин, который греет, и свеча, которая светит; к тому же, тщательно собирая и записывая все слышанные рассказы, он скоро уверился, что в них много преувеличенного и что он сам гораздо лучшее имеет понятие о солнце, нежели те, которые его видели. Один, несмотря на крутизну лестницы, не пощадил труда и выбрался из пещеры, и когда он дохнул чистым воздухом, когда увидел красоту неба, когда почувствовал теплоту солнца, тогда забыл, какое ложное о нем имел понятие, забыл прежний холод и нужду, а падши на колени, лишь благодарил Бога за такое непонятное ему прежде наслаждение. Другой остался в смрадной пещере, перед тусклой свечою и еще смеялся над своим прежним товарищем! — Это, кажется, аполог Круммахера, — сказал я Софье. — Не знаю, — отвечала она. — Он не дурен, немножко сбивчив, как обыкновенно бывает у немцев; но посмотрите, в нем то же, что я сейчас говорил, то есть, что человеку надобно трудиться, сравнивать и думать… — И верить, — отвечала Софья с потупленными глазами. — Да, разумеется, и верить, — отвечал я с снисходительностью человека, принадлежащего XIX-му столетию. Софья посмотрела на меня внимательно. — У меня в альбоме есть и другие выписки; посмотрите, в нем есть прекрасные мысли, очень-очень глубокие. Я перевернул несколько листов; в альбоме были отдельные фразы, кажется, взятые из какой-то азбуки, как, например: «чистое сердце есть лучшее богатство. Делай добро сколько можешь, награды не ожидай, это до тебя не касается. Если будем внимательно примечать за собою, то увидим, что за каждым дурным поступком рано или поздно следует наказание. Человек ищет счастья снаружи, а оно в его сердце» и пр. т. п. Милая кузина с пресерьезным видом читала эти фразы и с особенным выражением останавливалась на каждом слове. Она была удивительно смешна, мила… Таковы были наши беседы с моей кузиной; впрочем, они бывали редко, и потому что тетушка мешала нашим разговорам, так и потому, что сама кузина была не всегда словоохотлива. Ее незнание всего, что выходило из ее маленького круга, ее суждения, до невероятности детские, приводили меня и в смех и жалость; но между тем никогда еще не ощущал я в душе такого спокойствия: в ее немногих словах, в ее поступках, в ее движениях была такая тишина, такая кротость, такая елейность, что, казалось, воздух, которым она дышала, имел свойство укрощать все мятежные страсти, рассеивать все темные мысли, которые иногда тучею скоплялись в моем сердце; часто, когда раздоры мнений, страшные вопросы, все порождения умственной кичливости нашего века стесняли мою душу, когда мгновенно она переходила чрез все мытарства сомнения, и я ужасался, до каких выводов достигала непреклонная житейская логика — тогда один простодушный взгляд, один простодушный вопрос невинной девушки невольно восстанавливал первобытную чистоту души моей; я забывал все гордые мысли, которые возмущали мой разум, и жизнь казалась мне понятна, светла, полна тишины и гармонии. Тетушка сначала была очень довольна моими частыми посещениями, но наконец дала мне почувствовать, что она понимает, зачем я так часто езжу; ее простодушное замечание, которое ей хотелось сделать очень тонким, заставило меня опамятоваться и заглянуть во внутренность моей души. Что чувствовал я к Софье? Мое чувство было ли любовь? Нет, любви некогда было укорениться, да и не в чем; Софья своим простодушием, своею детскою странностию, своими сентенциями, взятыми из прописей, могла забавлять меня — и только; она была слишком ребенок, младенец; душа ее была невинна и свежа до бесчувствия; она занималась больше всего тетушкой, потом хозяйством, а потом уже мною; нет, не такое существо могло пленить воображение молодого, еще полного сил человека, но уж опытного… Я уже перешел за тот возраст, когда всякое хорошенькое личико сводит с ума: в женщине мне надобно было друга, с которым бы я мог делиться не только чувствами, но и мыслями; Софья не в состоянии была понимать ни тех, ни других; а быть постоянно моралистом хотя и лестно для самолюбия, но довольно скучно. Я не хотел возбудить светских толков, которые могли бы повредить невинной девушке; прекратить их обыкновенным способом, т. е. женитьбой, я не имел намерения, а потому стал ездить к тетушке гораздо реже, — да и некогда мне было: у меня нашлось другое занятие. Однажды на бале мне встретилась женщина, которая заставила меня остановиться. Мне показалось, что я ее уже где-то видел; ее лицо было мне так знакомо, что я едва ей не поклонился. Я спросил об ее имени. Это была графиня Элиза Б. Это имя было мне совершенно неизвестно. Вскоре я узнал, что она, с самого детства жила в Одессе и, следственно, никаким образом не могла быть в числе моих знакомых. Я заметил, что и графиня смотрела на меня с не-меньшим удивлением; когда мы больше сблизились, она призналась мне, что и мое лицо ей показалось с первого раза знакомым. Этот странный случай подал, разумеется, повод к разным разговорам и предположениям; он невольно завлек нас в ту метафизику сердца, которая бывает так опасна с хорошенькой женщиной… Эта странная метафизика, составленная из парадоксов, анекдотов, острот, философских мечтаний, имеет отчасти характер обыкновенной школьной метафизики, т. е. отлучает вас от света, уединяет вас в особый мир, но не одного, а вместе с прекрасной собеседницей; вы несете всякий вздор, а вас уверяют, что вас поняли; с обеих сторон зарождается и поддерживается гордость, а гордость есть чаша, в которую влиты все грехи человеческие: она блестит, звенит, манит ваш взор своею чудною резьбою и уста ваши невольно прикасаются к обольстительному напитку. Мы обменялись с графинею этим роковым сосудом; она любовалась во мне игривостью своего ума, своею красотою, пылким воображением, изяществом своего сердца; я любовался в ней силою моего характера, смелостью моих мыслей, моею начитанностью, моими житейскими успехами… Словом, мы уже сделались необходимы друг другу, а еще один из нас едва знал, как зовут другого, какое его положение в свете. Правда, мы были еще невинны во всех смыслах; никогда еще слово любви не произносилось между нами. Это слово было смешно гордому человеку XIX века; оно давно им было разложено, разобрано по частям, каждая часть оценена, взвешена и выброшена за окошко, как вещь, несогласная с нашим нравственным комфортом; но я заговаривался с графинею в свете; но я засиживался у ней по вечерам; но ее рука долго, слишком долго оставалась в моей при прощании; но, когда она с улыбкой и с бледнеющим лицом сказала мне однажды: «мой муж на днях должен возвратиться… вы, верно, сойдетесь с ним» — я, человек, прошедший чрез все мытарства жизни, не нашелся, что отвечать, даже не мог вспомнить ни одной пошлой фразы и, как романтический любовник, вырвал свою руку, побежал, бросился в карету… Нам обоим до сей минуты не приходило в голову вспомнить, что у графини есть муж! Теперь дело было иное. Я был в положении человека, который только что выскочил из очарованного круга, где глазам его представлялись разные фантасмагорические видения, заставляли его забывать о жизни… Он краснеет, досадуя на самого себя, зачем он был в очаровании… Теперь задача представлялась мне двойною: мне оставалось смотреть на это известие равнодушно, и, пользуясь правами света; продолжать с графинею мое платоническое супружество; или, призвав на помощь донкихотство, презреть все условия, все приличия, все удобства жизни и действовать на правах отчаянного любовника. В первый раз в жизни я был в нерешимости; я почти не спал целую ночь, не спал — и от страстей, волновавшихся в моем сердце, и от досады на себя за это волнение; до сей минуты я так был уверен, что я уже неспособен к подобному ребячеству; словом, я чувствовал в себе присутствие нескольких независимых существ, которые боролись сильно и не могли победить одно другое. Рано поутру мне принесли записку от графини; она состояла из немногих слов: «Именем бога, будьте у меня сегодня, непременно сегодня; мне необходимо вас видеть». Слова: сегодня и необходимо были подчеркнуты. Мы поняли друг друга; при свидании с графинею мы быстро перешли тот промежуток, отделявший нас от прямого выражения нашей тайны, которую скрывали мы от самих себя. Первый акт житейской комедии, обыкновенно столь скучный и столь привлекательный, был ужесыгран; оставалась катастрофа — и развязка. Мы долго не могли выговорить слова, молча смотрели друг на друга и с жестокосердием предоставляли друг другу право начать разговор. Наконец, она, как женщина, как существо более доброе, сказала мне тихим, но твердым голосом: — Я звала вас проститься… наше знакомство должно кончиться, разумеется для нас, — прибавила она после некоторого молчания, — но не для света; вы меня понимаете… Наше знакомство! — повторила она раздирающим голосом и с рыданием бросилась в кресла. Я кинулся к ней, схватил ее за руку… Это движение привело ее в чувство. — Остановитесь, — сказала она, — я уверена, что вы не захотите воспользоваться минутою слабости… Я уверена, что если бы я и забылась, то вы бы первый привели меня в память… Но я и сама не забуду, что я жена, мать. Лицо ее просияло невыразимым благородством. Я стоял недвижно пред нею… Скорбь, какой никогда еще не переносило мое сердце, разрывала меня; я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах, — частые удары пульса звенели в висках и оглушали меня… Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытность, приобретенную холодными расчетами долгой жизни… Но рассудок представлял мне смутно лишь черные софизмы: преступления, мысли гнева и крови: они багровою пеленою закрывали от меня все другие чувства, мысли, надежды… В эту минуту дикарь, распаленный зверским побуждением, бушевал под наружностью образованного, утонченного, расчетливого Европейца. Я не знаю, чем бы кончилось это состояние, как вдруг дверь растворилась, и человек подал письмо графине. — От графа с нарочным. Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк — руки ее затряслись, она побледнела. Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и хочет видеть графиню. Я взглянул на нее; в голове моей сверкнула неясная мысль, отразилась в моих взорах… Она поняла эту мысль, закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видать ее, и быстро бросилась к колокольчику. — Почтовых лошадей! — сказала она с твердостью вошедшему человеку. — Просить ко мне скорее доктора Вина. — Вы едете? — сказал я. — Сию минуту. — Я за вами. — Невозможно! — Все знают, что я уже давно собираюсь в тверскую деревню. — По крайней мере через день после меня. — Согласен… но случай заставит меня остановиться с вами на одной станции, а доктор Вин был мне друг с моего детства. — Увидим, — сказала графиня, — но теперь прощайте. Мы расстались. Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на станции, велел своим людям говорить, что я уже дня четыре, как уехал в деревню; это было вероятно, ибо в последнее время меня мало видали в свете. Через тридцать часов я уже был на большой дороге, где и скоро моя коляска остановилась у ворот постоялого дома, где решалась моя участь. Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все уже кончилось. — Граф умер, — отвечали на мои вопросы, и эти слова дико и радостно отдавались в моем слухе. В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои услуги было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этою обязанностью. Почти в дверях встретил я Вина, который бросился обнимать меня. — Что здесь такое? — спросил я. — Да что, — отвечал он со своею простодушной улыбкой, — нервическая горячка… Запустил, думал доехать до Москвы — да где? Она не свой брат, шутить не любит; я приехал — уже поздно было; тут что ни делай — мертвого не оживишь. Я бросился обнимать доктора — не знаю почему, но, кажется, за его последние слова. Хорошо, что мой добрый Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности. — Ее, бедную, жаль! — продолжал он. — Кого? — сказал я, затрепетав всем телом. — Да графиню. — Разве она здесь? — проговорил я притворно и поспешно прибавил: — Что с ней? — Да вот уже три дня не спала и не ела. — Можно к ней? — Нет, теперь она, слава богу, заснула; пусть себе успокоится до выноса… Здесь, вишь, хозяева просят, чтобы поскорее вынесли в церковь, ради проезжих. Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог мною нахвалиться. «Вот добрый человек! — говорил он. — Иной бы взял да уехал; еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал; правда, нам, медикам, нечего греха таить, — прибавил он с улыбкою, — случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни разу не удавалось». Ввечеру был вынос. Графиня как бы не заметила меня, и, признаюсь, я сам не в состоянии был говорить с нею в эту минуту. Странные чувства возбуждались во мне при виде покойника: он был уже немолодых лет, но в лице его еще было много свежести, кратковременная болезнь еще не успела обезобразить его. Я с истинным сожалением смотрел на него, потом с невольною гордостью взглянул на прекрасное наследство, которое он мне оставлял после себя, и сквозь умилительные мысли нередко мелькали в голове моей адские слова, сохраненные историею: «труп врага всегда хорошо пахнет!» Я не мог забыть этих слов, зверских до глупости, они беспрестанно звучали в моем слухе. Служба кончилась, мы вышли из церкви. Графиня, как бы угадывая мое намерение, подослала ко мне человека сказать, что она благодарит меня за участие и что завтра сама будет готова принять меня. Я повиновался. Волнение, в котором я находился во все эти дни, не дало мне заснуть до самого восхождения солнца. Тогда беспокойный сон, полный безобразных видений, сомкнул мне глаза на несколько часов; когда я проснулся, мне сказали, что графиня уже возвратилась из церкви, я наскоро оделся и пошел к ней. Она приняла меня. Она не хотела притворствовать, не показывала мне мнимого отчаяния, но спокойная грусть ясно выражалась на лице ее. Я не буду вам говорить, что беспорядок ее туалета, черное платье делали ее еще прелестнее. Долго мы не могли сказать ничего друг другу, кроме пошлых фраз, но наконец чувства переполнились, мы не могли более владеть собою и бросились друг другу в объятия. Это был наш первый поцелуй, но поцелуй дружбы, братства. Мы скоро успокоились. Она рассказала мне о своих будущих планах; через два дня, отдав последний долг покойнику, она возвратится в Москву, а оттуда проедет с детьми в украинскую деревню. Я отвечал ей, что у меня в Украйне также есть небольшая усадьба, и мы скоро увидели, что были довольно близкими соседями. Я не мог верить своему счастью; теперь передо мной исполнялась прекрасная мечта и мысль юности: уединение, теплый климат, прекрасная, умная женщина и долгий ряд счастливых дней, полных животворной любви и спокойствия. Так протекли два дня; мы видались почти ежеминутно, и наше счастье было так полно, так невольно вырывались из души слова надежды и радости, что даже Иван Иванович начал поглядывать на нас с улыбкою, которую ему хотелось сделать насмешливою, а наедине намекал мне, что не надобно упускать вдовушки, тем более что она была очень несчастлива с покойником, который был человек капризный, плотской и мстительный. Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к разным мыслям и поступкам графини. Несмотря на странность нашего положения, в эти два дня мы не могли не сблизиться более, нежели в прежние месяцы, — чего не переговоришь в двадцать четыре часа? Мало-помалу характер графини открывался мне во всей полноте; ее огненная душа во всем блеске; мы успели поверить друг другу все наши маленькие тайны; я ей рассказал мое романтическое отчаяние; она мне призналась, что в последнее наше свидание притворялась из всех сил и уже готова была броситься в мои объятия, когда принесли роковое письмо; изредка мы позволяли себе даже немножко смеяться. Элиза вполне очаровала меня и, кажется, сама находилась в подобном очаровании; часто ее пламенный взор останавливался на мне с невыразимой любовью и с трепетом опускался в землю; я осмеливался лишь жать ее руку. Как я досадовал на светские приличия, которые не позволяли мне с сей же минуты вознаградить моей любовью все прежние страдания графини! Признаюсь, я уже с нетерпением начал ожидать, чтобы скорее отдали земле земное, и досадовал на срок, установленный законом. Наконец наступил третий день. Никогда еще сон мой не был спокойнее; прелестные видения носились над моим изголовьем: то были бесконечные сады, облитые жарким солнечным сиянием, везде — в куще древес, в цветных радугах я видел прекрасное лицо моей Элизы, везде она являлась мне, но в бесчисленных полупрозрачных образах, и все они улыбались, простирали ко мне свои руки, скользили по моему лицу душистыми локонами и легкою вереницею взвивались на воздух… Но вдруг все исчезло, раздался ужасный треск, сады обратились в голую скалу, и на той скале явились мертвец и доктор, каким я его видел в космораме; но вид его был строг и сумрачен, а мертвец хохотал и грозил мне своим саваном. Я проснулся. Холодный пот лился с меня ручьями. В эту минуту постучались в дверь. — Графиня вас просит к себе сию минуту, — сказал вошедший человек. Я вскочил; раздались страшные удары грома, от туч было почти темно в комнате; она освещалась лишь блеском молнии, от порывистого ветра пыль взвивалась столбом и с шумом рассыпалась о стекла. Но мне некогда было обращать внимание на бурю: оделся наскоро и побежал к Элизе. Нет, никогда не забуду выражения лица ее в эту минуту; она была бледна как смерть, руки ее дрожали, глаза не двигались. Приличия уже были не у места; забыт светский язык, светские условия. — Что с тобою, Элиза? — Ничего! Вздор! Глупость! Пустой сон!.. При этих словах меня обдало холодом… «Сон?» — повторил я с изумлением… — Да! Но сон ужасный! Слушай! — говорила она, вздрагивая при каждом ударе грома. — Я заснула спокойно, я думала о наших будущих планах, о тебе, о нашем счастье… Первые сновидения повторили веселые мечты моего воображения… Как вдруг передо мною явился покойный муж, — нет, то был не сон — я видела его самого, его юного, я узнала эти знакомые мне стиснутые, почти улыбающиеся губы, это адское движение черных бровей, которым выражался в нем порыв мщения без суда и без милости. Ужас, Владимир! Ужас!.. Я узнала этот неумолимый, свинцовый взор, в котором в минуту гнева вспыхивали кровавые искры; я услышала снова этот голос, который от ярости превращался в дикий свист и который, я думала, никогда более не слышать… «Я все знаю, Элиза, — говорил он, — все вижу; здесь мне все ясно; ты очень рада, что я умер; ты уже готова выйти замуж за другого… Нежная, верная жена!.. Безрассудная! Ты думала найти счастье — ты не знаешь, что гибель твоя, гибель детей наших соединена с твоей преступной любовью… Но этому не бывать, нет! Жизнь звездная еще сильна во мне — земляна душа моя и не хочет расстаться с землею… Мне все здесь сказали — лишь возвратясь на землю, могу я спасти детей моих, лишь на земле я могу отмстить тебе, и я возвращусь, возвращусь в твои объятия, верная супруга! Дорогою, страшною ценою купил я это возвращение — ценою, которой ты и понять не можешь… За то весь ад двинется со мною на твою преступную голову — готовься принять меня. Но слушай: на земле я забуду все, что узнал здесь; скрывай от меня твои чувства, скрывай их — иначе горе тебе, горе и мне!..» Тут он прикоснулся к лицу моему холодными посиневшими пальцами, и я проснулась. Ужас! Ужас! Я еще чувствую на лице это прикосновение… Бедная Элиза едва могла договорить; язык ее онемел, она вся была как в лихорадке; судорожно жалась она ко мне, закрывая глаза руками, как бы искала укрыться от грозного видения. Сам невольно взволнованный, я старался утешить ее обыкновенными фразами о расстроенных нервах, о физическом на них действии бури, об игре воображения, и сам чувствовал, как тщетны перед страшною действительностью все эти слова, изобретаемые в спокойные, беззаботные минуты человеческого суемудрия. Я еще говорил, я еще перебирал в памяти все читанные в медицинских книгах подобные случаи, как вдруг распахнулось окошко, порывистый ветер с визгом ворвался в комнату, в доме раздался шум, означавший что-то необыкновенное… — Это он… это он идет! — вскричала Элиза и в трепете, показывая на дверь, махала мне рукою… Я выбежал за дверь, в доме все было в смятении, на конце темного коридора я увидел толпу людей; эта толпа приближалась… в оцепенении я прижался к стене, но нет ни сил спросить, ни собрать свои мысли… Да! Элиза не ошиблась. Это был он! он! Я видел, как толпа частью вела, частью несла его; я видел его бледное лицо, я видел его впалые глаза, с которых еще не сбежал сон смертный… Я слышал крики радости, изумления, ужаса окружающих… Я. слышал прерывистые рассказы о том, как ожил граф, как он поднялся из гроба, как встретил в дверях ключаря, как доктор помогал ему… Итак, это было не видение, но действительность! Мертвый возвращался нарушить счастье живых!.. Я стоял как окаменелый; когда граф поравнялся со мною, в тесноте его рука, судорожно вытянутая, скользнуля по лицу моему, и я вздрогнул, как будто электрическая искра пробежала по моему телу, все меня окружающее сделалось прозрачным — стены, земля, люди показались мне легкими полутенями, сквозь которые ясно различал я другой мир, другие предметы, других людей… Каждый нерв в моем теле получил способность зрения; мой магический взор обнимал в одно время и прошедшее, и настоящее, и то, что действительно было, и что могло случиться; и описать всю эту картину нет возможности, рассказать ее не достанет слов. человеческих… Я видел графа Б. в различных возрастах его жизни… я видел, как над изголовьем его матери, в минуту его рождения, вились безобразные чудовища и с дикою радостью встречали новорожденного. Вот его воспитание: гнусное чудовище между им и его наставником — одному нашептывает, другому толкует мысли себялюбия, безверия, жестокосердия, гордости; вот появление в свете молодого человека: то же гнусное чудовище руководит его поступками, внушает ему тонкую сметливость, осторожность, коварство, наверное, устраивает для него успехи; граф в обществе женщин: необоримая сила влечет их к нему, он ласкает одну за другой и смеется вместе с своим чудовищем; вот он за карточным столом: чудовище подбирает масти, шепчет ему на ухо, какую ставить карту; он обыгрывает, разоряет друга, отца семейства, — и богатство упрочивает его успехи в свете; вот он на поединке: чудовище нашептывает ему на ухо все софизмы дуэлей, крепит его сердце, поднимает его руку, он стреляет — кровь противника брызнула на него и запятнала вечными каплями; чудовище скрывает след его преступления. В одном из секундантов дуэли я узнал моего покойного дядю; вот граф в кабинете вельможи: он искусно клевещет на честного человека, чернит его, разрушает его счастье и заменяет его место; вот он в суде: под личиной прямодушия он таит в сердце жестокость неумолимую, он видит невинного, знает его невинность и осуждает его, чтобы воспользоваться его правами; все ему удается; он богатеет, он носит между людьми имя честного, прямодушного, твердого человека; вот он предлагает свою руку Элизе: на его руке капли крови и слез, она не видит их и подает ему свою руку; Элиза для него средство к различным целям: он принуждает ее принимать участие в черных тайных делах своих, он грозит ей всеми ужасами, которые только может изобресть воображение, и когда она, подвластная его адской силе, повинуется, он смеется над ней и приготовляет новые преступления… Все эти происшествия его жизни чудно, невыразимо соединялись между собою живыми связями; от них таинственные нити простирались к бесчисленным лицам, которые были или жертвами или участниками его преступлений, часто проникали сквозь несколько поколений и присоединяли их к страшному семейству; между сими лицами я узнал моего дядю, тетку, Поля: все они были как затканы этою сетью, связывавшею меня с Элизою и ее мужем. Этого мало: каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную… На последнем плане вся эта чудовищная вереница примыкала к нему, полумертвому, и он влек ее в мир вместе с собою; живые же связи соединяли с ним Элизу, детей его; к ним другими Путями прикреплялись нити от разных преступлений отца и являлись в виде порочных наклонностей, невольных побуждений; между толпою носились несметные, странные образы, которых ужасное впечатление не можно выразить на бумаге; в их уродливости не было ничего смешного, как то бывает иногда на картинах; они все имели человеческое подобие, но их формы, цвета, особенно выражения были разнообразны до бесконечности: чем ближе они были к мертвецу, тем ужаснее казались; над самой головой несчастного неслось существо, которого взора я никогда не забуду: его лицо было тусклого зеленого цвета; алые как кровь волосы струились по плечам его; из глаз земляного цвета капали огненные слезы, проникали весь состав мертвеца и оживляли один член за другим; никогда я не забуду того выражения грусти и злобы, с которым это непонятное существо взглянуло на меня!.. Я не буду более описывать этой картины. Как описать сплетения всех внутренних побуждений, возникающих в душе человека, из которых здесь каждое имело свое отдельное, живое существование? как описать все те таинственные дела, которые совершались в мире сими существами, невидимыми для обыкновенного взора? Каждое из них магически порождало из себя новые существа, которые в свою очередь впивались в сердца других людей, отдаленных и временем и пространством? Я видел, какую ужасную, логическую взаимность имели действия сих людей; как малейшие поступки, слова, мысли в течение веков срастались в одно огромное преступление, которого основная причина была совершенно потеряна для современников; как это преступление пускало новые отрасли и в свою очередь порождало новые центры преступлений; между темными двигателями грехов человеческих носились и светлые образы, порождения душ чистых, бескровных; они также соединялись между собою живыми звеньями, также магически размножали себя и своим присутствием уничтожали действия детей мрака. Но, повторяю, описать все, что тогда представилось моему взору, не достанет нескольких томов. В эту минуту вся история нашего мира от начала времен была мне понятна; эта внутренность истории человечества была обнажена передо мною, и необъяснимое посредством внешнего сцепления событий казалось мне очень просто и ясно; так, например, взор мой постепенно переходил по магической лестнице, где нравственное чувство, возбуждавшееся в добром испанце при виде костров инквизиции, порождало в его потомке чувство корысти и жестокосердия к мексиканцам, имевшее еще вид законности; как наконец это же самое чувство в последующих поколениях превратилось просто в зверство и в полное духовное обессиление. Я видел, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий… Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека, раскрывшего себя влиянию существ нечистых и враждебных… Я понял, что «человек есть мир» — не пустая игра слов, выдуманная для забавы… Когда-нибудь, в более спокойные минуты, я передам бумаге эту историю нравственных существ, обитающих в человеке и порождаемых его волею, которых только следы сохраняются в мирских летописях. Что я принужден теперь рассказывать постепенно, то во время моего видения представлялось мне в одну и ту же минуту. Мое существо было, так сказать, раздроблено. С одной стороны, я видел развивающуюся картину всего человечества, с другой — картину людей, судьба которых была связана с моею судьбою; в этом необыкновенном состоянии организма ум равно чувствовал страдания людей, отделенных от меня пространством и временем, и страдания женщины, к которой любовь огненною чертою проходила по моему сердцу! О, она страдала, невыразимо страдала!.. Она упадала на колени пред своим мучителем и умоляла его оставить ее или взять с собою. В эту минуту как завеса спала с глаз моих: я узнал в Элизе ту самую женщину, которую некогда видел в космораме; не постигаю, каким образом до сих пор я не мог этого вспомнить, хотя лицо ее всегда мне казалось знакомым; на фантасмагорической сцене я был возле нее, я также преклонял колени пред двойником графа; двойник доктора, рыдая, старался увлечь меня от этого семейства: он что-то говорил мне с большим жаром, но я не мог расслышать речей его, хотя видел движение его губ; в моем ухе раздавались лишь неясные крики чудовищ, носившихся над нами; доктор поднимал руку и куда-то указывал; я напряг все внимание, и, сквозь тысячи мелькавших чудовищных существ, будто бы узнавал образ Софьи, но лишь на одно мгновение, и этот образ казался мне искаженным… Во все время этого странного зрелища я был в оцепенении; душа моя не знала, что делалось с телом. Когда возвратилась ко мне раздражительность внешних чувств, я увидел себя в своей комнате на постоялом дворе, возле меня стоял доктор Бин со склянкою в руках… — Что? — спросил я, очнувшись. — Да ничего! Здоровешенек! Пульс такой, что чудо… — У кого? — Да у графа! Хороших было мы дел наделали! Да и то правду сказать, я никогда не воображал, и в книгах не встречал, чтоб мог быть такой сильный обморок. Ну, точно был мертвый. Кажется, немало я на своем веку практики имел; вот уж, говорится, век живи, век учись! А вы-то, батюшка! еще были военный человек, испугались, также подумали, что мертвец идет… насилу оттер вас… Куда вам за нами, медиками! Мы народ храбрый… Я вышел на улицу посмотреть, откуда буря идет, смотрю — мой мертвый тащится, а от него люди так и бегут.'Я себе говорю: «Вот любопытный субъект», да к нему, — кричу, зову людей, насилу пришли; уж я его и тем и другим, — и теперь как ни в чем не бывал, еще лет двадцать проживет. Непременно этот случай опишу, объясню, в Париж пошлю в академию, по всей Европе прогремлю, — пусть же себе толкуют… нельзя! любопытный случай!.. Доктор еще долго говорил, но я не слушал его; одно понимал я: все это было не сон, не мечта, — действительно возвратился к живым мертвый, оживленный ложною жизнию, и отнимал у меня счастье жизни… «Лошадей!» — вскричал я. Я почти не помню, как и зачем меня привезли в Москву; кажется, я не отдавал никаких приказаний, и мною распорядился мой камердинер. Долго я не показывался в свет и проводил дни один, в состоянии бесчувствия, которое прерывалось только невыразимыми страданиями. Я чувствовал, что гасли все мои способности, рассудок потерял силу суждения, сердце было без желаний; воображение напомнило мне лишь страшное, непонятное зрелище, о котором одна мысль смешивала все понятия и приводила меня в состояние, близкое к сумасшествию. Нечаянно я вспомнил о моей простосердечной кузине; я вспомнил, как она одна имела искусство успокаивать мою душу. Как я радовался, что хоть какое-либо желание закралось в мое сердце! Тетушка была больна, но велела принять меня. Бледная, измученная болезнью, она сидела в креслах; Софья ей прислуживала, поправляла подушки, подавала питье. Едва она взглянула на меня, как почти заплакала: — Ах! Что это мне так жалко вас! — сказала она сквозь слезы. — Кого это жаль, матушка? — спросила тетушка прерывающимся голосом. — Да Владимира Андреевича! Не знаю отчего, но смотреть на него без слез не могу… — Уж лучше бы, матушка, пожалела обо мне, — вишь, он и не подумает больную тетку навестить… Не знаю, что отвечал я на упрек тетушки, который был не последний. Наконец она несколько успокоилась. — Я ведь это, батюшка, только так говорю, от того, что тебя люблю, вот и с Софьюшкой об тебе часто толковали… — Ах, тетушка! Зачем вы говорите неправду? У нас и помина о братце не было… — Так! Так-таки! — вскричала тетушка с гневом; таки брякнула свое! — Не посетуй, батюшка, за нашу простоту, хотела было тебе комплимент сказать, да вишь, у меня учительша какая проявилась; лучше бы, матушка, больше о другом заботилась… — И полились упреки на бедную девушку… Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился; она всем скучала, на все досадовала; особенно без пощады бранила добрую Софью: все было не так, все мало о ней заботились, все мало ее понимали; она жестоко мне на Софью жаловалась, потом от нее переходила к своим родным, знакомым, — никому не было пощады; она с удивительною точностию вспоминала все свои неприятности в жизни, всех обвиняла и на все роптала, и опять все свои упреки сводила на Софью. Я молча смотрел на эту несчастную девушку, которая с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим взором проникнуть эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьею, перенести мою душу в ее сердце, но тщетно: предо мною была лишь обыкновенная девушка, в белом платье, с стаканом в руках. Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти шепотом: — Так вы очень обо мне жалеете? — Да! Очень жалко, и не знаю — отчего. — А мне так вас жаль, — сказал я, показывая глазами на тетушку. — Ничего, — отвечала Софья, — на земле все недолго, и горе и радость; умрем, другое будет… — Что ты там страхи-то говоришь, — вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова. — Вот уж, батюшка, могу сказать, утешница. Чем бы больного человека развлечь, развеселить, а она, нет-нет да о смерти заговорит. Что ты хочешь намекнуть, чтобы я тебя в духовной-то не забыла, что ли? В гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу… Софья спокойно посмотрела в глаза старухи и сказала: — Тетушка! Вы говорите неправду… Тетушка вышла из себя: — Как неправду? Так ты собираешься меня похоронить… Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я у себя пригрела. В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие; доходили до меня слова «злая! недобрая! уморить хочет!». Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле: я только еще более раздражал ее. Наконец решился уйти; Софья провожала меня. — Зачем вы вводите тетушку в досаду? — сказал я кузине. — Ничего; немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает, это ей хорошо. — Непонятное существо! — вскричал я. — Научи и меня умереть! Софья посмотрела на меня с удивлением. — Я сама не знаю; впрочем, кто хочет учиться, тот уж в половину выучен. — Что ты хочешь сказать этим? — Ничего! Так у меня в книжке записано… В это время раздался колокольчик. — Тетушка меня кличет, — проговорила Софья. — Видите, я угадала; теперь гнев прошел, теперь она будет плакать, а плакать хорошо, очень хорошо, особливо когда не знаешь, о чем плачешь. С сими словами она скрылась. Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресла и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья представлялась мне в виде какого-то таинственного, доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово имеет смысл глубокий, связанный с моим существованием, то я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах; что она была просто девушка добрая, но очень обыкновенная, которая кстати и некстати любила повторять самые ребяческие сентенции; эти сентенции потому только, вероятно, поражали меня, что в движении сильных, положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных. А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все мои другие мысли и наконец соединили в один центр все мои духовные силы; мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли, неизъяснимое томление зажгло мое сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня удивило! «Кто же плачет во мне?» — воскликнул я довольно громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне; меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою; казалось, я прирос к креслу и внезапно почувствовал в себе то неизъяснимое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим видениям и к которому я уже успел привыкнуть; действительно, чрез несколько мгновений комната моя сделалась для меня прозрачною, в отдалении, как бы сквозь светлый пар, я увидел снова лицо Софьи. «Нет! — сказал я в самом себе, — соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантасмагорию. Хорошо ребенку было пугаться ее: мало ли что казалось необъяснимым?» И я вперил в странное видение тот внимательный взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт. Видение подернулось как бы зеленоватым паром; лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде. «А! — сказал я сам в себе, — зеленый цвет здесь играет какую-то роль; вспомним хорошенько: некоторые газы производят также в глазе ощущение зеленого цвета; эти газы имеют одуряющее свойство — так точно! преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши нервы и обратно. Теперь пойдем далее: явление сделалось явственнее? Так и должно быть: это значит, что оно прозрачно. Так точно! в микроскопе нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых: их формы от того делаются явственнее.» Чтоб сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть воображениями записывал мои наблюдения на бумаге; но скоро мне это сделалось невозможным; видение приблизилось ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие предметы бледнели; бумага, на которой я писал, стол, мое собственное тело сделалось прозрачным как стекло; куда я ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В нем я узнавал Софью: тот же облик, те же волосы, та же улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня коварными, сладострастными глазами и с какою-то наглостью простирала ко мне свои объятия. «Ты не знаешь, — говорила она, — как мне хочется выйти за тебя замуж! Ты богат — я сама у старухи вымучу себе кое-что — и мы заживем славно. От чего ты мне не даешься? Как я ни притворяюсь, как ни кокетничаю с тобою — все тщетно. Тебя пугают мои суровые слова; тебя удивляет мое невинное невежество? Не верь! Это все удочка, на которую мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастия. Женись только на мне — ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность— я также; ты любишь сорить деньгами — я еще больше; наш дом будет чудо, мы будем давать балы, на балы приглашать родных, вотремся к ним в любовь, и наследства будут на нас дождем литься… Ты увидишь — я мастерица на эти дела…» Я оцепенел, слушая эти речи; в душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова — все мне теперь было понятно! Хитрый демон скрывался в ней под личиною невинности… Видение исчезло — вдали осталась лишь блестящая точка; эта точка увеличивалась постепенно, приближалась — это была моя Элиза! О, как рассказать, что сталось тогда со мною? Все нервы мои потряслись, сердце забилось, руки сами собою простерлись к обольстительному видению; казалось, она носилась в воздухе— ее кудри как легкий дым свивались и развивались, волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным розовым ножкам. Руки ее были сложены, она смотрела на меня с упреком: «Неверный! Неблагодарный! — говорила она голосом, который, как растопленный свинец, разжигал мою душу. — Ты уж забыл меня! Ребенок! Ты испугался мертвого! Ты забыл, что я страдаю, страдаю невыразимо, безутешно; ты забыл, что между нами обет вечный, неизгладимый! Ты боишься мнения света? Ты боишься встретиться с мертвым? Я — я не переменилась. Твоя Элиза ноет и плачет, она ищет тебя наяву и во сне —. она ждет тебя; все ей равно — ей ничего не страшно, — все в жертву тебе…» — Элиза! я твой! вечно твой! Ничто не разлучит нас! — вскричал я, как будто видение могло меня слышать… Элиза рыдала, манила меня к себе, простирала ко мне руку так близко, что, казалось, я мог схватить ее, — как вдруг другая рука показалась возле руки Элизы… Между ею и мною явился таинственный доктор; он был в рубище, глаза его горели, члены трепетали, он то являлся, то исчезал, казалось, он боролся с какою-то невидимою силой, старался говорить, но до меня доходили только прерывающиеся слова: «Беги… гибель… таинственное мщение… совершается… твой дядя… подвигнул его… на смертное преступление… его участь решена… его… давит… дух земли… гонит… она запятнана невинно кровью… он погиб без возврата… он мстит за свою гибель… он зол ужасно… он за тем возвратился на землю… гибель… гибель…» Но доктор исчез; осталась одна Элиза. Она по-прежнему простирала ко мне руки и манила меня, исчезая… я в отчаянии смотрел вслед за нею… Стук в дверь прервал мое очарование. Ко мне вошел один из знакомых… — Где ты? тебя вовсе не видно! Да что с тобою? Ты вне себя! — Ничего, я так, — задумался… — Обещаю тебе, что ты с ума сойдешь, и это непременно, и так уж тебе какие-то чертенята, я слышал, показывались… — Да! Слабость нерв… Но теперь прошло… — Если бы тебя в руки магнетизера, так из тебя бы чудо вышло… — Отчего так? — Ты именно такой организации, какая для этого нужна… Из тебя бы вышел ясновидящий… — Ясновидящий! — вскричал я. — Да! Только не советую испытывать: я эту часть очень хорошо знаю; это болезнь, которая доводит до сумасшествия. Человек бредил в магнетическом сне, потом начинает уже непрерывно бредить… — Но от этой болезни можно излечиться… — Без сомнения, рассеянность, общество, холодные ванны. Право, подумай. Что сидеть? беды наживешь… Что ты, например, сегодня делаешь? — Хотел остаться дома. — Вздор, поедем в театр — новая опера; у меня целая ложа к твоим услугам. Я согласился. «Магнетизм!» Удивительно! — думал я дорогою. — Как мне это до сих пор в голову не приходило. Слыхал я о нем, да мало. Может быть, в нем и найду я объяснение странного состояния моего духа. Надобно познакомиться покороче с книгами о магнетизме. Между тем мы приехали. В театре народу еще было мало; ложа возле нашей оставалась незанятою. На афишке предо мною я прочел: «Вампир, опера Маршнера», она мне была неизвестна, и я с любопытством прислушивался к первым звукам увертюры. Вдруг невольное движение заставило меня оглянуться; дверь в соседней ложе скрипнула, смотрю — входит моя Элиза. Она взглянула на меня, приветливо поклонилась, и бледное лицо ее вспыхнуло. За нею вошел муж ее… Мне показалось, что я слышу могильный запах, — но это была мечта воображения. Я его не видал около двух месяцев после его оживления, он очень поправился; лицо его потеряло почти все признаки болезни… Он что-то шепнул Элизе на ухо, она отвечала ему также тихо, но я понял, что она произнесла мое имя. Мысли мои мешались, и прежняя любовь к Элизе, и гнев, и ревность, и мои видения, и действительность, все это вместе приводило меня в сильное волнение, которое тщетно я хотел скрыть под личиною обыкновенного светского спокойствия. И эта женщина могла быть моею, совершенно моею! Наша любовь не преступна, она была для меня вдовою; она без укоризны совести могла располагать своею рукою; и мертвый — мертвый между нами! Опера потеряла для меня интерес; пользуясь моим местом в ложе, я будто бы смотрел на сцену, но не сводил глаз с Элизы и ее мужа. Она была томнее прежнего, но еще прекраснее; я мысленно рядил ее в то платье, в котором она мне представилась в видении; чувства мои волновались, душа вырывалась из тела; от нее взор мой переходил на моего таинственного соперника; при первом взгляде лицо его не имело никакого особенного выражения, но при большем внимании вы уверялись невольно, что на этом лице лежит печать преступления. В том месте оперы, где вампир просит прохожего поворотить его к сиянию луны, которое должно оживить его, граф судорожно вздрогнул я устремил на него глаза с любопытством, но он холодно взял лорнетку и повел ею по театру: было ли это воспоминание о его приключении, простая ли физическая игра нерв или внутренний говор его таинственной участи, — отгадать было невозможно. Первый акт кончился; приличие требовало, чтобы я заговорил с Элизою; я приблизился к балюстраде ее ложи. Она очень равнодушно познакомила меня со своим мужем; он с развязностью опытного светского человека сказал мне несколько приветливых фраз; мы разговорились об опере, об обществе; речи графа были остроумны, замечания тонки: видно было светского человека, который под личиною равнодушия и насмешки скрывает короткое знакомство с многоразличными отраслями человеческих знаний. Находясь так близко от него, я мог рассмотреть в глазах его те странные багровые искры, о которых говорила мне Элиза; впрочем, эта игра природы не имела ничего неприятного; напротив, она оживляла проницательный взгляд графа; была заметна также какая-то злоба в судорожном движении тонких губ, но ее можно было принять лишь за выражение обыкновенной светской насмешливости. На другой день я получил от графа пригласительный билет на раут. Чрез несколько времени на обед en petit comité, и так далее. Словом, почти каждую неделю хоть раз, но я видел мою Элизу, шутил с ее мужем, играл с ее детьми, которые хотя были не очень любезны, но до крайности смешны. Они походили более на отца, нежели на мать, были серьезны не по возрасту, что я приписывал строгому воспитанию; их слова часто меня удивляли своею значительностию и насмешливым тоном, но я не без неудовольствия заметил на этих детских лицах уже довольно ясные признаки того судорожного движения губ, которое мне так не нравилось в графе. В разговоре с графинею нам, разумеется, не нужно было приготовлений: мы понимали каждый намек, каждое движение; впрочем, никто по виду не мог бы догадаться о нашей старинной связи; ибо мы вели себя осторожно и позволяли себе даже глядеть друг на друга только тогда, когда граф сидел за картами, им любимыми до безумия. Так прошло несколько месяцев; еще ни раза мне не удалось видеться с Элизою наедине, но она обещала мне свидание, и я жил этою надеждою. Между тем, размышляя о всех странных случаях, происходивших со мною, я запасся всеми возможными книгами о магнетизме; Пьюсегюр, Делёз, Вольфарт, Кизер не сходили с моего стола; наконец, казалось мне, я нашел разгадку моего психического состояния, я скоро стал смеяться над своими прежними страхами, удалил от себя все мрачные, таинственные мысли, и наконец уверился, что вся тайна скрывается в моей физической организации, что во мне происходит нечто подобное очень известному в Шотландии так называемому «второму зрению»; я с радостию узнал, что этот род нервической болезни проходит с летами и что существуют средства вовсе уничтожить ее. Следуя сим сведениям, я начертил себе род жизни, который должен был вести меня к желанной цели: я сильно противоборствовал малейшему расположению к сомнамбулизму — так называл я свое состояние; верховая езда, беспрестанная деятельность, беспрестанная рассеянность, ванна — все это вместе, видимо, действовало на улучшение моего физического здоровья, а мысль о свидании с Элизою изгоняла из моей головы все другие мысли. Однажды после обеда, когда возле Элизы составился кружок праздношатающихся по гостиным, она нечувствительно завела речь о суевериях, о приметах. «Есть очень умные люди, — говорила Элиза хладнокровно, — которые вердт приметам и, что всего страннее, имеют сильные доказательства для своей веры; например, мой муж не пропускает никогда вечера накануне Нового года, чтоб не играть в карты; он говорит, что всегда в этот день он чувствует необыкновенную сметливость, необыкновенную память, в этот день ему приходят в голову такие расчеты в картах, которых он и не воображал; в этот день, говорит он, я учусь на целый год». На этот рассказ посыпался град замечаний, одно другого пустее; я один понял смысл этого рассказа: один взгляд Элизы объяснил мне все. — Кажется, теперь 10 часов, — сказала она чрез несколько времени… — Нет, уже 11,— отвечали некоторые простачки. — Le temps m’a paru trop court dans votre société, messieurs…[13] — проговорила Элиза тем особенным тоном, которым умная женщина дает чувствовать, что она совсем не думает того, что говорит; но для меня было довольно. Итак, накануне Нового года, в 10 часов… Нет, никогда я не испытывал большей радости! В течение долгих, долгих дней видеть женщину, которую некогда держал в своих объятиях, видеть и не сметь пользоваться своим правом, и наконец дождаться счастливой, редкой минуты… Надобно испытать это непонятное во всяком другом состоянии чувство! В последние дни перед Новым годом я потерял сон, аппетит, вздрагивал при каждом ударе маятника, ночью просыпался беспрестанно и взглядывал на часы, как бы боясь потерять минуту. Наконец наступил канун Нового года. В эту ночь я не спал решительно ни одной минуты и встал с постели измученный, с головною болью; в невыразимом волнении ходил я из угла в угол и взором следовал за медленным движением стрелки. Пробило восемь часов; в совершенном изнеможении я упал на диван… Я серьезно боялся занемочь, и в такую минуту!.. Легкая дремота начала склонять меня; я позвал камердинера: «приготовить кофью и, если я засну, в 9 часов разбудить меня, но непременно — слышишь ли? Если ты пропустишь хоть минуту, я сгоню тебя со двора, если разбудишь вовремя — сто рублей». С этими словами я сел в кресло, приклонил голову и заснул сном свинцовым… Ужасный грохот пробудил меня. Я проснулся — руки, лицо были у меня мокры и холодны… у ног моих лежали огромные бронзовые часы, разбитые вдребезги, — камердинер говорил, что я, сидя возле их, вероятно, задел их рукою, хотя он этого и не заметил. Я схватился за чашку кофею, когда послышался звук других часов, стоявших в ближней комнате, я стал считать: бьет один, два, три… восемь, девять… десять!., одиннадцать!., двенадцать!.. Чашка полетела в камердинера. — Что ты сделал? — вскричал я вне себя. — Я не виноват, — отвечал несчастный камердинер, обтираясь, — яисполнил ваше приказание: едва начало бить девять, я подошел будить вас, вы не просыпались, я поднимал вас с кресел, а вы только изволили мне отвечать: «Еще мне рано, рано… Бога ради… не губи меня» — и снова упадали в кресла, я, наконец, решился облить вас холодною водою; но ничто не помогало: вы только повторяли: «не губи меня». Я уже хотел было послать за доктором, но не успел дойти до двери, как часы, не знаю отчего, упали, и вы изволили проснуться… Я не обращал внимания на слова камердинера, оделся как можно поспешнее, бросился в карету и поскакал к графине. На вопрос: «Дома ли граф?» швейцар отвечал: «Нет, но графиня дома и принимает». Я не взбежал, но влетел на лестницу! В дальней комнате меня ждала Элиза, увидев меня, она вскрикнула с отчаянием: «Так. поздно! Граф должен скоро возвратиться: мы потеряли невозвратимое время!» Я не знал, что отвечать, но минуты были дороги, упрекам не было места, мы бросились друг другу в объятия. О многом, многом нам должно было говорить; рассказать о прошедшем, условиться о настоящем, о будущем; судьба так причудливо играла нами, то соединяла тесно на одно мгновение, то разлучала надолго целою бездною; жизнь наша связывалась отрывками, как минутные вдохновения беззаботного художника. Как много в ней осталось необъясненного, непонятого, недосказанного. Едва я узнал, что жизнь Элизы ад, исполненный мучений всякого рода: что нрав ее мужа сделался еще ужаснее, что он терзал ее ежедневно, просто для удовольствия; что дети были для нее новым источником страданий; что муж ее преследовал и старался убить в них всякую чистую мысль, всякое благородное чувство, что он и словами и примерами знакомил их с понятиями и страстями, которые ужасны и в зрелом человеке, — и когда бедная Элиза старалась спасти невинные души от заразы, он приучал несчастных малюток смеяться над своею матерью… Эта картина была ужасна. Мы уже говорили о возможности прибегнуть к покровительству законов, рассчитывали все вероятные удачи и неудачи, все выгоды и невыгоды такого дела… Но наш разговор слабел и прерывался беспрестанно— слова замирали на пылающих устах — мы так давно ждали этой минуты; Элиза была так обольстительно-прекрасна, негодование еще более разжигало наши чувства, ее рука впилась в мою руку, ее голова прильнула ко мне, как бы ища защиты… Мы не помнили, где мы, что с нами, и когда Элиза в самозабвении повисла на моей груди… дверь не отворилась, но муж ее явился подле нас. Никогда не забуду этого лица: он был бледен, как смерть, волосы шевелились на голове его как наэлектризованные, он дрожал как в лихорадке, молчал, задыхаясь, и улыбался. Я и Элиза стояли как окаменелые; он схватил нас обоих за руки… его лицо покривилось… щеки забагровели… глаза засветились… он молча устремил их на нас… Мне показалось, что огненный кровавый луч исходил из них… Магическая сила сковала все мои движения, я не мог пошевельнуться, не смел отвести глаза от страшного взора… Выражение его лица с каждым мгновением становилось свирепее, с тем вместе сильнее блистали его глаза, багровее становилось лицо… Не настоящий ли огонь зарделся под его нервами?.. Рука его жжет мою руку… еще мгновение, и он заблистал как раскаленное железо… Элиза вскрикнула… мебели задымились… синеватое пламя побежало по всем членам мертвеца, посреди кровавого блеска обозначились его кости белыми чертами… Платье Элизы загорелось; тщетно я хотел вырвать ее руку из мстительного пожатия… глаза мертвеца следовали за каждым ее движением и прожигали ее… лицо его сделалось пепельного цвета, волосы побелели и свернулись, лишь одни губы багровою полосою прорезывались по лицу его и улыбались коварною улыбкою… Пламя развилось с непостижимою быстротою: вспыхнули занавески, цветы, картины, запылал пол, потолок, густой дым наполнил всю комнату… «Дети! Дети!..» — вскричала Элиза отчаянным голосом. «И они с нами!» — отвечал мертвец с громким хохотом… С этой минуты я уже не помню, что было со мною… Едкий, горячий смрад душил меня, заставлял закрывать глаза, я слышал как во сне вопли людей, треск разваливающегося дома… Не знаю, как рука моя вырвалась из рук мертвеца: я почувствовал себя свободным, и животный инстинкт заставлял меня кидаться в разные стороны, чтобы избегнуть обваливающихся стропил… В эту минуту только я заметил пред собою как будто белое облако… всматриваюсь… в этом облаке мелькает лицо Софьи… она грустно улыбалась, манила меня… Я невольно следовал за нею… Где пролетало видение, там пламя отгибалось, и свежий, душистый воздух оживлял мое дыхание… Я все далее, далее… Наконец я увидел себя в своей комнате. Долго не мог я опомниться; я не знал, спал я или нет; взглянул на себя — платье мое не тлело; лишь на руке осталось черное пятно… этот вид потряс все мои нервы; и я снова потерял память… Когда я пришел в себя, я лежал в постели, не имея силы выговорить слово. — Слава богу! кризис кончился! Есть надежда! — сказал кто-то возле меня. Я узнал голос доктора Вина, я силился выговорить несколько слов — язык мне не повиновался. После долгих дней совершенного безмолвия первое мое слово было: — Что Элиза? — Ничего! Ничего! Слава богу, здорова, велела вам кланяться… Силы мои истощились на произнесенный вопрос, но ответ доктора успокоил меня. Я стал оправляться, меня начали посещать знакомые. Однажды, когда я смотрел на свою руку и старался вспомнить, что значило на ней черное пятно, — имя графа, сказанное одним из присутствующих, поразило меня, я стал прислушиваться, но разговор был для меня непонятен. — Что с графом? — спросил я, приподнимаясь с подушки. — Да! Ведь и ты к нему езжал! — отвечал мой знакомый. — Разве ты не знаешь, что с ним случилось? Вот. судьба! Накануне Нового года он играл в карты у ***, счастье ему благоприятствовало необыкновенно; он повез домой сумму необъятную, но вообрази — ночью у него в доме сделался пожар; все сгорело: он сам, жена, дети, дом — как не бывали; полиция делала чудеса, но все тщетно: не спасено ни нитки, пожарные говорили, что отроду им еще не случалось видеть такого пожара: уверяли, что даже камни горели! В самом деле, дом весь рассыпался, даже трубы не торчат… Я не дослушал рассказа: ужасная ночь живо возобновилась в моей памяти, и страшные судороги потрясли все мое тело. «Что вы наделали, господа!» — вскричал доктор Бин, но уже было поздно: я снова приблизился к дверям гроба. Однако молодость ли, попечения ли доктора, таинственная ли судьба моя — только я остался в живых. С этих пор доктор Бин сделался осторожнее, перестал впускать ко мне знакомых и сам почти не отходил от меня… Однажды — я уже сидел в креслах — во мне не было беспокойства, но тяжкая, тяжкая грусть, как свинец, давила грудь мою. Доктор смотрел на меня с невыразимым участием… — Послушайте, — сказал я, — теперь я чувствую себя уже довольно крепким; не скрывайте от меня ничего, неизвестность более терзает меня… — Спрашивайте, — отвечал доктор уныло, — я готов отвечать вам… — Что тетушка? — Умерла. — А Софья? — Вскоре после нее, — проговорил почти со слезами добрый старик. — Когда? Как? — Она была совершенно здорова, но вдруг, накануне Нового года, с нею сделались непонятные припадки, я сроду не видал такой болезни: все тело ее было как будто обожжено… — Обожжено? — Да! То есть имело этот вид; я говорю вам так, потому что вы не знаете медицины; но это, разумеется, был род острой водяной… — И она долго страдала?.. — О нет, слава богу! Если бы вы видели, с каким терпением она сносила свои терзания, обо всех спрашивала, всем занималась… Право, настоящий ангел, хотя и была немножко простовата. Да, кстати, она и об вас не забыла: вырвала листок из своей записной книжки и просила меня отдать вам на память, вот он. Я с трепетом схватил драгоценный листок: на нем были только следующие слова из какой-то нравоучительной книжки:
«Высшая любовь страдать за другого…»С невыразимым чувством я прижал к губам этот листок. Когда я снова хотел прочесть его, то заметил, что под этими словами были другие: «Все свершилось! — говорило магическое письмо. — Жертва принесена! Не жалей обо мне — я счастлива! Твой путь еще долог, и его конец от тебя зависит. Вспомни слова мои: чистое сердце — высшее благо; ищи его». Слезы полились из глаз моих, но то были не слезы отчаяния. Я не буду описывать подробностей моего выздоровления, а постараюсь хотя слегка обозначить новые страдания, которым подвергся, ибо путь мой долог, как говорила Софья. Однажды, грустно перебирая все происшествия моей жизни, я старался проникнуть в таинственные связи, которые соединили меня с любимыми мною существами и с людьми почти мне чужими. Сильно возбудилось во мне желание узнать, что делалось с Элизою… Не успел я пожелать, как таинственная дверь моя растворилась. Я увидел Элизу пред собою; она была та же, как и в последний день — так же молода, так же прекрасна: она сидела в глубоком безмолвии и плакала; невыразимая грусть являлась во всех чертах ее. Возле нее были ее дети; они печально смотрели на Элизу, как будто чего от нее ожидая. Воспоминания ворвались в грудь мою, вся прежняя любовь моя к Элизе воскресла. «Элиза! Элиза!» — вскричал я, простирая к ней руки. Она взглянула на меня с горьким упреком… и грозный муж явился пред нею. Он был тот же, как и в последнюю минуту: лицо пепельного цвета, по которому прорезывались тонкою нитью багровые губы; волосы белые, свернувшиеся клубком; он с свирепым и насмешливым видом посмотрел на Элизу, и что же? она и дети побледнели — лицо, как у отца, сделалось пепельного цвета, губы протянулись багровою чертою, в судорожных муках они потянулись к отцу и обвивались вокруг членов его… Я закричал от ужаса, закрыл лицо руками… Видение исчезло, но недолго. Едва я взглядываю на свою руку, она напоминает мне Элизу, едва вспоминаю о ней, прежняя страсть возбуждается в моем сердце, и она является предо мною снова, снова глядит на меня с упреком, снова пепелеет и снова судорожно тянется к своему мучителю… Я решился не повторять более моего страшного опыта и для счастья Элизы стараться забыть о ней. Чтобы рассеять себя, я стал выезжать, видеться с друзьями; но скоро по мере моего выздоровления я начинал замечать в них что-то странное; в первую минуту они узнавали меня, были рады меня видеть, но потом мало-помалу в них рождалась какая-то холодность, похожая даже на отвращение; они силились сблизиться со мною, и что-то невольно их отталкивало. Кто начинал разговор со мною, через минуту старался его окончить; в обществах люди как будто оттягивались от меня непостижимою силою, перестали посещать меня, слуги, несмотря на огромное жалованье и на обыкновенную тихость моего характера, не проживали у меня более месяца; даже улица, на которой я жил, сделалась безлюднее; никакого животного я не мог привязать к себе; наконец, как я заметил с ужасом, птицы никогда не садились на крышу моего дома. Один доктор Бин оставался мне верен; но он не мог понять меня, и в рассказах о странной пустыне, в которой я находился, он видел одну игру воображения. Этого мало; казалось, все несчастия на, меня обрушились: что я ни предпринимал, ничто мне не удавалось; в деревнях несчастия следовали за несчастиями, со всех сторон против меня открылись тяжбы, и старые, давно забытые процессы возобновились; тщетно я всею возможною деятельностью хотел воспротивиться этому нападению судьбы — я не находил в людях ни совета, ни помощи, ни привета; величайшие несправедливости совершались против меня, и всякому казались самым праведным делом. Я пришел в совершенное отчаяние… Однажды, узнав о потере половины моего имения в самом несправедливом процессе, я пришел в гнев, которого еще никогда не испытывал; невольно я перебирал в уме все ухищрения, употребленные против меня, всю неправоту моих судей, всю холодность моих знакомых, сердце мое забилось от досады… и снова таинственная дверь предо мною растворилась, я увидел все те лица, против которых воспалился гневом, — ужасное зрелище! В другом мире мой нравственный гнев получил физическую силу: он поражал врагов моих всеми возможными бедствиями, насылал на них болезненные судороги, мучения совести, все ужасы ада… Они с плачем простирали ко мне свои руки, молили пощады, уверяя, что в нашем мире они действуют по тайному, непреодолимому побуждению… С этой минуты гибельная дверь души моей не затворяется ни на мгновение. Днем, ночью, вокруг меня толпятся видения лиц мне знакомых и незнакомых. Я не могу вспомнить ни о ком ни с любовью, ни с гневом; все, что любило меня или ненавидело, все, что имело со мною малейшее сношение, что прикасалось ко мне, все страдает и молит меня отвратить глаза мои… В ужасе невыразимом, терзаемый ежеминутно, я боюсь мыслить, боюсь чувствовать, боюсь любить и ненавидеть! Но возможно ли это человеку? Как приучи себя не думать, не чувствовать? Мысли невольно являются в душе моей — и мгновенно пред моими глазам обращаются в терзание человечеству. Я покинул в мои связи, мое богатство; в небольшой, уединенной деревне, в глуши непроходимого леса, не знаемый нике я похоронил себя заживо; я боюсь встретиться с чело-ком, ибо всякий, на кого смотрю, занемогает; бою любоваться цветком — ибо цветок мгновенно вянет пр моими глазами… Страшно! страшно… А между тем этот непонятный мир, вызванный магическою сило кипит предо мною: там являются мне все приманки, обольщения жизни, там женщины, там семейство, та все очарования жизни; тщетно я закрываю глаза тщетно!.. Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание, — к знает! Иногда, когда слезы чистого, горячего раскаяния льются из глаз моих, когда, откинув гордость, я со смирением сознаю все безобразие моего сердца, — виден исчезает, я успокаиваюсь — но ненадолго! Роковая дверь отворена: я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я поневоле там действователь, я там ужасно сказать — я там орудие казни!
И. В. Киреевский ОПАЛ (волшебная сказка)
Царь Нурредин шестнадцати лет взошел на престол сирийский. Это было в то время, когда, по свидетельству Ариоста, дух рыцарства подчинил все народы одним законам чести и все племена различных исповеданий соединил в одно поклонение красоте. Царь Нурредин не без славы носил корону царскую; он окружил ее блеском войны и побед и гром оружия сирийского разнес далеко за пределы отечественные. В битвах и поединках, на пышных турнирах и в одиноких странствиях, среди мусульман и неверных — везде меч Нурредина оставлял глубокие следы его счастия и отважности. Имя его часто повторялось за круглым столом двенадцати храбрых, и многие из знаменитых сподвижников Карла носили ¡на бесстрашной груди своей повесть о подвигах Нуррединовых, начертанную четкими рубцами сквозь их прорубленные брони. Так удачею и мужеством добыл себе сирийский царь и могущество и честь; но оглушенное громом брани сердце его понимало только одну красоту — опасность и знало только одно чувство — жажду славы, неутолимую, беспредельную. Ни звон стаканов, ни песни трубадуров, ни улыбки красавиц не прерывали ни на минуту однообразного хода его мыслей; после битвы готовился он к новой битве; после победы искал он не отдыха, но задумывался о новых победах, замышлял новые труды и завоевания. Несмотря на то, однако, раз случилось, что Сирия была в мире со всеми соседями, когда Оригелл, царь китайский, представил мечу Нурредина новую работу. Незначительные распри между их подданными дошли случайно до слуха правителей; обида росла взаимностью, и скоро смерть одного из царей стала единственным честным условием мира. Выступая в поход, Нурредин поклялся головою и честью перед народом и войском: до тех пор не видать стен дамасских, покуда весь Китай не покорится его скипетру и сам Оригелл не отплатит своею головою за обиды, им нанесенные. Никогда еще Нурредин не клялся понапрасну. Через месяц все области китайские, одна за другою, поклонились мечу Нурредина. Побежденный Оригелл с остатком избранных войск заперся в своей столице. Началась осада. Не находя средств к спасению, Оригелл стал просить мира, уступая победителю половину своего царства. Нурредин отвечал, что со врагами не делится, — и осада продолжается. Войско Оригеллово ежедневно убывает числом и упадает духом; запасы приходят к концу; Нурредин не сдается на самые униженные просьбы. Уныние овладело царем китайским; всякий день положение Оригелла становится хуже; всякий день Нурредин приобретает новую выгоду. В отчаяньи, китайский царь предложил Нурредину все свое царство Китайское, все свои владения индийские, все права, все титлы, с тем только, чтобы ему позволено было вывезти свои сокровища, своих жен, детей и любимцев. Нурредин оставался неумолимым, — и осада продолжается. Наконец, видя неизбежность своей погибели, Оригелл уступает все, и сокровища, и любимцев, и детей, и жен, и просил только о жизни. Нурредин, припомнив свою клятву, отверг и это предложение. Осада продолжается ежедневно сильнее, ежедневно неотразимее. Готовый на все, китайский царь решился испытать последнее, отчаянное средство к спасению: чародейство. В его осажденной столице стоял огромный, старинный дворец, который уже более века оставался пустым, потому что некогда в нем совершено было ужасное злодеяние, столь ужасное, что даже и повесть о нем исчезла из памяти людей; ибо кто знал ее, тот не смел повторить другому, а кто не знал, тот боялся выслушать. Оттого преданье шло только о том, что какое-то злодеяние совершилось и что дворец с тех пор оставался нечистым. Туда пошел Оригелл, утешая себя мысли: что хуже того, что будет, не будет. Посреди дворца нашел он площадку; посреди площадки стояла палатка с золотою шишечкой; посреди палатки была лестница с живыми перильцами; лестница привела его к подземному ходу; подземный ход вывел его на гладкое поле, окруженное непроходимым лесом; посреди поля стояла хижина; посреди хижины сидел Дервиш и читал Черную Книгу. Оригелл рассказал ему свое положение и просил о помощи. Дервиш раскрыл Книгу Небес и нашел в ней, под какою звездою Нурредин родился, и в каком созвездии та звезда, и как далеко отстоит она от подлунной земли. Отыскав место звезды на небе, Дервиш стал отыскивать ее место в судьбах небесных и для того раскрыл другую книгу, Книгу Волшебных Знаков, где на черной странице явился перед ним огненный круг: много звезд блестело в кругу и на окружности, иные внутри, другие по краям; Нуррединова звезда стояла в самом центре огненного круга. Увидев это, колдун задумался и потом обратился к Оригеллу с следующими словами: «Горе тебе, царь китайский, ибо непобедим твой враг и никакие чары не могут преодолеть его счастия; счастье его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполняться; ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать!» «Однако, — продолжал Дервиш, — я мог бы одолеть его счастье, я мог бы опутать его волшебствами и наговорами, если бы нашлась на свете такая красавица, которая могла бы возбудить в нем такую любовь, которая подняла бы его сердце выше звезды своей и заставила бы его думать мысли невыразимые, искать чувства невыносимого и говорить непостижимое; тогда мог бы я погубить его». «Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы нашелся в мире такой старик, который бы пропел ему такую песню, которая бы унесла его за тридевять земель в тридесятое государство, куда звезды садятся». «Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы в природе нашлось такое место, с горами, с пригорками, с лесами, с долинами, с реками, с ущельями, такое место, которое было бы так прекрасно, чтобы Нурредин, засмотревшись на него, позабыл хотя на минуту обыкновенные заботы текущего дня». «Тогда мои чары могли бы на него действовать». «Но на свете нет такой красавицы, нет в мире такого старика, нет такой песни, и нет такого места в природе». «Потому Нурредин погибнуть не может». «А тебе, китайский царь, спасенья нет и в чародействах». При этих словах чернокнижника отчаянье Оригелла достигло высшей степени, и он уже хотел идти вон из хижины Дервиша, когда последний удержал его следующими словами: «Погоди еще, царь китайский! еще есть одно средство погубить твоего врага. Смотри: видишь ли ты звезду Нуррединову? Высоко, кажется, стоит она на небе; но, если ты захочешь, мои заклинанья пойдут еще выше. Я сорву звезду с неба; я привлеку ее на землю; я сожму ее в искорку; я запру ее в темницу крепкую, — и спасу тебя; но для этого, государь, должен ты поклониться моему владыке и принести ему жертву подданническую». Оригелл согласился на все. Трынь-трава закурилась, знак начерчен на земле, слово произнесено, и обряд совершился. В эту ночь, — войска отдыхали и в городе и в стане, — часовые молча ходили взад и вперед и медленно перекликались; вдруг какая-то звездочка сорвалась с неба и падает, падает — по темному своду, за темный лес; часовые остановились: звезда пропала — куда? неизвестно; только там, где она падала, струилась еще светлая дорожка, и то на минуту; опять на небе темно и тихо; часовые опять пошли своею указною дорогою. Наутро оруженосец вошел в палатку Нурредина: «Государь! какой-то монах с горы Араратской просит видеть светлое лицо твое; он говорит, что имеет важные тайны сообщить тебе». «Впусти его!» «Чего хочешь ты от меня, святой отец?» «Государь! шестьдесят лет не выходил я из кельи, в звездах и книгах испытуя премудрость и тайны создания. Я проник в сокровенное природы; я вижу внутренность земли и солнца; будущее ясно глазам моим; судьба людей и народов открыта передо мною!..» «Монах! чего хочешь ты от меня?» «Государь! я принес тебе перстень, в котором заключена звезда твоя. Возьми его, и судьба твоя будет в твоих руках. Если ты наденешь его на мизинец левой руки и вглядишься в блеск этого камня, то в нем предстанет тебе твое счастие; но там же увидишь ты и гибель свою, и от тебя одного будет зависеть тогда твоя участь, великий государь…» «Старик! — прервал его Нурредин, — если все сокровенное открыто перед тобой, то как же осталось для тебя тайною то, что давно известно всему миру? Может быть, только ты один не знаешь, столетний отшельник, что судьба Нурредина и без твоего перстня у него в руках, что счастие его заключено в мече его. Не нужно мне другой звезды, кроме той, которая играет на этом лезвии, — смотри, как блещет это железо и как умеет оно наказывать обманщиков!..» При этом слове Нурредин схватил свой меч; но когда обнажил его, то старый монах был уже далеко за палаткою царскою, по дороге к неприятельскому стану. Через несколько минут оруженосец снова вошел в ставку Нурредина. «Государь! монах, который сейчас вышел от тебя, возвращался опять. Он велел мне вручить тебе этот перстень и просит тебя собственными глазами удостовериться в истине его слов». «Где он? Приведи его сюда!» «Оставя мне перстень, он тотчас же скрылся в лесу, который примыкает к нашему лагерю, и сказал только, что придет завтра». «Хорошо. Оставь перстень здесь и, когда придет монах, пусти его ко мне». Перстень не блестел богатством украшений. Круглый опал, обделанный в золоте просто, тускло отливал радужные краски. «Неужели судьба моя в этом камне? — думал Нурредин. — Завтра вернее узнаешь ты свою судьбу от меня, дерзкий обманщик!..» И между тем царь надевал перстень на мизинец левой руки и, смотря на переливчатый камень, старался открыть в нем что-нибудь необыкновенное. И в самом деле, в облачно-небесном цвете этого перстня был какой-то особенный блеск, которого Нурредин не замечал прежде в других опалах. Как будто внутри его была спрятана искорка огня, которая играла и бегала, то погасала, то снова вспыхивала и при каждом дом движении руки разгоралась все ярче и ярче. Чем более Нурредин смотрел на перстень, тем яснее отличал он огонек и тем прозрачнее делался камень. Вот огонек остановился яркою звездочкой, глубоко внутри опала, которого туманный блеск разливался внутри ее, как воздух вечернего неба, слегка подернутого легкими облаками. В этом легком тумане, в этой светлой, далекой звездочке было что-то неодолимо привлекательное для царя сирийского; не только не мог он отвести взоров от чудесного перстня, но, забыв на это время и войну и Оригелла, он всем вниманием и всеми мыслями утонул в созерцании чудесного огонька, который, то дробясь на радугу, то опять сливаясь в одно солнышко, вырастал и приближался все больше и больше. Чем внимательнее Нурредин смотрел внутрь опала, тем он казался ему глубже и бездоннее. Мало-помалу золотой обручик перстня превратился в круглое окошечко, сквозь которое сияло другое небо, светлее нашего, и другое солнце, такое же яркое, лучезарное, но как будто еще веселее и не так ослепительно. Это новое небо становилось беспрестанно блестящее и разнообразнее; это солнце все больше и больше; вот оно выросло огромнее надземного, еще ярче и еще торжественнее, и хотя ослепительно, но все ненаглядно и привлекательно; быстро катилось оно ближе и ближе; или, лучше сказать, Нурредин не знал, солнце ли приближается к нему или он летит к солнцу. Вот новое явление поражает его напряженные чувства: из-под катящегося солнца исходит глухой и неявственный гул, как бы рев далекого ветра, или как стон умолкающих колоколов; и чем ближе солнце, тем звонче гул. Вот уж слух Нурредина может ясно распознать в нем различные звуки: будто тысячи арф разнострунными звонами сливаются в одну согласную песнь; будто тысячи разных голосов различно строятся в одно созвучие, те умирая, те рождаясь, и все повинуясь одной, разнообразно переливчатой, необъятной гармонии. Эти звуки, эти песни проникли до глубины души Нурредина. В первый раз испытал он, что такое восторг. Как будто сердце его, дотоле немое, пораженное голосом звезды своей, вдруг обрело и слух и язык; так, как звонкий металл, в первый раз вынесенный на свет рукою искусства, при встрече с другим металлом потрясается до глубины своего состава и звенит ему звуком ответным. Жадно вслушиваясь в окружающую его музыку, Нурредин не мог различить, что изнутри его сердца, что извне ему слышится. Вот прикатившееся солнце заслонило собою весь круглый свод своего неба; все горело сиянием; воздух стал жарок, и душен, и ослепителен; музыка превратилась в оглушительный гром; но вот — пламя исчезло, замолкли звуки, и немое солнце утратило лучи свои, хотя еще не переставало расти и приближаться, светя холодным сиянием восходящего месяца. Но, беспрестанно бледнея, скоро и это сияние затмилось; солнце приняло вид земли, и вот — долетело… ударило… перевернулось… и — где земля? где перстень?.. Нурредин, сам не ведая как, очутился на новой планете. Здесь все было странно и невиданно: горы, насыпанные из граненых бриллиантов; огромные утесы из чистого серебра, украшенные самородными рельефами, изящными статуями, правильными колоннами, выросшими из золота и мрамора. Там ослепительные беседки из разноцветных кристаллов. Там роща, и прохладная тень ее исполнена самого нежного, самого упоительного благоухания. Там бьет фонтан вином кипучим и ярким. Там светлая река тихо плескается о зеленые берега свои; но в этом плесканьи, в этом говоре волн есть что-то разумное, что-то понятное без слов, какой-то мудреный рассказ о несбыточном, но бывалом, какая-то сказка волшебная и заманчивая. Вместо ветра здесь веяла музыка; вместо солнца здесь светил сам воздух. Вместо облаков летали прозрачные образы богов и людей; как будто снятые волшебным жезлом с картины какого-нибудь великого мастера, они, легкие, вздымались до неба и, плавая в стройных движениях, купались в воздухе. Долго сирийский царь ходил в сладком раздумье по новому миру, и ни взор его, ни слух ни на минуту не отдыхали от беспрестанного упоения. Но посреди окружавших его прелестей невольно в душу его теснилась мысль другая: он со вздохом вспоминал о той музыке, которую, приближаясь, издавала звезда его; он полюбил эту музыку так, как будто она была не голос, а живое создание, существо с душою и с образом; тоска по ней мешалась в каждое его чувство, и услышать снова те чарующие звуки стало теперь его единственным, болезненным желанием. Между тем в глубине зеленого леса открылся перед ним блестящий дворец, чудесно слитый из остановленного дыма. Дворец, казалось, струился, и волновался, и переливался, и, несмотря на то, стоял неподвижно и твердо в одном положении. Прозрачные колонны жемчужного цвета были увиты светлыми гирляндами из розовых облаков. Дымчатый портик возвышался стройно и радужно, красуясь грацией самых строгих пропорций; огромный свод казался круглым каскадом, который падал во все стороны светлою дугою, без реки и без брызгов; все во дворце было живо, все играло, и весь он казался летучим облаком, а между тем это облако сохраняло постоянно свои строгие формы. Крепко забилось сердце Нуррединово, когда он приблизился ко дворцу: предчувствие какого-то неиспытанного счастия занимало дух и томило грудь его. Вдруг растворились легкие двери, и в одежде из солнечных лучей, в венце из ярких звезд, опоясанная радугой, вышла девица. «Это она!» — воскликнул сирийский царь. Нурредин узнал ее. Правда, под туманным покрывалом не видно было ее лица; но по гибкому ее стану, по ее грациозным движениям и стройной поступи разве слепой один мог бы не узнать на его месте, что эта девица была та самая Музыка Солнца, которая так пленила его сердце. Едва увидела девица сирийского царя, как в ту же минуту обратилась к нему спиною и, как бы испугавшись, пустилась бежать вдоль широкой аллеи, усыпанной мелким серебряным песком. Царь за нею. Чем ближе он к ней, тем шибче бежит девица, и тем более царь ускоряет свой бег. Грация во всех ее движениях; волосы развеялись по плечам; быстрые ножки едва оставляют на серебряном песку свои узкие, стройные следы; но вот уж царь недалеко от нее; вот он настиг ее, хочет обхватить ее стройный стан, — она мимо, быстро, быстро… как будто Грация обратилась в Молнию; легко, красиво… как будто Молния обернулась в Грацию. Девица исчезла; царь остался один, усталый, недовольный. Напрасно искал он ее во дворце и по садам: нигде не было и следов девицы. Вдруг из-за куста ему повеяло музыкой, как будто вопрос: за чем пришел ты сюда? «Клянусь красотою здешнего мира, — отвечал Нурредин, — что я не с тем пришел сюда, чтобы вредить тебе, и не сделаю ничего противного твоей воле, прекрасная девица, если только выйдешь ко мне и хотя на минуту откроешь лицо свое». «Как пришел ты сюда?» — повеяла ему та же музыка. Нурредин рассказал, каким образом достался ему перстень, и едва он кончил, как вдруг из тенистой беседки показалась ему та же девица; и в то же самое мгновение царь очнулся в своей палатке. Перстень был на его руке, и перед ним стоял хан Арбаз, храбрейший из его полководцев и умнейший из его советников. «Государь! — сказал он Нурредину, — покуда ты спал, неприятель ворвался в наш стан. Никто из придворных не смел разбудить тебя; но я дерзнул прервать твой сон, боясь, чтобы без твоего присутствия победа не была сомнительна». Суровый, разгневанный взор был ответом министру; нехотя опоясал Нурредин свой меч и тихими шагами вышел из ставки. Битва кончилась. Китайские войска снова заперлись в стенах своих; Нурредин, возвратясь в свою палатку, снова загляделся на перстень. Опять звезда, опять солнце и музыка, и новый мир, и облачный дворец, и девица. Теперь она была с ним смелее, хотя не хотела еще поднять своего покрывала. Китайцы сделали новую вылазку. Сирийцы опять отразили их; но Нурредин потерял лучшую часть своего войска, которому в битве уже не много помогала его рука, бывало неодолимая. Часто в пылу сражения сирийский царь задумывался о своем перстне, и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое. Так прошло несколько дней. Наконец царю сирийскому наскучила тревога боевого стана. Каждая минута, проведенная не внутри опала, была ему невыносима. Он забыл и славу и клятву: первый послал Оригеллу предложение о мире и, заключив его на постыдных условиях, возвратился в Дамаск; поручил визирям правление царства, заперся в своем чертоге, и под смертною казнию запретил своим царедворцам входить в царские покои без особенного повеления. Почти все время проводил Нурредин на звезде, близ девицы, но до сих пор еще не видал он ее лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало; и той красоты, которая явилась тогда перед его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими, и того чувства, которое овладело им при ее взгляде, невозможно вообразить даже и во сне. Если в эту минуту сирийский царь не лишился жизни, то, конечно, не оттого, чтобы люди не умирали от восторга, а, вероятно, потому только, что на той звезде не было смерти. Между тем министры Нуррединовы думали более о своей выгоде, чем о пользе государства. Сирия изнемогала от неустройств и беззаконий. Слуги слуг министровых утесняли граждан; почеты сыпались на богатых; бедные страдали; народом овладело уныние, а соседи смеялись. Жизнь Нурредина на звезде была серединою между сновидением и действительностию. Ясность мыслей, святость и свежесть впечатлений могли принадлежать только жизни наяву; но волшебство предметов, но непрерывное упоение чувств, но музыкальность сердечных движений и мечтательность всего окружающего уподобляли жизнь его более сновидению, чем действительности. Девица Музыка казалась также слиянием двух миров. Душевное выражение ее лица, беспрестанно изменяясь, было всегда согласно с мыслями Нурредина, так что красота ее представлялась ему столько же зеркалом его сердца, сколько отражением ее души. Голос ее был между звуком и чувством: слушая его, Нурредин не знал, точно ли слышит он музыку или все тихо и он только воображает ее? В каждом слове ее находил он что-то новое для души, а все вместе было ему каким-то счастливым воспоминанием чего-то дожизненного. Разговор ее всегда шел туда, куда шли его мысли, так как выражение лица ее следовало всегда за его чувствами; а между тем все, что она говорила, беспрестанно возвышало его прежние понятия, так как красота ее беспрестанно удивляла его воображение. Часто, взявшись рука с рукою, они молча ходили по волшебному миру; или, сидя у волшебной реки, слушали ее волшебные сказки: или смотрели на синее сияние неба; или, отдыхая на волнистых диванах облачного дворца, старались собрать в определенные слова все рассеянное в их жизни; или, разостлав свое покрывало, девица обращала его в ковер-самолет, и они вместе улетали на воздух, и купались, и плавали среди красивых облаков; или, поднявшись высоко, они отдавались на волю случайного ветра и неслись быстро по беспредельному пространству и уносились, куда взор не дойдет, куда мысль не достигнет, и летели, и летели так, что дух замирал… Но положение Сирии беспрестанно становилось хуже, и тем опаснее, что в целой Азии совершились тогда страшные перевороты. Древние грады рушились; огромные царства колебались и падали; новые возникали насильственно; народы двигались с мест своих; неизвестные племена набегали неизвестно откуда; пределов не стало между государствами; никто не верил завтрашнему дню; каждый дрожал за текущую минуту; один Нурредин не заботился ни о чем. Внутренние неустройства со всех сторон открыли Сирию внешним врагам; одна область отпадала за другою, и уже самые близорукие умы начинали предсказывать ей близкую погибель. «Девица! — сказал однажды Нурредин девице Музыке, — поцелуй меня!» «Я не могу, — отвечала девица, — если я поцелую тебя, то лишусь всего отличия моей прелести и красотой своей сравняюсь с обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть, однако, средство исполнить твое желание, не теряя красоты моей… оно зависит от тебя… послушай: если ты любишь меня, отдай мне перстень свой; блестя на моей руке, он уничтожит вредное действие твоего поцелуя». «Но как же без перстня приду я к тебе?» «Как ты теперь видишь мою землю в этом перстне, так я тогда увижу в нем твою землю; как ты теперь приходишь ко мне, так и я приду к тебе», — сказала девица Музыка, и, одной рукой снимая перстень с руки Нурредина, она обнимала его другою. И в то мгновение, как уста ее коснулись уст Нуррединовых, а перстень с его руки перешел на руки девицы, в то мгновение, продолжавшееся, может быть, не более одной минуты, новый мир вдруг исчез вместе с девицей, и Нурредин, еще усталый от восторга, очутился один на мягком диване своего дворца. Долго ждал он обещанного прихода девицы Музыки; но в этот день она не пришла; ни через два, ни через месяц, ни через год. Напрасно рассылал он гонцов во все концы света искать араратского отшельника; уже и последний из них возвратился без успеха. Напрасно истощал он свои сокровища, скупая отовсюду круглые опалы; ни в одном из них не нашел он звезды своей. «Для каждого человека есть одна звезда, — говорили ему волхвы, — ты, государь, потерял свою, другой уже не найти тебе!» Тоска овладела царем сирийским, и он, конечно, не задумался бы утопить ее в студеных волнах своего златопесчаного Бардинеза, если бы только вместе с жизнию не боялся лишиться и последней тени прежних наслаждений — грустного, темного наслаждения: вспоминать про свое солнышко! Между тем тот же Оригелл, который недавно трепетал меча Нуррединова, теперь сам осаждал его столицу. Скоро стены дамасские были разрушены, китайское войско вломилось в царский дворец, и вся Сирия вместе с царем своим подпала под власть китайского императора. «Вот пример коловратности счастия, — говорил Оригелл, указывая полководцам своим на окованного Нурредина, — теперь он раб и вместе с свободою утратил весь блеск прежнего имени. Ты заслужил свою гибель, — продолжал он, обращаясь к царю сирийскому, — однако я не могу отказать тебе в сожалении, видя в несчастий твоем могущество судьбы еще более, чем собственную вину твою. Я хочу, сколько можно, вознаградить тебя за потерю твоего трона. Скажи мне: чего хочешь ты от меня? О чем из утраченного жалеешь ты более? Который из дворцов желаешь ты сохранить? Кого из рабов оставить? Избери лучшие из сокровищ моих, и, если хочешь, я позволю тебе быть моим наместником на прежнем твоем престоле!» «Благодарю тебя, государь! — отвечал Нурредин, — но из всего, что ты отнял у меня, я не жалею ни о чем. Когда дорожил я властию, богатством и славою, умел я быть и сильным и богатым. Я лишился сих благ только тогда, когда перестал желать их, и недостойным попечения моего почитаю я то, чему завидуют люди. Суета все блага земли! суета все, что обольщает желания человека, и чем пленительнее, тем менее истинно, тем более суета! Обман все прекрасное, и чем прекраснее, тем обманчивее; ибо лучшее, что есть в мире, это — мечта».H. A. Полевой БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ
On dit que la folie est un mal; On a tort — c’est un bien…[14]Мы читали Гофманову повесть «Meister Floh»[15]. Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас, по мере того, как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир, из мира волшебства в немецкий погребок, шутил, смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно, и наконец — скрылся, как мечта, изглаженная крепким утренним сном! Чтение было кончено. Начались разговоры и суждения. Иногда это последствие чтения бывает любопытнее того, что прочитано. В дружеской беседе нашей всякий изъявлял свое мнение свободно; противоречия были самые странные, и всего страннее показалось мне, что женщины хвалили прозаические места более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетели мимо тех и других, большею частию не замеченные ими. Один из наших собеседников молчал. «Вы еще ничего не сказали, Леонид?» — спросила его молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенною Гофманом. — Что же прикажете мне говорить? — Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть Гофмана? — Я не понимаю слова понравиться, — отвечал Леонид, — и глаза его обратились к другой собеседнице нашей, — не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане и о девушке… Та, на которую обратился взор Леонида, потупила глаза, и щеки ее покраснели. — Чего же вы тут не понимаете? — Того, — отвечал Леонид, — что ни Гофман, ни та, которую сердце отличает от других, нравиться не могут. — Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не могут нравиться? — Жалею, что не успел хорошо высказать моей мысли. Дело в том, что слово нравиться, я позволил бы себе употребить, говоря только о щегольской шляпке, о собачке, модном фраке и тому подобном. — Прекрасно! Так лучше желать быть собачкою, нежели тою девушкою, которую вам вздумается любить?.. — Не беспокойтесь; но Гофман вовсе мне не нравится, как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительною молниею: я изумлен, поражен; безмолвие души выражает все мое существование в самую минуту грозы, а после я сам себе не могу дать отчета: я не существовал в это время для мира. И как же вы хотите, чтобы холодным языком ума и слова пересказал я вам свои чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их… — Не пишет ли он стихов? — сказала девушка, которая спрашивала, молчаливой своей подруге. — Верно, это какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я ничего в нем не понимаю… — Ах! как я его понимаю! — промолвила другая тихонько, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза свои. Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца, невольно вылетевший. Боясь, чтобы она не заметила моего нечаянного дозора, я поспешил начать разговор с Леонидом. — Прекрасно, — сказал я, — прекрасно, любезный Леонид! Только, в самом деле, непонятно. — Как же вы говорите прекрасно, если вы не понимаете? Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на возражение Леонидово! — То есть, я говорю, — сказал я ему наконец, — что трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах. — Бедные люди! им и чувствовать не позволяют того, чего изъяснить они не могут! Леонид вздохнул. — Но как же иначе? — сказал я. — Безотчетное чувствоесть низшее чувство, а ум требует отчета верного, положительного… — Мне всегда забавно слышать подобные слова: сколько в них шуму, грому, и между тем, как мало отчетливости во всех ваших отчетах? Скажите, пожалуйста, во многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще, после всех ваших философских теорий и систем, повторить:
* * *
Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки, одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая, с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав: «Он все выдумал: так не любят, и что за радость так любить?» Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины, составили кружок и стали рассуждать всякий по-своему, Леонид придвинулся к другой девушке. Она плакала, закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал украдкою, не говоря ни слова… — Вы не выдумали? — сказала она, вдруг взглянув на Леонида. — И не думал, — отвечал Леонид. — Неужели и вы скажете: так не любят? — О, нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но… Леонид? — Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды? Я не вслушался в ответ и не знаю, что ответил Леонид.К. С. Аксаков ВАЛЬТЕР ЭЙЗЕНБЕРГ жизнь в мечте повесть
Посвящается Марии Карташевской Wage du, zu irren und zu traumen[23]. ШиллерВ городе M. жил студент, по имени Вальтер Эйзенберг. Это был молодой человек лет осьмнадцати. Жизнь его до того времени не была замечательна никакими особенными происшествиями. Он родился с головою пылкою, сердцем, способным понимать прекрасное, и даже с могучими душевными силами. Но природа, дав ему, с одной стороны, все эти качества, с другой, перевесила их характером слабым, нерешительным, мечтательным и мнительным в высочайшей степени. Пока он рос в дому у отца и матери, все было хорошо: он еще не знал света и не боялся узнать его; но и тогда несчастный его характер не давал ему покоя. Когда ему было лет одиннадцать-двенадцать, поступкам своим умел он отыскать дурную причину: ему казалось, что везде преследовал его какой-то злой дух, который нашептывал ему ужасные мысли и влек к преступлению. Такое-то болезненное состояние души, причина которого находится, вероятно, в способности слишком живо принимать впечатления, продолжалось лет до пятнадцати. Еще до вступления своего в университет он любил живопись как художник и в ней находил отраду больной душе своей. Он принес в университет сердце доверчивое и торопился разделить свои чувства и поэтические мечты с товарищами. Скоро он познакомился с студентами, которые, как ему казалось, могли понимать его. Это был круг людей умных, которые любили поэзию, но только тогда признавали и уважали чувство в другом человеке, когда оно являлось в таком виде, под которым им рассудилось принимать его, как скоро же чувство проявлялось в сколько-нибудь смешной или странной форме, они сейчас же безжалостно восставали и отвергали его. Эйзенберг был моложе их: несколько понятий, конечно, ошибочных, но свойственных летам, случалось ему высказать перед своими приятелями; робкий, сомнительный характер придавал речам его какую-то принужденность; этого было довольно для них, чтобы решить, что у Вальтера нет истинного чувства, хотя они сами точно так же ошибались назад тому года два-три. Вальтер не вдруг это заметил. Он стал говорить свои мысли — его едва выслушивали, он высказывал свои чувства — его слушали и молчали; он показывал свои рисунки — ему говорили холодно и без участия: «Да, хорошо…» Представьте себе положение бедного, вообразите, как сжималось его любящее сердце от такого привета! Часто приходил он домой убитый духом, и тяжелые мысли — сомнение в самом себе, в собственном достоинстве, презрение к самому себе — теснились ему в грудь. Это, право, ужасное состояние. Не дай бог испытать его! Это верх отчаяния, не того отчаяния, бешеного, неистового, нет, отчаяния глубоко-спокойного, убийственного. Об нем едва ли может иметь понятие тот, кто не испытал его. Каким же именем назвать людей, уничтожающих так человека? Наконец, как будто пелена упала с глаз Эйзенберга — он решился не обращать внимания на их мнения, удалиться, заключиться в самом себе и хранить сбереженный остаток чувства. О, он имел довольно гордости, чтобы не выпрашивать участия как милости. В то время познакомился он с одним молодым человеком, которого звали Карлом. Знакомство их скоро обратилось в дружбу. Как доволен был Вальтер, нашедши человека, которому смело, доверчиво мог поверять все, что было у него на душе, человека, который хотя часто был с ним согласен, не всегда мог понимать его в самом деле странные мысли, но зато умел ценить его и платил ему тою же доверенностью. Еще одно обстоятельство изменило несколько мирную, уединенную жизнь Вальтера. Он познакомился с доктором Эйхенвальдом, который был известен в городе своими странностями: на лице никогда не сходила насмешливая, неприятная улыбка. Он всегда ходил в сером фраке, в белой шляпе, нахлобученной на его густые, седые брови, и с суковатой палкой; он не говорил почти ни с кем, являлся редко в обществе и большую часть времени проводил в своем кабинете. У него жила воспитанница, дальняя его родственница, молодая девушка, лет девятнадцати, которой он заступил место отца. Случай познакомил Вальтера с Эйхенвальдом. Гуляя в публичном саду с Карлом, зашли они в одну беседку, в которой никого не было, и у них начался откровенный разговор. Карл ушел прежде. Вальтер также собирался выйти, как из угла беседки показался Эйхенвальд, которого он прежде не приметил, и, взяв его за руку, сказал ему: — Ко мне, молодой человек… завтра в пять часов жду вас. Вальтер едва успел поблагодарить, как он уже удалился. Эйзенберг явился в назначенный час. Эйхенвальд сидел в халате. — А, — сказал он, усмехаясь, и протянул ему руку. — А вот моя родственница Цецилия! Перед Вальтером стояла девушка высокого роста; черные глаза ее, сухие и блестящие, имели в себе какую-то чудную обаятельную силу, которая покоряла ей всякого, кто к ней приближался; ее взгляд был быстр и повелителен, но она умела смягчать его, умела тушить влагою неги сверкающий огонь глаз своих, и тогда на кого обращала она взор свой, тот готов был ей отдать и надежды, и жизнь, и душу. Волосы ее, длинные, черные, энергически густые, обвивали несколько раз как тюрбан ее голову. Она редко показывалась в обществе, и юноши города М. очень досадовали за то на Эйхен-вальда; другого же случая видеть ее не было, потому что старый доктор почти никого не принимал в дом к себе. Цецилия сурово взглянула на Вальтера; на гордом, возвышенном челе ее не проскользнуло ни тени привета. Студент оробел. Эйхенвальд говорил мало, и Вальтер, возвращаясь домой, не мог понять, зачем он звал его к себе? Однако ж он решился идти туда в другой раз. Через неделю, в тот же час Эйзенберг пришел к доктору. Цецилия встретила его. — Г-на Эйхенвальда нет дома, — сказала она ему, и ее голос звучал ласково. — Не угодно ли вам подождать и провести это время со мною? Эйзенберг был очень рад. Они были у окошка: ветерок чуть-чуть веял; солнце спускалось с безоблачного неба; тени от домов все росли и росли… Сидеть в такой час у растворенного окошка, дышать свежим воздухом, чувствовать близкое присутствие прекрасной Девушки — о, как это хорошо! Разговор шел сначала очень вяло, но Цецилия беспрестанно поддерживала его. Ее слова были растворены ласкою. Эйзенберг становился мало-помалу развязнее, и когда Цецилия предложила ему идти в сад, то он даже осмелился подать ей легкий газовый шарф. Прогуливаясь по саду, они остановились перед грядкою нарциссов. Цецилия сорвала один. — Я знаю, что вы живописец, — начала она. — Скажите мне, рисуете ли вы цветы? Думаете ли вы, что цветная живопись простая копия природы или в ней также может быть творчество? — О, без сомнения, — отвечал Эйзенберг, — все будет копией, если мы станем смотреть только на наружную сторону вещей. Нет, должно угадать внутреннюю жизнь, угадать поэзию предмета, и тогда можно воссоздать его на полотне. Я верю, Цецилия, — продолжал он, — что каждый цветок имеет соответствие с каким-нибудь человеком и заключает в себе ту же жизнь, какая и в нем, только в низшей степени, только не так разнообразно развивает ее. Природа, чтобы достигнуть до каждого человека, должна была пройти целый ряд созданий по всем своим царствам и одну и ту же мысль выразила сначала в камне, потом в растении, потом в животном и, наконец, беспрестанно совершенствуясь, в человеке развила ее в высшей степени. Да, Цецилия, у каждого из нас есть родные во всех царствах природы, созданные ею по одной идее с нами; поэтому я думаю, что я могу отыскать свой портрет и между цветами, которые под другими, менее совершенными формами выражают ту же мысль, какую я <выражаю> всем существом своим. После этого как не находить поэзии в цветах, и неужто цветная живопись есть только сухая копировка? Цецилия взглянула на него пристально. — Я согласна с вамп, — сказала она, помолчав. — Спишите же мой портрет между цветами, — прибавила она с улыбкою. — Я вас так мало знаю, — отвечал, запинаясь, Вальтер. — Кто ж вам мешает бывать у нас чаще; но вот, кажется, и г-н Эйхенвальд; пойдемте к нему. Эйзенберг, пробывши там еще час, пошел домой весь радостный. Он шел по улицам, ни на что не обращая внимания, весь в себе, напевая песни; а в голове его мечтам и конца не было: его сердце наполнялось в это время таким сладким чувством, что он готов был обнять и расцеловать всякого. Пришедши домой, бросился он на стул у окна, потом вскочил и, прошедши раза два по комнате, сел опять и совершенно забылся. Если б его спросили, о чем он думает, он бы не мог отвечать. В это время вошел Карл. — Вальтер, — сказал он ему, — полно сидеть дома; я пришел за тобою, чтобы прогуляться вместе: время чудное. — А, Карл, садись! Я пришел сейчас и устал немного. Останься со мной. Карл заметил, что друг его чертил что-то карандашом на бумаге. — Что ты рисуешь? — Так, это моя фантазия. — Твоя фантазия очень миловидна. Да не портрет ли это? — Вальтер не отвечал, продолжая чертить. Карл подождал, пока он кончит; наконец, положив карандаш, Вальтер спросил его машинально: — Ну, что? — Что с тобою, Вальтер? Ты рассеян, это не без причины. — Ах, Карл, Карл! — сказал Вальтер, опять задумываясь. Карл долго смотрел на Эйзенберга, наконец сказал тихо: — Как хороша она! — Прелестная девушка! — Какое наслаждение смотреть на нее! — Да, быть с нею, говорить с нею — вот счастие! — Умереть у ног ее — вот блаженство! — докончил громко Карл и покатился со смеху. — Что это значит, Карл? Разве ты знаешь Цецилию? Ты смеешься? — Попался, — говорил Карл, продолжая смеяться, — попался и высказал все, что было на душе. Видишь, как немудрено узнать твою тайну. Ну, не сердись же. Мне ты мог ее сказать. Итак, Цецилия, прелестная Цецилия владеет твоим сердцем, — прибавил он патетическим тоном. — Послушай, Карл, — сказал несколько серьезно Вальтер, — если ты хочешь смеяться надо мною, так душе ступай вон, а то слишком не хорошо узнать секрет другого и потом смеяться над ним. Разве я лез к те с моею доверенностью? — Полно, полно, не сердись. Шутка — не насмешка. А лучше расскажи мне хорошенько. Вальтер рассказал ему все, и Карл, оставя свой шутливый тон, слушал его с участием. Друзья расстались. Вальтер весело лег спать: завтра он пойдет на целый день к Эйхенвальду; сладкие сны вились над головою его. Он проснулся; светло и радостно улыбалось ему утро, так приветно пели птицы. Он встал, взглянул на свой столик, где лежал портрет ее, нарисованный им вчера. Наконец пришел назначенный час, и Вальтер отправился к Эйхенвальду. День этот скоро прошел для Эйзенберга; после обеда Эйхенвальд ушел в свой кабинет, и они опять остались одни. Как хороша была Цецилия вечером, в последних лучах солнца, в саду, среди цветов, осененная деревьями. Вальтер смотрел на нее; Вальтер все смотрел на нее. — Нет, господи! Прекрасна луна, цветы, деревья, безоблачное небо, прекрасна природа; но это создание лучше всех твоих созданий, прекраснее цветов и неба, прекраснее природы! — Послезавтра вечером я буду одна, — сказала Цецилия, прощаясь с ним. — Приходите, мне нужно поговорить с вами. — Да, я уйду послезавтра вечером, — подтвердил Эйхенвальд, — приходите. Нужно ли говорить, как приятно Вальтеру было это предложение. Он пошел прямо к Карлу, чтобы все ему пересказать. — Послушай, — сказал тот, когда Вальтер кончил, — мне что-то кажется странным и неприличным такая короткость в девушке; и Эйхенвальд точно будто с нею сговорился. — Ну вот, тебе уж и кажется странно. Ты бы хотел, чтобы Цецилия была модная кукла, со всеми светскими приличиями; неужто все, что сколько-нибудь отклоняется от них, что сколько-нибудь следует естественному влечению, кажется тебе странным; неужто во всяком сколько-нибудь необыкновенном, не пошлом поступке ты находишь дурное? — Нельзя ли мне видеть Цецилию? — Ты можешь видеть ее как-нибудь под окном; проходи мимо их дома. — Он сказал ему адрес.
* * *
Был шестой час вечера. Вальтер весело шел по улицам: он увидит Цецилию. Ему казалось, что вся природа гармонировала с ним: легкий вечерний ветерок, теплый воздух, зеленые развесистые сады, мимо которых шел он, вечернее щебетанье птиц, голубое небо, по краям которого, как усталые, растянулись облака, — все, все было так светло, так хорошо, все дышало такою отрадою. Как понятна нам красота природы, когда на душе нашей счастие… А Вальтер был счастлив в эту минуту. Он шел, а перед ним носился образ прелестной девушки. В душе его было ожидание близкой минуты свидания, перед ним был целый вечер, который он проведет с нею. Он подходит к дому Эйхенвальда, видит издали, что кто-то сидит у окна: это она; это верно она; это ее черные волосы колеблются; это ее белая рука лежит на окне; она подняла руку, опять опустила ее; он сейчас ее увидит, она сейчас его увидит, сейчас, сейчас!.. Вальтер поклонился Цецилии, проходя мимо; она встала. Через минуту он был уже в комнате, и они оба сидели у окошка, друг против друга. Разговор их одушевился. Вальтер принес Цецилии свои рисунки; они говорили о живописи, о поэзии и, наконец, о любви. — Да, Вальтер, — говорила так искренно Цецилия, — да, любовь — блаженство; но она не для тех людей, которым надобна тишина: для них она беспокойна. Вы любили, Вальтер? Вальтер покраснел; он невольно вспомнил Карла, но мысль эта рассеялась в одну минуту. — Я не знал любви до сих пор; но теперь я… — Вы любите. Что же, вы счастливы? — Счастлив, счастлив! Чего мне еще желать? Я могу видеть ее перед собою, слышать ее голос, думать о ней… О, если бы вы знали, как я счастлив! Когда б только я был уверен, что она любит меня, — прибавил Эйзенберг, несколько смутясь, — о, тогда бы, тогда бы… Цецилия улыбнулась. — Вы меня любите, Вальтер, — сказала она, — и я вас люблю. Вальтер задрожал: эти неожиданные слова совершенно поразили его. — Завтра мы едем в деревню: вы будете у нас. Что мог сказать Вальтер? Он изнемог от силы впечатления. Цецилия пристально смотрела на него, и он, неподвижный, не мог отвести глаз от ее взора; казалось, он весь перелился в зрение; казалось, там только сосредоточена вся жизнь его. И вдруг ему стало страшно и грустно: перед ним все подернулось туманом; ему казалось, что он перешел в глаза Цецилии и что это чудный какой-то мир; со всех сторон блещут искры: он плавает в какой-то черной влаге, плещется, играет ею и вдруг исчезает, и он тонет, тонет; ему сделалось так страшно и сладко вместе. Потом что-то мелькает перед ним и опять скрывается, а он все тонет, тонет… Вдруг Цецилия повернула голову и взглянула в окно. Вальтер почувствовал, что все нервы в теле его задрожали и оно как будто ожило, как будто кровь снова заструилась по жилам. Вальтер посмотрел в окно: это был Карл, который, пройдя мимо и взглянув на Цецилию, привлек на себя ее внимание, заставил оборотиться. Она уже опять смотрела на него и сказала: — Вы непременно приедете к нам в деревню. — Да, да, непременно, — подхватил вошедший Эйхенвальд. Вальтер не мог долго оставаться; изнеможденный, побрел он домой и не мог дать себе отчета в своем состоянии. Он чувствовал смутно, что он счастлив; но в этом счастии было что-то необыкновенно приятное; в сладкое чувство блаженства теснился какой-то вопрос. Поутру все ему представилось в радужном, веселом свете: Цецилия его любит; он поедет к ним в деревню. Вальтер не мог ни о чем другом думать. Около обеда пришел к нему Карл. — Ну, я видел твою Цецилию, — сказал он. — Ты не заметил, кажется, как я прошел мимо. Она хороша; но в лице нет никакой приятности; как могла она тебе понравиться? — Молчи, Карл, об этом не спрашивают и не рассуждают; а лучше радуйся моему счастию. Слушай, — и он рассказал ему весь разговор свой с Цецилией. — Я счастлив, Карл, не правда ли? — Дай бог, чтоб это была правда. После обеда Эйзенберг пошел с своим другом к одному из своих товарищей, где нашел несколько других студентов. Весь вечер был он весел, шутил, смеялся п, наконец, простился с ними, сказав, что, может быть, долго не увидится; послезавтра он ехал в деревню к Эйхенвальду. Следующий день он приготовлялся к дороге, увязывал свой станок, укладывал краски: Цецилия просила давать ей уроки в живописи. На другой день рано поутру лошади были уже заложены. Вальтер простился с Карлом, который пришел проводить его, сел и поехал. Вечером подъехал он к деревне Эйхенвальда. Как торопился выпрыгнуть наш Эйзенберг из своего дорожного экипажа! Он побежал сначала в дом — никого нет; все в саду. Он бросился в сад; идет наудачу по дорожкам, вышел на поляну — нет Цецилии; вот еще одна узкая дорожка ведет в березовую рощу; он спешит к роще, — и вот между ветвями замелькали черные локоны; Цецилия услышала шум, обернулась и увидела Вальтера. — Вальтер, — сказала она таким голосом, который проник всю его душу, — я ждала вас. Эйзенберг стал перед ней и, ничего не говоря, смотрел на нее и не мог оторваться: казалось, он утолял жажду, которая давно томила его душу. Цецилия молча взяла его за руку и повела по саду. Сердце у Вальтера билось, он испытывал неописуемое чувство; он хотел говорить, но язык его не слушался, и он продолжал снова глядеть на Цецилию, которая шла спокойно, задумавшись. Они вышли на поляну; вдали блестела полоса воды; солнце торжественно близилось к закату и далеко отбросило тени от юноши и девушки, когда они отделились от рощи. — Ты мой, — сказала Цецилия, устремляя глаза на Эйзенберга. — Я твой, — прошептал он и снова потерялся в черном ее взоре. Снова он тонет, тонет, исчезает, уничтожается… и вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и повяну, и рощу, но только видит все это из глаз Цецилии: вот ему кажется, что на каждом цветочке сидит сильфида и ловит лучи солнечные и росу вечернюю; умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев порхает целый рой эльфов, и дерево тихо шумит листьями, будто от ветра, а там далеко в воде плывут и стелются наяды; струи, переливаясь через них, покрывают их прозрачною легкою пеленою и блестят на; солнце. Не знаю, долго ли простоял Вальтер в таком положении, но Цецилия запела песню, и он пришел в себя. Песня ее звучно, одушевленно раздалась по поляне: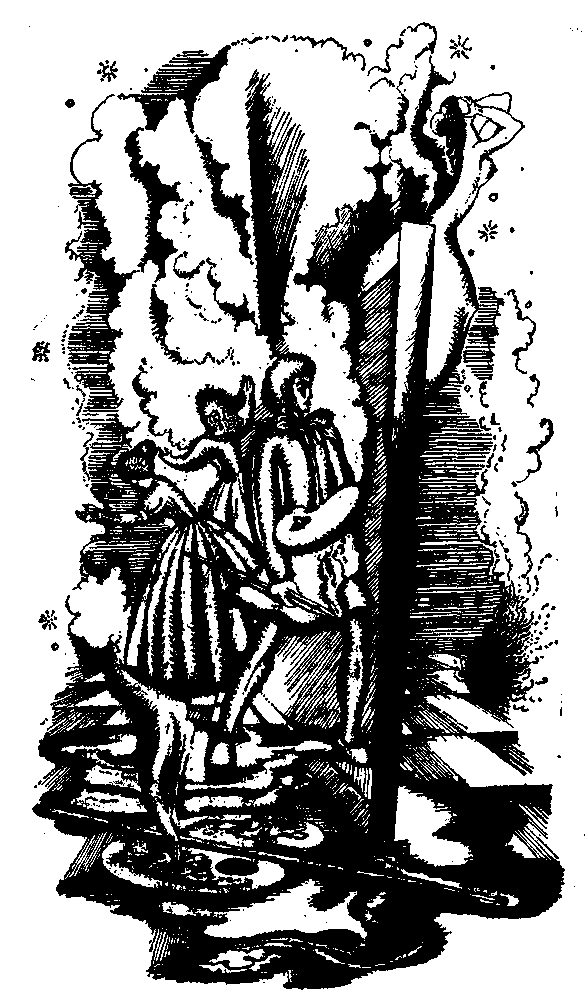 Через несколько минут растворилась дверь, и вошел Карл. Увидав издали своего друга, лежавшего в креслах, он побежал к нему.
— Вальтер, боже мой, — вскричал он, видя, что тело его уже охладело, и нечаянно, оборотись, он вскрикнул от ужаса: — Ах!
Он, Вальтер, стоял перед ним и смотрел на него веселыми глазами. Карл скоро заметил, что это рисунок, но все не мог оправиться от страха; он стоял перед картиною несколько времени, дрожал всем телом и наконец выбежал из комнаты.
Через несколько минут растворилась дверь, и вошел Карл. Увидав издали своего друга, лежавшего в креслах, он побежал к нему.
— Вальтер, боже мой, — вскричал он, видя, что тело его уже охладело, и нечаянно, оборотись, он вскрикнул от ужаса: — Ах!
Он, Вальтер, стоял перед ним и смотрел на него веселыми глазами. Карл скоро заметил, что это рисунок, но все не мог оправиться от страха; он стоял перед картиною несколько времени, дрожал всем телом и наконец выбежал из комнаты.
* * *
Как ни старался Карл удержать у себя картину своего друга, но она перешла во владение одному богатому дальнему родственнику Эйзенберга и украсила его картинную галерею; она была поставлена в особой комнате. Говорили, что по ночам в этой комнате слышался шум и голоса. Несмотря на это г-н П.** (так начиналась фамилия родственника) ни за что не хотел отдать картины, потому что она привлекала к нему толпы посетителей, которых он сам всегда вводил в эту кoмнaтy, и ключи от нее всегда держал при себе. Однажды Карл пришел посмотреть на последнее произведение своего бедного друга, но его не допустили. — Разве г-на П. нет дома? — Дома, — отвечали ему, — но его нельзя видеть. — Отчего же? — Он говорит с какой-то женщиной; кажется, у барина покупают картину. Через минуту вышла женщина, высокого роста, величественного вида, она казалась лет двадцати пяти и была в полном цвете красоты; на ней была белая одежда; с плеч спускалась зеленая мантия, на челе ее лежала целая повязка из белых лилий, из-под которой черные густые волосы падали обильными волнами, со всех сторон головы спускаясь ниже пояса; лицо ее был смугло. Карл узнал Цецилию. На другой день картина Вальтера была сожжена господином П.* * *
Мне верно не поверят, когда я скажу, что это происшествие истинное и что оно не так давно случилось; но я сам знал Карла, который был недавно в Москве и много рассказывал мне про своего друга. Вальтер открылся ему за несколько дней до своей смерти, что девушки, нарисованные им на картине, перед ним оживлялись. — Бедный друг мой! — говорил Карл, когда, бывало, вечером мы сидели вместе за чаем и он всю комнату наполнял дымом своей трубки, — бедный друг мой! Вы не знали его, вы не знали, что это был за человек и какая судьба! Ни с кем не был он так откровенен, как со мною; мне высказывал он свои мысли, подлинно гениальные. О, если б они только созрели в нем, если б он развил все силы, данные ему природою… но нет, судьба не хотела. Сначала его странная мечтательность; потом круг этих людей, этих нравственных убийц; однако это еще не уничтожило его, он заключился в одном себе, удалясь от общества; в то время мы встретились и поняли друг друга. Вальтер начинал отдыхать, мысли его стали развиваться, когда явился какой-то злой дух в виде девушки, он околдовал его, и бедный Эйзенберг подчинился тягостному очарованию, из которого не мог вырваться иначе, как впавши в другое очарование, которое, по крайней мере, было для него отрадно: так умер мой Вальтер. Есть же такие несчастные люди. Право, мне кажется, что природа, наделив его огромными силами, сама испугалась, испугалась, чтоб он не открыл тайн ее, и возбудила на него противные власти, дав ему сверх того этот несчастный ипохондрический характер. Так говорил Карл, и трубка была забыта, и чай стыл в его чашке.И. С. Тургенев ПРИЗРАКИ фантазия
Миг один… и нет волшебной сказки — И душа опять полна возможным…А. Фет
I
Я долго не мог заснуть и беспрестанно переворачивался с боку на бок. «Черт бы побрал эти глупости с вертящимися столами! — подумал я, — только нервы расстраивать…» Дремота начала наконец одолевать меня… Вдруг мне почудилось, как будто в комнате слабо и жалобно прозвенела струна. Я приподнял голову. Луна стояла низко на небе и прямо глянула мне в глаза. Белый как мел лежал ее свет на полу… Явственно повторился странный звук. Я оперся на локоть. Легкий страх щипнул меня за сердце. Прошла минута, другая… Где-то далеко прокричал петух; еще дальше отозвался другой. Я опустил голову на подушку. «Вот до чего можно довести себя, — подумал я опять, — в ушах звенеть станет». Спустя немного я заснул — или мне казалось, что я заснул. Мне привиделся необыкновенный сон. Мне чудилось, что я лежу в моей спальне, на моей постели — и не сплю и даже глаз не могу закрыть. Вот опять раздается звук… Я оборачиваюсь… След луны на полу начинает тихонько приподниматься, выпрямляется, слегка округляется сверху… Передо мной, сквозя как туман, неподвижно стоит белая женщина. — Кто ты? — спрашиваю я с усилием. Голос отвечает, подобный шелесту листьев: — Это я… я… я… Я пришла за тобой. — За мной? Да кто ты? — Приходи ночью на угол леса, где старый дуб. Я там буду. Я хочу вглядеться в черты таинственной женщины — вдруг невольно вздрагиваю: на меня пахнуло холодом. И вот я уже не лежу, а сижу в своей постели — и там, где, казалось, стоял призрак, свет луны белеется длинной чертою на полу.II
День прошел кое-как. Я, помнится, принимался читать, работать… ничего не клеилось. Настала ночь. Сердце билось во мне, как будто ждало чего-то. Я лег и повернулся лицом к стене. — Отчего же ты не пришел? — раздался в комнате явственный шепот. Я быстро оглянулся. Опять она… опять таинственный призрак. Неподвижные глаза на неподвижном лице — и взор исполнен печали. — Приходи! — слышится снова шепот. — Приду, — отвечаю я с невольным ужасом. Призрак тихо качнулся вперед, смешался весь, легко волнуясь, как дым, — и луна опять мирно забелела на гладком полу.III
Я провел день в волнении. За ужином я выпил почти целую бутылку вина, вышел было на крыльцо, но вернулся и бросился в постель. Кровь тяжело колыхалась во мне. Опять послышался звук… Я вздрогнул, но не оглянулся. Вдруг я почувствовал, что кто-то тесно обнял меня сзади и в самое ухо мне лепечет: «Приди, приди, приди…» Затрепетав от испуга, я простонал: — Приду! — и выпрямился. Женщина стояла наклонясь возле самого моего изголовья. Она слабо улыбнулась и исчезла. Я, однако, успел разглядеть ее лицо. Мне показалось, что я видел ее прежде; но где, когда? Я встал поздно и целый день бродил по полям, подходил к старому дубу на окраине леса и внимательно осматривался кругом. Перед вечером я сел у раскрытого окна в своем кабинете. Старуха ключница поставила передо мною чашку чаю — но я не прикасался к ней… Я все недоумевал и спрашивал себя: «Не с ума ли я схожу?» Солнце только что закатилось — и не одно небо зарделось — весь воздух внезапно наполнился каким-то почти неестественным багрянцем: листья и травы, словно покрытые свежим лаком, не шевелились; в их окаменелой неподвижности, в резкой яркости их очертаний, в этом сочетании сильного блеска и мертвой тишины было что-то странное, загадочное. Довольно большая серая птица вдруг, безо всякого шума, прилетела и села на самый край окна… Я посмотрел на нее — и она посмотрела на меня сбоку своим круглым темным глазом. «Уж не прислали ли тебя, чтобы напомнить?» — подумал я. Птица тотчас взмахнула своими мягкими крыльями и улетела по-прежнему без шума. Я долго еще сидел у окна, но я уже не предавался недоуменью: я как будто попал в заколдованный круг — и неодолимая, хотя тихая сила увлекла меня, подобно тому как, еще задолго до водопада, стремление потока увлекает лодку. Я встрепенулся наконец. Багрянец воздуха давно исчез, краски потемнели, и прекратилась заколдованная тишина. Ветерок запорхал, луна все ярче выступала на посиневшем небе, — и скоро листья деревьев заиграли серебром и чернью в ее холодных лучах. Моя старуха вошла в кабинет с зажженной свечкой, но из окна дохнуло на нее — и пламя погасло. Я не мог выдержать более, вскочил, нахлобучил шапку и отправился на угол леса к старому дубу.IV
В этот дуб, много лет тому назад, ударила молния; верхушка переломилась и засохла, но жизни еще сохранилось в нем на несколько столетий. Когда я стал подходить к нему, на луну набежала тучка: было очень темно под его широкими ветвями. Сперва я не заметил ничего особенного; но взглянул в сторону — и сердце во мне так и упало: белая фигура стояла неподвижно возле высокого куста, между дубом и лесом. Волосы слегка зашевелились у меня на голове; но я собрался с духом — и пошел к лесу. Да, это была она, моя ночная гостья. Когда я приблизился к ней, месяц засиял снова. Она казалась вся как бы соткана из полупрозрачного, молочного тумана — сквозь ее лицо мне виднелась ветка, тихо колеблемая ветром, — только волосы да глаза чуть-чуть чернели, да на одном из пальцев сложенных рук блистало бледным золотом узкое кольцо. Я остановился перед нею и хотел заговорить; но голос замер у меня в груди, хотя, собственно, страха я уже не ощущал. Ее глаза обратились на меня: взгляд их выражал не скорбь и не радость, а какое-то безжизненное внимание. Я ждал, не произнесет ли она слова, но она оставалась неподвижной и безмолвной и все глядела на меня своим мертвенно-пристальным взглядом. Мне опять стало жутко. — Я пришел! — воскликнул я наконец с усилием. Глухо и чудно раздался мой голос. — Я тебя люблю, — послышался шепот. — Ты меня любишь! — повторил я с изумлением. — Отдайся мне, — снова прошелестело мне в ответ. — Отдаться тебе! Но ты призрак — у тебя и тела нет. — Странное одушевление овладело мною. — Что ты такое, дым, воздух, пар? Отдаться тебе! Отвечай мне сперва, кто ты? Жила ли ты на земле? Откуда ты явилась? — Отдайся мне. Я тебе зла не сделаю. Скажи только два слова: возьми меня. Я посмотрел на нее. «Что это она говорит? — подумал я. — Что это все значит? И как же она возьмет меня? Или попытаться?» — Ну, хорошо, — произнес я вслух и неожиданно громко, словно кто сзади меня подтолкнул. — Возьми меня! Не успел я произнести эти слова, как таинственная фигура с каким-то внутренним смехом, от которого на миг задрожало ее лицо, покачнулась вперед, руки ее отделились и протянулись… Я хотел было отскочить; но я уже был в ее власти. Она обхватила меня, тело мое поднялось на пол-аршина от земли — и мы оба понеслись плавно и не слишком быстро над неподвижной мокрой травой.V
Сперва у меня голова закружилась — и я невольно закрыл глаза… Минуту спустя я открыл их снова. Мы неслись по-прежнему. Но уже леса не было видно; под нами расстилалась равнина, усеянная темными пятнами. Я с ужасом убедился, что мы поднялись на страшную высоту. «Я пропал, я во власти сатаны», — сверкнуло во мне, как молния. До того мгновенья мысль о наважденье нечистой силы, о возможности погибели мне в голову не приходила. Мы всё мчались и, казалось, забирали все выше и выше. — Куда ты несешь меня? — простонал я наконец. — Куда хочешь, — отвечала моя спутница. Она вся прильнула ко мне; лицо ее почти прислонилось к моему лицу. Впрочем, я едва ощущал ее прикосновение. — Опусти меня на землю; мне дурно на этой высоте. — Хорошо; только закрой глаза и не дыши. Я послушался — и тотчас же почувствовал, что падаю, как брошенный камень… воздух засвистал в моих волосах. Когда я опомнился, мы опять плавно неслись над самой землей, так что цеплялись за верхушки высоких трав. — Поставь меня на ноги, — начал я. — Что за удовольствие летать? Я не птица. — Я думала, что тебе приятно будет. У нас другого занятия нет. — У вас? Да кто вы такие? Ответа не было. — Ты не смеешь мне это сказать? Жалобный звук, подобный тому, который разбудил меня в первую ночь, задрожал в моих ушах. Между тем мы продолжали чуть заметно двигаться по влажному ночному воздуху. — Пусти же меня! — промолвил я. Спутница моя тихо отклонилась — и я очутился на ногах. Она остановилась передо мной и снова сложила руки. Я успокоился и посмотрел ей в лицо. По-прежнему оно выражало покорную грусть. — Где мы? — спросил я. Я не узнавал окрестных мест. — Далеко от твоего дома, но ты можешь быть там в одно мгновенье. — Каким это образом? опять довериться тебе? — Я не сделала тебе зла и не сделаю. Полетаем с тобой до зари, вот и все. Я могу тебя отнести, куда только ты вздумаешь — во все края земли. Отдайся мне! Скажи опять: возьми меня! — Ну… возьми меня! Она опять припала ко мне, ноги мои опять отделились от земли — и мы полетели.VI
— Куда? — спросила она меня. — Прямо, все прямо. — Но тут лес? — Поднимись над лесом — только тише. Мы взмыли кверху, как вальдшнеп, налетевший на березу, — и опять понеслись в прямом направлении. Вместо травы вершины деревьев мелькали у нас под ногами. Чудно было видеть лес сверху, его щетинистую спину, освещенную луной. Он казался каким-то огромным, заснувшим зверем и сопровождал нас широким, непрестанным шорохом, похожим на невнятное ворчанье. Кое-где попадалась небольшая поляна; красиво чернела с одной ее стороны зубчатая полоса тени… Заяц изредка жалобно кричал внизу; вверху сова свистала, тоже жалобно; в воздухе пахло грибами, почками, зорей-травою; лунный свет так и разливался во все стороны — холодно и строго; «стожары» блистали над самой головой. Вот и лес остался назади; в поле протянулась полоса тумана: это река текла. Мы понеслись вдоль одного из ее берегов над кустами, отяжелевшими и неподвижными от сырости. Волны на реке то лоснились синим лоском, то катились темные и словно злые. Местами странно двигался над ними тонкий пар — и чашки водяных лилий девственно и пышно белели всеми своими распустившимися лепестками, точно знали, что до них добраться невозможно. Мне вздумалось сорвать одну из них — и вот я уже очутился над самой гладью реки… Сырость неприязненно ударила мне в лицо, как только я перервал тугой стебель крупного цветка. Мы начали перелетывать с берега на берег, как кулички-песочники, которых мы то и дело будили и за которыми гнались. Нам не раз случалось налетать на семейку диких уток, расположенных кружком на чистом местечке между тростниками, — но они не шевелились: разве одна из них торопливо вынет шею из-под крыла, посмотрит-посмотрит и хлопотливо засунет опять нос в пушистые перья, а другая слабо крякнет, причем все ее тело немножко дрогнет. Мы вспугнули одну цаплю: она поднялась из ракитового куста, болтая ногами и с неуклюжим усилием махая крыльями; тут она мне показалась действительно похожей на немца. Рыба нигде не плескалась — спала тоже. Я начинал привыкать к ощущению полета и даже находил в нем приятность: меня поймет всякий, кому случалось летать во сне. Я принялся с большим вниманием рассматривать странное существо, по милости которого со мной совершались такие неправдоподобные события.VII
Это была женщина с маленьким, нерусским лицом. Иссера-беловатое, полупрозрачное, с едва означенными тенями, оно напоминало фигуры на алебастровой, извнутри освещенной вазе — и опять показалось мне знакомым. — Можно с тобой говорить? — спросил я. Говори. — Я вижу у тебя кольцо на пальце; ты, стало быть, жила на земле — ты была замужем? Я остановился… Ответа не было. — Как тебя зовут — или звали по крайней мере? — Зови меня Эллис. — Эллис! Это английское имя! Ты англичанка? Ты знала меня прежде? — Нет. — Отчего же ты именно ко мне явилась? — Я тебя люблю. — И ты довольна? — Да; мы носимся, мы кружимся с тобою по чистому воздуху. — Эллис! — сказал я вдруг, — ты, может быть, преступная, осужденная душа? Голова моей спутницы наклонилась. — Я тебя не понимаю, — шепнула она. — Заклинаю тебя именем бога… — начал было я. — Что ты говоришь? — промолвила она с недоумением. — Я не понимаю. — Мне показалось, что рука, лежавшая холодноватым поясом вокруг моего стана, тихо шевельнулась… — Не бойся, — промолвила Эллис, — не бойся, мой милый! — Ее лицо обернулось и придвинулось к моему лицу… Я почувствовал на губах моих какое-то странное ощущение, как бы прикосновение тонкого и мягкого жала… Незлые пиявки так берутся.VIII
Я взглянул вниз. Мы уже опять успели подняться на довольно значительную вышину. Мы пролетали над неизвестным мне уездным городом, расположенным на скате широкого холма. Церкви высились среди темной массы деревянных крыш, фруктовых садов; длинный мост чернел на изгибе реки; все молчало, отягченное сном. Самые купола и кресты, казалось, блестели безмолвным блеском; безмолвно торчали высокие шесты колодцев возле круглых шапок ракит; белесоватое шоссе узкой стрелой безмолвно впивалось в один конец города — и безмолвно выбегало из противоположного конца на сумрачный простор однообразных полей. — Что это за город? — спросил я. — …сов. — …сов в…ой губернии? — Да. — Далеко же я от дому! — Для нас отдаленности нет. — В самом деле? — Внезапная удаль вспыхнула во мне. — Так неси же меня в Южную Америку! — В Америку не могу. Там теперь день. — А мы с тобой ночные птицы. Ну, куда-нибудь, куда можно, только подальше. — Закрой глаза и не дыши, — отвечала Эллис, — и мы помчались с быстротою вихря. С потрясающим шумом врывался воздух в мои уши. Мы остановились, но шум не прекращался. Напротив: он превратился в какой-то грозный рев, в громовой гул… — Теперь можешь открыть глаза, — сказала Эллис.IX
Я повиновался… Боже мой, где я? Над головой тяжелые дымные тучи; они теснятся, они бегут, как стадо злобных чудовищ… а там, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъяренное море… Белая пена судорожно сверкает и кипит на нем буграми — и, вздымая косматые волны, с грубым грохотом бьет оно в громадный, как смоль черный, утес. Завывание бури, леденящее дыхание расколыхавшейся бездны, тяжкий плеск прибоя, в котором по временам чудится что-то похожее на вопли, на далекие пушечные выстрелы, на колокольный звон — раздирающий визг и скрежет прибрежных голышей, внезапный крик невидимой чайки, на мутном небосклоне шаткий остов корабля — всюду смерть, смерть и ужас… Голова у меня закружилась — и я снова с замиранием закрыл глаза… — Что это! где мы? — На южном берегу острова Уайт, перед утесом Блакганг, где так часто разбиваются корабли, — промолвила Эллис, на этот раз особенно отчетливо и, как мне показалось, не без злорадства… — Неси меня прочь, прочь отсюда… домой! домой! Я сжался весь, стиснул лицо руками… Я чувствовал, что мы понеслись еще быстрее прежнего; ветер уже не выл и не свистал — он визжал в моих волосах, в моем платье… дух захватывало… — Стань же на ноги, — раздался голос Эллис. Я силился овладеть собою, своим сознанием… Я ощущал под подошвами землю и не слышал ничего, точно все замерло кругом… только в виски неровно стучала кровь и с слабым внутренним звоном все еще кружилась голова. Я выпрямился и открыл глаза.X
Мы находились на плотине моего пруда. Прямо передо мною, сквозь острые листья ракит, виднелась его широкая гладь с кое-где приставшими волокнами пушистого тумана. Направо тускло лоснилось ржаное поле; налево вздымались деревья сада, длинные, неподвижные и как будто сырые… Утро уже дохнуло на них. По чистому серому небу тянулись, словно полосы дыма, две-три косые тучки; они казались желтоватыми — первый слабый отблеск зари падал на них бог весть откуда: глаз еще не мог различить на побелевшем небосклоне то место, где она должна была заняться. Звезды исчезали; ничего еще не шевелилось, хотя все уже просыпалось в очарованной тишине раннего полусвета. — Утро! вот утро! — воскликнула над самым моим ухом Эллис… — Прощай! До завтра! Я обернулся… Легко отделяясь от земли, она плыла мимо и вдруг подняла обе руки над головою. Эта голова, и руки, и плечи мгновенно вспыхнули телесным, теплым цветом; в темных глазах дрогнули живые искры; усмешка тайной неги шевельнула покрасневшие губы. Прелестная женщина внезапно возникла передо мною. Но, как бы падая в обморок, она тотчас опрокинулась назад и растаяла, как пар. Я остался недвижим. Когда я опомнился и оглянулся, мне показалось, что телесная, бледно-розовая краска, пробежавшая по фигуре моего призрака, все еще не исчезла и, разлитая в воздухе, обдавала меня кругом… Это заря загоралась. Я вдруг почувствовал крайнюю усталость и отправился домой. Проходя мимо птичьего двора, я услыхал первое утреннее лепетанье гусенят (раньше их ни одна птица не просыпается); вдоль крыши на конце каждой притужины сидело по галке — и все они хлопотливо и молча очищались, четко рисуясь на молочном небе. Изредка они разом все поднимались — и, полетав немного, садились опять рядком, без крика… Из недальнего леса два раза принеслось сипло-свежее чуфыканье черныша-тете-рева, только что слетевшего в росистую, ягодами заросшую траву… С легкой дрожью в теле я добрался до постели и скоро заснул крепким сном.XI
На следующую ночь, когда я стал подходить к старому дубу, Эллис понеслась мне навстречу, как к знакомому. Я не боялся ее по-вчерашнему, я почти обрадовался ей; я даже не старался понять, что со мной происходило: мне только хотелось полетать подальше, по любопытным местам. Рука Эллис опять обвилась вокруг меня — и мы опять помчались. — Отправимся в Италию, — шепнул я ей на ухо. — Куда хочешь, мой милый, — отвечала она торжественно и тихо — и тихо и торжественно повернула ко мне свое лицо. Оно показалось мне не столь прозрачным, как накануне; более женственное и более важное, оно напомнило мне то прекрасное создание, которое мелькнуло передо мной на утренней заре перед разлукой. — Нынешняя ночь — великая ночь, — продолжала Эллис. — Она наступает редко — когда семь раз тринадцать…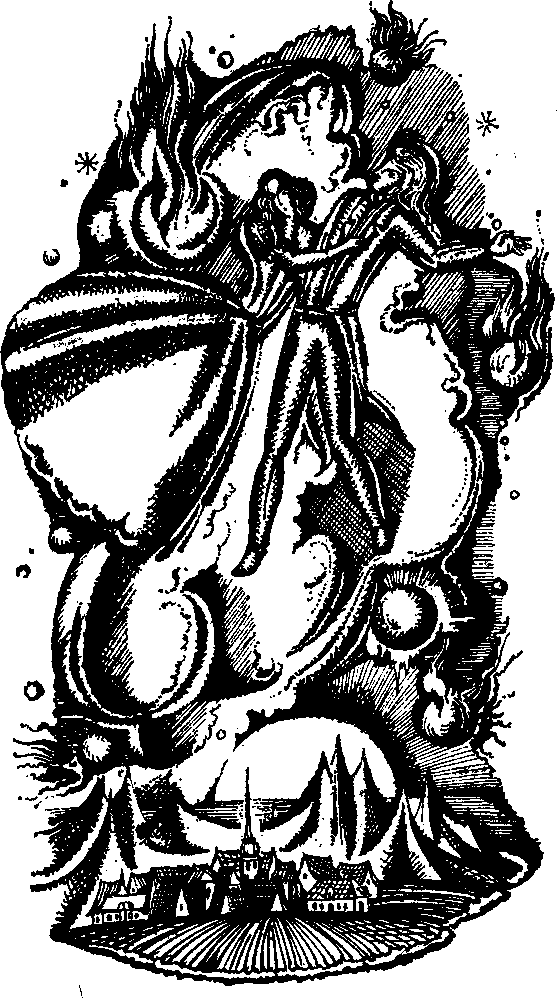 Тут я не дослушал несколько слов.
— Теперь можно видеть, что бывает закрыто в другое время.
— Эллис! — взмолился я, — да кто же ты? скажи мне наконец!
Она молча подняла свою длинную белую руку.
На темном небе, там, куда указывал ее палец, среди мелких звезд красноватой чертой сияла комета.
— Как мне понять тебя? — начал я. — Или ты — как эта комета носится между планетами и солнцем — носишься между людьми… и чем?
Но рука Эллис внезапно надвинулась на мои глаза… Словно белый туман из сырой долины обдал меня…
— В Италию! в Италию! — послышался ее шепот. — Эта ночь — великая ночь!
Тут я не дослушал несколько слов.
— Теперь можно видеть, что бывает закрыто в другое время.
— Эллис! — взмолился я, — да кто же ты? скажи мне наконец!
Она молча подняла свою длинную белую руку.
На темном небе, там, куда указывал ее палец, среди мелких звезд красноватой чертой сияла комета.
— Как мне понять тебя? — начал я. — Или ты — как эта комета носится между планетами и солнцем — носишься между людьми… и чем?
Но рука Эллис внезапно надвинулась на мои глаза… Словно белый туман из сырой долины обдал меня…
— В Италию! в Италию! — послышался ее шепот. — Эта ночь — великая ночь!
XII
Туман перед моими глазами рассеялся, и я увидал под собою бесконечную равнину. Но уже по одному прикосновению теплого и мягкого воздуха к моим щекам я мог понять, что я не в России; да и равнина та не походила на наши русские равнины. Это было огромное тусклое пространство, по-видимому, не поросшее травой и пустое; там и сям, по всему его протяжению, подобно небольшим обломкам зеркала, блистали стоячие воды; вдали смутно виднелось неслышное, недвижное море. Крупные звезды сияли в промежутках больших красивых облаков; тысячеголосная, немолчная и все-таки негромкая трель поднималась отовсюду — и чуден был этот пронзительный и дремотный гул, этот ночной голос пустыни… — Понтийские болота, — промолвила Эллис. — Слышишь лягушек? чувствуешь запах серы? — Понтийские болота… — повторил я, и ощущение величавой унылости охватило меня. — Но зачем принесла ты меня сюда, в этот печальный, заброшенный край? Полетим лучше к Риму. — Рим близок, — отвечала Эллис… — Приготовься! Мы спустились и помчались вдоль старинной латинской дороги. Буйвол медленно поднял из вязкой тины свою косматую чудовищную голову с короткими вихрами щетины между криво назад загнутыми рогами. Он косо повел белками бессмысленно злобных глаз и тяжело фыркнул мокрыми ноздрями, словно почуял нас. — Рим, Рим близок… — шептала Эллис. — Гляди, гляди вперед. Я поднял глаза. Что это чернеет на окраине ночного неба? Высокие ли арки громадного моста? Над какой рекой он перекинут? Зачем он порван местами? Нет, это не мост, это древний водопровод. Кругом священная земля Кампании, а там, вдали, Альбанские горы — и вершины их, и седая спина старого водопровода слабо блестят в лучах только что взошедшей луны… Мы внезапно взвились и повисли на воздухе перед уединенной развалиной. Никто бы не мог сказать, чем она была прежде: гробницей, чертогом, башней… Черный плющ обливал ее всю своей мертвенной силой — а внизу раскрывался, как зев, полуобрушенный свод. Тяжелым запахом погреба веяло мне в лицо от этой груды мелких, тесно сплоченных камней, с которых давно свалилась гранитная оболочка стены. — Здесь, — произнесла Эллис и подняла руку. — Здесь! Проговори громко, три раза сряду, имя великого римлянина. — Что же будет? — Ты увидишь. Я задумался. — Divus Cajus Julius Caesar!..[24] — воскликнул я вдруг, — diyus Cajus Julius Caesar! — повторил я протяжно: — Caesar!XIII
Последние отзвучия моего голоса не успели еще замереть, как мне послышалось… Мне трудно сказать, что именно. Сперва мне послышался смутный, ухом едва уловимый, но бесконечно повторявшийся взрыв трубных звуков и рукоплесканий. Казалось, где-то страшно далеко, в какой-то бездонной глубине, внезапно зашевелилась несметная толпа — и поднималась, поднималась, волнуясь и перекликаясь чуть слышно, как бы сквозь сон, сквозь подавляющий, многовековный сон. Потом воздух заструился и потемнел над развалиной… Мне начали мерещиться тени, мириады теней, миллионы очертаний, то округленных, как эти шлемы, то протянутых, как копья; лучи луны дробились мгновенными синеватыми искорками на этих копьях и шлемах — и вся эта армия, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, колыхалась усиленно… Несказанное напряжение, напряжение, достаточное для того, чтобы приподнять целый мир, чувствовалось в ней; но ни один образ не выдавался ясно… И вдруг мне почудилось, как будто трепет пробежал кругом, как будто отхлынули и расступились какие-то громадные волны… «Caesar, Caesar venit»[25], — зашумели голоса, подобно листьям леса, на который внезапно налетела буря… Прокатился глухой удар — и голова бледная, строгая, в лавровом венке, с опущенными веками, голова императора стала медленно выдвигаться из-за развалины… На языке человеческом нету слов для выражения ужаса, который сжал мое сердце. Мне казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы — и я тотчас же умру. — Эллис! — простонал я, — я не хочу, я не могу, не надо мне Рима, грубого, грозного Рима… Прочь, прочь отсюда! — Малодушный! — шепнула она, — и мы умчались. Я успел еще услыхать за собою железный, громовый на этот раз, крик легионов… Потом все потемнело.XIV
— Оглянись, — сказала мне Эллис, — и успокойся. Я послушался — и, помню, первое мое впечатление было до того сладостно, что я мог только вздохнуть. Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкий — не то свет, не то туман — обливал меня со всех сторон. Сперва я не различал ничего: меня слепил этот лазоревый блеск — но вот понемногу начали выступать очертания прекрасных гор, лесов; озеро раскинулось подо мною с дрожавшими в глубине звездами, с ласковым ропотом прибоя. Запах померанцев обдал меня волной — и вместе с ним и тоже как будто волною принеслись сильные, чистые звуки молодого женского голоса. Этот запах, эти звуки так и потянули меня вниз — и я начал спускаться… спускаться к роскошному мраморному дворцу, приветно белевшему среди кипарисной рощи. Звуки лились из его настежь раскрытых окон; волны озера, усеянного пылью цветов, плескались в его стены — и прямо напротив, весь одетый темной зеленью померанцев и лавров, весь облитый лучезарным паром, весь усеянный статуями, стройными колоннами, портиками храмов, поднимался из лона вод высокий круглый остров… — Isola Bella[26] — проговорила Эллис. — Lago Maggiore… Я промолвил только: а! и продолжал спускаться. Женский голос все громче, все ярче раздавался во дворце; меня влекло к нему неотразимо… я хотел взглянуть в лицо певице, оглашавшей такими звуками такую ночь. Мы остановились перед окном. Посреди комнаты, убранной в помпейяновском вкусе и более похожей на древнюю храмину, чем на новейшую залу, окруженная греческими изваяниями, этрусскими вазами, редкими растениями, дорогими тканями, освещенная сверху мягкими лучами двух ламп, заключенных в хрустальные шары, — сидела за фортепьянами молодая женщина. Слегка закинув голову и до половины закрыв глаза, она пела итальянскую арию, она пела и улыбалась, и в то же время черты ее выражали важность, даже строгость… признак полного наслаждения! Она улыбалась… и Праксителев Фавн, ленивый, молодой, как она, изнеженный, сладострастный, тоже, казалось, улыбался ей из угла, из-за ветвей олеандра, сквозь тонкий дым, поднимавшийся с бронзовой курильницы на древнем треножнике. Красавица была одна. Очарованный звуками, красотою, блеском и благоговением ночи, потрясенный до глубины сердца зрелищем этого молодого, спокойного, светлого счастия, я позабыл совершенно о моей спутнице, забыл о том, каким странным образом я стал свидетелем этой столь отдаленной, столь чуждой мне жизни, — и я хотел уже ступить на окно, хотел заговорить… Все мое тело вздрогнуло от сильного толчка — точно я коснулся лейденской банки. Я оглянулся… Лицо Эллис было — при всей своей прозрачности — мрачно и грозно; в ее внезапно раскрывшихся глазах тускло горела злоба… — Прочь! — бешено шепнула она, и снова вихрь и мрак, и головокружение… Только на этот раз не крик легионов, а голос певицы, оборванный на высокой ноте, остался у меня в ушах… Мы остановились. Высокая нота, та же нота, все звенела и не переставала звенеть, хотя я чувствовал совсем другой воздух, другой запах… На меня веяло крепительной свежестью, как от большой реки, — и пахло сеном, дымом, коноплей. За долго протянутой нотой последовала другая, потом третья, но с таким несомненным оттенком, с таким знакомым, родным переливом, что я тотчас же сказал себе: «Это русский человек поет русскую песню» — и в то же мгновенье мне все кругом стало ясно.XV
Мы находились над плоским берегом. Налево тянулись, терялись в бесконечность скошенные луга, уставленные громадными скирдами; направо, в такую же бесконечность уходила ровная гладь великой многоводной реки. Недалеко от берега большие темные барки тихонько переваливались на якорях, слегка двигая остриями своих мачт, как указательными перстами. С одной из этих барок долетали до меня звуки разливистого голоса, и на ней же горел огонек, дрожа и покачиваясь в воде своим длинным красным отраженьем. Кое-где, и на реке и в полях, непонятно для глаза — близко ли, далеко ли — мигали другие огоньки; они то жмурились, то вдруг выдвигались лучистыми крупными точками, бесчисленные кузнечики немолчно стрекотали, не хуже лягушек понтийских болот — и под безоблачным, но низко нависшим темным небом изредка кричали неведомые птицы. — Ми в России? — спросил я Эллис. — Это Волга, — отвечала она. Мы понеслись вдоль берега. — Отчего ты меня вырвала оттуда, из того прекрасного края? — начал я. — Завидно тебе стало, что ли? Уж не ревность ли в тебе пробудилась? Губы Эллис чуть-чуть дрогнули, и в глазах опять мелькнула угроза… Но все лицо тотчас же вновь оцепенело. — Я хочу домой, — проговорил я. — Погоди, погоди, — отвечала Эллис. — Теперешняя ночь — великая ночь. Она не скоро вернется. Ты можешь быть свидетелем… Погоди. И мы вдруг полетели через Волгу, в косвенном направлении, над самой водой, низко и порывисто, как ласточки перед бурей. Широкие волны тяжко журчали под нами, резкий речной ветер бил нас своим холодным, сильным крылом… высокий правый берег скоро начал воздыматься перед нами в полумраке. Показались крутые горы с большими расселинами. Мы приблизились к ним. — Крикни: «Сарынь на кичку!» — шепнула мне Эллис. Я вспомнил ужас, испытанный мною при появлении римских призраков, я чувствовал усталость и какую-то странную тоску, словно сердце во мне таяло, — я не хотел произнести роковые слова, я знал заранее, что в ответ на них появится, как в Волчьей Долине Фрейшюца, что-то чудовищное, — но губы мои раскрылись против воли, и я закричал, тоже против воли, слабым напряженным голосом: «Сарынь на кичку!»XVI
Сперва все осталось безмолвным, как и перед римской развалиной, — но вдруг возле самого моего уха раздался грубый бурлацкий смех — и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться… Я оглянулся: никого нигде не было видно, но с берега отпрянуло эхо — и разом и отовсюду поднялся оглушительный гам. Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего, удары весел и топоров, треск как от взлома дверей и сундуков, скрып снастей и колес, и лошадиное скакание, звон набата и лязг цепей, гул и рев пожара, пьяные песни и скрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление жалобное, отчаянное, и повелительные восклицанья, предсмертное хрипенье, и удалой посвист, гарканье и топот пляски… «Бей! вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалей!»— слышалось явственно, слышалось даже прерывистое дыхание запыхавшихся людей, — а между тем кругом, насколько глаз доставал, ничего не показывалось, ничего не изменялось: река катилась мимо, таинственно, почти угрюмо; самый берег казался пустынней и одичалей — и только. Я обратился к Эллис, но она положила палец на губы… — Степан Тимофеич! Степан Тимофеич идет! — зашумело вокруг, — идет наш батюшка, атаман наш, наш кормилец! — Я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня… — Фролка! где ты, пес? — загремел страшный голос. — Зажигай со всех концов — да в топоры их, белоручек! На меня пахнуло жаром близкого пламени, горькой гарью дыма — и в то же мгновенье что-то теплое, словно кровь, брызнуло мне в лицо и на руки… Дикий хохот грянул кругом… Я лишился чувств — и когда опомнился, мы с Эллис тихо скользили вдоль знакомой опушки моего леса, прямо к старому дубу… — Видишь ту дорожку? — сказала мне Эллис, — там, где месяц тускло светит и свесились две березки?.. Хочешь туда? Но я чувствовал себя до того разбитым и истощенным, что я мог только проговорить в ответ: — Домой… домой!.. — Ты дома, — отвечала Эллис. Я действительно стоял перед самой дверью моего дома — один. Эллис исчезла. Дворовая собака подошла было, подозрительно оглянула меня — и с воем бросилась прочь. Я с трудом дотащился до постели и гаснул, не раздеваясь.XVII
Все следующее утро у меня голова болела, и я едва передвигал ноги; но я не обращал внимания на телесное мое расстройство, раскаяние меня грызло, досада душила. Я был до крайности недоволен собою. «Малодушный! — твердил я беспрестанно, — да, Эллис права. Чего я испугался? как было не воспользоваться случаем?.. Я мог увидеть самого Цезаря — и я замер от страха, я запищал, я отвернулся, как ребенок от розги. Ну, Разин — это дело другое. В качестве дворянина и землевладельца… Впрочем, и тут, чего же я, собственно, испугался? Малодушный, малодушный!..» — Да уж не во сне ли я все это вижу? — спросил я себя наконец. Я позвал ключницу. — Марфа, в котором часу я лег вчера в постель — не помнишь? — Да кто ж тебя знает, кормилец… Чай, поздно. В сумеречки из дома вышел; а в спальне-то ты каблучищами-то заполночь стукал. Под самое под утро — да. Вот и третьего дня тож. Знать, забота у тебя завелась какая. «Эге-ге! — подумал я. — Летанье-то, значит, не подлежит сомнению». — Ну, а с лица я сегодня каков? — прибавил я громко. — Слица-то? Дай погляжу. Осунулся маленько. Да и бледен же ты, кормилец: вот как есть ни кровинки в лице. Меня слегка покоробило… Я отпустил Марфу. «Ведь этак умрешь, пожалуй, или сойдешь с ума, — рассуждал я, сидя в раздумье под окном. — Надо это все бросить. Это опасно. Вон и сердце как странно бьется. А когда я летаю, мне все кажется, что его кто-то сосет или как будто из него что-то сочится, — вот как весной сок из березы, если воткнуть в нее топор. А все-таки жалко. Да и Эллис… Она играет со мной, как кошка с мышью… а впрочем, едва ли она желает мне зла. Отдамся ей в последний раз — нагляжусь — а там… Но если она пьет мою кровь? Это ужасно. Притом такое быстрое передвижение не может не быть вредным; говорят, и в Англии, на железных дорогах, запрещено ехать более ста двадцати верст в час…» Так я размышлял с самим собою — но в десятом часу вечера я уже стоял перед старым дубом.XVIII
Ночь была холодная, тусклая, серая; в воздухе пахло дождем. К удивлению моему, я никого не нашел под дубом; я прошелся несколько раз вокруг, доходил до опушки леса, возвращался, тщательно вглядывался в темноту… Все было пусто. Я подождал немного, потом несколько раз сряду произнес имя Эллис все громче и громче… но она не появлялась. Мне стало грустно, почти больно; прежние мои опасенья исчезли: я не мог примириться с мыслью, что моя спутница уже не вернется ко мне. — Эллис! Эллис! приди же! Неужели ты не придешь? — закричал я в последний раз. Ворон, которого мой голос разбудил, внезапно завозился в вершине соседнего дерева и, путаясь в ветвях, захлопал крыльями… Но Эллис не появлялась. Понурив голову, я отправился домой. Впереди уже чернели ракиты на плотине пруда, и свет в окне моей комнаты мелькнул между яблонями сада, мелькнул — и скрылся, словно глаз человека, который бы меня караулил, — как вдруг сзади меня послышался тонкий свист; быстро рассекаемого воздуха, и что-то разом обняло и подхватило меня снизу вверх: кобчик так подхватывает когтем, «чокает» перепела… Это Эллис на меня налетела. Я почувствовал ее щеку на моей щеке, кольцо ее руки вокруг моего тела — и как острый холодок вонзился мне в ухо ее шепот: «Вот и я». Я и испугался и обрадовался в одно в то же время… Мы неслись не-высоко над землей. — Ты не хотела прийти сегодня? — промолвил я. — А ты соскучился по мне? Ты меня любишь? О, ты мой! Последние слова Эллис меня смутили… Я не знал, что сказать. — Меня задержали, — продолжала она, — меня караулили. — Кто мог тебя задержать? — Куда ты хочешь? — спросила Эллис, по обыкновению не отвечая на мой вопрос. — Понеси меня в Италию, к тому озеру — помнишь? Эллис слегка отклонилась и отрицательно покачала головой. Тут я в первый раз заметил, что она перестала быть прозрачной. И лицо ее как будто окрасилось; по туманной его белизне разливался алый оттенок. Я взглянул в ее глаза… и мне стало жутко: в этих глазах что-то двигалось — медленным, безостановочным и зловещим движением свернувшейся и застывшей змеи, которую начинает отогревать солнце. — Эллис! — воскликнул я, — кто ты? Скажи же мне, кто ты? Эллис только плечом пожала. Мне стало досадно… мне захотелось отомстить ей, — и вдруг мне пришло на ум велеть ей перенестись со мною в Париж. «Вот уж где придется тебе ревновать», — подумал я. — Эллис! — промолвил я вслух, — ты не боишься больших городов, Парижа, например? — Нет. — Нет? Даже тех мест, где так светло, как на бульварах? — Это не дневной свет. — Прекрасно; так неси же меня сейчас на Итальянский бульвар. Эллис накинула мне на голову конец своего длинного висячего рукава. Меня тотчас охватила какая-то белая мгла с снотворным запахом мака. Все исчезло разом: всякий свет, всякий звук— и самое почти сознание. Одно ощущение жизни осталось — и это не было неприятно. Внезапно мгла исчезла; Эллис сняла рукав с моей головы, и я увидел под собою громаду столпившихся зданий, полную блеска, движения, грохота… Я увидел Париж.XIX
Я прежде бывал в Париже и потому тотчас узнал место, к которому направлялась Эллис. Это был Тюль-ерийский сад, с его старыми каштановыми деревьями, железными решетками, крепостным рвом и звероподобными зуавами на часах. Минуя дворец, минуя церковь св. Роха, на ступенях которой первый Наполеон в первый раз пролил французскую кровь, мы остановились высоко над Итальянским бульваром, где третий Наполеон сделал то же самое и с тем же успехом. Толпы народа, молодые и старые щеголи, блузники, женщины в пышных платьях, теснились по панелям; раззолоченные рестораны и кофейные горели огнями; омнибусы, кареты всех родов и видов сновали вдоль бульвара; все так и кипело, так и сияло, все, куда ни падал взор… Но, странное дело! Мне не захотелось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь, не захотелось приблизиться к этому человеческому муравейнику. Казалось, горячий, тяжелый, рдяный пар поднимался оттуда, не то пахучий, не то смрадный: уж очень много жизней сбилось там в одну кучу. Я колебался… Но вот резкий, как лязг железных полос, голос уличной лоретки внезапно долетел до меня; как наглый язык, высунулся он наружу, этот голос; он кольнул меня, как жало гадины. Я тотчас представил себе каменное, скуластое, жадное, плоское парижское лицо, ростовщичьи глаза, белила, румяны, взбитые волосы и букет ярких поддельных цветов под остроконечной шляпой, выскребленные ногти вроде когтей, безобразный кринолин… Я представил себе также и нашего брата степняка, бегущего дрянной припрыжкой за продажной куклой… Я представил себе, как он, конфузясь до грубости и насильственно картавя, старается подражать в манерах гарсонам Вефура, пищит, подслуживается, юлит — и чувство омерзения охватило меня… «Нет, — подумал я, — здесь Эллис ревновать не придется…» Между тем я заметил, что мы понемногу начали понижаться… Париж вздымался к нам навстречу со всем своим гамом и чадом… — Остановись! — обратился я к Эллис. — Неужели тебе не душно здесь, не тяжело? — Ты сам просил меня перенести тебя сюда. — Я виноват, я беру назад свое слово. Неси меня прочь, Эллис, прошу тебя. Так и есть: вот и князь Кульмаметов ковыляет по бульвару, и друг его, Серж Вараксин, машет ему ручкой и кричит: «Иван Степаныч, аллон супэ[27], скорей, же ангаже[28] самое Ригольбош!» Неси меня прочь от этих мабилей и мезон-доре, от ганденов и бишей, от жокей-клуба и Фигаро, от выбритых солдатских лбов и вылощенных казарм, от сержандевилей с эспаньолками и стаканов мутного абсенту, от игроков в домино по кофейным и игроков на бирже, от красных ленточек в петлице сюртука и в петлице пальто, от господина де Фуа, изобретателя «специальности браков» и даровых консультаций д-ра Шарля Аль-бера, от либеральных лекций и правительственных брошюр, от парижских комедий и парижских опер, от парижских острот и парижского невежества… Прочь! прочь! прочь! — Взгляни вниз, — отвечала мне Эллис, — ты уже не над Парижем. Я опустил глаза… Точно. Темная равнина, кой-где пересеченная беловатыми чертами дорог, быстро бежала под нами, и только назади, на небосклоне, как зарево огромного пожара, било кверху широкое отражение бесчисленных огней мировой столицы.XX
Опять упала пелена на глаза мои… Опять я забылся. Она рассеялась наконец. Что это там внизу? Какой это парк с аллеями стриженых лип, с отдельными елками в виде зонтиков, с портиками и храмами во вкусе помпадур, с изваяниями сатиров и нимф Берниниевской школы, с тритонами рококо на средине изогнутых прудов, окаймленных низкими перилами из почерневшего мрамора? Не Версаль ли это? Нет, это не Версаль. Небольшой дворец, тоже рококо, выглядывает из-за купы кудрявых дубов. Луна неясно светит, окутанная паром, и по земле как будто разостлался тончайший дым. Глаз не может разобрать, что это такое: лунный свет или туман? Вон на одном из прудов спит лебедь: его длинная спина белеет, как снег степей, прохваченных морозом, а вон светляки горят алмазами в голубоватой тени у подножия статуй. — Мы возле Мангейма, — промолвила Эллис, — это Швецингенский сад. «Так мы в Германии!» — подумал я и начал прислушиваться. Все было безмолвно; только где-то уединенно и незримо плескалась и болтала струйка падавшей воды. Казалось, она твердила все одни и те же слова: «Да, да, да, всегда, да». И вдруг мне почудилось, как будто по самой середине одной из аллей, между стенами стриженой зелени, жеманно подавая руку даме в напудренной прическе и пестром роброне, выступал на красных каблуках кавалер, в золоченом кафтане и кружевных манжетках, с легкой стальной шпагой на бедре… Странные, бледные лица… Я хочу вглядеться в них… Но уже все исчезло, и только по-прежнему болтает вода. — Это сны бродят, — шепнула Эллис, — вчера можно было увидеть много… много. Сегодня и сны бегут человеческого глаза. Вперед! Вперед! Мы поднялись кверху и полетели дальше. Так плавен и ровен был наш полет, что казалось, не мы двигались, а все, напротив, к нам двигалось навстречу. Появились горы, темные, волнистые, покрытые лесом; они выросли и поплыли на нас… Вот уже они протекают под нами со всеми своими извилинами, ложбинами, узкими лугами, с огненными точками в заснувших деревушках у быстрых ручьев на дне долин; а впереди опять вырастают и плывут другие горы… Мы в недрах Шварцвальда. Горы, всё горы… и лес, прекрасный, старый, могучий лес. Ночное небо ясно: я могу признать каждую породу, деревьев, особенно великолепны пихты с их белыми прямыми стволами. Кое-где на опушках виднеются дикие козы; стройно и чутко стоят они на своих тонких ножках и прислушиваются, красиво повернув головы и насторожив большие трубчатые уши. Развалина башни печально и слепо выставляет с вершины голого утеса свои полуобрушенные зубцы; над старыми, забытыми камнями мирно теплится золотая звездочка. Из небольшого, почти черного озера поднимается, как таинственная жалоба, стенящее укание маленьких жаб. Мне чудятся другие звуки, длинные, томные, подобные звукам эоловой арфы… Вот она, страна легенд! Тот же самый тонкий лунный дым, который поразил меня в Швецингене, разлит здесь повсюду, и чем дальше расходятся горы, тем гуще этот дым. Я насчитываю пять, шесть, десять различных тонов, различных пластов тени по уступам гор, и над всем этим безмолвным разнообразием задумчиво царит луна. Воздух струится мягко и легко. Мне самому легко и как-то возвышенно спокойно и грустно… — Эллис, ты должна любить этот край! — Я ничего не люблю. — Как же это? А меня? — Да… тебя! — отвечает она равнодушно. Мне сдается, что ее рука теснее прежнего обвивает мой стан. — Вперед! Вперед! — говорит Эллис с каким-то холодным увлеченьем. — Вперед! — повторяю я.XXI
Сильный переливчатый, звонкий крик раздался внезапно над нами и тотчас же повторился уже немного впереди. — Это запоздалые журавли летят к вам, на север, — сказала Эллис, — хочешь к ним присоединиться? — Да, да! подними меня к ним. Мы взвились и в один миг очутились рядом с пролетавшей станицей. Крупные красивые птицы (их всего было тринадцать) летели треугольником, резко и редко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянув голову и ноги, круто выставив грудь, они стремились неудержимо и до того быстро, что воздух свистал вокруг. Чудно было видеть на такой вышине, в таком удалении от всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая победоносно рассекать пространство, журавли изредка перекликались с передовым товарищем, с вожаком, и было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо-самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном разговоре. «Мы долетим небось, хоть и трудно,» — казалось, говорили они, ободряя друг друга. И тут мне пришло в голову, что таких людей, каковы были эти птицы — в России — где в России! в целом свете немного. — Мы теперь летим в Россию, — промолвила Эллис. Я уже не в первый раз мог заметить, что она почти всегда знала, о чем я думаю. — Хочешь вернуться? — Вернемся… или нет! Я был в Париже; неси меня в Петербург. — Теперь? — Сейчас… Только закрой мне голову твоей пеленой, а то мне дурно делается. Эллис подняла руку… но прежде чем туман охватил меня, я успел почувствовать на губах моих прикосновение того мягкого, тупого жала…XXII
«Слуша-а-а-а-ай!» — раздался в ушах моих протяжный крик. «Слуша-а-а-ай!» — словно с отчаянием отозвалось в отдалении. «Слуша-а-а-а-ай!» — замерло где-то на конце света. Я встрепенулся. Высокий золотой шпиль бросился мне в глаза; я узнал Петропавловскую крепость. Северная, бледная ночь! Да и ночь ли это? Не бледный, не больной ли это день? Я никогда не любил петербургских ночей; но на этот раз мне даже страшно стало: облик Эллис исчезал совершенно, таял, как утренний туман на июльском солнце, и я ясно видел все свое тело, как оно грузно и одиноко висело в уровень Александровской колонны. Так вот Петербург! Да, это он, точно. Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами, яркими вывескам железными навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды; золотая шапка Исаакия; ненужная пестрая биржа; гранитные стены крепости и взломанная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти скорченные мертвенным сном извозчики на продавленных дрожках, — да, это она, наша Северная Пальмира. Все видно кругом; все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально спит, странно громоздясь и рисуясь в тускло-прозрачном воздухе. Румянец вечерней зари — чахоточный румянец — не сошел еще и не сойдет до утра с белого, беззвездного неба; он ложится полосами по шелковистой глади Невы, а она чуть журчит и чуть колышется, торопя вперед свои холодные синие воды… — Улетим, — взмолилась Эллис. И, не дожидаясь моего ответа, она понесла меня через Неву, через Дворцовую площадь, к Литейной. Шаги и голоса послышались внизу: по улице шла кучка молодых людей с испитыми лицами и толковала о танцклассах. «Подпоручик Столпаков седьмой!» — крикнул вдруг спросонку солдат, стоявший на часах у пирамидки ржавых ядер, а несколько подальше, у раскрытого окна высокого дома, я увидел девицу в измятом шелковом платье, без рукавчиков, с жемчужной сеткой на волосах и с папироской во рту. Она благоговейно читала книгу: это был том сочинений одного из новейших Ювеналов. — Улетим! — сказал я Эллис. Минута, и уже мелькали под нами гнилые еловые лесишки и моховые болота, окружающие Петербург. Мы направлялись прямо к югу: небо и земля, все становилось понемногу темней и темней. Больная ночь, больной день, больной город — все осталось назади.XXIII
Мы летели тише обыкновенного, и я имел возможность уследить глазами, как постепенно развертывалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Леса, кусты, поля, овраги, реки — изредка деревни, церкви — и опять поля, и леса, и кусты, и овраги… Грустно стало мне и как-то равнодушно скучно. И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет! Сама земля, эта плоская поверхность, которая расстилалась подо мною; весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим, растительным царством; эти люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух; их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни, их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным, — как это мне вдруг все опротивело! Сердце во мне медленно перевернулось, и не захотелось мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку… Да, мне стало скучно — хуже чем скучно. Даже жалости я не ощущал к своим собратьям: все чувства во мне потонули в одном, которое я назвать едва дерзаю: в чувстве отвращения, и сильнее всего, и более всего во мне было отвращение — к самому себе. — Перестань, — шепнула Эллис, — перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжел становишься. — Ступай домой, — отвечал я ей тем же голосом, каким я говаривал эти слова моему кучеру, выходя в четвертом часу ночи от московских приятелей, с которыми с самого обеда толковал о будущности России и значении общины. — Ступай домой, — повторил я и закрыл глаза.XXIV
Но я скоро раскрыл их. Эллис как-то странно ко мне прижималась; она почти толкала меня. Я посмотрел на нее — и кровь во мне застыла. Кому случалось увидать на лице другого внезапное выражение глубокого ужаса, причину которого он не подозревает, — тот меня поймет. Ужас, томительный ужас кривил, искажал бледные, почти стертые черты Эллис. Я не видал ничего подобного даже на живом человеческом лице. Безжизненный, туманный призрак, тень… и этот замирающий страх… — Эллис, что с тобой? — проговорил я наконец. Она… она… — отвечала она с усилием, — она! — Она? Кто она? — Не называй ее, не называй, — торопливо пролепетала Эллис. — Надо спасаться, а то всему конец — и навсегда… Посмотри: вон там! Я обернул голову в сторону, куда указывала мне трепещущая рука, — и увидал нечто… нечто действительно страшное. Это нечто было тем страшнее, что не имело определенного образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы, — не туча и не дым, медленно, змеиным движением, двигалось над землей. Мерное, широкое колебание сверху вниз и снизу вверх, колебание, напоминающее зловещий размах крыльев хищной птицы, когда она ищет свою добычу; по временам неизъяснимо противное приникание к земле, — паук так приникает к пойманной мухе… Кто ты, что ты, грозная масса? Под ее веянием — я это видел, я это чувствовал — все уничтожалось, все немело… Гнилым, тлетворным холодком несло от нее — от этого холодка тошнило на сердце и в глазах темнело и волосы вставали дыбом. Это сила шла; та сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла — все видит, все знает, и как хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым жалом… — Эллис! Эллис! — закричал я как исступленный. — Это смерть! сама смерть! Жалобный звук, уже прежде слышанный мною, вырвался из уст Эллис — на этот раз он скорее походил на человеческий отчаянный вопль — и мы понеслись. Но наш полет был странно и страшно неровен; Эллис кувыркалась на воздухе, падала, бросалась из стороны в сторону, как куропатка, смертельно раненная или желающая отвлечь собаку от своих детей. А между тем, вслед за нами, отделившись от неизъяснимо ужасной массы, покатились какие-то длинные, волнистые отпрыски, словно протянутые руки, словно когти… Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне мгновенно встал и взвился под самое небо… Еще тревожнее, еще отчаяннее заметалась Эллис. «Она увидала! Все кончено! Я пропала!.. — слышался ее прерывистый шепот. — О, я несчастная! Я могла бы воспользоваться, набраться жизни… а теперь… Ничтожество, ничтожество!» Это было слишком невыносимо… Я лишился чувстваXXV
Когда я опомнился — я лежал навзничь в траве и чувствовал во всем теле глухую боль, как от сильного ушиба. На небе брезжило утро: я мог ясно различать предметы. Невдалеке, вдоль березовой рощицы, шла дорога, усаженная ракитами: места мне казались знакомые. Я начал припоминать, что произошло со мною, — и содрогнулся весь, как только пришло мне на ум то последнее безобразное видение… «Но чего же испугалась Эллис? — подумал я. — Ужели и она подлежит ее власти? Разве она не бессмертна? Разве и она обречена ничтожеству, разрушению? как это возможно?» Тихий стон раздался вблизи. Я повернул голову. В двух шагах от меня недвижно лежала распростертая молодая женщина в белом платье, с разбросанными густыми волосами, с обнаженным плечом. Одна рука закинулась за голову, другая упала на грудь. Глаза были закрыты, и на стиснутых губах выступила легкая алая пена. Неужели это Эллис? Но Эллис — призрак, а я видел перед собою живую женщину. Я подполз к ней, наклонился… — Эллис? ты ли это? — воскликнул я. Вдруг, медленно затрепетав, приподнялись широкие веки; темные, пронзительные глаза впились в меня — и в то же мгновенье в меня впились и губы, теплые, влажные с кровяным запахом… мягкие руки крепко обвились вокруг моей шеи, горячая, полная грудь судорожно прижалась к моей. — Прощай! прощай навек! — явственно произнес замиравший голос — и все исчезло. Я приподнялся, шатаясь на ногах словно пьяный — и, проведя несколько раз руками по лицу, огляделся внимательно. Я находился возле большой…ой дороги, в двух верстах от своей усадьбы. Солнце уже встало, когда я добрался домой.* * *
Все следующие ночи я ждал — и, признаюсь, не без страха, появления моего призрака; но он не посещал меня более. Я даже отправился однажды в сумерки к старому дубу, но и там не произошло ничего необыкновенного. Впрочем, я не слишком жалел о прекращении такого странного знакомства. Я много и долго размышлял об этом непонятном, почти бестолковом казусе — и убедился, что не только наука его не объясняет, но что даже в сказках, в легендах не встречаете ничего подобного. Что такое Эллис в самом деле? Привидение, скитающаяся душа, злой дух, сильфида, вампиру наконец? Иногда мне опять казалось, что Эллис — женщина, которую я когда-то знал, — и я делал страшные усилия, чтобы припомнить, где я ее видел… Вот-вот, казалось, иногда — сейчас, сию минуту вспомню… Куда! все опять расплывалось, как сон. Да, я думал много и, как водится, ни до чего не додумался. Спросить совета или мнения Других людей я не решался, боясь прослыть за сумасшедшего. Я наконец бросил все свои размышления: правду сказать, мне было не до того. С одной стороны, подвернулась эманципация с разверстанием. угодий и пр. и пр.; а с другой, собственное здоровье расстроилось: грудь заболела, бессонница, кашель. Все тело сохнет. Лицо желтое, как у мертвеца. Доктор уверяет, что у меня крови мало, называет мою болезнь греческим именем «анемией» — и посылает меня в Гастейн. А посредник божится, что без меня с крестьянами «не сообразишь»… Вот тут и соображай! Но что значат те пронзительно чистые и острые звуки, звуки гармоники, которые я слышу, как только заговорят при мне о чьей-нибудь смерти? Они становятся все громче, все пронзительней… И зачем я так мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожестве?А. П. Чехов ЧЕРНЫЙ МОНАХ
I
Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем-доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться. Сначала — это было в апреле — он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением. Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным, как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников/пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса. То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив — цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыгами, лейками… Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город, и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике, и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдется по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше. Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью. — Я еще в детстве чихал здесь от дыма, — сказал он, пожимая плечами, — но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза. — Дым заменяет облака, когда их нет… — ответила Таня. — А для чего нужны облака? — В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников! — Вот как! Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его. — Господи, она уже взрослая! — сказал он. — Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей… Что делает время! — Да, пять лет! — вздохнула Таня, — Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, — живо заговорила она, глядя ему в лицо, — вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина… Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право. — Я считаю, Таня. — Честное слово? — Да, честное слово. — Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть. Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов. — Однако пора спать, — сказала Таня. — Да и холодно. — Она взяла его под руку. — Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад— и больше ничего. Штамб, полуштамб, — засмеялась она, — апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка… Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала. Она говорила долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, — в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:II
В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело. Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок. Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня — сопрано, одна из барышень — контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова — они были русские — и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекрати; ось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.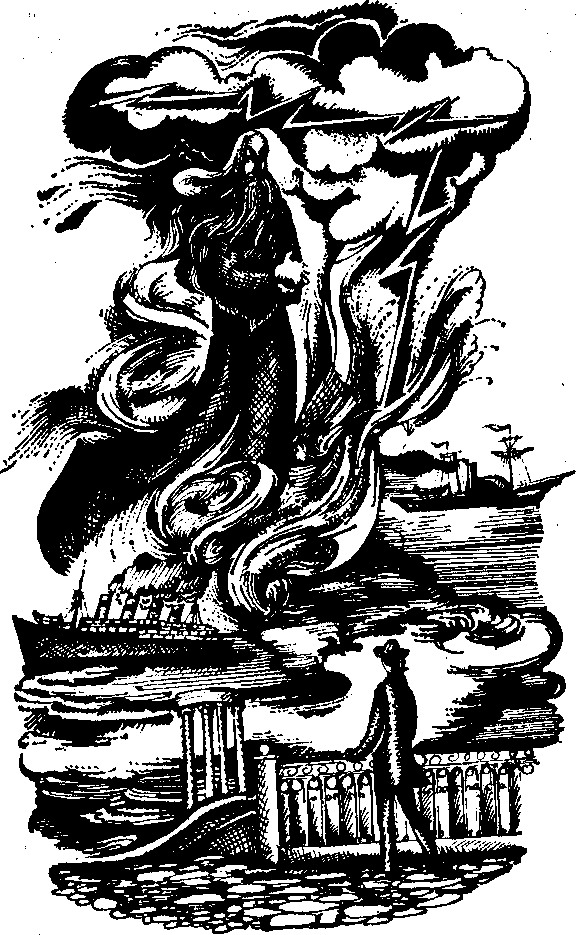 — Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, — сказал он. — Не помню, вычитал ли я ее откуда, или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии… За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере… Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе… По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня-завтра.
— Странный мираж, — сказала Таня, которой не понравилась легенда.
— Но удивительнее всего, — засмеялся Коврин, — что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.
Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился не спеша в парк |И незаметно дошел до реки.
По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущею рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.
«Как здесь просторно, свободно, тихо! — думал Коврин, идя по тропинке. — И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его…»
Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, — зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать…
Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо… Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.
— Ну, вот видите ли… — пробормотал Коврин. — Значит, в легенде правда.
Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.
В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, — значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу, но он сообразил, что они, наверное, сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное и что он очень интересен.
— Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, — сказал он. — Не помню, вычитал ли я ее откуда, или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии… За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере… Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе… По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня-завтра.
— Странный мираж, — сказала Таня, которой не понравилась легенда.
— Но удивительнее всего, — засмеялся Коврин, — что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.
Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился не спеша в парк |И незаметно дошел до реки.
По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущею рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.
«Как здесь просторно, свободно, тихо! — думал Коврин, идя по тропинке. — И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его…»
Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, — зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать…
Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо… Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.
— Ну, вот видите ли… — пробормотал Коврин. — Значит, в легенде правда.
Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой.
В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли, — значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семенычу, но он сообразил, что они, наверное, сочтут его слова за бред, и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное и что он очень интересен.
III
После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван: ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня. — Вот, Андрюша, почитайте статьи отца, — сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков, — Прекрасные статьи. Он отлично пишет. — Ну, уж и отлично! — говорил Егор Семеныч, входя за ней и принужденно смеясь; ему было совестно. — Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство. — По-моему, великолепные статьи, — сказала Таня с глубоким убеждением. — Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства. Егор Семеныч напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузящиеся авторы. Наконец, он стал сдаваться. — В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки, — забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, — а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда… скучища. Да и спать пора, кажется. Таня вышла. Егор Семеныч подсел к Коврину на диван и глубоко вздохнул. — Да, братец ты мой… — начал он после некоторого молчания. — Так-то, любезнейший мой магистр. Вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю… У Песоцкого, говорят, яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен Кочубей. Но спрашивается: к чему все это? Сад действительно прекрасней, образцовый… Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель? — Дело говорит само за себя. — Я не в том смысле. Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело— понимаешь? — люблю, быть может, больше, чем самого себя. Ты посмотри на меня: я все сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку — сам, посадки — сам, все — сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники? Да? Так вот что я тебе скажу, друг любезный: первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек. — А Таня? — спросил Коврин смеясь. — Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело. — Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдетзамуж? — зашептал Егор Семеныч и испуганно посмотрел на Коврина. — То-то вот и есть! Выйдет замуж, пойдут дети, тут уже о саде некогда думать. Я чего боюсь главным образом: выйдет за какого-нибудь молодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к черту в первый же год! В нашем деле бабы — бич божий! Егор Семеныч вздохнул и помолчал немного. — Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь! Тут к нам ездит один ферт со скрипкой и пиликает; знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу! Вообще, брат, я большой-таки чудак. Сознаюсь. Егор Семеныч встал и в волнении прошелся по комнате, и видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается. — Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно, — решился он, наконец, засовывая руки в карманы. — К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо: ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина — я тебя люблю как сына… и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился как-нибудь роман, то — что ж? Я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек. Коврин засмеялся. Егор Семеныч открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге. — Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал, — сказал он подумав. — Впрочем, сие есть мечтание пустое… Спокойной ночи. Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие: «О промежуточной культуре», у другой: «Несколько слов по поводу заметки г. Z. о перештыковке почвы под новый сад», у третьей: «Еще об окулировке спящим глазком» — и все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием: говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинает ее Егор Семеныч с «audiatur alterapars»[29] и кончает — «sapienti sat»[30], а между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «ученого невежества наших патентованных гг. садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр», или г. Гоше, «успех которого создан профанами и дилетантами», и тут же некстати натянутое и неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами. «Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, — подумал Коврин. — Должно быть, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно». Он вспомнил про Таню, которой так нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить и при этом всякую даже незначительную фразу сопровождает выразительною мимикой и жестикуляцией. Должно быть, нервна в высшей степени. Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но ненадолго. «Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного», — подумал он, и ему опять стало хорошо. Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель: надо же было спать! Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой; сознание его затуманилось, и он уснул.IV
Егор Семеныч и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности. Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семеныч сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально' бродил по парку и все вздыхал: «Ах, боже мой, боже мой!» — и за обедом не съел ни одной крошки. Наконец,5 виноватый, замученный совестью, он постучал в заперт тую дверь и позвал робко: — Таня! Таня? И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос: — Оставьте меня, прошу вас. Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучал к Тане. Его впустили. — Ай-ай, как стыдно! — начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. — Неужели так серьезно? Ай-ай! — Но если бы вы знали, как он меня мучит! — сказала она, и слезы, горючие, обильные слезы брызнули из ее больших глаз. — Он замучил меня! — продолжала она, ломая руки. — Я ему ничего не говорила… ничего… Я только сказала, что нет надобности держать… лишних работников, если… если можно, когда угодно, иметь поденщиков. Ведь… ведь работники уже целую неделю ничего не делают… Я… я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне… много обидного, глубоко оскорбительного. За что? — Полно, полно, — проговорил Коврин, поправляя ей прическу. — Побранились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо… тем более, что он вас бесконечно любит. — Он мне… мне испортил всю жизнь, — продолжала Таня всхлипывая. — Только и слышу одни оскорбления и… и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же? Он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки… Пусть… — Ну, ну, ну… Не надо плакать, Таня. Не надо, милая… Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю. Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было не серьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь! Утешая Таню, Коврин думал о том, что, кроме этой девушки и ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного; если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, не рассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уж не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину, но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась. И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы… Наконец, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение; потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что бог послал ей такой дурной характер, в конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты. Когда немного погодя Коврин вышел в сад, Егор Семеныч и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее, и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны.V
Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех — это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность? Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга — Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме. — Но ведь ты мираж, — проговорил Коврин. — Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой. — Это все равно, — ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. — Легенда, мираж и я — все это продукт твоего возбужденного воображения. Я — призрак. — Значит, ты не существуешь? — спросил Коврин. — Думай, как хочешь, — сказал монах и слабо улыбнулся. — Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе. — У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо, точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет, — сказал Коврин. — Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь? — Да. Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. — Ты сказал: вечной правде… Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни? — Вечная жизнь есть, — сказал монах. — Ты веришь в бессмертие людей? — Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды — ив этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях. — А какая цель вечной жизни? — спросил Коврин. — Как и всякой жизни — наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в дому Отца Моего обители многи суть. — Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки. — Очень рад. — Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален? — Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это — то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры. — Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе? — А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п, могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. — Римляне говорили: mens sana in corpore sano[31]. — Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо. — Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, — сказал Коврин. — Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой? Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем. — Галлюцинация кончилась! — сказал Коврин и засмеялся. — А жаль. Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, — какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения. Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье. — Вы здесь? — сказала она. — А мы вас ищем, ищем… Но что с вами? — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. — Какой вы странный, Андрюша. — Я доволен, Таня, — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. — Я больше чем доволен, я счастлив! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад! Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал: — Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас. Милая, славная Таня! Я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по десяти раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе. — Ну, — засмеялась Таня. — Вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек. — Нет, будем говорить серьезно! — сказал он. Я возьму вас с собой, Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей? — Ну! — сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк. — Я не думала об этом… не думала! — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки. А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом: — Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив! Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг: — Как она хороша!VI
Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семеныч долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела, он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши, надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день. В оранжереях уже поспели персики и сливы; упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семеныч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих; Егор Семеныч, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себя пулю в лоб. А тут еще возня с приданым, которому Песоцкие придавали немалое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И, как нарочно, каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с четырнадцати лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе… То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или бог весть откуда придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, — и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет, но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уж дрожит от ревности: уходит к себе — и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время. С Егором Семенычем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоящий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать: — Что ни говори, а кровь много значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранных языках, пела… Бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки. Не настоящий Егор Семеныч вздыхал и, помолчав, продолжал: — Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движения, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр! Недаром! А погоди, Иван Карлыч, каков он будет лет через десять! Рукой не достанешь! Но тут настоящий Егор Семеныч, спохватившись, делал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал: — Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад! А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шел к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это не пугало, а, напротив, восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее. Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семенычем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией. Незаметно подошел успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали «с треском», то есть с бестолковою гульбой, продолжавшеюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы,VII
Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы. Пробило три часа. Коврин потушил свечу и лег; долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог оттого, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В половине пятого он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели. — Здравствуй, — сказал монах и, помолчав немного, опросил: — О чем ты теперь думаешь? — О славе, — ответил Коврин. — Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна. — Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает. — Да, это правда. — Известность не улыбается тебе. Что лестного, или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена. — Понятно, — согласился Коврин. — Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье? Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху: — В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья — так оно было велико! — и, чтобы умилостивить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумевать. — Но почему? — изумился монах. — Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. А апостол говорит: постоянно радуйся. Радуйся же и будь счастлив. — А вдруг прогневаются боги? — пошутил Коврин и засмеялся. — Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу. Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся: глаза его блестели, и в смехе было что-то странное. — Андрюша, с кем ты говоришь? — спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. — Андрюша! С кем? — А? С кем? — смутился Коврин. — Вот с ним… Вот он сидит, — сказал он, указывая на черного монаха. — Никого здесь нет… никого! Андрюша, ты болен! Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой. — Ты болен! — зарыдала она, дрожа всем телом, — Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то… Ты психически болен, Андрюша… Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться. — Это ничего, Таня, ничего… — бормотал он дрожа. — В самом деле я немножко нездоров… пора уже сознаться в этом. — Я уже давно замечала… и папа заметил, — говорила она, стараясь сдержать рыдания. — Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься… не спишь. О, боже мой, боже мой, спаси нас! — проговорила она в ужасе. — Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, бога ради не бойся… Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значит черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший. Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу: она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках стоял Егор Семеныч, который гостил у них. — Ты не бойся, Андрюша, — говорила Таня, дрожа как в лихорадке, — не бойся… Папа, это все пройдет… все пройдет… Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном: «Поздравьте, я, кажется, сошел с ума», — но пошевелил только губами и горько улыбнулся. В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.VIII
Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил. Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело. По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял минут двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря… Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем. — Тебе, кажется, пора уже молоко пить, — сказала Таня мужу. — Нет, не пора… — ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. — Пей сама. Я не хочу. Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом: — Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно. — Да, очень полезно! — усмехнулся Коврин. — Поздравляю вас: после пятницы во мне прибавился еще один фунт весу. — Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: — Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг — ясе это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я — посредственность, мне скучно жить… О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало? — Бог знает, что ты говоришь! — вздохнул Егор Семеныч. — Даже слушать скучно. — А вы не слушайте. Присутствие людей, особенно Егора Семеныча, теперь уж раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые, благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза; она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом. — Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! — сказал Коврин. — Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет. Если бы вы знали, — сказал Коврин с досадой, — как я вам благодарен! Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояле зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялаппой и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть! От сигары и двух глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий. Перед тем как ложиться спать, Таня говорила ему: — Отец обожает тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убивает его. Посмотри: он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков! — Не могу и не хочу. — Но почему? — спросила Таня, начиная дрожать всем телом. — Объясни мне, почему? — Потому, что он мне не симпатичен, вот и все, — небрежно сказал Коврин и пожал плечами, — но не будем говорить о нем: он твой отец. — Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. — Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож… Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дрязги… Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый! — Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни, теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм. Таня села на постель и положила голову на подушку. — Это пытка, — проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. — С самой зимы ни одной покойной минуты… Ведь это ужасно, боже мой! Я страдаю… — Да, конечно, я — Ирод, а ты и твой папенька — египетские младенцы. Конечно! Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Нёнависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но Тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.IX
Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на второе декабря, и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни. У него шла горлом кровь. Она плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить. В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года. Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное: он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна— так звали его подругу — собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего. Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем, неприятно волновала его. Искренно, в глубине души: свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминание об этой женщине, которая в конце концов обратилась с ходячие живые мощи и в которой, как кажется, все уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы; в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков; но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько, он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как просил его жениться на ней; Егор Семеныч нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно. Все это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон; была тихая теплая погода, и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение! В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка. Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел: «Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею коею душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль… Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим…» Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала; из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице, кроме него, не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала его погибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь два года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких. Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них — это работа. Надо сесть за стол и заставить себя во что бы то ни стало сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, — одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он — посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что-он есть. Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице, кроме него, нет ни одной души… Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле было жарко и душно и не мешало бы выкупаться. Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная… У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди. Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу… Монах с непокрытою седою головой и с черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты. — Отчего ты не поверил мне? — спросил он с укоризной, глядя ласково на Коврина. — Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно. Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил: — Таня! Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал: — Таня! Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения. Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.IV
Ф. К. Сологуб МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК
I
Якову Алексеевичу Саранину немного недоставало до среднего роста; жена его, Аглая Никифоровна, из купчих, была высока и объемиста. Уже и теперь, на первом году после свадьбы, двадцатилетняя женщина была дородна так, что рядом с маленьким и тощим мужем казалась исполиншею. «А если еще раздобреет?» — думал Яков Алексеевич. Думал, хотя женился по любви — к ней и к приданому. Разница в росте супругов нередко вызывала насмешливые замечания знакомых. Эти легкомысленные шутки отравляли спокойствие Саранина и смешили АглаюНикифоровну. Однажды, после вечера у сослуживцев, где пришлось выслушать не мало колкостей, Саранин вернулся домой совсем расстроенный. Лежа в постели рядом с Аглаею, ворчал и придирался к жене. Аглая лениво и нехотя возражала сонным голосом: — Что же мне делать? Я не виновата. Она была очень покойного и мирного нрава. Саранин ворчал: — Не обжирайся мясом, не трескай так много мучного, целый день конфеты лопаешь. — Не могу же я ничего не кушать, коли у меня хороший аппетит, — сказала Аглая. — Когда я была в барышнях, у меня еще лучше был аппетит. — Воображаю! Что ж ты, по быку сразу съедала? — Быка сразу съесть невозможно, — спокойно возразила Аглая. Скоро заснула, а Саранин заснуть не мог в эту странную осеннюю ночь. Долго ворочался с боку на бок. Когда русскому человеку не спится, он раздумывает. И Саранин предался этому занятию, столь мало ему свойственному в другое время. Он же был чиновник — много думать было не о чем и не к чему. «Должны же быть какие-нибудь средства, — размышлял Саранин. — Наука с каждым днем совершает удивительные открытия; в Америке делают людям носы какой угодно формы, наращивают на лицо новую кожу. Операции какие делают — череп продырявливают, кишки, сердце режут и зашивают. Неужели же нет средства или мне вырасти, или Аглае телес посбавить? Какое-нибудь секретное бы средство? Да как его найти? Как? Да, вот если лежать, то не найдешь. Под лежачий камень и вода не бежит. А поискать… Секретное средство. Может быть, он, изобретатель, просто ходит по улицам да ищет покупателя. Ведь как же иначе? Не может же он публиковать в газетах… А по улицам, — вразнос, из-под полы продать что угодно, — это очень возможно. Ходит, предлагает по секрету. Кому нужно секретное средство, тот не станет валяться в постели». Так поразмыслив, Саранин стал проворно одеваться, мурлыча себе под нос: — В двенадцать часов по ночам… Не боялся разбудить жену. Знал, что Аглая спит крепко. — По-купечески, — говорил вслух; «по-мужицки», — думал про себя. Оделся и вышел на улицу. Спать совсем не хотелось. На душе было легко, и настроение было такое, как у привычного искателя приключений перед новым интересным событием. Мирный чиновник, проживший тихо и бесцветно треть века, ощутил вдруг в себе душу предприимчивого и свободного охотника диких пустынь, — героя Купера или Майи-Рида. Но, пройдя несколько шагов привычною дорогою — к департаменту, — остановился, призадумался. Куда же, однако, идти? Все тихо и спокойно, так спокойно, что улица казалась коридором громадного здания, обычным, безопасным, замкнутым от всего внешнего и внезапного. У ворот дремали дворники. На перекрестке виднелся городовой. Фонари горели. Плиты тротуара и камни мостовой слабо мерцали сыростью недавно прошедшего дождя. Саранин подумал и в тихом недоумении пошел прямо вперед, повернул направо.II
На перекрестке двух улиц при свете фонарей он увидел идущего к нему человека, и сердце его сжалось радостным предчувствием. То была странная фигура. Халат ярких цветов, с широким поясом. Высокая шапка, остроконечная, с черными узорами. Шафраном окрашенная бородка, длинная и узкая. Белые, блестящие зубы. Черные, жгучие глаза. Ноги в туфлях. «Армянин!» — подумал почему-то Саранин. Армянин подошел к нему, сказал: — Душа моя, чего ты ищешь по ночам? Шел бы спать, или к красавицам. Хочешь провожу? — Нет, мне и моей красавицы слишком довольно, — сказал Саранин. И доверчиво поведал армянину свое горе. Армянин оскалил зубы, заржал. — Жена большая, муж маленький, — целовать, лестницу ставь. Вай, нехорошо! — Что уж тут хорошего! — Иди за мной, помогу хорошему человеку. Долго шли они по тихим коридорообразным улицам, армянин впереди, Саранин сзади. От фонаря до фонаря странное превращение совершалось с армянином. В темноте он вырастал, и, чем дальше отходил от фонаря, тем громаднее становился. Иногда казалось, что острый верх его шапки поднимался выше домов, в облачное небо. Потом, подходя к свету, он становился меньше, и у фонаря принимал прежние размеры, и казался простым и обыкновенным халат-ником-торгашом. И, странное дело, Саранина не удивляло это явление. Он был настроен так доверчиво, что и самые яркие чудеса арабских сказок показались ему привычными, как и скучные переживания серенькой обычности. У ворот одного дома, самой обычной постройки, пятиэтажного и желтого, они остановились. Фонарь у ворот ясно вырисовывал свои тихие знаки. Саранин заметил: — № 41. Вошли во двор. На лестницу заднего флигеля. Лестница полутемная. Но на дверь, перед которою остановился армянин, падал свет тусклой лампочки, — и Саранин различил цифры: — № 43. Армянин сунул руку в карман, вытащил оттуда маленький колокольчик, такой, каким звонят, призывая прислугу, на дачах, — и позвонил. Чисто, серебристо звякнул колокольчик. Дверь тотчас же открылась. За дверью стоял босой мальчишка, красивый, смуглый, с очень яркими губами. Белые зубы блестели, потому что он улыбался, не то радостно, не то насмешливо. И казалось, что всегда улыбался. Зеленоватым блеском горели глаза смазливого мальчишки. Весь был гибкий, как кошка, и зыбкий, как призрак тихого кошмара. Смотрел на Саранина, улыбался. Саранину стало жутко. Вошли. Мальчик закрыл дверь, изогнувшись гибко и ловко, и пошел перед ними по коридору, неся в руке фонарь. Открыл дверь, и опять зыбкое движение, и смех. Страшная, темная, узкая комната, уставленная по стенам шкапами с какими-то пузырьками, бутылочками. Пахло странно, раздражающим и непонятным запахом. Армянин зажег лампу, открыл шкап, порылся там и достал пузырек с зеленоватою жидкостью. — Хорошие капли, — сказал он, — одну каплю на стакан воды дашь, заснет тихонько и не проснется. — Нет, мне это не надо, — досадливо сказал Саранин, — разве я за этим пришел! — Душа моя, — убеждающим голосом сказал армянин, — другую жену возьмешь, себе по росту, самое простое дело. — Не надо! — закричал Саранин. — Ну, не кричи, — остановил армянин. — Зачем сердишься, душа моя, себя даром расстраиваешь. Не надо, и не бери. Я тебе других дам. Но те дорогие, вай-вай, дорогие. Армянин, присев на корточки, отчего его длинная фигура казалась смешною, достал четырехугольную бутылку. В ней блестела прозрачная жидкость. Армянин сказал с таинственным видом: — Каплю выпьешь — фунт убудет; сорок капель выпьешь — пуд весь убудет. Капля — фунт. Капля — рубль. Считай капли, давай рубли. Саранин зажегся радостью. «Сколько же надо? — подумал Саранин. — В ней пудов пять наверняка будет. Сбавить три пуда, останется малюсенькая женка. Это будет хорошо». — Давай сто двадцать капель. Армянин покачал головою. — Много хочешь, худо будет. Саранин вспыхнул. — Ну, это уж мое дело. Армянин посмотрел на него пытливо. — Считай деньги. Саранин вынул бумажник. «Весь сегодняшний выигрыш, да своих прибавить надо», — подумал он. Армянин тем временем достал граненый флакончик и стал капать. Внезапное сомнение зажглось в душе Саранина. Сто двадцать рублей — деньги не малые. А вдруг обманет? — А верно ли они действуют? — спросил он нерешительно. — Товар лицом продаем, — сказал хозяин. — Сейчас покажу действие. Гаспар, — крикнул он. Вошел тот же босой мальчик. На нем была красная куртка и короткие синие панталоны. Смуглые ноги были открыты выше колен. Они были стройные, красивые и двигались ловко и быстро. Армянин махнул рукой. Гаспар проворно сбросил одежду. Подошел к столу. Свечи тускло озаряли его желтое тело, стройное, сильное, красивое. Порочную улыбку. Черные глаза и синеву под ними. Армянин говорил: — Чистые капли пить — сразу действовать будет. Размешать в воде или вине — медленно, на глазах не заметишь. Плохо смешаешь — скачками пойдет, некрасиво. Взял узкий стакан, с делениями, налил жидкости, дал Гаспару. Гаспар с ужимкою избалованного ребенка, которому дали сладкое, выпил жидкость до дна, запрокинул голову назад, вылизал последние сладкие капли длинным и острым языком, похожим на змеиное жало, — и тотчас же, на глазах у Саранина, начал уменьшаться. Стоял прямо, смотрел на Саранина, смеялся, и изменялся, как купленная на вербе кукла, которая спадается, когда из нее выпускают воздух. Армянин взял его за локоть и поставил на стол. Мальчик был величиною со свечку. Плясал и кривлялся. — Как же он теперь будет? — спросил Саранин. — Душа моя, мы его вырастим, — ответил армянин. Открыл шкап и с верхней полки достал другой сосуд столь же странной формы. Жидкость в нем была зеленая. В маленький бокал, величиною с наперсток, налил армянин немного жидкости. Отдал ее Гаспару. Опять Гаспар выпил, как первый раз. С неуклонною медленностью, подобно тому, как прибывает вода в ванне, голый мальчик становился больше и больше. Наконец вернулся к прежним размерам. Армянин сказал: — Пей с вином, с водой, с молоком, с чем хочешь пей, только с русским квасом не пей — сильно линять станешь.III
Прошло несколько дней. Саранин сиял радостью. Загадочно улыбался. Ждал случая. Дождался. Аглая жаловалась на головную боль. — У меня есть средство, — сказал Саранин, — отлично помогает. — Никакие средства не помогут, — с кислою гримасою сказала Аглая. — Нет, это поможет. Это я от одного армянина достал. Сказал так уверенно, что Аглая поверила в действительность средства от армянина. — Ну уж ладно, дай. Принес флакончик. — Гадость? — спросила Аглая. — Прелестная штука на вкус, и помогает отлично. Только немного прослабит. Аглая сделала гримаску. — Пей, пей. — А в мадере можно? — Можно. — И ты выпей со мною мадеры, — капризно сказала Аглая. Саранин налил два стакана мадеры, и в женин стакан вылил снадобье. — Мне что-то холодно, — тихонько и лениво сказала Аглая, — хоть бы платок. Саранин побежал за платком. Когда он вернулся, стаканы стояли, как прежде. Аглая сидела и улыбалась. Закутал ее в платок. — Мне как будто бы лучше, — сказала она, — пить ли? — Пей, пей! — закричал Саранин. — За твое здоровье. Он схватил свой стакан. Выпили. Она хохотала. — Что? — спросил Саранин. — Я переменила стаканы. Тебя прослабит, а не меня. Вздрогнул. Побледнел. — Что ты наделала? — воскликнул он в отчаянии. Аглая хохотала. Смех ее казался Саранину гнусным и жестоким. Вдруг он вспомнил, что у армянина есть восстановитель. Побежал к армянину. «Дорого сдерет! — опасливо думал он. — Да что деньги! Пусть все берет, лишь бы спастись от ужасного действия этого снадобья».IV
Но злой рок обрушился, очевидно, на Саранина. На дверях квартиры, где жил армянин, висел замок. Саранин в отчаянии хватился за звонок. Дикая надежда одушевила его. Звонил отчаянно. За дверью громко, отчетливо, ясно звенел колокольчик, — с тою неумолимою ясностью, как звонят колокольчики только в пустых квартирах. Саранин побежал к дворнику. Был бледен. Мелкие капельки пота, совсем мелкие, как роса на холодном камне, выступили на его лице и особенно на носу. Стремительно вбежал в дворницкую, крикнул: — Где Халатьянц? Апатичный чернобородый мужик, старший дворник, пил чай с блюдечка. Покосился на Саранина. Спросил невозмутимо: — А вам что от него требуется? Саранин тупо глядел на дворника и не знал, что сказать. — Ежели у вас какие с ним дела, — говорил дворник, подозрительно глядя на Саранина, — то вы, господин, лучше уходите. Потому как он армянин, так как бы от полиции не влетело. — Да где же проклятый армянин? — закричал с отчаянием Саранин. — Из 43-го номера. — Нет армянина, — отвечал дворник. — Был, это точно, это скрывать не стану, а только что теперь нет. — Да где же он? — Уехал. — Куда? — крикнул Саранин. — Кто его знает, — равнодушно ответил дворник. — Выправил заграничный паспорт и уехал за границу. Саранин побледнел. — Пойми, — сказал он дрожащим голосом, — он мне до зарезу нужен. Дворник участливо посмотрел на него. Сказал: — Да вы, барин, не убивайтесь. Уж коли у вас такая нужда есть до проклятого армянина, то вы поезжайте сами за границу, сходите там в адресный стол и найдете по адресу. Саранин не сообразил нелепости того, что говорил дворник. Обрадовался. Сейчас же побежал домой, влетел ураганом в домовую контору и потребовал от старшего дворника, чтобы тот немедленно выправил ему заграничный паспорт. Но вдруг вспомнил. — Да куда же ехать?V
Проклятое снадобье делало свое злое дело с роковою медлительностью, но неуклонно. Саранин с каждым днем становился меньше и меньше. Платье сидело мешком. Знакомые удивлялись. Говорили: — Что вы поменьше как будто? Каблуки перестали носить? — Да и похудели. — Много занимаетесь. — Охота себя изводить. Наконец при встречах с ним стали ахать: — Да что это с вами? За глаза знакомые начали насмехаться над Сараниным. — Вниз растет. — Стремится к минимуму. Жена заметила несколько позже. Все на глазах, постепенно мельчал, — было ни к чему. Заметила по мешковатому виду одежды. Сначала хохотала над странным уменьшением роста своего мужа. Потом стала сердиться. — Это даже странно и неприлично, — говорила она, — неужели я вышла б замуж за такого лилипута! Скоро пришлось перешивать всю одежду, все старое валилось с Саранина, — брюки доходили до ушей, а цилиндр падал на плечи. Старший дворник как-то зашел в кухню. — Что же это у вас? — строго спросил он кухарку. — Нешто это мое дело, — запальчиво закричала было толстая и красная Матрена, но тотчас же спохватилась и сказала: — У нас, кажется, ничего такого нет! Все как обыкновенно. — А вот барин у вас поступки начал обнаруживать, так это разве можно? По-настоящему его бы надо в участок представить, — очень строго говорил дворник. Цепочка на его брюхе качалась сердито. Матрена внезапно села на сундук и заплакала. — Уж и не говорите, Сидор Павлович, — заговорила она, — просто мы с барыней диву дались, что это с ним, — ума не приложим. — По какой причине? И на каком основании? — сердито восклицал дворник. — Так разве можно? — Только-то и утешно, — всхлипывая, говорила кухарка, — корму меньше берет… Дальше — меньше. И прислуга, и портные, и все, с кем приходилось сталкиваться Саранину, начали относиться к нему с нескрываемым презрением. Бежит, бывало, на службу, маленький, еле тащит обеими руками громадный портфелище, — и слышит за собою злорадный смех швейцара, дворника, извозчиков, мальчишек. — Баринок, — говорил старший дворник. Много испытал Саранин горького. Потерял обручальное кольцо. Жена сделала ему сцену. Написала родителям в Москву. «Проклятый армянин!» — думал Саранин. Вспоминал часто: армянин, отсчитывая капли, перелил. — Ух! — крикнул Саранин. — Ничего, душа моя, это моя ошибка, я за это ничего не возьму. Сходил Саранин и к врачу, тот осмотрел его с игривыми замечаниями. Нашел, что все в порядке. Придет, бывало, Саранин к кому-нибудь — швейцар не сразу впустит. — Вы кто же такой будете? Саранин скажет. — Не знаю, — говорит швейцар, — наши господа таких не принимают.VI
На службе, в департаменте, сначала косились, смеялись. Особенно молодежь. Традиции сослуживцев Акакия Акакиевича Башмачкина живучи. Потом стали ворчать. Выговаривать. Швейцар уже стал снимать с него пальто с видимою неохотою. — Тоже, чиновник пошел, — ворчал он, — мелюзга. Что с такого получишь в праздник? И для поддержания престижа Саранину приходилось давать на чай чаще и больше прежнего. Но это мало помогало. Швейцары брали деньги, но на Саранина смотрели подозрительно. Саранин проговорился кое-кому из товарищей, что это армянин нагадил. Слух об армянской интриге быстро разошелся по департаменту. Дошел и до их департаментов… Директор департамента однажды встретил в коридоре маленького чиновника. Осмотрел удивленно. Ничего не сказал. Ушел к себе. Тогда сочли необходимым доложить. Директор спросил: — Давно ли это? Вице-директор замялся. — Жаль, что вы не заметили своевременно, — кисло сказал директор, не дожидаясь ответа. — Странно, что я этого не знал. Очень жалею. Потребовал Саранина. Когда Саранин шел в кабинет директора, все чиновники смотрели на него с суровым осуждением. С трепетным сердцем вошел Саранин в кабинет начальника. Слабая надежда еще не покидала его, надежда, что его превосходительство намерен дать ему весьма лестное поручение, пользуясь малостью его роста: командировать на всемирную выставку или по какому-нибудь секретному поручению. Но при первых же звуках кислого директорски-департаментского голоса эта надежда рассеялась, как дым. — Сядьте здесь, — сказал его превосходительство, показывая на стул. Саранин взобрался кое-как. Директор сердито посмотрел на болтнувшиеся в воздухе ноги чиновника. Спросил: — Господин Саранин, известны ли вам законы о службе гражданской по назначению от правительства? — Ваше превосходительство, — залепетал Саранин и молебно сложил ручонки на груди. — Как осмелились вы столь дерзко идти против видов правительства? — Поверьте, ваше превосходительство… — Зачем вы это сделали? — спросил директор. И уже не мог ничего сказать Саранин. Заплакал. Очень стал слезлив за последнее время. Директор посмотрел на него. Покачал головою. Заговорил очень строго: — Господин Саранин, я пригласил вас, чтобы объявить вам, что ваше необъяснимое поведение становится совершенно нетерпимым. — Но, ваше превосходительство, я, кажется, все исправно, — лепетал Саранин, — что же касается роста… — Да вот, именно. — Но это несчастье не от меня зависит. — Не могу судить, насколько это странное и неприличное происшествие является для вас несчастием и насколько оно от вас не зависит, но должен вам сказать, что для вверенного мне департамента ваше удивительное умаление становится положительно скандальным: уже ходят в городе соблазнительные слухи. Не могу судить об их справедливости, но знаю, что эти слухи объясняют ваше поведение в связи с агитацией… <…> Мы не можем держать чиновников, которые ведут себя так странно. Саранин соскочил со стула, дрожал, пищал: — Игра природы, ваше превосходительство. — Странно, но служба… И опять повторил тот же вопрос: — Зачем вы это сделали? — Я сам не знаю, как это произошло. — Что за инстинкты! Пользуясь малостью вашего роста, вы можете легко укрыться под всякою дамской, с позволения сказать, юбкой. Это не может быть терпимо. — Я никогда этого не делал, — завопил Саранин. Но директор не слушал. Продолжал: — Я даже слышал, что вы это делаете из сочувствия к японцам. Но надо же знать во всем границу. — Как же я могу это делать, ваше превосходительство? — Не знаю-с. Но прошу прекратить. Оставить вас на службе можно, но только в провинции, и чтобы это было немедленно же прекращено, чтобы вы вернулись к вашим обычным размерам. Для поправления вашего здоровья вам дается четырехмесячный отпуск. В департамент прошу вас более не являться. Необходимые для вас бумаги будут вам присланы на дом. Мое почтение. — Ваше превосходительство, я могу заниматься. Зачем же отпуск! — Возьмете по болезни. — Ноя здоров, ваше превосходительство. — Нет уж, пожалуйста. Саранину дали отпуск на четыре месяца.VII
Скоро Аглаины родители приехали. Было это после обеда. Аглая за обедом долго издевалась над мужем. Ушла к себе. Он робко прошел в свой кабинет — такой теперь для него огромный — вскарабкался на диван, приник к уголку, заплакал. Тягостное недоумение томило его. Почему именно на него обрушилось такое несчастье? Ужасное, неслыханное. Какое легкомыслие! Он всхлипывал и шептал отчаянно: — Зачем, зачем я это сделал? Вдруг услышал в передней знакомые голоса. Задрожал от страха. На цыпочках прокрался к умывальнику — не заметили бы заплаканных глаз. И умыться-то было трудно — пришлось подставлять стул. Уже гости входили в залу. Саранин встретил их. Раскланивался и пищал что-то неразборчивое. Аглаин отец тупо смотрел на него вытаращенными глазами. Большой, толстый, с бычьею шеею, и красным лицом. Аглая в него. Постояв перед зятем, широко расставив ноги, он осмотрелся осторожно, бережно взял руку Саранина, принагнулся и сказал, понижая голос: — Мы к вам, зятек, приехали повидаться. Видно было, что он намерен вести себя политично. Нащупывал почву. Из-за его спины выдвинулась Аглаина мать, особа тощая и злобная. Она закричала визгливо: — Где он? Где? Покажи мне его, Аглая, покажи мне этого Пигмалиона. Она смотрела поверх Саранина. Нарочно не замечала. Цветы на ее шляпе странно колыхались. Она шла прямо на Саранина. Он пискнул и отскочил в сторону. Аглая заплакала и сказала: — Вот он, маменька. — Я здесь, маменька, — пискнул Саранин и шаркнул ногою. — Злодей, да что ты с собой сделал? Зачем ты так окорнался? Горничная фыркала. — А ты, матушка, на господ не фыркай. Аглая покраснела. — Маменька, пойдемте в гостиную. — Нет, ты скажи, злодей, на какой конец ты этак малявишься? — Ну, ты, мать, погоди, — остановил ее отец. Она и на мужа вскинулась. — Ведь говорила я тебе, не выдавай за безбородого. Вот, по-моему и вышло. Отец осторожно поглядывал на Саранина и все пытался перевести разговор на политику. — Японцы, — говорил он, — приблизительно не высокого роста, а по-видимому, мозговитый народ, и даже, между прочим, оборотистый.VIII
И стал Саранин маленький, маленький. Уж он свободно ходил под столом. И с каждым днем становился все мельче. Отпуском он еще не воспользовался вполне. Только что на службу не ходил. А ехать куда-нибудь еще не собрались. Аглая то издевалась над ним, то плакала и говорила: — Куда я тебя такого повезу? Стыд и срам. Пройтись из кабинета в столовую — стало путем весьма солидных размеров. Да еще на стул влезть… Впрочем, усталость была сама по себе приятна. От нее аппетит являлся и надежда вырасти. Саранин набрасывался на пищу. Пожирал ее непропорционально своим миниатюрным размерам. Но не рос. Напротив — все мельчал и мельчал. Хуже всего, что уменьшение роста иногда происходило скачками, в самое неудобное время. Словно фокусы показывал. Аглая подумывала было выдавать его за мальчика, определить в гимназию. Отправилась в ближайшую. Но разговор с директором обескуражил ее. Потребовались документы. Оказалось, что план неосуществим. С видом крайнего недоумевания директор говорил Аглае: — Мы не можем принять надворного советника. Как же мы с ним будем? Ему учитель велит в угол идти, а он скажет: я — кавалер святой Анны. Это очень неудобно. Аглая сделала просящее лицо и принялась было упрашивать: — Нельзя ли как-нибудь устроить? Он не посмеет дерзить — уж я об этом позабочусь. Директор остался непреклонен. — Нет, — говорил он упрямо, — нельзя чиновника принять в гимназию. Нигде ни одним циркуляром не предусмотрено. И входить к начальству с таким представлением совершенно неудобно. Как еще там посмотрят. Могут выйти большие неприятности. Нет, никак нельзя. Обратитесь, если желаете, к попечителю. Но Аглая уже не решилась ехать к начальству.IX
Однажды к Аглае пришел молодой человек, очень гладко, до блеску, причесанный. Расшаркался весьма галантно. Отрекомендовался: — Представитель фирмы Стригаль и К°. Первоклассный магазин в самом бойком центре столичного аристократического движения. Имеем массу заказчиков в самом лучшем и высшем обществе. Аглая на всякий случай сделала глазки представителю знаменитой фирмы. Томным движением дебелой руки указала ему на стул. Села спиною к свету. Склонила голову набок. Приготовилась слушать. Блистательно причесанный молодой человек продолжал: — Мы узнали, что ваш супруг изволил предпочесть оригинально миниатюрный рост. Поэтому фирма, идя навстречу самоновейшим веяниям, в области дамских и мужских мод, имеет честь предложить вам, сударыня, в видах рекламы, бесплатно шить господину костюмы по самому лучшему парижскому журналу. — Даром? — лениво спросила Аглая. — Не только даром, сударыня, но даже с приплатой в вашу собственно пользу, но с одним маленьким и легко выполнимым условием. Меж тем Саранин, прослыша, что речь о нем, пробрался в гостиную. Расхаживал около молодого человека с блистательною прическою; Покашливал, постукивал каблучками. Очень досадовал, что представитель фирмы Стригаль и К° не обращает на него ни малейшего внимания. Наконец он подбежал к молодому человеку. Громко пискнул: — Разве вам не сказали, что я дома? Представитель знаменитой фирмы встал. Галантно шаркнул. Сел. Обратился к Аглае: — Одно только маленькое условие. Саранин презрительно фыркнул. Аглая, засмеялась. Сказала, блистая любопытными глазами: — Ну, говорите, какое условие. — Условие наше в том, чтобы господин изволил сидеть за окном нашего магазина в качестве живой рекламы. Аглая злорадно захохотала. — Отлично. Хоть бы с глаз его долой. — Я не согласен, — пронзительным голосом запищал Саранин. — Я не могу пойти на это. Я — надворный советник и кавалер. Сидеть в окне магазина для рекламы — это мне даже смешно. — Замолчи, — крикнула Аглая, — тебя не спрашивают. — Как не спрашивают? — завопил Саранин. — Долго ли я буду терпеть от инородцев! — Ну, и господин ошибается! — любезно возразил молодой человек. — Наша фирма не имеет ничего общего;.. У нас служат все православные и лютеране из Риги… — Я не хочу сидеть в окне! — кричал Саранин. Топал ногами. Аглая схватила его за руку. Повлекла в спальню. — Куда ты меня тащишь? — кричал Саранин. — Отпусти. — Я тебя усмирю, — крикнула Аглая. Замкнула-дверь. — Изобью! — сказала она сквозь зубы. Принялась колотить. Бессильно барахтался в ее могучих руках. — Ты, пигмей, в моей власти. Что захочу, то и сделаю. Я тебя в карман могу засунуть, — как же ты смеешь мне противиться! Я не посмотрю на твои чины, я тебя так взбучу, что тебе небо с овчинку покажется. — Я буду жаловаться! — пищал Саранин. Но скоро понял бесполезность сопротивления. Был слишком мал, — и Аглая, очевидно, решила пустить в дело всю свою силу. — Будет, будет, — завопил он, — иду в стригальское окно. Буду там сидеть, — тебе же срам. Надену все свои регалии. Аглая захохотала. — Ты наденешь то, что тебе Стригаль даст, — крикнула она. Выволокла мужа в гостиную. Бросила его приказчику: — Берите! Сейчас же возьмите его! И деньги вперед! Каждый месяц! Ее слова были истеричными вскриками. — Мало! — крикнула Аглая..! Молодой человек улыбнулся. Достал еще сторублевку. — Больше-с не уполномочен, — любезно сказал он. — Через месяц изволите получить следующий взнос. Саранин бегал по комнате. — В окно! в окно! — выкрикивал он. — Проклятый армянин, что ты со мной сделал? А сам вдруг еще вершка на два осел.X
Бессильные слезы, тоска Саранина, — что до этого Стригалю и его компанионам? Они заплатили. Они осуществляют свое право. Жестокое право капитала. Под властью капитала сам надворный советник и кавалер занимает положение, вполне соответствующее его точным размерам и нисколько не отвечающее его гордости. По последней моде одетый лилипут бегает в окне модного магазина, то засмотрится на красавиц, — таких колоссальных! — то злобно грозит кулачками смеющимся ребятам. У окон Стригаля и К° толпа. В магазине Стригаля и К° приказчики сбились с ног. Мастерская Стригаля и К° завалена заказами. Стригаль и К° в славе. Стригаль и К° расширяют мастерские. Стригаль и К° богаты. Стригаль и К° покупают дома. Стригаль и К° великодушны: они кормят Саранина по-царски, они не жалеют денег для его жены. Аглая получает уже по тысяче в месяц. У Аглаи завелись и еще доходы. И знакомства. И любовники. И бриллианты. И экипажи. И дом. Аглая весела и довольна. Она раздобрела еще больше. Носит башмаки на высоких каблуках. Выбирает шляпки гигантских размеров. Посещая мужа, она ласкает его и кормит, как птицу, с пальца. Саранин во фраке с куцыми фалдочками дробными шагами бегает перед нею по столу и пищит что-то. Голос его пронзителен, как комариный писк. Но слова не слышны. Маленькие людишки могут говорить, но их писк не слышен людям больших размеров, ни Аглае, ни Стригалю, ни всей компании. Аглая, окруженная приказчиками, слушает визг и писк человека. — Хохочет. Уходит. Саранина несут на окно, где гнезде мягких материй ему устроена целая квартира, обращенная к публике открытою стороною. Уличные мальчишки видят, как человечишка садится к столу и принимается писать прошения. Крохотные про-шеньица о восстановлении своих нарушенных Аглаею, Стригалем и К° прав. Пишет. Сует в конвертик. Мальчишки хохочут. Между тем Аглая садится в свой блистательный экипаж. Едет покататься перед обедом.
XI
Ни Аглая, ни Стригаль и К° не думали о том, чем все кончится. Они довольны были настоящим. Казалось, что и конца не будет золотому дождю, льющемуся на них. Но конец наступил. Самый обыкновенный. Какого и следовало ждать. Саранин все меньшал. Каждый день ему шили по нескольку новых костюмов, — все меньше. И вдруг ой, на глазах удивленных приказчиков, только что надев новые брючки, стал совсем крохотным. Вывалился из брючек. И уже стал как булавочная головка. Подул легкий сквознячок. Саранин, крохотный, как пылинка, поднялся в воздухе. Закружился. Смешался с тучею пляшущих в солнечном луче пылинок. Исчез. Все поиски были напрасны. Не нашелся нигде Саранин. Аглая, Стригаль и К°, полиция, духовенство, начальство — все были в большом недоумений. Как оформить исчезновение Саранина? Наконец, по сношению с Академией наук, решили считать его посланным в командировку с научною целью. Потом о нем забыли. Саранин кончился..В. Я. Брюсов В ЗЕРКАЛЕ Из архива психиатра
Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачноправдивую глубь. Моей любимой игрой в детстве было — ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом переступая край, задыхаясь от ужаса и головокружения. Уже девочкой я начала всю свою комнату уставлять зеркалами, большими и маленькими, верными и чуть-чуть искажающими, отчетливыми и несколько туманными. Я привыкла целые часы, целые дни проводить среди перекрещивающихся миров, входящих один в другой, колеблющихся, исчезающих и возникающих вновь. Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эхо, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, существующим, наперекор сознанию, в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Эта вывернутая действительность, отделенная от нас гладкой поверхностью стекла, почему-то недоступная осязанию, влекла меня к себе, притягивала, как бездна, как тайна. Меня влек к себе и призрак, всегда возникавший предо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удваивавший мое существо. Я старалась разгадать, чем та, другая женщина отличается от меня, как может быть, что моя правая рука у нее левая, и что все пальцы этой руки перемещены, хотя именно на одном из них — мое обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась вникнуть в эту загадку, разрешить ее. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я, действительная; в том, отраженном мире, который можно только созерцать, была она, призрачная. Она была почти как я, и совсем не я; она повторяла все мои движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать, владела тайной, навек сокрытой от моего рассудка. Но я заметила, что у каждого зеркала есть свой отдельный мир, особенный. Поставьте на одно и то же место, одно за другим, два зеркала — и возникнут две разные вселенные. И в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные, все похожие на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моем маленьком ручном зеркальце жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшими мне о моей ранней юности. В круглом будуарном — таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласк, бесстыдная, свободная, красивая, смелая. В четыреугольной зеркальной дверце шкапа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала еще другие мои двойники — в моем трюмо, в складном золоченом триптихе, в висячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во многих, во многих, хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давала предлог и возможность проявиться. По странным условиям их мира, они должны были принимать образ того, кто становился перед стеклом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты. Были миры зеркал, которые я любила; были — которые ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряясь в их завлекающих просторах. Других я избегала. Свои двойники втайне я не любила все. Я знала, что все они мне враждебны, уже за одно то, что принуждены облекаться в мой, ненавистный им образ. Но некоторых из зеркальных женщин я жалела, прощала им ненависть, относилась к ним почти дружески. Были такие, которых я презирала, над бессильной яростью которых любила смеяться, которых дразнила своей самостоятельностью и мучила своей властью над ними. Были, напротив, и такие, которых я боялась, которые были слишком сильны и осмеливались в свой черед смеяться надо мной, приказывали мне. От зеркал, где жили эти женщины, я спешила освободиться, в такие зеркала не смотрелась, прятала их, отдавала, даже разбивала. Но после каждого разбитого зеркала я не могла не рыдать целыми днями, сознавая, что разрушила отдельную вселенную. И укоряющие лики погубленного мира смотрели на меня укоризненно из осколков. Зеркало, ставшее для меня роковым, я купила осенью, на какой-то распродаже. То было большое, качающейся на винтах, трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трюмо на аукционе, женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом. Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня, — купила трюмо и велела поставить его у себя в будуаре. Оставшись в своей комнате одна, я тотчас подступила к новому зеркалу и вперила глаза в свою соперницу. Но она сделала то же, и, стоя друг против друга, мы стали пронизывать одна другую взглядом, как змеи. В ее зрачках отражалась я, в моих — она. У меня замерло сердце и закружилась голова от этого пристального взгляда. Но усилием воли я, наконец, оторвала глаза от чужих глаз, ногой толкнула зеркало, так что оно закачалось, жалостно колыхая призрак моей соперницы, и вышла из комнаты. С этого часа и началась наша борьба. Вечером, в первый день нашей встречи, я не осмелилась приблизиться к новому трюмо, была с мужем в театре, преувеличенно смеялась и казалась веселой. На другой день, при ясном свете сентябрьского дня, я смело вошла в свой будуар одна и нарочно села прямо против зеркала. В то же мгновение та, другая, тоже вошла в дверь, идя мне навстречу, перешла комнату и тоже села против меня. Глаза наши встретились. Я в ее глазах прочла ненависть ко мне, она в моих — к ней. Начался наш второй поединок, поединок глаз, двух неотступных взоров, повелевающих, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая из нас старалась завладеть волей соперницы, сломить ее сопротивление, заставить ее подчиняться своим хотениям. И страшно было бы со стороны увидеть двух женщин, неподвижно сидящих друг против друга, связанных магическим влиянием взора, почти теряющих сознание от психического напряжения… Вдруг меня позвали. Обаяние исчезло. Я встала, вышла. После того поединки стали возобновляться каждый день. Я поняла, что эта авантюристка нарочно вторглась в мой дом, чтобы погубить меня и занять в нашем мире мое место. Но отказаться от борьбы у меня недоставало сил. В этом соперничестве было какое-то скрытое упоение. В самой возможности поражения таился какой-то сладкий соблазн. Иногда я заставляла себя по целым дням не подходить к трюмо, занимала себя делами, развлечениями, — но в глубине моей души всегда таилась память о сопернице, которая терпеливо и самоуверенно ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, и она выступала передо мной, более торжествующая, чем прежде, пронизывала меня победным взором и приковывала меня к месту перед собой. Мое сердце останавливалось, и я, с бессильной яростью, чувствовала себя во власти этого взора… Так проходили дни и недели; наша борьба длилась; но перевес все определеннее сказывался на стороне моей соперницы. И вдруг, однажды, я поняла, что моя воля подчинена ее воле, что она уже сильнее меня. Меня охватил ужас. Первым моим движением было — убежать из моего дома, уехать в другой город; но тотчас я увидела, что то было бы бесполезно: покорная притягательной силе вражеской воли, я все равно вернулась бы сюда, в эту комнату, к своему зеркалу. Тогда явилась вторая мысль — разбить зеркало, обратить мою соперницу в ничто; но победить ее грубым насилием значило признать ее превосходство над собой? это было бы унизительно. Я предпочла остаться, чтобы довести начатую борьбу до конца, хотя бы мне и грозило поражение. Скоро уже не было сомнений, что моя соперница торжествует. С каждой встречей все больше и больше власти надо мной сосредоточивалось в ее взгляде. Понемногу я утратила возможность за день не подойти ни разу к моему зеркалу. Она приказывала мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов. Она управляла моей волей, как магнетизер волей сомнамбулы. Она распоряжалась моей жизнью, как госпожа жизнью рабы. Я стала исполнять то, что она требовала, я стала автоматом ее молчаливых повелений. Я знала, что она обдуманно, осторожно, но неизбежным путем ведет меня к гибели, и уже не сопротивлялась. Я разгадала ее тайный план: вбросить меня в мир зеркала, а самой выйти из него в наш мир, — но у меня не было сил помешать ей. Мой муж, мои родные, видя, что я провожу целые часы, целые дни и целые ночи перед зеркалом, считали меня помешавшейся, хотели лечить меня. А я не смела открыть им истины, мне было запрещено рассказать им всю страшную правду, весь ужас, к которому я шла. Днем гибели оказался один из декабрьских дней, перед праздниками. Помню все ясно, все подробно, все отчетливо: ничего не спуталось в моих воспоминаниях. Я, по обыкновению, ушла в свой будуар рано, в самом начале зимних сумерек. Я поставила перед зеркалом мягкое кресло без спинки, села и отдалась ей. Она без замедления явилась на зов, тоже поставила кресло, тоже села и стала смотреть на меня. Темные предчувствия томили мою душу, но я не властна была опустить свое лицо и должна была принимать в себя наглый взгляд соперницы. Проходили часы, налегали тени. Никто из нас двух не зажег огня. Стекло слабо блестело в темноте. Изображения были уже едва видимы, но самоуверенные глаза смотрели с прежней силой. Я не чувствовала злобы или ужаса, как в другие дни, но только неутолимую тоску и горечь сознания, что я во власти другого. Время плыло, и я уплывала с ним в бесконечность, в черный простор бессилия и безволия. Вдруг она, та, отраженная, — встала с кресла. Я вся задрожала от оскорбления. Но что-то непобедимое, что-то принуждавшее меня извне заставило встать и меня. Женщина в зеркале сделала шаг вперед. Я тоже. Женщина в зеркале простерла руки. Я тоже. Смотря все прямо на меня гипнотизирующими и повелительными глазами, она все подвигалась вперед, а я шла ей навстречу. И странно: при всем ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице, где-то в глубине моей души трепетало жуткое утешение, затаенная радость — войти, наконец, в этот таинственный мир, в который я всматривалась с детства и который до сих пор оставался недоступным для меня. Мгновениями я почти не знала, кто кого влечет к себе: она меня, или я ее, она ли жаждет моего места, или я задумала всю эту борьбу, чтобы заместить ее. Но когда, подвигаясь вперед, мои руки коснулись у стекла ее рук, я вся помертвела от омерзения. А о н а властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненностуденую воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменяли свое взаимоотношение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем, — и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из зеркала. Моя соперница стояла передо мной и хохотала. А я — о жестокость! — я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже, повторяя все ее гримасы, торжествующим и радостным смехом. И не успела я еще осмыслить своего состояния, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям, исчезла из моих глаз, и я вдруг впала в оцепенение, в небытие. После этого началась моя жизнь как отражения. Странная, полусознательная, хотя тайно-сладостная жизнь. Нас было много в этом зеркале, темных душ, дремлющих сознаний. Мы не могли говорить одна с другой, но чувствовали близость, любили друг друга. Мы ничего не видели, слышали смутно, и наше бытие было подобно изнеможению от невозможности дышать. Только когда существо из мира людей подходило к зеркалу, мы, внезапно восприняв его облик, могливзглянуть в мир, различить голоса, вздохнуть всей грудью. Я думаю, что такова жизнь мертвых — неясное сознание своего «я», смутная память о прошлом и томительная жажда хотя бы на миг воплотиться вновь, увидеть, услышать, сказать… И каждый из нас таил и лелеял заветную мечту— освободиться, найти себе новое тело, уйти в мир постоянства и незыблемости. Первые дни я чувствовала себя совершенно несчастной в своем новом положении. Я еще ничего не знала, ничего не умела. Покорно и бессмысленно принимала я образ моей соперницы, когда она приближалась к зеркалу и начинала насмехаться надо мной. А она делала это довольно часто. Ей доставляло великое наслаждение щеголять передо мной своей жизненностью, своей реальностью. Она садилась и заставляла сесть меня, вставала и ликовала, видя, что я встала, размахивала руками, танцевала, принуждала меня удваивать ее движения и хохотала, хохотала, чтобы хохотала и я. Она кричала мне в лицо обидные слова, а я не могла отвечать ей. Она грозила мне кулаком и издевалась над моим обязательным повторным жестом. Она поворачивалась ко мне спиной, и я, теряя зрение, теряя лик, сознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования… И потом, вдруг, она одним ударом перевертывала зеркало вокруг оси и с размаха бросала меня в полное небытие. Однако понемногу оскорбления и унижения пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живет моей жизнью, пользуется моими туалетами, считается женой моего мужа, занимает в свете мое место. Чувство ненависти и жажда мести выросли тогда в моей душе, как два огненных цветка. Я стала горько клясть себя за то, что по слабости или по преступному любопытству дала победить себя. Я пришла к уверенности, что никогда эта авантюристка не восторжествовала бы надо мной, если бы я сама-не помогала ей в ее кознях. И вот, освоившись несколько с условиями моего нового бытия, я решилась повести с ней ту же борьбу, какую она вела со мной. Если она, тень, сумела занять место действительной женщины, неужели же я, человек, лишь временно ставший тенью, не буду сильнее призрака? Я начала очень издалека. Сперва я стала притворяться, что насмешки моей соперницы мучат меня все нестерпимей. Я доставляла ей нарочно все наслаждения победы. Я дразнила в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь изнемогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывая новые пытки для меня. Она изобретала тысячи хитростей, чтобы еще и еще раз показать мне, что я — лишь отражение, что своей жизни у меня нет. То она играла передо мной на рояли, муча меня беззвучностью моего мира. То она, сидя перед зеркалом, глотала маленькими глотками мои любимые ликеры, заставляя меня только делать вид, что я тоже их пью. То, наконец, приводила в мой будуар людей мне ненавистных и перед моим лицом отдавала им целовать свое тело, позволяя им думать, что они целуют меня. И после, оставшись наедине со мной, она хохотала злорадным и торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял меня; на его острие была сладость: мое ожидание мести! Незаметно, в часы ее надругательств надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно ее взором. Скоро по своей воле я уже могла заставлять ее подымать и опускать веки, делать то или иное движение лицом. Торжествовать уже начинала я, хотя и скрывала свое чувство под личиной страдания. Сила души возрастала во мне, и я осмеливалась приказывать моему врагу: сегодня ты сделаешь то-то, сегодня ты поедешь туда-то, завтра придешь ко мне тогда-то; И она исполняла! Я опутывала ее душу сетями своих хотений, сплетала твердую нить, на которой держала ее волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она однажды, в час своего хохота, вдруг уловила на моих Тубах победную усмешку, которой я не могла скрыть, было уже поздно. Она с яростью выбежала тогда из комнаты, но я, впадая в сон своего небытия; знала, что она вернется, знала, что она подчинится мне! И восторг победы реял над моим безвольным бессилием, радужным веером прорезал мрак моей мнимой смерти. Она вернулась! Она пришла ко мне в гневе и страхе, кричала на меня, грозила мне. А я ей приказывала. И она должна была повиноваться. Началась игра кошки с мышью. В любой час я могла вбросить ее вновь в глубь стекла и выйти вновь в звонкую и твердую действительность. Она знала, что это — в моей воле, и такое сознание мучило ее вдвое. Но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно упиваться возможностью. Наконец (это странно, не правда ли?), во мне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Все же в ней было что-то мое, и мне страшно было вырвать ее из яви жизни и обратить в призрак. Я колебалась и не смела, я давала отсрочки день за днем, я сама не знала, чего я хочу и что меня ужасает. И вдруг, в ясный весенний день, в будуар вошли люди с досками и топорами. Во мне не было жизни, я лежала в сладострастном оцепенении, но, не видя, поняла, что они здесь. Люди стали хлопотать около зеркала, которое было моей вселенной. И одна за другой души, населявшие ее вместе со мной, пробуждались и принимали призрачную плоть в форме отражений. Страшное беспокойство заколебало мою сонную душу. Предчувствуя ужас, предчувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться, с истомой полубытия! Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душащих уз к действительности. Я сосредоточивала все силы своего внушения на зове, устремленном к ней, к моей сопернице: «Приди сюда!» Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли. А времени было мало. Зеркало уже качали. Уже готовились забивать его в дощатый гроб, чтобы везти: куда — неизвестно. И вот, почти в смертельном порыве, я позвала вновь и вновь: «Приди!..» И вдруг почувствовала, что оживаю. Она, мой враг, отворила дверь и, бледная, полумертвая, шла навстречу мне, на мой зов, упирающимися шагами, как идут на казнь. Я схватила в свои глаза ее глаза, связала свой взор с ее взором и после этого уже знала, что победа за мной. Я тотчас заставила ее выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоем. Медлить было больше нельзя. Да и не могла я простить ей коварства. На ее месте, в свое время, я поступала иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал ее губы, глаза расширились, как перед призраком, но она шла, шатаясь, падая, — шла. Я тоже шла навстречу ей, с губами, искривленными торжеством, с- глазами, широко открытыми от радости, шатаясь от пьянящего восторга. Снова соприкоснулись наши руки, снова сблизились наши губы, и мы упали одна в другую, сжигаемые невыразимой болью перевоплощения. Через миг я была уже перед зеркалом, грудь моя наполнилась воздухом, я вскрикнула громко и победно и упала здесь же, перед трюмо, ниц от изнеможения. Ко мне вбежали мой муж, люди. Я только могла проговорить, чтобы исполнили мой прежний приказ, чтобы унесли из дому, прочь, совсем, это зеркало. Это было умно придумано, не правда ли? Ведь та, другая, могла воспользоваться моей слабостью в первые минуты моего возвращения к жизни и отчаянным натиском попытаться вырвать у меня из рук победу. Отсылая зеркало из дому, я на долгое, на любое время обеспечивала себе спокойствие, а соперница моя заслуживала такое наказание за свое коварство. Я ее поражала ее собственным оружием, клинком, который она сама подняла на меня. Отдав приказание, я лишилась чувств. Меня уложили в постель. Позвали врача. Со мной сделалась от всего пережитого нервная горячка. Близкие уже давно считали меня больной, ненормальной. В первом порыве ликования я не остереглась и рассказала им все, что со мной было. Мои рассказы только подтвердили их подозрения. Меня перевезли в психиатрическую лечебницу, где я нахожусь и теперь. Все мое существо, я согласна, еще глубоко потрясено. Но я не хочу оставаться здесь. Я жажду вернуться к радостям жизни, ко всем бесчисленным утехам, которые доступны живому человеку. Слишком долго я была лишена их. Кроме того, — сказать ли? — у меня есть одно дело, которое мне необходимо совершить как можно скорее. Я не должна сомневаться, что я это — я. И все же, когда я начинаю думать о той, заточенной в моем зеркале, меня начинает охватывать странное колебание: а что, если подлинная я — там? Тогда я сама, я, думающая это, я, которая пишу это, я — тень, я — призрак, я — отражение. В меня лишь перелились воспоминания, мысли и чувства той, другой меня, той, настоящей. А в действительности я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда. Но, чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь, еще раз, в последний раз, увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там — самозванка, мой враг, игравший мою роль в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и все смятение моей души минет, и я буду вновь беспечной, ясной, счастливой. Где это зеркало, где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуть в его глубь!А. И. Куприн ЗВЕЗДА СОЛОМОНА
I
Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал тридцать семь рублей двадцать четыре с половиной копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, — сокровище не бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брандмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами. Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд, все в одной и той же комнате, в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек. Зимою же на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было божие милосердие, образ богородицы-троеручицы, и перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка. И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка — за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, товарищи — за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием; начальство — за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось — получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зерцалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия. Цвет извлекал ее на свет божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, — жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресение утром — кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма. Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание — разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путаную белиберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие, еженедельные изданьица, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении. Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет — и то по особо настойчивым приглашениям — в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих — голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный «банкетный» кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще — церковное, строгого стиля, вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Среброструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом и — старый потертый крокодил — плакал настоящими, в орех величиною, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску. На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего — волосатого и звероподобного октависта Сугробова, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.II
Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем, старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодьяконом, был позван и церковный хор. День закончился в «Белых лебедях» настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугробову, то огромному протодьякону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Среброструнова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Среброструнова золотой камертон с надписью и к нему — замечательный футляр из красного сафьяна, собственноручной работы. В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами, одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью. — Я и не скрываю. Чего мне скрывать? — говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. — Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуйте-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни грошика. Н-никому! Зась! — Го-го-го! — загрохотал оглушительно Картаге-нов. — Я раз выиграл на билет пятьсот рублей. — Как это так, отец дьякон? На билет от конки? — Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батька, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодьяконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Моз-гляк! — рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. — Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя, и потом на каждом надписал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа. Однако не застраховал. Побоялся искушения. Сказано в писании: «Не надейтеся ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком; малолеткам — ко дню их совершеннолетия. А на руки — немедленная единовременная премия, в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу-три рубля, за пять тысяч — десять и так далее, с благоразумным уменьшением процентов. За двести же тысяч— пятьдесят целковых, по тогдашнему времени — целый корабль с мачтами и еще груженный золотом. Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь — готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения нумер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж — никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, — почем знать? — ив удвоенном размере. Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдадено в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями квантум сатис[32], даже до полного расстройства стомаха[33]. Наутро батька попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. «Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабине? те, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: «Скидывай портки!» — «За что, папенька?» — «А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бо есть блуд!» И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. «Не хочу, — сказал, — потворствовать мошенническим аферам». Вот и все. — Маловато, — заметил кто-та иронически. — А что же? — возразил другой. — Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы… Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов: — Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концертировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу. А Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за границей таких зверей еще не видывано. — Ве-ерно, — протянул протодьякон низким, мягким и густым басом. — Да-а, — подтвердил Сугробов на кварту ниже. — А я бы, — заговорил он с оживлением, — я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: «Вот тебе отступное. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я — до свидания. Попилили меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать». И ушел бы я на волю. Засим тридцать тысяч отделю в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возрощать плоды и ягоды. И кор-не-пло-ды… — закончил он в нижнее контр-ля. Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена — маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житнем базаре. И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых. честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалась, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании, с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках и, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей. Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито: — Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч — дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, — одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудость фантазии! — Ему бы миллион, — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. — Известно, консистория — место хлебное, а глаза у нее завидущие. — А что же? — спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. — Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять — это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться, по мановению волшебного жезла, например, царем? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка, Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» — «А я бы, говорит, сидел целый день у ворот на завалинке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет — в морду. Как мимо — так в морду». Ваша готтентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол и скажи: «Вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть». Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью. Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету: — Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А? — Я? — встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. — Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь… светло, уютно… компания милых, хороших товарищей… дружная беседа… — Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. — Я хотел, чтобы был большой сад… и в нем много прекрасных цветов. И многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей… И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами все там жили… в простоте, дружбе и веселости… Никто бы не ссорился… Детей чтобы был полон весь сад… и чтобы все мы очень хорошо пели… И труд был бы наслаждением… И там ручейки разные… рыба пускай по звонку приплывает… — Словом — рай! — прервал его Световидов. А протодьякон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок. И взревел ему в самое ухо: — Ваня! Друг! Ангелоподобный! Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием: «Во всем ресторане огни уже потушены. Пора расходиться. А то от полиции выйдут неприятности». Стали расходиться. Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых, распушенных облаков стремительно катился ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно-прекрасный собственный мотив собственные же слова акафиста всемирной красоте: «Земли славное благоутробие и благоухание и небеси глубино торжественная, людие веселием играша воспевающе…» Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание Цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.III
— Извиняюсь за беспокойство, — сказал осторожно чей-то голос. Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди — огненно-красный галстук, под мышкой — древний помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посредине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх, в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями; бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами; острая длинная французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ — брови незнакомца, подымавшиеся от переносья круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу. — Я стучал два раза, — продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. — Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас — самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам «на доброе утро». Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. — Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. — Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное и неотложное дело… Да нет, вы не волнуйтесь так, — заметил он, увидя на лице Цвета испуг и торопливость. — На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти… — Ах, это ужасно неприятно, — конфузливо сказал Цвет. — Вы меня застали неодетым, погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам. Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал: — Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести… — Сначала позвольте рекомендоваться. — Посетитель протянул визитную карточку, — Я — ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель. «Странно. И фамилия как будто бы знакомая», — подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал: — Очень приятно… Но я… — Один момент… Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем. Не так ли? — Совершенно точно. — Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже ныне покойного, имя-отчество было Аполлон Николаевич? Верно? — Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уже очень давно… Так, какие-то мелочи… и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их. — Это вовсе и не важно. Пара пустяков, — небрежно махнул рукой ходатай и тотчас же, раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. — Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдимом и даже, говорят, алхимиком. Словом — что называется — чудаком. — Да, я что-то слышал в этом роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей. Утеряли их. Впрочем, без всякой ссоры. — Так. Теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судьбы покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии: земля, — лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет восемь это имущество считалось бесхозяйным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким, неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно Про Червоное, я и пошёл по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист — какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки и вот, наконец, в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба, с постройками и со всем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим старшим в роде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренно поздравить. Тоффель, сидя, поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо. — И чтобы не быть голословным, — продолжал Тоффель, — позвольте предоставить, вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание. Вот ввод во владение… Наследственные и иные пошлины. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с прибавкой пеней за истекшие годы. Вот тра-та-та, тра-та, — забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами. Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал Цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписей и росчерков. «Как его звать? — подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на Тоффеля. — Удивительно знакомое имя. И где же я, наконец, видел эту странно-памятную, необычайную физиономию?» И он сказал вслух с некоторой робостью: — Но, видите ли, почтенный Мефодий Исаевич. Все это так неожиданно… Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко Черниговская губерния… — Стародубский уезд, — подсказал Тоффель. Вот видите. Я положительно теряюсь и должён поневоле просить ваших указаний… Кроме того, ваши любезные хлопоты… Вы уж будьте добры сами назначить сумму вознаграждения. Тоффель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке Цвета. — Гонорар — второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получил О вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов с казенной оценки? Если это вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью. — О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет двадцать. — Признателен, — поклонился Тоффель. — И теперь, раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам: немедленно же, как можно скорее, ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же. — Позвольте, но это уже совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск… Необходимо достать денег на дорогу… Собраться… И мало ли еще что? — Пара пустяков, — самодовольно и ласково возразил ходатай. — Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича. К чести его надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйте. — Вы — волшебник, — прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный, по семейным надобностям, отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим. — И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг— это уж так водится у нас, адвокатов, — ссудить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется, под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет, нет, вы уж потрудитесь послюнить пальчики. Деньги счет любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только: «И. Цвет» — и дело в шляпе. Цвет был ошеломлен. — Вы так любезны и предупредительны… что я… что я… право, я не нахожу слов. — Сущий вздор, — фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тоффель. — Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз. Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка. — Это билет первого класса до станции Горынище, а это — плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в одиннадцать тридцать. Пароконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем: «Andiam, andiam, mio caro…»[34] — пропел очень фальшиво, козлиным голосом Тоффель. — А с вашего разрешения, я пособлю вам уложиться! — Ах, что вы, помилуйте… Ради бога! — смутился Цвет. Лицо Тоффеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой. — Экий вы щепетильный какой. Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек — вот этот саквояж. Нет, нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж[35]. — Спасибо, — сказал Цвет. — Прелестная вещь. — Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека, — думал он, — и как поразительно скоро совершаются все события! Право — точно во сне. Или я и в самом деле сплю? Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо… Где же я его видел раньше?» — Но как все это необыкновенно, — сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. — Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся. Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его. — Ах, молодой человек, молодой человек… Как мало в вас предприимчивости. Впрочем, и все мы, русские, таковы: с развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд, по срочным делам. Волка ноги кормят. Ничего, ничего… Одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я — мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проканителитесь в городе несколько лишних дней? Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить взаймы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы — человек слабый, мягкий, уступчивый, — хороший товарищ. Еще завертитесь, чего доброго, и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, — помните? — полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна, с сапфировыми глазками? Право, слушайте вы-меня, старого воробья. Я худу Неучу. Тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать отеческую, симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь! А я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой, Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного, тонкого голландского белья. И сорочек много не надо: Две, три перемены. Возьмите мягкие fantaisie. Немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-сараем. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня. Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Чересполосица, рядом чиншевые наделы, до сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, «улиточная запись». Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы! Мое мнение — землю продать. Возиться с ней — это, как говорят поляки, «более змраду, як потехи». Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик сядет в калошу… Вы выбираете галстуки? Советую вам этот, черный с белыми косыми полосками. Он солиднее… Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря — никакого. Дом — сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра Первого, с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть — рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все — хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии… Ведь вы человек верующий? — Тоффель, не оборачиваясь, кивнул головой назад, на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. — И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите! А? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь? Да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович. — Даю, даю. Сделайте милость. Господи!.. — Крр… — издал ходатай горлом странный трескучий звук. — Что с вами? — заботливо спросил Цвет. — Ничего, ничего, не беспокойтесь… Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное. Ну, вы, кажется, готовы? Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку поммери-сек. Нет, уж вы выходите первым. Я за вами. По-румынски. Вот так. Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная, небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой: — Не откажите принять. Это так… дорожная провизия… Немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного, мутонротшильд. Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы… А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бельвю. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты. И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.IV
— Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники— вежливые, внимательные, разговорчивые без навязчивости. Сладко и глубоко спал Цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов: все, как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные с громким смехом и французскими словами, — женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости. Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествий. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам — Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. «Просто какое-то наваждение, — думал тревожно Цвет. — Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто». К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горы-нище и нанял за три рубля сивоусого дюжего хохла до Червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством. — Так-таки до самого, до паньского фольварку? — спросил он, наконец, недоверчиво. — До того Цвита, що вмер? — Да, в имение, в господский дом, — подтвердил Иван Степанович. — Эге ж. — Старик чмокнул на лошадей губами. — А вы сами из каких будете? Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве и о родстве. Старик медленно покачал головой. — Эх, не доброе дило… Не фалю. — Почему не хвалите, дядя? — А так… Не хочу… И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно: — Вылазьте, ну, панычу. Бильшь не пойду. — Как же это так не поедете? — удивился Цвет. — Осталось ведь немного. Вон и дом виден. — Ни. Не пойду. А ни за пьять корбованцив. Не хочу. Цвет вспомнил Слова Тоффеля о дурной славе ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой: — Боитесь, верно? — Ни. Ни трошки не боюсь, а тилько так. Платите Мини мои гроши, тай годи. Попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому. Тоффель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой известкой, облупились и обнажили гнилое, трухлявое дерево. Кой-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшелой позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду, под коряво разросшимися деревьями, стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения. Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери — парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшая на веранду из разноцветных стекол, — были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу. — А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? — спросил он. — Всюду заперто. — А чи я знаю? — равнодушно пожал плечами мужик. — Мабудъ у господина врядника, чи у станового, чи у соцького, а мабудь у старосты альбо учителя. Теперички вси забули про цее бисово кубло. И хозяина нема ему. Вы мене, просю, звините, а тильки люди недоброе балакают про вашего родича. Бачите — такее зробилось, що, кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки… И загубил свою душу, а ни за собачий хвист. И вас, панычу, нехай боронит господь бог и сбитый Мыкола. Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела. «Точь-в-точь как голос Тоффеля», — подумал Цвет. И в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание. — А ну, седайте, панычу, скорийше и поидеме до села, — сказал хохол. Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в Червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чаю, пока толстопятая дивчина Гапка бегала за сторожем. Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную седеющую бороду и сверля Цвета острыми, маленькими, опухшими глазками: — Как человек до известной степени интеллигентный; я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий. Но как лицо духовное, не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях князя тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежение всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство. Постелят вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините, чем богаты… А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе. Цвет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому- что изморенное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался. Пришел церковный сторож, древний маленький старичок, уже не седой; а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что казалось, он все время собирается стать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и: связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал Цвету запасную свечу и, пригласил его на завтра к утреннему чаю. — Если что понадобится, рад служить. По-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии. Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое, мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изборождавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом; и с трудом разбирал его слабый, тонкий, шамкающий голое. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем Червоном, но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости. — Чего мне бояться. Я ничего не боюсь. Я — солдат. Еще за Николая, за Первого, севастопольский. И под турку ходил. Солдату бояться не полагается. Пятнадцать лет я сторожем при церкви и на кладбище. Пятнадцать лет моя такая должность. И скажу: все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидениев, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз сходить на кладбище. В случае воры или шум какой — и вообще. И хоть бы что. Которые умерли, они сплят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и ни мур-мур. А нечистая сила, так это она в прежние времена действовала, еще когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда, бывало, иной землячок, отчаявшись, и душу продавал нечистому. Это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по элекстричеству работает. Старик, а за ним Цвет прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом Тоффеля, вдоль черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами, до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку. Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха: ужас перед сверхъестественным, потусторонним был совершенно чужд его ясной и здоровой душе, — но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя разбитым, и где-то глубоко в сознании трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке Обошел он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких старинных, бледно-зеленых зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим, Движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими колеблющимися лоскутами. Все покоробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтение, жалобные скрипы: и иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья, и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны, с выгнутыми, в виде раковин, спинками. Огромные шатающиеся хромоногие шкафы и комоды, картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые, движущиеся тени на стены. И тень от самого Цвета то уродливо вырастала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу. Тяжелые драпри на окнах и дверях слегка пошевеливали своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек. По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх, во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом: поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет. Но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. Вдоль стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, — такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный, чудесных красных тонов, текинский ковер. Другая комната, несколько больших размеров, сразу удивила и очаровала Цвета, Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал места зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича; около него, сбоку, на подставке, помещались раздувательные двойные меха. Один круглый треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смысл и назначение которых Цвет не в состоянии был постичь. Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикеты с рисунком мертвой головы или с латинской надписью «venena»[36]. Другой стол, ясеневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду: на стульях, на поду и главным образом на дубовых полках, прибитых вдоль стен, в несколько этажей, где они стояли, и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного; солидного вида, большинство in folio[37]2, в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение. Два предмета на ясеневом столе привлекли особенное внимание Цвета: небольшая, в фут длиною, черная палочка; один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами; а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку Цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая, теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный, густой и, в зависимости от поворотов около фонаря, то бархатно-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек. Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, стеарин, мыло или слюда. Но чувствовалось, что он прочен, как стальной. Поставив фонарь на стол, Цвет опустился возле него в глубокое старинное, мягкой кожи кресло и, движимый каким-то необъяснимым, бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежавших на столе книг, переплетенной в ярко-красный сафьян, и раскрыл ее. На самом верху первой, обычно пустой страницы выцветшими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с «н», похожим на «т», и «д» — на «п», тем характерным почерком конца восемнадцатого столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно-красиво выведено: «Сия книга замет, наблюдений и опытов начата Отставным Лейб-гвардии Поручиком князем Никитой Федоровичем Калязиным Апреля 11-го дня, 1786-го года в усадьбе Свистуны, Калязинской вотчины, Пензенской губернии». Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв, вроде «р», «д», «у», «з» и тому подобное, стояло: «Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24-го апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гречухин. Москва, Сивцев-Вражек, свой дом». И еще ниже — мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика: «По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар, моим учителем и другом. Надворный советник Аполлон Цвет. 1899 г., Апреля 3-го, ус, у Червоное, Черные. губ., Стародубского у.». С почтительным тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно, перелистывать одну за другой твердые, как картон, желтые, как слоновая кость, страницы. Но содержание книги было выше тех средств, которыми Цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порою и целые страницы, писанные по-французски и по-немецки, часто по-латыни, реже по-гречески, иногда же встречалась пестрая восточная вязь — не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов Цвет еще кое-как, с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово (он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии), но целых изречений одолеть не мог. Русский текст, двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для уразумения. Он был написан тем старинным высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны. Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного Цвета. Но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики и астрономии, о кончинах никому не известных и ничем не замечательных людей. Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что представляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, Надо было в каждом слове, вместо первой его буквы, подставлять букву, следующую за нею в порядке алфавита, вместо второй — третью, вместо третьей — четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква «а» значила местоимение «я», буква «к» — союз «и», «пессв» расшифровывались в «огонь», часто встречающийся знак «ехт» значил — «дух», «тнсжу» — читалось, как «слово», нелепое «грлбсп» означало «возьми». Но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего Нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобно изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарад. Однако через несколько минут его способность к раскрыванию замаскированных речей все-таки пригодилась ему. Вся книга была вперемешку с текстом испещрена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических и химических формул, рисунков, созвездий и знаков зодиака. Но чаще всего, почти на каждой странице, попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга так, что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились — одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назывался в дядюшкином шифре «Звездой Соломона». И всегда «Звезда Соломона» сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же семи имен, написанных на разных языках: то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски: Асторет (иногда Астарот или Аштарет). Асмодей. Велиал (иногда Ваал, Бел, Вельзевул). Дагон. Люцифер. Молох. Хамман (иногда Амман и Гамман). Видно было, что все три предшественника Цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию, — может быть, слово, может быть, целую фразу, — и расположить ее по одной букве в точках пересечения «Звезды Соломона» или в образуемых ею треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток Цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия, трудились над разрешением какой-то таинственной задачи: один — в своей княжеской вотчине, другой — в Москве, третий — в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания Цвета. Как фантастически ни перестраивали и ни склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога: Sa-tan. Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет в своей последней заметке на двести тридцать шестой странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью: «Подумать только? Семнадцать букв. Из них надо выбрать тринадцать. Пять найдено: Sa-tan. Два раза „А“. Итого четыре. Еще одиннадцать. Или восемь? Или буквы опять повторяются? По теории чисел возможны миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельрем? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро? Все мы бредем ощупью, и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу. Или воля мудрых пропала безвозвратно?» Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво, дрожащей рукой:«Чувствую упадок сил. Заканчиваю свой труд. Все напрасно. Передаю следующему за мной. В ключе формула. В формуле — сила. В силе — власть.У Ивана Стелановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, послюнил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее:А. Цвет».
«26-го апреля 19** года сию книгу нашел в ус. Червоное и труд почтенных предшественников продолжен. Канц. Служ. И. Цвет. Червоное».И когда он снова развернул книгу наудачу, на середине, она открылась как раз там, где лежала странная закладка: тонкая из желтоватой массы таблетка вершков четырех в квадрате с вырезанным на ней рисунком «Звезды Соломона» и множество крошечных сантиметровых квадратиков из того же матерьяла; на каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще несколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал: их было сорок четыре. «Странно, — подумал он. — Неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну, что же… попробуем…» В фонаре свеча догорала. Цвет зажег запасную, подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол, фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая, равномерная тишина. И у Цвета было такое чувство, что он один во всем мире сидит за своими костяшками в малом, тихом, освещенном пространстве, а жизнь — где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы. Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно семь строк, по одному имени в каждой. Astoret Asmodeus Dagon Наmmаn Lucifer Moloh Veiial И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то во всяком случае все сорок четыре костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомнения в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников. Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучек оказалось семнадцать. «Опять верно, — подумал Цвет. — Но в формулу входит только тринадцать. Четыре лишних. И почем знать — не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в „Звезде Соломона“? В звезде всего двенадцать точек, значит, тринадцатая и, верно, самая важная, пойдёт в середину. Если начать со слова Satan, то не поместить ли S в центре внутреннего шестиугольника? И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад: „Титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца“. Конечно — S». И Цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы — a, t, а, n. Начало вышло довольно удачным, но дальше дело не пошло, а темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память, Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек: Voco te, Satanoe! Advoco te, Satan! Veni hue, Satana[38]. Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается. И вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая и даже пошлая, что она, наверно, никак не могла прийти в голову прежним, углубленным в высокую и тайную науку мудрецам. Пересмотреть квадратики на свет! Через минуту его догадка дала блестящий результат. Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если бы по натуре не был так скромен. Из всех сорока четырех квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, тринадцать совершенно не пропускали света. Это были следующие буквы: а, а, е, f, g, i, m, n, o, o, r, s, t. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Satan. Оставалось только решить участь остальных восьми букв: е, g, i, m, о, о, г, f. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным S в центре. Делал он это левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола. Теперь он воочию убедился в бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям «Звезды Соломона» справа, и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно. У него получились необыкновенные фантастические слова вроде: афит, ониг, гано, офт, офир, мего, аргме, обхари, тасеф, нилоно и так далее. Но они ничего не значили ни на каком из языков. Тогда, продолжая постукивать палочкой по шару, Цвет стал пробовать выговорить все тринадцать букв в любом возможном для произношения порядке. «Танорифогемас, Морфогенатаси, Расатогоминфе…» Голова его отяжелела. Уныние и усталость все сильнее овладевали им. И вдруг… точно вдохновение подхватило Цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом встали на голове. — Афро-Аместигон! — воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза. Внутри его ходили, свиваясь, какие-то дымные, сизые, густые клубы, похожие на тучи во время грозы, и зловещим кровавым заревом освещал их изнутри невидимый огонь. А на шаре стояла на задних лапах огромная черная крыса. Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском. Из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг. И вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. «Мефодий Исаевич Тоффель! — мелькнуло быстро в памяти Цвета. — Меф-ис-тоффель!» Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом: — Кш! проклятый! Брысь! Афро-Аместигон! Он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, с шевелящимися губами, мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом. — Мэ-э-э! — угрожающе заблеял козел и наклонил рога. — Ах, так? — крикнул в исступлении Цвет. — Афро-Аместигон! Из всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду. Но не попал. Удар пришелся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб. Ослепительное пламя рванулось к потолку. Серный удушливый ураган дохнул на Цвета. И он потерял сознание.
V
Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом, сам собою, в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую молеедину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу Цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и защекотал своим жгучим прикосновением. Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало девять лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле. Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальной комнате, на широком замшевом диване, и что под головой у него была старинная атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти, точно кто-то стер губкой все события этой странной. и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана. Он быстро вскочил, подбежал к окну, отодвинул тяжелую занавеску, скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту, и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный, много лет непроветренный покой. «Ах, хорошо жить! — подумал Цвет, глубоко, с трепетом вдыхая воздух. — Только, вот стаканчик бы чаю… А как его достанешь?» Тотчас же сзади него скрипнула дверь. Он обернулся В комнату входил вчерашний ветхий церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький, пузатый, ярко начищенный самовар. — Добрый день, паныч, — прошамкал он в свою зеленую бороду. — А вы так хороший кусок сна хватили. Дверь оставили незачинивши. То-то молодость. Я вот чайку вам скипятил. Пождите трошки, я зараз принесу. Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро, толстыми кусками; был и мед в блюдечке, и сливки, и старый съеженный временем лимон. — Самовар я у батюшки-попа занял, — деловито объяснял сторож. — А цитрону достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с цитроной пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать. Дурная голова стала. Что давношнее, еще за Севастополь, хорошо помню, а что поближе — вовсе растерял. Кушайте на здоровьечко. — Садитесь и вы, дедушка, — предложил Цвет. — Давайте стакан, я вам налью. — Покорнейше благодарю, ваше благородие. Не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко. Не надо? Ну, как ваше желание. Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул чай с блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный. Цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но, жил большим нелюдимом. Хозяйство у него вела старая и презлющая одноокая женщина, он ее привез с собою из Питера в Червоное. А за дворней и за лошадью ходил солдат — большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя Цвет не принимал, но и сам ни к кому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам— все это бабьи сплетни. В церкву, правда, не ходил, ну да это, как сказать, — каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас есть на Червоном и в Зябловке такие, что тоже в церкву не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются. в хате и читают в книгу. А живут ничего сёбе, хорошо… Не пьют, не курят, в карты не играют… Чисто вокруг себя ходят… Брешут, что будто бы насчет баб у них непорядок… Сначала Цвет с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдаленный, а потом все более заметный запах гари. Запах этот сделался, наконец, так силен, что даже сторож его услышал. — А уж не горит ли что у нас часом? — спросил он, бережно ставя блюдце на стол. — И то горит, — согласился Цвет. — Пойду посмотрю. Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном сафьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу, и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь. — А ну кидайте ее в печку, ваше благородие, — посоветовал храбрый старик. — Давайте я. Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу. — Оставьте. Можно потушить. Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и запылала в нем весело и бурливо. — От так! — крякнул с удовольствием сторож, — Туда ее, к чертовой матери. — А и правда, — спокойно согласился Цвет и повернулся спиной к камину. И совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, склонившись над красной книгой. Но почему-то ему внезапно сделалось скучно… С помощью сторожа он открыл кое-где в зале и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившем о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам темными, колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые, потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью… — Ну, и хлам! — сказал Цвет, качая головой. — И правда, — согласился сторож. — В нем если жить, то надо с опаской. Того гляди развалится. И чинить нет расчета. Надо новый ставить. По шатким, искрошившимся ступеням Цвет спустился в сад. Но там было еще грустнее, еще острее чувствовалось забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травою, трухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами. Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило Цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и в груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе, на верху шестого этажа, под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого привычного уюта. «Ах, хорошо бы поскорее домой, — подумал он. — Ни за что здесь не стану жить». В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колес. Какой-то экипаж остановился у ворот. — Никак почта из Козинец? — сказал сторож. — У нее такой звонок. Цвет торопливо вышел на тополевую аллею. Навстречу ему приближался почтальон, высокий, длинный малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой набок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице. — Господин Цвет? Это вы? Вам телеграмма, — крикнул почтальон на ходу. — С приездом имею честь. Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля. «Козинцы нарочным Червоное усадьба помещику Цвету. Выезжайте немедленно нашел покупателя пока сорок тысяч постараюсь больше привет Тоффель». Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует, и лишь с некоторым, небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался. — Надо, дедушка, мне ехать обратно, — сказал он деловито. — Как бы лошадь достать в селе? — А вот не угодно ли со мной? — охотно предложил почтальон. — Мне все равно на станцию ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козинец. Кони у нас добрые. Дадите ямщику полтинник на водку— мигом доставит. И как раз к курьерскому. — Мало погостили, — заметил древний церковный сторож. — А и то сказать, что у нас вам за интерес?.. Человек вы городской, молодой… Покорнейше благодарю, ваше благородие… Тяпну за ваше здоровье… Пожёлаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам… — Ладно, ладно, — весело перебил Цвет, — Подождите, я только сбегаю за чемоданом и — езда!VI
Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около двадцати последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быстрее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При сорока снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках; извозчичья кляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется стоногой; молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная, серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса. Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь Цвета после его поездки в Червоное. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно-фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса — все слилось в один мутный, черт знает куда несущийся вихрь. Изредка как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжение четырех-пяти секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже и не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахразады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всебо замечательнее было в этом житейском, невесть откуда сорвавшемся урагане то, что главный его герой Иван Степанович Цвет совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным. Слегка поражало его — хотя лишь на неуловимые, короткие секунды — то обстоятельство, что сквозь яркий, радужный — калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала, — точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный подсон узорчатого сна, — давнишняя знакомая обстановка его мансарды: желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками; японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой; окно стюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда.
Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался премилым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности, — веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши: был мастер отхватить коленце с лихим перебором на гитаре, гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волостного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком «Накинув плащ с гитарой под полою», сорвать в темноте сеней или играя в горелки быстрый, трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, невынимающуюся из ножен шашку, а с правого — десятифунтовый револьвер Смита-Вессона, казенного образца, заржавленный и без курка.
Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного Цвета. Поэтому, приехав в Горыншце, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной сомовиной и почувствовали друг к другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости.
Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем Цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешевеньких томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет, может оказаться кстати: по дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус «таинственный факир, или яичница в шляпе», он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком.
«Неважная штучка мои часы, — подумал Цвет, — а все-таки память. И брелочек, на нем сердоликовая печатка, можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце…»
Он сказал ласково:
— Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, мы с вами, наверно, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет… — И, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: —…вот этот золотой фамильный хронометр с брильянтовым брелком…
— Го-го-го! — добродушно захохотал почтальон. — Если не жалко, то что же, я, по совести, не откажусь.
И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр, работы отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материей пружинка сообщилась с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке-ленточке прикреплен черный эмалевый перстенек с небольшим брильянтом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля росы.
— Извините… такая дорогая вещь, — пролепетал смущенный почтальон. — Мне, право, совестно.
Но удивление уже покинуло Цвета. «Вероятно, по рассеянности захватил дядины. Все равно, пустяки», — подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом:
— Возьмите, возьмите, друг мой. Я' буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.
Слегка поражало его — хотя лишь на неуловимые, короткие секунды — то обстоятельство, что сквозь яркий, радужный — калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала, — точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный подсон узорчатого сна, — давнишняя знакомая обстановка его мансарды: желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками; японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой; окно стюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном, громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда.
Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал Цвет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался премилым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности, — веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши: был мастер отхватить коленце с лихим перебором на гитаре, гоголем пройтись соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у попа, начальника почтовой конторы или волостного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенорком «Накинув плащ с гитарой под полою», сорвать в темноте сеней или играя в горелки быстрый, трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, невынимающуюся из ножен шашку, а с правого — десятифунтовый револьвер Смита-Вессона, казенного образца, заржавленный и без курка.
Этот молодчина совсем пленил и очаровал скромного Цвета. Поэтому, приехав в Горыншце, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной сомовиной и почувствовали друг к другу то мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости.
Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежный сердцем Цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешевеньких томпаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешевый предмет, может оказаться кстати: по дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус «таинственный факир, или яичница в шляпе», он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком.
«Неважная штучка мои часы, — подумал Цвет, — а все-таки память. И брелочек, на нем сердоликовая печатка, можно отдать вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце…»
Он сказал ласково:
— Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, мы с вами, наверно, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет… — И, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара легкой шуткой: —…вот этот золотой фамильный хронометр с брильянтовым брелком…
— Го-го-го! — добродушно захохотал почтальон. — Если не жалко, то что же, я, по совести, не откажусь.
И Цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр, работы отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материей пружинка сообщилась с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке-ленточке прикреплен черный эмалевый перстенек с небольшим брильянтом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля росы.
— Извините… такая дорогая вещь, — пролепетал смущенный почтальон. — Мне, право, совестно.
Но удивление уже покинуло Цвета. «Вероятно, по рассеянности захватил дядины. Все равно, пустяки», — подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом:
— Возьмите, возьмите, друг мой. Я' буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.
VII
Пришло время проститься. Рыжему почтальону надо было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались. — Чудесный вы человечина, — сказал растроганней Цвет. — От души желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе. Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяний. — Эх, где уж нам, дуракам, чай пить. Первое ваше пожелание, если и сбудется, то разве лет через пять. Да и то надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе, ну, а я зла никому не желаю. А второе, — увы мне, чадо, мое! — так же для меня невероятно, как сделаться китайским богдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, конечно, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна… в Стародубе… звать Клавдущкой… Поразила она меня в самое сердце. На рождестве я танцевал с ней-и даже успел объясниться. Но куда! Отец — лесопромышленник, богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая того, что вещами. Что я ей за партия?. Однако мое объяснение приняла благосклонно. Сказала: «Потерпите, может быть, и удастся повлиять на папашу. Подождите, сказала, я вас извещу». Но вот и апрель кончается… Понятное дело, забыла. Девичья память коротка. Эх, завей горе веревочкой. Однако пожелаю счастливого пути… Всего вам наилучшего… Бегу, бегу. Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в трех Шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю белую шляпку, с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое, цветущее, нежное, прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся, только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками. «Как хороша! — подумал Цвет, не сводя с нее восторженных глаз. — Сколько нежности, чистоты, ума, доброты, изящества. Нигде в целом свете нет подобной ей! Есть много красавиц, но она — единственная, ни на кого не похожая, неповторяемая. Ах, она улыбается!» Правда. Она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами, и в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она погрузила нос, губы и подбородок в гроздья цветов, время от времени, будто мимоходом, соединяла свои темные, живые глаза с восхищенными глазами Ивана Степановича. Но вот поезд Цвета медленно поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах: шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался «Хоть бы один цветок мне!» — мысленно воскликнул Цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно Цвета букет. Он умудрился поймать его и еще поспел, высунувшись в окно, несколько раз картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову в знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и исчез. Тронулся и вагон Цвета. В ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон, Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красно и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степановича. — Дорогой мой… если бы вы знали… Что? Поезд идет? Э, наплевать на корреспондентов. Попили моего пота… Подождут один день… Провожу вас до первой станции… Такой день никогда не повторится… Если бы вы знали!.. Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель. Вы, точно как в старых сказках, какой-то чудесный добрый колдун… — Милый Василий Васильевич, пожалуйста, выскажитесь толком. Ничего не понимаю. — Да как же! Послушайте только! Прощаясь, вы мне говорили: желаю вам сделаться начальником почтового отделения. Так? Помните? — Помню. — И дальше. Желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая, и так далее… Верно? — Ну да. — И вот, представьте себе… как по Щучьему велению!.. Принимаю мешок, а он уж старый и трухлый и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу. Я их подбираю. И вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только. Он совал в руки Цвета два конверта. Один — казенный, большой, серый, другой — маленький, фиолетовый, с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно: — Может быть, в этих письмах что-нибудь такое… что мне неудобно знать?.. — Вам? Вам? Вам все дозволено! Вы— мой благодетель. Смотрите! Читайте! Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нем разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово, в заместители тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме, на зеленой бумаге, с двумя целующимися налепными голубыми голубками на первой странице, в левом верхнем углу, было старательно выведено полудетским, катящимся почерком пять строк без обращения, продиктованных бесхитростной Надеждой и наивным ободрением, а кстати, с тридцатью грамматическими ошибками. — И прекрасно, — сказал ласково Цвет, возвращая письма. — Сердечно рад за вас. — И я безмерно счастлив! — ликовал почтальон. — Эх, теперь бы на радостях дернуть какого-нибудь кагорцу. Угостил бы я охотно милого друга-приятеля на последнюю пятерку. Господин волшебник, как бы нам соорудить? — Что же. И я бы не прочь, — отозвался Цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке. — Завтракать будете? — Вот что, — уверенно ответил Цвет. — Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам… — Он задумался, но всего лишь на секунду. — Подайте нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов. — Слушаю-с, — ответил почтительно, с едва уловимым оттенком насмешки официант и скрылся. — Я вам говорил, что вы кудесник, — обрадовался почтальон. — Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста. Ведь каждое ваше желание исполняется. Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха. И он произнес слабым дрожащим голосом: — Хорошо. Пусть будет музыка. Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса, мужской и женский, запели итальянскую песенку: «О solo mio…»[39] Модестов выглянул из купе. — Бродячие музыканты! — доложил он. — Ну, однако, вам и везет. Прямо волшебство. Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении, с ужасом вспомнил весь нынешний день, с самого утра. Правду сказал почтальон — всякое его желание исполнялось почти мгновенно. Проснувшись, он захотел чаю — сторож принес чай. Он подумал — и то мимолетно, — что хорошо бы было развязаться с усадьбой, — получилась телеграмма от Тоффеля. Захотел ехать — Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. Шутя сказал: «Дарю хронометр» — и вынул из кармана неизвестно чьи, дорогие, старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета — и получил так мило и неожиданно весь букет, с воздушным поцелуем и обольстительной улыбкой в придачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василию Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас, в вагоне, два пустячных случая подряд… Что-то нехорошее заключено в Этой послушной торопливости случая… И главное — самое главное и самое тяжелое — то, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого Цвета, что в них даже нет ничего удивительного. Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточел сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон: показался вдруг Чересчур размякшим, болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя: «А убрался бы ты куда-нибудь к черту». Модестов, быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал: «Извините, я на секунду» — и вышел из вагона. И уже больше совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении, или Сорвался с поезда — этого Цвет никогда не узнал. Да, по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим. Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он еще несколько раз пробовал проверить, свою новую, исключительную, таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъем. «А ну-ка, пошибче!» — приказал Цвет. Вероятно, как раз в этот момент, поезд уже преодолел гору, но вышло так, что, будто подчиняясь повелению, он сразу застучал колесами, засуетился и поддал ходу. «И еще! И еще! А ну-ка-еще!» — продолжал погонять его Цвет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трех, потом двух, потом полутора секунд; вагоны, как пьяные, зашатались с бока на бок и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга, точно в чехарде; задребезжали стекла, завизжали стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчин и крики женщин. Сам Цвет перепугался. «Нет, уж это слишком, — подумал он. — Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста». «Слу-ша-ю-у-у!» — загудел в ответ ему длинно и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход. «Вот так, — похвалил Цвет, — это мне больше нравится». Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъем, что-то испортилось в воздушном тормозе и одновременно случилось какое-то несчастье не то с сифоном, не то с регулятором. (Цвет не понял хорошенько.) Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала «тормозить». А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость до предельной, до ста двадцати верст, и был не в силах ее уменьшить до следующего подъема. Только там поездная прислуга спохватилась и затормозила… «Как все просто», — подумал Цвет… Но в этой мысли была печальная покорность. В другой раз поезд проезжал совсем близко мимо строящейся церкви. На куполе ее колокольни, около самого креста, копошился, делая какую-то работу, человек, казавшийся внизу черным, маленьким червяком. «А что, если упадет?» — мелькнуло в голове у Цвета, и он почувствовал противный холод под ложечкой. И тогда же он ясно увидел, что человек внезапно потерял опору и начинает беспомощно скользить вниз по выгнутому блестящему боку купола, судорожно цепляясь за гладкий металл. Еще момент — и он сорвется. «Не надо, не надо!» — громко закричал Цвет и в ужасе закрыл руками лицо. Но тотчас же открыв их, вздохнул с радостным облегчением. Рабочий успел за что-то зацепиться, и теперь видно было, как он, лежа на куполе, держался обеими руками за веревку, идущую от основания креста. Поезд промчался дальше, и церковь скрылась за поворотом. «Неужели я хотел видеть, как он убьется?» — спросил сам себя Цвет. И не мог ответить на этот жуткий вопрос. Нет, конечно, он не желал смерти или увечья этому незнакомому бедняку. Но где-то в самом низу души, на ужасной черной глубине, под слоями одновременных мыслей, чувств и желаний, ясных, полуясных и почти бессознательных, все-таки пронеслась какая-то тень, похожая на гнусное любопытство. И тогда же, впервые, Цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться. На одной из станций Цвет приказал ветру сдуть панаму с головы важного барина, прогуливавшегося с надменным видом индейского петуха на платформе, и потом с равнодушным вниманием следил, как этот толстяк козлом прыгал вслед за убегающей шляпой, между тем как полы его пиджака развевались и заворачивались вверх, обнаруживая жирный зад и подтяжки. За обедом какой-то крупный железнодорожный чин с генеральскими погонами, человек желчный и властный, стал безобразно, на весь вагон, орать на прислуживавшего ему лакея за то, что тот подал ему солянку не из осетрины, а из севрюжины. Эта сцена произвела удручающее и тоскливое впечатление на всех. Особенно противно было то, что во время грубого выговора генерал не переставал есть, мешая- крик с чавканьем. «А, что б ты заткнулся!» — досадливо подумал — Цвет. И мгновенно начальник откинулся на спинку стула с раскрытым ртом, из которого вырывались хриплые стоны. Лицо его посинело, и вылезшие глаза налились кровью. Казалось, он вот-вот, задохнется. «Ах, нет, нет, пускай благополучно!» — торопливо велел Цвет. Только что обиженный лакей быстро, ловко и звучно шлепнул несчастного по шее. Он, как пьющая курица, вытянул шею вверх, глотнул, перевел дух и обернулся вокруг с изумленным радостным видом. Кровь сразу отхлынула от его лица. — Иди, и чтобы это в последний раз! — сказал он еще чуть-чуть давясь, грозно, но великодушно… — А то… «Опять и опять, — подумал без удивления Цвет. — И так это просто. Очевидно, я попал в какую-то нелепо-длинную серию случаев, которые сходятся с моими желаниями. Я читал где-то, что в Петербурге однажды проходил мимо какой-то стройки дьякон. Упал сверху кирпич и разбил ему голову. На другой день мимо того же дома в тот же час проходил другой дьякон, и опять упал кирпич, и опять на голову. Я читал еще в смеси об одном счастливом игроке в рулетку, который семь раз подряд поставил на „0“ и семь раз выиграл. Но, при бесконечности времени и случаев, может выйти и та очередь, что другой игрок выиграет на ноль сто, тысячу раз кряду. Я слыхал про людей, которые попадали в один день дважды на железнодорожные катастрофы и еще один на пароходное крушение. Есть счастливцы, никогда не знающие проигрыша в карты… Они говорят ― полоса. Так и я попал в какую-то полосу…» У себя в купе, оставшись один, он попробовал сознательно экзаменовать эту полосу. Ему хотелось пить. Он сказал вполголоса: «Пусть сейчас, в апреле месяце, на столике очутится арбуз!» Но арбуз не появился. Это даже немного обрадовало Цвета. «Это хорошо, — решил он. — Значит, нет никакого чуда. Все объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня на диване лежит букет сирени. Вверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесется ко мне». Вагон сильно качнуло на повороте. Букет упал на пол. Когда Цвет поднял его, на полу осталась лежать одна ветка, но она была не двойная, а тройная. «Неудовлетворительно, — насмешливо сказал Цвет. — Три с минусом. Ну, еще один раз. Хочу, во-первых, чтобы сию минуту зажегся свет. А во-вторых, хочу во что бы то ни стало духов „Ландыш“. В ту же минуту вошел проводник со свечкой на длинном шесте. Он зажег газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой: — Вот, барин, не угодно ли вам… Убирал утром вагон и нашел пузырек. Дамы какие-то оставили. Кажется, что вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодятся? — Дайте. Цвет поглядел на зеленую с золотом этикетку хрустального флакона и прочел вслух, читая как по-латыни: „Мугует, Пинауд, Парис“. Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку. Понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем. „Вот это случай — так случай, — снисходительно одобрил Цвет судьбу или что другое, неведомое. — Но — баста, довольно, не хочу больше“ надоело. Теперь бы какую-нибудь книжку поглупее и спать, спать, спать. Спать без снов и всякой прочей ерунды. К черту колдовство. Еще с ума спятишь». — А нет ли у вас, проводник, случайно какой-нибудь книжицы? — спросил он. Проводник помялся. — Есть, да вы, пожалуй, читать не станете. Похождения знаменитого мазурика Рокамболя. А то я дам с удовольствием. — Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель. Он с удовольствием улегся в свежие простыни, но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти темное вагонное окно, и в нем под белой шляпкой розовое нежное лицо, темные, живые глаза и белизна зубов, сверкающих в лукавой и милой улыбке. «Хочу завтра ее видеть», — шепнул засыпающий Цвет.VIII
Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тоффель. — Доброго утра, мой достопочтенный клиент, — приветствовал Цвета ходатай. — Как изволили почивать? Я нарочно не хотел вас будить. Уж очень сладко вы спали. «Где-то я его видел, — подумал Цвет. — И раньше, еще до первого знакомства, и вот теперь, совсем, совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыто. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое!» — Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич? — Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери! И дел у меня к вам целая куча. Однако идите, умывайтесь скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь. Умываясь, Цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств: раздражения, досады и прежнего, знакомого, неясного предчувствия беды. «Что за вязкая предупредительность у этого загадочного человека, — размышлял он. — Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся… Да что это? Неужели я его боюсь? — Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. — Ничуть не бывало. Но буду все-таки с ним любезным. Как-никак, а ему я многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин Цвет, — обратился он к своему изображению в зеркале. — Мир велик, жизнь прекрасна, умыванье освежает, а вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта, вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее пред вами, Идите пить чай». В коридоре, лицом к открытому окну, стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к Цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы- Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую прядь волос над ее, виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце! — Я должна попросить у вас прощения… Вчера я позволила себе… такую необузданную… мальчишескую выходку… «Смелее, Иван Степанович, — приказал себе Цвет. — Забудь всегдашнюю неуклюжесть, будь любезен, находчив, изящен». — О, прошу вас, только не извиняйтесь… Виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал: если бы мне хоть веточку! А вы были так щедры, что подарили целый букет. — Представьте, и я думала, что вы этого хотите, У меня вышло как-то невольно… — Позвольте от души поблагодарить вас… Весна, солнечный день, и первая сирень из ваших рук… Я ваш вечный должник. — Воображаю, как вы испугались… Наверно, сочли меня за бежавшую из сумасшедшего дома. — Ничуть. Это был такой милый, красивый и… царственный жест. Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд? Ведь вы уезжали со встречным… Дама весело рассмеялась. — Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в Горынищах совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка, что был рядом: «Скоро ли мы проедем через Курск?» А он говорит: «Вы, сударыня, собираетесь ехать н противоположную сторону, вот ваш поезд». Тогда я мигом схватила свой сак, выбежала на площадку и на ходу прыг… И села сюда… И вот утром вы… Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидала. — Но какая неосторожность… выскакивать на ходу. Мало ли что могло случиться? — Э! Я ловкая… и потом что суждено, то суждено… — А знаете ли, — серьезно сказал Цвет, — ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это? — Этому позвольте не поверить… Во всяком случае, наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных… — А потому, — раздался сбоку голос Тоффеля, — позвольте вас представить друг другу. По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия. — Ах, это вы, Мефодий Исаевич… Вот неожиданность. Тоффель церемонно назвал Цвета. Потом сказал: — Mademoiselle Локтева, Варвара Николаевна… — А это всезнающий и вездесущий monsieur Тоффель, — ответила она и крепко, тепло, по-мужски пожала руку Цвета. — Идемте к нам чай пить, — предложил Тоффель, — у нас сейчас уберут. Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас же встретилась глазами с Цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече. Тоффель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязностью много видевшего, ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна — единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человечьему горю. Прекрасная наездница, великолепно стреляет из пистолета, музыкантша, замечательная энженю-комик[40] на любительских спектаклях и так далее и так далее. Что касается Цвета, то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имения, доставшиеся по завещанию. Обладает выдающимся голосом, tenor di grazia[41]. Немного художник и поэт… Душа общества… Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тоффелю кажется удивительным, как это двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились. Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тоффель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой, и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой: — Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович и надеюсь вас видеть у себя… У вас есть записная книжка? Запишите: Озерная улица… Не знаете? Это на окраине, в Каменной слободке, — дом Локтева, номер пятнадцатый, такая-то, по четвергам, около пяти. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно. Цвет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тоффеля она не пригласила, и подумал: «У нее, должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами». Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный, светлый и добрый взгляд, и вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе. — Хороша? — спросил, прищуря один глаз, Тоффель. — Вот это так настоящая невеста… И собой красавица, и образованна, и мила, и богата… — Будет! — оборвал его грубо, совсем неожиданно для себя, Иван Степанович. Тоффель покорно замолчал. Он нес саквояж, и Цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это и должно было быть, но почему — Цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом думать. На подъезде он сказал небрежно: — Надо бы автомобиль. — Сейчас, — услужливо поддакнул Тоффель. — Мотор! В Европейскую. Дорогой Тоффель заговорил о делах. Пусть Цвет на него не сердится за то, что он без его разрешения продал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тоффель рискнул всей вырученной суммой и в два дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было один на десять тысяч. Затем он, Тоффель, нашел, что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как Цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевезти самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока. Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартирку в четыре-пять комнат, изящно обмеблировать ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тоффеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево «настоящие» вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию. Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы, галстуки же и шляпы — в Париже. Но это потом. Теперь надо заключить прочные и веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биарриц, Ницца… Словом, мы завоюем весь мир!.. Он болтал, а Цвет слушал его с небрежным, снисходительно-рассеянным видом, изредка коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было, и это понималось одинаково и Цветом и Тоффелем. Но час спустя Тоффель сильно удивил, озадачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана. Тоффель велел подать кофе и ликеров и сказал лакею: — Больше нам пока ничего не надо, Клементин. Если понадобится, я позвоню. Когда тот ушел, Тоффель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел против Цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на Цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза — все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тоффель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом: — А слово?.. Вы узнали слово?.. — Не понимаю, — тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад под давящей силой, исходившей из глаз Тоффеля. — Какое слово? Взгляд Тоффеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переносья вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни. «Там… в усадьбе… книга… формулы… Красный переплет… Мефистофель…» — забродило в голове у Цветя. Тоффель же продолжал настойчиво шептать: — Заклинаю вас, назовите слово… Только слово, и я ваш слуга, ваш раб всю жизнь… У Цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тоффеля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы. — Не знаю… не могу… не умею… Тоффель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках, по-собачьи, подполз к Цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями. — Слово, слово, слово… — лепетал он. — Вспомните, вспомните слово! Цвет зажмурил на секунду глаза. Потом пристально поглядел на Тоффеля. — Оставьте, не надо этого, — сказал он резко. — Слышите ли — я не хочу! Тоффель поднялся и спиною к Цвету, шатаясь, прошел до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха. — К черту! — воскликнул он, щелкнув перед собою кругообразно пальцами. — К черту-с. Я пьян, как фортепьян. Забудьте мой бред — и к черту! Прошу извинения. Но еще… только одна, самая пустячная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить. — Хорошо. Говорите, — согласился Цвет. Тоффель сунул руку в карман и вытащил ее сжатой в кулак. — Что у меня в руке? Цвет с улыбкой ответил уверенно: — Маленькая золотая монета. — Что на ней изображено? — Подождите… сейчас. Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя… Голая шея… Злое сухое лицо. Тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически… — Гм… да, — произнес Тоффель угрюмо. — Угадали. Полуимпериал Анны Иоанновны, тысяча семьсот тридцать девятого года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского?IX
Именно с этого же дня начались блестящие успехи Цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как многоцветный восточный ковер, и Цвет попирал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием владыки. В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот, любопытные, его показывали приезжим, как восьмое чудо света, о его эксцентричностях, о его щедрости и счастии чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу, сама собой, образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошаек, болтунов и увеселителей. И Цвет, вовсе не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь, поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или назойливому вымогателю и только слегка подумать: «Не хочу тебя больше видеть!» — как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, линял и навсегда, безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве. Один Тоффель упорно возвращался к нему, хотя Цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая — жадный, умоляющий, гипнотизирующий. «Слово! Назови слово!» — кричали жалкие и грозные, пустые глаза. Цвет внутренно произносил: «Уйди!» — и Тоффель весь поникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, которая после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом. Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед Цветом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лестного знакомства, с целым выбором новых развлечений. Он как будто бы беспрестанно стерег Цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. Если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы, не пробредит ли Цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя Цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирал на ключ все двери в квартире. Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально, точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые, ловкие руки и неслышные, быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное, неперемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий. Многие из наиболее фантастических капризов Цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так, иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: «Хочу вместе со стулом подняться на воздух!» И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушимым. Но однажды утром Цвет загляделся в окно на летающих высоко в небе голубей и позавидовал их легким прекрасным движениям. «Ах, если бы человеку испытать что-нибудь подобное!»— подумал он искренно и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату Цвет взгромоздился сзади пилота на тяжелый неуклюжий Фарман № 4 и сделал два круга над полем, пережив в продолжение десяти минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни. Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал: «Пусть вода закипит!» Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно, он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу. Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечу или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи, вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах. Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались Цвету, и только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском «свете». В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тоффель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тоффель провел Цвета в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен… Когда по звонку лошадей одну за другой — их всех было одиннадцать — выводили на круг, Цвет стоял у самого барьера, рядом с высоким грузным бритым господином в широком пальто, который, с видом внешнего безучастия, курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Цвет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как это всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил: — На кого ставите? — Сию минуту, — ответил вежливо Цвет, — я только соображу. Сзади, в публике, называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнения. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин в черном камзоле с белыми рукавами, вторым — негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще двух лошадей, но ими мало интересовались. Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных нумеров, сдержанным галопом проскакали перед публикой, показывая ей своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их форм и легкости движений. Сами жокеи сидели, слегка согнувшись, небрежно и красиво в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленах ногами. На их бритых остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов. После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед, шерсть уже теперь лоснилась потом, с удил падала пена, и в больших выпуклых, черных, без белка, глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старалась резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья. — А вот на эту… рыженькую, — сказал наивно Цвет. — Она придет первой. Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но вполголоса: — Верно, как в государственном банке. Сосед Ивана Степановича поднял кверху темные, черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом: — На Сатанеллу? Замеча-а-а… Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казум-Оглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком… Мне все равно, но деньги бросаете на ветер. Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля. — Поставьте на эту… на как ее… на рыженькую… Голубая рубашка со звездами. — Сатанелла, нумер одиннадцатый. — Да, да. — Сколько прикажете? — Все равно. Ну, там билетов… десять… пятнадцать… распорядитесь, как хотите…. — Слушаю, — поклонился Тоффель и побежал рысцой в кассу.. — Прекра-а-а… — пустил октавой грузный господин и совсем повернул к Цвету свое бритое лицо. У него был большущий горбатый, волосатый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие, желтые прокуренные зубы, — Изуми-и-и… Но послушайте же, — переменил он голос на более естественный. — Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок. — В первый раз. — Вот видите… Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье… Но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион… А здесь аб-со-лютный нуль!.. На Сатанеллу так же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которой и вообще не существует на белом свете… понимаете, которая еще не родилась. — Однако она — вот она! — весело возразил Цвет. — И придет первым нумером. — Удиви-и-и… — прохрипел сосед. — Нас с вами познакомили? Не так ли? Билеты вы уже взяли? Так? Явас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал? Верно? Ну, так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка, нет, вы поглядите в программу. Видите: нумер одиннадцатый — Сатанелла… владелец Осип Федорович Валдалаев. Это мы, — ткнул он себя и грудь большим пальцем, пухлым и волосатым, — И мы вам говорим, что она без места. — Первой. — Не пос-ти-гаю, — пожал плечами владелец. — Ну, хотите, — я ставлю сейчас тысячу рублей против ваших ста, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третьей? Цвет упрямо тряхнул головой. — Не желаю. Тысячу против тысячи, что она возьмет первый приз… Я не нуждаюсь в снисхождении. — Но и я не хочу выигрывать наверняка, — холодно возразил сосед. — А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить сто тысяч против полтинника. Алая краска обиды бросилась в нежное лицо Цвета. — А я, — сказал он резко, — ставлю не фантастических сто тысяч, а реальных, живых пять против вашей одной. Ваша Сатанелла придет первой. В это время лошади под жокеями живописной, волнующейся, пестрой группой вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи как один привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросанно, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая. — Не будем сердиться, — добродушно сказал Валдалаев. — Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда!.. Но в ее жилах текут капли крови Лафлеша и Галь-тимора, и ее цена, если продавать, три тысячи. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех в том, что она не будет ни первой, ни второй. — Первой, — уперся Цвет. — Хорошо, — пожал плечами Валдалаев. — Но поставим также и промежуточное условие, которое нас примирит. Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первой, то вы. Ну, а если второй, тони вы и ни я, и тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет? Цвет ясно улыбнулся ему. — Хорошо. — И великоле-е-е… Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся Сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались негодующие голоса: «Долой Сатанеллу, снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно сжались перед стартом, и точно замялись секунду у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близстоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок быстро опустился к земле. Подошел Тоффель с билетами. — Такая была теснота у касс, что я едва добрался. Поздравляю вас, Иван Степанович, — за нумер одиннадцатый ни в одной, кассе ни одного билета. Чисто! Эта скачка была по своей неожиданности и нелепости единственной, какую только видели за всю свою жизнь поседелые на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастного полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо. Он отделался благополучно и, ловко вскочив, успел поймать повод. Но лошадь с полминуты не давала ему сесть в седло, и он потерял по крайней мере сажен с двести. У третьего всадника лопнула подпруга… Двое столкнулись друг с другом так жестоко, что не могли продолжать скачку. У одного оказалась вывихнутой рука, а у другого сломалось ребро. Словом, почти всех лошадей и жокеев постигали какие-то роковые и злые случайности. К концу второй минуты, после последнего поворота, когда зрители глазами, головами и телами судорожно тянулись налево, им представилась следующая картина. Впереди, по прямой, уверенно и спокойно скакал черный с белыми рукавами англичанин. Он шел без хлыста, изредка оборачиваясь назад, собираясь перевести лошадь на кентер. За ним, отставшая корпусов на сорок, с поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстилаясь по земле, Сатанелла. Казум-Оглы почти лежал у нее на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно поводами, а правой часто хлестал лошадь стеком. Еще дальше дико несся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним скакал малиновый с зеленой лентой жокей… Остальные лошади остались на той стороне круга. Цвет никогда не был игроком и не чувствовал боязни проиграть: деньги давно уже стали для него чем-то вроде мусора. Но в это мгновение его, как внезапный приступ лихорадки, подхватил страшный азарт за Сатанеллу. Крепко стиснув зубы и сморщив все лицо, он крикнул мысленно: «Ты, ты должна быть первой!..» Случилось что-то странное. С волшебной быстротой Сатанелла стала приближаться к англичанину. Через каких-нибудь пять секунд она вихрем промелькнула мимо него. Сейчас же, следом за ней; его обогнал и вороной жеребец. Лошадь англичанина совсем остановилась. Он быстро соскочил с нее и, нагнувшись, стал рассматривать ее правую переднюю ногу… Она была сломана ниже колена. Продрав кожу, наружу торчала белая окровавленная кость. Никто не аплодировал Сатанелле. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики. — Поздравляю, — льстиво сказал на ухо Цвету Тоффель… — Ну вас к черту! — резко швырнул ему Иван Степанович. Толстый, громадный Валдалаев уперся глазами Цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник: — Ваша удача от дьявола. Не завидую вам. Получите. — Да мне, собственно… не надо… — залепетал Цвет. — Я ведь это просто… так… зачем мне?.. — Что-с? — рявкнул гигант, и сразу его большое лицо наполнилось темной кровью. — Н-не на-до? Эття чтэ тэкое? А за уши? Я Вал-да-лаев! — громом пронеслось по судейской беседке. И, сунув деньги в дрожащую руку Цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золото-рыжей Сатанеллы повернулся к нему трехэтажным, свисавшим, как курдюк, красным затылком и величественно удалился от него. Мимо Цвета провели искалечившуюся лошадь. Под ее грудью было продето широкое полотнище, которое с обеих сторон поддерживали на плечах конюхи. Она жалко ковыляла на трех здоровых ногах, неся сломанную ножку поднятой и безжизненно болтавшейся. Из ее глаз капали крупные слезы. Ручейки пота струились по коже. — Э, черт! — тоскливо выругался Цвет. — Если бы знал, ни за что бы не поехал на эти подлые скачки. Как это так случилось? — спросил он кого-то, стоявшего у барьера. — Уму непостижимо. Камушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла… Да, впрочем, и жокей тоже… известные мазурики. Примчался Тоффель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевых. — Наша взяла! — торжествовал он, подбегая к Цвету. — Понимаете: ни в ординарном, ни в двойном, ни в тройном, кроме ваших, ни одного-единого билета! Извольте: три тысячи пятьсот с мелочью. Это вам не жук начихал. Цвет молчал. Тоффель поймал направление его взгляда. — Сто? Лосадку залко? — спросил он, скривив насмешливо и плаксиво губы и шепелявя по-детски. — Э, бросьте, милейший мой. Судьба не знает жалости; Едемте-ка в Монплезир спрыснуть выигрыш. — Тоффель! — с ненавистью воскликнул Цвет. Ему хотелось ударить по лицу этого вертлявого человека, показавшегося сейчас бесконечно противным. Но он сдержался и прибавил тихо: — Уйдите прочь. Но про себя он подумал с горечью и тоской: «Сколько еще несчастий причиню я всем вокруг себя. Что мне делать с собой? Кто научит меня?» Но о боге набожный Цвет почему-то в эту минуту не вспомнил. Когда он шел к выходу, то даже с опущенными глазами чувствовал, что все глаза устремлены на него. Вверху, в ложе, кто-то захлопал в ладоши. «А вдруг это она, Варвара Николаевна», — подумал почему-то Цвет. Но ему так стыдно было за свой позорный выигрыш, что он не осмелился поднять голову. А сердце забилось, забилось.X
Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связному рассказу Цвета. Но я давно уже как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий: да что же это — явь или сон? И если сон, то когда он кончится. Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. За то, что все, приключившееся с нашим героем, произошло на самом деле, я не стану ручаться, хотя напоследок все-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях Цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и на много ли разнится жизнь с открытыми глазами от жизни с закрытыми? Разве человек, одновременно слепой, глухой и немой и лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радостей и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо — рождение наше случайно, зыбко наше бытие, я лишь вечный сон непреложен.Цвет наделал ряд глупостей. Вечером после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый окрик Валдалаева, разозлился задним числом и, по совету возликовавшего Тоффеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Валдалаева и передали даже его подлинные слова. Он сказал сердито: «Я продырявлю этого Цвета так, что от него останется только запах». — И он это может, — прибавил от себя, важно нахмурившись, корнет. — Он бывший ахтырец и знаменитый бреттер. — Тен-то може! — уверенно подтвердил граф. А вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал: «Ну, в таком случае я его убью». На другой день утром они стрелялись за Караваевскими дачами, в рощице, на лужайке. Валдалаев выстрелил первый и промахнулся; пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке, стал целиться. Гигант стоял перед ним в половину оборота, в двадцати шагах, нелепо огромный, красноносый, спокойный, с опущенными и растопыренными руками, со слегка наклоненной головой. Правое его ухо, пронизанное солнечным лучом, алело ярким пятном под круглой касторовой шляпой. Остатки гнева, поутихшего за ночь, совсем испарились из души Цвета… «Я прострелю ему ухо», — решил Цвет и слегка надавил на собачку. Но ему стало нестерпимо жалко противника. «Нет, лучше попаду в шляпу». И сжал указательный палец. Резко хлопнул выстрел, и зазвенело в ушах Цвета, и пахнуло весело пороховым дымом. Котелок свалился с Валдалаева. Валдалаев поднял его, внимательно оглядел и прохрипел спокойно октавой! — Превосхо-о-о-о… И, подойдя с протянутой рукой к Цвету, сказал самым пленительным, душевным тоном: — Извиняюсь перед вами… Я не то о вас подумал… Я думал, что вы… так себе… шляпа… А вы, оказывается, славный и смелый парень. Но, черт побери, сатанинская у вас удача! Исключи-и-и… Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда, по окончании формальностей поединка, направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет. После соленых закусок Валдалаев и Цвет были на «ты». За первой дюжиной шампанского Валдалаев уступил Ивану Степановичу кобылу Сатанеллу в цене пяти тысяч рублей. Цвет только повернул слегка глаза на Тоффеля, и перед ним мгновенно очутилась чековая книжка. — Пишите, Иван Степанович, — сказал Тоффель с мрачным удовольствием. — Пишите. А к полуночи, когда компания переменила уже четвертое место кутежа, Цвет купил всю конюшню Валдалаева, состоявшую из восьми лошадей. — Но чтобы, — кричал он, стоя, шатаясь и расплескивая бокал, — чтобы не ломать ног лошадям, не бить их хлыстами. И желаю вообще детский сад для лошадей! Чтобы я их мог целовать в самый храп!.. В мордочку! Безнаказанно! Урра! — Поедем в купеческий клуб, — сказал где-то в пространстве Валдалаев, — там французские шулера. Там я проиграл сотню тысяч. — Есть. Езда! — ответил с добродушной готовностью Цвет. — Но сперва вымойте меня сельтерской водой. Это было сделано. Цвет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо: — Четыре француза. Господа: Поль, Бильден, Филиппар и Галер. Ты их — рразом… Понимаешь? — Рразом! Понимаю! — Твоя власть, милый Виноград, от дьявола. Верно? — Д-да! — Валяй! — Я им пок-кажу-у! — Покажи. В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, Цвет обыграл в эту ночь в баккара четырех профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье monsieur Филиппара, машинку с готовыми восьмерками и девятками. Затем он обыграл дочиста на несколько сот тысяч всех членов собрания. Но, обыграв, вдруг признался, к громадному наслаждению Тоффеля, который покатывался от смеха: — Господа. И французов, и вас я обыграл наверняка. Французов так и следовало. А вы — простые, добродушные бараны. Поэтому потрудитесь взять все проигранные вами деньги обратно. Я обладаю двойным зрением. Я видел насквозь каждую карту. Хотите, я назову вам наперед любую по счету карту в колоде, стоя к вам спиною? Его проверили. Загадывали двадцать седьмую, и девятую, и тридцать шестую карту из колоды. Он на секунду прикрывал глаза, открывал их и сразу угадывал: туз пик, девятка бубен, двойка бубен. Все объяснили это явление телепатией и оккультизмом и охотно взяли свои ставки обратно, причем многие перессорились. Один Валдалаев отказался от денег. Он застегнулся на все пуговицы, перекрестился и сказал своим рычащим голосом: — Сногсшиба-а-а… Однако я в этой странной хреновине не участник. Эти деньги — к чертовой их матери!.. И величественно ушел, не дотронувшись до кучи золота и бумажек. А Иван Степанович, глядя ему вслед, на его удаляющуюся широкую спину, вдруг побледнел и стал нервно тереть ладонями виски. Утром явился к Цвету мистер Тритчель, англичанин-жокей, скакавший накануне на Леди-Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, валдалаевская конюшня была очень высоких качеств, но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который, по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости, постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. Цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы. Мало того, однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком честолюбия, он вызвался сам, лично, участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных: его легкий вес — три пуда двадцать пять фунтов — и его непоколебимая решимость скакать. Мистер Тритчель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную девятилетнюю кобылу, ростом в шесть с половиной вершков, по имени MademoiseHe Barbe. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном ипподроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто Цвет оборачивался на Тритчеля, услышав с его стороны короткое носовое фырканье. Но каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства. И вопреки логике и здравому смыслу, Цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла сильная и старательная лошадь, а он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводья и стремена, потеряв картуз и хлыст. Публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами. Одно время он пристрастился к биржевой игре, и в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное, постоянное счастье. В самый короткий срок он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого барометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он же действовал всегда наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия, не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают; Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок «à la hausse» и «à la baisse»[42]. Ho когда он играл на повышение, то тотчас же где-то, на краю света, в неведомых ему степях, начинали бить мощные нефтяные фонтаны и в неслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренно: «Да, право, я и сам не знаю…» Но в том-то и заключалось скрытое несчастие и невидимая боль его жизни, что он знал и не мог никому сознаться. Его широкий образ жизни скоро обратил на себя внимание, и о Цвете стали негласным образом наводить справки. Но придраться было не к чему; налицо оказывались: и полученное наследство и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто охотнее его не давал денег на стипендии, поощрения и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением, что ни разу никому его щедрость не принесла ничего, кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти. Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, и до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахином с занавесками серо-малинового бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличивался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом[43], величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали: камердинер, с наружностью первого любовника с императорской сцены; круглый, как шар, бритый старший повар, выписанный из Москвы от Оливье; кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом; кучер для английской упряжи; ученый немец-садовник в очках, заведовавший оранжереею и зимним садом, и еще десятка два мелких прислужников. Весь город любовался Цветом, когда он в погожий полдень проезжал по Московской и Дворянской улицам, правя с высоты английского дог-карта[44] двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей, масти Изабелла, светло-песочного цвета, с начисто вымытыми сребро-белыми гривами и хвостами. Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для Цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который, по редкости и тонкости сортов, считался четвертым в мире (как в этом по крайней мере уверял прежний владелец). Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора — всесильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец это Тоффель организовал по вторникам в особняке Цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность в веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чванному светскому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связей и знакомств. Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные, шутливые китайские шествия с фонарями, драконами и носилками, воскрешались старинные пасторали с гавотами и. менуэтами в костюмах XVIII столетия, разыгрывались водевили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у Цвета в гостиной, а также ставились сообща нелепо-веселые пародии на модные пьесы и на современные события. Ужинали на отдельных столиках, по двое и по четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными изысканными закусками. В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле, несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так Цвет хотел, так и было. И часто его спокойный, быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест. С сотнями людей сталкивала Цвета его многогранная жизнь, но ни с одним человеком он не сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С тою же чудесной способностью «двойного зрения», с какою Цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, — так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно было для этого, пристально и напряженно вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать втайне свое лицо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться, — перед Цветом раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрываемые от себя желания, все чувства и их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы Цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать незаметную извне, запутанную работу всех его частей: пружин, колес, шестерней, валиков и рычагов. Нет, даже иначе: он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях и в то же время оставался самим собою, Цветом; холодно наблюдающим мастером. Такая способность углубляться по внешним признакам, по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица, в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают в большей или меньшей степени старые судебные следователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и тяжелого житейского опыта, а Цвету она далась чрезвычайно легко. И сделала его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые остряки, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий — все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полусознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находился в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству. О, сколько раз тянулись к нему трепетные и послушные женские руки, а глаза — затуманенные, влажные — искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана, Цвет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений, рабское преклонение перед властью богатства. Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным. Была во всем свете лишь одна — ее имя начиналось с буквы «В» — одна-единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букете сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Цвет окружал ее безмолвным обожанием, тихой самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответа. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочитать его, но. ни за что он не отважился бы пойти по тому адресу, который она сама продиктовала. Чтение чужих мыслей было не единственным несчастней Цвета. Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот, каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и Цвет, сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко, всеми силами, внушал себе: «Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы, только бы…» Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось падение… и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз, в сетку, сверкая золотыми блестками. Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день, со странным зловещим багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно ватаги растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли Цвета, цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не солнце, а вращение земли вокруг ее оси и что эта остановка повлекла бы за собою, в силу инерции, страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой земле: «Остановись!» Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами. А мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме: зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло. Это прошел через город край того ужасающего циклона, который в Москве в 19** году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженые вагоны и в одну минуту скосил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как и поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной: «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого…» И еще было одно глубокое, печальное горе у Цвета. От него, так волшебно подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму все прошлое. Не то, чтобы он его забыл, но он не мог вспомнить. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний день приходил на память урывками, а дальше сгущался плотный туман. Мелькали в нем бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и Цвет не в силах был уловить, остановись их. Иногда по вечерам, оставаясь один в своем роскошном кабинете, Цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились перед ним: железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном сафьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик, козлиная морда, узор текинского ковра, девушка в вагонном окне… Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они только раздражали память и угнетали волю. От усилия вспомнить у Цвета так разбаливалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще больнее головной боли. Измученный Цвет быстро раздевался и приказывал себе: спать! — и тотчас же погружался в безмолвие и покой. Видел он всегда один и тот же сон: желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой, кактус на окне и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами. И таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, Цвет удивлялся, отчего у него влажная подушка. Но свой сон никогда он не мог припомнить.
XI
Но всему, даже горю, приходит конец. Однажды утром, подавая Цвету кофе, великолепный камердинер, с лицом театрального светского льва, сказал: — Я вчера вечером перебирал ваш гардероб, барин, и в старом сером костюме, в кармане, нашел вот это… какие-то жетоны или игральные марки… не знаю… Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук тридцать квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку и поднес ее к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно: — Уберите куда-нибудь. Слуга ушел. Цвет рассеянно прихлебывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше… С ним даже было связано какое-то отдаленное, чрезвычайно важное и загадочное воспоминание. Так же змеисто изгибалось когда-то перед ним изящное старинное начертание этого стройного S… Слабый, еле мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его… В глубокой полночной тишине только и слышалось что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах Цвета… И тогда-то именно случилось… Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозг. Положив машинально квадратик в карман, Цвет стал одеваться. Немного времени спустя к нему вошел его личный секретарь, ставленник Тоффеля, низенький и плотный южанин, вертлявый, в черепаховом пенсне, стриженный так низко, что голова его казалась белым шаром, с синими от бритья щеками, губами и подбородком. Он всем распоряжался, всеми понукал, был дерзок, высокомерен и шумлив и в сущности ничего не знал, не умел и не делал. Он хлопал Цвета по плечу, по животу и по спине и называл его «дорогой мой» и только на одного Тоффеля глядел всегда такими же жадными, просящими, преданными глазами, какими Тоффель глядел на Цвета. Иван Степанович знал о нем очень немногое, а именно, что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем, что он вел свое происхождение из Одессы и был по убеждению сосьяль-демократ, о чем докладывал на дню по сто раз. Цвет побаивался его и всегда ежился от его фамильярности. — К вам домогается какой-то тип — Среброструн. Что он за один, — я не могу понять. И как я его ни уговаривал, он таки не уходит. И непременно хотит, чтобы лично… Ну? — Просите его, — сказал Цвет и скрипнул зубами. И вдруг от нестерпимого, сразу хлынувшего гнева вся комната стала красной в его глазах. — А вы… — прошептал он с ненавистью, — вы сейчас же, вот как стоите здесь, исчезните! И навсегда! Секретарь не двинулся с места, но начал быстро бледнеть, линять, обесцвечиваться, сделался прозрачным, потом от него остался только смутный контур, а через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде легкого пара, поднявшегося кверху и растаявшего в воздухе. «Первая галлюцинация, — подумал Цвет тоскливо. — Началось. Допрыгался». И крикнул громко, отвечая на стук в дверях: — Да кто там? Войдите же! Он устало закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял невысокий толстый человек, весь лоснящийся: у него лоснилось полное румяное лицо, лоснились напомаженные кудри и закрученные крендельками усы, сиял начисто выбритый подбородок, блестели шелковые отвороты длинного черного сюртука. — Неужели не узнаете? Среброструнов. Регент. Нет. Иван Степанович не узнавал Среброструнова, регента, и в то же время каждый кусочек этого губительного красавца, каждое его движение, каждое колебание его голоса были бесконечно знакомы ему. Парализованная память молчала. Но по усвоенной привычке разговаривать ежедневно со множеством людей, которые его знали, но которых он совершенно не помнил, Цвет уверенно ответил, показывая на кресло: — Как же, как же… Великолепно помню… регент Среброструнов… еще бы. Прошу садиться. Чем могу?.. Среброструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина. Было ясно, что он хотел напомнить Цвету и по душам разговориться о чем-то далеко прошлом, милом, теплом и простом, и Цвет ждал этого. Но регент так и не решился. Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряженно пуговицу на своем рукаве, начал он обычную просительную канитель: простудился, начал глохнуть, голос сдал… все это, конечно, временное и проходящее… но, сами знаете, каковы люди… Конкуренция, завистники… Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды… Как поедешь?.. Вещи, какие были, заложены… Словом… Словом, Цвет написал ему чек на две тысячи. Но, прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и опросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом: — Подождите… Мне изменила память… Подождите минуточку… Ах, черт… — Он усиленно потер лоб, — Никак не могу… Да где же, наконец, мы встречались? — Помилуйте! Господин Цвет! Да как же это? Я у Знаменья регентовал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь. Первым тенором. Вспоминаете? Чудесный был у вас голосок… Как это вы прелестно соло выводили «Благослови душе моя» иеромонаха Феофана. Нет? Не вспоминаете? Точно дальняя искорка среди ночной темноты, сверкнул в голове Цвета обрывок картины: клирос, запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона… Но огонек сверкнул и погас, и опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце. Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал: — Извините… Я не могу больше… Уйдите скорее… Ему страшно и скучно было оставаться одному, и он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Массью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в опереточный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену, где толклись в обыкновенных домашних платьях актеры и актрисы и вяло, деревянными голосами, точно спросонья, что-то бормотали. Купил у Дюрана нитку жемчуга и завез ее Аннунциате Бенедетти, той хорошенькой цирковой артистке, которая однажды, по его, как он думал, вине, упала с проволоки. Сидел около часу в читальне клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление, и все не мог понять, что это такое значит: «Маникюр и педикюр, мадам Пеляжи Хухрик, у себя и на дому». У него было такое тяжелое, беспокойное и угнетенное состояние ожидания, какое бывает у нервных людей перед грозою или, пожалуй, как у больных, приговоренных на сегодня к серьезной операции: «Хоть бы поскорее!» Из Европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зеленые, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил еще раньше и шел, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Мысли его все теснились около двух утренних случаев. Несомненно, между ними была какая-то отдаленная, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явления противоположных миров. Сияющий и жалкий Среброструнов принадлежал к чему-то прошлому в жизни Цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недосягаемому, прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоновой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию Цвета — фантастическому и скорбному. На перекрестке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кармане квадратную костяшку. По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет шести, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал: «Вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься наперерез лошади или вагону. Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости». Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног. Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой: торопливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он — издали, внутренне — суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельс, оглушенный ударом. Был один самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, к кому подходила вплотную смерть, — бывало ли это в воде, в огне, под землею или в воздухе, — говорят, что они переживали подобные же ощущения. Цвет увидел, точно в хрустальном волшебном зеркале, свое детство: медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды, игру в бабки за конюшнями, ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на речке Кизахе и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки, духовное училище и гимназию, и всю службу в Сиротском суде, и певческий хор у Знаменья, и свое мирное житие в мансарде на шестом этаже, и визит Тоффеля, и усадьбу в Червоном, и страшную ночь в кабинете дяди-алхимика, и обратную дорогу, и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени, с розовым лицом и сладостным голосом, и всю последнюю жизнь, полную скуки, беспамятства, невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом: — Афро-Аместигон! Очнулся он на извозчике, рядом с Тоффелем, который одной рукой обнимал его за спину и другой держал у его носа пузырек с нашатырным спиртом. Внимательным, серьезным и глубоким взглядом всматривался ходатай сбоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а темно-карие, глубокие, и не жестко-холодные, а смягченные, почти ласковые. Приехав домой, Тоффель провел Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажег электричество. Потом он приказал лакею принести коньяку и, когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь. — Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент, — сказал он, наливая Цвету большую рюмку. — Выпейте, успокойтесь и поговорим. — Он слегка погладил его по колену. — Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово. И, видите, ничего страшного не произошло. Коньяк согрел и успокоил Цвета. Но в нем уже не было ни вражды к Тоффелю, ни презрения, ни прежнего с ним повелительного обращения. Он самым простым тоном, в котором слышалось кроткое любопытство, спросил: — Вы— Мефистофель? — О нет, — мягко улыбнулся Тоффель. — Вас смущает Меф. Ис… — начальные слоги моего имени, отчества и фамилии?.. Нет, мой друг,куда мне до такой знатной особы. Мы — существа маленькие, служилые… так себе… серая команда. — А мой секретарь? — Ну, этот-то уж совсем мальчишка на побегушках. Ах, как вы его утром великолепно испарили. Я любовался. Но и то сказать, — нахал! Однако о деле, добрейший Иван Степанович… Ну, что же? Испытали могущество власти? ― Ах, к черту ее! — Будет? Сыты? — Свыше головы. Какая гадость! — Я рад слышать это. Но не было ли у вас… Нет, не теперь, не теперь… Теперь вы во сне… А еще раньше, наяву, когда вы не были сказочным миллионером и кумиром золотой молодежи, а просто служили скромным канцелярским служителем в Сиротском суде… Не было ли у вас какого-нибудь затаенного, маленького, хоть самого ничтожного желаньишка? Цвет прояснел и сказал твердо: — Конечно же, было… Мне так хотелось получить первый чин коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке… — Исполнено, — сказал Тоффель серьезно. — Да, но если это опять сопряжено с какими-нибудь чудесами в решете?.. — Без всяких чудес. Так хотите? — Очень. — Через минуту это сбудется. Скажите еще раз слово. Цвет сказал с расстановкой: — Афро-Аместигон. — Вот и все, — кивнул головой Тоффель. — А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которой тьма лет, больше тридцати столетий. Ее когда-то извлек из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикиянам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и, наконец, в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам, как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким… не обижайтесь, мой милый… с таким… как бы это сказать вежливее… простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова — носитель несомненной, сверхъестественной удачи. Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый Цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пеструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себялюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты сорокаэтажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильни Китая, цветущая и нежная Япония — все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами… Вы не захотели этого… а теперь уже поздно… Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидалась мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной, не смея… Цвет нахмурился. — Оставим это… — сказал он тихо, но настойчиво. Тоффель опустил глаза и почтительно наклонил голову. — Слушаю, — произнес он покорно. — Но дальше, дальше… Вы никогда не подумали о власти, о громадном подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить… Помните, мы с вами вместе были на трибуне во время проезда государя. Я тогда следил за вами, и я видел, как остро и напряженно вы впились глазами в его лицо и фигуру. И я знаю, что на несколько секунд вы проникли в его оболочку и были им самим. — Да, да, — прошептал Цвет. — Вы угадали. — Я видел ваше лицо и видел, как на нем отражались попеременно выражения величия, приветливости, скуки, смертельной боязни, брезгливости, усталости и, наконец, жалости. Нет, вы не властолюбивы. Но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания. Она открылась бы перед вами. Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные, чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, — а их великое множество, и в числе их таинственный радий — лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти, женщины, богатства, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушии — ваше великое счастье, мой милый Друг. — Но у нас, — продолжал Тоффель, — осталось очень мало времени. Склонны ли вы слушаться меня? Если вы еще колеблетесь, то подымите вашу опущенную голову и всмотритесь в меня. Иван Степанович взглянул и нежно улыбнулся. Перед ним сидел чистенький, благодушный, весь серебряный старичок с приятными, добрыми глазами мягкотабачного цвета. — Я повинуюсь, — сказал Цвет. — И хорошо делаете. Начертите сейчас же на бумаге «Звезду Соломона». Нет, не надо ни линейки, ни транспортира, ни старания. Берите на глаз шестьдесят градусов в каждом углу. Время страшно бежит, а срок у нас короткий… Ну вот, хоть так… Теперь проставьте буквы. В середине знак Сатаны. Его озмеяет печать Соломона. Их пересекают скрещенные рога Астарота. — Не диктуйте, я знаю, я помню, — перебил Цвет и без ошибок, скоро и точно заполнил формулу. — Верно, — сказал Тоффель. Потом он заговорил веско, тоном приказания и немного торжественно. В его пристальных рыжих глазах, в самых зрачках, зажглись знакомые Цвету фиолетовые огни. — Теперь слушайте меня. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся то слово, которое, черт побери, я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, нет ли у вас, на самом дне душевного сундука, нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собою в скучную, будничную жизнь что-нибудь веселое, пряное, дорогое? — Нет. — Значит, только кокарду? — Только. — Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность. — Тоффель встал и совсем без иронии, низко, по-старомодному, поклонился Цвету. — Вы весь — прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом — «только» — вы освобождаете меня от плена, в котором находился больше тридцати веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного, полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь? — Немного трушу, но… говорите. Тоффель воспламенил карманную зажигалку и протянул ее Цвету. — Когда загорится, скажите формулу. — Однако подождите, — остановил его Цвет. — А это… новое заклинание… Не повлечет ли оно за собою какого-нибудь нового для меня горя? Не превратит ли оно меня в какое-нибудь животное или, может быть, вдруг опять лишит меня дара памяти или слова? Я не боюсь, но хочу знать наверно. — Нет, — твердо ответил Тоффель. — Клянусь печатью. Ни вреда, ни боли, ни разочарования. «Звезда Соломона» вспыхнула. «Афро-Аместигон», — прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе, во время сквозной смены картин. Все в кабинете начало так же обесцвечиваться, бледнеть в водянистом, мелькающем дрожании, утончаться, исчезать — все: портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них, издали, приближаясь и яснея, выступали венчики — зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками, и все с каждым мигом утверждалось в привычной милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною. Точно работал мотор. И Цвет увидел себя, но на этот раз уже совеем взаправду, в своей давно знакомой комнате-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался. Цвет босиком отворил дверь. В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рококо, Жуков и Влас Пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем, и это они все вместе ритмически барабанили в дверь. Они вошли, шатаясь, безобразные, лохматые, опухшие, и запели ужасным хором дурацкие, сочиненные сообща на улице куплеты:XII
Рассказ окончен. Поставлена точка. Надо бы было распроститься с героем. Но автор не считает себя вправе умолчать о нескольких незначительных мелочах, которые и наяву как будто бы свидетельствовали о некоторой правдоподобности странного сна, виденного Цветом. Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столе несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет всегда оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки, Лидочка, была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та, в виде тонкой любезности, поставила цветы на стол уважаемому жильцу. Тут же, рядом с вазочкой, лежал цветовский блокнот, раскрытый посредине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком — шестиугольной «Звездой Соломона». Чертежи были сделаны кое-как — небрежно, некрасиво, неряшливо, точно их рисовали с закрытыми глазами, или впотьмах, или спьяну. Как Цвет ни ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого не делал — это он знал твердо. «Может быть, кто из товарищей баловался на службе?» — подумал он. Несколько страннее оказался случай в «Белых лебедях», где Иван Степанович волей-неволей должен был вспрыснуть свой первый чин и великолепную фуражку с зерцалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, Цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет. Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера Б, обведенная снаружи, по краям, тонкими серебряными линиями и закрашенная внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлою ночью во сне. Но каким образом ока попала ему в карман, Цвет не мог этого представить. Регент Среброструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у Цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустячную, изящную вещицу. «Точно нарочно для меня, — сказал он. — Первая буква моей фамилии». Цвет охотно отдал ее и сам видел, как регент положил ее в портмоне. Но когда Среброструнов через три минуты хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу. Среди этих поисков Среброструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себя ладонью по лбу и уставился вытаращенными глазами на Цвета. — Отроче Иоанне! — воскликнул он. — А ведь я тебя нынче во сне видел! Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон-барон, и, выражаясь репортерским языком, «утопал в вольтеровском кресле», а я будто бы тебя просил одолжить мне сто тысяч на устройство певческой капеллы… Скажи на милость — какая ерундистика привидится? А? Цвет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил: — Да… бывает… Но самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало Цвета через несколько дней, именно первого мая. Может быть, случайно, а может быть, отчасти и под влиянием своего сна, Цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе, просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жокеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны. Во время одной скачки он вдруг почувствовал настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе, прямо против себя, Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, которую он не мог забыть со времени своего сна, и лицо которой он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь, пристальными, изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнея от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью. В антракте к нему подошел молодой бритый красивый офицер-моряк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову. — Извините, — сказал офицер. — Вас просит на минуту зайти дама вот из той ложи. Мне поручено передать вам. — Слушаю, — сказал Цвет. Ноги, его, как каменные, ступали по дерерянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился. Это была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии незабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресниц и бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала Цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства: — Извините, я вас побеспокоила. Но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице. — Ваше имя Варвара Николаевна? — спросил робко Цвет. — Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом? — Нет. Иваном. — Но я вас видела, видела… Не на железной ли дороге? На станции? — Да. Там стояли рядом два поезда… Окно в окно… — Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь, на воротнике и вдоль отворотов, шелками… — Это верно, — радостно согласился Цвет. — И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами. — Как странно, как странно, — произнесла она медленно, не сводя с Цвета ласковых, вопрошающих глаз. — И — помните — у меня в руках был букет сирени? — Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно. — Да, да, да! — воскликнула она с восторгом. — А наутро… — Наутро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд и уже на ходу пересели в мой… И мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес: Озерная улица, дом пятнадцать… собственный, Локтева… Она тихонько покачала головой. — Это не то, не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя, только вчера приехала и завтра уеду. Я впервые в этом городе… Как все это необыкновенно… С вами был еще один господин, со страшным лицом, похожий на Мефистофеля… Погодите… его фамилия… — Тоффель! — Нет, нет. Не то… Что-то звучное… вроде Эрио или Онтарио… не вспомню… И потом мы простились на вокзале. — Да, — сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней. — Я до сих пор помню пожатие вашей руки. Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже виделись печаль и разочарование. — Но вы не тот, — сказала она, наконец, с невыразимым сожалением. — Это был сон… Необыкновенный, таинственный сон… чудесный… непостижимый… — Сон, — ответил, как эхо, Цвет. Она закрыла узкой прелестной ладонью глаза и несколько секунд сидела неподвижно. Потом сразу, точно очнувшись, выпрямилась и протянула Цвету руку. — Прощайте, — сказала она спокойно, — Больше не увидимся. Извините за беспокойство. — И прибавила невыразимым тоном искренней печали: — А как жаль!.. И в самом деле, Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что они оба, не знавшие до того никогда друг друга, в одну и ту же ночь, в одни и те же секунды, видели друг друга во сне и что их сны так удивительно сошлись, — это для Цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятным. Но это — только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти человека.А. Н. Толстой ГРАФ КАЛИОСТРО
I
В Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых полосами хлебов и березовыми лесками, на высоком берегу реки стояла усадьба Белый ключ, старинная вотчина князей Тулуповых. Дедовский деревянный дом, расположенный в овражке, был заколочен и запущен. Новый дом с колоннами, в греческом стиле, обращен на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двумя крыльями в парк, где были и озерца, и островки, и фонтаны. Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнуться на каменную женщину со стрелой, или на урну с надписью на цоколе: «Присядь под нею и подумай — сколь быстротечно время», или на печальные руины, оплетенные плющом. Дом и парк были окончены постройкою лет пять тому назад, когда владелица Белого ключа, вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулупова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству перешло к ее троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшеву, служившему в то время в Петербурге. Алексей Алексеевич оставил военную службу и поселился, тихо и уединенно, в Белом ключе вместе со своей теткой, тоже Федяшевой. Нрава он был тихого и мечтательного и еще очень молод, — ему исполнилось девятнадцать лет. Военную службу он оставил с радостью, так как от шума дворцовых приемов, полковых попоек, от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у него болел висок и бывало колотье в сердце. С тихой радостью Алексей Алексеевич предался уединению среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом смотреть на полевые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под дуплистой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера и сам смотрел из окна на живописную эту картину. В зимние вечера он усердно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна раскладывала пасьянс; ветер завывал на высоких чердаках дома; по коридору, скрипя половицами, проходил старичок-истопник и мешал печи. Так жили они мирно и без волнений. Но скоро Федосья Ивановна стала замечать, что с Алексисом — так она звала Алексея Алексеевича — творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рассеянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, что: — Не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями да и жениться, не век же, в самом деле, на меня, старого гриба, смотреть, так ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться… Куда тут! Алексис даже ногой топнул: — Довольно, тетушка… Нет у меня охоты и не будет погрязнуть в скуке житейской: весь день носить халат да играть в тресет с гостями… На ком же прикажете мне жениться, вот бы хотел послушать? — У Шахматова-князя пять дочерей, — сказала тетушка, — все девы отменные. Да у князя у Патрикеева четырнадцать дочерей… Да у Свиньиных — Сашенька, Машенька, Варенька… — Ах, тетушка, тетушка, отменными качествами обладают перечисленные вами девицы, но лишь подумать, — вот душа моя запылала страстью, мы соединяемся, и что же: особа, которой перчатка или подвязка должна приводить меня в трепет, особа эта бегает с ключами в амбар, хлопочет в кладовых, а то закажет лапшу и при мне ее будет кушать… — Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алексис? Да и хотя бы лапшу, — что в ней плохого?.. — Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою печаль, тетушка… Но женщины, способной на это, нет на земле… Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным взором на стену, где висел большой, во весь рост, портрет красавицы, Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем, со вздохом запахнув китайского рисунка шелковый халат, набил табаком трубку, сел в кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма. Но, видимо, он о чем-то проговорился, и тетушка что-то поняла, потому что, с удивлением поглядывая на племянника, она проговорила: — Если ты человек, — люби человека, а не мечту какую-то бессонную, прости господи… Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со скукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий теленок и сосал у другого теленка ухо. Двор полого спускался к речке, на берегу ее в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега; один поднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в этот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и дрожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из березового леска, ехал верхом мужик; вот он спустился к броду, — лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить; потом он, распугав гусей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то дворовой девке, тащившей охапку соломы, засмеялся, но, заметив в окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был нарочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за почтой. Он привез Федосье Ивановне письмо, а барину — пачку книг. Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич принялся просматривать книги. Внимание его привлекла, в двадцать восьмом выпуске «Экономического магазина», статья о причинах ипохондрии. «Первый несчастный источник ипохондрии есть жестокое и продолжительное любострастие и такие страсти, которые содержат дух в непрерывном печальном положении; человек, обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не чает, ищет уединения, погружается отчасу в глубочайшую печаль, покуда наконец нервы желудка и кишок его не придут в изнеможение…» Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. Итак, его ожидает ипохондрия: страсти, сжигающей его душу, нет выхода.II
Полгода тому назад Алексей Алексеевич, заканчивая отделку некоторых комнат, посетил в поисках за вещами старый дом. Как сейчас он вспоминает эту минуту. Солнце садилось в морозный закат. По холодеющим полям уже закурилась поземка. Древняя ворона, каркая, снялась с убранной инеем березы и осыпала снегом Алексея Алексеевича, идущего в лисьем тулупчике по дорожке, только что расчищенной в снегу вдоль берега. На речке, присев у проруби, деревенская девушка черпала воду; подняла ведра на коромысло и пошла, оглядываясь на барина, круглолицая и чернобровая. На деревне между сугробами зажигался кое-где свет по замерзшим окошечкам; слышался скрип ворот да ясные в морозном вечере голоса. Унылая и мирная картина. Алексей Алексеевич, взойдя на крыльцо старого дома, велел отбить дверь и вошел в комнаты. Здесь все было покрыто пылью, ветхо и полуразрушено. Казачок, идущий впереди, освещал фонарем то позолоту на стене, то сваленные в углу обломки мебели. Большая крыса перебежала комнату. Все ценное, очевидно, было унесено из дома. Алексей Алексеевич уже хотел вернуться, но заглянул в низкое пустое зальце и на стене увидел висевший косо, большой, во весь рост, портрет молодой женщины. Казачок поднял фонарь. Полотно было подернуто пылью, но краски свежи, и Алексей Алексеевич разглядел дивной красоты лицо, гладко причесанные пудреные волосы, высокие дуги бровей, маленький и страстный рот с приподнятыми уголками и светлое платье, открывавшее до половины девственную грудь. Рука, спокойно лежащая ниже груди, держала указательным и большим пальцем розу. Алексей Алексеевич догадался, что это портрет покойной княгини Прасковьи Павловны Тулуповой, его троюродной сестры, которую он видал только будучи ребенком. Портрет сейчас же был унесен в дом и повешен в библиотеке. Много дней Алексей Алексеевич видел перед собой этот портрет. Читал ли книгу, — он очень любил описания путешествий по диким странам, — или делал заметки в тетради, куря трубку, или просто бродя в бисерных туфлях по навощенному паркету, Алексей Алексеевич подолгу останавливал взгляд на дивном портрете. Он понемногу наградил это изображение всеми прекрасными качествами доброты, ума и страстности. Он про себя стал называть Прасковью Павловну подругой одиноких часов и вдохновительницей своих: мечтаний. Однажды он увидел ее во сне такою же, как на портрете, — неподвижной и надменной, лишь роза в ее руке бЫла живой, и он тянулся, чтобы вынуть цветок из пальцев, и не мог. Алексей Алексеевич проснулся с тревожно бьющимся сердцем и горячей головой. С этой ночи он не мог без волнения смотреть на портрет. Образ Прасковьи Павловны овладел его воображением.III
Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с очками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, сказала: — Павел Петрович мне пишет… — Какой Павел Петрович, тетушка? — Да ты что Алексис, батюшка мой, — Павел Петрович Федяшев, секунд-майор… Так он пишет разные разности, а вот — для тебя: «… Много у нас в Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или, как его называют, — Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, изничтожил внутри его пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа, и он с ней говорил и брал ее за руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась… Словом, всех чудес не перечесть… Императрица даже склонилась, чтобы призвать его во дворец, но тут случилось препотешное приключение: князь Потемкин воспылал свирепой страстью к жене графа Феникса, родом чешке, — сам я ее не видел, но рассказывают — красотка. Потемкин передавал графу много денег, и ковров, и вещиц; увидав же, что деньгами от него не откупишься, замыслил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день граф Феникс вместе с женой скрылся из Петербурга в неизвестном направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет…» Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием и перечел его сам. Легкий румянец выступил у него на скулах. — Все эти чудеса — проявление непонятной магнетической силы, — сказал он. — Если бы мне встретиться с этим человеком… О, если бы только встретиться… — Он заходил по комнате, издавая восклицания. — Я бы нашел слова умолить его… Пусть бы он произвел на мне этот опыт… Пусть воплотит всю мечту мою… Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как туман. Не пожалею о ней. Федосья Ивановна со страхом круглыми выцветшими глазами глядела на племянника. И действительно, было чего испугаться: Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел в окно на подошедших двух девок с лукошком грибов, не видя ни грибов, ни девок, ни поля, по которому, по меже между хлебов, закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая птиц на придорожной березе.IV
Наутро Алексей Алексеевич проснулся с сильной головной болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели неподвижно на деревьях, — все застыло, и цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали куры; на скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на северо-востоке, у земли, был темный, глухой и жестокий. В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексеевич оставил его беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась от ломотья в висках, пошел в библиотеку и раскрыл книгу, но скоро заскучал над нею, взялся было за перо, но, кроме росчерков своего имени, написать ничего не мог. Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны, но и портрет, как и все вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице ее сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарыдает, если еще продолжится это состояние необыкновенной отчетливости и грубости всего окружающего. Душа его изнывала от тоски. Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стекла и раздались испуганные голоса. Алексей Алексеевич подошел к окну. Огромная и густая, как ночное небо, туча низко, над самыми полями, ползла на усадьбу. Вода в реке посинела, стала мрачной. Замотались, смялись и легли камыши. Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо, раскидал ветви, погнал по двору кур, распушивших хвосты, закачал деревянный забор, задрал юбку на голову бабе и со всей силой налетел на дом, ворвался в окно, завыл в трубах. В туче появился свет и пробежал извилистыми, ослепляющими корнями от неба до земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами. Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружина в часах на камине. Алексей Алексеевич стоял у окна, ветер рвал его длинные волосы и развевал полы халата. Вбежавшая тетушка схватила его за руку и оттащила от окна и что-то закричала, но второй, более ужасный удар грома заглушил ее слова. Через минуту упали тяжелые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и зацепился о стекла закрытого окна. Стало совсем темно. — Алексис, — тетушка все еще тяжело дышала, набравшись страха, — говорю тебе: гости к нам приехали. — Гости? Кто такие? — Сама не знаю. Карета у них поломалась, и грозы боятся, просятся переночевать. — Просить, конечно. — Да уж я распорядилась. Они мокрое снимают. А ты сам-то пошел бы оделся. Алексей Алексеевич спохватился и пошел из библиотеки, но в дверь в это время вскочила Фимка, комнатная девка, простоволосая, в облипшем сарафане: — Матушка, барыня, приезжие-то, провалиться мне, — один из них черный, как дьявол.V
Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь свечи. Настала тишина. Растворили окна и двери в сад, а там в темноте падал несильный, теплый и отвесный дождь, тихо шумя о листья. Алексей Алексеевич в шелковом кафтане, в камзоле, тканном по палевому полю незабудками, при шпаге, завитой и напудренный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужайке, в тех местах, где падал свет, казалась- седой. Пахло сыростью и цветами. Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна правого крыла дома, полукругом уходящего за липы. Там, в окнах, на спущенных белых занавесах появлялись тени: то мужская, в огромном парике, то женская — изящная, то высокая тень в тюрбане — слуги. Это и были приезжие. Они давно уже и переоделись, и отдохнули, и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алексей Алексеевич с нетерпением следил за движением теней на занавеске. От запаха ночного дождя, цветов и воска горящих свечей кружилась голова. Вот опять появилась длинная тень слуги, поклонилась и исчезла, и в доме послышались ровные шаги. Алексей Алексеевич отступил от двери в комнату. Вошел большого роста, совершенно черный человек с глазами, как яичные белки. Он был в длинном малиновом кафтане, перепоясанном шалью, и другая шаль была обмотана у него вокруг головы. Почтительно, но достойно поклонившись, он сказал по-французски, ломано: — Господин приветствует вас, сударь, и просит передать, что с отменным удовольствием принимает приглашение отужинать с вами. Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко подойдя к нему: — Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему барину. Слуга со вздохом наклонил голову: — Не знаю. — То есть, как — не знаешь? — Его имя скрыто от меня. — Э, братец, да ты, я вижу, — плут. Ну, а тебя, по крайней мере, как зовут? — Маргадон. — Ты что же — эфиоп? — Я был рожден в Нубии, — ответил Маргадон, спокойно, сверху вниз глядя на Алексея Алексеевича, — при фараоне Аменхозирисе взят в плен и продан моему господину. Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови: — Что ты мне рассказываешь?.. Сколько же тебе лет? — Более трех тысяч… — А вот я скажу твоему барину, чтобы тебя высекли покрепче, — воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румянцем. — Пошел вон! Маргадон поклонился так же почтительно и вышел. Алексей Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равновесие, затем подумал и рассмеялся. Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклоны и представление. Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огромный, с локонами, парик, какие носили в начале столетия, был неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан расшит золотыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых песцах. Золотом же были вышиты черные чулки. На пряжках бархатных башмаков сверкали брильянты, и на каждом пальце коротких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня. Хриповатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, отойдя на шаг от дамы, представил ей Алексея Алексеевича. — Графиня, — наш хозяин. Сударь, — моя жена. После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задирая голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданного знакомства. Он предложил ей руку и повел к столу. Графиня отвечала односложно и казалась утомленной и печальной. Но все же она была необыкновенно хороша собой. Светлые волосы ее были причесаны гладко и просто. Лицо ее, скорее лицо ребенка, чем женщины, казалось прозрачным, — так была нежна и чиста кожа; ресницы скромно опущены над синими глазами, изящный рот немного приоткрыт, — должно быть, она с наслаждением вдыхала свежесть, идущую из сада. У стола, уставленного холодными и горячими закусками, гостей встретила Федосья Ивановна. По-французски она изъяснялась плохо, приезжие совсем не говорили по-русски, поэтому занимать их пришлось одному Алексею Алексеевичу, выяснилось, что они едут из Петербурга в Варшаву на долгих и в дороге уже вторую неделю. — Прошу великодушно простить меня, — сказал Алексей Алексеевич, — знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя. — Граф Феникс, — отвечал приезжий, жадно белыми крепкими зубами вонзаясь в курячью ногу. Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке стакан и побелел, стал белее салфетки.VI
— Так вы и есть знаменитый Калиостро, о чудесах ваших говорит весь свет? — спросил Алексей Алексеевич. Феникс поднял косматые, с проседью, брови, налил вина в стакан и опрокинул его в горло, не глотая. — Да, я Калиостро, — сказал он, с удовольствием причмокнув большими губами, — весь мир говорит о моих чудесах. Но происходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знание стихий природы, а именно: огня, воды, земли и воздуха; субстанций природы, то есть твердого, жидкого, мягкого и летучего; сил природы: притяжения, отталкивания, движения и покоя; элементов природы, коих тридцать шесть и, наконец, энергий природы: электрической, магнетической, световой и чувственной. Все сие подчинено трем началам: знанию, логике и воле, кои заключены вот здесь, — при этом он ударил себя по лбу. Затем положил салфетку и, вынув из камзольного кармана золотую зубочистку, принялся решительно ковырять в зубах. Алексей Алексеевич глядел на него, как кролик. Ужин кончился, и гости перешли в библиотеку, где, прогоняя вечернюю сырость, пылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не понявшая из разговора, осталась хлопотать в столовой. Калиостро сел в сафьяновое кресло и, нюхая табак, говорил о том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Графиня опустилась на стульчик близ огня и глядела на пламя, задумавшись. Ее руки, скрещенные на коленях, тонули в голубоватом шелку платья. — Мой друг, доктор философии, умерший в Нюренберге, в тысячу четыреста… вот проклятая память, — пробормотал Калиостро, стуча пальцами по табакерке, — мой друг доктор Бомбаст Теофраст Парацельзиус не раз говаривал мне: жуй, жуй, жуй, — сие есть первая заповедь мудрого: жуй… Алексей Алексеевич дико взглянул на графа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительность сами собой совместились, слились в его представлении, лишь слегка закружилась голова, но это сейчас же прошло. — Я также не раз слыхал, ваше сиятельство, — проговорил Алексей Алексеевич, — что хорошее пищеварение вселяет веселые мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохондрию. Но есть и другие причины… — Несомненно, — сказал Калиостро, опуская брови. — Осмелюсь взять хотя бы в пример себя… Расстройство моих чувств началось вот от этого портрета… Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза. Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, написанного во Франции (об этом он узнал от тетушки), и то, как нашел его в старом дому, и, наконец, все свои чувства и несбыточные желания, какие привели его к ипохондрии. Во время рассказа он взглядывал несколько раз на графиню. Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексеевич, поднявшись с кресла и указывая на портрет, воскликнул: — Еще сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мне встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, оживить портрет, а там, — хотя бы это стоило мне жизни… При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас, она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь.. — Материализация чувственных идей, — проговорил Калиостро, зевая и прикрыв рот рукой, сверкающей перстнями, — одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки… Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни… Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать.VII
Алексей Алексеевич не закрывал глаз всю ночь. На рассвете он накинул халат, спустился к речке и бросился в невидимую за туманом воду, она была как парная, ко в глубине — студена. После купанья, одетый и завитой, он выпил горячего молока с медом и вышел в сад, — мысли его были возбуждены, и голова горела. Утро настало влажное и тихое. По траве бегали озабоченные дрозды. Свистала иволга, точно в дудку с водой. Над озерцом с полуспущенными фонтанами, в голубоватой мгле, в высоких и пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь. Дорожки были влажные и вымытые, и на одной из них Алексей Алексеевич заметил следы женских ног. Он пошел по их направлению, и — на поляне, там, где из голубоватой мглы проступали очертания круглой беседки и по сторонам ее — огромных осокорей, он увидел графиню. Она стояла на мостике и, опустив руки, слушала, как в роще куковала кукушка. Когда Алексей Алексеевич подошел ближе, — у него забилось сердце: по лицу молодой женщины текли слезы, обнаженные плечи ее вздрагивали. Вдруг, обернувшись на хруст шагов Алексея Алексеевича, она вскрикнула негромко и побежала, придерживая обеими руками пышную юбку. Но, добежав до озерца, остановилась и обернулась. Ее лицо было залито румянцем, в испуганных синих глазах стояли слезы. Она быстро вытерла их платочком и улыбнулась виновато. — Я испугал вас, простите, — воскликнул Алексей Алексеевич. — Нет, нет, — она спрятала на груди платочек и сделала реверанс; Алексей Алексеевич поцеловал ей руку почтительно. — Утро так хорошо, кукушка так славно кричала: мне стало грустно, а вы меня не испугали. — Она пошла рядом с Алексеем Алексеевичем по берегу озерца. — Разве вам не бывает грустно, когда вы видите, как хороша природа? Знаете, — я думала о вашем вчерашнем рассказе. Жить в таком изобилии, одному, молодому… И все-таки, почему, почему нет счастья?.. Она запнулась и поглядела ему в глаза. Алексей Алексеевич ответил первое, что вошло в голову, — о грубости жизни и невозможности счастья. При этом он широко улыбнулся, улыбка так и осталась на его губах. Продолжая прогулку и разговаривая, он видел перед собою только синие глаза — они словно были насыщены утренней прелестью, в ушах его раздавался голос молодой женщины и отдаленный немолчный крик кукушки. Графиня рассказывала, что родилась в деревне, близ Праги, что она круглая сирота, что зовут ее Августа, но настоящее имя ее Мария, что она вот уже три года путешествует с мужем по свету и столько видела, — другому бы хватило на всю жизнь, — и что сейчас в этой утренней мгле все прошлое пронеслось перед нею, и она расплакалась. — Я вышла замуж ребенком, и сердце мое за эти годы созрело, — сказала она и опять ласково и пристально взглянула на Алексея Алексеевича. — Я вас не знаю, но почему-то верю вам так, будто знаю давно. Вы не осудите меня за болтовню?.. Он взял ее руку и, нагнувшись, поцеловал несколько раз, и, когда целовал в последний, ее рука перевернулась к его губам, легко сжала их и выскользнула. — Неужели вы не могли найти жены и подруги, не полюбили женщину, а предпочли мечту бездушную какую-то? — проговорила Мария задрожавшим от волнения голосом. — Вы неопытны и наивны… Вы не знаете — какой ужас ваша мечта… Она подошла к каменной скамье и села.Алексей Алексеевич опустился рядом с нею. — Почему же ужас, — спросил он, — что грешного, если я мечтаю о том, чего в жизни нет? — Тем более… В такое утро — нельзя, нельзя мечтать о том, чего быть не может, — повторила она, и глаза ее снова налились слезами. Алексей Алексеевич придвинулся ближе и взял ее За руку: — Я чувствую — вы несчастны… Она молча поспешно закивала головой. Она была взволнована и трогательна, как маленькая девочка. Алексей Алексеевич ощущал, как она всеми силами души стремится привлечь на себя его мысли и чувства. Стало горячо сердцу, — словно ветер, наклоняющий травы и листья, прошла по нему нежность к этой женщине. — Кто заставляет вас страдать? — спросил он шепотом. И Мария ответила торопясь, точно в страхе потерять минуту этого разговора:. — Я боюсь… я ненавижу моего мужа… Он — чудовище, каких не видал еще свет… Он мучает меня… О, если бы вы знали… Во всем свете нет близкого мне человека… Многие добивались моей любви, — что мне в том… Но ни один участливо не спросил — хорошо ли мне жить… Мы с вами не успели встретиться — и расстанемся, но я навеки буду помнить эту минуту, как вы спросили. — У нее задрожали губы, видимо, она делала большое усилие, преодолевая застенчивость, и вдруг залилась румянцем. — Едва я увидала вас, мне сердце сказало: доверься… — Ради бога… этого нельзя вынести… Я убью его! — воскликнул Алексей Алексеевич, стискивая рукоять шпаги. И сейчас же за спиной сидящих громко кто-то чихнул. Мария воскликнула слабо, как птица. Алексей Алексеевич вскочил и между стволов лип увидел Калиостро. Он был в той же зеленой шубе и в большой шляпе с белыми, падающими на плечи и спину, страусовыми перьями. Держа в руке табакерку, он страшно морщился, собираясь еще раз чихнуть. Лицо его при дневном свете казалось лиловым, — так было полнокровно и смугло. Алексей Алексеевич, держа руку на рукояти шпаги, глядел в упор на этого дивного человека. Тогда Калиостро, раздумывая чихать, протянул табакерку: — Угощайтесь. Алексей Алексеевич невольно отнял было руку от шпаги, но сейчас же вновь схватился за рукоять. — А не хотите нюхать, так и не надо, — сказал Калиостро. — Графиня, я вас искал по всему саду, мой чемодан уложен, но ваших вещей я не касался. — И он обратился к Алексею Алексеевичу: — Итак, если наш экипаж починен, — мы едем. Калиостро, округлив локоть, подставил его Марии; она покорно, не поднимая головы, взяла мужа под руку, и они удалились по дорожке между густых трав к дому. Алексей Алексеевич закрыл лицо руками и опустился на скамью.VIII
Так он просидел долгое время в оцепенении, не слыша ни свиста птиц, ни плеска пущенных садовником фонтанов. Он глядел под ноги на песок, где ползали козявки. Это были те самые плоские красные козявки, у которых на спине, у каждой, нарисована рожица. Одни ползали, сцепившись, — рожица к рожице, — другие то вползали в трещину на плотно убитой дорожке, то вылезали оттуда безо всякой видимой надобности. Алексей Алексеевич думал о том, что очарование сегодняшнего утра разбило его жизнь. Ему не вернуться более к уютным и безнадежным мечтам об идеальной любви: синие глаза Марии, два синих луча, проникли ему в сердце и разбудили его. Но что ему в том: Мария уезжает, они не встретятся никогда. И сон и явь его разбиты, — каких очарований ждать еще от жизни? И вдруг он вспомнил, как Калиостро протягивал ему табакерку и усмехался криво, и им овладело бешенство. Алексей Алексеевич вскочил и, еще не зная, что он сделает, но сделает что-то решительное, надвинул шляпу на глаза и зашагал к дому. У дверей его встретила Федосья Ивановна. — Алексис, — воскликнула она взволнованно, — сейчас был кузнец и сказал, мошенник, что раньше как через два дня графский экипаж не починит.IX
Известие, что гости остаются, смешало все мысли Алексея Алексеевича, у него начался озноб и дрожание рук. Он вошел с тетушкой в дом и присел на канапе… Федосья Ивановна, не понимая хода его мыслей, спросила, — не послать ли в таком случае в соседнее село за кузнецами? — Ни под каким видом, — крикнул он, — ни за какими кузнецами посылать не смейте! — И вдруг усмехнулся — Нет, Федосья Ивановна, пусть гости поживут у нас два дня… А вот, тетушка, вы, чай, и не разобрали, кто таков наш гость. — Фенин какой-то. — В том-то и дело, что не Фенин, а граф Феникс, — сам Калиостро. Федосья Ивановна широко раскрыла глаза и всплеснула пухлыми руками. Но Федосья Ивановна была русская женщина, и поэтому известие, что в доме их — знаменитый колдун, поразило ее с иной стороны: тетушка вдруг плюнула. — Бусурман, нехристь, прости господи, — сказала она с омерзением, — всю посуду теперь святой водой мыть придется и комнаты святить заново… Вот, не было заботы… Она тоже волшебница? — Да, тетушка. Графиня — волшебница. — Так ведь им, проклятым, чай, пища другая совсем нужна… Ах, Алексис… Ведь они, может, нашего и не едят, а ты не догадался… Поди, спроси, — чего они желают к завтраку… Алексей Алексеевич рассмеялся и пошел в библиотеку. Там, закурив трубку, он начал расхаживать и вдруг так стиснул конец чубука зубами, что янтарь хрустнул. «Вызвать графа на дуэль, убить и бежать с Марией за границу, — подумал он и швырнул трубку на подоконник. — Но повод к дуэли?.. Э, не все ли равно…» Алексей Алексеевич вытащил шпагу из ножен и начал осматривать лезвие. «Но можно ли драться с гостем?» В это время в глубине комнаты, там, где была арка с задернутым малиновым занавесом, скрипнула половица. Алексей Алексеевич быстро поднял голову, но сейчас же забыл про скрип, — мысли вихрем летели у него в голове. «Нет, придется подождать, когда они отъедут, догнать их за речкой и там уж завязать ссору». Он остановился у окна и, слушай, как стучит сердце, проследил взглядом весь путь, пройденный им давеча с Марией, от беседки, вдоль озера и до скамьи. «О милая», — прошептал он. Настал час завтрака. Алексей Алексеевич ожидал в столовой прихода гостей. Когда послышались их шаги, у него потемнело в глазах. Вошла Мария с опущенными ресницами, сделала тетушке глубокий реверанс и села к столу. Лицо ее было бледно и припудрено, точно весь огонь души ее погас. Калиостро, развертывая салфетку, молча покосился на Алексея Алексеевича и сидел весь завтрак, надувшись и неприятно, громко жуя. Федосья Ивановна шепотом отдавала распоряжения Фимке и сама не ела. Напрасно Алексей Алексеевич горячими взглядами старался вызвать краску, хотя бы едва заметное движение на лице Марии: она была как восковая, а взгляды его каждый раз встречались с ответными взглядами мужа, внимательными и твердыми. И Алексей Алексеевич со свойственной ему внезапностью впал в отчаяние. Завтрак кончился. Мария, не поднимая глаз, удалилась во флигель. Калиостро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевича, выразил желание выкурить трубку в библиотеке. Развалившись во вчерашнем кресле, он некоторое время сопел чубуком, поглядывал из-под косматых бровей на Алексея Алексеевича, томившегося у окна, и вдруг громко и повелительно сказал: — Я обдумал и решил, — сегодня вечером я исполню ваше желание: я произведу совершенную и полную материализацию портрета госпожи Тулуповой. Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пересохшие губы. Калиостро поднялся с кресла и, вынув из кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прищелкивая языком и посапывая. Через час начались приготовления. Маргадон снял портрет с гвоздя, тщательно обтер с него пыль тряпкой, поставил у стены, разостлал перед ним ковер. В комнате были прибраны и вынесены все лишние вещи, на окнах опущены занавесы. Алексею Алексеевичу было приказано раздеться, лечь в постель и до сумерек лежать, не принимая ни пищи, ни питья. Алексей Алексеевич повиновался всему, чего от него требовали. Лежа в полутемной спальне, он чувствовал только, как голова его окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принес ему стакан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное. В семь у него было облегчение желудка. В восемь, одетый в просторное и легкое платье, он вошел вместе с Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, горели в канделябрах восковые свечи.X
— Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит. Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в низкое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его с прыгающими бровями, из-под буклей парика текли капли пота. Двигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону. Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик, затем вынул из футляра и отнес в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принес большую тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув ее в руках, сел на пол близ двери. В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг. — Повторяю, — говорил он, — вы должны напрячь все воображение и представить эту особу, — он ткнул мелом в сторону портрета, — без покровов, то есть нагую… От силы вашего воображения будут зависеть все подробности ее сложения… Я помню, — в тысяча пятьсот девятнадцатом году, в Париже, герцог де Гиз просил меня материализировать мадам де Севиньяк, умершую от желудка… Я не успел предупредить, герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Севиньяк оказалась под платьем как бы набитым соломою мешком… Я потерял восемь тысяч ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. Итак, вообразив, со всею тщательностью, сложение желаемой вами особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячась, ибо, как это было в тысяча двести пятьдесят первом году, когда я вызывал, по просьбе вдовы покойного, дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела, задняя же половина была неодетая и возбуждала удивление… Маргадон, — позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы, — поди и позови графиню. Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зодиака, двадцать два знака каббалы, ключ и врата, четыре стихии, три начала, семь сфер. Окончив чертить, он вошел в круг. — Вы будете иметь совершенный образец моего искусства, — сказал он важно, — способность речи, пищеварение, все отправления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у человека, рожденного от женщины. Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим, как труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздались легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застонал, делая последнее усилие освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза. — Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям… Я начинаю, — повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замкнувшись, он сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом окаменело. За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн. — Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. Я силен. Я приказываю, — нараспев, медленно и все усиливая голос, заговорил Калиостро. — О духи воздуха, Сильфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слово Эша… Делайте ваше дело… Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томления бессонных ночей, и лицо ее, еще так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно-желтым, как болезнь. Но, чувствуя, что все же нужно повиноваться, он перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны, и, сделав над собой усилие, стал воображать ее, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его. Когда было произнесено слово Эша, огонь свечей заколебался, по комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос: — Духи земли, Гномусы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слог Эл. Делайте ваше дело. Он поднял стилет и опустил его, и будто от подземного толчка весь дом задрожал, зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкафа, из распахнувшейся дверцы, упала на пол книга. Калиостро продолжал: — Духи вод, Нимфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как звук Ра… Придите и делайте ваше дело… При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдавленный шум будто набегающего на песок прибоя и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, как все формы лица ее начали становиться зыбкими, неуловимыми… — Духи огня, Саламандры, — громовым уже голосом говорил Калиостро, — могущественные и своевольные, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как буква Иод. Духи огня, Саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать свое дело. — Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении. — Делайте ваше дело согласно законам натуры, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения… И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли ослепительные лучи. Вспыхнули травы в медном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича. Но она не успела окончить песни, — Алексей Алексеевич вскрикнул дико: голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы. — Дайте мне руку, — проговорила она тонким, холодным и злым голосом. В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как засопел Калиостро. — Дайте же мне руку, я освобожусь, — повторила голова Прасковьи Павловны. — Руку ей, руку дайте! — воскликнул Калиостро. Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету.
Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя, рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковер.
Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила:
— Удивляюсь… Спала я, что ли?.. Что за цвет лица… И платье все помято… И фасон чудной, — жмет в груди… Ах, что-то я не могу припомнить… Забыла… — Она поднесла пальцы к глазам. — Забыла, все забыла…
Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошлась, и взгляд ее темных, матовых глаз остановился на Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть.
— Вы так странно на меня смотрите, — я страшусь, — проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери. — Нам нужно объясниться.
Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету.
Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя, рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковер.
Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила:
— Удивляюсь… Спала я, что ли?.. Что за цвет лица… И платье все помято… И фасон чудной, — жмет в груди… Ах, что-то я не могу припомнить… Забыла… — Она поднесла пальцы к глазам. — Забыла, все забыла…
Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошлась, и взгляд ее темных, матовых глаз остановился на Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть.
— Вы так странно на меня смотрите, — я страшусь, — проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери. — Нам нужно объясниться.
XI
Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубою на поясницу и рассмеялся. — Отменный получился кадавр, — проговорил он, трясясь всем телом. Затем повернулся на каблучках и уже без смеха стал глядеть на Марию. — Плачете? — Она поспешно отерла слезы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову. — Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мертвой и живой природой, не так ли? — Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа, лицо ее было искажено пережитым страхом и омерзением. — А юноша ваш прекрасный предпочел утешаться с мерзким кадавром, не с вами… Мария ответила тихо и твердо: — Вы ответите на страшном суде за чародейство. Тогда Калиостро побагровел, вытащил руки из-под шубы и совсем прикрылся бровями. Но Мария стояла неподвижно перед ним, и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью: — Три года, сударыня, не прибегая ни к какому искусству, я терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотрите в лес. Нехорошо, если придет конец моему терпению. — Над любовью моей вы все равно не властны, — поспешно ответила Мария, — не заставите вас полюбить. — Нет, заставлю. — На это Мария вдруг усмехнулась, и его глаза сейчас же налились кровью. — Я вас в пузырек посажу, сударыня, в кармане буду носить. — Все равно, — повторила она, — власти над любовью нет у вас. Жива буду — другому отдам, не вам. — На этот раз вы замолчите, — пробормотал Калиостро, схватывая со столика стилет, но Маргадон, стоявший до этого неподвижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным проворством поймал его за руку. Калиостро, зарычав, левой рукой ударил Маргадона в лицо, — арап зажмурился, — он отшвырнул стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты.XII
Алексей Алексеевич и то, что было подобно женщине и что он называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через полянку к прудам. Воздух был влажен. Над садом поднялась луна. Ее седой свет озарял всю широкую поляну. Отсвечивала кое-где паутина, уже протянутая пауками в густо-синей траве. Белеющими пятнами обозначались цветы, блестела обильная роса. Вдали над прудами поднимались испарения серебристым сиянием. Алексей Алексеевич шел молча, сжав рот и глядя под ноги. Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пышными грудами рощи светлый шар луны, говорила не переставая… — Ах, луна, луна! Алексис, вы бесчувственны к этим чарам. Холодный ее голосок сыпал словами, как стекляшечками, и невыносимым звуком все время посвистывал шелк ее платья. От этих стеклянных слов и шелкового свиста Алексей Алексеевич стискивал челюсти. Сердце его лежало в груди тяжелым ледяным комом. Он не дивился тому, что рука об руку с ним идет то, что час назад было лишь в его воображении. Болтающее жеманное существо, в широком платье с узким лифом, бледное от лунного света, с большими тенями в глазных впадинах, казалось- ему столь, же бесплотным, как его прежняя-мечта. И напрасно он повторял с упрямством: «Насладись же, насладись ею, ощути…» — он не мог преодолеть в себе отвращения. Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, распушив платье, сейчас же села. — Алексис, — прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному шару, — Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же знать — сколь приятна женщине дерзость. Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы: — Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы делать этих упреков. — Упреки? — она рассмеялась, словно рассыпалась стекляшечками. — Упреки… Но вы все только руки жмете, и то слабо. Хотя бы обняли меня. Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его дрогнуло. Правою рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, левой взял ее руки. Глубоко открытая ее грудь, с чуть проступающими ключицами, ровно и покойно дышала. Он близко придвинулся к ее лицу, стараясь уловить ее прелесть. — Мечта моя, — сказал он с тоскою. Она слегка отстранилась, усмехаясь, покачала головой и взглянула в глаза ему поблескивающими лунными точками, прозрачными глазами. — Я, как во сне, с вами, Прасковья, — наклоняюсь, чтобы напиться, и вода уходит. — Обнимите покрепче, — сказала она. Тогда он сжал ее со всей силой и поцеловал в прохладные губы, и они ответили на поцелуй с такой неожиданной и торопливой жадностью, что он сейчас же откинулся: омерзением, гадливостью, страхом стиснуло ему горло. После некоторого молчания она проговорила, сладко потягиваясь: — Мне сыро, есть хочу. Тогда он быстро поднялся и зашагал к дому, когда же услышал за собой шелест платья, прибавил шагу; даже побежал, но Прасковья Павловна сейчас же догнала его и повисла на руке. — Алексис, у вас претяжелый характер. — Слушайте, — крикнул он, останавливаясь, — не лучше ли нам расстаться!.. — Нет, совсем не лучше, — она перегнулась и заглянула ему в лицо, — мне с вами приятно. — Но вы омерзительны мне, поймите! — Он дернул руку и побежал, и она, не выпуская руки, полетела за ним по тропинке. — Не верю, не верю, ведь сами сказали, что я мечта ваша… — Все-таки вы отвяжитесь от меня! — Нет, мой друг, до смерти не отвяжусь… Они об руку влетели в дом. Алексей Алексеевич бросился в кресло, она же, обмахиваясь веером, стала перед ним и глядела весело. — Много, много, мой милый, придется над вами потрудиться, чтобы обуздать ваш характер… Вы себялюбец. — Она сложила веер и присела на ручку кресла к Алексею Алексеевичу. — Дружок, мне ужасно чего-то все хочется, не то есть, не то пить… А то будто вода бежит по моему телу… Алексей Алексеевич сорвался с кресла и, подойдя к двери, потянул за большую бисерную кисть звонка. — Вам принесут еду, питье, все, что хотите, — успокойтесь. Далеко в доме брякнул колокольчик, и послышались мягкие шаги Федосьи Ивановны.XIII
Алексей Алексеевич, загораживая собою полуоткрытую дверь, сказал тетушке, чтобы она распорядилась подать в библиотеку какой-нибудь еды. Федосья Ивановна внимательно и странно взглянула на Алексея Алексеевича, молча отстранила его от двери, вошла в комнату и сейчас же увидела тощую, — как она потом рассказывала, — черноватую женщину, даже и не женщину, а моль дохлую, — стоит, вертит веером и смотрит пронзительно. Тетушка немедленно же разинула рот и «села на ноги». — Федоси, — пискливым голосом сказала ей та, черноватая, — не узнаешь меня, моя милая?.. Тетушка еще сильнее села, уперлась ногами и глядела на пустую раму от портрета. Когда же Прасковья Павловна приблизилась на шаг, тетушка подняла руку с крестным знаменьем… — Ну, чего страшиться, Федосья Ивановна, все это очень просто, — с досадою сказал Алексей Алексеевич, — эта дама — плод чародейства графа Феникса; идите и распорядитесь насчет еды. Морщась, как от изжоги, он подошел к двери в сад, оперся локтем о притолоку и стал глядеть на полянку, залитую лунным светом. Он слышал затем, как тетушка забормотала молитву, сорвалась с места и утиной рысью выбежала из комнаты, как злобно захихикала вслед ей Прасковья Павловна, как в доме началась испуганная беготня и шепот. Но он не оборачивался и с тоскливой мукой глядел на освещенные окна флигеля. В комнате зазвенела посуда, — это Фимка накрывала столик, расставляла судки и тарелки и, втягивая голову в плечи, с ужасом все время косилась через плечо. Прасковья Павловна села к столу и сказала Фимке: — Раба, что в этом судке? — Сморчки, матушка барыня. — Положи. Фимка подала грибы и стала за стулом, закрыв передником рот. Прасковья Павловна откушала и велела положить себе лапши. — Дурно служишь, — сказала она, принимая тарелку. — Хоть ты и девка деревенская, а служить должна жеманно. — Буду стараться, матушка барыня. — Приседай, говоря с госпожою! — Прасковья Павловна впилась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу. — Раба, присядь!.. Ногу правую подворачивай… На стороны, на спину не вались… Подол держи… Улыбайся… Слащавее.. Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену. — Оставьте девку в покое, — наконец сказал он. — Фимка, убирайся. Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением оглянулась на него, дернула плечиком: — Алексис, мой друг, не вы, я здесь госпожа. Эту же девку велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку… Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он сдержался и вышел в сад.XIV
Алексей Алексеевич, засунув глубоко руки в карманы камзола, шел по поляне, — росой замочило ему чулки до колен, в голове рождались бешеные мысли. Бежать? Утопиться? Убить ее? Убить графа? Убиться самому?.. Но мысли, вспыхнув, пресекались, — он чувствовал, что погиб: проклятое существо впилось в него, как паук, и, кто знает, какой еще страшной властью обладает оно? — Сам, сам накликал, — бормотал он, — вызвал из небытия мечту, плод бессонной ночи… Гнусным чародейством построили ей тело. Горячечное воображение не придумает подобной пакости… Алексей Алексеевич остановился и отер холодный пот со лба… «А вдруг это только сон? Ущипну себя и проснусь в чистой постели свежим утром… Увижу лужок, гусей, простую девку с граблями…» В тоске он замотал головой, поднял глаза. Луна высоко стояла над садом, и мглистые облачка скрадывали ее свет. С речки доносилось унылое уханье лягушек… В это время в тишине сада раздался резкий и тонкий голос Прасковьи Павловны, она звала: «Алексис!» Не отвечая, он только топнул ногой; идти на зов — нельзя, бежать было постыдно. Он увидал приближающиеся к нему три фигуры: Маргадона, Калиостро и Прасковьи Павловны. Она подошла первой и крикнула злобно: — Все знаю, голубчик! Я-то думала — вид рассеянный и дерзкие слова — от любовной причуды. А у вас другая на уме. Слышите, другой около себя не потерплю!.. — Ай-ай-ай! — проговорил Калиостро, приближаясь. — Я-то старался до седьмого пота, а вы, сударь, нос от нее воротите. — Любовник перекидчивый, — взвизгнула Прасковья Павловна, — на цепь вас велю посадить в подполье. — Нет, сударыня, на цепь его сажать не годится, — ответил Калиостро, — а вы, сударь, не упрямьтесь, домой нужно идти, — барыня спать хочет, и одной ей ложиться в кровать прискорбно. Давешнее оцепенение снова овладело Алексеем Алексеевичем, он вздохнул и поплелся к дому, увлекаемый под руку Прасковьей Павловной. Но уже у самых дверей он обернулся и увидел в окне флигеля на занавесе женскую тень. Он рванулся и закричал: «Мария!» Но сзади его подхватил Маргадон, втолкнул в комнату и запер стеклянную дверь. Алексей Алексеевич вскрикнул потому, что словно пелена спала у него с глаз: он понял, в чем спасение. Оставшись с Прасковьей Павловной наедине, он закурил трубку, сел на книжную лесенку и сделал вид, будто слушает. Прасковья Павловна грозилась сгноить его на цепи, кричала, что весь дом против нее и завтра же она выкинет на двор рухлядишку Федосьи Ивановны, выдерет Фимке волосы, перепорет всю дворню, наведет свои порядки… Алексей Алексеевич ждал, когда она устанет кричать, но у нее злости не убавлялось. Он слушал ее и не слышал, — сердце его часто билось. Он решил действовать. Выколотил трубку и — встал, потянулся. — Все это мелочи, — проговорил он, зевая, — идемте спать. Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумленно, радостно усмехнулась запекшимися губами. Алексей Алексеевич взял со стола зажженный канделябр и отогнул в арке занавес, пропуская вперед себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, он поднес горящие свечи к занавесу, и алый бархат его мгновенно был охвачен огнем. — Пожар! — не своим голосом закричал Алексей Алексеевич, швыряя канделябр, и побежал по длинной галерее, загибающей к флигелю, где были гости. Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Прасковья Павловна, вскрикивая, срывала худыми руками пылающий занавес. Когда в дали галереи послышались голоса и топот ног, Алексей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к его глубокой нише,XV
Мимо него пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон в развевающемся халате и Калиостро в ночном колпаке, в пестрой длинной рубахе и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда вела одна дверь cо стороны галереи, другая открывалась прямо в сад. Там-то он и увидел Марию, стоявшую на пороге. Она была в белой шали, накинутой поверх платья, и в чепчике. Алексей Алексеевич распахнул окно, выскочил из галереи в сад и подбежал к молодой женщине. — Мария, — проговорил он, складывая руки на груди, — скажите одно только слово… Подождите… Если — нет, я погиб… Если — да, я жив, жив вечно… Скажите — любите вы меня? У нее вырвался легкий короткий крик, она подняла руки, обвила ими шею Алексея Алексеевича и с откинутой головой, с льющимися слезами, глядя сквозь слезы в глаза ему, проговорила взволнованно: — Люблю вас. И когда она сказала эти слова, с него спали чары: сердце растопилось, горячие волны крови зашумели по жилам, радостно вдохнул он воздух ночи и благоухание юного тела Марии, взял в ладони ее заплаканное лицо и поцеловал в глаза: — Мария, бегите этой аллеей до пруда, ждите меня в беседке. Не забудьте — когда вы перейдете мостик, дерните за цепь, и он поднимется… Там вы будете в безопасности… Мария кивнула головой в знак того, что все поняла, и, придерживая платье, быстро пошла по указанному направлению, обернулась, усмехнулась радостно и скрылась в густой тени аллеи. Тогда Алексей Алексеевич вытащил из ножен шпагу и кинулся в дом через балконные двери. Сбив с ног Фимку, решительно отстранив Федосью Ивановну, повисшую было на его руке, растолкав перепуганную челядь, он вбежал в библиотеку. Комната была полна дыма. Пять свечей второго канделябра едва-едва коптяще-красными язычками освещали разбросанные по всему полу книги из повалившегося шкапа, Маргадона, который топтал тлеющий ковер, и Калиостро, присевшего у кресла, и в кресле скорченное, с темными ребрами, существо, едва прикрытое лохмотьями обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевича оно зашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему навстречу. Но он, вскрикнув, вытянул перед собой шпагу, и оно, с воплем отчаяния и злобы, отшатнулось от устремленного на него лезвия, кинулось в глубь комнаты и исчезло за книжными шкапами. В то же время Калиостро, загородившись креслом, делал Маргадону знаки. Эфиоп оставил топтать ковер и стал сбоку приближаться к; Алексею Алексеевичу, вытягивая нож из-за пояса. Но тот, предупреждая прыжок, сам выбросился, вперед с вытянутой рукою, и лезвие Шпаги до половины вонзилось Маргадону в плечо. Эфиоп крякнул и, хватая воздух, повалился навзничь. Тогда Калиостро швырнул в Алексея Алексеевича креслом и, загораживаясь предметами и бросая их, вертелся по комнате с необыкновенным для его лет и тучности проворством. Алексей Алексеевич гонялся за ним, стараясь ударить шпагой. Но Калиостро удалось выскользнуть в галерею, откуда он выпрыгнул через первое же открытое окно в сад и большими прыжками, задирая голые ноги, побежал к прудам. Алексей Алексеевич настиг его лишь у мостика, ведущего к беседке, где между колонн смутно белело платье Марии. Калиостро, зарычав, кинулся через мостик, не видя, что средняя часть его поднята, — взмахнул руками и с тяжелым плеском, как куль, упал в воду. Раздался слабый крик Марии. Заиграла лунная зыбь по поверхности пруда, и низко над травой, с длинным свистом, полетела испуганная птичка. И снова стало тихо: ни звука ни на пруду, ни в темных древесных чащах. Алексей Алексеевич, всматриваясь, взошел на мостик и наклонился у края разъятой его части. И вдруг у самой сваи, у воды, увидел глаза, — они медленно мигнули. Он различил поднятое лицо, щетинистый череп и торчащие уши Калиостро. — Наверх вы все равно не подниметесь, — сказал ему Алексей Алексеевич, — свая склизкая, и я предупреждаю: если вы только опять начнете свои фокусы, я вас заколю, — вы негодяй. — Он фыркнул носом. — Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат. — Он приложил ладони ко рту и закричал: — Эй, люди, сюда! — И скоро вдали раздались голоса людей, и начали подбегать мальчишки, дворовые мужики, девки, кто с вилами, кто с косой, кто просто с дубиной, — все были спросонок и встрепанные. Алексей Алексеевич приказал принести веревок, связать Калиостро и вытащить из воды. Трое рослых мужиков, сняв портки и крестясь, полезли в воду. Под мостиком, между сваями, началась возня. — Алексей Алексеевич, он, пропасти на него нет, царапаемся, — кричали оттуда. — За щеки его хватай, тяни из воды, — кричали с мостика. Наконец Калиостро скрутили веревками и вытащили на берег. Он более не сопротивлялся и, в облипшей рубашке, опустив голову и постукивая от холода зубами, пошел в толпе дворовых к дому. Алексей Алексеевич, оставшись один, стал звать Марию, сначала тихо, потом все громче, испуганнее. Она не отвечала. Он обежал пруд, вскочил в утлую лодочку и, упираясь шестом, переехал на островок. Мария лежала в беседке на деревянном полу. Алексей Алексеевич обхватил ее, приподнял, прислонил к себе ее бессильно клонившуюся голову и, целуя ее лицо, едва не плакал от жалости и любви к ней. Наконец он почувствовал, как ее тело стало легче, поднялась и опустилась ее грудь и светловолосая голова ее легла удобнее на его плечо. Не раскрывая глаз, Мария проговорила едва слышно: — Не покидайте меня.XVI
Пожар удалось потушить. Выгорела лишь библиотечная комната, — водою и огнем в ней попорчено было много книг и вещей, — и дотла сгорело полотно на портрете Прасковьи Павловны. На рассвете к крыльцу подали телегу, в нее на свежее сено положили вещи гостей и посадили Маргадона, — он был совсем плох: весь серый, земляного цвета, с отвисшим ртом и с головою, закутанной в два теплых; платка. Народ, стоявший у крыльца и вокруг телеги, стал жалеть старика, — все-таки человек подневольный, слуга, пропадает не по своей охоте. Скотница дала ему на дорогу каленое яичко. Зато, когда вывели все еще связанного Калиостро, в нахлобученном кое-как парике и в шляпе с растрепанными перьями, в накинутой поверх ночной рубашки песцовой шубе, мальчишки засвистали, бабы начали плеваться, а подслеповатый мужик, Спиридон, без шапки, распоясанный и босиком, всю ночь больше всех суетившийся на глазах у барина, подскочил к Калиостро и развернулся, чтобы дать ему в ухо, но его оттащили. Калиостро сам влез в телегу, насупленный, с нависшими бровями. Мордатый парень, славившийся в ¡деревне силой и отчаянностью, весело прыгнул на на хлестки, замотал веревочными вожжами, сивая кобыленка влезла в Хомут, и телега тронулась под свист и улюлюканье дворни. — Федька, — закричал Алексей Алексеевич с крыльца, — повезешь их прямо в Смоленск и там сдай городничему. — Будьте покойны, Алексей Алексеевич, — уже издали ответил Федька, — доставим в полном порядке, не впервой.XVII
После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дому. Ее уложили во флигеле, в спальне, предназначенной для особо именитых гостей. Над кроватью полу-откинули балдахин, на окнах спустили шторы, и Мария забылась сном. Так она проспала до полудня. Федосья Ивановна, часто подходившая к дверям, услышала ее бормотанье, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит с закрытыми глазами, ярко-румяная и, не переставая, говорит про себя тихим голосом. У нее началась горячка и держала ее между жизнью и смертью более месяца. Алексей Алексеевич едва не сошел с ума от беспокойства и в тот же день сам поскакал в Смоленск за лекарем. На обратном пути он узнал от лекаря, что к смоленскому городничему привозили на телеге двух каких-то иностранцев, городничий их сначала арестовал, а затем с большим почетом отправил по Варшавскому шляху. Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одно из двух: либо горячка возьмет свое, либо человек возьмет свое. Алексей Алексеевич целые дни теперь проводил у постели Марии, спал в кресле у окна, почти ничего не ел, изменился, сильно исхудал, — его лицо возмужало, стали влажными глаза; в каштановых волосах появилась белая прядь. Однажды, ближе к вечеру, он дремал и не дремал, сидя в кресле. Сквозь персиковые занавески солнце протянуло длинные лучи с танцующими пылинками; билась сонная муха о стекло; Алексей Алексеевич, разлепляя веки, поглядывал на пылинки в луче, на муху. Каменные часы спокойно отстукивали минуты жизни. И вот сквозь дремоту Алексей Алексеевич начал ощущать какую-то перемену во всем, заворочался, обернулся к кровати и. увидел раскрытые синие глаза Марии. Она смотрела на него и смешно морщилась от изумления и усилия припомнить что-то. Он опустился на колени у кровати. Мария проговорила: — Скажите, пожалуйста, где я нахожусь и кто вы такой? — Алексей Алексеевич, не в силах от волнений говорить, осторожно взял ее руку и прижался к ней губами. — Я давно смотрю, как вы дремлете, — продолжала Мария, — у вас такое грустное лицо, как у родного, — она опять сморщилась, но сейчас же бросила вспоминать. — Вот если бы вы открыли окно, было бы хорошо… Алексей Алексеевич раздвинул шторы, раскрыл окна, и вместе с теплым и душистым воздухом сада в спальню влетел веселый шум птичьего свиста и пения. У Марии появился румянец. Улыбаясь, она слушала, и вот издалека три раза прокуковала запоздалая глупая кукушка. Глаза Марии налились слезами, Алексей Алексеевич наклонился к ней, она прошептала: — Спасибо вам за все… Вскоре она уснула крепко и надолго. Началось ее выздоровление, и с этого дня Алексей Алексеевич не проводил уже более ночей в ее спальне. Вместе с выздоровлением Марии настало то, что понимала только одна Федосья Ивановна: ни минуты Алексей Алексеевич и Мария не могли пробыть друг без друга, а когда сходились, молчали: Мария думала, Алексей Алексеевич хмурился, кусал губы, стоял или сидел в совершенно неудобных для человека положениях. Когда однажды тетушка заговорила с ним: — Как же ты все-таки, Алексис, прости меня за нескромность, думаешь поступить с Машенькой? К мужу ее отправишь или еще как? — он пришел в ярость: — Мария не жена своему мужу. Ее дом здесь. А если она меня видеть не желает, я могу уехать, пойду в армию, подставлю грудь пулям. Ночи он проводил скверно: его мучили кошмары, наваливались на грудь, давили горло. Он вставал поутру разбитый и до пробуждения Марии бродил мрачный и злой по дому, но, едва только раздавался ее голос, он сразу успокаивался, шел к ней и глядел на нее запавшими сухими глазами. Настал август. Над садом, — мерцая в прудах, высыпались бесчисленные звезды, облачным светом белел Млечный путь. Из сада пахло сырыми листьями. Улетели птицы. В одну из таких ночей Алексей Алексеевич и Мария сидели в ее спальне у камина, где, перебегая из конца в конец огоньками, догорало полено. И вот, в полутьме, в глубине комнаты, из-за полога выдвинулась тень. Алексей Алексеевич, вздрогнув, всмотрелся. Подняла голову и Мария. Тень медленно исчезла. Прошла минута тишины. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхватила его, прижалась и повторяла отчаянным голосом: — Я не отдам тебя… Я не отдам тебя… В эту минуту все разделявшее их, все измышленное и сложное — разлетелось, как дым от ветра. Остались только-губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, быстротечное, быть может, грустное, — кто измерил его? — счастье живой любви.А. С. Грин НОЧЬЮ И ДНЕМ
I
В восьмом часу вечера, на закате лесного солнца, часовой Мур сменил часового Лида на том самом посту, откуда не возвращались. Лид стоял до восьми и бил поэтому сравнительно беспечен; все же, когда Мур стал на его место, Лид молча перекрестился. Перекрестился и Мур: гибельные часы — восемь — двенадцать — падали на него. — Слышал ты что-нибудь? — спросил он. — Не видел ничего и не слышал. Здесь очень страшно, Мур, у этого сказочного ручья. — Почему? Лид подумал и заявил: — Очень тихо. Действительно, в мягкой тишине зарослей, прорезанных светлым, бесшумно торопливым ручьем, таилась неуловимая вкрадчивость, баюкающая ласка опасности, прикинувшейся безмятежным голубым вечером, лесом и прозрачной водой. — Смотри в оба! — сказал Лид и крепко сжал руку Мура. Мур остался один. Место, где он стоял, было треугольной лесной площадкой, одна сторона которой примыкала к каменному срыву ручья. Мур подошел к воде, думая, что Лид прав: характер сказочности ярко и пышно являлся здесь, в диком углу, созданном как бы всецело для гномов и оборотней. Ручей не был широк, но стремителен; подмыв берега, вырыл он в них над хрустальным течением угрюмые, падающие черной тенью навесы; желтые как золото, и зеленые, в водорослях, крупные камни загромождали дно; раскидистая листва леса высилась над водой пышным теневым сводом, а внизу, грубым хаосом бороздя воду, путались гигантские корни; стволы, с видом таинственных великанов-оборотней, отходя ряд за рядом в тишину диких сумерек, таяли, становясь мраком, жуткой нелюдимостью и молчанием. Тысячи отражений задремавшего света в ручье и над ним создали блестящую розовую точку, сиявшую на камне у берега; Мур пристально смотрел на нее, пока она не исчезла. — Проклятое место! — сказал Мур, пытливо осматривая лужайку, словно трава, утоптанная его предшественниками, могла указать невидимую опасность, шепнуть предостережение, осенить ум внезапной догадкой, — Сигби, Гок и Бильдер стояли тут, как стою я. Тревожно разгуливал огромный Бирон, разминая воловьи плечи Гешан, пощипывая усики, рассматривал красивыми, бараньими глазами каждый сучок, пень, ствол… Тех нет. Может быть, ждет и меня то же… Что то же? Но он, как и весь отряд капитана Чербеля, не знал этого. В графе расхода солдат среди умерших от укусов змей, лихорадки или добровольного желания скрыться в таинственное ничто, что было не редкость в летописях ужасного похода, среди убитых и раненых Чербель отметил пятерых «без вести пропавших». Разные предположения высказывались отрядом. Простейшее, наиболее вероятное объяснение нашел Чербель: — «Я подозреваю, — сказал он, — очень умного, терпеливого и ловкого дикаря, нападающего неожиданно и бесшумно». Никто не возразил капитану, но тревога воображения настойчиво искала других версий, с которыми возможно связать бесследность убийств и доказанное разведчиками отсутствие вблизи неприятеля. Некоторое время Мур думал обо всем этом, затем соответственно настроенный умего, риску? впасть в суеверие, стал рисовать кошмарные едены тайных исчезновений, без удержа мчась дорогой больного страха к обрывам фантазии. Ему мерещились белые перерезанные шеи; трупы на дне ручья; длинные, как у тени в закате, волосатые руки, тянущиеся из-за стволов к затылку цепенеющего солдата; западни, волчьи ямы; он слышал струнный полет стрелы, отравленной молочайниками или ядом паука сса, похожего на абажурный каркас. Хоровод лид, мучимых страхом, кружился в его глазах. Он осмотрел ружье. Строгая сталь затвора, кинжальный штык, четырехфунтовый приклад и тридцать патронов уничтожили впечатление беззащитности; смелее взглянув кругом, Мур двинулся по лужайке, рассматривая опушку. Тем временем угас воздушный ток света, падавший из пылающих в вечерней синеве облаков, и деревья медленно запахнули на только что перёд тем озаренной стороне прозрачные плащи сумерек. От теней, рушивших искристые просветы листвы, от засыпающего ручья и задумчивости спокойного неба повеяло холодной угрозой, тяжелой, как взгляд исподлобья, пойманный обернувшимся человеком. Мур, ощупывая штыком кусты, вышел к ручью. Пытливо посмотрел он вниз и вверх по течению, затем обратился к себе, уговаривая Мура не поддаваться страху и, что бы ни произошло, твердо владеть собою. Солнце закатилось совсем, унося тени, наполнявшие лес. Временно, пока сумерки не перешли в мрак, стало как бы просторнее и чище в бессолнечной чаще. Взгляд проникал свободнее за пределы опушки, где было тихо, как в склепе, безлюдно и мрачно. Язык страха еще не шептал Муру бессвязных слов, заставляющих томиться и холодеть, но вслушивался и смотрел он подобно зверю, вышедшему к опасным местам, владениям человека. Мрак наступал, отходя перед судорожным напряжением глаз Мура, и снова наваливался, когда, бессильный одолеть невольные слезы, заволакивающие зрачки, солдат протирал глаза. Наконец одолел мрак. Мур видел свои руки, ружье, но ничего более. Волнуясь, принялся он ходить взад и вперед, сжимая потными руками ружье. Шаги его были почти бесшумны, за исключением одного, когда под упором ноги треснул сучок; резкий в звонкой тишине звук этот приковал Мура к месту. Шум сердца оцепенил его; отчаянный дикий страх ударил по задрожавшим ногам тяжкой как удушье внезапной слабостью. Он присел, затем лег, прополз несколько футов и замер. Это продолжалось недолго; отдышавшись, часовой встал. Но он был уже во власти страха и покорен ему. Главное, над чем работало теперь его пылающее воображение— было пространство сзади его. Оно не могло исчезнуть. Как бы часто ни поворачивался он, — всегда за его спиной оставалась недосягаемая зрению, предательская пустота мрака. У него не было глаз на затылке для борьбы с этим. Сзади было везде, как везде было спереди для существа, имеющего одно лицо и одну спину. За спиной была смерть. Когда он шел, ему казалось, что некто догоняет его; останавливаясь — томился ожиданием таинственного удара. Густой запах леса кружил голову. Наконец Муру представилось, что он умер, спит или бредит. Внезапное искушение поразило его: уйти от пытки, бежать сломя голову до изнурения, раздвинуть пределы мрака, отдаляя убегающей спиной страшное место. Он уже глубоко вздохнул, обдумывая шаг, подсказанный трусостью, как вдруг заметил, что поредевший мрак резко очертил тени стволов, и ручей сверкнул у обрыва, и все кругом ожило в ясном ночном блеске. Поднималась луна. Лунное утро высветило зелень пахучих сводов, уложив черные ряды теней; в мерцающем неподвижном воздухе под голубым небом царствовало холодное томление света. Невесомый, призрачный лед!II
Тщательно осмотрев еще раз опушку и берег ручья, Мур несколько успокоился. В неподвижности леса, насколько хватал глаз, отсутствовало подозрительное; думая, что на озаренной луной поляне никто не осмелится совершить нападение, Мур благодарно улыбнулся ночному солнцу и стал посреди лужайки, поворачиваясь время от времени во все стороны. Так стоял он минуту, две, три, затем услышал явственный, шумный вздох, раздавшийся невдалеке сзади него, похолодел и отскочил с ружьем наготове к ручью. «Вот оно, вот, вот!..» — подумал солдат. Кровавые видения ожили в потрясенном рассудке. Тяжкое ожидание ужаса изнурило Мура; мертвея, обратил он мутные от страха глаза в том направлении, откуда прилетел вздох, — как вдруг совсем близко кто-то назвал его по имени, трижды: «Мур! Мур! Мур!..» Часовой взвел курок, целясь по голосу. Он не владел собой. Голос был тих и вкрадчив. Смутно знакомый тон его мог быть ошибкой слуха. — Кто тут? — спросил Мур почти беззвучно, одним дыханием. — Не подходите никто, я буду убивать, убивать всех! Он плохо сознавал, что говорит. Одна из лунных теней передвинулась за кустами, растаяла и появилась опять, ближе. Мур опустил ружье, но не курок, хотя перед ним стоял лейтенант Рен. — Это я, — сказал он. — Не шевелись. Тише. Обыкновенное полное лицо Рена казалось при свете луны загадочным и лукавым. Ярко блестели зубы, серебрились усы, тень козырька падала на искры зрачков, вспыхивающих, как у рыси. Он подходил к Муру, и часовой, бледнея, отступал, наводя ружье. Он молча смотрел на Рена. «Зачем пришел?» — думал солдат. Дикая, нелепая сумасшедшая мысль бросилась в его больное сознание: «Рен убийца, он, он, он убивает!» — Не подходите, — сказал солдат, — я уложу вас! — Что?! — Без всяких шуток! Сказал — убью! — Мур, ты с ума сошел?! — Не знаю. Не подходите. Рен остановился. Он подвергался опасности вполне естественной в таком исключительном положении и сознавал это. — Не бойся, — произнес он, отступая к лесу, — Я пришел к тебе на помощь, дурак. Я хочу выяснить все. Я буду здесь, за кустами. — Мне страшно, — сказал Мур, глотая слезы ужаса, — я боюсь, боюсь вас, боюсь всего. Это вы убиваете часовых! — Нет! — Вы! — Да нет же!! Страшен как кошмар был этот нелепый спор офицера с обезумевшим солдатом. Они стояли друг против друга, один с револьвером, другой с неистово пляшущим у плеча ружьем. Первый опомнился лейтенант. — Вот револьвер! — Он бросил оружие к ногам Мура. — Подыми его. Я безоружен. Часовой, исподлобья следя за Реном, поднял оружие. Припадок паники ослабел; Мур стал спокойнее и доверчивее. — Я устал, — жалобно произнес он, — я страшно устал. Простите меня. — Поди окуни голову в ручей. — Рен тоном приказания повторил совет, и солдат повиновался. Надежда на помощь Рена и ледяная вода освежили его. Без шапки, с мокрыми волосами вернулся он на лужайку, ожидая, что будет дальше. — Может быть, мы умрем оба, — сказал Рен, — и ты должен быть готов к этому. Теперь одиннадцать. — Он посмотрел на часы. — Торопясь, я чуть не задохся в этих трудно проходимых местах, но сила моя при мне, и я надеюсь на все лучшее. Стой или ходи, как прежде. Я буду неподалеку. Доверься судьбе, Мур. Он не договорил, ощупал, будучи запасливым человеком, второй, карманный револьвер и скрылся среди деревьев.III
Рен удобно поместился в кустах, скрывавших его, но сам отлично мог видеть поляну, берег ручья и Мура, шагавшего по всем направлениям. Лейтенант думал о своем плане уничтожения таинственной смерти. План требовал выдержки; опаснейшей частью его была необходимость допустить нападение, что в случае промедления угрожало часовому быстрым переселением на небо. Трудность задачи усиливалась смутной догадкой Рена — одной из тех навязчивых темных мыслей, что делают одержимого ими яростным маньяком. Когда Рен пробовал допустить бесповоротную истинность этой догадки, или, вернее, предположения, его тошнило от ужаса; надеясь, что ошибется, он предоставил наконец событиям решить тайну леса и замер в позе охотника, подкарауливающего чуткую дичь. Кусты, где засел Рен, расположенные кольцом, образовали нечто, похожее на колодец. Неподвижная тень Рена пересекала его. Думая, что, вытянув затекшую ногу, он сам изменил этим очертания тени, Рен в следующее мгновение установил кое-что поразительное: тень его заметно перемещалась справа налево. Она как бы жила самостоятельно, вне воли Рена. Он не обернулся. Малейшее движение могло его выдать, наказав смертью. Ужас подвигался к нему. В мучительном ожидании неведомого пристально следил Рен за игрой тени, ставшей теперь вдвое длиннее: это была тень-оборотень, потерявшая всякое подобие Рена — оригинала. Вскоре у нее стало три руки и две головы, она медленно раздвоилась, и та, что была выше — тень тени, — исчезла в кустарнике, освободив черное неподвижное отражение Рена, сидевшего без дыхания. Как ни прислушивался он к тому, что делалось позади его, даже малейший звук за время метаморфозы с тенью не был схвачен тяжким напряжением слуха; за его единой, смешав своей фигурой две тени, стоял, а затем прошел некто, и некто этот двигался идеально бесшумно. Он был видимым воплощением страха, лишенного тела и тяжести. Броситься в погоню за неизвестным Рен считал непростительной нервностью. Он видел и осязал душою быстрое приближение неизвестной развязки, но берег силу самообладания к решительному моменту. В это время часовой Мур стоял неподалеку от огромного тамаринда, лицом к Рену. С неожиданной быстротой густые ветви дерева позади Мура пришли в неописуемое волнение, отделив прыгнувшего вниз человека. Он падал с вытянутыми для хватки руками. Колени его ударили по плечам Мура; в то же мгновение падающий от толчка часовой вскрикнул и выпустил ружье, а железные пальцы душили Мура, торопясь убийством, умело и быстро скручивая посиневшую шею. Рен выбежал из засады. Мутные глаза нападающего обратились к нему. Придерживая одной рукой бьющегося в судорогах солдата, протянул он другую к Рену, защищая лицо. Рен ударил его по голове дулом револьвера. Тогда, бросив — первую жертву, убийца кинулся на вторую, пытаясь свалить противника, и выказал в этой борьбе всю ловкость свирепости и отчаяния. Некоторое время, резко и тяжело дыша, ходили они вокруг оглушенного часового, сжимая друг другу плечи. Вскоре противнику лейтенанта удалось схватить его за ногу и спину, лишив равновесия, при этом он укусил Рена за кисть руки. В его лице не было ничего человеческого, оно сияло убийством. Мускулы жестких рук трепетали от напряжения. Время от времени он повторял странные, дикие слова, похожие на крик птицы. Рен ударил его в солнечное сплетение. Страшное лицо помертвело; закрылись глаза, ослабев, метнулись назад руки, и некто упал без сознания. Рен молча смотрел на его лицо, осунувшееся от боли и бешенства. Но не это изменяло и как бы преображало его, — среди породистых, резких черт выступали иные, разрушающие для пристального взгляда прежнее выражение этого страшного, как маска, лица. Оно казалось опухшим и грубым. Рен связал руки противника тонким ремнем и поспешил к Муру. Часовой хрипло стонал, растирая шею. Он лежал на своем ружье. Рен зачерпнул каской воды, напоил солдата, и тот слегка ожил. Усталое лицо Рена показалосьему небесным видением. Он понял, что жив, и, схватив руку, лейтенанта поцеловал ее. — Глупости! — пробормотал Рен. — Я тоже обязан тебе тем, что… Вы убили его?. ―Убил? Гм… да, почти… Рен стоял над головой Мура, скрывая от него человека, лежавшего со связанными руками. Часовой сел, держась за голову. Рен поднял ружье. — Мур, — сказал он, — в состоянии ты точно понять меня? — Да, лейтенант. — Встань и уходи в заросли, не оборачиваясь. Там ты подождешь моего свистка. Но боже сохрани обернуться, — слышишь, Мур? Иначе я пристрелю тебя. Итак, ты меня пока не видишь. Иди! Для шуток не было места. Часовой сознавал это, но не понимал ничего. Неуверенные движения Мура выказывали колебание. Рен увидел четверть его профиля и щелкнул курком. — Еще одно движение головы, и я стреляю! — Он с силой толкнул Мура к лесу. — Ну! Ружье остается на лужайке до твоего возвращения. Жди смены. Помни, что я не приходил, и подожди рассказывать до утра. Мур, пошатываясь, исчез в лунном лесном провале. Рен поднял связанного и прошел с ним в чащу на расстояние, недоступное слуху. Сложив ношу, он занялся пленником. Связанный лежал трупом. — Удар был хорош, — сказал Рен, — но чересчур добросовестен. Он стал растирать поверженному сердце, и тот, болезненно дергаясь, вскоре открыл глаза. Блуждая, остановились они на Рене, вначале с недоумением, затем с ненавистью и горделивым унынием. Он изогнулся, приподнялся, пытаясь освободить руки, и, поняв, что это бесполезно, опустил голову. Рен сидел против него на корточках. Он боялся заговорить, звук голоса отнял бы всякую надежду на то, что происходящее — сон, призрак или, на худой конец — больной бред. Наконец, он решился. — Капитан Чербель, — сказал Рен, — происшествия сегодняшней ночи невероятны. Объясните их. Связанный поднял голову. Любопытство и подозрительность блеснули в его подвижном лице. Он не понимал Рена. Мысль, что над ним смеются, привела его в бешенство. Он вскочил, усиливаясь разорвать путы, тотчас вскочил и Рен. — Собака-солдат! — заговорил Чербель, но смолк, чувствуя слабость — результат бокса, — и прислонился спиной к дереву. Отдышавшись, он снова заговорил: — Называйте Чербелем того, кто привел вас с вашими: ружьями в эти леса. Мы вас не звали. Повинуясь жадности, которая у вас, белых, в крови, пришли вы отнять, у бедных дикарей все. Наши деревни сожжены, наши отцы и братья гниют в болотах, пробитые пулями; женщины изнурены постоянными переходами и болеют. Вы преследуете нас. За что? Разве в ваших владениях мало полей, зверя, рыбы и дерева? Вы спугиваете нашу дичь; олени и лисицы бегут на север, где воздух свободен от вашего запаха. Вы жжете леса, как дети играя пожарами, воруете наш хлеб, скот, траву, топчете посевы. Уходите или будете истреблены все. Я вождь племени Роддо — Бану-Скап, знаю, что говорю. Вам не перехитрить нас. Мы — лес, из-за каждого дерева которого подкарауливает вас гибель. — Чербель! — с ужасом вскричал Рен. — Я ждал этого, но не верил до последней минуты. Кто же вы? Капитан презрительно замолчал. Теперь он ясно видел, что над ним издеваются. Он сел к подножию ствола, твердо решив молчать и ждать смерти. — Чербель! — тихо позвал Рен. — Вернитесь к себе. Пленник молчал. Лейтенант сел против него, не выпуская револьвера. Мысли его мешались. Состояние его граничило с исступлением. — Вы убили пять человек, — сказал Рен, не ожидая, впрочем, ответа, — где они? Капитан медленно улыбнулся. — Им хорошо на деревьях, — жестко проговорил он, — я их развесил на том берегу ручья, ближе к вершинам. Это было сказано резким, деловым тоном. Теперь замолчал Рен. Он боялся узнать подробности, страшась голоса Чербеля. Капитан сидел неподвижно, закрыв глаза. Рен легонько толкнул его; человек не пошевелился; по-видимому, он был в забытьи. Крупный пот выступил на его висках, он коротко дышал и был бледен, как свет луны, косившейся сквозь листву.IV
Рен думал о многом. Поразительная действительность оглушила его. Он тщательно осмотрел свои руки, тело, с новым к ним любопытством, как бы неуверенный в том, что тело это его, Рена, с его вечной, неизменной душой, не знающей колебаний и двойственности. Он был в лесу, полном беззвучного шепота, зовущего красться, прятаться, подслушивать и таиться, ступать бесшумно, подстерегать и губить. Он исполнился странным недоверием к себе, допуская с легким замиранием сердца, что нет ничего удивительного в том, если ему в следующий момент захочется понестись с диким криком в сонную глушь, бить кулаками деревья, размахивать дубиной, выть и плясать. Тысячелетия просыпались в нем. Он ясно представил это и испугался. Впечатлительность его обострилась. Ему чудилось, что в лунных сумерках качаются высоко подвешенные трупы, кустарник шевелится, скрывая убийц, и стволы меняют места, придвигаясь к нему. Чтобы успокоиться, Рен приложил дуло к виску; холодная сталь, нащупав бьющуюся толчками жилу, вернула ему твердость сознания. Теперь он просто сидел и ждал, когда Чербель очнется, чтобы убить его. Луна скрылась; близился теплый рассвет. Первый луч солнца разбудил Чербеля; розовое от солнца, сильно осунувшееся лицо его внимательно смотрело на Рена. — Рен, что случилось? — тревожно сказал он. — Почему я здесь? И вы? Проклятие! Я связан?! Кой черт!.. — Это сон, Чербель, — грустно сказал Рен, — это сон, да, не более. Сейчас я развяжу вас. Он быстро освободил капитана и положил ему на плечо руку. «Так, — подумал он, — значит. Бану-Скап уходит с рассветом. Но с рассветом… уйдет и Чербель». — Капитан, — сказал Рен, — вы верите мне? — Да. — Тогда не торопитесь узнать правду и ответьте на три вопроса. Когда вы легли спать? — В одиннадцать вечера. Рен, вы в полном рассудке? — Вполне. Какой вы видели сон? — Сон? — Чербель пытливо посмотрел на Рена. — Имеет это отношение к данному случаю? — Может быть… — Один и тот же сон снится мне подряд несколько дней, — с неудовольствием сказал Чербель, — я думаю, под влиянием событий на посту Каменного Ручья. Я вижу, что выхожу из лагеря и убиваю часовых… да, я душу их… Темный отголосок действительности на одно страшное и короткое мгновение заставил его вздрогнуть, он побледнел и рассердился. — Третий вопрос: смерти боитесь? Потому что это не сон, Чербель. Я схватил вас в тот миг, когда вы душили Мура. Да, — две души. Но вы, Чербель, не могли знать это. Я не оставлю вас долго во власти воистину дьявольского открытия; оно может свести с ума. — Рен, — сказал капитан, замахиваясь, — моя пощечина пахнет кровью, и вы… Он не договорил. Рен схватил Чербеля за руку и выстрелил. — Так лучше, пожалуй, — сказал он, смотря на мертвого; — он умер, чувствуя себя Чербелем. Иное «я» потрясло бы его. Майор Кастро и я закопаем его где-нибудь вечером. Никому более нельзя знать об этом. Он вышел к ручью и увидел бойкого нового часового — Риделя. — Опусти ружье, все благополучно, — сказал Рен. — Гулял я, стрелял по козуле, да неудачно. — Умирать побежала! — весело ответил солдат. — Кажется, теперь, — сказал сам себе, удаляясь, Рен, — я точно знаю, почему лагерные часовые видели Чербеля ночью. О боже, и с одной душой тяжело человеку.V
А. П. Платонов ПОТОМКИ СОЛНЦА
Я сторож и летописец опустелого земного шара. Я теперь одинокий хозяин горных вершин, равнин и океанов. Древнее время наступило на земле, как будто вот-вот двинутся ледники и береза переселится на остров Цейлон. Но кротко и бессмертно над головою голубое небо, спокойно и ясно мое сознание, тверда и могущественна моя многовидевшая человеческая рука: я не позволю свершиться тому, чего я не хочу, за мной века работы, катастроф и света мысли. Вверху, на движущихся звездах, земное мое человечество — странник и мыслитель. Передо мною Средиземное море, жалкие организмы, тепло и ровно скорбящий ветер. Древняя любимая земля. Сколько пережили мы с тобою битв, труда, сказок и любви! Сколько моей мысли ушло на твое обновление. Теперь ты весь — мой дом, дуют ровные теплые ветры, по указанным человеком путям курсируют в океанах теплые течения. Прорваны галереи для воздушных потоков в горных цепях. Горячий туркестанский вихрь с песком несется к северному полюсу. Давно разморожены льды обоих северных океанов и совершены все великие работы, осуществлены все глубокие мечты. На земле стало тихо и ночью мне слышен ход звезд и трепет влаги в стволах деревьев. Нет больше катастроф, спазм и бешенства в природе. И нет в человеке горя, радости, восторга — есть тихий свет сознания. Человек теперь не живет, а сознает сознание. Всю жизнь я служил тебе в рядах человечества, и твоею силою теперь люди переселились на далекую звезду и с нею движутся по вселенной. 1924 год. В этот год в недрах космоса что-то родилось и вздрогнуло, — и земля окуталась пламенем зноя. Севернее сияния полыхали над Европой, и самые маленькие горы сделались вулканами. Оба магнитных полюса стали блуждать по земле, и корабли теряли направление. Это, может быть комета вошла в наш звездный рой и вызвала это великое возмущение. В зиму 1923—24 гг. замерзло Средиземное море и совсем не выпало снега, только морозный железный ветер скрежет ал по пространству от Калькутты до Архангельска и до Лиссабона. И жили люди в смертельном ожидании. Во всю зиму ни тучей, ни туманом не запятналось небо. Исчезло искусство, политика, и под кувалдой стихий перестраивалось само человеческое общество. Нация, раса, государство, класс — стали дикими, бессмысленными понятиями. Остались одни несчастные и герои. Несчастные бросились в церкви, в искусство, в наслаждение духом; герои ополчились на мир, против распоясавшейся материи. Этими героями были не одиночки, а целые коллективы — коммунистические партии и огромные куски рабочего класса и молодежи. Социальная революция совершилась быстро, всесветно и без страданий, ибо встала вторая задача — восстание на вселенную, реконструкция ее, переделка ее в элемент человечества — и эта новая, великая и величайшая, революция одним своим преддверием, одним дыханием, выжигающим все бессильное и ошибочное, уже истребила гнилые мистические верхи человечества, оставив лишь людей без чувств, без сердца, но с точным сознанием, с числовым разумом, людей, не нуждающихся долго ни в женщинах, ни в еде и питье и видящих в природе тяжелую свисшую неотесанную глыбу, а не бога, не чудо и не судьбу.
Остались люди, верящие в свой мозг и в свои машины, — и было просто, тихо и спокойно на земле, даже как-то чисто, все видели опасность, но не дрожали от нее, а сгрудились, соорганизовались против нее. Получилось так: все человечество и вся природа — враг против врага; а между ними толстым слоем машины и сооружения.
Человечество видело, сознавало, думало, изобретало и завоевывало себе жизнь через завоевание вселенной. Машины работали и лепили из корявой бесформенной жестокой земли дом человечеству. — Это был социализм.
Глубокое тихое задумавшееся человечество. Гремящая, воющая, полная концентрированной мощи, в орбите электричества и огня армия машин, неустанно и беспощадно грызущая материю.
Социализм — это власть человеческой думы на земле и везде, что я вижу и чего достигну когда-нибудь.
Из племен, государств, классов климатическая катастрофа создала единое человечество, с единым сознанием и бессонным темпом работы. Образ гибели жизни на земле родил в людях целомудренное братство, дисциплину, геройство и гений.
Катастрофа стала учителем и вождем человечества, как всегда была им. И так как все будущие силы надо было сконцентрировать в настоящем — была уничтожена половая и всякая любовь. Ибо если в теле человека таится сила, творящая поколения работников для длинных времен, то человечество сознательно прекратило истечение этой силы на себя, чтобы она работала сейчас, немедленно, а не завтра.
И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его — этого требовала смертельная эпоха истории.
Так было осуществлено целомудрие и так женщина была освобождена и уравнена с мужчиной. Раньше женщина работала слишком тяжко — творила творца, чтобы быть равной мужчине, ибо он был лодырь по сравнению с ней и имел больше органических сил поэтому.
Но люди неутомимо шли к высшей форме своего единения и знали, что пока человека с человеком разделяет не раздавленная, не покоренная до конца материя, этого единения не может быть. Вещь стояла между людьми и разделяла их в пыль. Вещь должна быть истреблена. И вот явился институт изобретений Елпифидора Баклажанова, в котором был сделан первый тип фото-электро-магнитного резонатора трансформатора: аппарата, превращающего свет солнца и звезд и луны в электрический обыкновенный ток. Им был разрешен энергетический вопрос (получение наибольшего количества полезной энергии с наименьшим живым усилием), выражением которого и была вся человеческая история. Вселенная была вновь найдена, как купель силы, — обитель постоянного тока ужасающей мощи.
Влагооборота на земле не было — вода ушла глубоко в грунт и там стояла мертвой. И свет был запряжен в работу: зашуршали мощные центробежные насосы и электромагниты подтягивали воду на поверхность.
Переменное электромагнитное поле неимоверного напряжения было пущено в корневые системы растений, и, уравнивая поле своего действия в смысле равной его электропроводности, оно вгоняло элементы питания растений из почвы в их тела. Так был изобретен сухой хлеб, и только для некоторых культур еще была нужна влага.
Сам я, кто пишет эти слова, пережил великую эпоху мысли, работы и гибели. И ничего во мне не осталось, кроме ясновидящего сознания. И сердце мое ничего не чувствует, а только качает кровь. Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века: как они были сердечны, сантиментальны, литературны и невежественны. Это потому, что людей долго не касалась шершавая спина природы и они не слышали рычания в ее желудке. Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь — ни одного поэта, ни одного любовника, ни одного непонимающего — в этом величие нашей эпохи. Человек теперь говорит редко, но уста его от молчания свежи и слова точны, важны и хрустят. Мы полны уважения и искренности друг к другу, — но нелюбви. Любовь ведет к падению, и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижкой. Время наше раздавило любовь и не велит ей родиться впредь никогда. Это хорошо, мы живем в важном и строгом месте и делаем трудное дело. Нам некогда улыбаться и касаться друг друга — у нас еле хватает силы видеть, сознавать и переделывать не нами и не для нас сделанный мир.
У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего нет в ней от так называвшейся женщины— мягкого бесформенного существа, то же видящее, сознающее, обветренное железной пылью машин лицо, та же рука с изуродованными ногтями, что и у всех нас.
Только губы потолще и глаза влажнее, чем у меня, и есть в них нетерпение и тревога, то еще волнуется материнская сила, не перелитая в мысль. По утрам она обходит электромоторы и насосы, щупает их температуру и по щелканью ремня прикидывает число оборотов. Я стою на площадке резонаторной станции и смотрю на нее: такое существо могли родить только наша бешеная судорожная природа и встречное движение ей жестокого, жестче природы и прекрасного существа — человека, который решил заменить вселенную собой. Если б ее кто-нибудь вздумал обнять или сделать какой иной подобный исторический жест, она бы ре поняла, его и задумалась о нем.
История человечества есть убийство им природы, и чем меньше природы среди людей, тем человек человечнее и имя его осмысленнее. И в нашу эпоху история достигла экстаза: обнажена душа солнечного света, и свет качает воду, делает хлеб в бессильных и пыльных пустынях, ним питает мозг человека.
Число, расчет, вес — этими простыми приобретениями липкая и стройная, чувственная, обволакивающаяся земля была превращена в обитель поющих машин, где не стихает музыка мысли, превращающейся в вещь, где мир падает водопадом на обнаженное ждущее сознание человека.
И вот раз были сделаны в институте Баклажанова машины, гонимые светом. Двигаться по переменному электромагнитному полю очень легко, и если бы не неспящий Баклажанов, то световую летательную машину сделал бы я. Вообще это монтерская уже задача, когда свет стал током. Конечно, в этой машине не было никаких пропеллеров, моторов, так как она предназначалась для межзвездных дорог, для полей пустого газа.
Обдумав это, люди решили переехать с земли на другую звезду, а сначала объехать весь звездный рой.
И вот — земля пустая. Ушел человек, и грянули на степи леса, появился зверь и по ночам впивался он, испуганный, молодыми зубами в бетон мастерских, все еще освещенных и работавших, для того, чтобы влага оборачивалась и не стала бы земля песком и льдом. Но в мастерских и на оросительных станциях не было человека и он там не был нужен.
Отчего ушел человек и оставил землю зверю, растению и неугомонной машине? Человек, который так чист и разумен!
Я расскажу. Когда я был молод (это было до катастрофы), я любил девушку и она меня. И вот после долгой любви я почувствовал, что она стала во мне и со мною как рука, как теплота в крови и я вновь одинок и хочу любить, но не женщину, а то, чего я не знаю и не видел — образ смутный и неимоверный. Я понял тогда, что любовь (не эта, не ваша любовь) есть тоже работа и завоевание мира. Мы отщепляем любовью от мира куски и соединяем их с собой и вновь хотим соединить еще большее — все сделать собой.
Человечество, сбитое катастрофой в один сверкающий металлический кусок, после годов точной дисциплины, размеренной чеканной разделенной мысли, единой волны сознания, бушующей во всех, — уже не чувствует себя толпой людей, а сросшимся, физически ощущаемым телом. Человечество почувствовало одиночество и зов тоски и, влюбившись в мир, ушло искать единства с ним. Но эта человеческая любовь к миру не есть чувство, а раскаленное сознание, видение недоделанного, безусловного, не человеческого космоса. Человек любит не человеческое, противоречивое ему, и делает его человеческим. Почему я остался здесь? Об этом скажу здесь даже себе. Наши пути с людьми разошлись — теперь два человечества — оно и я. Я работаю над бессмертием и сделаю бессмертие прежде, чем умру, поэтому не умру.
Социальная революция совершилась быстро, всесветно и без страданий, ибо встала вторая задача — восстание на вселенную, реконструкция ее, переделка ее в элемент человечества — и эта новая, великая и величайшая, революция одним своим преддверием, одним дыханием, выжигающим все бессильное и ошибочное, уже истребила гнилые мистические верхи человечества, оставив лишь людей без чувств, без сердца, но с точным сознанием, с числовым разумом, людей, не нуждающихся долго ни в женщинах, ни в еде и питье и видящих в природе тяжелую свисшую неотесанную глыбу, а не бога, не чудо и не судьбу.
Остались люди, верящие в свой мозг и в свои машины, — и было просто, тихо и спокойно на земле, даже как-то чисто, все видели опасность, но не дрожали от нее, а сгрудились, соорганизовались против нее. Получилось так: все человечество и вся природа — враг против врага; а между ними толстым слоем машины и сооружения.
Человечество видело, сознавало, думало, изобретало и завоевывало себе жизнь через завоевание вселенной. Машины работали и лепили из корявой бесформенной жестокой земли дом человечеству. — Это был социализм.
Глубокое тихое задумавшееся человечество. Гремящая, воющая, полная концентрированной мощи, в орбите электричества и огня армия машин, неустанно и беспощадно грызущая материю.
Социализм — это власть человеческой думы на земле и везде, что я вижу и чего достигну когда-нибудь.
Из племен, государств, классов климатическая катастрофа создала единое человечество, с единым сознанием и бессонным темпом работы. Образ гибели жизни на земле родил в людях целомудренное братство, дисциплину, геройство и гений.
Катастрофа стала учителем и вождем человечества, как всегда была им. И так как все будущие силы надо было сконцентрировать в настоящем — была уничтожена половая и всякая любовь. Ибо если в теле человека таится сила, творящая поколения работников для длинных времен, то человечество сознательно прекратило истечение этой силы на себя, чтобы она работала сейчас, немедленно, а не завтра.
И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его — этого требовала смертельная эпоха истории.
Так было осуществлено целомудрие и так женщина была освобождена и уравнена с мужчиной. Раньше женщина работала слишком тяжко — творила творца, чтобы быть равной мужчине, ибо он был лодырь по сравнению с ней и имел больше органических сил поэтому.
Но люди неутомимо шли к высшей форме своего единения и знали, что пока человека с человеком разделяет не раздавленная, не покоренная до конца материя, этого единения не может быть. Вещь стояла между людьми и разделяла их в пыль. Вещь должна быть истреблена. И вот явился институт изобретений Елпифидора Баклажанова, в котором был сделан первый тип фото-электро-магнитного резонатора трансформатора: аппарата, превращающего свет солнца и звезд и луны в электрический обыкновенный ток. Им был разрешен энергетический вопрос (получение наибольшего количества полезной энергии с наименьшим живым усилием), выражением которого и была вся человеческая история. Вселенная была вновь найдена, как купель силы, — обитель постоянного тока ужасающей мощи.
Влагооборота на земле не было — вода ушла глубоко в грунт и там стояла мертвой. И свет был запряжен в работу: зашуршали мощные центробежные насосы и электромагниты подтягивали воду на поверхность.
Переменное электромагнитное поле неимоверного напряжения было пущено в корневые системы растений, и, уравнивая поле своего действия в смысле равной его электропроводности, оно вгоняло элементы питания растений из почвы в их тела. Так был изобретен сухой хлеб, и только для некоторых культур еще была нужна влага.
Сам я, кто пишет эти слова, пережил великую эпоху мысли, работы и гибели. И ничего во мне не осталось, кроме ясновидящего сознания. И сердце мое ничего не чувствует, а только качает кровь. Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века: как они были сердечны, сантиментальны, литературны и невежественны. Это потому, что людей долго не касалась шершавая спина природы и они не слышали рычания в ее желудке. Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь — ни одного поэта, ни одного любовника, ни одного непонимающего — в этом величие нашей эпохи. Человек теперь говорит редко, но уста его от молчания свежи и слова точны, важны и хрустят. Мы полны уважения и искренности друг к другу, — но нелюбви. Любовь ведет к падению, и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижкой. Время наше раздавило любовь и не велит ей родиться впредь никогда. Это хорошо, мы живем в важном и строгом месте и делаем трудное дело. Нам некогда улыбаться и касаться друг друга — у нас еле хватает силы видеть, сознавать и переделывать не нами и не для нас сделанный мир.
У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего нет в ней от так называвшейся женщины— мягкого бесформенного существа, то же видящее, сознающее, обветренное железной пылью машин лицо, та же рука с изуродованными ногтями, что и у всех нас.
Только губы потолще и глаза влажнее, чем у меня, и есть в них нетерпение и тревога, то еще волнуется материнская сила, не перелитая в мысль. По утрам она обходит электромоторы и насосы, щупает их температуру и по щелканью ремня прикидывает число оборотов. Я стою на площадке резонаторной станции и смотрю на нее: такое существо могли родить только наша бешеная судорожная природа и встречное движение ей жестокого, жестче природы и прекрасного существа — человека, который решил заменить вселенную собой. Если б ее кто-нибудь вздумал обнять или сделать какой иной подобный исторический жест, она бы ре поняла, его и задумалась о нем.
История человечества есть убийство им природы, и чем меньше природы среди людей, тем человек человечнее и имя его осмысленнее. И в нашу эпоху история достигла экстаза: обнажена душа солнечного света, и свет качает воду, делает хлеб в бессильных и пыльных пустынях, ним питает мозг человека.
Число, расчет, вес — этими простыми приобретениями липкая и стройная, чувственная, обволакивающаяся земля была превращена в обитель поющих машин, где не стихает музыка мысли, превращающейся в вещь, где мир падает водопадом на обнаженное ждущее сознание человека.
И вот раз были сделаны в институте Баклажанова машины, гонимые светом. Двигаться по переменному электромагнитному полю очень легко, и если бы не неспящий Баклажанов, то световую летательную машину сделал бы я. Вообще это монтерская уже задача, когда свет стал током. Конечно, в этой машине не было никаких пропеллеров, моторов, так как она предназначалась для межзвездных дорог, для полей пустого газа.
Обдумав это, люди решили переехать с земли на другую звезду, а сначала объехать весь звездный рой.
И вот — земля пустая. Ушел человек, и грянули на степи леса, появился зверь и по ночам впивался он, испуганный, молодыми зубами в бетон мастерских, все еще освещенных и работавших, для того, чтобы влага оборачивалась и не стала бы земля песком и льдом. Но в мастерских и на оросительных станциях не было человека и он там не был нужен.
Отчего ушел человек и оставил землю зверю, растению и неугомонной машине? Человек, который так чист и разумен!
Я расскажу. Когда я был молод (это было до катастрофы), я любил девушку и она меня. И вот после долгой любви я почувствовал, что она стала во мне и со мною как рука, как теплота в крови и я вновь одинок и хочу любить, но не женщину, а то, чего я не знаю и не видел — образ смутный и неимоверный. Я понял тогда, что любовь (не эта, не ваша любовь) есть тоже работа и завоевание мира. Мы отщепляем любовью от мира куски и соединяем их с собой и вновь хотим соединить еще большее — все сделать собой.
Человечество, сбитое катастрофой в один сверкающий металлический кусок, после годов точной дисциплины, размеренной чеканной разделенной мысли, единой волны сознания, бушующей во всех, — уже не чувствует себя толпой людей, а сросшимся, физически ощущаемым телом. Человечество почувствовало одиночество и зов тоски и, влюбившись в мир, ушло искать единства с ним. Но эта человеческая любовь к миру не есть чувство, а раскаленное сознание, видение недоделанного, безусловного, не человеческого космоса. Человек любит не человеческое, противоречивое ему, и делает его человеческим. Почему я остался здесь? Об этом скажу здесь даже себе. Наши пути с людьми разошлись — теперь два человечества — оно и я. Я работаю над бессмертием и сделаю бессмертие прежде, чем умру, поэтому не умру.
* * *
Сейчас вечер. Я прочитал брошюру Баклажанова о природе электричества. Он разгадал его. Несомненно, электричество есть инерция линий тяготения, тяготение же есть уравнение структуры элементов. Возмущение же линий тяготения и инерция их от этого происходит от пересечения, скрещивания всяких влияний других линий тяготения. Баклажанов был бессонный, бессменный работяга-чудак, но любили его люди. Уже ночь. Ни одна звезда не пойдет быстрее, ни одна комета без срока не врежется в сад планет. Какой каменный разум. Я шел и был спокоен. Познание электричества для сознания то же, чем была когда-то любовь для сердца. Чем мы будем? Не знаю. Безымянная сила растет в нас, томит и мучает и взрывается то любовью, то сознанием, то воем черного хаоса и истребления. И страшно, и душно мне, я чувствую в жилах тесноту. Мы запрягли в станки электричество и свет и скоро запряжем в них тяготение, время и свою полыхающую душу.Е. Д. Зозуля ГИБЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОРОДА
Глава первая
В это утро редкие вялые толпы собирались на площадях и перекрестках улиц. Люди, немытые, невыспавшиеся, растрепанные, наскоро одетые, выбегали из домов, тревожно и нерешительно бродили вдоль улиц и встречали друг друга унылыми стонами-восклицаниями: — Они пришли! — Да. Они здесь! Кто-то, закрыв глаза и прижав к груди руки, рассказывал: — Они здесь. Я живу на окраине и слышал звуки труб. Они ликовали. Всю ночь играла музыка. — А наша армия? Где наша армия? — Она не в силах бороться с ними. По стратегической диаграмме Главного Генерала, опубликованной вчера, мы ослаблены на две и шесть десятых. Борьба была бы безумием. Солдаты заперлись в казармах. Они говорят, что их предали. — Позор! Позор! — Гибель! — Всю ночь играла музыка! — Сегодня они войдут в город. — Смотрите! Смотрите! Один из жителей Главного Города — невзрачный, по-видимому, больной — присел и поднял обе руки, устремив на небо испуганный и растерянный взгляд. Высоко над Главным Городом кружился аэроплан. Каждые несколько минут от него отделялась небольшая темная масса и по неровной наклонной линии падала вниз. — Спасайтесь! — кричали отовсюду. — Спасайтесь! Спасайтесь! Унылые фигуры, согнувшись и схватившись за голову, бежали по улицам и скрывались в домах. Но вскоре опять выходили. Оказалось, что враг-победитель бросал с аэропланов цветы… Самые настоящие, огромные связки гвоздик и роз… — О, гнусные, жестокие люди! — Разбойники! — Звери! — Подлые, грязные души! Каждый, даже самый мирный житель Главного Города ругал победителей самым желчным образом. Цветы — вместо недавних снарядов. Цветы, бросаемые побежденным, униженным и растоптанным, — это была злая, бесконечно-обидная насмешка. Никто не брал этих цветов. Двух подростков, поднявших цветы из любопытства, толпа избила и сбросила с моста в реку. Главный Город впервые сознал свой позор. Магазины были закрыты. Трамвай остановлен. Многие носили траур. А в разных частях города, на улицах, балконах, площадях и крышах валялись чужие цветы, обидно пестрели чужой дразнящей радостью, вызывая в жителях Главного Города стоны обиды и отчаяния.Глава вторая
Ожидали, что неприятельские войска с триумфом вступят в город и пройдут по главным улицам, покоряя женщин и вызывая последнее отчаяние в душах мужчин. Но ни один отряд не вступал. Неприятель расположился далеко за городом, только в некоторых отдаленных окраинах слышна была музыка, игра многих, как выяснилось потом, более пятидесяти соединенных оркестров. По ночам над Главным Городом сияли огненные надписи неприятельских словесных прожекторов. На темном фоне ночного неба над Главным Городом появлялись огненные стихи неприятельских поэтов. В них говорилось о силе победителей, об их культурности и милосердии. Вслед за стихами сверкали уверения, что жители Главного Города не будут обижены, что порядок жизни не будет нарушен, и только одно условие президент должен будет подписать. «Одно условие» было подчеркнуто. Затем на небе печатались рекламы неприятельских торговых фирм — про мыло, какао, часы и ботинки. Все небо до рассвета было покрыто этими рекламами. Жители плакали в домах. Подходили к окнам, смотрели на небо, читали рекламу про новую гнутую мебель или гигиенические наусники и — плакали. Следующий день прошел спокойно. Музыка за городом смолкла. Перестали сыпаться и цветы. Только ночью опять назойливо и нагло пестрели на небе светящиеся объявления — бесконечные, бесконечные — уже более мелких и второстепенных фирм.Глава третья
Президент Главного Города созвал наиболее деятельных членов парламента, представителей прессы и Главного Генерала и объявил им, что Главный Город погибает. Все это знали: о гибели Главного Города писали много еще задолго до победы неприятеля, но президента выслушали почтительно, — он был безмерно уважаем и не был повинен в поражении. Многие из членов парламента подумывали даже о необходимости выражения сочувствия ему, как страдальцу и мученику. — Главный Город погиб, граждане, — сказал президент. — Мы еще не знаем условий мира, но они будут: ужасны. Призываю вас к спокойствию и мужественному терпению. В его словах были: вескость и то, что вызывает успокоение. — Надо напечатать воззвание, — предложил один из членов парламента. — Да. Да. Непременно. Воззвание. Надо выбрать комиссию. Комиссия была выбрана и воззвание составлено. «Граждане Главного Города! — говорилось в нем. — Призываю вас к спокойствию. Ни одна бестактность не должна быть совершена по отношению к победившим… Не будем отвечать ни на одно оскорбление. Не обращайте внимания на цветы, рекламы и музыку наших врагов. Будьте терпеливы. Да поможет вам Разум, единственный царь земли, покоритесь его единственной законной власти». Воззвание не помогло. Ночью в разных частях города была слышна стрельба. Стреляли из ружей и пушек по объявлениям, назойливо заволакивавшим небо. На одной из окраин образовался большой партизанский отряд, самовольно отправившийся воевать с поведавшим врагом. Безумцев постигла жестокая участь: их обезоружили, разъединили, насильно вымыли, переодели и заставляли слушать музыку, есть роскошную пищу и развлекаться в обществе прекрасных женщин. Многие покончили самоубийством, многие посажены в дома для умалишенных, а большая часть, опозоренная, высмеянная, не выдержавшая искуса, вернулась в Главный Город.Глава четвертая
На пятый день торжества победы враг прислал парламентеров. Они прибыли без оружия и конвоя в открытом автомобиле и остановились у дома президента. Было их три человека: старик, женщина и высокий, сухой, прищуренный человек средних лет, на вид самый твердый и деловой из них. Оказалось, однако, что главой делегации была женщина — среднего роста, костлявая, с приятной улыбкой и бесцветными глазами. Она объявила президенту Главного Города, что ее народ не желает побежденным зла, не хочет ни насилий, ни мести,*— он требует только одного: согласия на то, чтобы над Главным Городом выстроить новый город, над его площадями и улицами новые площади и улицы, над его домами и мостами — новые дома и мосты. Президент поднялся с кресла, взмахнул руками и — неудержимо заплакал. Неприятельские парламентеры отошли от него и повернулись к стене. Женщина была возбуждена и; точно в недоумении, поводила-плечами.. Когда президент перестал плакать, она подошла к нему и сказала без участья, но и без жестокости: — Не понимаю, почему вы волнуетесь, господин президент, может быть, «вы нас не поняли — ни один житель Главного Города, ни одно здание в нем не пострадают. Мы будем строить свой город над Главным» Городом. О нашей технике вы, надеюсь, слыхали. Конечно, некоторые неудобства мы вам причиним: перед вашими окнами будут стоять стальные брусья — основания для наших домов и улиц. Но ведь это пустяки. Затем, у вас, разумеется, будет темнее, чем сейчас, возможно даже, что в некоторых районах будет совсем темно, — что ж, будете пользоваться электричеством. Ничего не поделаешь. Воля моего народа священна, я не уполномочена менять ее. Президент Главного Города молчал. Враги были кратки, корректны и деловиты. Они не были сентиментальны. Кроме того, — отчетливо знали, чего хотят, и знали, что никакая сила на земле не помешает им осуществить свои желания. — Почему вы это делаете? — спросил президент и шумно вздохнул. Он сразу почувствовал, что вопрос его больше следствие усталости, чем государственного ума. — Да! — поправился он. — Это я так спросил. А скажите, что вы будете делать в Верхнем Городе? — Мы будем жить там, — ответил вместо женщины старик и насмешливо кашлянул. — Странно. — Тут нет ничего странного, — сказала женщина. — Вы хотите нас погубить, — вздохнул президент. Нельзя сказать, чтобы и эта его реплика произвела большое впечатление на неприятельских парламентеров. — Нет, господа, лучше убейте меня! Убейте! — трагически воскликнул президент и сделал жест отчаяния. Парламентеры поморщились: их страна, богатая промышленной техникой, была бедна пафосом, и пафос президента был им открыто неприятен. — Убейте меня! Я не вынесу этого неслыханного позора! Жить внизу, во мраке, под вами, вечно встречаться с вами, смешаться с вами… О! — Позвольте, — перебила его женщина, — жители Главного Города не будут нас видеть и не будут встречаться с нами. Только первые десять лет, покуда не закончатся работы внизу, — а затем вы нас не будете видеть…. — Как так? — Вход в Верхний Город жителям Главного Города будет строжайше воспрещен. — Убейте меня! Убейте! Я не хочу разговаривать с вами! Да будет проклята культура, если она может быть так жестока! — опять взволновался президент. — Убейте меня! Разрушьте Главный Город, превратите его сначала в развалины, а потом стройте свой новый город. Я сегодня же организую восстание. Уходите. Переговоры я считаю излишними. — Напрасно, — равнодушно ответила женщина. — Восстание — вещь дикая. Да и бесполезная. Мы очень сильны. Но должна вам сказать, что путь культуры — путь вернейший. — Как вы смеете говорить о культуре? — все с тем же пафосом, какого было немало в Главном Городе, вскричал президент. — Мы именно о ней говорим. Мы говорим о подлинной культуре. Неужели вы думаете, что мы пощадили бы вас, если б не забота о сохранении вашей культуры, если б не уважение к идее преемственности культуры? Мы считаем вас отжившим народом, но культуру вашу ценим, и свой город мы построим над вашим только потому, что хотим иметь и сохранить ваши здания, ваши прекрасные музеи, ваши библиотеки и ваши храмы. Только потому. Мы хотим иметь вашу старую, прекрасную культуру у себя, так сказать, в погребе, и выдерживать ее, как вино…Глава пятая
Президент Главного Города обратился к победителям с просьбой освободить небо от коммерческих объявлений, хотя бы на одну ночь, чтобы иметь возможность оповестить население об условиях мира и решении победителей выстроить над Главным Городом новый город. Неприятельский штаб ответил, что нет особенной надобности в использовании для этого непременно неба, — можно это сделать путем печатных воззваний, но если уж президенту хочется использовать непременно небо, принадлежащее победителям, то можно вступить в переговоры с публикаторами, взявшими небо в аренду, и возместить им в соответствующем размере убытки. Обсуждение этого вопроса в парламенте впервые обнаружило примиренческое течение центра. Одни из ораторов умеренных групп произнес обширную речь, в которой доказывал, что, со своей точки зрения, точки зрения победителя, неприятель прав и поступать иначе, чем поступает, он не может. Вступать на путь вечных пререканий и явно бесплодной борьбы поэтому неразумно. Необходимо, — по возможности не откладывая, — выработать общие условия соглашения, а борьбу начать тогда, когда будут благоприятные обстоятельства. Речь этого оратора вызвала сильное негодование. Ему был даже брошен упрек в продажности и В измене Главному Городу, а трех представителей крайних групп пришлось насильно вывести из зала заседаний. — Не получили ли вы подряда на несколько улиц для Верхнего Города? — в исступлении крикнул один из выводимых злополучному оратору. Президент Главного Города, осунувшийся, не спавший несколько суток, по поводу последнего упрека заявил парламенту, что никакие подряды гражданам Главного Города неприятелем даваться не будут, — это известно уже из устава постройки Верхнего Города, — и потому упрек представителя крайних групп не только незаслуженно оскорбителен, но исовершенно неоснователен. Затем президент предложил прекратить бесполезные прения и выбрать комиссию для переговоров с арендаторами неба, для освобождения его от реклам на одну ночь. Комиссию выбрали. К вечеру вопрос был решен: правительству Главного Города уступалась половина небесного свода для сообщения населению важнейших сведений. Объявление написал сам президент. Оно было одобрено парламентом и вечером запестрело прямыми, суровыми и зловещими красными буквами на синем, таинственно-равнодушном небесном своде: «Граждане, ― говорилось в нем, — мужайтесь! В последний раз вы смотрите на вольное, на ваше небо! Отныне оно принадлежит не. вам, Не для вас будут мерцать-звезды и не для вас будет сиять, солнце! Наш великий, чудесный и милый Главный Город будет, огромным, темным, мертвенно-электрическим склепом! — Над ним будет, выстроен новый город, и-нам будет строжайше воспрещен, вход в, него. Десять лет будет!строиться Верхний Город, и с каждым днем все меньше и меньше будет над нами вольного неба. Таково, дорогие граждане, страшное решение победителей. Терпите! Мужайтесь! Да поможет вам разум и единственная мудрость на земле — мудрость надежды. Не может быть, чтобы Главный Город погиб так ужасно и неотвратимо. Это — испытание слепой судьбы. Да помогут вам надежда, бодрость и вера в счастливое изменение обстоятельств». Дальше следовал сухой текст параграфов мирного договора.Глава шестая
Это была неповторимая по тревожности ночь. Еще до опубликования объявления президента в Главном Городе начали распространяться слухи, что неприятелем в десяти верстах от города построены и наведены на Главный Город какие-то огромные металлические трубы. В вечерних газетах высказывались тревожные предположения, что это — сооружения для того, чтобы смыть объявление президента, если оно будет составлено в неприятном для победителей духе, — машины для устройства искусственного дождя или затемнения неба. Но экстренные выпуски полунощных газет опровергли это предположение: оказалось, что машины и трубы устанавливались неприятельской «Ассоциацией Действенной Философии» для производства всеслышного машинного систематического хохота над неудачами и ошибочными действиями правительства, политических партий и населения Главного Города. Газета, первой сообщившая о настоящей цели установления машин и труб, сопроводила заметку советом — плотно закрывать на ночь двери и окна и по возможности не выходить на улицы, чтобы не слышать обидного, но — увы! — неотвратимого хохота. Бульварные листки, выходившие по два-три выпуска в час, успели перепечатать это сообщение и снабдить его воинственными комментариями и угрозами, что граждане Главного Города не потерпят подобного издевательства, что нужно немедленно мобилизовать все барабаны, имеющиеся в Главном Городе, вое звонки, колокола, гудки и прочие инструменты, могущие создать сильный шум, а если их окажется недостаточно, то не останавливаться и перед орудийной канонадой. В два часа ночи раздались первые раскаты ужасного машинного хохота. Ни с чем не сравнимый гнет его звуков заставил сердца всех живых существ, населявших Главный Город, забиться и сжаться. Машинный хохот действовал двояко: смешил и удручал. Никто не спал в эту ночь. По улицам слонялись с диким хохотом подростки, взрослые, женщины, старики. Многие рыдали. Многие, поддаваясь заразительности машинного хохота, смеялись и плакали одновременно. Были попытки и противодействовать работе этих поистине адских машин. Где-то барабанили, кричали, где-то что-то взрывали, все время была слышна стрельба, но вскоре ясно стало, что если хохот будет продолжителен, результаты его будут катастрофичны. К президенту Главного Города обратилась депутация от ученых, гуманистических обществ и университетов с просьбой немедленно вступить в переговоры с «Ассоциацией Действенной Философии» и приложить все усилия к тому, чтобы прекратить деморализующий, бесчеловечный, неслыханный хохот. Депутация представила президенту несколько докладов о непосредственных результатах чудовищной пытки всего за три часа. Даже, по неполным сведениям, в пятимиллионном Главном Городе уже оказались десятки психических заболеваний, около восьмидесяти самоубийств и огромное, не поддающееся подсчету, количество серьезных душевных потрясений. Президент Главного Города принял депутацию, сидя у открытого окна. Он сидел совершенно спокойно, усталым взором вглядываясь в смутные контуры домов, и крыш. Даже наиболее резкие раскаты хохота, отчетливо напоминавшие хохот здорового, широкогрудого, умного и мстительного мужчины, не заставляли его морщиться. Он спокойно выслушал взволнованных делегатов и, покорно исполняя просьбу, отдал письменно необходимые распоряжения.Глава седьмая
К председателю «Ассоциации Действенной Философии» отправились на правительственном аэроплане двое: всемирно известный писатель Клод, гуманистическим идеям которого удивлялся весь культурный мир, и ученый Главацкий, которому гений и сорокалетний неустанный труд дали возможность освободить человечество от мора чахотки. Не могло быть сомнений в том, что два этих человека окажут должное влияние на ученых победившей страны и заставят прекратить угнетающую форму философской проповеди. В неприятельском лагере делегатов встретили, как и можно было ожидать, с почетом. Всего через полчаса они были приняты президиумом «Ассоциации», и ходатайство их было заслушано с величайшим вниманием. Однако в удовлетворении ходатайства им было отказано. Председатель «Ассоциации Действенной Философии», сморщенный старичок, в круглых золотых очках, почтительно согнувшись и сложив руки на животе, заявил знаменитым делегатам Главного Города: — Я был бы счастлив, если б мог сделать для вас приятное. Но, к сожалению, мы считаем невозможным упустить столь благоприятный момент для борьбы с устарелой, бесплодной и, по нашим воззрениям, вредной эпидемией оптимизма, которой был охвачен Главный Город и жертвой которого он, как видите, пал. Конечно, прискорбно слышать о потрясениях и заболеваниях, сведения о которых содержатся в ваших докладах, но мы глубоко убеждены, что морально перерожденных, оздоровленных и даже духовно воскресших лиц в Главном Городе окажется в результате значительно больше. Мы считаем нужным продолжать нашу проповедь хохотом еще девять часов. Не безынтересно отметить, что у его королевского величества до нас пытался получить разрешение на смех синдикат сатирических клубов и журналов, но нам вовремя удалось доказать научность и полноту единственно нашей формы проповеди, и Академия Наук предоставила монополию нам. У синдиката имелось намерение перемежать здоровый научный хохот со свистом, что является мерой довольно сомнительной, и еще некоторыми ироническими завываниями и улюлюканьем, целесообразность которых требует, конечно, самой строгой проверки и вряд ли может быть признана удовлетворительной с точки зрения науке.Глава восьмая
С этой памятной ночи прошло две недели. Внешне почти ничего в Главном Городе не изменилось, если не считать несколько возросшего количества пожаров. В числе их причин в пожарных бюллетенях отмечались поджоги библиотек и архивов, что было связано с кризисом мировоззрения у многих государственных деятелей и частных граждан. Победители почти ничем не напоминали о себе. Углубление и укрепление своей победы они проводили путем официальных переговоров, изданием декретов и уставов. Партизанские выступления отдельных отрядов прекратились. С своей стороны победители перестали забрасывать Главный Город цветами, а музыки не слышно уже было давно. Только светящиеся объявления по вечерам заволакивали небо, но к ним жители Главного Города успели привыкнуть. Магазины были открыты. Городское движение возобновилось в полной мере. Газеты и журналы выходили регулярно. Начавшийся было массовый отъезд из Главного Города состоятельных граждан был прекращен запретительным неприятельским декретом, но и это не повергло общество в особенное уныние. Дух апатии и равнодушия вообще с каждым днем все больше и больше охватывал население. Кинематографические съемочные автоматы, имевшиеся на многих улицах Главного Города, беспрерывно снимавшие прохожих для изучения их «Обществом Любви к Человеку», сейчас давали на снимках большой процент фигур с вялой поступью, рассеянным и угнетенным выражением лиц и нервными движениями. В знак траура и протеста члены «Общества Любви к Человеку» носили на левой руке черную повязку. В городе участились самоубийства. В газетах, в, от-, деле объявлений, печатались предсмертные письма, признания и афоризмы самоубийц. Один старый почтенный, голубятник отравил кокаином всех своих голубей, — больше десяти тысяч, — выкрасил всех в черную краску и выпустил в город. Сам он отравился в тот же день, а бедные птицы обалдело носились по городу несколько часов и замертво падали на крыши и мостовые, с жалобным воркованием. Нравственность заметно пала. Тираж газет, занимающихся разоблачениями, значительно повысился. Большой успех имели расплодившиеся в огромном количестве юмористические листки, злобно и грубо высмеивавшие все, что вчера еще было дорого Главному Городу, во что все верили и чему поклонялись. Лидеры партий, руководители общественных течений и групп занялись сведением личных счетов и взаимной травлей. Наблюдались всеобщая озлобленная растерянность и духовная опустошенность. Даже сёрьезные и правительственные газеты начали уделять много места личной полемике, не свободной от злобных обвинений, мстительных выпадов и желания обидеть, унизить, а не выяснить правду. В сильнейшей степени развились наркотические клубы, азартные игры, разврат, потребление вин и сластей и, наконец, участились убийства и авантюры. Из последних наиболее характерным является процесс одного адвоката, который выдавал себя за агента победителей и тайно продавал жителям Главного Города за большие деньги подложные документы на право проживания в еще невыстроенном Верхнем Городе. Все театры были открыты и переполнены равнодушными зрителями, ищущими забвения. Значительно участились концерты и балы. Но веселья на них не ощущалось. «Общество Любви к Человеку» устраивало пышные карнавальные шествия для борьбы с унынием. На огромных автомобилях, украшенных цветами и пестрыми декорациями, кривлялись клоуны, пели певцы и показывали фокусы акробаты.Глава девятая
Особым декретом победителей правительство Главного Города было смещено, а парламент распущен. Вместо того и другого победители предложили Главному Городу выбрать «Правительство Покорности!» из шести человек. 1. Министр Тишины. Его задача — сведение шума ' Главного Города к минимуму, чтобы не тревожить обитателей будущего Верхнего Города. 2. Министр Вежливости. На его обязанности — оградить кадры рабочих и инструкторов, строящих Верхний Город, от агитации, эксплуатации чувства жалости, а также от оскорблений, насмешек и причинения всяческих неприятностей. 3. Министр Ответственности. Он отвечает за благонадежность жителей Главного Города, гарантирует путем создания строго научной системы абсолютную физическую и психологическую невозможность покушений снизу на благополучие и спокойствие Верхнего Города. 4. Министр Количества. Обязанность — нормировка и, если нужно, сокращение прироста населения, чтобы перегруженность Главного Города не отразилась как-нибудь на благополучии Верхнего Города. 5. Министр Иллюзий. Обязанности — грандиозными декорациями создавать иллюзию неба, где это представится возможным. 6. Министр Надежд. Последний должен развивать в жителях Главного Города дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем. Декрет заканчивался двумя примечаниями. В первом сообщалось, что образовавшаяся в Главном Городе Партия Покорных обратилась к победителям с предложением переименовать Главный Город в Темный Город. На это его королевское величество изволил ответить, что переименование преждевременно, но просил выразить благонамеренной части населения, проявившей столь яркий акт мудрой покорности, благодарность. В другом примечании Главному Городу разрешалось удовлетворить свою естественную потребность в негодовании в течение пяти дней. На эти дни победители уводят из окрестностей Главного Города все войска, чтобы ничем не помешать свободному проявлению чувств граждан Главного Города. Кроме того, правительство, армия и население победившей страны на все пять дней, предназначенных для негодования, объявляют себя в состоянии высшей терпимости ко всему, что о них будет высказано в какой угодно форме. Шестой и седьмой дни предназначены для выборов в «Правительство Покорности», а к двенадцати часам восьмого дня все должно быть в точности выполнено и «Правительство Покорности» сформировано, — или Главный Город будет беспощадно сметен с лица земли в несколько часов.Глава десятая
Вскоре, по требованию победителей, началась энергичная работа по коренной дезинфекции Главного Города, который должен был быть абсолютно опрятным и здоровым, ибо должен был служить основанием для Верхнего Города. Гражданам Главного Города сделали прививки против всех болезней. Бюро продуктов по настоянию властей вменило в обязанность всеобщее ежедневное потребление брома. Без аптечной квитанции и доказательства, что дневная порция брома принята, — не выдавались продукты первой необходимости. Главный Город представлял собою зрелище невиданное: люди всех классов, положений и состояний были одинаково чисто и опрятно одеты, причесаны и вымыты, а жилища их стали образцом чистоты и порядка. Репрессии приходилось применять в самом незначительном масштабе. «Правительство Покорности» проявляло максимум энергии. При Министерстве Вежливости организовались кадры инструкторов, агентов и полисменов. Они исправно несли свои обязанности, охраняя рабочих, закладывавших уже стальные и, бетонные основания для Верхнего Города. Главный Город зажил беспокойной, спешной, трудовой жизнью. Стоял несмолкаемый грохот от лязга железа и стали, стука молотков, скрипа резательных машин, металлического скрежета лебедок и гудков рабочих автомобилей. Почти на всех улицах рыли ямы, мерили, устанавливали леса, а во многих районах на крышах зданий было так же людно, как на площадях и улицах.Глава одиннадцатая
Прошло много времени. Верхний Город рос не по дням, а по часам. Западная часть была уже почти готова. В ней поселились люди. Ежедневно на грузовых аэропланах вывозили сор. Вился дым из труб. Уже сжигали покойников в крематориях. Дети шли в школы. Были казармы и тюрьмы. Был дом для умалишенных. На широкой площади, расположенной над великолепным парком Главного Города, высился красивый и стильный дворец короля. В Главном Городе стало уже почти совсем темно. Квартиры незастроенных домов сдавались по очень высоким ценам, но вскоре и эти дома застраивались. Одно время в обществе и печати много говорили об искуснейшей декорации одного художника, удачно заменявшей для целых двух улиц и одной площади небо. Министерство Иллюзий выдало художнику медаль. Вход в Верхний Город для жителей Нижнего Города был строжайше воспрещен. Этот пункт был одним из основных в своде законов: за нарушение его сажали в специальные «Тюрьмы для любопытных», в которых был жестокий режим. Министры «Правительства Покорности» успели несколько раз смениться. В Главном Городе было несколько восстаний, которые были жестоко подавлены. Два раза небольшие районы восстания были оцеплены стальным кольцом машин и войск и безжалостно залиты цементом. Образовавшиеся огромные цементовые кубы, в которых было похоронено много жизней, назывались «Кубами незрелых мечтаний». «Ассоциация Действенной Философии» оба раза, после победы над восставшими, боролась с идеями оптимизма проповедью машинного хохота. В периоды же покорности и реакции «Ассоциация Действенной Философии» объявляла жителям темного Главного Города оглушительным криком исполинских граммофонов: — Мы вас любим!!! Мы вас любим! — Человек любит покорность ближних!! — Смысл жизни в страданиях и самосовершенствовании!! А однажды машины «Ассоциации» оглушительно кричали целый день: — Познай самого себя!! Познай самого себя!!! Из всех министров «Правительства Покорности» за все время не оставил своего поста только один — Министр Надежд. Он был стар и весел. — Граждане! — проповедовал он каждое воскресенье, — дорогие граждане! Надейтесь! Будет время, когда изменятся тяжелые обстоятельства! Мы снова увидим солнце и небо! Верьте! Самое главное, верьте и надейтесь! Вскоре Верхний Город окончательно сформировался. Это был большой, оживленный, деловой и значительный город. Было в нем и много общественных течений, общественной борьбы партий. Были и партии равенства, справедливости, были и борцы за освобождение Нижнего Города. Они произносили горячие речи. У них были свои собственные органы печати, клубы. Внизу, в Главном Городе, тоже были мечтатели, борцы за справедливость и равенство. А, в общем, и те, и другие жили неспокойно и нетревожно, часто мучаясь и редко радуясь, но всегда или почти всегда надеясь, — как вообще живут люди на свете.Глава двенадцатая
Ужас пришел неожиданно. В душный летний полдень на одной из окраин Главного Города взорвался завод. Опасность в пожарном отношении Главного Города была предупреждена, и пожары, обыкновенно, прекращались в несколько минут. Но на этот раз было иначе. Пожарных встретили выстрелами. Стреляли раненые взрывом рабочие. К ним присоединились уцелевшие. Сотни пуль летели во все стороны из горящего здания. Дух мятежа метнулся по Главному Городу. Откуда-то появились оружие, бомбы, орудия взрывов, взрывчатые вещества. По улицам забегали люди с отчаянными криками: — Вооружайтесь! Вооружайтесь! К оружию! Тревожные звонки и гудки слышались на всех улицах! Величайшая тревога объяла город. Пожар охватил несколько домов, и площадь его все расширялась. Весь район был окутан черным едким дымом. Дым стлался по улицам, не имея другого выхода. Многие задыхались в дыму. Отчаянные крики и стоны неслись отовсюду. Их заглушали звуки все новых и новых взрывов. Кто поджигал дома? Кто взрывал мосты? Неизвестно. Черные фигуры людей, как черти, метались в огне. Они пробегали согнувшись и исчезали. Многие бежали по улицам с криками радости. Многие плакали от радости. Кто-то, захлебываясь в крике, командовал: — Взрывайте мосты! Взрывайте дома! Жгите! Побольше жгите!! Оглушительный взрыв потряс оба города. Из сотен тысяч грудей вырвались ликующие вопли. Это взорвали парк, над которым высился дворец короля. Белый дворец покривился и рухнул. С каким треском ломались деревья парка! Как гнулись и свертывались железные решетки мостов и заборов! Исполинские столбы огня, камней и пыли сменяли друг друга. В Главном Городе потухло электричество. Тьма и мятеж превратили его в черный клокочущий хаос. Смятение перебросилось и в Верхний Город. Сотни тысяч пуль и снарядов посыпались сверху. Стреляли во тьму из всей щелей, из всех пробоин. Но новые взрывы взметали на воздух дома и улицы вместе со стреляющими. Огонь, удушливый дым, тучи пыли, стекло, расплавленный металл и тела людей, тысячи тел кружились в вихревом и безумном столпотворении. На площади, при свете факелов, под треск выстрелов и грохот обвалов, Министр Надежд обратился с призывом к толпе. — Граждане! Бедные, обезумевшие граждане! Остановитесь! Остановитесь, пока не поздно! Вас ждет смерть! Тому ли я учил вас столько лет?! На что вы променяли дух мудрой надежды?! На темный и слепой бунт?! Остановитесь! Остановитесь, несчастные! Пожалейте себя и наш великий Главный Город! Остановитесь, пока не поздно! Бедняга! Он был убит камнями, а его министерство взорвано вместе со зданиями Верхнего Города. «Ассоциация Действенной Философии» пыталась что-то проповедовать при помощи машин своих, но они были отброшены столбом огня, а председатель, совсем уже старый и ветхий, еле успел спастись на одноместном аэроплане. — Дураки, — кричал он, одиноко качаясь в голубом безоблачном небе. — Вам никогда не победить! Мир держится на разумном насилии, а не на диком самонадеянном бунте! Слепые восставшие черви! Презренные оптимистические телята! На что вы надеетесь! Он задыхался на вольном воздухе, точно в петле, плевал вниз, где рушились дома и клокотал огонь, и умер от страха, злобы и горя. Машина долго носила по воздуху его сморщенный и легкий труп. Тысячи других аэропланов вылетали из Верхнего Города. На них спасались дети и женщины. Плач и крики наполняли воздух. А внизу все чаще и чаще грохотали обвалы и взрывы. Яркий свет проникал в Главный Город. На многих улицах уже видно было небо. — Да здравствует солнце! — кричали в радостном исступлении тысячи угоревших людей. — Да здравствует небо! Ура-а-а… В ответ сыпались снаряды, с могильным шипением лился горячий цемент, сыпался удушливый, все проедающий, смертоносный порошок. Люди гибли без числа, а живые отвечали новыми оглушительными взрывами, пожарами и метким огнем обреченных. На каждой улице происходил бой. Бились в квартирах, на крышах, под развалинами и под открытым небом. — Взрывайте мосты! — кричали отовсюду. — Взрывайте Верхний Город! Жгите! Побольше взрывайте и жгите! — Граждане! Граждане! Бегите из района рынков! Зовите всех! Сейчас обрушится вокзал Верхнего Города! Спасайтесь, граждане! — Урра-а-а! Урра-а-а! Вскоре вокзал обрушился. Страшный грохот не мог заглушить радостных воплей людей. Длинные цепи вагонов с оглушительным треском падали вместе с обломками зданий, вместе с мостами, перронами и рельсами. Огневой вихрь, смерч из огня, железа и камней взвился к небу. — Урра-а-а-а! Большие отряды восставших взобрались по развалинам в Верхний Город. Он был наполовину пуст. Тысячи аэропланов спасали жителей. Им вдогонку посылались проклятья, огонь и пули. Войска рассеялись. Все казармы были взорваны. Всюду бушевал огонь, качались и падали здания. — Довольно! — кричали снизу. — Довольно! Мы гибнем. Остановитесь! Довольно! Целые улицы заживо погребенных, с трудом пробиваясь сквозь горы развалин, умоляли о пощаде. Но новые обвалы вновь хоронили их, убивали, сметали с лица земли. Весь день и всю ночь шло великое разрушение, а к утру одинокие и усталые взрывы довершили гибель Главного Города. Так просто и стихийно погиб он. Сложны и многообразны пути гнета — нет предела в них человеческой фантазии — а путь к свободе прост, но горек. Верхнего Города не стало. Было одно только море тлеющих и горящих развалин, чудовищные груды домов, дворцов, площадей, мостов и улиц, а среди искривленного хаоса железа, камней и дерева — редкие толпы черных, оборванных и окровавленных людей. Многие из них были ранены, многие умирали, многие плясали, потеряв рассудок, но и раненые, и умирающие, и безумные радостно и громко пели песни в честь яркого восходящего и ослепительно-равнодушного солнца.Вс. Иванов АГАСФЕР
Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил-кинофабрике написать сценарий «Агасфер». Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным Среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мире, поразил мое воображение. Надо Думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению. Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм, — сказал один из режиссеров и задумчиво добавил: — Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально». Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству! Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обрабатывавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен, Шлегель, Жуковский, Гете, Евгений Сю, Эдгар Кине, Кармен Сильва, Франц Горн, Ленау… какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин, — лишенных всякой реальной связи, — что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький, несколькими строками, в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере,»: «Это легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертия, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского парада, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизнеспособностью». Этот скорее всего, тема публицистики, чем художественного произведения, — если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны. Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно, в наше время всевозможных удач, — стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников! Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха! «Моя любовь к тебе бессмертна и вечна», — говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной, — может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна, — сказал я ей, — то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Гееновой. Ах, как нехорошо и плоско! Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я второй сверху, и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и для того, чтоб приходить ночью, надо было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Не удивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем. Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посетителя рисовалась уныло и расплывчито. Это был человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло. Тощим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию. Несмотря на слабость и явное истощение, вызванное, несомненно, войной, я не испытывал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настороженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидал явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными, камуфляжными пятнами. И слезы эти мне показались притворными. Я пожал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа ночи на пороге коридора перед незнакомым человеком! — Что нужно? — спросил я. Утирая полой плаща слезы, посетитель ответил: — Мне настоятельно нужно переговорить с вами. — Вас кто-нибудь направил ко мне? — Нет, я сам. Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился, благодаря своему слабому виду, отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату. Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кееновой! И опять завизжало внутри — «гиена, гиена!», и стало очень нехорошо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличенной вежливостью спросил: — Вы москвич? — Нет, я космополит и не прописан нигде. Это происходило до антикосмополитической кампании, и поэтому я не обратил на его слова внимания. В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не доставило мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой. — Что же вам нужно? — переспросил я. Он Повторил: — Мне нужно настоятельно переговорить с вами. — О чем переговорить? — Переговорить о моей и вашей судьбе, — ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе. Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества. — Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы Взаимно связаны? Он ответил: — Нахожу, что связаны. — Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы? Он молчал. Я более кратко и более зло повторил свой вопрос. Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил: — Я Молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обращении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровержимые доказательства. После некоторой паузы он добавил: — Видите ли, я действительно космополит Атасфер. — То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарий? Но и тут разговора Не получится: я отказался от работы над сценарием! — Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич, — сказал посетитель, откидывая назад! длинную голову, — Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер… ну, да вы сами знаете легенду! Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатах и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший, голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастырской Кельн… я расхохотался, хотя вообще я человек не смешливый. Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки. — Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору, — сказал я, продолжая смеяться, ― но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фауста и Дон-Жуана, — а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае, — вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!.. — Вполне разделяю ваш смех, — ответил унылый посетитель, медленно поворачивая ко мне длинную голову. — Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор… — Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временности? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав? — В чем? — В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утешьтесь: вам долго не жить. — Ах! Ну, зачем вы так? — Затем, что так хочу! Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив», вызвал бы ужасное отвращение к себе. Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно опершись ладонями о край письменного стола. Стоит и хохочет. Мало того— хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота! «Это шпион, подлец, провокатор, — твердил я самому себе, — не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор, и я разоблачу тебя, мерзавец, разоблачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу, — и головой о стену, головой». Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца. Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрав ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной. Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорбления?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение. — Если вы из арестованных… даже уголовник… — Что вы, Илья Ильич! Тогда я повторил: — Кто же вы и зачем ко мне? Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если б я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не была стойкой! Я пожалел, его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости, — и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил: — Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер? Хотя и нехотя, но я отозвался: — Значит, имя Агасфер — прозвище? — О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господа… ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Витемберге, с радостью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тиснеными преимущественно. Они были небогаты… на границе разорения… впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи, — и я нищ! — Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей? — Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-либо нужны деньги! — А, вы были влюблены? — Да. — История несчастной любви? — Проклятой любви! — Кем проклятой? — По-видимому, той же любовью: выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога. — Ого! — А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита. — У нас есть богоматерь Мария. — Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка, роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократичная. Нет бога, кроме бога любви. — Простите, плотской или духовной? — Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление. — Следовательно, плотская любовь выше всего? — Если угодно, да! — Ваши родители были евреи? — Вы — по Розанову? — Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях. — Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы. Агасфера все называют евреем. — Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду. — Знаю. — Что же вас превратило в Агасфера? Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, мучившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее: — Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь. — Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег? Он ответил: — Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную? — Ее звали Клавдия фон Кеен. — Как? — Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по-видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда… — Продолжайте о ней. — Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей. Я же настаивал на венце, — свадебном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее… «Но это невозможно! — восклицала она с негодованием, — Твои родители бедны», — «Я разбогатею и прославлюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!» — отвечал я, и она испуганно крестилась, а через минуту, испуганно прижимаясь ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты собираешься делать?» Я и сам еще не знал. В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, падавшими на плечи волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима была приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафтана и панталон, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, но мне одному пришла в голову ужасная и безнравственная мысль… — Вы это поняли сразу же? — О нет! Значительно позже. — Он вздохнул: — Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня… — Вы только что сказали, вас погубило другое? Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные, манускрипты. Вспомнился мне и манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был, Матцас Парис, английский хронограф, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса, человека с древним лицом и древними, словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин, по-видимому? Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог претории, Карталеус, ударив его кулаком в спину и презрительно усмехаясь, сказал: «Иди, чего медлишь?» На такие слова приговоренный ответил: «Я могу медлить. Но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». И он направился дальше, а Карталеус, который по обязанностям своим не должен был покидать претории, пошел за ним, влекомый тоской скитаний… И вот, тысячу лет спустя, архиепископ Григорий, объезжавший епархию, встретил Карталеуса рыдающим среди изголуба-серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не умрешь! Вы понимаете, Илья Ильич, о какой мысли я говорю? — Догадываюсь. — Приятно. Позволите продолжать? Итак, мысль эта — я разовью ее вам дальше — мелькнула во мне еще тогда, при чтении хроники Матиаса Париса. «Почему легенда о Карталеусе застряла в этой хронике? А ведь благодаря ей можно заработать и славу, и деньги, и любовь той, которая меня не любит!» Итак, глядяна нилигрима, я думал: «Карталеус, Карталеус! Бессмертный, ты забыт! Я воскрешу тебя. Большие деньги и слава ждут того, кто видел Карталеуса, беседовал с ним, сумей только найти те убедительные, те звонкие, те медно-красные слова, при звуке которых дрожит сердце каждого христианина». И вот, глядя на этого пилигрима с древним пергаментным лицом, мне показалось, Илья Ильич, что я нашел эти слова, я уже стою на пороге к богатству и славе!.. По мере того как мой посетитель углублялся в прошлое, я глядел на его жесткие и редкие, как хвощ, волосы, и мне виделся высокий храм в Гамбурге, ромбическилистные окна, откуда льется пепельно-серый свет ранней весны, длинные ряды деревянных скамей, звук органа, гложущий сердце, склоненные головы молящихся— и этот пилигрим с лицом цвета тех растений, что, прикрепляясь к скалам, разрушают их. Видел я и Пауля фон Эйтцена, его жадное вальковидное лицо, серо-белые, потрескавшиеся от волнения губы. — Я был беден и нищ. Она — дочь миллиардера, по теперешней терминологии. Я ее любил, жаждал ее, я был силен, крепок. Она тоже. Как нам соединиться под венцом, а не в шалаше рыбака или разбойника? И я подумал: «Агасфер! Ага значит, по-турецки, начальник, ну, а сфера — вы знаете, что такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоряжаться бессмертием». И я обратился к богу. Я просил его соизволения на великую ложь: «Разреши мне выдумать Агасфера! Разреши! Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» Ответа, конечно, не последовало, но моя великолепная выдумка успокоила и развеселила меня. Агасфер, Агасфер! Придуманное слово, которое еще совсем недавно казалось чужим и далеким, стало теперь близким. «Я люблю тебя, Агасфер, ты ведь обогатишь меня? Был Карталеус, римлянин; я махнул рукой — и вот встал ты, Агасфер, еврей, и превратился в предка тех проклятых, кто во множестве живет сейчас на, южной окраине Гамбурга!..» Ха-ха! — И тогда? — Мне стыдно, Илья Ильич. Разрешите, на этом прекращу свой рассказ? Я предполагал, что смогу его передать вам подробно, однако я не могу удержать слез при. той мысли, имея которую никогда не заснешь: нельзя издеваться над богом любви! Мой посетитель порывисто встал. Пачка журнала «Русский архив» с мягким шумом упала набок. Длинное лицо посетителя почти сплошь покрывали слезы. Но почему по-прежнему я не чувствовал к нему жалости? Влага? О, эта влага на лице, несомненно, издавна защищала его! Сверх того, я чувствовал и усталость: напряжение, с, которым я следил за его рассказом, было довольно сильным. Хотелось спать. Я пробормотал что-то о том, расскажет, мол, в другой раз. Посетитель, тягуче шаркая ногами, покачал отрицательно длинной своей головой, и мы расстались, Хотя уже светало, но стекла на лестнице не пропускали света, и фигура моего посетителя едва-едва была различима. Впрочем, мне показалось, будто он стал несколько выше ростом и шире в плечах, да и его голова словно бы стала круглее. Того ради, я вышел даже на площадку. Тонкие шаги посетителя зачастили. Он исчез. Стараясь освободиться от нелепых предположений, меня одуряющих, я вернулся в свою комнату и лег. Отказ от работы над сценарием «Агасфер» по-прежнему лежал на столе. Я встал и перечел его. Он показался мне пресным, мало энергичным. Я переписал, придав ему более резкую форму, — хотя что мне сердиться на кинематографистов? Не они же подсылают мне Агасфера и не им же принадлежит этот нудный и надоедливый, как овод в летний день, бред? Кому же тогда? Не мне ли самому?Последующие часы я чувствовал себя мерзко, а последующие дни были еще более мерзки и противны. Лето было дождливое, с частыми холодными северными ветрами. Я бродил вдоль лентовидных набережных Москвы-реки и, не найдя сил справиться с тоской, пришел в военный комиссариат. Молодой лейтенант принял меня ласково. Он немедленно направил меня к врачу, тот — к другому, и, наконец, трое, посовещавшись, сказали, что сердце мое действует неважно, наружный вид хуже… «Вы что, даже вроде и ростом стали ниже? А ну-ка, смерим?» Я встал к линейке. Врачи с недоумением переглянулись и поправили какие-то цифры в моем «деле». Затем старший врач сказал: — И вообще, куда вам торопиться на фронт? Поправляйтесь. — Друзья ждут, — отозвался я, хотя никаких особенно друзей на фронте у меня не было: я командовал ротой связи и давно уже не получал известий оттуда. — Подождут. — А галлюцинации у меня могут быть? — спросил я вдруг, совершенно, впрочем, не надеясь, что врач ответит правду. Он снова выслушал меня, расспросил и сказал: — Галлюцинации? — Помолчав, он добавил: — Могут. Но особенно не беспокойтесь: они скоро, месяца через два-три, исчезнут. Курите? Бросили? А вы закурите. И он угостил меня папироской. Папироса успокоила. «Бред? И отлично! — думал я, весь дрожа от радости. — Раз доктор признал, что у меня бред, значит, он скоро исчезнет. Выздоровею, забуду про этого Агасфера… и поскольку у меня бред, не отбить ли мне любовника у Клавы? Вот будет потеха, когда он окажется Агасфером!» Клава служила приемщицей телеграмм в почтовом отделении на Ордынке. Я пошел к окошечку Клавы. Я стоял в очереди, слышал за окошечком ее голосок, так хорошо мне знакомый, ее рука выбрасывала квитанции и сдачу, раза четыре возникала и исчезала возле меня очередь; наконец, когда помещение опустело, в отверстии показалось ее бледно-серое истощенное лицо с большими глазами, и она спросила без особого удивления: — Каяться пришли? — Каяться, — ответил я. — Простите за Геенову. — Как? ― спросила она со смехом. — Я переделал вашу фамилию. — Разве? Не помню. А если и переделал, то очень даже недурно. Геенова?! Это даже выразительно. Я себя, Илья Ильич, действительно, чувствую гиеной, у которой перебили ноги. Они где живут, в болотах? Гиены-то? В камнях и песках. — Ну, там подыхать легче; В болоте куда труднее. Да, хорошо! — добавила она, вздохнув и подавая посетителю телеграфный бланк. Мы подождали, пока посетитель писал и оплачивал телеграмму, а когда он ушел, Клава подняла на меня мокрые от слез глаза и быстро проговорила: — А я ведь продалась, Илья Ильич! Не махайте руками, и-не ахайте: надо торопиться сказать, а то посетители придут. Не за деньги, конечно, — за пропитание и комнату. Подманил один, из рыбного треста: он, должно быть, пирожки с рыбой продает на сторону. Переехала к нему, расписались… — Какая же это, продажа, если расписались? — То есть формально все правильно, а по сути — продажа. Старый, брюхастый, мордастый, лысый, противно: я из-за него сверхурочные полюбила. — Оделись, по крайней мере? — опросил я, не знак? зачем. Позже я понял, зачем так спрашивал: очень мне не хотелось, чтоб она подвиг какой-нибудь свершила. Боялся! Чувствую: если подвиг, конец, все прощу и, может быть, так полюблю, как никого и никогда не любил. И она меня поняла — жалко ей стало меня: «Ради меня, Клавы, которая за пироги продалась, да мучиться? Вот еще!» И она сказала: — Оделась неплохо. — А ну, покажитесь, выйдите! — Что же, по-вашему, я на службу в манто ходить должна? — Уж и манто! — Уверяю. — И мама с вами переехала? Племянница маленькая… как они? — Все живы-здоровы. Заходите, Илья Ильич, с мужем познакомлю, он в конце концов ничего. Конечно, никаких подвигов не свершал, — воровать пирожки — какой же подвиг? — а все-таки добрый, и это хорошо… вот лысый только! Не нравятся мне, Илья Ильич, лысые. — Агасфер не лыс, — вдруг сказал я. Она помнила мои рассказы об Агасфере. Но вспоминать, по-видимому, ей эти рассказы было тяжело и неприятно; она спросила нехотя: — А кто это? — Да один из бессмертных, помните? — Нет, — ответила она и с каким-то непонятным раздражением спросила у посетителя: — А зачем, собственно, вам четыре бланка? Время военное, бумагу надо экономить. И она бросила посетителю два бланка. Выросла очередь, и я ушел, так и не сказав ей, что меня мучает бред. Да и зачем говорить? Жалость, что ли, я собираюсь у нее возбуждать? Жалость, конечно, стоит где-то рядом с любовью, но я в бреду, и мне не нужна ни жалость, ни любовь! Леченье мне нужно, леченье… но чем?
Постепенно я начал успокаиваться. Сон улучшился. Жизнь казалась более сочной и возвышенной, взоры встречных не были колючими. Несколько нежных и слабо вьющихся мыслей указали мне на некий растущий замысел, которому еще не находилось названия. Сценарий, пьеса, повесть? Я не знал, что это еще такое… Бороздчатый и глубокий звонок разбудил меня. Я подпер спиной стенку дивана. Срезанный, укороченный, иглоподобный звонок повторился. Я узнал эту манеру… а, подлец! И понти со злорадством я раскрыл дверь. «Пауль фон Эйтцен, ты? — хотелось крикнуть мне. — Ах, черт! Или за душой пришел?!» Мой посетитель, — клянусь, заметно укороченный и как бы снизу обкусанный, — кивнул мне головой, быстро прошмыгнул в мою комнату. Он, теперь уже не без грации, уселся на кипу «Русского архива» и, не объясняя причины своего появления, сказал голосом почти задушевным: — Мы остановились, кажется, Илья Ильич, на том, что мне пришлось вдохнуть жизнь в имя Агасфер? — Что же, батюшка, вы и вправду меня заморочить намерены? — сказал я раздраженно, в то же время испытывая некоторое смутное удовольствие при виде моего посетителя. — Будите вдобавок. — И я указал на раскрытый диван, на подушки, простыни. — А вы и далее продолжайте думать, что спите, — хихикнул мой посетитель. — Мистика нынче в упадке и презрении, а сон еще имеет все права, тем более сон бархатный. Единственно потому, чтоб посетитель не подумал, будто я и на самом деле чувствую себя спящим, я сказал, что согласно печатному экземпляру «Нового сообщения об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфер» и принадлежащему перу Пауля фон Эйтцена, имя Агасфер впервые широко было брошено в мир в 1602 году. Так, во всяком случае, утверждает Гроссе, видевший экземпляр этого сочинения. — Да, приблизительно так, — сказал посетитель. — Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдалбливать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориеусом. В Италии — Баттадие или брат Джиованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедес, что в переводе означает «толкнувший бога». Я же упорно настаивал, что имя мое— Агасфер! — Почему вы так настаивали? — Если идея ясна, ее выражение словом тоже должно быть ясным и точным, не правда ли? Я считал, что имя Агасфер полностью выражает мою идею. Человечество должно быстрее привыкнуть к этому имени и знать его хорошо. Кое-где этому моему желанию сопротивлялись, но вскоре я получил более того, что желал. Счастливый случай помог тому. Впрочем, относительно счастливый, конечно. Пилигрим, о котором я вам рассказывал прошлый раз, был приглашен на обед к фон Кеенам. Должен добавить также, что Клавдия фон Кеен уже имела жениха, нет, нет, не меня! По этому одному мне надо было торопиться. Женихом Клавдии был некий Карл Бреман, пьяница, распутник и не без пытливости, — в известном дурном смысле, разумеется. Он был богат, княжески богат. Фридрих Варизи, тот, что был в одежде пилигрима и что ходил к святым местам замаливать грехи, тоже оказался человеком не безденежным. Пилигрим на обеде влюбился в Клавдию— и немедленно посватался. После обеда женихи отправились в кабак, — был очень хороший кабак на южной окраине Гамбурга, под вывеской «Золотые ножницы». Здесь-то я с ними познакомился. Сильно напившись, они начали ссору, — разумеется, из-за невесты. Выждав момент, я сказал: «Ну, что вам, двум благородным и крайне честным людям, ссориться из-за какой-то продажной твари?» Они потребовали объяснений. Я сказал: «Я дам вам доказательства; а не словесные объяснения. Сколько; по-вашему, она стоит, если вы двое ляжете с нею на кровать? Предупреждаю цена не малая». И я продал ее. — Продали? Опоив и затащив в притон? — Она пришла туда сама. — Почему? — Чтоб доказать свою любовь! Разумеется, тут подшутила немножко и Афродита. Она, при рождении Клавдии, вложила в нее чересчур много плотского. Я Воздвиг слишком большую плотину, через которую это плотское не имело сил перелиться. Клавдия и не подозревала, как дрожит от напряжения эта плотина! Ну, отуманенная плотью, самопожертвованием, любовью и одновременно презрением ко мне, она согласилась. Та ночь была для меня не из важных. Я трясся от негодования на себя, на Клавдию, на этих двух плотоядных подлецов… Когда Клавдию утром увезли к ее тетке, где обычно у нас происходили свидания, я бросил два трупа, Карла Бремана на пилигрима Фридриха Варизи, против дома самого богатого еврея, обвинив в убийстве всех евреев квартала. Свидетелей я нашел с легкостью: это были те же самые латники, которые убили, по моему приглашению, и Карла Бремана, и пилигрима Фридриха Варизи. Еврейский квартал пылал, а я шел по городу и всем встречным рассказывал об Агасфере: самые долговечные легенды рождаются в огне пылающих городов, вспомните Трою. Я говорил: при выходе из церкви я остановил пилигрима и спросил: «Кто ты? Откуда пришел? Куда идешь? Сколько пробудешь в Гамбурге?» Вот какие вопросы я будто бы задавал ему. И он будто бы ответил мне, что он — именем Агасфер, а по ремеслу — сапожник и что он будто бы собственными глазами видел, как прибивали Христа к дереву римские воины и как поднимали его на воздух и так далее! И с того времени Агасфер пошел… Он посетил много стран и городов, в доказательство чего он привел много подробностей о жизни других народов. О жизни Христа он тоже сообщил мне много нового, чего нет даже у самих евангелистов. Особенно подробно он описывал мне последние минуты Христа, так как, видите ли, он лично присутствовал при всем происходящем, при его смерти… Так началась слава Агасфера — и моя тоже. — А Клавдия фон Кеен? — Она-то и оказалась истинной виновницей всех моих ужасных страданий. Когда я, пустив легенду об Агасфере, пришел к ней с деньгами, полученными путем, вам известным, она прокляла меня. Вы думаете, за то, что я ее продал? Ну, это было бы не логично, а она обладала, повторяю, немалым умом. Она же ведь сама согласилась на продажу! Нет, она прокляла и выгнала меня за то, что я убил тех, кто оплодотворил ее… тех двух мерзавцев! Каково? Она, видите ли, не в состоянии видеть убийцу отцов ее детей, — словно она собиралась сразу родить четырех, по крайней мере. Посчитав ее проклятие недействительным и глупым, я ушел от нее, однако вожделея ее в сердце своем и дав себе слово никого никогда не желать, кроме нее!.. Но позвольте продолжить о моей славе? — Она, по-видимому, сразу же стала доставлять вам большое удовольствие? — Да! Это было начало мести, проклявшей меня. Я тогда еще ни о чем не догадывался. Меня начали всюду приглашать. Из мелкого студента, сына жалкого торговца кожами, я быстро превратился в уважаемое лицо. Всюду, с амвона, и в частных домах, и в гостиницах, я рассказывал о своих встречах с Агасфером! Меня слушали жадно. Я приобрел много денег и много славы. Я ездил по Германии, был во Франции, посетил Италию. Я говорил, кажется, что на мои расспросы Агасфер ответил, что во время суда над Христом он жил в Иерусалиме и занимался сапожным ремеслом? Кое-какие подробности о кожах, которые благодаря занятию моего отца я знал превосходно, делали рассказ мой совсем правдоподобным. Агасфер, по моему рассказу, вместе с другими евреями, считал Христа за лжепророка и возмутителя, которого следовало как можно скорее уничтожить. После того как Пилат отдал Иисуса на распятие, его должны были провести мимо дома Агасфера. Агасфер стоял у дверей дома, держа в руке ребенка, а в другой — сапожную колодку. Волосы на его голове, как у всех сапожников, были стянуты ремешком, чтоб не падали на лоб. Проходя мимо и сгибаясь под тяжелым обрубком дерева, Иисус остановился возле дверей его дома, чтобы отдохнуть. Он прислонился к стене, но Агасфер из злобы стал гнать Иисуса, требуя, чтоб он шел туда, куда лежит его путь. И тут, обливаясь слезами, я приводил фразу, которую вычитал в хронике Матиаса Париса и которая будто бы принадлежала Карталеусу: «Я могу медлить, — сказал будто бы Иисус, — но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». Иисус пошел, и тотчас же Агасфер опустил на землю ребенка, снял с головы ремешок и, держа сапожную колодку в руке, последовал за приговоренным. Он присутствовал при его распятии, страданиях и смерти. Я рассказывал о них подробно, и люди рыдали, когда я говорил, что Агасфер дрожал от непонятного страха, прижимая к телу колодку, которую все еще не выпускал из руки. Колодка эта была придумана мною, и я гордился этой выдумкой: она опоясывала реальностью несколько костистое и выдуманное тело Агасфера. После смерти Иисуса Агасферу стало совсем страшно, и, будучи не в силах оставаться на месте, а того более— вернуться в Иерусалим, он отправился странствовать, и странствует по сей день. — Он — бессмертен? — Да, я утверждал, что он — бессмертен. — А разве вашим слушателям не казалось странным, что Христос оставил в живых одного грешника? С образом милосердного Христа это чрезвычайно мало вяжется. — Они верили. Я говорил, что, по мнению Агасфера, его оставили в живых до Страшного суда затем, чтобы он свидетельствовал верующим обо всем случившемся и убеждал бы маловерных. И так как никому не хотелось в те времена быть маловерным, то мне верили. Меня щедро снабжали деньгами, и обо мне шла слава как о великом проповеднике. — Несмотря на то что реального Агасфера не существовало? — Именно поэтому! Миф. Легенда. Глупость. И все бы шло отлично, кабы не любовь Клавдии фон Кеен. Ну, разумеется, и моя любовь к ней. Не Христос, а она, эта любовь, породила Агасфера и превратила его в реальность, то есть в меня самого. — Однако! — Долгое время я сам думал, что Агасфер — лицо выдуманное. И еще бы! Я подсмеивался над людским легкомыслием и с удовольствием смотрел на шафранножелтые монеты, которые получал как плод этого легкомыслия. Однажды, после длительной и многолетней поездки по Испании, я вернулся в Гамбург. Я остановился в гостинице «Меч и яйцо», так как думал, что после многих лет отсутствия мои комнаты в нашем доме могли быть заняты другим. Я хотел дать время, чтобы освободили их. Слуга раскладывал мои вещи, а я пошел к нашему дому. Он показался мне более возвышающимся над другими домами, чем когда-либо, и носил он другой, несколько голубоватый цвет, тогда как прежде камень нашего дома был сильного бурого цвета. Я спросил у привратника, дома ли и как благоденствует высокопочтенный Отто фон Эйтцен, то есть мой брат. Привратник ответил мне, что Отто фон Эйтцен умер восемь — десять лет назад, и что все фон Эйтцены перемерли, и что дом перешел по наследству к их дальним родственникам. Тогда я воскликнул, побледнев и дрожа всем телом: «Как так перемерли, когда перед тобой сам высокочтимый доктор Священного писания и слуга господа, сам Пауль фон Эйтцен!» Привратник перекрестился и сказал, что никто из фон Эйтценов не мог бы дожить до такой глубокой старости, ибо Паулю фон Эйтцену, да успокоит господь его душу, ныне было б сто сорок лет: последний раз он покинул Гамбург, направляясь в Испанию, шестидесяти с лишним лет. Я устремился в гостиницу. Я подбежал к зеркалу. Как сейчас помню бахромчатые украшения из дутого серебра по краям языковидного стекла, в котором отразилось мое лицо. Я погрузился в него взором. Тусклое, почти растекающееся стекло показало мне длинное лицо с крючковатым носом. Несколько пергаментных пятен указывали на древность этого лица, а в остальном вы едва б дали ему пятьдесят лет. Правда, взор был притуплен и свежесть губ была обманчива… но сто сорок лет, но сто сорок лет! Шатаясь, я вышел на улицу. Я пересекал площадь неподалеку от еврейского гетто, когда вдруг позади себя услышал слово, произнесенное с явным ужасом: «Агасфер». Я обернулся. Еврейский мальчик, болезненный, со слабо закривленными ногами, шерстистый, большеглазый, с длинным серповидным ртом, который я помню отчетливо, глядел на меня. Несколько детей, должно быть уважая в нем вожака, спешили к нему. Он сказал им громче, указывая на меня: «Смотрите, Агасфер!» И словно множество пробок, выпрыгивающих из воды на поверхность, когда упавшая бочка с пробкой расколется о дно, также выпрыгнуло и заплясало по всем улицам и переулкам гетто: «Агасфер, Агасфер, мимо идет Агасфер!» Я почувствовал страх, тоску скитаний, которая уже давно мучила меня, но только теперь выявилась с неудержимой силой. Я бросился бежать. Я бежал по Гамбургу, и вслед мне неслось: «Агасфер, смотрите, бежит Агасфер, ударивший нашего господа!» Эти слова прилипали к моим ногам, как расплавленная смола. Я смотрел на небо, покрытое приближающейся розовой корой заката, и молил небо ниспослать мне ночь. Ночь пришла. Но какая она была потрескавшаяся, — как моя душа. Я лежал в кустах. Все мышцы мои казались закостенелыми, но тоска моя была столь велика, что я встал и пошел! Я шел и шел, а только лишь останавливался, мне казалось, что я углубляюсь в такие бездны ужаса, перед которыми страх смерти как лист перед величиной целого дерева. Я — Агасфер?! Я — тот Агасфер, о котором спорили люди весь семнадцатый век, о котором писались книги, легенда о котором с необычайной быстротой облетела всю Европу. Я — бессмертный Агасфер?! Не говорит ли это мое воспаленное воображение, а на самом деле я сластолюбивый старик, начитавшийся глупых книг, все мысли которого обращены назад, в историю далекого прошлого! Мой посетитель почти задыхался. Его красно-синий рот был широко открыт, обнажая колесовидный оскал больших и острых зубов. Круглая тень его фигуры качалась по стеклам книжного шкафа, и мне казалось, будто лопасти парохода неслышно падают в воду, опускаются и выползают вновь… Я моргал глазами, чувствуя сильную слабость. Как в прошлый раз, посетитель прервал рассказ внезапно, словно его вспугнули. Он вскочил и заметно более твердыми шагами выскочил в коридор, на площадку лестницы и дробно, словно еж, засеменил по ступенькам. Я еле доплелся до выходных дверей, когда он уже был внизу, и я отчетливо услышал голос лифтерши: «Илья Ильич! Обозналась, значит?» Жутко мне стало, когда я, вернувшись в комнату, разобрался во всем смысле этих слов лифтерши. Можно думать о вашем посетителе как о помешанном или о том, что вообще все его посещение пригрезилось. Но когда после его ухода вы чувствуете чудовищный упадок сил, когда его фигура приобретает ваши очертания, когда его голос становится похожим на ваш и когда лифтерша путает его с вами, вы должны будете принять его за реальность хотя бы для того, чтобы бороться с ним. Я лежал пластом на диване и чувствовал себя придавленным и беспомощным. Мысли мои притупились. В голове стоял неприятный шум. Мой рот и зев были покрыты сухим и раздражающим налетом. Меня лихорадило. Но коль скоро мне грозила погибель, раз мне не было уже покоя, я должен победить, пускай даже эта победа и ускорит мою погибель. Победить! А как победить? Добро б Агасфера можно было схватить за горло, придавить и выдавить всю правду. Нет! Физической силой здесь немногого достигнешь, а умственной хватит ли у меня? На его стороне многовековая опытность и знание людей, на его стороне — несомненная жестокая ловкость, а что на моей, что я представляю из себя?.. Впрочем, довольно самоизысканий! Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда. Борись, бейся, если пришла беда!
Все последующие дни, преодолевая мучающую меня слабость и головные боли, я провел в напряженнейших размышлениях. Прежде всего я задал себе вопрос: почему Агасфер, вернее сказать, фон Эйтцен, пришел в Москву и почему именно ко мне? Он умен, хитер; то, о чем он говорит много, не имеет никакой ценности, а то, о чем он говорит мало, но о чем он молчать не в состоянии, несмотря на всю свою ловкость, — важно и ценно. Того ценней то, о чем он умалчивает. Прежде всего, почему он толкует так нелепо слово «Агасфер»: какой-то ага сфер, начальник небесных сфер, когда это испорченное древнеперсидское слово Ксеркс. По-еврейски оно читается «Ахашверош», что почти соответствует его звучанию в клинообразном персидском шрифте. И дело тут вовсе не в небесных сферах, а в земных, очень земных. Ксеркс! О, человечество много знает и много думает! Поистине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии, — глупо тщеславен, самоуверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее. Ибо тогда лишь придет настоящее бессмертие — бессмертие человечества. А теперь — о Ксерксе. Царь Ксеркс Первый, сын Дария Гистаспа, правил Персией в 486–465 годах до нашей эры. Он был вял, недалек, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался чудовищной самоуверенностью и тщеславием. Он называл себя бессмертным и верил в это. Жестоко подавив восстание Египта, сомневавшегося в его милостивом бессмертии и жаждавшего самостоятельности, царь Ксеркс задушил такое же восстание в Вавилоне. После этого он направился душить Грецию. Греки разбили его войско, сам он позорно бежал, и хотя война с греками продолжалась еще двенадцать лет, он уже не принимал в ней участия. Он пил вино в гареме, разбирал ссоры своих жен и разоблачал интриги своих министров. Убожество его ума и скудельность его сил, наконец, вызвали такое отвращение, что его зарезали люди, которые должны были его стеречь: начальник его стражи и главный евнух гарема… Недурен был характер у этого вечного странника, которому человечество прилепило имя царя Ксеркса? Какою едкою укоризной звучит это слово — Агасфер! Однако несомненно, что фон Эйтцену много лет, быть может, больше того, в чем он сознается. В хронике Матиаса Париса я нашел фразу, над которой не задумывались раньше и о которой фон Эйтцен почему-то умолчал: «По словам преподобного Григория, армянского архиепископа, Карталеус, достигнув столетнего возраста, заболевает какой-то болезнью и впадает в род экстаза, после чего снова поправляется и возвращается к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Да, почему умолчал об этих строках фон Эйтцен? Не заболевает ли он сам этой болезнью, этим родом экстаза и не встретились ли мы с ним в конце его столетнего возраста? И откуда считать столетний возраст? С того ли дня, как он стал бессмертным, или же со дня его рождения?! Конечно же, с того дня, как он стал бессмертным! Я перечел легенды и обнаружил, что последний раз Агасфер посетил Гамбург в 1744 году. Из Гамбурга он поспешно направился на восток. Предыдущие его посещения были более часты, но меня интересовало другое— посещал ли он Гамбург в 1644 году? Оказалось, посещал. А столетие позже? Ну, разумеется! Ведь сам же он сказал мне, что, окончив учение в Виттенберге, он приехал к родным в 1547 году. Правда, три года разницы… а если это намеренная разница? Разница, чтоб запутать меня, не открывать того, чего ради он посещал Гамбург каждое столетие, не открывать пути, по которому он уходил из Гамбурга— пути на восток? Почему именно на восток? Я еще раз тщательнейше перебрал все его слова и выражения, все его мельком брошенные фразы, и особенно остановился я на его возвращении в Гамбург, когда он впервые узнал, что превратился в Агасфера. Если помните, он сказал, что не заехал к родным, а оставил слугу с багажом в гостинице «Меч и яйцо». Что это за гостиница и что это за странное название? Даже среди тогдашних вычурных названий гостиниц это одно из самых необыкновенных и самых малоправдоподобных. Нужно помнить, что немцы всегда старались возвеличить слово «меч», иронизируя над словом «яйцо» и особенно «яичница». Сопоставить эти два слова вряд ли бы отважился, да особенно в семнадцатом веке, какой угодно хозяин гостиницы. Несомненно, что сопоставление это нужно было Агасферу для чего-то другого. Для чего же? В рукописном отделе Исторической библиотеки есть ненапечатанный труд профессора Трубо: «Эмблемы и символы средневековья». Я без особого напряжения нашел сочетание «меч и яйцо». Опираясь на слова Кас-сиодора, Приока и Аммиана Марцеллина, а также на ученые примечания Гиббона, Линдеброгия и Валуа, профессор Трубо утверждал: «Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны и бога жизни с особым благоволением. Но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о них понятие, ни изобразить их в осязательной форме, то они поклонялись своим богам-покровителям под символическим изображением меча, воткнутого рукоятью в землю, возле острия которого лежал другой символ — символ жизни— золотое яйцо, золотое солнце». Ага! Восток, скифы, меч, золотое яйцо… Сто почти лет мучает фон Эйтцена страх смерти, страх наказания, и к концу столетия страх этот приобретает особенно острую непереносимую форму. Страх влечет его на восток, туда, где под символом «меча и золотого яйца» находится его смерть! Да, да, я понял его! Смерть фон Эйтцена лежала где-то на востоке. Мы мало говорим о своей смерти. Легенд об Агасфере, кроме заносных, не рождалось у нас на востоке, потому что фон Эйтцен избегал востока. Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающим о нем, дает ему надежду на жизнь. Именно этому человеку Пауль фон Эйтцен должен рассказать о своей смерти! Если он способен обнаружить смерть бессмертного — Пауль фон Эйтцен умрет в ужасающих страданиях. Если же человек будет недостаточно дальнозорок, он погибнет, снабдив Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в новое путешествие, в новые сто лет! Вот к каким необычайным выводам пришел я, размышляя об Агасфере и Пауле фон Эйтцене. Вы можете говорить обо мне что угодно, но вы должны согласиться, что при обстоятельствах, в которых находился я, других выводов быть не могло. Повторяю, я реальный человек реальнейшего двадцатого века, живущий в наиреальнейшем государстве, и если я пришел к таким необыкновенным выводам, значит, я имел к этому серьезные основания. Одно из них было то, что я уменьшился в росте, голова моя начала суживаться и удлиняться, голос ослабел. Короче говоря, я приобретал вид Агасфера, в то время как Пауль фон Эйтцен, несомненно, приобретал мой вид! Я живу в Замоскворечье, неподалеку от Крымского моста. Вы помните, наверное, этот мост, похожий на среброкрылого жука, эти крылья, сахароподобно сверкающие на июльском солнце; рыжеватую кайму реки под ним. Парк культуры и отдыха рядом, откуда выглядывают дула трофейных пушек. Я шел через мост, возвращаясь из продмага, к которому я прикреплен. Ноша легка, но нести ее было тяжело: руки мои словно из песка, да и сам я весь бесформенный, мешкообразный. Где-то надо мной раздался знакомый голос: — Не помочь ли вам, Илья Ильич? Вровень со мной, — нисколько не ниже меня, — шел мой, так хорошо знакомый, посетитель. Лицо его заметно поправилось, костюм был на нем новый, с широкими модными плечами и едва ли не из американского материала и вообще весь его колер был нахальный, лососево-красный. Шагал он с чрезвычайной подвижностью, передергивая плечами от удовольствия и даже пританцовывая: — Оздоровляющий воздух и сияние, Илья Ильич, а? Я всегда, пересекая Москву-реку, чувствую себя, видите ли, очищенным. Целебнейший город, батюшка, наицелебнейший. А я на вас смотрю и думаю, — кажется, он? Изменился! Во мне — смятенье! Испуг! Обморок. Ха-ха-ха!.. Таких бы делов человек наделал — беда, а тут до чего довели, ха-ха-ха!.. С его точки зрения, он совершенно правильно сделал, что выбрал для разговора улицу. Он мог плести, сколько ему угодно, вставлять любые и необходимые для него слова, а я — только разводи руками. Мой ослабевший голос не покрывал бы текучего шума улицы, и фон Эйтцен всегда мог бы сослаться на то, что не слышит. И выходило так, что он очень остро издевался надо мной, а так как он брал всю мою жизнь, то и над моей жизнью. Так тому и быть… Нет! Именно поэтому-то и не быть! Я собрал последние силы, вскочил, под режущий уши свист милиционера, в трамвай и, не обращая внимания на брань и крики, протискивался к выходу. «Изгонять чертей, так изгоняй решительно!» — бормотал я, выскакивая через одну остановку. Так же поспешно я перешел улицу и поднялся, прыгая через ступеньку, к лифту. Лифтерша еле успела спросить: «Братец будете Илье Ильичу?» — причем неизвестно было, к кому обращен был ее вопрос: ко мне или к фон Эйтцену. Я бросился на диван. Стакан, наполненный водой, плескался в моей руке. Я медленно, глоток за глотком, поглощал воду и смотрел на встревоженное лицо Клавы. Да, да, она ждала меня в моей комнате!
Я предложил Клаве чаю. Она отказалась. Собственно, мне ей нечего было предлагать. Чаю у меня не было уже несколько месяцев. Иногда я ездил к своим знакомым в Толстопальцево, собирая там в лесу листья брусники. Я утверждал, что настой из брусники очень тонизирует, гораздо больше, чем настой чая. Вряд ли знакомые верили мне. Они спекулянты, у них водится чай, сахар и даже печенье. Они, по-видимому, считают меня за сыщика, из тех, которые голодают, — есть и такие, — и которых можно подкупить продовольствием. Они усердно угощают меня. Мне стыдно, — какой я сыщик! — но я не отказываюсь от еды и говорю многозначительно. Ах, какая гнусная жизнь! — А вы очень изменились, Илья Ильич. — Ослабел. — На улице, возможно, я бы вас не узнала. — К лучшему. — Зачем меня обижать, Илья Ильич! Я вышла замуж по любви. — Пару дней назад вы говорили другое. — Врала. — И насчет лысины? — Нет, насчет лысины правда. В конце концов как его не любить? Ко мне, представьте, явилось пятеро родных из разбомбленного города. Больные, голодные. Теснота ужасная. Именно тогда он предложил стать его женой. Именно тогда я полюбила его. — За доброту? — Это великое качество! — Ко мне вы некогда испытывали другое чувство, не правда ли? Она промолчала. Я переспросил: — Другое? Более плотское, а? Она сказала: — Пожалуй, я уберу вашу комнату. Вы, Илья Ильич, наверное, не убирали ее уже несколько дней… — Недель, пожалуй. Был вечер. Она убрала комнату, заварила листья брусники, попробовала мой хлеб, отложила его в сторону и, вяло улыбнувшись, достала из сумочки пирожки. Она молча положила их передо мной. «В конце концов почему мне их не есть?..» — подумал я. Я не успел додумать, как пирожки уже были съедены. «Свинья и я, свинья и она, и безразлично, из какого корыта едят эти свиньи». Понимая, по-видимому, мои мысли, она, глядя мне твердо в глаза, медленно проговорила: — Я буду приносить вам каждый день. Это тоже доказательство, что не совсем продалась. Я вдруг обеспокоился. Связки «Русского архива» куда-то исчезли. Но она ведь не переставляла ничего! Ах да! Уходя сегодня в продмагазин, я их убрал под кровать. Я быстро сказал: — А уж поздно, и у вас пропуска нет, Клава? — Откуда ему быть? — Еще полчаса, и тогда вам придется остаться здесь. Соседи, правда, тихие. — Зато вы, Илья Ильич, нынче громкий. Она засмеялась. Нехороший и недобрый был это смех! И, однако, он нравился мне. — Клавдия фон Кеен тщетно преследовала Агасфера сотни лет, — сказал я. — Он страстно желал, чтобы она догнала его: пусть даже это будет смерть! Мучительнейшее состояние, и все же он жаждал его. Она ничего не сказала мне на эти слова: словно и не слышала. Полчаса между тем миновало. Она опять взглянула на меня тем твердым взглядом, от которого я весь содрогался, провела ладонями по своей голове, словно собираясь расплетать косы, но затем, раздумав, видимо, положила руки на колени. Так она сидела минут десять — пятнадцать, затем неторопливо поднялась и медленно, но умело разложила постель. — Кабы полгода назад… — начала она, взбивая подушку. — Но люди так глупы, так глупы! Илья Ильич. — А? — Бросили бы вы думать об этом Агасфере. — Да я уже от него отказался, от сценария то есть. А между прочим, почему? — Не люблю я евреев. — Вот тебе на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность. — Ничего. Да и я им. Впрочём, я и татар не люблю. — А русских? Она вдруг обняла меня и поцеловала.
По-видимому, со мной случались обмороки, которые я, так сказать, переносил на ногах. Во всяком случае, я совершенно не помню, когда исчезла Клава и когда появился фон Эйтцен. С усилием размахивая руками, точно ломая скалы, я внезапно спросил его. — Клавдия фон Кеен гнала вас к смерти, обещая у порога ее свою любовь? Так? Вы — шли, но, не дойдя до смерти, быть может, трех шагов, пугались и кидались к тому, кто пожалует вам свою жизнь. Сейчас я тот, к которому вы свернули. Ну что же, я согласен. Я дам вам жизнь, если вы назовете место, где вы должны встретиться с Клавдией фон Кеен… то место, которое вы скрывали сотни лет. Шероховатое и округлившееся — мое! — лицо Агасфера словно покрылось тонким слоем мыльной пены. Сквозь этот слой вспыхивали и испуганно гасли кроваво-красные глаза. Я со вкусом повторил: — Да, вы должны мне сказать, где находится ваша смерть, Агасфер! Пора. Вам, по-видимому, известно, что до сих пор в Пикардии и Бретани, когда ветер неожиданно взметет придорожную пыль, простой народ говорит, что это идет Агасфер. Мне хотелось, чтоб говорили: «Пыль есть пыль, и это даже не пыль от Агасфера», — и смеялись бы, ха-ха-ха… Пришло время! Он сел опять на экземпляры «Русского архива» — откуда они? — и, вытянув ко мне мясистую — мою! — круглую голову, словами как бы пополз ко мне, чтобы завиться вкруг меня и — задушить, высушить: — А не забросить ли нам всю эту болтовню, как зазубренный топор, а, Илья Ильич?! Не взять ли, так сказать, извозчика и отправиться в другую сторону?.. — Беда, ха-ха-ха, бежать надо от беды, ха-ха-ха!.. — смеясь через силу, чтобы ошеломить его, сказал я. — Ведь вы остановились на рассказе об Испании? Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять?.. Я поймал его! Он поддавался моему смеху. Он испугался! Он послушно шел за мной за моими словами, за моими мыслями. Потирая руки, я глядел на него, а он бормотал: — Да, да! Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять? Господин секретарь Кристоф Краузе и магистр фон Гольштейн пребывали некоторое время, видите ли, в качестве посланников при королевском дворе в Испании, а затем в Нидерландах. Вернувшись домой в Шлезвиг, они рассказывали, подтверждая клятвами, что видели в Мадриде удивительного человека, которого двадцать один год назад видели в Московии… — Верно. Ха-ха-ха… — откинувшись на спинку дивана, сказал я. — Он пришел из Московии? А что говорит — анно, тысяча шестьсот сорок три, а?.. И тогда Агасфер послушно сказал: — Анно, тысяча шестьсот сорок три? Илья Ильич!.. Я сказал совсем строго: — Ну? И тогда Агасфер сказал то, что я ждал страстно: — Анно, тысяча шестьсот сорок три? В Кристмонде правдивым лицом из Брауншвейга написано, что в то время известный чудесный человек находился в Вене, затем в Любеке, затем в Кракове, а затем пошел в Гамбург, намереваясь побывать… — Где побывать? — грозно привстав, спросил я. — В Московии, — ответил он шепотом. — Появлялся ли он в Московии? — Хроники говорят: там его многие видели. — Агасфера? — Да. Я воскликнул с торжеством и тревогой: — И для приобретения жизни вы должны вызвать к себе жалость того, кто даст вам жизнь и возьмет вашу смерть? Он прошептал своим, уже размочаленным, голосом: — Вы меня, Илья Ильич, ведь жалеете… Это был не вопрос или утверждение, это была просьба, унылая и молящая. Я расщепил его на мельчайшие волокна, и он сознавал это! Ему оставалось одно: вызвать во мне жалость к нему. Ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать «несчастненьким», ту жалость, которую в наши дни, когда много кричат о России и русских, вызвать особенно легко. Я сказал: — Ну что же, мне жалко вас, фон Эйтцен. Если бы вы видели, как он подпрыгнул! Столетия он привыкал сдерживаться, а вот, смотри-ка, не сдержался. Он завизжал почти по-собачьи: — Боже мой! Как хорошо, Илья Ильич! «Считает меня совсем за дурачка», — подумал я с раздражением, и жалость, если она действительно была, покинула меня. Играя им, я сказал небрежно: — Ну, что нам говорить о смерти! Вам, несомненно, пришлось многое испытать, однако смерть от вас далека. Очень далека. — Разумеется, хе-хе-хе, далека, разумеется! В том-то и беда, Илья Ильич, что далека, хе-хе-хе! Мое столетие, видите ли, не кончилось. — Ну, какое там столетие? Вам едва ли дашь шестьдесят лет. — Значит, мой возраст не внушает вам опасения? — произнес он настолько вкрадчиво, что у меня похолодело под ложечкой. Но нащупывать истоки его смерти доставляло мне такое болезненное, а вместе с тем приятное удовольствие, что я не прервал опасной нити разговора, а сказал: — Какие опасения! Он весь так и расплылся в улыбке, скорпионоподобной, если допустить, что скорпионы способны улыбаться. Я внезапно повернулся к нему всем телом и спросил: — Ваша смерть — на востоке? Вы приблизились к ее центру? Поэтому-то вы можете жить здесь более трех дней? Думаю, что фразы мои обрушивались на него с тяжестью тех скал, о которых я говорил недавно. Он съежился и как бы вползал в какую-то щель, тряся головой и судорожно перебирая пальцами. Только взгляд его готов был пробить меня, как доску гвоздем, и, содрогаясь от ненависти к этому взгляду, я сказал: — Она ужасна, ваша смерть, фон Эйтцен? Я услышал шепот из щели: — Да! — Она — непереносима, эта ваша смерть, фон Эйтцен? — Да! Я продолжал наносить удары: — Где же она находится, ваша смерть, фон Эйтцен? Скажите мне адрес вашей смерти? Огорчил? Печалюсь, ха-ха-ха! Кручина большая, но говорите мне адрес вашей смерти! Он быстро привстал. Или он хотел убежать, или — броситься на меня. Но, привставши, он, словно накрепко увязанный веревками, что от резкого движения впивались в тело, рухнул на пачки «Русского архива», из которых хлынула пыль. — Она… она здесь… — еле шевеля распухшими, толстыми, точно из войлока, губами, ответил он. — Она, видите ли, здесь Илья Ильич, здесь… — Не молвя — крепись, а уж молвя — держись, — едко сказал я ему. — Так что же этозначит: «здесь»? Здесь, в Москве? — Возле… — Да вы что, издеваетесь надо мной?! — крикнул я. — Говорите мне точный адрес! Разговор с ним мне стоил дорого. Силы мои заметно уменьшались. И покуда сознание не покинуло меня, я подзадоривал себя всячески, а ему всячески показывал, что сил во мне еще — много. «Самое главное, самое главное, не дать ему ускользнуть, надо показать ему мое могущество», — твердил я. Он, поежившись, ответил: — Станция Толстопальцево. Киевской железной дороги. От станции влево. Третья поляна. По ту сторону тропинки, на юг, шестое дерево… в корнях. И тогда я резко задал ему последний вопрос, которого, по-моему, он особенно боялся: — Какой вид у вашей смерти? Я заметил уже давно, что слово «смерть» он не произносил. Оно шатало его, валило с ног. Поэтому, едва только он проявлял желание увильнуть, я бил его этим словом. — Лежит… лежит, видите ли… лежит, Илья Ильич! — В чем лежит ваша смерть? В коробке? В бутыли? В суме? В кошеле?.. Он кивнул. — В кошеле? Он еще раз кивнул, но совсем слабо. О чем мне еще говорить с ним? Усталыми глазами я смотрел, как он, шатаясь и держась обеими руками за дверки книжных шкафов, плелся к выходу. Мне страстно хотелось, чтоб он исчез возможно скорее, особенно после того как я заметил, что он разного со мной роста и что моя кепка, которую он взял со стула по ошибке, была ему как раз по его круглой голове.
После его ухода я почувствовал изнеможение, голова закружилась, и я грохнулся на пол. Очнувшись, я стал перебирать в памяти происшедшее. Голова работала, хотя и медленно, но ясно. Одно обстоятельство, на первый взгляд пустячное, заставило меня вскочить. Я припомнил свою привычку: когда я говорю с кем-либо, мои руки машинально берут со стола книгу и начинают ее поглаживать по переплету, как вы, например, ласкаете кошку по шерстке. Так вот, то же самое делал мой посетитель! Мороз, именно вяжущий и мелкощетинный, мороз подрал меня по коже. И в то же время неизвестно почему я вспомнил и начал бормотать фразу из Островского: «Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». И я не мог припомнить: то ли это из «Бедности не порок», то ли из «Грозы». Боже мой, да и какое мне до этого дело, когда тут такие змееуползающие дела! Его день жизни двигался по моей, как двигается поршень на всем протяжении цилиндра машины. А мой день?! Неужели я позволю усыпить себя… Прочь! Да вставай же, Илья Ильич! Руки! Ноги! Превозмогая тошноту и боль под сердцем, я нашел какую-то палку и, опираясь, потащился к выходу. Кожа моя лупилась, словно я ее обжег на солнце, а руки до локтей были покрыты клейким потом. Не помню уже, каким образом добрался я до кассы пригородных поездов. Знаю только, что с севера по-прежнему дул холодный ветер, а края низких облаков, быстро бегущих по небу, были оранжевы, блестяще-шелковы. — Вы давно ждете? — услышал я слабый голосок Клавы. — Жду фон Эйтцена, — без всякого удивления ответил я. — Кто он? — Агасфер. Но ему недолго им быть. — А почему, собственно, он должен смотреть вместе с нами комнату, где жить нам? «Нам? Значит, мы почему-то должны передать кому-то… — может быть, родственникам Клавы или Агасферу?.. — мою комнату и переехать в Толстопальцево?»— подумал я смутно и сказал: — Я хочу показать тебя Агасферу. Ты не отказывайся: это доказательство твоей любви ко мне. — Согласна и на большее. — А на что именно? — спросил я с трепетом. — На все, что ты велишь. — Нет, не на все! — закричал я громко.-^ Мало ли какие идиотские мысли мелькнут в моей голове. Ни в коем случае нельзя подчиняться всему! Ни в коем. — Именно всему. Это и есть любовь. — Но мне приходит в голову чудовищное. Если оно придет, не верь ему. — Я верю всему, что ты говоришь. — Даже существованию Агасфера? — Даже! — Ха-ха! — Чему ты смеешься? — Как быстро ты дисциплинировалась. — Тебе не нравится? — Нет. Мне бы хотелось видеть тебя недисциплинированной. Давно когда-то на островах Фиджи прибывший туда путешественник узнал, что стоящий перед ним вождь дикарей съел семьсот островитян. Путешественник сказал: «Но неужели вам, вождь, не противно было есть людей?» Вождь, вздохнув, ответил: «Есть их было действительно противно, — они такие недисциплинированные!» Смешно, верно? — Смешно. — И будет смешно, если я тебя захочу съесть? — В Ленинграде одна моя подруга отдала свое тело своему любимому. Там, знаешь, ведь сильный голод, — ответила Клава спокойно, — и там всякое случается. Мы будем ждать? — Агасфера? Да, мы будем ждать. Если я напугал его — он придет. Если же он нашел лазейку… впрочем, я не уверен! Ушел трехчасовой. Следующий в четыре десять. Двое каких-то знакомых с корзинками подошли к кассе. Они ехали по грибы. С участием они расспросили меня о здоровье и дали адрес гомеопата. Покупали билеты огородники с лопатами, завернутыми в тряпки, военные. Какой-то курносый юноша в полосатых брюках пожимал украдкой руку девушке, а та, нежно и гибко качаясь, улыбалась, показывая ряд крепких, северных зубов. Ушел и — четыре десять. — Спал хорошо, милый? — Великолепно. Где уж там великолепно! Всю ночь меня мучил бред и тупая, печатеобразная боль в боку. Я вставал, поднимал затемнение. Переулок наш выходит на широкую улицу. Я видел движение машин, везущих орудия и снаряды. Там где-то фронт, моя дивизия, товарищи, а я здесь — совершенно беспомощный. Ах, еще бы хоть ложечку силы, крупицу жизни! Я б ее употребил так умело, так умеренно, что никакому Агасферу не миновать и не обмануть меня! — Что-то говорит мне, дорогой, — он не придет. — Нет, придет! Она права. Он не придет! Он взял от меня все, что ему надо взять. А я… я — умирай!.. Я — покидай эту изумрудно-зеленую, шелестящую непрерывно листву, эту девушку в полосатой юбке, что улыбается крупными, как бобы, зубами и жмет руку молодому человеку. Пусть не мне, пусть, но я счастлив, что вижу, как она жмет ему руку и как шелестит это дерево, возле корней которого богатые впадины, где в жаркий день приятно прилечь… Нет Агасфера? Найди его! Поймай! Но где найдешь его, у кого спросишь и как спросишь?.. Граждане, вы не видели некоего Агасфера, похожего… похожего на меня, а, ха-ха-ха!.. Голова моя гудела, как пустое ведро. Я сжимал зубы, закрывал глаза. Я тер руками лицо, потому что кожа казалась мне грязной, — и сам я грязный, глупый, сбивчивый и бестолковый, как плоскодонная лодка. — Клава, ты меня любишь? — Безумно! Вопрос, разумеется, банальный, да и ответ не лучше, но в глазах ее светится такое, что ярче и выразительнее любых не банальных слов. — И готова доказать? — Я уже доказала: бросила мужа и… — Подожди, подожди!.. Я отвел ее от кассы. Мы остановились против входа на перрон. Я вспомнил, как ночью, перед рассветом, подошел к окну и поднял синюю бумагу, этот паспорт войны. Небо было холодное, глубокое, как только оно бывает поздней ночью. На краях стекол осела роса, и в ней дрожали разноцветные звезды. Я глядел, не отрывая глаз, на эту росу. Мучительный стыд охватил меня. Как я беспомощен! Неужели я ничего не придумаю?.. — Подожди, я потребую от тебя большую жертву… огромную! Быть может, большую, чем отдать мне на съедение свое тело. — Я готова, милый. — Не торопись, не торопись! Видишь ли, эти слова будут вроде заклинания: он, Агасфер, должен явиться на них. Ты сейчас будешь Клавдия фон Кеен, и ты должна будешь вернуть свою любовь Агасферу. ― Вернуть? Но я его никогда не видела, дорогой. — Увидишь, как только скажешь, что согласна вернуть. Согласна. — Я подчиняюсь тебе, дорогой. — Нет, ты скажи, что согласна! — Согласна, — ответила она твердо. — Агасфер, вы?! Клава с удивлением переводила глаза — с меня на него. — Похожи? — спросил я быстро. Она нехотя ответила: — Есть некоторое сходство. «Некоторое? Ха-ха! Абсолютное!» Он теперь — высок, широкоплеч, широколиц, с маленьким подбородком и узкими, пронзительными глазами. Я — низенький, узкий, длинноголовый и тусклый, тусклый. И, глядя на него, я думал последними остатками моего интеллекта: «Вот она, снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел!» Я, разумеется, как всегда, преувеличивал. Отдано не все, раз я в состоянии бороться и думать, — однако отдано много. А как же иначе? Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног? Лишь бы не сплошать, лишь бы не промахнуться, Илья Ильич! Я твердо знал, что не промахнусь. У меня есть средство для достижения цели. Неопровержимо, что он должен отвечать на мои вопросы о его смерти. Почему должен? А потому, что тысячу лет назад мои свободолюбивые предки — скифы признавали только двух богов: меч, защищающий нашу свободу, и — золотое яйцо, символ нашей жизни и творчества. Этим священным мечом они пронзали зло, и хотя не убили его совсем, хотя и зло осталось, но ведь остались и потомки, которые тоже могут держать меч! Ибо меч свободы на моей земле, и когда я с моей земли спрашиваю врага и он видит в моих глазах отблеск стали бессмертного меча моей родины, он, дрожа от злобного испуга, должен отвечать мне. — Адрес вашей смерти, — спросил я, — Толстопальцево? Он молчал, не отрывая глаз от Клавы. Какой там меч, какие скифы, какое там золотое яйцо! Любовь владеет и повелевает миром, а все остальное — шовинистическая болтовня и умственное ничтожество. Именно любовь, а не меч и золотое яйцо ведут нас в Толстопальцево! — Толстопальцево? Растопырив пальцы и поводя ими перед лицом Агасфера, я повторил свой вопрос. Мне было нелегко. Даже мои пальцы, казалось, натыкались на колючие взоры моего посетителя, а про сердце и говорить нечего. Мне все думалось, что я вот-вот сорвусь, как срывается напряжение, когда свернешь нарез винта. Хмелем кружилась голова, во рту был дикий, острый вкус: — Агасфер! Вы что, думали смести меня метелкой, как сметают пыль со стола? Вы думали, что вся моя жизнь уже в ваших руках, Агасфер? Нет! Нет! Пусть вы взяли половину моей жизни, пусть даже три четверти, девять десятых, а все же ваша жизнь вот где… И, почти дотрагиваясь до его, от волнения покрытой словно мелкими и серыми чешуйками <руки>, я раскрыл емкую мою руку. — А вы куда? — по-прежнему пристально глядя в лицо Клавы, спросил он. — В Толстопальцево. — А вы? — крикнул я ему. — В Толстопальцево, — ответил он. — Так поехали же! Он послушно выпрямился и, огромный, сероволосый, поднялся надо мной с такой покорностью, что у меня, перед моим собственным могуществом, захватило дух. Я пролепетал: — Указывайте путь! Кассирша Киевской пригородной выбросила нам три билета шестой зоны. Я взял твердые темно-желтые квадратики.
Он сидел на скамейке против меня, опустив круглую голову и зажав руки между колен. В вагоне сильно курили, проходили певцы, пренебрежительно ставившие гармошку на колено и рассыпавшиеся фальшивыми звуками; слепой инвалид с заношенными ленточками ранений рассказывал об обороне Севастополя; девушки-зенитчицы смотрелись в карманное зеркальце, излучавшее густо-сплоченный свет. Почти без толчков, словно курьерский, несло вагон, и молочницы говорили, что пригородные поезда водят самые лучшие машинисты, а огородники с уважением поддакивали: «Как же иначе, молоко ведь расплескаешь!» И неизвестно было: кто над кем подсмеивался. Вместо нижней пуговицы у воротника гимнастерки болталась и падала на небритую щеку его длинная суровая нитка. Я смотрел на этот крошечный подбородок фон Эйтцена, так не вяжущийся со всем большим и круглым его лицом, и думал: «Кто же он, наконец? Шутник, диверсант, сумасшедший, больной манией преследования, контуженный при бомбежке или — потерявший семью? Узнаю я правду или он опять убежит от меня? И что произошло, что заставило меня поверить ему? И кто я такой? Шутник, сумасшедший, контуженый?..» Нитка падала ему на толстые, распухшие губы, он нетерпеливо снимал ее, и ветер, рассеянно падавший в окна вагона, перебрасывал ее на грудь. Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия заспал ее, как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только нельзя научиться?! Какие бы можно было написать мемуары и каким бы можно было быть преподавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария или фильма?! Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узкокрылые молодые грачи, учившиеся летать. Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают певцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцена, сказала: — Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой густой взор на меня. — Верно говорю, инвалидушка?! Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она, при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву: — Вы не отказались от вашего решения? Она ответила с тоской: — Нет. И, помолчав, добавила: — Если вы настаиваете. Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Эйтцен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену: — Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь. Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала: — Я ничего не понимаю, но раз он так хочет… И она опять умолкла. Шагая по остаткам «козьих ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники— спрыгивали на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!» Начальник станции, хромой, в большой алой фуражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупноребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать. Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это мои волосики, мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил: — Адрес вашей смерти — Толстопальцево? Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед. Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где сна собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили! Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье. Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых листка, даже и летом падающие с осин, небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдачу… Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всему странному происшествию. Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепельно-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевы, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкоре. Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь завитый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал. Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойди дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя. Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размеров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами вытрясают пыль из савана. Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырчатые воды. Откуда эти древние вековечные болота? Под Москвой?! Дорогой, долго еще идти? — послышался позади тихий и ласковый голос Клавы. Не оборачиваясь, я ответил: — Скоро. — Скоро! — подтвердил фон Эйтцен. Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня. Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеленым мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядшими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять охватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки. Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был во всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет. — Здесь! И он взглянул на Клаву. — Узнаете? — спросил он. — Я никогда здесь не была. — Обманул? — крикнул я. — Зачем, зачем мне вас обманывать? — воскликнул фон Эйтцен. — Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб! И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве: — Узнаете теперь? — Да ничего я не узнаю. — Уйдете со мной? «Ой-ой-а-а-с-с-ф!..» — подхватил ветер. Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схему горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию. Кругло, железно-выпукло ударил гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вздох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под собою. Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку, к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс и, несмотря на то что противник мой, был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек. — Держи его, милый, держи! — слышал я рядом с собой голос Клавы. — Не убежать, шалишь! Дуб лежал, вытянув кверху толстые, цвета густой умбры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.
 В глубине, между вывороченных камней, я увидал продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.
— Клад!
Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, довольная, устремилась к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:
— Пожалуйста, Илья Ильич, очень прошу вас, осторожнее. Опасно…
Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:
— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу…
— Не трогайте, не трогайте! — продолжал он вопить, присев на кочку. — Умоляю вас, не трогайте!
Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра; вдоль его шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.
Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиною не менее как в три пальца, и сук упал, скошенный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остра.
И я крикнул своим спутникам:
— Идите ближе!.. Сейчас во всем разберемся, — И я начал рассуждать, разглядывая меч на полном свету: — Сначала думал: старинная штука, а затем — откуда старине знать нержавеющую сталь? Ведь он много времени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..
Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.
Тощий, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:
— Умоляю-ю…
— Да идите вы к черту, — сердито сказал я, — что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам неприятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.
И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.
Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно ниже меня, а удлиненная его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его длинная голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его манера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и все вокруг кочки, в той лиловато-нежной болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.
Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из брезента, то суровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.
— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник, — сказал я, смеясь, — и если б вот не это дело…
— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке, — сказала, тоже смеясь, Клава.
Тут я услышал голос фон Эйтцена.
Он сердито кричал:
— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?
— Слушай, дорогой, — сказала мне Клава, — его, кажись, засасывает: надо ему помочь!
— А и помоги, — сказал я, растягивая кольца сумочки, что отливала вишневым и слабо позванивала. — Протяни ему жердь, их здесь много.
— Он требует руку, милый!
— Ну, дай ему руку, раз он требует.
Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубиного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.
Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.
Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидал я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека… даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никакому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бобровые ресницы!
Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.
И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так…» — билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.
Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробивавшееся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие…
Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода…
Я раскрыл глаза.
Возле кочки, вкруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голубые круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде, — прошел и скрылся навсегда.
— Клава, Клава! — крикнул я.
Лес безмолвствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.
В глубине, между вывороченных камней, я увидал продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.
— Клад!
Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, довольная, устремилась к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:
— Пожалуйста, Илья Ильич, очень прошу вас, осторожнее. Опасно…
Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:
— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу…
— Не трогайте, не трогайте! — продолжал он вопить, присев на кочку. — Умоляю вас, не трогайте!
Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра; вдоль его шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.
Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиною не менее как в три пальца, и сук упал, скошенный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остра.
И я крикнул своим спутникам:
— Идите ближе!.. Сейчас во всем разберемся, — И я начал рассуждать, разглядывая меч на полном свету: — Сначала думал: старинная штука, а затем — откуда старине знать нержавеющую сталь? Ведь он много времени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..
Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.
Тощий, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:
— Умоляю-ю…
— Да идите вы к черту, — сердито сказал я, — что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам неприятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.
И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.
Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно ниже меня, а удлиненная его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его длинная голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его манера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и все вокруг кочки, в той лиловато-нежной болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.
Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из брезента, то суровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.
— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник, — сказал я, смеясь, — и если б вот не это дело…
— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке, — сказала, тоже смеясь, Клава.
Тут я услышал голос фон Эйтцена.
Он сердито кричал:
— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?
— Слушай, дорогой, — сказала мне Клава, — его, кажись, засасывает: надо ему помочь!
— А и помоги, — сказал я, растягивая кольца сумочки, что отливала вишневым и слабо позванивала. — Протяни ему жердь, их здесь много.
— Он требует руку, милый!
— Ну, дай ему руку, раз он требует.
Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубиного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.
Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.
Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидал я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека… даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никакому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бобровые ресницы!
Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.
И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так…» — билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.
Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробивавшееся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие…
Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода…
Я раскрыл глаза.
Возле кочки, вкруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голубые круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде, — прошел и скрылся навсегда.
— Клава, Клава! — крикнул я.
Лес безмолвствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.
Наш темный дом с ярко-желтым подъездом и двумя серыми арками ворот, разрезающими его на три части, стоит возле крошечной площади. К площади выводят вас переулки, узкие и истертые, почему-то всегда напоминающие мне подтяжки. Я шел по одному из переулков. Мне нравится московское затемнение. Это резко очерченный и выразительный снимок войны. Недавно был дождь. В переулке тускло поблескивали мокрые булыжники. Позади меня ревела, трещала и бушевала Москва. Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения. Подвалы домов пахли перегноем и водой. Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынутием жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере. Мне виделся он в маленьком итальянском городе, что-то вроде Римини во времена тирана Сигизмондо Малатеста, так умело соединявшего высокое художественное и научное образование пятнадцатого века с умышленной жестокостью. «Нет, что ему делать в Москве? — думал я с усмешкой. — И как это мне взбрело в голову писать о нем сценарий? Он не для нас, и мы не для него. Глупо». Вспомнив свою работу над Агасфером, я вспомнил и Клаву. Перебивая и вытряхивая пыль из томов «Русского архива», я нашел между книг ее профсоюзный билет. Странно, что я так долго не вспоминал о ней. Где я ее видел в последний раз? Ах да, в Толстопальцеве! Она была с кем-то мне знакомым, но с кем — не помню. В тот день я мало набрал грибов. Перед отъездом на станции какой-то старик рассказывал, что два грибника, мужчина и женщина, подорвались на немецкой мине. Помню: размахивая почти пустой корзинкой, я возразил старику: «Да немцев и не бывало в Толстопальцеве!» — на что старик сказал: «Тогда на собственной», и стал описывать приметы погибших. Приметы подходили. Клава и ее спутник? И все-таки я не верил старику, так как не желал ее смерти, хоть она меня и разлюбила. Нужно ей вернуть профбилет и, кстати, сказать, что ничего против нее не имею. Ну, пусть разлюбила! Тому прошло много времени. Собственно, не так много, но здоровому время, когда ты был болен, кажется очень далеким. Я пошел в квартиру, где она жила. Мне сказали, что Клава вместе со своими родственниками и мужем давно уехала на Украину и адрес ее неизвестен: должно быть, счастлива — не жалуется. — Ах, вот как! Извините за беспокойство, и до свидания. — До свидания. Итак, я шел переулком. Вспомнив опять измену Клавдии и ее теперешнее счастье на Украине, я сплюнул — не так, чтоб очень ее оскорбить, но сплюнул: Затем я вынул платок, чтоб вытереть губы, — и вдруг, поскользнувшись, обронил его. Наклонившись, я увидел, что через переулок, от тумбы к тумбе, низко над мокрыми булыжниками, протянута проволока. В Москве «пошаливало» хулиганье. Впереди, приближаясь к западне, крупно шагал, размахивая портфелем, какой-то широкоплечий человек. Я крикнул ему: — Осторожней: проволока. И кинулся под арку ворот, прорезавших дом насквозь. Под аркой мне почудились две неясно маячивших фигуры. Я решил проучить мерзавцев. Фигуры бросились во двор, что-то хрипло говоря друг другу. Пространство двора упиралось в развалины школы, разбомбленной немцами еще в 1941 году. Я побежал наискось. Фигуры не успели скрыться в развалинах. Я схватил их и, стуча голову о голову, приговаривал: — Не блуди, гадюка, не блуди! Один из них кричал: — Ой, не буду, дяденька, не буду! Не буду: кулак-то какой большой! В последнем пункте я с ним согласен. Природа одарила меня, но и я одарил природу. Челнок моей жизни не так легко опрокинуть, хотя река, по которой мы плывем, — бурна, как и подобает разливу. Горестно зарыдает тот, кто попробует броситься на меня. Я — крепок, великолепно натренирован, широк в кости, и рост мой пусть не с гору, однако и не с левретку. Без особого напряжения могу я, например, пробежать из одного конца Москвы в другой с грузом в пятнадцать килограммов. Спортивное мое увлечение — лыжник и пловец. В здоровом теле — здоровый дух.
Последние комментарии
23 минут 23 секунд назад
12 часов 29 минут назад
13 часов 21 минут назад
1 день 46 минут назад
1 день 18 часов назад
2 дней 8 часов назад