[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
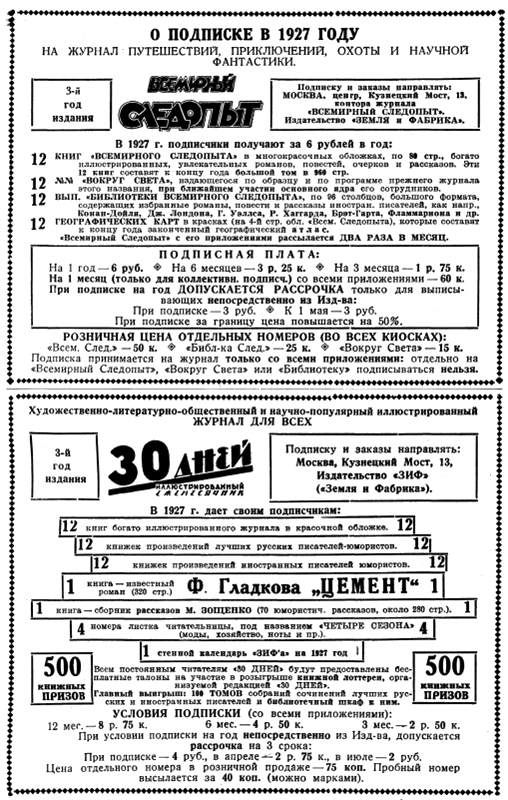
ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ
1927 № 2


*
ЖУРНАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В ТИП. «ГУДОК» УЛ. СТАНКЕВИЧА, Д. 7. В КОЛИЧ. 50.000 ЭКЗ. ГЛАВ ЛИТ. № 80741.
СОДЕРЖАНИЕ:
Сверх-пища. Фантастический рассказ Фреда Уайта. — Уссурийский зверобой. Краеведческо-охотничий рассказ В. К. Арсеньева (окончание). — Черноморские контрабандисты: Шхуна «Два Друга». Рассказ Г. Гайдовского. — Ущелье Большого Дракона. Колониальный рассказ В. Белоусова. — Собака-акробат. Заметка. — В стране кенгуру. Очерки Стефана Коце. — Лесной человек: Рассказы А. Фохтлендера и Ч. Майера; очерк проф. А. В. Цингера; заметка. — Мать Земли. Восхождение на Эверест. Очерк кап. Ноэля. — Путешествия и путешественники. — Следопыт среди книг. — Шахматная доска «Следопыта». — Гигантская дьявол-рыба. Заметка. — Обо всем и отовсюду. — Загадочный аквариум. Фото-загадка. — Шевели мозгами. — Европа. Статья Н. К. Лебедева к карте на обложке.ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В увеличении тиража (количества подписчиков) нашего журнала заинтересованы сами читатели. Увеличение тиража даст возможность Издательству еще улучшить внешний вид и содержание «Следопыта», а также, быть может, и увеличить об’ем журнала и приложений к нему. Изо дня в день поступающие в К-ру журнала многочисленные письма-отклики на об’явления доказывают, что «Всем. Следопыт» вполне отвечает интересам самых широких и разнообразных кругов читателей, но при этом письма читателей говорят, что, к сожалению, во многих местностях нашего Союза наш журнал еще мало известен. Желая приблизить журнал к массе читателей, Издательство просит всех работников месткомов, фабзавкомов, культкомиссий их, школьных работников, заведующих библиотеками, клубами, избами-читальнями и других культпросветительных работников, а также частных лиц — взять на себя распространение журнала «Всемирный Следопыт». Работа по распространению нашего журнала будет премироваться книгами и журналами издания «ЗИФ» по выбору сборщика подписки.

Фред Уайт
СВЕРХ-ПИЩА
Фантастический рассказ Рисунки худ. С. Лодыгина
Медгэм Чэнтри было идеальным местом для ученого или мечтателя, и Гарольду Глиссону только случайно удалось найти его. Не теряя времени, он приобрел его почти за бесценок. Это маленькое имение когда-то было монастырем, с обширными землями и быстрой, полной форелей, речкой, протекавшей по всей его длине. Но теперь эта речка превратилась в чуть видный ручеек, а от старых зданий остался только большой амбар, в котором Глиссон производил свои научные опыты. Для собственного жилья он выстроил небольшой домик внутри высокой каменной ограды, защищавшей от посторонних глаз некогда обширный фруктовый сад. Этот фруктовый сад пользовался громкой известностью в те дни, когда монахи культивировали яблоки «фоксуэльс» и приготовляли из них самое лучшее яблочное вино. Но к тому времени, когда Глиссон приобрел это поместье, фруктовый сад уже представлял собой одичавшую молодую поросль, перемежавшуюся со старыми искривленными деревьями, или совсем не дававшими плодов или дававшими очень небольшое количество их, да и то совершенно непригодных для еды. Всего через два года Глиссон каким-то чудом сумел опять превратить заглохший сад в роскошный питомник самых лучших сортов яблок. Последние дни сад стоял весь покрытый морем розовых цветов. Красота его чувствовалась тем сильнее, что в этом году весна необычайно запоздала и затянулась до середины мая, а еще недавно сад, с голыми почерневшими деревьями, имел печальный осенний вид. Теперь же он казался совершенно преображенным. Молодые яблони, из которых большинство, имело всего полтора-два метра высоты, казалось, были усыпаны цветами от земли до верхушек и обещали богатый урожай, если только поздний майский мороз не разрушит всех надежд Глиссона. Сухой мороз был бы не очень опасен теперь, когда цвет уже совсем распустился, но, если бы он грянул после дождя или мокрот снега, как часто случалось в этих краях, то ученому пришлось бы еще год ожидать результатов его важного опыта. Он об’яснил все это своему другу, доктору Джемсу Пеннанту, когда они сидели после завтрака на террасе домика, куря свои трубки. Здесь они были совершенно одни, так как Глиссон не держал прислуги, а всю домашнюю работу исполняла старуха, жившая в деревне. Она приходила ежедневно на несколько часов и уходила, как только все было убрано после обеда. Довольно долго между Глистном и его гостем царило полное молчание. Они были старыми друзьями и товарищами по университету и, поскольку дело шло о науке, шли одним и тем: же путем. В настоящее время Глиссон пригласил к себе друга, с которым: давно уже не видался, чтобы показать ему свое замечательное открытие. — Это открытие должно было бы иметь огромное значение, говорил Глиссон. — Вспомни, как мы издевались над этим в наши школьные дни и, однако, обсуждали возможность открытия наполовину серьезно. Но я никогда этого не забывал, Джим. Мечта эта все время преследовала меня и сильнее всего с тех пор, когда случай дал мне в руки «Пищу богов» Уэллса. Эта книга заставила меня немало подумать. Это, конечно, вымысел, но все же настолько убедительный… настолько убедительный, что я посвятил последние три года на то, чтобы осуществить его. А почему бы и нет? Люди в одном отношении, пожалуй, не прогрессируют: они и раньше и в настоящее время питаются совершенно неподходящей пищей. Питание человека далеко не современно. В наше время высокого нервного напряжения нам нужно кое-что кроме калорий, которые можно извлечь из мяса. При той быстроте, с какой мы живем в настоящее время, мы скоро обратимся в совершенно беззубых людей. Ныне необходимо большое количество подходящей пищи, иначе последует общее безумие. Разве мало в настоящее время в мире людей, находящихся на краю полного нервного расстройства! И опасность эта все увеличивается. Говорю тебе, Джим, что подходящую пищу найти необходимо, и, как мне кажется, я нашел ее. Позволь мне показать тебе кое-что… Глиссон говорил почти шопотом. Тон его был необычайно серьезен. Он направился во фруктовый сад, где маленькие фруктовые деревья под яркими лучами солнца казались сплошной нежно-розовой и алой массой, и Пеннант, следовавший за своим другом, невольно залюбовался представившейся ему чарующей картиной. — Какие удивительно крупные цветы! — воскликнул он. — Никто никогда еще не видывал подобных цветов, — заметил Глиссон с гордостью. — Они единственные в своем роде. Цветы, действительно, были единственными в своем роде. Они скорее походили на розы, чем на цвет плодовых деревьев. Ни один из них не имел менее трех дюймов в диаметре. — Как ты умудрился этого добиться? — спросил Пеннант. — Я обработал деревья электричеством, — об’яснил Глиссон. — Ты, конечно, уже не раз слышал об этом. Совсем не новость взять растение и выгнать его под влиянием электрического тока. Я всему этому научился из статей профессора Боттомлея. Ему удалось вырастить такую пшеницу, что урожай удвоился, но этого для меня еще очень мало. Электричество — жизнь, а если оно жизнь для растений, почему бы ему не быть таковой и для человечества? Я задал себе вопрос: если электрический ток может развить рост растений и увеличить их производительность, не имеется ли возможности увеличить ценность питательных веществ (в калориях), применяя электричество к пищевому продукту? Не удастся ли мне вывести плод, который будет обладать необычайно повышенной питательностью? Прошлое лето я нарвал с дюжину яблок с единственного молодого дерева, на котором уже были плоды, и все они имели больше восемнадцати дюймов в диаметре. Я надеюсь, что в этом году они будут еще крупнее. Но практические результаты я надеюсь получить тогда, когда пчелы, в настоящее время лакомящиеся, как ты видишь, соком этих цветов, дадут нам мед. — А прошлогодний мед? — спросил Пеннант. — У меня было слишком мало этих крупных яблочных цветов, и тот мед, который пчелы извлекли из них, наверное, ослаблен медом из обычных цветов. К тому же осень была холодная и сырая, поэтому я оставил пчелам весь набранный ими мед, чему очень порадовался впоследствии, когда оказалось, что нынешняя весна такая поздняя. Но, принимая во внимание, что весь мед, собранный в этом году, будет в моем саду с этих изумительных цветов, — я ничуть не призадумаюсь взять один из новых сотов для опытных целей. — Если я правильно понял, то ты собираешься употребить мед с этих поразительных цветов в виде основы для твоей сверх-пищи. Не надеешься ли ты вывести пчел таких же крупных, как и цветы, если будешь кормить их медом, который они в данную минуту собирают с этого сада? — Надеюсь, — спокойно проговорил Глиссон. — Я это уже делал в небольших размерах с некоторыми насекомыми и пока не отметил ни одного сомнительного результата. В нынешнем году пчелы будут роиться ненормально поздно, но, так как спешить тебе некуда и ты можешь прожить здесь с месяц или даже больше, то ты увидишь кое-что необычное, когда появится первый рой. А пока я не осмеливаюсь дотрагиваться до рам. Пчелы жужжали в цветах яблонь, напоминая прибой летнего моря. Мимо пролетела оса. Пеннант указал Глиссону на нее. — Почему бы тебе не проделать опыт на одном из вот этих насекомых? — спросил он. — Не мог ли бы ты взять немножко нового меда из одного из ульев и скормить в осиный сот? Если я хорошо понял твой план, твое изобретение заключается в новой пище для истощенных людей, которая произведет в них радикальное изменение. Эти сверх-цветы требуют сверх-пчел, чтобы уж быть логичным. Когда твои пчелы станут питаться новым медом, они должны будут сравняться ростом с орлом. Если бы ты стал кормить твоим медом вот эту собаку, то мог бы рассчитывать, что она сравняется с датским догом. Пеннант указал на небольшую дворняжку, свернувшуюся клубком на крыльце у ног Глиссона. Собака эта как-то раз случайно зашла во двор и с тех пор поселилась у Глиссона. — Это более чем вероятно, — ответил ему Глиссон. — Если окажется возможным развить животную жизнь в той-же пропорции, в какой я развил растительную сторону природы, я это сделаю. Ты сам видишь, что я сделал с цветами… Но это было далеко не легким делом. Каждый дюйм земли здесь, в саду, находится под влиянием сильного электрического тока от стоящего за амбаром; динамо. Я сам привил эти яблоки карликовыми видами яблони, также обработанными электричеством. Отсюда и получились эти поразительные цветы. Единственно, чего мне приходится бояться, это внезапного мороза после теплой погоды. И должен заметить, что вид неба в настоящую минуту мне не нравится. Глиссон указал на легкую дымку, от которой шли длинные полосы по восточной части неба. Над головой ярко сияло солнце и в воздухе чувствовалась ласковая теплота лета. Пеннант, повидимому, не обратил внимания на слова друга. Ум его был погружен в целый мир различных соображений. — Это в высшей степени интересно, это грандиозно! — воскликнул он, увлекшись идеей Глиссона. — Полагаю, что ты не производил никаких личных опытов с этим новым медом? — У меня пока не было лишнего меда для этой цели, — пояснил Глиссон. — Видишь ли, первые результаты были собраны только в течение нескольких последних дней. Весь мед еще в ульях и, искренно надеюсь, в новых сотах. Так как основой всех питательных ценностей является сахар, то у меня и зародилась идея начать с меда, изготовленного пчелами из этих сверх-нормально развитых цветов. Мед будет, кроме того, специально обработан препаратом, который я очень долго изготовлял. Огромные пчелы, которых я надеюсь развести, сделаются питательницами мира. Человеку уже не будут нужны никакие животные. Бык и баран, лосось и сельдь — будут забыты в пищевом обиходе человечества, и, тем не менее, весь мир будет иметь сколько угодно пищи. Это звучит словно бред сумасшедшего, не так ли?

- Огромные пчелы, которых я надеюсь развести, — закончил Глиссон, — сделаются питательницами мира. Человеку уже не будут нужны никакие животные. Бык и баран, лосось и сельдь — будут забыты в пищевом обиходе человечества, и, тем не менее, весь мир будет иметь сколько угодно пищи.
— И все же не один подобный бред, в конце-концов, осуществился, — заметил Пеннант. — А теперь поищем поблизости и посмотрим, не попадется ли нам где-нибудь осиное гнездо. Мне не терпится начать опыт. Им пришлось искать довольно долго, но, наконец, они нашли осиное гнездо под валом, защищенным рядом ветел, на самом солнечном припеке. Так как гнездо было не из сильных, то овладеть им было нетрудно. Это было сделано при помощи куска пороховой нити, просунутой глубоко во входное отверстие гнезда и зажженной. Пять минут спустя гнездо выкопали и горсточку черных, с желтым обитательниц его уничтожили. В гнезде нашлось всего три небольших сота, цвета замазки, грубой овальной формы, окружностью в чайную чашку. В каждой из ячеек можно было различить осиную личинку через полупрозрачную восковую крышку, защищавшую личинку от воздуха. — Это несколько лучше, чем я ожидал, — заметил Глиссон. — Нам, наверное, удастся ускорить развитие этих личинок в теплом месте, и дня через два мы будем иметь из них насекомых. Я помещу их в кладовую. Но сперва нам придется их обработать. — Это напоминает мне об одном случае из наших школьных дней, — рассмеялся Пеннант. — Ты помнишь тот день, когда мы раздобыли осиные личинки для рыбной ловли и поздно вечером положили их в кладовую в доме твоего отца. На другое же утро… — Помню, — улыбнулся Глиссон. — Раннее утреннее солнце заставило их вывестись, и к завтраку весь дом кишел осами. Сомневаюсь, чтобы это повторилось в данном случае. Как бы то ни было, я должен придумать какой-нибудь способ накормить этих молодцов новым медом, из сверх-цветов. Это потребует не мало труда и терпения. Уже приближался вечер, когда Глиссон вошел в кабинет с небольшим куском медового сота в руке. Только восьмая часть рамки была наполнена маленькими шестиугольными ячейками, от которых испарялся такой аромат, какого Пеннанту еще никогда не приходилось обонять. От одного этого запаха вся кровь доктора заиграла, и он преисполнился еще никогда не испытанным им чувством восторга… — Так, значит, и ты чувствуешь на себе влияние даже запаха этого меда, — прошептал Глиссон, заметив яркий блеск в глазах своего товарища. — Когда я впервые понюхал его, мне захотелось выйти на улицу и вступить в бой с первым встречным. И не то, чтобы я почувствовал хоть малейший задор или злобу. Это было похоже на необычайный и радостный под’ем духа, точно я попал в новый мир, где не было ни боли, ни страданий, ни повода к какой-либо тревоге… Пеннант рассеянно кивнул головой. Он рассматривал прозрачную жидкость в ячейках сот, любуясь ее удивительным янтарным оттенком с золотыми искорками. Безбоязненно он коснулся открытого шестиугольника ячейки языком, и кисловато-сладкий вкус меда наполнил его новым ощущением силы. Дворняжка Фриск, спокойно спавшая на иолу, вдруг поднялась и принялась носиться по комнате с громким радостным лаем, точно и она почувствовала действие нового меда. — Лучше уж не продолжай опыта, — посоветовал Глиссон, видя, что Пеннант снова собирается лизнуть меда. — Здесь, может быть, кроется какая-нибудь опасность, о которой мы и не подозреваем. Давай, прежде всего, посмотрим, каковы окажутся результаты опыта над осами. — Дорогой мой друг, — заболтал весело Пеннант, — я готов сделать все, чего бы ты ни пожелал, даже стать на голову, если тебе это доставит удовольствие. Мне хочется смеяться и петь, мне хочется декламировать стихи. Неужели в жизни есть еще новая радость, о которой до сих пор никому и во сне не снилось! По крайней мере, я именно это чувствую. Как ты умудрился это сделать? — Я много лет производил опыты, — серьезно ответил Глиссон. — Сперва я производил опыты над простыми питательными веществами. Я отыскивал высшую форму питания при минимальном требовании от пищеварительного аппарата. Затем я отправился в ботанический сад и стал изучать действие электричества на растения. Я задался целью вырастить такое яблоко, какого свет еще никогда не видывал, главным образом, потому, что яблоко содержит в себе все элементы, необходимые для поддержания жизни организма на самой высоте. При помощи процесса элиминации[1]) и тщательной прививки я. наконец, достиг именно того, что мне было нужно, а потом принялся за устройство своей электрической станции, при помощи которой удобрял, так сказать, свой сад. Это произошло как раз после того, как мне посчастливилось найти здесь идеальное для моих опытов место. Я посадил деревья в специально приготовленную почву, обработанную препаратом моего изобретения из известных фосфатов и растительной пищи. В этом препарате заключались, между прочим, железо, кости и сушеное молоко. Я решил, что, если мне удастся добыть подходящую пищу, я сумею развить таких людей, которые смогут физически устоять в обстановке современного нервного напряжения. И я уверен, что иду по правильному пути. Когда я вывел этот чудовищный яблочный цвет, я обезумел от радости. Теперь, когда он окреп, самый тревожный период миновал. У меня будут невиданные плоды. Даже заморозки мне теперь уже не страшны, лишь бы это был сухой мороз. Если же мороз последует за дождем или градом, то в следующем: году мне снова придется проделать весь опыт. Но, к счастью, я уже получил некоторое количество меда с этих поразительных цветов, и на этом меду я вскормлю новых пчел, которым предназначено снабдить всех сверх-пищей. Пеннант с глубочайшим интересом прислушивался к словам Глиссона. Прикосновение меда к его губам пробудило в нем совершенно новое ощущение жизни. Прежде всего, его ум точно прояснился и просветлел, а по телу разлилась упоительная сила и уверенность в будущем. — Я думаю, что это простой вопрос времени, — сказал он. — Мне кажется, что старания твои должны увенчаться успехом. Но ты же не можешь сделать особенно много до осени, когда будешь свободно располагать медом из ульев. До тех пор тебе вряд ли удастся вывести этих чудовищных пчел. — Возможно, что так, — проговорил Глиссон. — Однако, пока-что мы можем произвести опыт с этими осиными сотами. Глиссон повел доктора в амбар, где у него была лаборатория и где он производил свои опыты. Из кучи всякого хлама, сложенного в углу, он вытащил стеклянный резервуар, раньше служивший аквариумом. Дно его было сделано из олова, а стены — из толстого зеркального стекла; к этому резервуару Глиссон подобрал крышку, которая закрывалась очень плотно, почти герметически. — Мы пробуравим в крышке несколько отверстий, чтобы молодые осы могли дышать, — сказал он. — Нам совсем не нужно, чтобы они летали повсюду, когда выведутся. А теперь наблюдай! Глиссон взял кусок сота с деткой, и с бесконечной осторожностью принялся при помощи иглы для подкожного впрыскивания вводить по крошечной капельке нового меда в каждую отдельную ячейку. Каждая личинка получала свою долю меда и снова запечатывалась смесью из воска и клея. — Надеюсь, что опыт выйдет удачным, — пробормотал Глиссон. — Есть, конечно, опасность, что, вводя новый мед, я ввел в ячейки и воздух, в каковом случае личинки погибнут и весь наш труд пропадет даром. Но личинки уже довольно велики. Можно рассмотреть уже их голову, лапки и выпуклые глаза. Мы поместим их вот там, у западного окна, чтобы с наступлением вечера их озарило солнце. Раньше, чем совершенно стемнеет, я их снова переставлю, чтобы утром, как только солнце встанет, их снова пригрело. Теперь оставалось только терпеливо ждать, чтобы солнечное тепло сделало все остальное. Становилось немного прохладно, когда оба ученые отправились в дом и сели за скромный ужин. На востоке, на небе замечалась какая-то особенная краснота и туманность, которая намекала на перемену в атмосфере. Глиссон посмотрел на небо с некоторым беспокойством. — Я всегда чувствую некоторую тревогу в это время года, — пояснил он. — Погода так чертовски обманчива! Страхи Глиссона, однако, не оправдались. Небо осталось ясным, и утро принесло с собой потоки солнечного света и ощущение ласковой мягкости в воздухе. К концу завтрака установилась совершенно летняя погода. В стеклянном резервуаре с осиными сотами пока не произошло никаких изменений, хотя, осмотрев соты, Глиссон сразу же заметил, что личинки в ячейках живы. — Пока все идет хорошо, — сказал он Пеннанту. — Личинки, несомненно, чувствуют себя прекрасно. Заметь яркую синеву щупальцев и черноту полос на теле. Все они живы. Дело обстояло именно так, как сказал Глиссон. При удаче весь выводок должен был увидеть дневной свет через несколько часов, может быть, через день. На следующее утро Глиссон заторопился посмотреть результаты своего опыта. Он увидел картину, заставившую его затаить дыхание и отступить в тревоге и удивлении. Он протер себе глаза, как только-что проснувшийся человек. На столе, у восточного окна амбара, лежали осколки стеклянного резервуара, в котором хранились осиные соты. Он был разбит на мелкие части, точно кто-нибудь нарочно раздробил его молотком. На столе, среди сверкающих осколков, лежали обломки осиных сотов — кучка сухой распыленной трухи. В этой сухой трухе не замечалось, однако, ни малейших признаков жизни, даже ни одного мертвого насекомого, раздавленного при общем крушении. Нигде не было видно в живых ос. Дворняжка Фриск, следовавшая по пятам за Глиссоном, лаяла со всеми признаками страха и злобы, опустив короткий хвост, и ее острый любопытный нос был поднят к крыше амбара, где темные тени скрывались во мраке… Вдруг под стропилами амбара, там, где тени больше всего сгущались, раздалось какое-то странное гуденье, словно от работавшей вдали молотилки, какой-то тонкий писк, словно от вырывающегося пара, затем свист, словно от крыльев какой-то огромной птицы, вившейся в воздухе над своей добычей. Затем вдруг, опустилось какое-то кошмарное насекомое в фантастической черной с желтым полосатой одежде, парившее, точно вспышка молнии, на жужжащих крыльях, похожих на крылья гигантской стрекозы. С быстротой молнии чудовищное насекомое набросилось на несчастного Фриска, и через секунду собака: уже лежала у ног своего хозяина мертвой. Глиссон прирос к месту, не будучи в силах сдвинуться. Похолодев от ужаса, он наблюдал за невиданным существом, парившим над трупом собаки, которое затем опустилось на него и начало насыщаться кровью. Затем из сумрака стропил опустились второе и третье чудовища, точно коршуны, спускающиеся с неба на мертвого леопарда. На Глиссона они пока не обратили ни малейшего внимания… На трупе Фриска сидела пара чудовищ, которых случайно вызвало к жизни изобретение Глиссона. Он, конечно, знал, что это такое. Сверх — пища оказала свое действие на соты, взятые из осиного гнезда. Гигантские осы вывелись на рассвете этого лучезарного майского утра, и появились вооруженные, словно воины, чтобы потрясти мир. Своей покрытой броней головой и точно стальными латами они разбили стеклянную тюрьму, вылетели и сгрудились под крышей амбара. Они обладали всею дикой злобой и жестокостью своего племени, в тысячу раз большей силой, чем их прародители, и таким сильным ядом в хвостах, что он мог причинить мгновенную смерть всему живому. Глиссон сразу же сообразил это, когда увидел моментальную гибель Фриска. И все же любопытство жаждущего новых открытий ученого превозмогло в нем чувство страха. Опыт ему удался. Новый мед, смешанный с его препаратом, породил этих новых гигантских насекомых. Однако, самым важным вопросом теперь было скорее уничтожить эту смертельную опасность прежде, чем она рассеется по всей земле, точно эпидемия. Кто мог предугадать, как далеко эти летучие черно-желтые хищники занесут смерть и разрушение, если их не задержат и не уничтожат до того, как они вылетят на волю. Но на одну минуту инстинкт ученого все же взял верх. Глиссон наклонился и стал рассматривать огромное полосатое чудовище, насыщавшееся кровью собаки. По форме тела и окраске это была самая настоящая оса, но величиной с коршуна. Глиссон на-глаз определил, что тело имеет не менее двенадцати дюймов длины. Черно-желтое тело, странно похожее на футбольную фуфайку, сверкало стальным отливом и походило на броню какого-то нового вида; голова была тверда и похожа на роговую. Большой круглый зловещий глаз насекомого напоминал большую рыбью чешую с огненной точкой посредине. Пока насекомое насыщалось, крылья его вибрировали, точно пропеллер аэроплана. — Скажи же мне, что это такое? — спросил хриплый голос. — Это ты, Пеннант? — едва мог проговорить Глиссон. — Ты давно уже здесь? Если тебе дорога жизнь, двигайся поосторожней. Посмотри вверх над головой. Все пространство под крышей представляло собой массу черно-желтых тел, чертящих в воздухе фантастические узоры, и воздух трепетал от визга их крыльев. Звук походил на звук ветра, играющего в путанице телефонных проводов. Затем еще одно из чудовищ, спустилось на труп собаки и запустило жало в коричневый мех. Нервы Глиссона, наконец, не выдержали, и он бросился бежать в сопровождении Пеннанта, у которого едва хватило присутствия духа на то, чтобы закрыть за собой дверь амбара. Точно двое сумасшедших пробежали они те несколько метров, которые отделяли амбар от входа в дом. Задыхаясь и почти теряя сознание, Глиссон схватил дрожащей рукой графин и налил два больших стакана вина. Несколько минут ни один из друзей не произнес ни слова. — Что же это значит? — спросил, наконец, Пеннант. — Увы, друг мой, — пробормотал Глиссон. — Опыт мой оказался слишком удачным. Моей идеей было создать сверх-породу людей, которая сумела бы построить новый и лучший мир силой своего умственного и физического превосходства. Это чудо должна была вызвать изобретенная мною сверх-пища, и, наверное, она это и осуществила бы. Насколько дело это мне удалось, ты видел сам… Обыкновенная оса — отвратительное насекомое, но ты видел, что я из нее сделал! — Крылатое хищное чудовище, — подсказал Пеннант. — Боюсь, что так. Я видел, как собака издохла, точно пораженная молнией. Это могло случиться и со мной. Я думаю, что укол такого жала смертелен для всякого живого существа. Если мы упустим этих ужасных хищников, то они размножатся, и никакая жизнь не будет застрахована от них. Мы должны немедленно истребить их. — Но как ты это сделаешь? — спросил Пеннант. — Вдруг они разобьют окна, как разбили стеклянные стенки резервуара. Я видел, что случилось. Ни за что на свете не вошел бы я снова в этот амбар! — Надо поджечь амбар, — воскликнул с отчаянием Глиссон. — Надо облить его бензином. — Да, и вызвать сюда через несколько минут пожарную команду. Но даже и такое отчаянное средство может не оказать желаемого результата. Представь себе, что при первом признаке дыма и пламени осы разлетятся, разбив стекла… Глиссон уныло кивнул головой. Предположение Пеннанта было вполне основательно. «Нет, — думал Глиссон, — насекомых необходимо уничтожить, и раз это будет выполнено, я уже больше не стану повторять своих опытов с сверх-пищей. Новый мед, имеющийся в ульях, будет уничтожен, и все следы этого ужасного опыта затерты. Но как это сделать!?» Глиссон просидел все утро, глубоко задумавшись над этой задачей. Он совершенно не мог думать ни о пище, ни о собственном удобстве, пока эта задача не была разрешена. Пока медленно тянущийся день клонился к вечеру, к солнечному закату, он десятки раз выходил из дому, чтобы посмотреть, целы ли окна амбара. Он мог слышать глухое жужжание и визг исполинских ос внутри амбара. Цветы яблонь, величиною с розу, и нарциссы, стоящие в саду на стеблях, подобных стеблям подсолнухов, его уже больше не интересовали… Глиссон поднял глаза к небу, и внезапная мысль пробудилась в нем. В лицо ему дунул порыв резкого, холодного ветра. Он взглянул вверх на стоящий на крыше амбара флюгер. Ветер сразу повернул к востоку, небо стало хмурым и приняло медный оттенок. — Ах, если бы только, настал мороз! — простонал он. — Это единственное, чего я жажду в данную минуту. Глубокая тишина спустилась на землю, когда Глиссон направился обратно к дому. Теперь уже в груди его теплилась надежда. Пеннант уловил выражение лица своего друга и с интересом повернулся к нему. — Ну, что же, — спросил он, — что-нибудь случилось? — У нас будет сильный мороз, — заявил Глиссон. — Он, быть может, окажется нашим спасителем. Пока еще окна целы, я полагаю, ни один из этих дьяволов не выберется на волю. Как бы то ни было, теперь они уже пробудут там до утра: их природный инстинкт, вероятно, предупредил их о перемене погоды, а холода они боятся. Кроме того, я придумал план, Пеннант. Вот в том старом дубовом ящике ты найдешь несколько пар резиновых перчаток, которыми я пользуюсь при анатомировании. Вытащи их, а затем дойди до гаража и принеси те автомобильные рукавицы, в которых ты приехал сюда на своем авто. Мои — найдешь в коляске мотоциклетки. Принеси кстати и оба передних автомобильных фонаря. У меня в спальне есть маленькая батарейка. Пеннант не стал пока задавать никаких вопросов и вскоре вернулся со всем, что было нужно Глиссону. Глиссон принялся устраивать что-то вроде прожектора, соединив свою батарею с фонарем автомобиля. Покончив с этим, он отправился в кладовую, откуда вскоре вернулся с двумя бутылями, содержавшими какую-то жидкость. С этими бутылями он обращался крайне осторожно, сперва надев толстые кожаные рукавицы поверх перчаток. — Это раствор серной кислоты с различными добавлениями, — пояснил он угрюмо. — Вещество это ужасно, когда приходит в соприкосновение с какой-нибудь чувствительной материей. Помоги мне донести эти бутыли до дверей амбара, да обращайся с ними поосторожнее. Пеннант не стал задавать никаких вопросов. Он был так же сильно озабочен черна-желтой опасностью, как и сам Глиссон. Поэтому он взял часть ноши, и скоро бутыли со смертоносной жидкостью стояли у амбара. — Предстоящее нам дело очень опасно, не стану скрывать этот от тебя, — тихо пробормотал Глиссон. — Мы подвергаемся смертельной опасности, идя на бой с этими летающими чудовищами. Если они ужалят нас — мы погибли. Затем они с Пеннантом оделись в свои автомобильные костюмы, включая и очки, и тщательно обвязали рукавицы вокруг кистей рук. Покончив с этим, Глиссон достал пару фехтовальных масок, которыми они покрыли. головы, защитив шею и уши шерстяными шарфами. Снаряжение их дополнилось двумя большими медными шприцами. — Теперь ты понимаешь, что я собираюсь сделать, — заметил Глиссон. — Мы уничтожим этих чудовищ при помощи раствора серной кислоты. Дай мне только посмотреть на термометр… Было одиннадцать градусов мороза, а восточный ветер резал уже лицо, точно лезвие ножа. Глиссон взял в руки прожектор, распахнул двери амбара и осветил внутренность амбара с полу до крыши яркими лучами. С балки, на которую опиралась крыша, свешивался спутанный клубок черно-желтых тел ос, наполовину уснувших в морозном воздухе. Однако, ослепительный свет заставил их зашевелиться, а одно из гигантских насекомых отделилось от остальной массы и угрожающе затрепетало в воздухе с резким свистом крыльев, звучавшим, точно смертный приговор. На полу лежал скелет собаки, почти совершенно очищенный от мяса, с прицепившимся к нему десятком ос, находившихся в полусонном состоянии. Глиссон подал знак Пеннанту, и оба открыв внесенные бутылки с серной кислотой, наполнили ею свои шприцы. — Осторожнее, — предупредил Глиссон. — Спокойный человек всегда лучше сделает свое дело. Пытайся выпустить жидкость так, чтобы ни одна капля ее не попала на твои рукавицы. А теперь направь струю прямо на труп собаки. Кислота упала молчаливым дождем, куда было указано, и вслед за этим облако, окутанное в золотой пурпур, поднялось со скелета. Затем туман снова опустился, точно сгустившийся пар, и масса извивающихся тел рухнула в виде дымящейся смеси. — Наполни снова шприц. А теперь оба вместе — прямо в крышу. И было время. Полусонный клубок: зашевелился, и взбудораженные осы собирались уже напасть на людей, но их встретили две струи смертоносной жидкости. Сразу целый дождь обожженных крыльев упал на головы нападающих, и штук двадцать или больше тяжелых тел с грохотом посыпалось на пол. Снова понесся жгучий град капель кислоты, дымящейся и обращающейся в пар. Ужасный, резкий визг над головою постепенно замер, и наступила полная тишина. Ни одной из гигантских ос не осталось в живых.

Полусонный клубок под крышей зашевелился, и взбудораженные осы собирались уже напасть, на людей, но их встретили две струи смертоносной жидкости. Сразу целый дождь обожженных крыльев упал на головы Глиссона и Пеннанта, и десятки тяжелых тел с грохотом посыпались на пол.
Два друга стали быстро срывать с себя удушливую броню, точно люди, близкие к последнему издыханию. Да так и было в действительности. Резкий, холодный ночной воздух приятно оживил напряженные нервы и успокоил их. — Какое счастье, что мы покончили с этими тварями! — воскликнул взволнованно Глиссон. — Джим, никогда уж больше не стану я вмешиваться в установленное природой равновесие. Своевременный мороз явился истинным благодетелем. Не будь его, эти дьяволы непременно разлетелись бы. Слушай, Джим, эта история касается только нас и должна остаться нашим секретом. Давай подметем остатки и тщательно уничтожим все следы моего ужасного опыта…
ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция «Всемирного Следопыта» и «Вокруг Света» приносит свое глубокое извинение перед читателями в запоздании выхода обоих журналов и «Библиотеки», вызванном огромным ростом тиража этих изданий и необходимостью печатать второе издание их.

В. К. Арсеньев
УССУРИЙСКИЙ ЗВЕРОБОЙ
Краеведческо-охотничий рассказ (Окончание)
В первой половине рассказа, помещенной в № 1 «Следопыта», автор случайно знакомится в лесных дебрях с уссурийским зверобоем Дерсу, из племени гольдов, который поражает всех своим знанием таежной природы и умением ориентироваться в тайге. Автор описывает охоту на кабанов и ряд других эпизодов совместного с Дерсу путешествия.
На лодке по р. Лефу.
Когда совсем рассвело, Дерсу разбудил нас. Он согрел чай и изжарил мясо. После завтрака я отправил стрелков с лошадьми в Черниговку, затем мы спустили лодку в воду и тронулись в путь. Подгоняемая шестами, лодка наша хорошо шла по течению. Верст через пять мы достигли железнодорожного моста и остановились на отдых. Дерсу рассказал, что в этих местах он бывал еще мальчиком с отцом. После краткого отдыха мы поплыли дальше. Около железнодорожного моста горы кончились. Я вышел из лодки и поднялся на ближайшую сопку, чтобы в последний раз осмотреться во все стороны. Красивая панорама развернулась перед моими глазами. Сзади, на востоке, толпились горы; на юге были пологие холмы, поросшие лиственным редколесьем; на севере, насколько хватал глаз, расстилалось бесконечное низменное пространство, покрытое травой. Сколько я ни напрягал зрение, я не мог увидеть конца этой низины. Она уходила вдаль и скрывалась где-то за горизонтом. Порой по ней пробегал ветер. Низина эта казалась безжизненной и пустынной. Ярко блестевшие на солнце в разных местах лужи свидетельствовали о том, что долина р. Лефу в дождливый период года затопляется водой. К полудню мы доехали еще до одной возвышенности, расположенной на самом берегу реки с левой стороны. Сопка эта, высотою 60–70 саж., покрыта редколесьем из дуба, березы, липы, клена, ореха и акации. Во вторую половину дня мы проехали еще столько же и расположились биваком довольно рано. Долгое сиденье в лодке наскучило, и потому всем хотелось выйти, и размять онемевшие члены. Меня тянуло в поле. Олентьев и Марченко принялись устраивать бивак, а мы с Дерсу пошли на охоту. С первого же шага буйные травы охватили нас со всех сторон, Они были так высоки и так густы, что человек в них казался утонувшим. Внизу, под ногами, — трава; спереди и сзади — трава; с боков — тоже трава, и только вверху— голубое небо. Казалось, что мы шли по дну травяного моря. Это впечатление становилось еще сильнее, когда, взобравшись на какую-нибудь кочку, я видел, как степь волновалась. С робостью и опаской я опять погружался в траву и шел дальше. В этих местах так же легко заблудиться, как в лесу. Мы несколько раз сбивались с дороги, но тотчас же спешили исправить свои ошибки. Найдя какую-нибудь точку, я взбирался на нее и старался рассмотреть что-нибудь впереди. Дерсу хватал полынь руками и пригибал ее к земле. Я смотрел вперед, в стороны, и всюду передо мной расстилалось бесконечное волнующееся травяное море. Главное население этих болотистых степей — пернатое. Кто не бывал в низовьях р. Лефу во время перелета, тот не может себе представить, что там происходит. Тысячи тысяч птиц большими и малыми стаями тянулись к югу. Некоторые шли в обратном направлении, другие— наискось, в сторону. Вереницы их то подымались кверху, то опускались вниз, и все разом, ближние и дальние, мелькали на фоне неба, в особенности внизу, около горизонта, который вследствие этого казался затянутым паутиной. Выше всех были орлы. Распластав свои могучие крылья, они парили, описывая большие круги. Ниже их, но все же высоко над землей, летели гуси. Эти осторожные птицы шли правильными косяками и, тяжело, вразброд махая крыльями, оглашали воздух своими сильными криками. Рядом с ними летели казарки и лебеди. Внизу, ближе к земле, с шумом неслись торопливые утки. Тут были стаи грузной кряквы, которую легко можно было узнать по свистящему шуму, издаваемому ее крыльями. Совсем над водою тысячами летели чирки и другие мелкие утки. Там и сям в воздухе виднелись канюки и пустельга. Грациозные и подвижные чайки и изящные проворные крачки своей снежной белизной мелькали в синеве лазурного неба. Кроншнепы летели легко, плавно и при полете своем делали удивительно красивые повороты. Остроклювые крохали налету посматривали по сторонам, точно выискивали место, где бы им можно было остановиться. Сивки-моряки держались болотистых низин. Лужи стоячей воды, видимо, служили для них вехами, по которым они и держали направление. И вся эта масса птиц неслась к югу.
Маршрут путешествия В. К. Арсеньева от залива Петра В. к озеру Ханка (обозначен черным пунктиром). В верхнем правом углу — ориентировочная карта Уссурийского края.
Вдруг совершенно неожиданно перед нами пробежали две козули. Они были от нас шагах в шестидесяти. В густой траве их почти не было видно — мелькали только головы с растопыренными ушами и белые пятна около задних ног. Отбежав шагов полтораста, козули остановились. Я выпалил из ружья — и промахнулся. Раскатистое эхо подхватила звук выстрела и далеко разнесло его по реке. Тысячи птиц поднялись от воды и с криками полетели во все стороны. Испуганные козули сорвались с места и снова пошли большими прыжками. Тогда прицелился Дерсу. И в тот момент, когда голова одной из них показалась над травою, он спустил курок. Когда, дым рассеялся, животных уже не было видно. Гольд снова зарядил свою винтовку и не торопясь пошел вперед. Я молча последовал за ним. Дерсу огляделся, потом повернулся назад, пошел в сторону и опять вернулся обратно. Видно было, что он что-то искал. — Кого ты ищешь? — спросил я его. — Козулю, — ответил гольд. — Да ведь она ушла… — Нет, — сказал он уверенно. — Моя в голову его попади. Я принялся тоже искать убитое животное, хотя и не совсем верил гольду. Мне казалось, что он ошибся. Минут через десять мы нашли козулю. Голова ее оказалась действительно простреленной. Дерсу взвалил ее себе на плечи и тихонько пошел обратно. На бивак мы возвратились уже в сумерки. После ужина Дерсу и Олентьев принялись свежевать козулю, а я занялся своей работой. На следующий день мы встали довольно рано, наскоро напились чаю, уложили свои пожитки в лодку и поплыли вниз по р. Лефу. Чем дальше, тем извилистее становилась река. Течение становилось медленнее. Шесты, которыми мои спутники проталкивали лодку вперед, упираясь в дно реки, часто вязли, и настолько крепко, что вырывались из рук. Почва около берегов более или менее твердая, но стоит только отойти немного в сторону, как сразу попадешь в болото. Среди зарослей скрываются длинные озерки. К вечеру мы немного не дошли до р. Черниговки и стали биваком на узком перешейке между ней и небольшой протокой. Сегодня был особенно сильный перелет. Олентьев убил несколько уток, которые и составили нам превосходный ужин. Когда стемнело, все птицы прекратили свой лет. Кругом сразу водворилась тишина. Можно было подумать, что степи эти совершенно безжизненны, а, между тем, не было ни одного озерка, ни одной заводи, ни одной протоки, где не ночевали бы стаи лебедей, гусей, крохалей, уток и другой водяной птицы.

Чем дальше, тем извилистее становилась река. Течение становилось медленнее. Шесты, которыми проталкивалась лодка вперед, вязли…
…В этот день был особенно сильный перелет.
Вечером Марченко и Олентьев улеглись спать раньше нас, а мы с Дерсу, по обыкновению, сидели и разговаривали. Забытый на огне чайник настойчиво напоминал о себе шипением. Дерсу отставил его немного, но чайник продолжал гудеть. Дерсу отставил его еще, но чайник все же продолжал гудеть. Дерсу отставил его еще дальше. Тогда чайник запел тоненьким голосом. — Как его кричи, — сказал Дерсу. — Худой люди. Он вскочил и вылил горячую воду на землю. — Как «люди»? — спросил я его в недоумении. — Вода, — отвечал он просто. — Его могу кричи, могу плакать, могу тоже играй. Идолго еще говорил, этот первобытный человек о своем мировоззрении. Он представлял себе живую силу в воде, — и в тихом течении ее и во время наводнений. — Посмотри, — сказал Дерсу, указывая на огонь. — Его тоже все равно люди. Я взглянул на костер. Дрова искрились и трещали. Огонь вспыхивал то длинными, то короткими; языками, то становился ярким, то тусклым; из углей слагались замки, гроты; потом все это разрушалось и созидалось вновь. Дерсу умолк, а я долго сидел и смотрел на «живой огонь». В реке шумно всплеснула рыба. Я вздрогнул и посмотрел на Дерсу. Он сидел и дремал. В степи попрежнему было тихо. Звезды на небе показывали полночь. Подбросив дров в костер, я разбудил гольда, и мы оба стали укладываться на ночь. На следующий день мы все проснулись очень рано. Как только начала заниматься заря, пернатое царство поднялось на воздух, и с шумом; и гамом снова понеслось к югу. Первыми снялись гуси, за ними пошли лебеди, потом утки, и уже последними тронулись остальные перелетные птицы. Сначала они низко летели над землею, но по мере того, как становилось светлее, поднимались все выше и выше. До восхода солнца мы успели отплыть от бивака верст восемь и дошли до горы Чайдынза, покрытой ильмом и осиной. Здесь долина реки Лефу достигает шириной более сорока верст. С левой стороны ее на огромном протяжении тянутся сплошные болота. Лефу разбивается на множество рукавов, которые имеют десятки верст длины. Рукава разбиваются на протоки и в свою очередь дают ответвления. Эти протоки тянутся широкой полосой по обе стороны реки и образуют такой лабиринт, в котором очень легко заблудиться, если не держаться главного русла и польститься на какой-нибудь рукав в надежде сократить расстояние. Мы плыли по главному руслу, и только в случае крайней нужды сворачивали в сторону с тем, чтобы при первой же возможности выйти на реку снова. Протоки эти, заросшие лозой и камышами, совершенно скрывали нашу лодку. Мы подвигались тихо и нередко подходили к птицам ближе, чем на ружейный выстрел. Иногда мы задерживались нарочно и подолгу рассматривали их. Прежде всего, я заметил белую цаплю с черными ногами и желто-зеленым клювом. Она чинно расхаживала около берега, покачивала в такт головой и внимательно рассматривала дно реки. Заметив лодку, птица подпрыгнула два. раза, грузно поднялась на воздух и… Отлетев немного, снова опустилась на соседней протоке. Потом мы увидели выпь. Серовато-желтая окраска перьев, грязно-желтый клюв, желтые глаза и такие же желтые нош делают ее удивительно непривлекательной. Эта угрюмая птица ходила сгорбившись по песку и все время преследовала подвижного и хлопотливого кулика-сороку. Кулик отлетал немного, и как только садился на землю, выпь тотчас же направлялась туда шагом; когда подходила близко, бросалась бегом, стараясь ударить его своим острым клювом. Заметив лодку, выпь забилась в траву, вытянула шею и, подняв голову кверху, замерла на месте. Когда лодка проходила мимо, Марченко выстрелил в выпь, но не попал, хотя пуля прошла так близко, что задела рядом с ней камышины. Выпь не шелохнулась. Дерсу рассмеялся. — Его шибко хитрый люди. Постоянно так обмани, — сказал он. Действительно, теперь выпь нельзя уже было заметить. Окраска ее оперения и поднятый кверху клюв совершенно затерялись в траве.

Выпь забилась в траву, вытянула шею и, подняв голову кверху, замерла.
Дальше мы увидели опять новую картину. Низко над водой, около берега, на ветке лозняка уединенно сидел зимородок. Эта маленькая птичка с большой головой и большим клювом, казалось, дремала. Вдруг она ринулась в воду, нырнула и снова показалась на поверхности, держа в клюве маленькую рыбку. Проглотив добычу, зимородок сел на ветку и опять погрузился в дремоту, но, услышав шум приближающейся лодки, с криком понесся вдоль реки. Яркой синевой мелькнуло его оперение. Отлетев немного, он опять уселся на куст, потом отлетел еще дальше и, наконец, совсем скрылся за поворотом реки. Раза два мы встречали болотных курочек-лысух. Эти черные, ныряющие птички с длинными тонкими ногами легко и свободно ходили по листьям водяных растений, но в воздухе казались беспомощными. Видно было, что это не их родная стихия. Погода нам благоприятствовала. Стоял один из тех теплых осенних дней, которые так часто бывают в Южно-Уссурийском крае в октябре. Небо было совершенно безоблачное, ясное; легкий ветерок тянул с запада. Такая погода бывает часто обманчива, и нередко после нее начинают дуть холодные северо-западные ветры; чем дольше стоит такая тишь, тем резче будет перемена. Часов в одиннадцать утра мы сделали большой привал около реки Люганки. Во вторую половину дня мы прошли еще верст двенадцать и стали биваком на одном из многочисленных островов. В этот день мы имели случай наблюдать на востоке теневой сегмент земли. Вечерняя заря переливалась особенно яркими красками. Сначала она была бледная, потом стала изумрудно-зеленой, и по этому зеленому фону, как расходящиеся столбы, поднялись из-за горизонта два светло-желтых луча. Через несколько минут лучи пропали. Зеленый свет зари сделался оранжевым и потом — красным. Самое последнее явление заключалось в том, что багрово-красный горизонт стал темным, словно от дыма. Одновременно с закатом солнца на востоке появился теневой сегмент земли. Одним концом он касался северного горизонта, другим — южного. Внешний край этой тени был пурпуровый, и чем ниже спускалось солнце, тем выше поднимался теневой сегмент. Скоро пурпуровая полоса слилась с красной зарей на западе, и тогда наступила темная ночь. Я смотрел и восторгался, но в это время услышал, что Дерсу ворчит: — Понимай нету. Я догадался, что это замечание относилось ко мне, и спросил его, в чем дело. — Это худо, — сказал он, указывая на небо. — Моя думай, будет большей ветер. Вечером мы недолго сидели у огня. Утром мы встали рано, за день утомились и поэтому, как только поужинали, тотчас же легли спать. Предрассветный наш сон был какой-то тяжелый. Во всем теле чувствовались истома и слабость, движения были вялые. Так как это состояние ощущалось всеми одинаково, то я испугался, думая, что мы заболели лихорадкой или чем-нибудь отравились, но Дерсу успокоил меня, сказав, что это всегда бывает при перемене погоды. Нехотя мы поели и нехотя поплыли дальше. Погода была теплая, ветра не было совершенно; камыши стояли неподвижно и как будто дремали. Дальние горы, виденные нами ясно, теперь совсем утонули во мгле. По бледному небу протянулись тонкие растянутые облачка, а около солнца появились венцы. Я заметил, что кругом уже не было такой жизни, как накануне. Куда-то исчезли и гуси, и утки, и все мелкие птицы. По словам Дерсу, птицы любят двигаться против ветра. При полном штиле и во время теплой погоды они сидят на болотах. Если ветер дует им вслед, они зябнут, потому что холодный воздух проникает под перья. Тогда птицы прячутся в траве. Только неожиданное выпадение снегов может принудить пернатых лететь дальше, не взирая на ветер и стужу.
На озере Ханка.
Чем ближе мы подвигались к озеру Ханка, тем болотистее становилась равнина. Деревья по берегам проток исчезли, и их место заняли редкие тощие кустарники. Замедление течения в реке тотчас сказалось, на растительности. Появились лилии, кувшинки, курослеп, водяной орех и т. п. Иногда заросли травы были так густы, что лодка не могла пройти сквозь них, и мы вынуждены были делать большие обходы. С каждым днем ориентировка становилась все труднее и труднее. Раньше по деревьям можно было далеко проследить реку, теперь же нигде не было даже кустов; вследствие этого на несколько сажен вперед нельзя было сказать, куда свернет протока: влево или вправо. Предсказание Дерсу сбылось. В полдень начал дуть ветер о юга. Он постепенно усиливался и в то же время менял направление к западу. Гуси и утки снова поднялись на воздух и полетели низко над землею. В одном месте было много плавникового леса, принесенного сюда во время наводнений. На р. Лефу этим пренебрегать нельзя, иначе рискуешь заночевать без дров. Через несколько минут стрелки разгружали лодку, а Дерсу раскладывал огонь и ставил палатку. До озера Ханка оставалось немного, но для того, чтобы достигнуть его на лодке, нужно было пройти еще верст пятнадцать, а напрямик, целиною, — не более двух с половиной или трех верст. Было решено, что завтра мы, вместе с Дерсу, пойдем пешком и к сумеркам вернемся назад. Олентьев и Марченко должны были остаться на биваке и ждать нашего возвращения. Вечером у всех было много свободного времени. Мы сидели у костра, пили чай и лениво разговаривали. Сухие дрова горели ярким пламенем. Камыши качались и шумели, и от этого шума ветер казался сильнее, чем он был на самом деле. На небе лежала мгла, и сквозь нее чуть-чуть только виднелись крупные звезды. На другой день, часов в десять утра, сделав нужные распоряжения, мы с Дерсу отправились в путь. Полагая, что к вечеру возвратимся назад, мы пошли налегке, оставив вое лишнее на биваке. На всякий случай под тужурку я одел фуфайку, а гольд захватил с собой полотнище палатки и две пары меховых чулок. По дороге он часто посматривал на небо, что-то говорил сам с собою и затем обратился ко мне с вопросом: — Как, капитан, наша скоро назад ходи или нет? Моя думай ночью будет худо. Я ответил ему, что до озера Ханка недалеко и что задерживаться мы там не будем. Дерсу был сговорчив. Его всегда можно было легко уговорить. Он считал своим долгом предупредить об угрожающей опасности, и если видел, что его не слушают, покорялся, шел молча и никогда не спорил. — Хорошо, капитан, — сказал он мне в ответ. — Тебе сам посмотри, а моя — «как ладно, так и ладно». — Последняя фраза была обычной формой выражения им своего согласия. Итти можно было только по берегам протоков и озерков, где почва была немного суше. Мы направились левым берегом той протоки, около которой был расположен наш бивак. Она долгое время шла в желательном для нас направлении, но потом вдруг круто повернула назад. Мы оставили ее и, перейдя через болотце, вышли к другой, узкой, но очень глубокой протоке. Перепрыгнув через нее, мы снова пошли камышами. Затем я помню, что еще другая протока появилась у нас слева, — мы направились по правому ее берегу. Заметив, что она загибается к югу, мы бросили ее и некоторое время шли целиной, обходя лужи стоячей воды и прыгая с кочки на кочку. Так, вероятно, прошли мы версты три. Наконец, я остановился, чтобы ориентироваться. Теперь ветер дул с севера, как-раз со стороны озера. Тростник сильно качался и шумел. Порой ветер пригибал его к земле, и тогда являлась возможность разглядеть то, что было впереди. Северный горизонт был затянут какой-то мглой, похожей на дым. Сквозь тучи на небе неясно просвечивало солнце, и это казалось мне хорошим предзнаменованием. Наконец, мы увидели озеро Ханка. Оно пенилось и бурлило. Дерсу обратил мое внимание на птиц. Он заметил у них что-то такое, что начало его беспокоить. Это не был спокойный перелет, это было торопливое бегство. Птица, как говорят охотники, шла валом и в беспорядке. Гуси летели низко, почти над самой землей. Странный вид имели они, когда двигались нам навстречу и находились на линии зрения. В это время они были похожи ка древних летучих ящеров. Ни ног, ни хвоста не было видно, — виднелось что-то кургузое, машущее длинными крыльями и приближающееся с невероятной быстротой. Увидев нас, гуси сразу взмывали кверху, но, обойдя опасное место, опять выстраивались в прежнем: порядке и снова снижались. Около полудня мы с Дерсу дошли до озера Ханка. Грозный вид имело теперь это пресное море. Вода в нем кипела, как в котле. После долгого пути по травяным болотам вид свободной водяной стихии доставлял большое удовольствие. Я сел на песок и стал глядеть в воду. Озеро было пустынно. Нигде ни одного паруса, ни одной лодки. — Утка кончай ходи, — произнес Дерсу. Действительно, перелет птиц сразу прекратился. Черная мгла, которая прежде была у горизонта, вдруг стала подниматься кверху. Солнца теперь уже совсем не было видно. По темному небу, покрытому тучами, точно в перегонку бежали отдельные белесоватые облака. Края их были разорваны и висели клочьями, словно грязная вата. — Капитан, надо наша скоро ходи назад, — сказал Дерсу. — Моя мало-мало боится. В самом деле, пора было подумать о возвращении на бивак. Мы переобулись и пошли обратно. Дойдя до зарослей, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на озеро. Точно раз’яренный зверь на привязи, оно металось в своих берегах и вздымало кверху желтоватую пену. — Вода прибавляй есть, — сказал Дерсу, осматривая протоку. Он был прав. Сильный ветер гнал воду к устью Лефу, вследствие чего река вышла из берегов и понемногу стала затоплять равнину. Вскоре мы подошли к какой-то большой протоке, преграждавшей нам путь. Место это мне показалось незнакомым. Дерсу тоже не узнал его, остановился, подумал немного и пошел влево. Протока стала поворачивать и ушла куда-то в сторону. Мы оставили ее и пошли напрямик к югу. Через несколько минут мы попали в топь и должны были возвратиться назад к протоке. Тогда мы повернули направо, наткнулись на новую протоку и перешли ее вброд. Отсюда мы пошли на восток, но попали в трясину. В одном месте мы нашли сухую полоску земли. Как мост, тянулась она через болото. Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед и, пройдя с полверсты, очутились на сухом месте, густо заросшем травой. Я взглянул на часы. Было около четырех часов пополудни, а, казалось, как будто наступили уже сумерки. Тяжелые тучи опустились ниже и быстро неслись к югу. По моим соображениям, до реки оставалось не более двух с половиной верст. Одинокая сопка вдали, против конторой был наш бивак, служила нам ориентировочным пунктом. Заблудиться мы не могли, могли только запоздать. Вдруг совершенно неожиданно перед нами очутилось довольно большое озеро. Мы решили его обойти. Но оно оказалось длинным. Тогда мы пошли влево. Шагов через полтораста перед нами появилась новая протока, идущая к озеру под прямым углом. Мы бросились в другую сторону, «о вскоре опять подошли к тому же зыбучему болоту. Тогда я решил еще раз попытать счастья в правой стороне. Скоро под ногами стала хлюпать вода; дальше виднелись большие лужи. Стало ясно, что мы заблудились. Дело принимало серьезный оборот. Я предложил гольду вернуться назад и разыскать тот перешеек, который привел нас на этот остров. Дерсу согласился. Мы пошли обратно, но вторично его найти уже не. могли. Вдруг ветер сразу упал. Издали донесся до нас шум озера Ханка. Начало смеркаться, и одновременно с тем в воздухе закружилось несколько снежинок. Штиль продолжался всего только несколько минут, и вслед затем налетел вихрь. Снег пошел сильнее. «Придется ночевать», — подумал я, и вдруг вспомнил, что на этом острове нет дров: ни единого деревца, ни единого кустика, — ничего, кроме воды и травы. Я испугался. — Что будем делать? — спросил я Дерсу. — Мой шибко боится, — отвечал он. Тут только я понял весь ужас нашего положения. Ночью, во время пурги, нам приходилось оставаться среди болот, без огня и без теплой одежды. Единственная моя надежда была на Дерсу. В нем одном я видел свое спасение. — Слушай, капитан, — сказал он, — хорошо слушай. Надо наша скоро работай. Хорошо работай нету — наша пропал. Надо скоро резать траву. Я не спрашивал его, зачем это было нужно. Для меня было только одно понятно: надо скорей резать траву. Мы быстро сняли с себя все снаряжение и с лихорадочной поспешностью принялись за работу. Пока я собирал такую охапку травы, что ее можно было взять в одну руку, Дерсу успевал нарезать столько, что еле охватывал двумя руками. Ветер дул порывами и с такой силой, что стоять на ногах было почти невозможно. Моя одежда стала смерзаться. Едва успевали мы положить на землю срезанную траву, как сверху ее тотчас же заносило снегом. В некоторых местах Дерсу не велел резать траву. Он даже сердился, когда я его не слушал. — Тебе понимай нету! — кричал он. — Тебе надо слушай и работай. Моя понимай. Дерсу взял ремни от ружей, взял свой пояс, у меня в кармане нашлась веревочка. Все это он свернул и сунул к себе за пазуху. Становилось все темнее и холоднее. Благодаря выпавшему снегу, можно было кое-что еще рассмотреть на земле. Дерсу двигался с поразительной энергией. В голосе его слышались нотки страха и негодования. Тогда я снова брался за нож и работал до изнеможения. На рубашку мне навалилось много снегу. Он стал таять, и я почувствовал, как холодные струйки воды побежали по спине. Я думаю, что мы резали траву более часа. Резкий, пронзительный ветер и колючий снег нестерпимо резали лицо. У меня озябли руки. Я стал согревать их дыханием и в это время обронил нож. Заметив, что я перестал работать, Дерсу вновь крикнул мне. — Капитан, работай! Моя шибко боится! Скоро пропади! Я сказал, что потерял нож. — Рви траву руками! — крикнул он, стараясь перекричать шум ветра. Автоматически, почти бессознательно я стал ломать камыши и порезал руки, но боялся оставить работу и продолжал рвать траву до тех пор, пока окончательно не обессилел. В глазах у меня начали ходить круги, зубы стучали, как в лихорадке, намокшая одежда коробилась и трещала. На меня напала дремота. «Так вот как замерзают», — мелькнуло у меня в голове, и вслед затем я впал в какое-то забытье. Сколько времени продолжалось это обморочное состояние, не знаю. Вдруг я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я очнулся. Надо мною наклонившись стоял Дерсу. — Становись на колени, — сказал он мне.
Автоматически, почти бессознательно я стал ломать камыши и порезал руки, но, боясь оставить работу, продолжал рвать траву.
Я повиновался и уперся руками в землю. Дерсу накрыл меня своей палаткой, а затем сверху стал заваливать травой. Сразу стало теплее. Закапала вода. Дерсу долго ходил вокруг, подгребал снег и утаптывал его ногами. Я начал согреваться, потом впал в тяжелое дремотное состояние. Мне показалось, что я долго спал. Вдруг я услышал голос Дерсу: — Капитан, подвинься… Я сделал над собой усилие и прижался в сторону. Гольд вполз под палатку, лег рядом со мной и стал покрывать нас обоих своей кожаной курткой. Я протянул руку и нащупал на ногах у себя знакомую мне меховую обувь. — Спасибо, Дерсу, — говорил я ему. — Покрывайся сам. — Ничего, ничего, капитан, — отвечал он. — Теперь бояться не надо. Моя крепко трава вяжи. Ветер ломай не могу. Чем больше засыпало нас снегом, тем теплее становилось в нашем импровизированном шалаше. Капанье сверху прекратилось. Снаружи доносилось завывание ветра. Точно где-то гудели гудки, звонили в колокола. Потом мне стали грезиться какие-то пляски, песни, куда-то я медленно падал все ниже и ниже и, наконец, погрузился в долгий и глубокий сон… Так, вероятно, мы проспали часов двенадцать. Когда я проснулся, было темно и тихо. Вдруг я заметил, что лежу один. Я поспешно вылез наружу и невольно закрыл глаза рукой. Кругом все белело от снега. Воздух был свежий, прозрачный. Морозило. По небу плыли разорванные облака; кое-где виднелось синее небо. Хотя кругом было еще хмуро и сумрачно, но уже чувствовалось, что скоро выглянет солнце. Прибитая снегом трава лежала полосами. Дерсу собрал немного сухой ветоши, развел небольшой огонек и сушил на нем мои обутки. Теперь я понял, почему Дерсу в некоторых местах не велел резать траву. Он скрутил ее и при помощи ремней и веревок перетянул верх шалаша, чтобы его не разметало ветром. Первое, что я сделал, это— поблагодарил Дерсу за спасение. — Наша вместе ходи, вместе работай. Спасибо не надо, — ответил Дерсу и, как бы желая перевести разговор на другую тему, добавил: — Сегодня ночью много люди пропади. Я понял, что «люди», о которых говорил Дерсу, были пернатые. После этого мы разобрали травяной шатер, взяли ружья и пошли снова искать перешеек. Оказалось, что наш бивак был очень близко от него. Перейдя через болото, мы прошли немного по направлению к озеру Ханка, а потом свернули на восток к р. Лефу. После пурги степь казалась безжизненной и пустынной. Гуси, утки, чайки, крохали, — все это куда-то исчезло. По буро-желтому фону большими пятнами белели болота, покрытые снегом. Итти было хорошо: мокрая земля подмерзла и выдерживала тяжесть ноги человека. Скоро мы вышли на реку, а через час были на биваке. Олентьев и Марченко не беспокоились о нас. Они думали, что около озера Ханка мы нашли жилье, и остались там ночевать. Я переобулся, напился чаю, лег у костра и крепко заснул. По другую сторону огня спал Дерсу. На следующий день утром ударил крепкий мороз. Вода всюду замерзла, по реке шла шуга. Переправа через протоки Лефу отняла у нас целый день. Мы часто попадали в слепые рукава и должны были возвращаться назад. Пройдя длинной протокой версты две, мы свернули в соседнюю. Она оказалась узкой и извилистой. Там, где эта извилистая протока опять соединялась с главным руслом, высилась отдельная коническая сопка, покрытая порослью дубняка. Здесь мы и заночевали. Это был последний наш бивак. Отсюда следовало итти походным порядком в Черниговку, где нас ожидали остальные люди с конями. Уходя с бивака, Дерсу просил Олентьева помочь ему вытащить лодку на берег. Он старательно очистил ее от песку и обтер травою, затем перевернул ее вверх дном и поставил на катки. Я уже знал, что это делается для того, чтобы какой-нибудь «люди» мог в случае нужды ею воспользоваться. Утром мы распрощались с рекой Лефу. В тот же день после полудня пришли в деревню Дмитровку, расположенную по другую сторону Уссурийской железной дороги. В деревне мы встали по квартирам, но гольд не хотел итти в избу, — он, по обыкновению, остался ночевать под открытым небом. Вечером я соскучился о нем и пошел его искать. Ночь была хотя и темная, но, благодаря выпавшему снегу, можно было кое-что рассмотреть. Во всех избах топились печи. Беловатый дым струйками выходил из труб и спокойно подымался кверху. Вся деревня курилась. Из окон домов выходил свет на улицу и освещал сугробы. В другой стороне, «на задах», около ручья виднелся огонь. Я догадался, что это бивак Дерсу, и направился прямо туда. Гольд сидел у костра, о чем-то думая. — Пойдем в избу чай пить, — сказал я ему. Он не ответил мне, и, в свою очередь, задал вопрос: — Куда завтра ходи? Я ответил, что пойдем в Черниговку, а оттуда — во Владивосток, и стал приглашать его с собой. Я обещал в скором времени опять пойти в тайгу, предлагал жалованье… Мы оба задумались. Не знаю, что думал он, но я почувствовал, что в сердце мое закралась тоска. Я стал снова рассказывать ему про удобства и преимущества жизни в городе. Дерсу слушал молча. Наконец, он вздохнул и проговорил: — Нет, спасибо, капитан. Моя Владивосток не могу ходи. Чего моя там работай? Охота нету, соболя гоняй тоже не могу. Город живи — моя скоро пропади. «В самом деле, — подумал я. — Житель лесов не выживет в городе, и не делаю ли я худа, что сбиваю его с того пути, на который он встал с детства»… Дерсу замолчал. Он, видимо, обдумывал, что делать ему дальше. Потом, как бы отвечая на свои мысли, сказал: — Завтра моя прямо ходи. — Он указал рукою на восток. — Четыре солнца ходи. Моя слыхал, там на морской стороне чего-чего много: соболь есть, олень тоже есть. Долго мы еще сидели с ним у огня и разговаривали. Ночь была тихая и морозная. Изредка набегающий ветерок чуть шелестел дубовой листвою, еще не опавшей на землю. В деревне давно уже все спали, только в том доме, где поместился я вместе со стрелками, светился огонек. Созвездие «Ориона» показывало полночь. Наконец, я встал, попрощался с гольдом, пошел к себе в избу и лег спать. Непонятная тоска овладела мною. За ото короткое время я успел привязаться к Дерсу. Теперь мне жаль было с ним расставаться. С этими мыслями я задремал. На следующее утро первое, что я вспомнил, это то, что Дерсу должен уйти от нас. Напившись чаю, я поблагодарил хозяев и вышел на улицу. Мои товарищи были уже готовы к выступлению, Дерсу был тоже с ними. С первого же взгляда я увидел, что он снарядился в далекий путь. Котомка его была плотно уложена, пояс затянут, унты хорошо надеты. Отойдя от Дмитровки с версту, Дерсу остановился. Настал тяжелый момент расставания. — Прощай, Дерсу, — оказал я ему, пожимая руку, — желаю тебе всего хорошего. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Прощай. Быть может, когда-нибудь увидимся. Дерсу попрощался с моими спутниками, затем кивнул мне головой и пошел в кусты налево. Мы остались на месте и смотрели ему вслед. В ста саженях от нас высилась небольшая горка, поросшая мелким кустарником. Минут через пять он дошел до нее. На светлом фоне неба отчетливо вырисовывалась его фигура с котомкой и ружьем за плечами и с сошкой в руке. В этот момент яркое солнце взошло из-за гор, осветив гольда. Поднявшись на гривку, он остановился, повернулся к нам лицом, помахал рукой и скрылся за гребнем. Словно что-то оторвалось у меня в груди. Я почувствовал, что потерял близкого мне человека. — Хороший он человек, — сказал Марченко. — Да, таких людей мало — ответил ему Олентьев. «Прощай Дерсу, — думал я. — Ты спас мне жизнь. Я никогда не забуду этого…». К сумеркам мы дошли до Черниговки и присоединились к отряду. Вечером в тот же день я выехал во Владивосток к месту своей постоянной службы.
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Идя навстречу потребности читателей в добавочном чтении, Изд-во решило предоставить всем ЖЕЛАЮЩИМ подписчикам «Всемирного Следопыта» (независимо от сроков их подписки) за небольшую доплату — 1 р, 60 к., в качестве дополнительных приложений, ПЯТЬ следующих книг: 1) Энве. «История одного коммунара». Историч. роман. 200 стр. 2) К. Шильдкрет. «Рожденные бурей». Роман. 194 стр. 3) Гумберто Нотари. «Три вора». Роман. 121 стр. 4) Д. Петровский. «Повстання». (Партизаны— 1918 г.). 150 стр. 5) А. Л. Цветков-Просвещенский. «В изгнании» (жизнь и режим сибирской ссылки). 122 стр. Доплата за приложения (1р. 60 к.), независимо от того, где была произведена подписка на журнал (в Изд-ве, через почту, через какую-либо экспедицию печати или контрагента), должна высылаться НЕПОСРЕДСТВЕННО В АДРЕС Изд-ва: Москва, Центр, Кузнецкий Мост, 13, Изд-во «Земля и Фабрика». При доплате на купон перевода надо наклеивать адресный ярлык, или указывать, когда и где была произведена подписка.

Георгий Гайдовский
ЧЕРНОМОРСКИЕ КОНТРАБАНДИСТЫ
Шхуна «Два Друга»
Рассказ
Капитан с «Ильича» передал Вострову, что на траверсе Алушты он видел двухмачтовую шхуну. Шхуна дрейфовала, а при подходе парохода подняла всю парусину и ушла в море. По мнению капитана, это была шхуна известного контрабандиста Сейфи Магаладжи — «Два Друга». Востров густо сплюнул и сказал: — Айда, ребята, туркам ребра щупать! Еще в третий раз не прогудел «Ильич», как мы снялись с якоря и вышли в море. Западный ветер дул нам в лицо и гнал большую волну, которая свирепо разбивалась о нос нашего баркаса. Мотор работал исправно, и белая пена вырывалась из-под кормы. Сильно качало. В баркасе нас было четверо: Востров, двое красноармейцев из пограничной охраны, и я, случайный спутник. Красноармейцы сидели на дне баркаса, положив винтовки на дно. Востров правил, одним глазом следя за мотором. Нос баркаса высоко взлетал над волнами, и казалось, что, того и гляди, баркас оторвется от воды и полетит… Над волнами летали чайки, купаясь в морской пене и ловя рыбу. Туманная мгла, окутавшая небосклон, предвещала сильный ветер. Востров хитро поглядел на меня и сказал: — Боишься? — Нет. — Барометр падает. — Чорт с ним, пусть падает! Один из красноармейцев, украинец Иващенко, поглядел на небо и сказал: — Ото ж хмара яка, це ж не море, а сплошное недурозумение. Сильная волна дернула баркас и окатила нас брызгами. Востров крепче сжал руль, бившийся у него в руках, и прибавил ходу. — Иващенко! — закричал он. — Натяни брезент на нос! Иващенко покосился на Вострова, ничего не ответил и, держась за банки, полез к носу. Сидя на корме, я видел, как он то проваливался вниз, исчезая в брызгах, то взлетал кверху. Неспеша, аккуратно привязал он брезент, и пополз обратно. — Страшно, Федя?! — закричал ему Востров, целя носом баркаса поперек волны. — Страшно?! А звестно страшно, це ж не земля. Красноармейцы: были последнего призыва, оба молодые, безусые и розовые. Казалось, что от них еще молоком пахнет. Ветер крепчал. Море уже покрылось барашками, и пышная пена катилась по воде. Со всех сторон подымались водяные холмы, обрушивались, снова подымались и снова с шумом и грохотом валились. — Это что… — сказал Востров. — Это пустяки! Свежеет… Молись своему богу, Федя! — Мой бог был, да весь вышел, — ответил Иващенко и начал скручивать цыгарку. Его сосед впервые зашевелился и сказал: — Дай табаку. Они свернули самокрутки и закурили. Востров поглядел на меня и радостно закричал: — Благодать! Ах, благодать какая! Генуэзская крепость, Сокол, Новый Свет оставались позади. Востров взял сильнее в море, и волна начала бить в борт. Баркас беспомощно закачался, винт поднялся над водой и, лишенный сопротивления, бешено завертелся. Я невольно вздрогнул и Востров почувствовал мое движение. — Ничего! Держись крепче! Несколько минут на баркасе царило молчание, потом безмолвный до сих пор красноармеец произнес: — Товарищ Востров, никак в море судно. — Где? — С левого борта. Востров передал мне руль и встал. Руль бешено рвался из моих рук, волна поворотила баркас, баркас накренился, черпая бортом воду. — Лево руля! — закричал Востров, — баркас потопишь! Я сжал зубы так, что они заскрипели, и переложил руль. Баркас выпрямил ход. и снова начал резать волны носом. Востров, с трудом сохраняя равновесие, смотрел в бинокль, потом сел и, взяв от меня руль, сказал: — Чуть баркас не опрокинул. Он, как лошадь норовистая, — крепко держать надо… Верно. Там шхуна. Востров ускорил ход, и мы неслись, почти вылетая из воды. — Ну, ребятельники! — закричал Востров. — Готовь винты![2]). Пропади я на этом самом месте, если на шхуне не сам Сейфи со своей лавочкой. На шхуне нас заметили. Видно было, как там засуетились и начали подымать паруса. Шхуна сильно накренилась и круто к ветру пошла в море. Налетел сильный порыв ветра, шхуна снова накренилась. На шхуне начали брать рифы. Она легко пошла, скользя о волны на волну. Мы догоняли шхуну, но она, становясь все круче к ветру, ускоряла ход. Ветер свистел в ушах, брызги обдавали наше суденышко, и мы сидели мокрые и продрогшие. — Юра, друг, — сказал внезапно Востров, пристально вглядываясь в уходящую шхуну. — Держи руль. Парус ставить будем. Винт то-и-дело появлялся над волнами, и мы заметно теряли скорость, в то время, как шхуна под зарифленными парусами двигалась все быстрее и быстрее. Ощутив в руках рукоятку руля, я сразу покрылся испариной, и чувство ответственности лишило меня возможности следить за действиями Вострова и красноармейцев. Внезапно баркас рванулся вперед и почти лег на бок. Волна взметнулась над бортом и с шумом опрокинулась на баркас. Сквозь вой ветра и шум беснующейся воды я услыхал голос Вострова: — Крепи фал, подлец! Федя, качай воду!.. Баркас выровнялся. Я не заметил, как Востров оказался рядом со мной, держа в руках шкот. Жалобно скрипел блок, через который шкот был продернут. Слышался шум вычерпываемой воды. Востров говорил: — Так их к чортовой матери. Баркас потоплю, а нагоню! Держи на волну! Лево руля! Так… Я видел, как взлетал нос нашего баркаса над волной, и потом мы нырнули во впадину между двух волн. Когда я взглянул на горизонт, мне показалось, что шхуна стала ближе. Солнце садилось за горами. Облака окрасились в оранжевый цвет, и волны заиграли тоже оранжевыми бликами. Паруса на шхуне стали розовыми. Теперь ясно было, что мы нагоняем. Уже видно было, как полуголые турки суетились на палубе, перекладывая паруса. Ветер зашел, и этим моментом мы воспользовались, сразу нагнав шхуну, на носу которой красовалась надпись: «Два Друга». Вострое, с необыкновенной ловкостью управляя парусом, шептал мне: — Держи правее. Мы пойдем по правому борту. Федя, готовься. — Я готов. Только качка, и целить нельзя. Винт снова вырвался из воды, обдал нас брызгами, затарахтел и вновь исчез в водяной пене. Востров закусил губу и передвинул рычаг. Еле заметно баркас прибавил ходу. Вытирая одной рукой пот со лба, Востров сказал мне: — Больше нельзя, — мотор перегреется. В ту минуту, когда мы совсем поравнялись со шхуной, необычайно высокая волна взметнула наш баркас, и на мгновение я удивительно ясно увидал все, что происходило на шхуне. Высокий мускулистый турок, плотно упершись широко расставленными ногами и держа в руках штурвал, кричал что-то. Слов не было слышно, ветер относил их. Два обнаженных до пояса турка управлялись с парусами.

В ту минуту, когда мы совсем поровнялись со шхуной, необычайно высокая волна взметнула наш баркас, и на мгновение я удивительно ясно увидал все, что происходило на шхуне.
Все это мелькнуло и исчезло. Мы провалились в водяную яму, столб брызг окутал баркас, а когда мы пришли в себя, то увидели шхуну далеко позади. С непостижимым мастерством турки спустили паруса и, позволив нам проскочить мимо, изменили направление. Востров вскочил на ноги и закричал в море, дико ругаясь. Когда мы повернули баркас, шхуна «Два Друга» значительно ушла от нас. Снова мы догоняли шхуну, и вторично Сейфи проделал ту же штуку. Мы были обозлены и, признаюсь, измучены. Боковая волна валила баркас. Иващенко взял второй риф, но баркас почти ложился на воду, летя стрелой. Иногда мне казалось, что это нечеловеческая воля Вострова двигает баркас вперед. Мы в третий раз настигали шхуну, когда турки спустили паруса и легли в дрейф. Шхуна закачалась на месте, ныряя на волнах. Мы чуть было не проскочили мимо, и это было бы несмываемым позором. Востров одним прыжком достиг мачты, сшиб узел, затягивавший фал, и парус рухнул на баркас так внезапно, что Громов, — второй красноармеец, — упал на дно баркаса. Сквозь вой ветра я услышал бешеный голос Вострова: — Мотор, мотор! Я понял его и, придерживая одной рукой руль, переставил рычаг на холостой ход. Мы все-таки оказались впереди шхуны. Востров стоял посередине баркаса и кричал, как помешанный, ругаясь и беснуясь. Турки спокойно и, мне казалось, насмешливо глядели на нас, когда мы всякими правдами и неправдами подходили к шхуне. Востров выждал момент, когда баркас взметнулся кверху, и, сжимая в руках наган, вскочил на шхуну. Слышно было, как он ругался и кричал. Через минуту нам бросили конец, и наш баркас закачался рядом со шхуной, рискуя каждую минуту разбиться. Я, а следом за мной и Иващенко, взобрались на палубу шхуны. У штурвала я увидел того же турка. Он спокойно глядел на нас, и на его лице прочел я всю «мудрость Востока». В этом лице, казалось, отразилась яркая синева восточного неба, высокие минареты, желтизна выжженных степей, горечь крепкого черного кофе. В этих глазах были отвага и решительность, странно сочетавшиеся со спокойствием и даже ленью. Острые огоньки так же внезапно потухали, как и зажигались. Турок был одет в длинные брюки, внизу обмотанные завязками от кожаных мягких чувяков, синюю закрытую рубаху, заправленную в брюки и повязанную красным поясом. Бритую голову покрывала барашковая шапка, усиливавшая синеву бритою черепа. Турок спокойно произнес приветствие: — Селям алейкюм! Востров поглядел на него недоумевая и, задохнувшись от злости, прохрипел что-то нечленораздельное. Иващенко стоял за Востровым, взяв ружье на перевес, с тем нелепым и неестественным видом, с каким новобранцы, крича «ура», колют на учении соломенное чучело. Сейфи достал щеголеватый бумажник и показал документы. Я не знаю, какие документы требуются на море, но, по всей вероятности, Сейфи имел все, что нужно. Он вез груз дынь и арбузов из Керчи в Севастополь. Все было в порядке. Вострое целый час обыскивал шхуну. Не было, казалось уголка, в который бы он не заглянул. — Ты чего удирал? — спросил он, свирепея от безрезультатности поисков. — А зачем гнался? — Ваньку не валяй! — в сердцах прикрикнул Востров, и замолчал. Стемнело… Ветер выл в снастях и море бушевало, попрежнему грозное и тяжелое. Мокрый и, должно быть, несчастный, я вызвал в турке сострадание. — Иди в кубрик, гостем будешь, — сказал Сейфи. Я оглянулся на Вострова. Удовольствие очутиться на баркасе мне не улыбалось. Хотя шхуну сильно кидало, но после баркаса она мне казалась покойной и уютной. Сумерки обступили нас плотно. Берег исчез в неясной темноте. Сейфи шевельнулся у штурвала и сказал: — Гостем будешь. Ты чего думаешь? Ты — гость мой. Не верить ему нельзя было. За ним была вся прелесть восточной честности, восточного гостеприимства. Я верил. Я не мог не верить. Мы пили терпкое виноградное вино в каюте Сейфи, сидя на ковре. Керосиновая лампа качалась из стороны в сторону, и тени двигались по стенам. Иващенко стоял на палубе, отбывая свою часовую вахту. Наш баркас шел на буксире. Так было до утра, когда волнение немного стихло, и мы увидали судакский маяк, куда любезно вез нас Сейфи. В память об этой ночи я храню расшитую бледными шелками тюбетейку, подаренную мне самим Сейфи, главой крымских контрабандистов, за мои рассказы о далекой Москве. Эту тюбетейку вышивала жена Сейфи — Гюлькиз, что по-русски значит «девушка-роза». О ней Сейфи говорил словами, которые могут сравниться только с напевностью библейской «Песни Песней»… На тюбетейке была вышита нежная роза.
* * *
…Когда мы сели в баркас и ветер надул парус, Востров посмотрел на- меня тяжелым стальным взглядом. — Так, значит… Турок тебе дороже меня. Так и запишем… — Чего ты, Востров? — Для меня позор, а ты с ним всю ночь, как с другом, говорил. — Он и друг мне. — Врешь! Не может контрабандист другом быть хоть на минуту. Контрабандист советскую власть подрывает, для меня он — преступник. — Чего же ты не арестовал его? — Не было законных оснований. Теперь — закон. В Судаке на пляже шевелились голые курортники. Я выскочил на берег, такой мягкий, что он словно заплясал подо мною, и с грустью поглядел на море. Востров, не прощаясь, ушел с красноармейцами. Небо было, как раковина, — розоватое и нежное. Мне показалось, что вдали я вижу парус «Двух Друзей»..В следующем номере «Всемирного Следопыта» будет напечатан второй рассказ Георгия Гайдовского из серии «Черноморские контрабандисты» — «ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ».

В. Белоусов
УЩЕЛЬЕ БОЛЬШОГО ДРАКОНА
Колониальный рассказ Рисунки худ. А. Шпир Рассказ удостоен премии на литературном конкурсе «Всем. Следопыта» (1926 г.)
Мкюнг-Баа провозгласил борьбу против французов! Мюонг-Баа собрал боевые дружины в лесах Зеленой реки! Этой вестью, как наводнением после ливня, была охвачена вся Тмерия, и имя Мюонг-Баа было на языках всех тмерийцев от мала до велика. Наконец-то нашелся человек, который отомстит этим жалким злым людям, приплывшим сюда из-за далеких морей, за все обиды, за все раны, нанесенные ими тмерийцам! Мюонг-Баа будет бороться до конца, — до тех пор, пока последний французский насильник не убежит, избитый, из Тмерии; до тех пор, пока не останется к западу от Тринганоких гор ни одного человека с белым лицом и с черной душой!.. Наконец-то «несчастные дикари», которых так старательно просвещали «культурные» европейцы при помощи миссионеров и водки, показали, что они умеют произносить не одни только молитвы, вознося хвалу «справедливейшему» богу, приготовившему им, обиженным на земле, сладкое житье после смерти, — на небесах. Иногда, оказывается, они могут произносить и такие слова, которых нет в толстой книге с застежками, всегда обретающейся в глубоком кармане миссионерского сюртука. Правда, слов, не предусмотренных библией, было не много, но складывались они так: «Мы хотим иметь возможность есть и спать!» И этих семи слов оказалось достаточно для того, чтобы повесить несколько десятков туземцев, осмелившихся их произнести, и для того, чтобы на всех фабриках и на всех заводах появились надсмотрщики с тяжелыми бамбуковыми палками в руках. Этих надсмотрщиков выбирали из озлобленных каторжан, и от них всегда пахло водкой. Но ни виселицы, ни пьяные надсмотрщики не могли потушить давно тлевшую, но теперь ярко вспыхнувшую ненависть к поработителям и уменьшить энтузиазм народа, узнавшего, что у него есть свой защитник. Одними из первых на призыв Мюонг-Баа откликнулись рабочие лесопильных заводов в Шонг-Хоэ. Прежде всего они забастовали. Потом выбрали из своей среды делегацию и послали ее рассказать владельцам заводов об ужасной нищете тмерийцев. Делегацию принял высокий господин в пробковом шлеме, с недокуренной папиросой в углу рта. Господин стоял на веранде, облокотившись на перила, и рассеянно слушал тмерийцев. Они оторвали его от интересной шахматной партии. В ней он только-что придумал комбинацию, которая должна была принести ему победу, и, боясь позабыть эту комбинацию, господин в пробковом шлеме сейчас мысленно повторял ее про себя. За его спиной стояла стража: несколько солдат с револьверами, вынутыми из кобур. Тмерийцы говорили горячо и долго. Это была их ошибка. Господину показалось, что он начинает забывать свою комбинацию, и тогда, не дослушав до конца, он сделал чуть заметный жест рукой и, почти не пошевелив губами, бросил: — Арестовать!

Господин в пробковом шлеме рассеянно слушал делегацию рабочих-тмерийцев. Они оторвали его от интересной шахматной партии, и, боясь позабыть только-что придуманную комбинацию, господин сейчас мысленно повторял ее про себя. Тмерийцы говорили горячо и долго…
Солдаты сошли с веранды, окружили тмерийцев, загнали их в подвал и там заперли. Господин в пробковом шлеме вернулся к своей партии иблагополучно ее выиграл. На другое утро, по распоряжению резидента, решившего сразу подавить мятеж, все участники делегации были публично повешены. Эта расправа произвела двоякое действие на тмерийцев: некоторых напугала решительность распоряжений резидента, некоторые готовы были снова встать на работу, но сто человек из рабочих лесопильных заводов не пожелали сдаться. Сейчас же после казни эти рабочие собрались на лужайке, за кузницей Фына, и там решили немедленно итти через леса на соединение с Мюонг-Баа и его «лесными братьями». Боясь, что их поймают, повстанцы ушли так поспешно, что многие из них не успели попрощаться со своими женами и детьми, а Фын позабыл дома свою войлочную шляпу, чего еще с ним никогда не случалось. Но и среди запутанных тропинок и непроходимых зарослей тмерийеких лесов у французского резидента оказались глаза и уши. Он узнал про маневр сотни изголодавшихся людей, и полковник Лебо получил приказ выступить и перехватить мятежников. Лебо был старый колониальный укротитель. Кроме того, как и всякий порядочный француз, которому перевалило за сорок, он был женат. Жену свою он, конечно, любил, и, конечно, ее слово было для него законом. Но беда в том, что этот закон гласил, что платья, чулки, духи и пудру необходимо выписывать сюда, в Шонг-Хоз, из Парижа, из самых лучших магазинов. Несмотря, на то, что полковник очень удачно играл в карты, и, кажется, во всем Шонг-Хоэ не было европейского кошелька, который бы не похудел, встретившись с Лебо за зеленым сукном, полковник каждый месяц кончал дефицитом. Он залез в долги, и единственное, что ему оставалось, чтобы поправить свое положение, это — возможно быстрее сделаться генералом. Генерал не только получает больше жалования, он еще всегда занимает такие посты, на которых это жалование можно легко и ощутительно увеличить разными средствами случайного характера. И вот, назначение укротителем борющегося за свою жизнь народа Лебо и решил использовать в целях скорейшего продвижения по лестнице чинов. Через два дня после получения приказа он встал со своим батальоном между забастовщиками и Мюонг-Баа. У забастовщиков не было другого оружия, кроме крепких бамбуковых палок; у Лебо были пулеметы. Тмерийцы свернули в сторону, намереваясь обойти французов, но нюх Лебо был достаточно натренирован, и, куда бы ни шли тмерийцы, они всюду встречали солдат Лебо. После нескольких безуспешных попыток забастовщики решили уйти вглубь леса и там ждать, пока их не освободит восставший народ или пока среди французов не начнется лихорадка.
* * *
В тмерийских лесах немало банановых деревьев, кокосовых пальм и всяких с’едобных плодов и кореньев. Взять измором сотню туземцев, засевших в глухих тропических зарослях, — нелегко; найти их в лесу — еще мудреней. Но Лебо хорошо знал характер тмерийцев. Он знал, что им скоро надоест сидеть в лесу и они попытаются из него выйти. Тогда он их всех переловит голыми руками, так как этот лес тянется полосой по берегу моря и выход из него один: на юг, через узкий проход между морем и горами, где стоит батальон Лебо. На восток неприступной стеной высятся утесы Тринганских гор, на западе — море, а на севере — пустынный край, населенный народом, враждебным тмерийцам, — туда им совершенно незачем итти. Итак, Лебо растянул своих солдат цепью от моря до гор, заткнул этим единственный выход из леса и принялся терпеливо ждать. По ночам французы разжигали костры по всей линии, один подле другого, а днем окрестный лес наполнялся дикими криками, трещанием всевозможных трещоток, свистками и выстрелами французов. Первые дни тмерийцы чувствовали себя хорошо. Пищи кругом было достаточно, а на большом камне, который лежал посреди лужайки, где устроились тмерийцы, было очень удобно колоть орехи. Удобно их было также колоть на голове бедного Ли, как это было решено всеми голосами против одного. Дело в том, что кто-то, вкарабкавшись на пальму, случайно уронил оттуда на Ли большой переспелый, уже надтреснутый орех, который лопнул на голове ошарашенного человека и облил его с головы до ног своим соком. С тех пор Ли встречал кулаками всякого, подходившего к нему с невинным видом и с кокосовым орехом в руках. Иногда на тмерийцев нападало даже буйное веселье, и они принимались играть в свою любимую игру — в чехарду, которая непременно кончалась или тем, что Фын садился на голову Сену и не хотел оттуда слезать, или Чонг спотыкался о пень и расквашивал себе нос. Но к концу недели появились первые признаки надвигающейся скуки. Ли дал несколько затрещин человеку, вовсе не желавшему бить у него на голове орехи, Сен с задумчивым видом с утра до вечера грыз какой-то большой лист и никак не мог его прожевать, а Чонг-второй даже ходил проведать французов и позволил им проковырять пулями в его шляпе пару маленьких дырочек. Наконец, положение сделалось невыносимым. Мало того, что здесь, в лесу, нечего было делать, — тмерийцы хорошо знали, что они нужны Мюонг-Баа, которому нехватает людей. Кроме того, народ в Шонг-Хоэ может вновь встрепенуться и прогнать французов, а они, ушедшие в лес, останутся тогда не при чем. Это было бы здорово обидно! Но что же делать? Лебо, должно быть, сделал своим солдатам, прививку, и они никогда не заболеют лихорадкой. Помощь тоже не приходила. Значит, выпутываться нужно как-то самим. И Чжо, как самый умный из присутствовавших, получил поручение придумать выход из создавшегося положения. Чжо залез на самую высокую пальму, какую он только мог найти поблизости, и просидел там в одиночестве с полчаса. Спустившись, Чжо посвистел, чтобы все разошедшиеся в поисках с’едобного вернулись, залез на камень и, взмахнув обеими руками, как птица крыльями, сказал:. — Да, друзья, я придумал! У тмерийского народа коротка память. Он забыл, что давно-давно, когда еще была жива в памяти людей война салангорцев с перакцами, мудрый Фу-Дзы, властитель Тмерии, призвал к себе своего сына и передал ему великую тайну, которая, как говорил Фу-Дзы, должна не раз спасти от бед тмерийский народ. И вместе с тайной Фу-Дзы передал своему сыну пояс из тигровой шкуры. Тмерийский народ забыл, что эта тайна передавалась из поколения в поколение, но так, чтобы всегда ее знал только один человек, — такова была воля Фу-Дзы. Мы забыли, что храбрый охотник Дзе-Чжен носит такой пояс. Мы забыли, что Дзе-Чжен— последний носитель великой тайны мудрого Фу-Дзы. Позовем же сюда Дзе-Чжена и пусть он поможет нам своей тайной, которая, как говорил Фу-Дзы, не раз должна спасти от бед тмерийский народ! Умный человек — Чжо, и хорошо придумал. — Но как мы доберемся до Дзе-Чжена?! — закричали тмерийцы. — Разве можно пролезть сквозь французов? — Да. Если мы все пойдем, мы не доберемся, но среди нас, может быть, найдется один, который сумеет проскользнуть незамеченным! — А старик Дзе-Чжен? Как он проберется сквозь французские пикеты? — О! Хотя у Дзе-Чжена и вылезла борода от старости и лицо его сморщилось, как высушенный банан, но все знают, что он один-на-один ходит против тигра. Всего месяц тому назад он убил свою тридцать девятую тигрицу. Неужели он не сумеет к нам прийти? Очень умен Чжо и очень хорошо все придумал. — Но кто же пойдет за Дзе-Чженом? — Шань-Фу! Шань-Фу пойдет! — закричали тмерийцы. — Вот уже третий год он выходит победителем на играх тмерийской молодежи!.. Где Шань-Фу? Пусть выйдет Шань-Фу! Шань-Фу-у! Шань-Фу вытолкнули вперед. Он поднялся на камень и стал рядом с Чжо. Это был человек небольшого роста, но очень коренастый, с сильным бронзовым телом, еле прикрытым лохмотьями. Бедра его были обмотаны широким зеленым шарфом. — Хорошо, я пойду! — сказал он, без дальних слов соскочил с камня и, пригнувшись, нырнул в заросли.* * *
Настроение тмерийцев поднялось. Сен гнусавым голосом затянул песню. Вот, что говорилось в ней:«Давно-давно и далеко-далеко жил один храбрый охотник. Пошел этот охотник искать полосатую царицу джунглей. Знал он все тропинки, по которым ходила она к воде. Лег охотник в кустах и стал ждать. Долго ждал. Очень долго…… Не пришла царица джунглей. Не дождался охотник. Встал он и пошел искать ее в другое место. Но всегда бывает несчастье, когда зверь долго не приходит. Учуяла охотника царица джунглей, обошла его кругом, набросилась коварно сзади и растерзала его на куски. Но с’ела она только бесстрашное сердце охотника и его зоркие глаза. Остальное расклевали вороны. И когда остались от охотника одни кости, — разлетелись вороны во все стороны, и во все стороны разнесли кусочки тела охотника. И падали эти кусочки на землю и давали жизнь траве. Из травы расли цветы и деревья. На деревьях шелестели листья и качались ветки, и от этого дули по земле сильные ветры. А за ветром пришел дождь, который напоил и накормил всех: и зверей, и обезьян, и людей».Так говорит тмерийская песня: первое, что, было на земле, это, будто бы, — расклеванное орлами тело храброго охотника. Чжо не понравилось, как пел Сен. — Позовите сюда Пинга, — сказал он. — Пинг хорошо споет. Ню Пинга нигде не могли найти. Все его видели рано утром, а потом он куда-то исчез. Тмерийцы кричали, свистели, но Пинг не приходил. В конце-концов успокоились: не пропадет Пинг, вернется. Ушел искать что-нибудь вкусное. Так и. пришлось, слушать Сена: как он ни гнусавил, — остальные пели еще хуже. Когда уже начало темнеть, и в воздухе зажужжали первые комары, и стали плести узоры между деревьями москиты, вдруг прибежал, запыхавшись, дозорный и сообщил, что французы вошли в лес. Тмерийцы посмотрели кругом, — на стену колючих кустарников, на лианы, протянувшиеся между деревьями, на толстые стволы пальм, — и ухмыльнулись. — Пусть поищут! Но на утро, не успело еще солнце осветить верхушки высоких пальм, новое донесение сообщило, что французы, по-видимому, знают, где находятся мятежники: они двигаются прямо на лагерь тмерийцев. Темнее тучи было лицо Чжо, когда он попросил внимания и обратился к своим товарищам: — Французы пронюхали, где мы спрятались, и они уверены, что мы попались, иначе они не рискнули бы углубляться в лес. Но узнать, где мы находимся, полковник Лебо мог только если ему кто-нибудь это рассказал. Друзья! Мы послали Шань-Фу, чтобы он принес нам освобождение. Но, как ни грустно признать, все говорит за то, что Шань-Фу нас предал. Он — французский шпион! — Проклятие Шань-Фу! — загудели кругом. — Пусть не рождаются у него дети и пусть он не убьет никогда ни одной крысы! Чтоб он потонул в первое же наводнение! — Подвернись он мне теперь! — проворчал Ли, потрясая кулаком. — Я его стукну промежду ушей посильней, чем он меня орехом стукал! Чжо поднял руку. Но нелегко было успокоить возмущенных тмерийцев. — Братья! — сказал Чжо, когда, наконец, водворилась тишина. — Предатель не достоин нашего внимания. Довольно о нем говорить. Обсудим лучше, что нам теперь делать. Французы могут быть здесь через какие-нибудь три часа. У нас только немногие имеют ножи, у французов же — карабины, и, говорят, по тропинкам они тащат за собой пулеметы. Если мы будем сопротивляться, — через десять минут от нас не останется ничего, кроме груды изрешетенных пулями тел. Что же нам делать? Сдаваться? Тмерийцы любят шутки. Громкий хохот был ответом на этот вопрос. — Я согласен с вами, — продолжал Чжо. — Итти самому на виселицу — чересчур уже весело. Итак, нам остается только одно: уходить дальше и держаться все время в глубине леса, так как на открытом месте французам легко будет нас перестрелять. После короткого совещания забастовщики решили итти, в крайнем случае, на север, — к перакцам, хотя те и считаются врагами тмерийцев, но, в борьбе против европейцев, перакцы и тмерийцы — одна сторона. Но Лебо, не менее твердо, решил сделаться генералом, и он вовсе не хотел упускать мятежников. Узнав от перебежчика о местонахождении туземцев, он построил свой батальон большим полукругом и стал оттеснять тмерийцев к тому месту, где лес вплотную подходит к скалистым отрогам Тринганских гор. Когда в первый же день преследования, вечером, забастовщики попытались ускользнуть в сторону, они сделали открытие, что полукольцо французов превратилось в кольцо. Тмерийцы всюду натыкались на угрожающий треск карабинов, а ночью туземцы были окружены плотным кольцом костров Лебо. Дело приняло серьезный оборот. Никто больше не пытался разбивать орехи на голове Ли, а Сен забросил свой недожеванный лист далеко в кусты. В эту ночь многие из туземцев омылись кокосовым молоком, — так обычно начинался предсмертный обряд… На следующее утро французы надвинулись с одной стороны и этим указали тмерийцам, куда те должны итти. Теперь, когда надежда получить помощь от Дзе-Чжена была окончательно потеряна, уныние овладело тмерийцами, и без всякого сопротивления они дали гнать себя туда, куда это хотелось полковнику Лебо. Три дня продолжалось это преследование. Много раз французы подходили к тмерийцам так близко, что, пожалуй, могли бы их без труда уничтожить, но, жалея, вероятно, патроны, они только вспугивали туземцев и заставляли их итти дальше. Часто лес становился настолько густым, что французам приходилось прокладывать путь при помощи ножей и топоров, но с ожесточенной настойчивостью они продолжали гнать тмерийцев к горам. И до самых гор продолжалось это странное шествие: кольцо французов, продиравшееся сквозь чащу, а в середине его — сотня голодных, оборванных туземцев, не знавших, что с ними хотят делать. Во время преследования погиб Фын. Он провалился в какую-то яму и сломал ногу. Так как он шел сзади, его падения никто не заметил, а сам Фын не кричал, — он знал, что со сломанной ногой он будет товарищам в тягость. И он остался в яме, пока французы не подошли и не пристрелили его… К концу третьего дня тмерийцы были прижаты к скале. Французы продолжали напирать сзади так, что, если туземцы хотели итти дальше, им оставался только один путь: в узкую заросшую расщелину, видневшуюся в стене скалы. — Смотрите, куда они нас гонят! — закричал кузнец Ио-Сен, шедший впереди. — Это — Ущелье Большого Дракона! — Это — мышеловка! — закричали другие. — Всякий знает, что из Ущелья Большого Дракона нет другого выхода. — Нас там уморят голодом! — Не все ли равно, где умирать? Останемся здесь. По крайней мере, здесь они больше пуль изведут, а там на одну пулю можно нанизать пять человек… — Не стоит итти дальше! — И, поджав ноги, преследуемые уселись на траве перед входом в ущелье. — Теперь, пожалуй, пора и всерьез подумать о предсмертном обряде, — произнес Сен, и неспеша начал раздеваться. В это время со стороны французов послышался выстрел, другой, потом адский треск ветвей, и из лесу выскочил человек. — Шань-Фу! — вырвалось у всех.
* * *
Да, это был Шань-Фу. Но в каком виде! Из одежды на нем сохранился только зеленый шарф на бедрах, весь залитыйкровью. В крови были также и лицо, и грудь, и ноги. Из левой руки ручьем хлестала кровь, очевидно, из только-что полученной раны. Правый глаз был почти совсем закрыт огромным вздутым синяком. Казалось, какая-то громадная мясорубка захватила Шань-Фу и молола ею несколько! часов подряд. Размахивая палкой, Шань-Фу бросился к тмерийцам, а вдогонку ему летели пули и щелкали выстрелы. — Скорей, скорей! За мной! — закричал он и побежал к ущелью. Но, видя, что за ним никто не следует, он остановился и, проведя по лбу рукой, отчего кровь не вытерлась, а только размазалась, удивленно посмотрел на товарищей. Те смотрели на него сурово, и многие сжимали в руках рукоятки ножей. — Мы не пойдем за тобой, изменник! — твердо сказал Ли. И другие качнули головами в знак подтверждения этих слов. Ничего не понимая, смотрел кругом Шань-Фу, и от слабости у него кружилась голова. — Я изменник?! — прошептал он. — Да, ты продался французам! Это ты показал им дорогу к нам! — А эта кровь? Кто же нанес мне столько ран? — Это — хитрость! Ты вымазался кровью, чтобы мы не подумали, что ты шпион, но нас не проведешь. Мы не пойдем за тобой! — Ступай обратно к белым собакам или мы живо с тобой расправимся! — Ах, так! — в единственном глазу Шань-Фу засверкали искорки. — Это— хитрость? Так я вам покажу, на что способен Шань-Фу и что он сделал для тмерийского народа! Я покажу, моя ли это кровь или не моя! Дзе-Чжен слишком стар, чтобы итти сюда, но смотрите, что он мне дал! Гордо выпрямившись, Шань-Фу сорвал с себя окровавленный зеленый шарф, и все увидели, что под шарфом был пояс из тигровой шкуры. — Тайна! Он передал ему тайну! — закричали пораженные тмерийцы. — Шань-Фу — носитель великой тайны! Шань-Фу — наш спаситель! — Да, я — носитель великой тайны. Это кто-то другой — предатель. И эта кровь моя, из моего тела. Пойдете ли вы теперь за мной? — Пойдем, пойдем! Веди нас, Шань-Фу, носитель великой тайны! — Так нечего медлить. Французы не заставят себя долго ждать. Эй! Сен! Ты что? Умирать задумал? Там, в ущелье, тебе приготовлена шикарная могила. Подтянись, дружище, чего пригорюнился? — Я не о том, — ответил Сен, и вслед за другими, раздвигая ветви, полез в ущелье, но по дороге подтолкнул локтем Ли, шедшего рядом, и вполголоса спросил его: — Ведь певца Пинга-то нет? — Нет. — Ну, вот! Серо-желтые стены ущелья поднимались выше самых высоких пальм. Они так близко сходились наверху, что внизу и среди бела дня было наполовину темно. Проход был завален большими камнями и густо зарос кустарником. Шедшие впереди расчищали дорогу бамбуковыми палками. Шагов двести ущелье шло прямо, потом круто свернуло направо и оборвалось, — как будто кто-то гигантской пилой хотел распилить весь горный массив, но пила сломалась, и допилить до конца не удалось. Когда передние, дойдя до стены, которой кончалось ущелье, остановились обескураженные, Шань-Фу улыбнулся, насколько ему позволяли раны, и крикнул: — Эй! Кто хочет помочь старику Сену выкопать ему могилу?! Нужно штук пять молодцов покрепче! Чего ты уставился, Сен? Верно говорю: поковыряй вот около этого куста — там для тебя приготовлена княжеская могила. Ну, кто будет помогать? Фу! Твой отец был бы могильщиком, если бы не сделался матросом. Ли! Ты, кажется, и сам не прочь лечь в могилу! Чонг! Фын-второй! Двигайтесь, двигайтесь! Палками, ножами, руками копайте скорей вот здесь! С растерянными лицами, не понимая в чем дело, вызванные все же принялись старательно копать землю в указанном месте. Через какие-нибудь пять минут Ли уперся рукой во что-то твердое. — Бревно! — воскликнул он. Скоро оказалось, что там не одно бревно, а целый настил из крепких бамбуковых бревен. Стоявшие сзади, чтобы посмотреть выкопанную яму, бросились вперед, расталкивая передних. Произошла свалка. Шань-Фу столкнули в яму. — Тише, тише! — закричал он. — Ведь не меня хороните! Успокойтесь! Слушайте! Французы думают, что мы здесь — в мешке. Но у меня под ногами подземный ход, ведущий в соседнее ущелье Чортова Пальца. Это и есть та великая тайна, которую мудрый Фу-Дзы завещал тмерийскому народу и которую Дзе-Чжен передал мне. Много таких ходов, почти в каждом ущельи, прокопали сто тридцать лет тому назад люди Фу-Дзы. Фу-Дзы знал, что ходы сквозь непроходимые горы пригодятся тмерийцам и не раз помогут им в беде. Разве он был неправ?.. Поднимайте скорее бревна и через эту дыру мы пройдем к Зеленой реке — к Мюонг-Баа. Да очнитесь же вы! Полезайте! Я иду последним. Считавшие себя уже погибшими, пораженные, все еще не уверовавшие в свое неожиданное спасение, тмерийцы стали спускаться в темную зияющую яму. Шань-Фу, вдруг сильно побледневший, пропускал их мимо себя. Когда Чжо поравнялся с ним, этот мудрец, назвавший недавно Шань-Фу предателем, нагнулся к его уху и прошептал: — Я знаю, Шань, что ты в первый раз в своей жизни сейчас солгал, сказав, что идешь последним. Прощай же, брат. Тмерийский народ не забудет твоего подвига.* * *
Да, Чжо угадал. Когда последний тмериец исчез под землей, Шань-Фу не последовал за ним, как обещал. Стиснув зубы, он остался стоять один в Ущельи Большого Дракона, весь окровавленный.
Когда последний тмериец исчез под землей, Шань-Фу не последовал за ним, как обещал. Стиснув зубы, он остался стоять один в Ущельи Большого Дракона, весь окровавленный.
Шань-Фу подождал, пока затихли шаги в подземном коридоре, и тогда старательно заложил отверстие бревнами, засыпал землей и утрамбовал. Покончив с этим, Шань-Фу поднял положенную Чжо половину кокосового ореха и приступил к предсмертному обряду…
* * *
…Лебо был взбешен. Он с таким трудом загнал этих мятежников в ближайшее к Шонг-Хоз ущелье, чтобы там их всех переловить, и вдруг разведчики, посланные туда, нашли только одного полумертвого и полусумасшедшего тмерийца, плававшего в крови! Больше никого там не оказалось. Конечно, солдаты Лебо изроют все ущелье вдоль и поперек и найдут выход, по которому удрали тмерийцы; конечно, здесь виноват не Лебо, а топограф, указавший на карте, что ущелье это — тупик, совершенно закрытый с трех сторон. Но дело не в том. Полковник послал сегодня донесение резиденту, что мятежники уже в его руках, и он спрашивает, что ему с ними делать: избивать ли на месте или связывать и вести в Шонг-Хоэ? Кто же теперь поверит, что у него перед глазами сто человек положительно провалились сквозь землю! Да просто скажут, что полковник Лебо выжил из ума и что ему пора подавать в отставку. Вот тебе и генеральский чин! Без сомнения, вся карьера пошла на смарку. Дернула же его нелегкая гнать бунтовщиков в это дырявое ущелье! Но на следующее утро неожиданно вернулся один из двух посланных с донесением. Дрожа и заикаясь от пережитого ужаса и от страха перед наказанием, посланец рассказал, что, когда они уже под’езжали к Зеленой реке, он услыхал позади себя шум падения и, обернувшись, увидел, что его товарищ лежит на земле, истекая кровью, а на его лошади кто-то уносится обратно по тропинке. Убийца захватил сумку с донесением. Несчастный курьер валялся в ногах Лебо и умолял простить его: он здесь не при чем… Лебо прогнал его. — Мы поговорим с тобой, когда будем в Шонг-Хоэ, — сказал Лебо. Но полковник знал, что и в Шонг-Хоэ он не будет наказывать курьера. Ведь как, чюрт возьми, здорово повезло! Он вернется теперь на свою позицию перед лесом, — как будто никого и не преследовал! А поручение (перехватить мятежников) он исполнил. Не его вина, если туземцы умеют летать по воздуху или проходить сквозь скалы. Почаще бы эти болваны-курьеры давали убивать себя и своих товарищей, и теряли бы сумки с донесениями… когда это нужно для спасения карьеры полковника Лебо!Собака-акробат

Чувство равновесия, столь сильно развитое у кошек, редко встречается среди собак. Нужна долгая и упорная дрессировка, чтобы собака могла ходить, не теряя равновесия, по горизонтально протянутой палке или веревке. Четвероногий цирковый артист, представленный здесь на фотографии, выучился не только ходить по тонкому полированному шесту, но и балансировать укороченной штангой. Его владелец, английский дрессер, зарабатывает большие деньги не только на арене, но и от кино-с’емок.

Стефан Коце
В СТРАНЕ КЕНГУРУ
Трудовые приключения ковбоя-добровольца в австралийских кустарниках. Очерки
В № 6 «Всемирного Следопыта» за 1925 г. уже был помещен отрывок из очерков Стефана Коце под названием «Австралийские охоты», в котором, между прочим, описывалась охота на кенгуру. Редакция «Следопыта», давая ныне полный текст этих интересных очерков, включает и рассказ об этой охоте в новой обработке, имея в виду расширившийся круг читателей нашего журнала и из соображений полноты описания природы и быта этой части Австралии (Квинсленда). Окончание этих очерков, вместе с картой Квинсленда, мы дадим в следующем номере.
I. Путешествие вглубь страны и бой с москитами.
Мне предложили место рабочего-волонтера (без содержания) на большом скотоводческом ранчо (ферме), а так как я сгорал желанием познакомиться с жизнью австралийских колонистов, то немедленно собрал свои пожитки и отправился на станцию железной дороги. Через пять часов езды я очутился на конечном пункте дороги, который состоял из досчатого станционного здания и полуразрушенного трактира, где я впервые познакомился с диетой кустарниковой жизни. Обед при 45° Цельсия в тени состоял из очень старой, жесткой солонины, нескольких огромных кумала (род сладкого картофеля) и горячего, черною как смола, чая. Громоздкая карета британской почты стояла у дверей, готовая к от езду. Она была запряжена четверкой самых тощих, каких я когда-либо видел, кляч. Положительно невероятно, до какой степени может исхудать в период засухи австралийская лошадь, теряя при этом лишь незначительную долю своей трудоспособности. Усталые глаза, грязная шерсть, резко обозначившиеся ребра, торчащий, острый, как лезвие ножа, позвоночник, при этом старая, во многих местах зачиненная сбруя и невозможно расшатанный экипаж под командой бородатого загорелого хромого человека, — нет, британская почта совсем не вызывала во мне восторга! Подражая кучеру, я оделся, как полагается в кустарниках: надел пеструю шерстяную рубашку, открытую на шее, английские кожаные штаны, первоначальная окраска которых переменила последовательно все цвета, пока не стала коричневой, широкополую шляпу и сапоги на босу ногу. По праздникам такой наряд дополняется пестрым платком вокруг шеи, а в дождь надевают пиджак. Вообще же, жители кустарников никогда пиджаков не носят. Нам предстояло проехать в нашем отвратительном экипаже пятьдесят миль до Майтауна, находившегося по ту сторону водораздела, в центре старого золотого прииска. У меня, наверное, сердце выскочило бы на ухабах, не догадайся я пройти значительную часть дороги пешком. Я взобрался на козлы рядом с возницей, и мы исчезли в огромном облаке пыли, поднявшемся вслед за нами на извилистой дороге. По обе стороны, насколько хватает глаз, расстилался степной ландшафт, — высохшие пастбища, на которых там и сям стояли корявые деревца, изуродованные безжалостным солнцем, истрепанные неумолимыми степными ветрами. Это были эвкалипты; их скудная листва не давала никакой тени: и не прикрывала уродства словно вывихнутых ветвей. Они были похожи на толпу призраков, ломающих в отчаянии руки, а вся степь казалась мне какой-то долиной ужасов. Душная знойная тишина, отсутствие всяких голосов животных, яркое, жутко-белое освещение, сожженная жаждущая земля и вдали голые холмы, усеянные черными гранитными глыбами, — все это сливалось в какой-то жуткой гармонии, основным тоном которой была безнадежная, бездушная дряхлость. Термометр показывал 50° Цельсия, но унылый ландшафт вызывал во мне озноб. Возница оказался настолько снисходительным, что скрашивал об’яснениями окружавшую нас безмолвную трагедию, в промежутках между ругательствами и проклятиями, которыми он награждал своих спотыкавшихся кляч. Мы доехали до русла высохшей реки и поехали шагом по рыхлому песку. — Видите вон это большое дерево, — сказал возница, указывая на огромный ствол, лежавший на земле. — Мы нашли там однажды труп одного бедняги. А вот здесь, — и он указал на холмик под деревом, — мы его похоронили. Вон, смотрите, там стоит число и его имя: «Танталус», 15/ХН — 19 г.
— Видите вон это большое дерево, — сказал возница, указывая на огромный ствол, лежавший на земле. — Мы нашли там однажды труп одного бедняги…
— Танталус! — повторил я удивленно. — Да, странная фамилия. Но путешественник, который ехал тогда со мной, вырезал ее сам на дереве. Имени погибшего он не знал. Да, ужасный конец был у этого бедняги… И возница, набив свою трубку, уселся на козлах поудобнее и принялся рассказывать: — День был такой же жаркий, как сегодня. Едем мы с ним так же вот, как сейчас, и вдруг мои лошади чего-то испугались и бросились в сторону. «Что такое! Что там!» — закричал вдруг мой пассажир. Я оглянулся, — это был труп молодого человека, которому придавило ноги упавшим деревом. Мы подошли к нему. Недалеко от него лежал винчестер и длинный нож в кожаном футляре. «Охотник на кенгуру», — сказал я про себя. — «Лег в тень отдохнуть, а дерево упало на него». Это было совершенно ясно. Рядом с ним лежало самодельное лассо, связанное из разорванной рубашки. Для чего оно ему было нужно? Мы скоро поняли и это. Бедняга не мог двинуться с места. Ноги сломаны, ни помощи, ни воды. Когда настал полдень, дерево не могло защитить его от солнца. И потом муравьи… о, да! — муравьи… Танталус сделал лассо, чтобы попытаться подтащить к себе либо ружье, либо нож. Я не знаю, зачем! они были ему нужны… Но, видно, не достал. А сколько он времени мучился, пока жажда, боль и муравьи не доканали его, — кто знает! Тело его выглядело ужасно, когда мы нашли его, потому что эти проклятые муравьи… — и рассказчик злобно плюнул в песок. — Мы стали искать палатку Танталуса и нашли ее. Но бумаг там никаких не оказалось. Мы вытащили тело из-под дерева и похоронили. Я до того не знал, кто он такой, а мой пассажир вырезал вот это чудное имя на дереве. Пассажир сказал, что это — фамилия покойного, но улыбался при этом так, что, я думаю, он меня просто дурачил. Вы слышали когда-нибудь такое имя? — и кучер при этом щелкнул бичом. Я поспешил схватиться за ручку, чтобы не свалиться с экипажа. — Да, — ответил я ему тихо. — Это даже очень известная фамилия[3]). — Чудно. У нас здесь обычно зовут людей просто по именам. И мы проехали мимо.
* * *
Еще один небольшой под’ем, и мы очутились в Майтауне, разоренном центре разоренного промышленного округа. Мы в’ехали в городок под звуки бича, окруженные густым облаком пыли. Двадцать белых одноэтажных домиков стояли по краям белой пыльной дороги. В тени сарая, на земле спал негр, да бродили три тощих собаки: и неизбежный козел, питавшийся этикетками от разбросанных кругом пивных бутылок. Таков Майтаун. Ферма, на которую я отправлялся, находилась в стороне от большой дороги. Хозяин ее выслал мне с почтарем верховую лошадь и поручил ему проводить меня до места назначения. Так как почтари в австралийских кустарниках заботы о продовольствии: в пути сводят к надежде на гостеприимство окрестных жителей, а жена почтаря жила в Пальмервиле, то мы и отправились на ферму именно через Пальмервиль. Я привязал свой багаж к седлу, и мы поехали. За нами бежали две мохнатые собаки. Без собак и лошадей обитатель кустарников не может жить; он тратит на них весь запас любви, имеющийся в его сердце и не находящий другого применения у одинокого пастуха… Начинало светать, но кустарники были еще полны ночной прохлады, и в воздухе пахло ласковой весенней свежестью. Мы беседовали о лошадях. Австралиец боготворит лошадь, но часто дурно обращается с нею. Когда молодой обитатель кустарников, не видавший на своем веку ничего, кроме скота, лошадей, степей и оград, в первый раз попадает в город, он презрительно проходит мимо всех приманок культуры, в роде трамваев и кино, и спешит прямо на конскую площадь, где может часами стоять у решетки, как завороженный, не отрывая глаз от находящихся там лошадей. После этого он, удовлетворенный, возвращается домой, и сердце его больше недоступно ни для каких страстей. В сердце Австралии путешествовали раньше на лошадях или пешком, но в последнее время стали употребляться велосипеды и верблюды. Обычный же способ, это — путешествие верхом. Путешественник берет с собой обыкновенно двух лошадей: на одну из них он вьючит багаж, на другой едет сам. По большей части бывает так, что хорошо приученные лошади сами идут друг за другом, а всадник, опустив поводья, посасывает трубку, при чем она совсем не должна быть непременно набита. По большей части лошадь умеет гораздо лучше находить дорогу, чем всадник, да если она иной раз и попадет не на ту тропинку— что за беда! Куда спешить! Быстро ехать — слишком жарко, да в кустарниках и не любят спешить. Позади нас вдруг послышался топот конских копыт и раздался удар бича. Из тучи пыли появился всадник. — Чорт возьми, Джек! Зачем вы так рано выехали из Майтауна? Я хотел ехать вместе с вами. Почтарь слегка кивнул головой в знак приветствия и вежливо ответил: — Я не знал этого, господин Мусгров. Слово «господин» удивило меня. — Кто это? — спросил я тихо. — Скваттер с фермы Мусгров. Ага! Скваттер — это то же, что помещик, даже больше. Наш новый спутник гнал перед собой двух молодых негров. Я внимательно посмотрел на них. Один из них оказался мальчиком лет десяти. Оба были в пыли и в поту, а знаки, видневшиеся у них на спине, заставили меня невольно взглянуть на бич, который скваттер держал в руке.
Поравнявшийся с нами всадник гнал перед собой двух молодых негров. Знаки на их спинах заставили меня взглянуть на бич в руке скваттера.
Мусгров заметил мое удивление и поспешил об’ясниться: — Эти молодцы убежали с фермы, и я догнал их только за Майтауном. Отправились, видите ли, к своему племени на корроборри, — празднество с танцами. Но я им покажу, как танцовать! И он грозно щелкнул своим длинным бичом, сделанным из кожи кенгуру. Я содрогнулся. Куда я попал! В арабский караван рабов, или здесь царили давно забытые ужасы «Хижины дяди Тома»? — Неужели вы погоните этих несчастных до самого Палъмервиля? Он засмеялся. — Конечно. А потом еще пятьдесят миль до фермы Мусгров, завтра. Я замолчал. Во мне боролись негодование и страх показаться! смешным. К стыду своему, должен сказать, что последнее чувство победило. Впоследствии я хорошо познакомился с тем, каково живется в колонии коренному владельцу земли — туземцу. Пришедшие сюда в погоне за наживой белые завоеватели считают ело за животное, назначение которого — обогащать «просвещенных» колонизаторов. Если скваттеру, который не в силах нанять белых ковбоев, нужны черные, он просто отправляется на охоту и ловит их, сколько ему нужно, тем же простым способом, каким он ловит свой скот. Дикарь, вялый от природы, пойманный в молодости, становится зачастую превосходным наездником, и хотя за ним нужен постоянный надзор, из него вырабатывается очень хороший ковбой. За это хозяин дарит ему изредка рубашку и штаны, дает ему скверный табак и скверную пищу, а если тот ведет себя хорошо, приводит ему туземку-жену, пойманную таким же способом. После этого негр уж не уйдет. Просто, дешево и сообразно с обычаями! Австралийские негры почти повсеместно вымирают. «Из-за прирожденной лени и неспособности к труду», — поясняют местные колониальные власти…
* * *
В полдень мы остановились у единственного между Майтауном и Пальмервилем источника воды. Обычно путешественники берут с собой запас воды в парусиновом мешке, который привязывается к седлу. Мешок у меня скоро оказался пустым, но мои спутники только посмеялись надо мной. Оказалось, что я должен был следить, чтобы мешок висел с той стороны лошади, которая не освещалась солнцем. — Вот вам котелок, — сказал мне скваттер, — принесите в нем воды, пока Джек отвязывает багаж. А я разведу костер. Я пошел, и вскоре передо мной было сухое ложе ручья. В одном месте, вероятно, водоворотом во время разлива, была прорыта в глинистом грунте глубокая яма. В глубине ее виднелась желтая жидкость, напоминавшая больше всего гороховый суп. В этом «супе» лежали два полуразложившихся трупа волов и скелет дикой собаки. — Нельзя же пить такую воду! — с ужасом сказал я. — Нельзя пить? Ну, если вы такой привередник, то здесь недалеко уйдете. Это отличная вода. Дайте сюда котелок. Скваттер спустился в яму, наступил на один из воловьих трупов и зачерпнул воды как раз около него. Принесенную воду поставили на огонь, вскипятили, сняли с нее тщательно пену, и вода стала довольно прозрачной. Тогда в нее положили горсть чаю, горсть коричневого сахара, — и напиток был готов. Правда, он был совсем черный, сверху с накипью, отливавшей всеми цветами радуги, но прекрасно освежал нас. Известно, что в жаркие дни; ничто так хорошо не утоляет жажду и не подкрепляет измученное тело, как горячий чай. Неграм скваттер дал по лепешке и по чашке… сырой воды. А остальные ели солонину. К трем часам мы приехали в Пальмервиль, где должны были переночевать. «Город» этот состоял из полуразвалившегося трактира, в котором жила жена почтаря, и нескольких рядов спиленных сверху деревьев, которые выглядели очень загадочно и заставили меня вспомнить о каналах на Марсе. Мне об’яснили, что в былые времена здесь стояли дома золотоискателей и должностных лиц, но теперь все исчезло, за исключением этих «свай» — устоев, прежде связанных стенами. Мы стреножили своих лошадей и, подвесив одной из них на шею колокольчик, пустили их на подножный корм, — скудный корм австралийских кустарников. Лошадей в кустарниках хозяева совсем не кормят. Днем они работают, а ночью отдыхают, при чем могут есть, если только найдут что-нибудь сами. А по утрам хозяин отправляется искать своих лошадей. Если дело происходит в знакомой местности, то хозяин всегда приблизительно знает, где они пасутся. Но гораздо хуже обстоит дело, если местность незнакомая, — лошадей часто охватывает тоска по дому, и они, руководимые сильно развитой способностью ориентироваться, успевают уйти стреноженными миль за двадцать в течение ночи. По пути они захватывают других лошадей. Известно, что лошади, работающие вместе, охотно об’единяются в табуны и следуют за своим вожаком куда угодно. В таких случаях хозяину приходится волей-неволей тащиться по их следам. Часто случается, что лошадей вовсе не удается отыскать. У меня у самого гуляют где-то в Квинсленде три хорошие лошади. По большей части, если хозяин хорошо обращается с лошадью, он не имеет с ней никаких неприятностей. Различие между человеком и животным вовсе не так резко, как обыкновенно думают. Те, кто имеет дело с лошадьми в одиночестве австралийских кустарников, очень скоро узнают, что у лошади есть свой характер, свои хорошие и дурные качества, даже капризы, которые нужно знать, чтобы ими пользоваться. Рекомендуется, например, брать с собой в дорогу кусочек каменной соли и привешивать его при входе в палатку. На заре, когда солнце еще не видно над горизонтом, ваша лошадь разбудит вас звоном своего колокольчика.* * *
Жена почтаря продавала грог (крепкий горячий напиток), но ночлега в доме она не могла предложить. Поэтому я решил лечь спать под открытым небом, — дождя и даже росы в это время года не бывает. Я набросал на сухую потрескавшуюся землю свежих веток, завалил их сухой травой и накрыл сверху одеялом, а под голову вместо подушки положил свой узелок. Когда настал вечер, я лег и покрылся вторым одеялом. Но я забыл про москитов. Мучения, которые причиняют эти крошечные насекомые новичку, вступающему в их пределы и не защищенному сеткой, не поддаются описанию. Вот он сидит, готовый отойти ко сну, и с довольной улыбкой любуется закатом солнца. В этот момент появляется первый москит. З-з-з-з… слышится в тихом вечернем воздухе, и испуганный созерцатель торопится закурить трубку, но это средство пригодно только против «некурящих» москитов; некоторые виды их, наоборот, очень любят, видимо, запах табачного дыма. Пока человек курит трубку, кругом все тихо, но едва она погасла, как снова раздается: з-з-з-з… — и начинается состязание. Защищающийся проворен, но нападающий еще проворнее. За долгое время моего знакомства с этими мучителями мне не удалось установить ни одного достоверного случая гибели этих тварей от человеческой руки. Но борьба не может долго продолжаться в таком духе. Лицо и руки жертвы скоро от укусов покрываются волдырями, и несчастный снова хватается за трубку. Он курит скверный, тяжелый американский табак до тех пор, пока не почувствует приступов морской болезни. Тогда, отбросив трубку, он ожидает новых нападений. Мучители-москиты очень скоро появляются снова. Человек вскакивает и начинает быстро ходить взад и вперед. Но трудный день утомил его, — он бросается на постель и покрывается с головой одеялом. Едва только удается задремать, как начинается какой-то кошмар. Человеку снится, что его насильно заперли в горячей бане… и хотят держать там до тех пор, пока он не задохнется от жары и пара. Несчастный с криком просыпается, далеко отбрасывает от себя одеяло и замечает, что он весь в испарине. Нельзя, оказывается, спать с головой под одеялом при 35° жары. Человек жадно вдыхает в себя свежий воздух, проснувшийся ветерок освежает его мокрое лицо… Но в это время снова начинается адская музыка: З-з-з-з… хлоп! з-з-з-з… хлоп! Конечно, мимо. И война продолжается с новой силой. Лицо еще сильнее опухает от соединенных усилий укусов и собственных пощечин. Наконец, измученный борец вскакивает с криком ярости и начинает бегать взад и вперед, как безумный. Но безжалостное войско неприятеля следует за ним по пятам. Наконец, несчастный падает на свое ложе в полном изнеможении, отдавая тело на с’едение хищникам. В таком состоянии находился и я, когда передо мной вдруг появился спаситель в лице почтаря в ночном одеянии. — Пришел посмотреть, как вы тут устроились, — сказал он, ухмыляясь. Москиты к этому времени высосали у меня всю гордость. Я схватил его за руку и излил ему свое горе. — Э-о!.. — сочувственно протянул он. — Этому легко помочь. Но вам надо было устроить сетку. Он облизал свой указательный палец и поднял его кверху. — Ветер с запада… Значит, так, — и он провел по земле черту по левую сторону от моего ложа. — Положите сюда коровьего навоза и подожгите его с этой стороны.
Стефан Коце, автор очерков «В стране кенгуру», в бытность его в Австралии.
Я не смел ни удивляться, ни расспрашивать. Он помог мне набрать сухого навоза, который лежал в большом количестве на земле, я сложил из него стенку и поджог. Навоз начал тлеть, и от него пошел густой дым, который ветром понесло прямо к моей постели. Не так уж заманчиво, ню — что же делать! — И он будет так горетьвсю ночь? — осведомился я. Почтарь вынул часы и серьезно заявил: — Прогорит до четверти седьмого. А в это время мы будем уже завтракать. Уходя, он провел по земле несколько линий и сказал: — Вот здесь огонь будет в полночь, здесь — в два часа, здесь — в четыре. Если вы ночью проснетесь, вам нечего смотреть на часы, вы по навозу будете знать который час.
II. На скотоводческой ферме.
«Город» Пальмервиль произвел на меня отвратительное впечатление. Дым, который шел от навоза, совсем задушил меня. Этот род борьбы с москитами подобен изгнанию холеры при помощи эпидемии чумы. Мы позавтракали и отправились дальше в путь. Но путь этот был так долог и так скучен, что я охотно пропускаю из моего рассказа эти восемь дней и перехожу прямо к описанию скотоводческой фермы, в которой я получил должность. Ферма занимала 1.000 квадратных миль степей, население же ее состояло лишь из 4 белых, 1 китайца, 20 туземцев, 40 собак, 800 лошадей и 35 тысяч голов рогатого скота. Разведение овец и рогатого скота составляет и поныне главное занятие жителей Квинсленда. Несмотря на целый ряд неблагоприятных условий, главным образом, засуху, уничтожающую целые стада, из Квинсленда вывозится громадное количество шерсти, мяса, рогов, мясного экстракта, костей, сала, шкур и прочих продуктов скотоводства. Но разведение овец и рогатого скота представляет собой два совершенно различных промысла: у берегов, на севере и северо-западе преобладает разведение рогатого скота; запад же занимается, главным образом, разведением «обезьян», как австралийские колонисты называют обыкновенно лесных или степных овец. Овцы нуждаются в лучшей траве и очень страдают от растущей, особенно в горах, травы с острыми ланцетовидными семенами, которые, запутываясь в их шерсти, понижают ее ценность и проникают иногда даже под кожу животного, причиняя смерть. Семена этой травы вообще являются сущим бичом австралийских кустарников. Они пристают к платью, колются, вызывают зуд и заставляют человека то-и-дело садиться на землю и терпеливо вынимать их из одежды одно за другим. Они подстерегают вас повсюду, а проникнув в мускулы, начинают бродить по телу, как иголка, и влекут за собой тяжелые заболевания. Большие скотоводческие участки сдаются правительством в аренду на 21 год. Если погода благоприятствует, можно нажить на этом; деле большие деньги. Но, когда солнце месяцами с утра и до ночи жжет раскаленную почву, когда высыхают все растения и трава, когда иссякают последние лужицы застоявшейся воды, — тогда вы целыми днями слышите глухое мычание, поднимающееся к совершенно безоблачному небу, как мольба животных о дожде. И тогда владелец изо дня в день может только считать свои убытки, раз’езжая по пастбищу верхом на полумертвой лошади. Часто предприниматель вкладывает в дело все, что имеет, надеясь на удачу. Претерпев голод, жажду и лихорадку, он, наконец, строит дом, устраивается, выписывает к себе семью, растит своих детей, не имеющих сверстников в своем одиночестве. Еще два-три года, и он мог бы вернуться, обогатившись, домой. Но засуха разрушает все его планы; года уходят, жена его стареет и теряет надежды, дети растут тупыми, глупыми, равнодушными. И все это мог бы исправить один хороший дождь… И хозяин все ждет и ждет его… Постройки скотоводческой фермы сделаны из дерева и коры, как это принято в кустарниках, но ценность имения заключается не в них, а в изгородях, на которые производятся главные затраты арендаторов. Пограничных изгородей обычно не ставят, а, пригнав скот на новый участок, в течение нескольких недель стерегут его. Скот быстро привыкает к местности, избирает себе определенный водопой и причиняет владельцу очень мало хлопот. После дождей пастухи выезжают верхом на пастбище и загоняют коров с телятами в изгороди, чтобы выжечь молодняку пометку на шкуре, — «тавро». Каждый владелец заявляет о своем тавро властям; кроме того, чтобы различить скот с седла, ему обрезают различным образом уши.* * *
Заведующий нашей фермой был еще молодой человек. Ферма не принадлежала ему, он был только управляющим. Другой важной особой на ферме был китаец-повар, который готовил так скверно, как это вряд ли когда удавалось какому-либо самому бездарному повару. Он презирал европейцев за то, что они не курят опиума. Трое белых работников фермы принадлежали к разряду бездомных бродяг, у которых в прошлом была либо тюрьма либо ответственный пост. Вообще — люди с воспоминаниями и без воспоминаний. Но я должен оговориться, что те из них, которые не могут похвастаться темным прошлым, быстро придумывают себе таковое, и так часто и много о нем рассказывают, что под конец сами начинают верить в него. Бродя по бесконечным тропам кустарников с жалким узелком за спиной и собакой в качестве единственного спутника, они вечно видят перед собой смерть. И чем больше они странствуют, тем больше избегают человеческого общества, тем больше теряют охоту к труду, тем равнодушнее относятся ко всяким соблазнам… Обреченные всю жизнь быть пленниками этой сожженной солнцем степи, они безвольно скитаются по ее просторам. И в такт усталого шага отупевшая мысль по привычке повторяет все одно и то же: «Вот что надо было сделать. Вот что могло из меня выйти»… Кто представляет себе жизнь на скотоводческой ферме в виде ряда разбойничьих и охотничьих приключений, как это делал я, тот жестоко ошибается. Это — почти непрерывная работа топором и лопатой, бесконечные поездки верхом по палимым солнцем равнинам, постоянные ночные бодрствования и прочие «удовольствия» в таком же роде. Живя на ферме, надо все уметь: чинить заборы, вытаскивать из болота увязнувшего быка, доить коров, травить диких собак, чинить седла и т. д. Только в определенное время года, после периода дождей, ковбой исполняет свои собственные обязанности. Он по две недели кряду раз’езжает верхом по кустарникам, пока не загонит всех намеченных телят и коров.* * *
Прежде чем приступить к накладыванию тавро на телят, надо было об’ездить несколько молодых лошадей. Вряд ли можно назвать «охотой» загон молодых лошадей в огороженное пространство. Но я не знаю лучшего спорта, чем скакать за табуном несущихся жеребят, заходя им то с левого, то с правого фланга, то наперерез им, чтобы загнать, наконец, в ворота загона, где они, дрожа и фыркая, бьют землю копытами и обнюхивают, тревожно вытягивая головы, столбы загородки. После этого начинается «обламывание». Один из жеребят отделяется и загоняется в отдельную изгородь, где ему накидывают на шею лассо. После этого его щекочут и гладят длинным шестом. Жеребенок все время с бешенством бросается на своего мучителя, но тот пользуется всякий раз случаем, чтобы опутать ему ноги и шею. Наконец, животное не может больше двигаться, потому что каждое движение все туже затягивает петлю на шее или валит его с ног. Хорошенький способ «учения»!..
Жеребенка загоняют в отдельную изгородь, где ему на шею накидывают лассо, и начинается «обламывание»…
Когда жеребенок немного успокоится, его седлают, взнуздывают, и об’езжающий взбирается ему на спину. Брыкаться он не может, потому что петля затягивается у него на шее, но он кусается, бросается на землю и катается по ней до тех пор, пока, наконец, измученный, не сдается окончательно… Тогда у него снимают с шеи лассо, отворяют ворота и он мчится на волю, в кустарники. Простор подстрекает его еще раз попытаться освободиться от своего мучителя. Но это ему не удается, и он после долгой скачки возвращается в загородку, покрытый пеной, но послушный поводьям. Огонь строптивости в его глазах уже погас. На другое утро процедура повторяется. Но худшее уже позади, и через несколько дней жеребенок заносится в книги в рубрику «объезженных лошадей».
* * *
В это время года, ночью, ковбой, пожираемый москитами и муравьями, спит на земле, а утром, еще до рассвета, отправляется по сырой траве, дрожа от холода, ловить лошадей. Потом наступает бесконечный знойный день, почти всегда без воды. С ослепленными ярким солнцем глазами ковбой то мчится галопом по лесу, с опасностью сломать себе шею, то плетется в густом облаке едкой пыли за медленно двигающимся к ночному лагерю стадом, надрывая пересохшую глотку, чтобы подогнать отстающих коров. Ночью стадо часто приходится сторожить, потому что изгороди есть не везде. Смертельно усталый ходит ковбой кругом стада, и считает себя счастливым, если: скот лежит спокойно. Звезды «Южного Креста» медленно движутся по небу и, наконец, показывают полночь. Смена. Камнем падает ковбой на землю и засыпает… И вдруг — громкий крик. Спящего трясут за плечо, он вскакивает, протирает глаза… Поздно. Костер почти совсем погас. Издали доносится шум, похожий на гром. Земля дрожит. Стадо исчезло. «Стампид»!… Ковбой схватывает обороть и кнут, которые лежат рядом с «подушкой» (полмешка муки), и бросается во мрак. Он ловит первую попавшуюся лошадь, распутывает ей ноги и мчится через лес, доверяя целость своих коленных чашек и даже жизнь разуму животного.
«Стампид»!.. Ковбой схватывает обороть и кнут и бросается во мрак. Он ловит первую попавшуюся лошадь и мчится за обезумевшим стадом, стараясь оттеснять испуганных животных от опасных мест.
Мчится ковбой. Вблизи кто-то падает, конь и всадник лежат на земле, но останавливаться некогда. Скоро в темноте ковбой различает встревоженное стадо. Пришпорив лошадь, он проносится мимо бегущего стада и об’езжает его с фронта. Лошадь худа, хребет ее остр, как топор, а скакать приходится без седла! Ковбой наклоняется вперед, цепляется за гриву и мчится в темноте. Стволы деревьев мелькают жутко близко, словно телеграфные столбы мимо курьерского поезда. Всадник заходит с фланга обезумевшего стада. На пути бегущего стада — высохшее ложе реки с подмытыми берегами. Если стадо пронесется туда, — на утро будет только груда трупов. Ковбой оттесняет стадо от опасного места и продолжает гнать его все кругом и кругом, пока уставшие животные не остановятся. Один из ковбоев, отчаянно смелый юноша, в пылу скачки очутился впереди обезумевшего стада. Чтобы спастись, он погонял свою лошадь изо всех сил, но лошадь была настолько измучена, что бежала все тише и тише… Утром был найден труп ковбоя, раздавленного стадом. Трудно сказать, что так пугает иногда скот. Совершенно внезапно посреди самой тихой ночи спящим стадом овладевает панический ужас; и не успеет ковбой опомниться, как сотни и тысячи голов скота обращаются в бегство. Вероятно, начинается с того, что какое-либо животное вздрагивает во сне от укуса насекомого или слабого, но неожиданного звука. Соседним животным передается это движение: какой-нибудь бык шарахается в сторону — и пугает других, сонных, не понимающих, в чем дело. Опытные люди говорят, что если скот удастся провести благополучно в течение первых двух недель, опасность «стампида» уже исключается. Когда скот перегоняют на продажу в города или к огромным холодильникам, погонщики по двадцать часов не слезают с седла, а передвижение продолжается часто целый год или даже полтора. Но человек привыкает ко всему. И если дорогой встречается река или пастбище с хорошей травой, то погонщик даже отдыхает. Закон требует, чтобы стада совершали не меньше шести миль в день. Но в обязанности погонщика входит также добывать, где только возможно, траву для своего голодного стада, и он даже крадет ее всюду, где ухитрится. Если трава не попадается долго, изголодавшиеся животные начинают отставать, и когда кнут не может больше заставить их двигаться, — отставших бросают издыхать в степных песках. Если погонщик носит с собой среди прочего своего имущества еще и сердце, то ему приходится очень тяжело… Много пишут об ужасах войны. Но вид такой голодной безводной пустыни несравненно страшнее поля битвы. Здесь бой идет о невидимым, неслышным, неосязаемым врагом. Немые страдальцы-животные защищаются от своих мучителей только взглядами, полными упрека. Загнанные костлявые лошади. Спаленная солнцем почва. Отчаянная медленность движения. Жгучий сухой воздух. Жадные черные хищники-вороны… А до ближайшей воды, смотришь, целых двадцать пять миль! Однажды из 900 голов скота, перегонявшегося из центральных степей в Бурке, дорогой погибло от жажды 600. В другом стаде в 1.000 голов, которое гнали в Сидней, 785 голов погибло от ядовитого растения, росшего в изобилии вокруг места стоянки скота. Скот, который выращивается в местностях, где встречаются ядовитые растения, не притрагивается к ним, но чужой скот часто погибает от неведения.
III. Охота на кенгуру.
Рождество прошло, и мы стали думать о том, будет ли дождь или не будет. На этот раз дождь пошел, и все сразу изменилось, как будто на экране кинотеатра. Голые песчаные дюны, в которых никто не мог подозревать и зародыша жизни, пустынные равнины с растрескавшейся почвой, мертвые гранитные холмы, безжизненные кустарники, — все зазеленело, оделось в весенние, вернее, летние одежды. Во внутренней Австралии! весны нет так же, как нет сумерек. И вскоре скот оказался по самые уши в сочной траве, над которой проносилось влажное теплое оплодотворяющее дыхание. Всюду появились цветы и молодая листва, всюду разлилось довольство и радость. Никто, глядя на эту цветущую равнину, не поверил бы, что каких-нибудь две недели тому назад здесь была скорбная пустыня, высасывающая жизнь из всякою живого существа.* * *
— Пока не началось наводнение, нам надо поохотиться на кенгуру, — сказал мне однажды управляющий фермой. Скот еще недостаточно оправился после голодовки и его нельзя еще было гнать в город. Почва после долгой жажды вволю напилась воды и приобрела упругость, которая чувствовалась теперь всадником даже на самой ленивой лошади. «Теперь, по крайней мере, не так жестко будет падать», — говорил я себе, ухмыляясь от удовольствия. На ферме имелось несколько охотничьих собак, внешностью похожих на борзых, только грубее, костлявее и крупнее их. С такими собаками здесь охотятся на кенгуру. Выбрав себе лучших скакунов из табуна в 800 голов, мы выехали; в одно прекрасное утро с фермы еще до рассвета, преисполненные давно неиспытанного чувства бодрости. Вначале мы поехали вдоль прямолинейной изгороди, тянувшейся на целых сорок миль и разделявшей землю фермы на две половины: на одной половине откармливались быки, предназначенные на убой, на другой — пасся племенной скот. В конце ограды находилась так называемая внешняя ферма, — небольшое строение, соединенное телефоном с главным зданием. Провод телефона шел прямо по изгороди, и это устройство давало возможность не держать пограничного сторожа, так как порча телефона сейчас же дала бы знать о прорыве изгороди. Посредине изгороди и под прямым углом к ней равнину пересекала река Митчель, впадающая в залив Карпентария. Когда мы пересекали эту реку, я заметил, что в об’емистом русле ее, свыше 500 метров в ширину, протекала лишь по самому дну его тоненькая струйка воды. Я высказал свое удивление по поводу несоответствия величины русла и количества воды, но управляющий засмеялся и сказал: — Вот подождите — увидите. Вскоре после этого мы заметили первых кенгуру. В здешней местности сумчатых сравнительно мало. В других местах — напротив, их так много, что они являются настоящим бичом скотоводов. С тех пор, как охотившиеся на кенгуру негры исчезли под напором колонизации, эти животные начали сильно размножаться. Почти каждый округ обложен налогом, исчисляемым по количеству скота, и собираемые от налога суммы идут специально на образование фонда борьбы против этих губителей пастбищ. Сотни людей живут исключительно охотой на кенгуру, получая известную плату за каждый скальп убитого животного и, кроме того, продавая шкуры по нескольку марок за штуку. Охотник за кенгуру должен быть хорошим стрелком и хорошим следопытом. Верхом на лошади преследует он семейство кенгуру, убивая одно животное за другим прямо с седла. При этом он должен, щадя шкуру, употреблять только пули. Проскакав миль десять, охотник возвращается по своим следам обратно, сдирает шкуры с убитых перед тем животных и нагружает их на лошадь, оставляя самые трупы на с’едение коршунам, воронам и диким собакам. Вернувшись в лагерь, охотник распяливает добытые шкуры на солнце, внутренней стороной вверх, и посыпает их солью с золой, подготовляя к отправке. Головы диких собак, которые часто производят среди скота большие опустошения, ценятся еще дороже. В Южной Австралии власти одно время платили по 20 марок за каждый скальп дикой собаки, в то время как в соседней Западной Австралии, платили по 10 марок, но в качестве доказательства требовали хвост собаки. Между охотниками обеих областей возник оживленный обмен вышеназванными предметами; которым из них эта мена была выгоднее— неизвестно, но, во всяком случае, правительству каждая убитая дикая собака обходилась в 30 марок: 10—за хвост и 20—за скальп.* * *
Поднявшись по крутому берегу реки, мы очутились на обширной равнине, поросшей деревьями. Наши охотничьи собаки вдруг залаяли, и в ста шагах от нас поднялось целое стадо кенгуру, рассыпавшееся по всем направлениям. Собаки выбрали самое крупное животное, повидимому, вожака стада, серого, ростом в два метра, «старика». Огромными прыжками, выпрямив хвост, как руль, «старик» бросился в кусты, а за ним — вся свора собак. Пригнувшись к седлу, забывая о деревьях и низко нависших ветвях, мы неслись за ними на свежем утреннем воздухе, одушевленные радостью охотников… Миля пролетела за милей, но «старик» не выказывал и признаков утомления. Условия охоты тем временем изменялись к худшему, — мы приближались к холмам. Лошади начали спотыкаться о камни, неподкованные копыта их все чаще и чаще ударяли о каменистую почву. Дорога шла в гору, но «старик»-кенгуру мчался попрежнему далеко впереди. Мы пришпорили лошадей, собаки, задыхаясь, напрягали все свои силы… Наконец, мы, добравшись до гребня горы, стали спускаться. Кенгуру сделал два-три громадных скачка, потом вдруг упал и кубарем покатился под откос. Он, правда, сейчас же поднялся на ноги, но, сделав прыжок, опять покатился. Кенгуру вообще плохо бегают с гор, они при этом теряют равновесие: им мешает хвост. — Он встал! — крикнул вдруг управляющий, у которого лошадь была лучше всех и который скакал сейчас же вслед за собаками. И правда, бросив тщетные попытки убежать от своих врагов, «старик» встал спиной к огромной скале и ждал нашего приближения, готовый к бою. Он, видимо, не был еще утомлен, но понял, что ему не уйти. Собаки с визгом набросились, было, на него, но тут же с воем отскочили, а одна из них, раненая ужасными когтями задней ноги кенгуру, завертелась по земле, испуская дух… Управляющий подоспел собакам на помощь. На всем скаку он отстегнул от седла стремя, взмахнув им над головой, нацелился в голову кенгуру, — и промахнулся…
Управляющий подоспел собакам на помощь. На всем скаку он отстегнул от седла стремя, взмахнув им над головой, нацелился в голову кенгуру, — и промахнулся…
Все последующее произошло так быстро, что я не успел ничего сообразить. Вероятно, сила взмаха заставила его потерять равновесие, и он упал с лошади прямо в лапы стоявшего кенгуру. Как медведь, облапил его «старик», и одна из его задних лап уже; поднялась, чтобы разодрать свою жертву так же, как только-что была разодрана собака. Но в это мгновение мимо кенгуру, размахивая стременем на длинном ремне, промчался старший ковбой… Как сраженный пулей, «старик» рухнул на землю, все еще держа в лапах управляющего. Собаки бросились на свою жертву, а управляющий, весь изодранный, в крови, поднялся на ноги, крепко ругаясь: он призывал проклятия на кенгуру и весь его род до четвертого поколения, проклинал всех его предков, и затем обратил свой гнев на окружавший нас ландшафт. Неодобрительно отозвавшись о гранитных скалах, он еще более непочтительно выразился о климате, обругал управление колонии и доверчивых поселенцев, клялся, что сейчас же застрелит лошадь, которая его, якобы, сбросила, и, наконец, добросовестно отколотил всех собак, оставшихся в живых, и единственного сопровождавшего нас негра, — благо, разница между неграми и собаками, на его взгляд, равна нулю… После этого ему, видимо, стало легче. Он заявил, что охота на кенгуру годится только для новичков и городских франтов, а он, мол, сейчас же вернется домой. Нам же управляющий предложил не стесняться и продолжать охоту, которая всем очень нравилась. Но дурное настроение охотника-неудачника подействовало и на остальных, только старший ковбой ехидно улыбался, пристегивая стремя к седлу. Стремя — очень простое, но очень опасное оружие в руках человека, умеющею с ним обращаться. В одном из городов Квинсленда однажды произошло восстание негров — рабочих сахарных плантаций — против хозяев-эксплоататоров. Рабочих было в десять раз больше, чем хозяев, и они были вооружены охотничьими ножами и копьями. Однако, хозяева вскочили на лошадей и, атаковав негров, вооруженные одними только стременами, легко одержали над ними верх. Правда, с тех пор негры стали умнее. Они поняли, что бороться с белыми эксплоататорами нужно их же оружием. И при последующих восстаниях у негров появились и винтовки… Молча направились мы обратно к реке, где перед тем оставили другого негра, поручив ему приготовить завтрак. Лошадь управляющего скрылась где-то за горизонтом, но так как ее всегда кормили на ферме (особая роскошь, которую позволял себе управляющий) и она очень хорошо знала свои ясли, то нечего было беспокоиться за нее. Негру, уступившему свою лошадь управляющему, пришлось итти пешком, — только и всего. Никто не обратил на это внимания — так и следует; не может же какой-то «грязный негр» ехать верхом, в та время как рядом «белый джентльмен» идет пешком! Сев на лошадь негра, управляющий бешено шпорил ее, и я мог наблюдать все прелести скачки на полудикой австралийской лошади. Австралийское седло устроено, как английское, но имеет по обе стороны спереди предохранители для колен. Эти предохранители дают возможность очень крепко держаться в седле, но фокусы, которые, может проделывать здешняя лошадь, когда ей что-нибудь не нравится, возбудили бы зависть в самом лучшем акробате. Поджав хвост и спрятав голову между ногами, австралийская лошадь выгибает дугой спину, подпрыгивает сразу на всех четырех ногах и снова опускается на землю, при чем прыжок жестоко трясет позвоночник всадника. Если лошади не удалось освободиться от всадника при помощи подобных искусных приемов, — она взвивается на дыбы, старается ухватить зубами за ноги всадника, и, наконец, в порыве бешеного гнева, бросается на землю. В такой момент всаднику приходится только не зевать и думать о спасении своей жизни. Дело в том, что лошади на австралийских скотоводческих фермах по окончании тяжелых работ отпускаются на волю до следующего года, и за это время совершенно дичают. Случается, впрочем, что наисмирнейший скакун вдруг, ни с того ни с сего, испытывает непреодолимое желание потанцовать на левой задней ноге, и тогда горе всаднику, который не умеет справиться с лошадью. Управляющий всегда уверял, что лошадь, на которой ездил негр, была смирна, как овца, но, мол, негр сам испортил ее своим неумением, с ней обращаться… Поэтому мы с величайшим интересом увидели, как по прошествии не более полуминуты воздушная гимнастика кончилась тем, что управляющий взлетел вверх метра на три, а затем грохнулся на землю. Он сидел, тяжело отдуваясь, довольно долго, и молча смотрел в небо. Тем временем лошадь поймали, и она успела успокоиться. Когда ее вновь подвели к управляющему, он молча взобрался на седло и поехал впереди всех…

Мы с величайшим интересом следили за воздушной гимнастикой управляющего, после которой «смирную, как овечка», лошадь поймали, и она успокоилась.
(Окончание следует).


ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК
К рисунку на обложке, сделанному с натуры в Берлинском Зоосаде художником В. А. Ватагиным
А. Фохтлендер
Охота на оранг-утана
Рассказ
— Туан! Туан! Теда волле пиги кампонг![4]). — О, чтоб вас!.. Никогда не дадут выспаться как следует в этой стране обезьян. Ну, что там такое случилось, говорите толком! — Господин сказал, что хочет ехать в шесть часов в кампонг к Мустафе. Тут мне вспомнились все мои похождения. Я приехал сюда издалека, из северной части Суматры, и остановился в доме одного старого знакомого, чтобы навербовать в соседних малайских кампонгах охотников или разведчиков для новой охотничьей экспедиции, а если удастся, то и самого старого Мустафу, — знаменитого ловца тигров, с которым я охотился несколько лет тому назад. — Табех[5]), туан. — Табех, Мустафа. После краткого рукопожатия каждый из нас подносит ко лбу руку, в знак приветствия. — Табех, туан, табех, туан, — раздается со всех сторон: это появляется чрезвычайно многочисленное потомство Мустафы, чтобы поздороваться со мною. Обменявшись еще несколькими любезностями с хозяином и его семьей, я начинаю торопить с от’ездом, так как нам предстоит далекий путь. К счастью, поклажи у Мустафы немного, — он собрался быстро. Мы наскоро попрощались, и мотор с шипением тронулся, провожаемый взорами всей семьи. Добрым людям было о чем беспокоиться: ведь глава семьи отправляется охотиться на суматрского носорога, а это — едва ли не самая опасная охота в мире. Но ведь и бедному малайцу надо кушать. И вот приходится рисковать своей жизнью, если есть возможность заработать лишнюю копейку. Мы мчались по очаровательной, чрезвычайно разнообразной местности. Дорога пролегала то среди роскошных зеленых табачных полей, то через длинные кампонги или города, уже затронутые культурой, мимо дымящих заводов, больших фабрик, амбаров и домов плантаторов… Резкий контраст представляли роскошные дома плантаторов рядом с убогими полуразрушенными хижинами малайцев, бывших владельцев этой земли. Еще больше бросалась в глаза эта разница при встрече с самими малайцами. Полуголые, изнуренные работой, с видом загнанных, забитых животных, они как бы подчеркивали довольный, здоровый вид белых землевладельцев. Наконец, дорога привела нас в один из центров нефтяной промышленности Суматры. Здесь — та же картина. Безумная роскошь нефтепромышленников чередуется с ужасающей нищетой фактических созидателей их богатства — рабочих, в большинстве тоже малайцев… Обычные для всех колоний картинки!
* * *
На следующее утро мы отправились в лодке вверх по реке, потом продолжали путь пешком, и вскоре добрались до плантаций последнего европейца, живущего на самой окраине культуры. Здешний девственный лес был мне хорошо знаком; ведь я когда-то бродил в нем по целым неделям в поисках добычи, хотя без всякого успеха, потому что «дичь», привлекавшая меня, то-есть носорог, чрезвычайно редка, и добраться до нее весьма трудно. В день нашего прибытия сюда я приложил все старания, чтобы раздобыть малайцев-носильщиков. В этих хлопотах прошла и большая часть следующего дня; а пока я запасался достаточным количеством с’естных припасов, наступил уже вечер. На следующее утро все было готово. Мы живо позавтракали, торопливо попрощались, и караван наш тронулся в путь по направлению к лесу. И едва я успел углубиться с колонной малайцев в лесную чащу, как меня снова охватила охотничья лихорадка. По хорошо знакомой тропинке, отмеченной перерубленными лианами и маленькими, стоящими вдоль дороги деревцами, которые мы подрезали во время прежних экскурсий, мы скоро добрались до края ужасной «пайя Адье» — огромного болота, протянувшегося на десятки километров в длину и ширину.* * *
У краев пайи Адье возвышаются крутые холмы, покрытые до самой вершины роскошным лесом, которого еще не коснулся топор человека, а местами в него не вступала даже быстрая нога туземца-малайца. Само болото является областью роскошной растительности, пленяющей взор разнообразием и красотой форм и красок. Но горе тому, кто осмелился углубиться в него: пайя — очаг смертельной лихорадки, а бесчисленные колючие растения рвут одежду и царапают кожу. Куда ни кинешь глаз, — всюду колючки. Вот красивый ротанг (индийский тростник) тянется от дерева к дереву, образуя нарядные фестоны. На нижней стороне его изящных листьев, напоминающих пальмовые ветви, сидят колючки, твердые, как сталь; красивый лист оканчивается длинным эластичным отростком, похожим на хлыст и усаженным с четырех сторон цепкими крючочками. Там и сям из влажной почвы торчат толстые листовидные черешки «клоби». Их длинные изящные листья также снабжены бесчисленными острыми, как иглы, колючками в палец длины. Хрупкие, как стекло, колючки эти, попав в тело, тотчас ломаются и причиняют болезненные гнойные нарывы. Вдоль болота, в которое боятся заходить и животные, кроме носорога, пролегает дорога, с давних пор протоптанная слонами, ведущая прямо на север. С чисто человеческой смышленностью прокладывали эти великаны себе тропу в течение, может быть, тысячелетий, избегая как крутых холмов, так и вязкой обманчивой почвы пайи. В продолжение многих часов двигаемся мы по этой тропе. Я и Мустафа идем впереди, а носильщики-малайцы следуют за нами на некотором расстоянии, распознавая дорогу по нашим следам и по зарубкам, которые я делаю при случае на деревьях парангом — тяжелым кривым малайским ножом. Хотя я усердно разыскиваю свежий след зверя, — у меня остается достаточно времени, чтобы любоваться дикой красотой природы. Нас окружает непроходимая чаща тропического леса всевозможных цветов и оттенков. Из общей путаницы особенно эффектно выделяются огромные «марбы» с красноватыми стволами, темно-коричневые «меранти» и серебристо-белый «туаланг», обвитые бесчисленными лианами, которые перекидываются от ствола к стволу. Целые стаи обезьян играют в вышине над нашими головами. В их числе есть и «поющие» обезьяны с блестящей черной шерстью, своеобразное пение которых далеко разносится под зеленым лиственным сводом, и светло-серые гиббоны, и обезьяны «ай-ай», оглашающие воздух пронзительными криками, которые переходят временами в невообразимый глухой рев.

Оранг-утан о-ва Борнео.
Картины окружающей нас природы отличаются богатым разнообразием и полны движения. Солнце быстро и незаметно поднимается все выше и выше, и я удивляюсь, когда Мустафа говорит мне: «Туан, у нас есть с собой готовое кушанье», — деликатный намек на то, что пора обедать.
* * *
Отдохнув немного, мы опять трогаемся в путь. Короткий тропический день быстро проходит, пока мы неутомимо двигаемся к северу. Однако, следов носорога нигде не замечается. Время проходит незаметно; вот уже четыре часа, вот пять часов, и нам пора позаботиться об устройстве ночлега. Скоро мы отыскиваем подходящее место для него. Оно находится неподалеку от воды и в то же время не слишком сыро. Удостоверившись, что на нас не могут обрушиться с высоты засохшие сучья, что вблизи нигде нет муравейника и, следовательно, все условия подходят для ночлега в первобытном лесу, мы приступаем к постройке «пондока», т.-е. шалаша из листьев. Носильщики со вздохом облегчения положили наземь свою ношу и разошлись во все стороны на поиски строительного материала: им надо раздобыть длинных кольев для самого шалаша, широких листьев для крыши, тонкого тростника для скрепления постройки, смолы и сухого хвороста для костра. Через полчаса наше первобытное пристанище готово; оно состоит только из наклонной крыши, устроенной с одной стороны, и спереди совершенно открыто. В речке мы наловили мелкой, но вкусной рыбы. Скоро запылал костер, а в котелке, подвешенном над огнем, весело закипел рис. Ночь в первобытном лесу! Костер тихонько потрескивает; искры пляшут и кружатся огненными хороводами, исчезая в ночном мраке, окутывающем беспредельную зеленую сень. Дрожащие отблески падают на неподвижную листву и освещают ее мягким золотистым блеском. Все спит. Лишь время-от-времени кто-нибудь из спящих встает и подкидывает в огонь свежего хвороста.* * *
На небе занимается заря. «Р-и-ианг!»— раздается в предутренней тишине резкое свиристенье рианга — тропического насекомого, — и при этом звуке в девственном лесу пробуждается жизнь. Остальной животный мир вторит ему на тысячу голосов, наполняя воздух аккордом разнообразных звуков. В нашем уединенном пондоке также начинается движение. В то время, как малайцы приготовляют завтрак, состоящий из вареного риса, сушеной рыбы и чая, я спешу на реку, чтобы освежиться купаньем. В этот ранний утренний час вода в реке холодна, как лед, но глоток горячего чая быстро согревает кровь. Проходит еще четверть часа, и наш маленький караван снова отправляется в путь. Итти не совсем приятно, так как все кусты и трава обильно покрыты росой, и одежда наша насквозь промокает. Все мы радуемся поэтому, когда солнышко поднимается выше и высушивает ночную сырость. Мы уже давно находимся в пути, подвигаясь по удобной слоновьей тропе, но все наши поиски остаются безуспешными, и потому мы решаем прейти прямо через пайю и пробраться до ближайшего «паматана», — возвышенной полосы земли, расположенной среди болота, — в надежде, что там, быть может, отыщутся следы носорога. Мы спускаемся с невысокого пригорка и подходим к краю болотистой водной поверхности, как вдруг раздается оглушительный рев, при звуке которого мы останавливаемся, как вкопанные… В первое мгновение ни один из нас не может сообразить, из чьего исполинского горла вырвался ужасный звук, ко затем МустаФа шепчет мне на ухо: — Мавас бесар сектли[6])! Тут я припоминаю, что несколько лет назад я слышал этот звук, который мавас издает лишь в редких случаях, и мы неслышно подкрадываемся ближе к болоту. Шаги наши не производят шума, — Мустафа, как житель первобытных лесов, путешествует босиком, а у меня — мягкие резиновые подошвы. Несмотря на это, животное, повидимому, услышало нас. В вышине над нами слышится шум ветвей. Мы поднимаем голову и неясно видим на самой вершине огромного дерева какую-то темную рыжеватую массу неопределенных очертаний. Это и есть мавас. И, вдруг, где-то совсем близко от нас опять слышится тот же страшный рев. Он доносится из болота, из чащи водяных растений. Значит, другой мавас спустился с дерева, очевидно, взбешенный присутствием людей.
…Другой мавас спустился с дерева, взбешенный присутствием людей.
Мустафа стережет первого оранг-утана, я отправляюсь в пайю. Моментально заменяю пули со стальными колпачками, приготовленные для носорога, опасными пулями дум-дум, и пробираюсь в болото. То по колена, то по бедра погружаюсь в тину и ил, испускающий удушливые испарения. Корни растений образуют в трясине такую путаницу, что я не могу стать твердой ногой на дно. Со всех сторон торчат листья «клоби», от шипов которых я не успеваю второпях уберечься, и они целыми дюжинами вонзаются мне в голову и руки. Я должен быть готов каждую минуту к нападению «лесного человека». Судя по голосу, это должен быть огромный экземпляр, и мне становится страшно в моем беспомощном положении, Мавас, как известно, нападает на целые отряды людей, бросая в них с вершин деревьев сучьями, и даже сам отваживается бросаться на неприятеля, вооружившись дубиной. Горе мне, если первый выстрел будет неудачен! Я знаю, как велика опасность, потому что несколько лет назад на меня напал тяжело раненый оранг-утан, при чем жизнь моя подверглась тогда большой опасности… Я подхожу к стволу огромного дерева, на котором, кажется, сидел мавас, но ничего не могу рассмотреть. Пробираюсь дальше, но зверя по-прежнему не видно. Раздосадованный неудачей, возвращаюсь обратно на сушу, где, между тем, собрались мои спутники, и узнаю от Мустафы, что мавас, сидящий на вершине дерева, до сей поры не пошевельнулся. При внимательном осмотре я убеждаюсь, что отступление ему отрезано, потому что вверху нет ни одной достаточно крепкой лианы, по которой ему можно было бы перебраться на другие деревья, — значит, мавас от нас не уйдет.
* * *
Теперь вся трудность заключается только в том, чтобы найти около дерева такое место, откуда было бы ясно видно тело животного, чтобы его можно было убить одним выстрелом. Стреляя наугад, можно испортить всю шкуру и, сверх того, подвергнуться опасности нападения со стороны раненого зверя. Поэтому я приказываю малайцам положить свою ношу и пробраться с двух сторон в болото, прокладывая дорогу сквозь колючие кусты с помощью парангов, чтобы дерево можно было обойти кругом и, отыскать удобное место для выстрела. Малайцы осторожно окружают дерево, а я сам подхожу прямо к стволу. В эту минуту в вышине слышится треск. Дубина толще руки, брошенная со страшной силой, с шумом летит сквозь листву и падает в болотную воду, брызгающую во все стороны, около одного из малайцев, который оказался на волосок от смерти. Теперь нельзя терять ни минуты: надо скорее покончить с животным. Мустафа кивает мне. Подбегаю к нему так быстро, как позволяет болотистая почва, и вижу, как в вышине к суку тянется рыжая рука, — рука, принадлежащая настоящему гиганту, величина которою кажется прямо чудовищной. Несколько ниже сквозь листву мелькает огромное бедро обезьяны. Я передаю Мустафе свое тяжелое ружье, беру у него малокалиберное запасное ружье и заряжаю его пулей дум-дум. Затем тщательно прицеливаюсь, стараясь метить по возможности в то место, где находится висок. Слышится резкий выстрел, далеко отдающийся под сводами леса, а минуту спустя — треск, шум, грохот, глухой звук падения тяжелого! тела. Потом все стихает. Мы с Мустафой торопливо подбегаем к тому месту, куда упал мавас, держа ружья наготове, и видим картину, необычайней и ужаснее которой не могла бы представить ничья фантазия. Из болота выглядывает огромная страшная голова обезьяны, уподобляясь голове какого-то чудовища, словно вышедшего из болотной глубины. Рука обезьяны, покрытая длинной косматой шерстью, — рука титана, — уцепилась за корень дерева, торчащий из воды. Чудовище и после смерти продолжает еще скалить зубы, и свирепо глядит на нас простреленным глазом, — пуля дум-дум сделало свое дело. У нас начинается трудная работа. Мы впятером силимся вытащить оранг-утана из болота на сушу. Но нам удается только немного приподнять огромного зверя и уложить его на корни, торчащие из воды. Тут же с него снимается рыжая шкура, достигающая изумительной величины, так как ширина от кисти одной руки до другой равна почти трем метрам!* * *
Мы прервали свое путешествие ради этого редкого охотничьего трофея и отправились в один не слишком отдаленный малайский камтюнг, куда добрались до наступления ночи. Из этой деревни можно было проехать рекой прямехонько в нефтяной округ, куда мы и отправили шкуру и череп оранг-утана, избавившись от необходимости возвращаться туда самим. Эта удачная охота придала нам мужества и окрылила надежды, и на следующее утро мы отправились со свежими силами на розыски следов носорога.---------
Герой этого рассказа — европеец-охотник — недаром называет убитого им оранг-утана «редким охотничьим трофеем». В этих словах кроется очень печальная истина. Такая крупная дичь, как слоны и человекообразные обезьяны являются об’ектом для удовлетворения узкого спортивного честолюбия ищущих «острых развлечений» охотников-европейцев, бесполезно и беспощадно истребляющих этих зверей по принципу «охота ради охоты». В Африке, например, этот хищнический спорт почти совершенно истребил слонов. Эта же печальная участь ожидает, несомненно, и оранг-утана Борнео и Суматры. В следующем рассказе мы даем картинное описание охоты другого рода — с промышленной целью, — для сбыта живых зверей в зоопарки и зверинцы.Оранг-утан в роли наездника

Кино давно уже включило в число своих артистов целый ряд животных, в том числе и человекообразных обезьян. Наша фотография изображает оранг-утана, фигурировавшего для фильмы в качестве наездника, роль которого он исполнял очень хорошо.
Чарльз Майер[7])
Ловля оранг-утанов на Борнео

Рассказ
По странному совпадению три из четырех писем, доставленных мне в тот день почтальоном, содержали заказы на крупных оранг-утанов. Америка, Голландия и Австралия требовали оранг-утанов. Оранг-утаны водятся всего в двух местах — на о.о. Борнео и Суматре. Итак, моя утренняя почта направляла меня на голландское Борнео. Просмотрев расписание пароходов, я позвал своего слугу-китайца Хси-Чу-Ай-Чу, сказав ему, что через три дня мы с ним отправляемся в Пантианак, чтобы добыть несколько взрослых оранг-утанов. Я научился читать на непроницаемом лице Хси-Чу-Ай-Чу. Сейчас я прочел на нем глубокое уныние. Глаза его устремились на мою правую ноту, которой я уже едва не лишился пять лет назад, когда большой оранг-утан схватил меня за щиколотку. — Это может повести к несчастью, туан, — пробормотал китаец. Я рассмеялся и привел малайскую пословицу, гласящую: «То, что принесло несчастье вчера, может завтра принести удачу». Судя по виду Хси-Чу-Ай-Чу, поговорка эта его не убедила, но он, поклонившись, отправился готовить мои вещи для путешествия на пароходе, которое должно было продлиться четыре с половиной дня. Я взял билеты на «Циклоп». Несмотря на свое громкое название, это был самый обыкновенный китайский торговый пароход; капитаном его был англичанин Вилькинс. Вилькинс пригласил меня позавтракать вместе с ним на капитанском мостике, который считалединственным местом на этом старом корыте, хоть сколько-нибудь не походящим на ад. Но и здесь было достаточно жарко. Первое, о чем он осведомился, было: не научил ли меня, наконец, мой опыт, что оранг-утанов лучше оставить в покое. — Не будь оранг-утанов, я не находился бы здесь в настоящее время, — ответил я. — Будьте же, наконец, благоразумны, Майер. Вы срубили дерево, на котором сидела парочка этих зверюг, не так ли? И набросили на них сеть? Я кивнул головой. — У меня есть основание предполагать, что один из них схватил вас за щиколотку и едва не откусил вам ногу? Я сознался, что подобный случай обратил меня в хромоногую утку на три или четыре месяца. — Прекрасно, — сказал он. — Совет старого моряка: воспользуйтесь данным уроком и держитесь подальше от этих забияк. Если уж вам так необходимы оранг-утаны, наловите грудных детенышей и воспитайте их на соске. — Это уж слишком медленно, — ответил я. — Маленький оранг-утан растет почти так же медленно, как человеческое дитя. Мне нужны взрослые. Тогда капитан принялся рассказывать все истории, слышанные им о страшной силе оранг-утанов. Он говорил, что, по словам одного туземца, оранг-утаны иногда нападают на крокодилов, хватают их рукой, за верхнюю челюсть, а другой — за нижнюю, и разрывают животное пополам. Я уже слышал эту сказку в голландском Борнео, и лично в нее совсем не верю. Туземцы верили, да и Вилькинс тоже. Верил он и в то, что ему рассказывали про нападения орангутанов на питонов. По словам осведомителей капитана, оранг-утан схватывает питона своими мощными руками и загрызает огромную змею до смерти. Высадившись в Пантианаке, я заметил, что город не изменился; он походил на любой портовый город в этой части света. Здесь были туземный, китайский и европейский кварталы, с низкими домами, дворы которых были засажены тропическими деревьями и цветами. Я направился к голландскому резиденту, чтобы представиться и получить разрешение отправиться в глубь страны. Пост резидента занимал доктор Ван-Эрман. Ван-Эрман подробно расспрашивал меня о привычках оранг-утанов, возбуждавших в нем научный интерес. Когда я спросил у него, какая из четырех пород обезьян: шимпанзе, горилла, гиббон или оранг-утан — наиболее походит на человека по своему анатомическому строению, Ван-Эрман сказал мне: — Если вы отыскиваете своего пращура, то я, к сожалению, не смогу вам его указать. Зубы гиббона наиболее походят на наши с вами; горилла ближе всего походит на человека ростом; позвоночник шимпанзе наиболее походит на человеческий позвоночник; мозг же оранг-утана по своей формации наименее отличается от мозга человека. Однако, мозг любого человека, скажем, хотя бы ваш, гораздо тяжелее мозга вполне взрослого оранг-утана. В Пантианаке у меня происходили продолжительные разговоры с Магометом Тайе, торговцем дикими зверями, которого я хорошо знал. Он все мне наладил и послал вперед лодку с туземцем, который должен был совершить путь вверх по течению в двенадцать дней и предупредить моего старого друга, Магомета Мунши, о моем приезде (Мунши был старшиной кампонга). Еще выше по реке у меня был второй знакомый— Омар, тоже старшина; деревни обоих я хотел сделать базами для предстоящей ловли оранг-утанов. Тайе радовался, как ребенок. Он закупал для меня соль, рис и соленую рыбу, и затем уговорил удвоить запас спичек и табаку. — Маленькие огненные палочки, — сказал он, — очень осчастливят моих друзей, живущих вверх по реке, а табак полезен зубам, жующим много орехов бетеля. — Когда я буду давать им эти вещи, — ответил я, — я скажу им, что сердце Тайе широко раскрыло кошелек туана. В порыве радости Тайе схватил мою руку и прижал ее ко лбу. Вскоре я убедился, что Тайе сделал все возможное для моего комфорта во время путешествия по реке. Для припасов имелась особая лодка, а предназначенная лично мне была снабжена длинным навесом с соломенной крышей. Хои-Чу-Ай-Чу отлично умел обставить подобного рода путешествия. Едва мы успели от’ехать, как у него уже кипел чайник на огне, разведенном в ящике с песком. Тропическая река отличается крайне угнетающим однообразием. Она несет вас между двумя зелеными стенами. Когда на пути встречается приток, впадающий в реку, то. можно видеть, что растительность на берегах его так густа, словно перед вами раскрывается сплошной зеленый туннель. В трех метрах выше устья притока уже совсем темно. Раздается неумолчная обезьянья трескотня, к ней примешиваются птичьи крики и скрип цесарок; на берегу бродят павлины, волоча за собой длинные хвосты; из воды по временам выскакивают летучие рыбы. Я невольно стал привыкать к молчанию, ибо, если я заговаривал с гребцами, — они прекращали свою работу, чтобы прислушаться к моим словам и ответить, а в это время течение относило нас обратно. Будь я болтлив, нас, наверно, отнесло бы незаметно обратно в Пантианак. На двенадцатый день, вечером, я уже мог рассмотреть вдали кампонг Магомета Мунши. Достав револьвер, я выстрелил в воздух. Приятель мой наверно ожидал меня, так как не успел еще дым от выстрела рассеяться, как грубая, выдолбленная из древесного ствола лодка отчалила от берега и направилась к нам. Сидевшие в лодке люди что-то кричали, и, энергично погружая свои остроконечные весла в воду, гребли так усердно, точно желали выгрести всю воду из-под своей лодки. Не прошло и двух минут, как они уже очутились возле нас. В под ехавшей лодке оказались оба знакомые мне старшины — Мунши и Омар. Старшины поднялись в своей неустойчивой лодке на ноги, ухватились за крышку моей лодки и прыгнули в нее. Они по очереди брали мою руку, прижимали ее к своим лбам, смеясь, точно обрадованные дети. Такая встреча меня глубоко тронула. Перед этим; Мунши послал вестника, который должен был совершить четырехдневное путешествие вверх по реке, чтобы об’явить Омару о моем посещении, и Омар спустился вниз по реке для встречи со мной. Мужчины, женщины и дети, — все высыпали на берег. Южные даяки совершенно не похожи на своих беззаботных и беспечных северных соплеменников. Это — простой доверчивый народ, на который смело можно положиться. С трудом верилось, что всего за одно поколение даяки были охотниками за человеческими головами. Даяки поедали сердца своих врагов, чтобы «придать себе храбрости». Я сделал даякам знак собраться вокруг меня и попросил Мунши перевести мою речь. Я просил его передать всем, что я приехал специально за оранг-утанами, и что мне необходимы живые оранг-утаны. После оживленных переговоров, Мунши передал мне: — Я им сказал, туан, и они будут для тебя точно пальцы твоих собственных рук. Но они говорят, что оранги злы, а у самих охотников желудки пусты и требуют пищи. Они спрашивают, для чего это туану нужно брать с собою больших обезьян, кормить их и содержать в праздности. Подумав с минуту, я ответил: — Мужчинам, женщинам и детям далеких стран полезно видеть животных джунглей. Мунши поклонился. — Я им скажу, туан, что в твоей стране созерцание зверей — хорошее лекарство для глаз. Этот ответ убедил туземцев, и двадцать человек ответили согласием на воззвание Мунши, предлагавшее жителям собрать материал и изготовить из него западни и сети. Я об’яснил Омару, что самой заветной моей мечтой был взрослый самец-оранг-утан, и что я надеюсь добыть его при помощи западни, укрепленной на дереве. Рисунками на песке я показал, что этот тип западни будет иметь форму ящика, один конец которого представляет дверь, скользящую вверх и вниз по желобкам. С середины каждого бока одна стойка будет подниматься выше ящика. Верхние концы этих стоек должны соединяться поперечной перекладиной. На этой перекладине будет свободно лежать шест, поддерживающий дверцу, чтобы она не падала вниз. Кусок бамбука, прикрепленный к свободному концу шеста (концу, не прикрепленному к двери), пропустится вниз через верх клетки и придержится защелкой. К этой защелке нужно будет привязать плоды в качестве приманки. Схватив плоды, оранг-утан двинет защелку и освободит шест, что заставит дверку упасть. Таким образом, животное очутится в западне. Большое преимущество такой западни в том, что ею можно пользоваться как клеткой для перевозки животных. Я просил делать клетки очень прочно, из бамбуковых палок, и чтобы палки были часты, — почти касались бы одна другой. Палки эти крепко связывались индийской пенькой и скреплялись поперечинами. Желоба, по которым должна была скользить дверца, были сделаны из толстых бамбуковых стоек, от которых был срезан небольшой кусок, благодаря чему поперечный разрез походил на букву «С».

Западня оранг-утанов, поднятая при помощи веревок из индийской пеньки, привязывалась к разветвленному суку, дверью, к дереву. Внутри ее обкладывали листьями и ветками и покрывали зеленью и вьющимися растениями.
На верху двери находились крепкие защелки, которые замыкали ее, как только дверь становилась на место. Я позаботился о том, чтобы нигде не было слабых мест, так как вовсе не желал повторения случая, причинившего мне когда-то столько хлопот в Сингапуре. В Сингапуре я продал однажды двух молодых оранг-утанов одному человеку, посадившему их в приготовленные для транспорта досчатые клетки. Покупатель выхлопотал у хозяина гостиницы разрешение оставить клетки с животными временно в гостинице, в зале, отведенной для театральных представлений и снабженной сценой и декорациями. В одно прекрасное утро меня спешно разбудили и заставили вскочить с постели, сказав, что оба оранг-утана вылезли из клеток. Требовалась моя помощь, чтобы поймать их. Накидывая на себя платье, я попросил собрать как можно больше людей с тростями и доставить все там-тамы (туземные барабаны), какие только можно было найти в городе. В конце-концов положение оказалось. не таким уже страшным. Оранг-утаны, правда, вылезли из клеток, но они все еще были в зале с закрытыми дверями и окнами. Там собралось с полдюжины туземцев, — слуг гостиницы, — готовых принять участие в ловле. У каждого из них было по тросточке, а у большинства — и там-тамы. Один же из туземцев, — вероятно, повар, — держал в одной руке большое жестяное блюдо, а в другой — металлическую ложку. Я взял там-там и трость, отворил дверь и, войдя в залу, сейчас же закрыл дверь за собой. Между тем, оранг-утаны, — самец и самка, каждому из которых было лет по пяти, — нерешительно совершали обход зала, очевидно, с целью его исследования. Они чувствовали себя, как рыба, вытащенная из воды. Ведь родная их стихия — деревья леса. Оранг-утаны могут чувствовать себя как дома только там, где ветви одного дерева касаются другого, а воду можно найти во впадинах громадных тропических листьев. Здесь же, в зале, животные медленно бродили вдоль стен, ворочая головами и моргая маленькими черненькими глазками. Когда они вытягивались во весь рост, их необычайно длинные передние руки касались пола. Полусжав кулаки, обезьяны ступали суставами их, пользуясь передними руками, как костылями. Увидев меня, оранг-утаны прекратили свою неуклюжую прогулку, прижались друг к другу и уставились на меня. Я ударил в там-там. Каждая из обезьян подняла руку, точно желая отклонить удар. — Уф! — произносили они своими грубыми голосами. — Уф! Уф!.. Я позвал туземцев. — Гоните их в открытые клетки, — сказал я. — Не бейте их, пока это не станет крайне необходимым, но шумите так, точно здесь собрался весь ад. Однако, я упустил из виду необходимую предосторожность. Мне следовало расставить всех своих помощников перед сценой залы, чтобы преградить обезьянам доступ туда. Оранг-утаны не могли прыгать с пола, как другие обезьяны, но они с поразительной быстротой побежали по полу, взобрались на подмостки и полезли вверх по деревьям-декорациям. Там они прицепились, глядя на нас вниз и рыча. — Бейте в там-тамы! — закричал я туземцам. — Как можно больше шума! Оранг-утаны перепрыгивали с одной накрашенной ветки на другую. Парусина декораций с треском разорвалась длинной полосой. Трах!., и вся тонкая рама повалилась. Оранг-утаны упали с грохотом на пол. Но они расшиблись не больше, чем расшибся бы резиновый мяч. Через несколько секунд они уже висели на другом парусиновом дереве. Когда эта парусина также начала рваться и трещать, они ухватились за следующее. Животные меняли свое положение каждую секунду, пока, наконец, вся сцена, только-что представлявшая собою красивый тропический вид, не превратилась в кучу щепок и обрывков материи. Сквозь грохот там-тамов я услышал, как кто-то кричит и ломится в наружную дверь залы. — Сюда нельзя войти! — закричал я в ответ. Это был хозяин гостиницы. — Берегите мои декорации! — кричал он. — Постарайтесь, чтобы с ними ничего не случилось! — Сделаю все, что смогу! — ответил я. Когда больше не осталось парусиновых деревьев, мы могли, наконец, приняться за дело. Мы пустили в ход весь шум, который только могли произвести, и нанесли животным несколько ударов. Оранг-утан-самец ухватился за бамбуковую трость, которой я размахивал. Я не стал оспаривать у него палку и взял другую. Через секунду самец уже выронил свою. Напади он на нас при помощи палки, он мог бы повернуть дело по-своему. Отличительной чертой этих животных, было то, что, обладая огромной силой, они совершенно не умеют пользоваться ею. Мы порядочно измучились раньше, чем удалось загнать их в клетки. Оранг-утаны, уже сидя в клетках, жадно принялись глотать воду огромными глотками и есть сочные плоды, а своим «уф!», казалось, говорили, что, мол, и им пришлось не мало поработать. Вскоре выяснилось, каким образом животные выбрались на свободу, или, по меньшей мере, как выбрался на свободу самец. В своей досчатой клетке он нашел расщепившуюся планку и стал отрывать ее зубами. Он отрывал щепку защепкой до тех пор, пока не прогрыз планку насквозь. Затем он ее отломил. Вероятно, выбравшись наружу, орангутан случайно освободил защелку на дверях другой клетки, когда перелезал через нее. Но вернусь к описанию ловли орангутанов в лесах Борнео. Я с удовольствием вспомнил, что ни один зуб не в состоянии расщепить бамбук, и был уверен в прочности клеток, которые делали для меня односельчане Омара. Конечно, я отлично понимал, что, если пойманный в клетку взрослый оранг-утан задумает напрячь мускулы и нажать своими могучими руками на ее бамбуковые прутья, никакие скрепы из индийской пеньки не в силах будут устоять против такого напора. Но я знал также, что оранг-утаны никогда так не делают. Их способ атаки состоит в том, чтобы притянуть к себе предмет и кусать его. Так, отламывая ветки для гнезда, оранг-утаны всегда притягивают ветви к себе. Они никогда не тянут их вниз или в сторону, как это делает человек. Со страшной быстротой оранги небрежно раскидывают эти ветви на развилине сучьев крест-на-крест. Однако, мне всегда казалось удивительным не то, что делают эти животные, а то, что, несмотря на свою чудовищную силу, они делают так мало. Даже и при самой умелой дрессировке в неволе, оранги выучиваются кое-чему очень медленно. Шимпанзе можно научить многим штукам, которым оранг-утан никогда не научится. По образцу западни, построенной под моим руководством, Омар распорядился сделать полдюжины таких же западней, конечно, из сырого бамбука, которого никакие зубы не могут расщепить; затем Омар наготовил еще клеток для посадки уже пойманных животных. Западни были хорошо сработаны. Молодой туземец Юсуп взял на себя ответственность за безукоризненное изготовление и прочность этих клеток. Когда я расхвалил Юсупа за его работу, на лице его отразилась гордость, а когда я попробовал двигать дверцы вверх и вниз, — он не спускал с меня глаз. — Они бегут, как вода, — сказал я по-малайски. Юсуп меня понял и громко рассмеялся. Чтобы прикрепить одну западню на место, нужно было провести целый день в джунглях. Выбиралось не то дерево, на котором находилось гнездо, где спят оранг-утаны, но находившееся поблизости к нему, и на нем непременно должно было быть удобное разветвление, на котором укрепляли западню. Подходящее дерево обыкновенно находил Юсуп. У нею словно был какой-то особый инстинкт в этом отношении. Найдя дерево, он устанавливал у ствола его свой бамбуковый шест с надрезами и взбирался наверх, как кошка. За ним сейчас же поднимались три или четыре туземца. Затем западня, поднятая при помощи веревок из индийской пеньки, привязывалась к разветвлению, дверью к дереву. Вскоре западня стояла уже так крепко, точно она приросла к дереву. Тогда ее внутри обкладывали листьями и ветками и покрывали зеленью и вьющимися растениями. Когда все это было готово. Юсуп привязывал плоды внутри клетки, в дальнем конце ее. Временно я использовал западни в качестве столов с плодами для даровых обезьяньих завтраков, пока не установится доверие обезьян к самим западням. Я был убежден, что ни один оранг-утан не соблазнится войти туда, пока не увидит, что какие-нибудь другие обезьяны попытаются это сделать и выйдут невредимыми. Обезьяны никогда не сделают никакого открытия молча, и обязательно вступят в препирательства по поводу открытого ими. Их трескотня привлечет внимание оранг-утанов, а стоит только оранг-утанам заинтересоваться, как они разгонят всех обезьян. В течение нескольких дней мы расставили семь западней на протяжении квадратной полумили. Мы посещали их каждые два дня, и, если плоды оказывались с’еденными, мы заменяли их новыми. Совершая как-то один из таких обходов, я случайно заметил на дереве ржавокрасный оттенок шкуры старою орангутана. Он сидел на ветке, придерживаясь одной рукой за другую ветку, свешивавшуюся над его голодай. Я мог видеть, что в свободной руке он держал что-то трепещущее. Вскоре я заметил, что орангутан сидел возле птичьего гнезда и поймал, вероятно, птицу-самку. Он придвинулся к стволу дерева и оперся на него, — вниз стали падать перья и кости. Птица была с’едена. Я и раньше слышал, что оранг-утаны едят птиц, но никогда этому не верил, и даже производил многократные опыты в моем зверинце в Сингапуре. Несколько раз предлагал я сидевшим в клетках оранг-утанам мясо, и сырое и вареное, но они не хотели; дотрагиваться до него. Быть может, если бы я предложил им птицу в перьях, они и стали бы ее есть. Когда этот старый оранг-утан заметил, что я на нею смотрю, он зарычал, оскалил зубы и перебросился по ветвям дальше. Когда плоды с крыши западней стали регулярно исчезать, я решил, что пора приготовить к действию самые западни. Все ветки, которые могли бы задержать движение обезьян, мы срезали, и подвесили свежих плодов. Юсуп каждый раз упорно залезал в клетку и сам себя запирал в ней, чтобы убедиться, что все в порядке. Больше всего хлопотал. Юсуп над той клеткой, которую он увешал плодами гуявы. Это — крепкие плоды, которые долю не зашивают. Оранг-утаны очень капризны в выборе плодов. Прежде всего, они ни за что не прикоснутся к плоду, если он не совсем дозрел. Юсуп нанизал гуявы на пеньку и развесил их гирляндами. Он и не пытался придать им естественный вид. И сама западня была установлена не на дереве гуявы. На следующий день дверца именно этой западни оказалась спущенной. Юсуп влез на дерево и заглянул внутрь. Он не закричал, но по движениям его гибкого тела я увидел, что он в восторге. Да и не удивительно. Когда западню спустили вниз, я обнаружил, что на нашу долю выпал двойной улов. В западне сидела самка-оранг-утан, а за шерсть на ее груди уцепился ее детеныш. Я был в неменьшем восторге, чем Юсуп. Западню спустили, к ней прикрепили ручки для переноски и торжественно отнесли в кампонг, где уже находилась клетка нужной величины. Бока ее были сделаны из шестов прямых молодых деревьев, вогнанных в землю; такие же шесты составляли крышу. Над этой клеткой и остальными, пустыми, клетками был сделан навес с соломенной крышей для предохранения животных от солнца, дождя и росы. Было почти невозможно удержать кампонг от радостной демонстрации, которая могла бы напугать оранг-утанов. Первые дни неволи были тяжелы для обезьян и очень тревожны для меня. Я знал, что туземцы не поймут необходимости щадить животных; тогда мне пришла мысль сказать им, что у меня самого болят уши. Я приложил к своим ушам руки и поручил Омару сказать всем, что у туана — болезнь ушей, и что каждый шум для него, — точно раскаты грома. После этого внезапно водворилась полная тишина. Когда обезьяну и ее детеныша заперли в клетку, она пришла в неописуемую ярость. Рот ее постоянно кривился и зубы скалились. Никто не имел права подойти даже к плетню, поставленному по моему распоряжению вокруг навеса. Самке давали кипяченую воду, — и только. Это был один из тех приемов, которым меня научил долгий опыт. Если пойманному оранг-утану сразу же предлагают пищу, то из десяти раз девять он отказывается; будет и дальше отказываться и захиреет. Если же ему дать хорошенько проголодаться, затем предложить пищу, он примется есть и ободрится. Во многих отношениях оранг-утан похож на человека. Вскоре и наша пленница привыкла к своему новому положению. Она перестала злиться, но никогда не казалась такой веселой, какими бывают в неволе другие обезьяны. Позже я стал держать в клетке, соседней с той, в которой сидела самка с детенышем, небольшого оранг-утана, пойманного при странных и жутких обстоятельствах, подтвердивших мое мнение, что оранг-утаны — не одинокие животные. Когда естествоиспытатель, охотясь с ружьем, увидит оранг-утана и выстрелит в него, то все остальные оранг-утаны исчезают в джунглях, словно по сигналу, после первого же выстрела. Но я своей бесшумной работой их не распугивал. Мне приходилось видеть их целыми группами в восемь, десять и даже двадцать штук, и пока мы не поймали только-что упомянутого мною оранг-утана-детеныша, я не разделял мнения туземцев, что они действительно опасные звери, даже когда на них не нападают прямо. Мне пришлось многому научиться в этот раз… Мы вышли из кампонга партией в шестнадцать человек. Надо было посеять много западней, и потому мы разбились на группы. Со мной пошли Омар и шесть туземцев. Осмотрев две пустые западни, мы добрались до одной, в которой сидел довольно крупный самец-орангутан. Не успели мы западню опустить на землю, как послышались крики о помощи. Двое туземцев, задыхаясь от быстрого бега, кричали отрывочные фразы, которые я не мог понять. Тела их были изодраны и окровавлены. Они пробились через джунгли, не обращая внимания на острые колючки растений. Я уловил имена Юсупа и Абдулла. Омар перевел их слова: Юсуп и Абдулл были убиты. Старшина забил тревогу, выкрикивал странные слова, заканчивавшиеся чем-то в роде боевого клича даяков. Это делалось, чтобы призвать всех, кто мог услышать. В это время запыхавшиеся вестники произнесли несколько фраз на отрывистом наречии даяков, а Омар умудрился понять и передать мне это на малайском. Оказалось, что группа, состоявшая из четырех человек, в числе которых был и Юсуп, нашла занятую западню. Юсуп сразу вскарабкался вверх. Он заглянул в щель и закричал, что там сидит очень молодой оранг-утан. Затем он принялся перерезывать своим парангом веревку, которой была привязана западня. Прежде, чем остальные успели присоединиться к нему на дереве, — орангутан-мать, скрывавшаяся в верхних ветвях дерева, бросилась на Юсупа и вонзила свои зубы ему в плечо. Он уцепился за клетку, которая упала, увлекая за собой и его самого и обезьяну-самку. Голова Юсупа ударилась о землю, и клетка упала на его скрюченное тело. Туземцы бросились к нему на помощь. С криками они воткнули копья в тело самки. Прямо под деревом стоял Абдулл. Вдруг, без малейшего предупреждающего крика, большой самец прыгнул на плечо несчастного, свалил его на землю, глубоко запустил зубы в шею, и затем стал вертеть его голову своими сильными руками и убил Абдулла… Двое оставшихся в живых решили, что все джунгли кишат оранг-утанами. Мы сразу же отправились туда: впереди всех шел Омар, я следовал за ним с заряженным скорострельным ружьем наготове. Вдруг старшина остановился и указал вперед рукой. Я увидел картину, которую никогда не смогу забыть. Под западней, упавшей дверцей вниз, лежало тело Юсупа. Раненая самка трясла решетку клетки, стараясь освободить своего малыша. Самец прыгал взад и вперед по телу Абдулла. Одной рукой он ухватил даяка за густые волосы и, прыгая, приподнимал его голову и плечи над землей. Я выстрелил, и уложил животное на месте. Мы починили западню, которая была сильно исковеркана, и взяли с собой молодого оранг-утана. Убитых туземцев вынесли на край джунглей на носилках. Здесь их похоронили в глубокой могиле…

Проф. А. В. Цингер
Оранг-утаны Берлинского Зоосада
Очерк Рисунки Олега Цингера
За последние четыре года я имел возможность довольно часто посещать Берлинский Зоосад, который по богатству собрания животных и по роскоши обстановки справедливо считается одной из самых интересных достопримечательностей германской столицы. Здесь удалось мне перевидать человекообразных обезьян всех видов. Осенью 1925 года в качестве проезжего гастролера показывался великолепный экземпляр молодого самца гориллы. Разных видов и возрастов шимпанзе перебывало за это время восемь штук, из которых три до сих пор живы, и их веселая компания является одним из самых интересных достояний Зоосада. Наконец, оранг-утанов удалось наблюдать троих, о которых я и хочу здесь кое-что рассказать. Хотя в деле ухода за большими обезьянами за последние двадцать — тридцать лет достигнуты значительные успехи, все же оранг-утаны в зоосадах Европы являются редкостью, и случаи их долголетия в неволе представляются лишь счастливыми исключениями. В годы военного оскудения в Берлине не было ни одного оранг-утана. Лишь три с половиной года тому назад был привезен сюда с Суматры молодой самец «Бэзэк». Это был сравнительно благообразный, еще безусый и безбородый юноша. Пойман он был еще совсем маленьким и вырос в неволе, воспитываясь среди; домашних животных во дворе одной фермы на родной Суматре. Избалованный своими хозяевами, Бэзэк, подростая, сделался озорником, от которого особенно доставалось домашним птицам; он приучился ловить их, мучить и отрывать им головы. Делал он это, надо полагать, исключительно ради забавы, так как оранг-утаны природные вегетарианцы и, в противоположность гиббонам, птиц не едят. За свои жестокие проказы Бэзэк был продан в Берлин.

Бэзэк — сравнительно благообразный юноша.
Здесь, сидя в своей просторной удобной клетке, он вел себя тихо и скромно. Невозмутимо спокойный, задумчивый и очень медлительный во всех своих движениях, он с комической серьезностью развлекался, чем попало. То он целый час прилаживает себе на голову холщевый мешок в виде чалмы, го вместо шляпы старается удержать на голове жестяной тазик из-под молока, то медленно пройдет на средину клетки и долго качается на свешивающемся с потолка канате, то разбирает руками солому и, неизвестно зачем, сыплет ее себе на темя. С одной стороны через решетку клетки глазеет на него публика, с другой стороны из соседней клетки таращат на него глаза и возбужденно ухают молодые шимпанзе; но Бэзэк с презрительным равнодушием косится и на тех, и на других. Среди людей Бэзэк различал лишь немногих своих знакомых и сторожа Либетрея, заслуженного специалиста по воспитанию человекообразных обезьян. С знакомыми своими Безек здоровался, протягивая свою длиннейшую, лохматую руку и делая приветливо гримасы! то раскрывая рот в широкую улыбку, то вытягивая вперед сложенные в трубку губы. Последнюю гримасу, очень характерную для шимпанзе и оранг-утанов, московская специалистка по зоо-психологии Н. Н. Ладыгина-Котс[8]) считает признаком волнения и беспокойства; но Бэзэк строил иногда эту потешную гримасу и в самом благодушном, спокойном настроении. Все тело Бэзэка было покрыто длинным темно-рыжим мехом, голое лицо было темно-серое с синеватым отливом; только веки глаз были светло-телесного цвета. Поэтому, когда Бэзэк закрывал глаза, лицо его принимало чрезвычайно странный вид. Ел Бэзэк очень умеренно и за едой был до-нельзя медлителен. Дадут ему, например, кисточку винограда, он медленно, лениво оторвет ягоду, медленно ее осмотрит, обнюхает, медленно положит в рот; долго, лениво жует и, наконец, аккуратно выплюнет кожуру и косточки. Можно было соскучиться, пока этот здоровый молодой малый с’едал три ягоды. Однажды с Бэззком случилась беда: он махнул своей могучей рукой с такой силой, что нечаянно разбил толстое стекло своей клетки. Получившаяся трещина его очень смутила и заинтересовала. Пока не вставили нового стекла, он целый день с сосредоточенным, серьезным вниманием смотрел на трещину и тыкал в нее пальцем. На задумчивом лице его было написано полное недоумение. Вялый, но приятный своим спокойным добродушием, Бэзэк, не смотря на тщательный уход, погиб в конце прошлого лета от воспаления легких. Месяца за два до гибели Бэзэка в Берлин была привезена очень интересная пара оранг-утанов, живущая в саду до сих пор. Родом они, как и Бэзэк, с Суматры[9]). Их рыжий мех имеет более яркую и светлую окраску, чем это было у Бэзэка. Они вполне взрослые самец и самка. Его зовут «Хассан», или сокращенно «Хассо», ее — «Клеопатра», или «Клео». Клеопатра очень мало заслуживает быть тезкой прославленной красавицы; но она все же поистине красавица в сравнении с Хассо. Тот прямо — чудовище, жуткое страшилище, особенно отвратительное и отталкивающее своим человекоподобием. По мнению директора сада, Хассану уже за двадцать лет. В этом зрелом возрасте самцы орангутанов сильно отличаются от самок и молодых самцов не только большим ростом и большей силой, но и формой головы.

Человекообразные обезьяны: оранг-утан, шимпанзе и горилла (слева направо).
Основная причина заключается в том, что у самок рост клыков останавливается на втором году жизни, у, самцов же клыки растут едва ли не в течение всей жизни и в зрелом возрасте достигают огромных размеров. Соответственно с этим чудовищно разростаются челюсти и могучие жевательные мускулы; кроме тою, у взрослых самцов образуются по обеим сторонам, лица особые наросты, за которыми не бывает видно маленьких ушных раковин. У Хассо эти; наросты не очень развиты, но очень противно выглядят его усы и борода; может быть, особенно противно потому, что они кажутся причесанными и приглаженными; как будто бы урод этот прифрантился и мнит себя неотразимым красавцем. Сверх всего этого, у Хассо, как у всех взрослых самцов, под шеей висит огромный надутый зоб. Каково назначение этого безобразного, мягкою зоба, содержащего какую-то жидкость? «Этот вопрос еще невыяснен», — об’яснял мне однажды директор Зоосада, маститый зоолог Гекк. — «В стенке зоба имеется маленькое, как булавочный укол, отверстие, из которого жидкость может капельками выступать. Но для чего все это служит, неизвестно. Во всяком случае, старое предположение, что зоб служит для усиления голоса, надо считать ошибочным». Действительно, по крайней мере в саду, зобастый Хассо совершенно молчалив. Изредка издает ноющие звуки только беззобая самка. Хассо и Клео— очень дружная, нежная парочка. Задирают они друг друга только ради игры и шутки. Во много раз более сильный Хассо никогда не обижает своей подруги, никогда не проявляет стремления отнять у нее какой-нибудь лакомый кусок.

Хассан и Клеопатра — самая дружная парочка в Берлине.
Это, надо полагать, характерно для больших обезьян, живущих в единобрачии. В этом отношении оранг-утаны резко отличаются от павианов и от разных пород мелких обезьян, живущих стадами и в многобрачии. У тех, зачастую, можно видеть, как за обеденной трапезой сильный самец отбирает себе львиную долю пищи, отгоняя от нее своих жен, детей и младших товарищей самыми бесцеремонными затрещинами; а если какая-нибудь из жен и схватит кусок повкусней, суровый супруг без всякой деликатности раскрывает ей рот и обшаривает пасть руками. Однажды еще летом, в ненастную погоду, Хассо как-то простудился и заболел. Почти неподвижно лежал он на своей постели, тяжело дыша и страшно кашляя с хрипом и стоном. Перед ним шипел пульверизатор с лекарством. Клео смирно сидела в противоположном углу клетки, издали смотря на своего страдающего друга. Трудно передать словами, сколько самой глубокой, безнадежной грусти было в ее глазах и во всей ее унылой позе. Ясно было, что она не могла бы пережить гибели Хассо. Когда через недельку мне пришлось снова навестить мохнатую парочку, я не без тревоги подходил к роскошному обезьяньему павильону. Там увидел я умилительную картинку. Поправившийся Хассо в наружной части клетки нежился, растянувшись на припеке солнца, а вокруг него лазила и кувыркалась повеселевшая Клео. Никогда, ни раньше, ни после не видал я ее такой веселой и жизнерадостной. Покувыркавшись на жердях и палках, она усаживалась и, не отрываясь, смотрела на Хассо. Помещаются здесь оранг-утаны в очень просторной двойной клетке. Внутреннее отделение в холодную пору сильно отапливается; воздух в нем жаркий и сырой, как в оранжерее. Переходя в наружное отделение, обезьяны из атмосферы тропиков сразу попадают в атмосферу Берлина. Однако, они не боятся этих переходов даже в осенние ненастные холода. Едят Хассо и Клео очень умеренно; их пища: — хлеб, молоко и по возможности разнообразные овощи и фрукты, из которых, невидимому, особенно им по вкусу бананы. Едят медленно, аккуратно. В этом отношении они — полная противоположность шимпанзе, обед которых представляет собой чрезвычайно забавное представление, когда эти лохматые ребята, то, чинно сидя на табуреточках, едят ложками и пьют из кружек, как благовоспитанные дети, то начинают баловаться и озорничать. Не похожи оранг-утаны на шимпанзе и в том отношении, что совершенно равнодушны к публике. Шимпанзе, несомненно, понимают, что они забавляют публику, и усиленно стараются проделывать разные фокусы, когда около них собирается побольше народу; орангутаны же, видимо, не только равнодушны, но даже тяготятся любопытством зрителей. Спят оранг-утаны, как и шимпанзе, совершенно иначе, чем другие виды обезьян. Павианы и разные породы мелких обезьян спят, обыкновенно, сидя и собравшись в тесную кучу, при: чем в зоосадах, чтобы лучше угреться, обезьяны нередко присоединяют к своей компании разных других сожителей по клеткам: кошек, носух, медвежат и пр. Оранг-утаны спят лежа и покрывшись теплым одеялом. К этому культурному способу они приучаются очень легко и скоро; так как ведь на свободе они спят в гнездах, прикрываясь от дождя и холода наломанными ветвями. Здесь они гнезд не строят, а пользуются вместо них устроенными в клетках полками. Мне приходилось слышать лишь об одном случае, когда в Европе можно было наблюдать, как оранг-утан строил себе гнезда. Это было лет около тридцати назад в Шенбрунне, под Веной. Убежавший из тамошнего знаменитого зверинца оранг-утан перебрался по деревьям в ботанический сад, где облюбовал себе старый, развесистый платан. Пока беглеца снова смогли арестовать, он: успел наломать сучьев, одолевая при этом и толстые, и построил несколько гнезд. Лишь изредка спускаются оранг-утаны на пол клетки и ходят очень характерной, неуклюжей походкой. Ступни своих коротких ног они ставят на пол не подошвой, а внешним краем; при этом руки непременно опираются на пол согнутыми пальцами. Никогда не приходилось наблюдать, чтобы Хассо или Клео ходили на ногах, как это умеют делать специально дрессированные их сородичи. Лазают оранг-утаны с своеобразными ухватками и чрезвычайно ловко. И во внутреннем и в наружном отделении их квартиры имеются древесные стволы с несколькими кривыми суками. Когда Хассо и Клео движутся среди них, ясно обнаруживается их удивительная приспособленность к жизни в стихии тропического леса, среди переплетающихся древесных крон, опутанных лианами. Двигаются оранг-утаны очень ловко, уверенно, но не так-то проворно. Да и зачем нужно было бы проворство орангутану? Его добыча — плоды, листья и побеги растений; за ними не приходится гоняться. От врагов ему тоже нечего бегать. Кто в его родных дебрях обидит этого силача? — Страшно ли входить к Хассо в клетку? Ведь он, коли захочет, может одним ударом голову разможжить! — спрашивал я сторожа Либетрея. — Нет, — отвечал он, — он не ручной, но смирный. На всякий случай плетку я с собой все-таки захватываю. К шимпанзе — даже совсем незнакомым — я хожу без всяких предосторожностей. Ну, а этим очень-то доверять нельзя! В виду этого оранг-утанов здесь никогда не выпускают погулять и полазить на воле, как это делается с шимпанзе. Я пишу эти строки в разгар гнилой берлинской зимы; но в дни потеплее уже чувствуется, что весна не за горами. Хассо и Клео пока вполне благополучны, и надо надеяться, что они не захворают до наступления тепла. С весною, кто-знает, может быть, явятся надежды на получение потомства. Если бы это случилось, это было бы самой интересной новинкой в жизни зоосадов Европы. Разные другие виды обезьян сравнительно легко плодятся в неволе; но с человекоподобными обезьянами такие случаи — редчайшая из редкостей. За все время существования роскошного Зоосада в Берлине лишь однажды, в 1922 году, был случай рождения шимпанзе; о рождении в Европе оранг-утанов не приходилось ни слышать, ни читать.

Кап. Ноэль
МАТЬ ЗЕМЛИ
Восхождение на высочайшую вершину земного шара — Эверест
Очерк
Среди Гималайских гор, на границе между Тибетом и Непалом, находится высочайшая в мире вершина Эверест (Гауризанкар) в 8.882,2 метра над уровнем моря (т.-е. более 81/2 верст высоты). По своей красоте и величию вершина эта не имеет себе соперниц на всем земном шаре, а потому и неудивительно, что среди горных обитателей Тибета она получила название «Чомо Лунгма» («Мать Земли»). Европейцы прозвали эту гору Эверестом, по имени ученого-путешественника, впервые нанесшего ее на карту. В течение долгого времени гора Эверест представляла собой загадку для ученых. Смелые путешественники по Азии не решались приступить к ее исследованию. С одной стороны, их останавливала неприступность этой гигантской твердыни, с другой — колоссальные расходы, с которыми связывались подобные экспедиции, и, наконец, правительство туземного государства Непал, лежащего севернее Индии, в сфере Гималайских гор, не соглашалось пропускать через свою территорию иностранные экспедиции. Только в 1922 году Английское Географическое Общество выдвинуло вопрос о снаряжении ученой экспедиции для обследования Эвереста. Английское правительство «горячо» откликнулось на эту идею, и по очень простой причине: оно усматривало в исследовании Эвереста путь к овладению новым стратегическим пунктом для дальнейшего осуществления своих захватнических планов во внутренней Азии, в сфере Гималайских гор. Вот почему начальником первой экспедиции, в 1922 г., был назначен генерал Брюс, а второй, в 1924 г., — подполковник генерального штаба Нортон. Даже фотографом в этих экспедициях был офицер — капитан Ноэль.
В царстве льдов.
Меня постоянно опрашивали об ужасах к лишениях, перенесенных во время наших экспедиций на Эверест. Когда я отвечал, что никаких ужасов нам переживать не приходилось и что лишения, испытанные нами, нисколько не отличались от лишений, испытываемых вообще исследователями девственных стран, — мои слушатели смотрели на меня широко открытыми глазами. Оно и понятно. Нам кажется страшным всегда то, чего мы не знаем. Опасность и лишения вблизи, утрачивая свою загадочность, представляются самым обыкновенным явлением. Серьезность их учитывается только впоследствии, когда они миновали. Подводя итоги экспедиций на Эверест, я могу совершенно искренно заявить, что никогда я не чувствовал себя так прекрасно, как во время восхождений на высочайшую в мире гору. Для того, чтобы понять такое состояние, надо, прежде всего, познакомиться с горами, полюбить их своеобразную и могучую природу, а не полюбить ее невозможно, раз попадешь в ее об’ятия. После выступления из местечка Даржилинга, в Непале, нашим первым этапом при восхождении на Эверест в 1924 году было огромное снежное поле, начинающееся в восточной части Ронгбукского ледника, лежащего на высоте около 6.000 метров. Это — самое возвышенное ледяное поле в мире, превосходящее своей высотой Памирское плоскогорье, приблизительно, на 2.600 метров, было обследовано нами еще в 1922 году. Тогда нашим исходным пунктом была терраса, лежащая на высоте 4.600 метров. Оттуда мы производили разведки. Изо дня в день нащупывали мы путь, устраивали склады провизии и медленно продвигались дальше, прорубая себе дорогу среди ледяных глыб. Достигнув Ронгбукского ледника, на высоте 5.000 метров, мы стали на нем лагерем, и после целого ряда разведок добрались до Ледяного Озера (т.-е. до высоты 5.400 метров), от которого спускалась широкая долина на запад. Перед наш открылась действительно сказочная картина страны вечного льда и снега. Фантастические узоры окружающих озеро береговых скал напоминали собой какие-то гигантские замки. Выветриваемые веками, скалы казались ажурными и изрезанными хитросплетенными узорам, которым мог бы позавидовать самый искусный ваятель. На фоне лазурного неба, эти замки, блистающие белизной под яркими лучами солнца, переливались бледно-зелеными полутонами.
Карта Гималаев. Крестиком обозначен Эверест.
А солнце! Что это было за солнце! Такого дневного света мне еще не приходилось видеть нигде. Казалось, что масса раскаленного добела металла просвечивает через кристаллическую призму. Этот свет падает вертикально и, отраженный сверкающим снегом, ослепляет глаза. Без предохранительных зеленых очков обойтись невозможно, — ослепнешь. Все пространство вокруг представляется будто бы засыпанным осколками драгоценных самоцветов и бриллиантовой пудрой. Вид ночного ландшафта не уступает дневному. Под холоднымсветом луны все серебрится и трепещет. Контуры снежных вершин тонут в полупрозрачном ночном мраке. Они постоянно меняются, принимая самые причудливые облики. Сумерек здесь не бывает. Ночь наступает мгновенно. Не успеешь опомниться, как становится темно. А ветер дует все с одинаковой силой, играет снежным пухом, вздымает его в бесконечную высь затейливыми воронками и винтами или рассыпает по долине блестящим серебристым песком.
Бичи Эвереста.
Ветер является главным бичом для путешественников в Гималаях. Несясь часто со скоростью до 150 миль в час, он насквозь пронизывает путешественника. Укрыться от ветра — первая забота каждого. Беда, если путешественник не запасся противо-ветренной одеждой, — он погибнет. Кроме того, эта одежда должна быть легка и тепла. В Гималаях я все время носил шелковое нижнее белье, поверх которого надевал штаны и фуфайку из верблюжьей шерсти, три пары шерстяных чулок, короткую теплую куртку и поверх всего блузу и широкие шаровары из непроницаемой для ветра ткани. Головным убором мне служила широкополая теплая шляпа с наушниками. Лицо я мазал жирным кремом для предохранения от действия ультрафиолетовых лучей солнца, которые, как и разреженная атмосфера, убийственно влияют на человеческий организм. В силу их действия нарушается работа щитовидной железы, что особенно резко выражается в отвращении к мясной пище. Лучи эти, имеющие целебное свойство на нормальной высоте, здесь — становятся губительными. Глядя на наших непальских носильщиков, навербованных нами в Даржилинге, я не мог понять, как они могли переносить все эти природные препятствия. Их одежду с нашей нельзя было бы и сравнить, а между тем; эти горцы казались неутомимыми. Всегда они были веселы и распевали песни, и лишь иногда, обессилев под тяжелой ношей, беспомощно садились на снег. На высоте 4.600 метров непалец может тащить на спине груз до 60 англ. фунтов, а на высоте 7.200 метров — лишь 25 фунтов.
Один из проводников экспедиции, типичный непалец.
Во время экспедиции 1924 года наши носильщики-горцы побили мировой рекорд, взобравшись на высоту в 8.000 метров с ношей в 15 англ. фунтов, и, несмотря на недостаток воздуха, поставили там для нас палатки. Без таких выносливых носильщиков экспедиция не достигла бы никаких результатов. К нашим вспомогательным средствам для борьбы с разреженной атмосферой на высотах, как, например, к кислороду, горцы вначале относились с недоверием и даже с опаской. Однако, когда разреженная атмосфера уж очень давала себя чувствовать, и видя, какое действие производят на нас химические средства, непальцы стали приходить к нам, прося дать им немного «воздуха белых».
Горная болезнь.
Еще во время приготовлений к первой экспедиции нас неоднократно предупреждали, что на высоте 6.000 метров мы долго не просуществуем. Нам советовали время-от-времени спускаться на менее значительную высоту для отдыха. О, эти советчики! Я в свою очередь посоветовал бы ям взобраться на высоту в 6.000 метров и «для отдыха» спуститься в долину на 4.000 метров с тем, чтобы снова карабкаться обратно. Однако, как ни тягостна разреженная атмосфера, как пи мучителен недостаток кислорода, но и к этому злу можно привыкнуть. Все зависит от способности приноровиться к новой непривычной обстановке и умения строго управлять своими движениями. В первое время даже на сравнительно незначительной высоте, например, в 4.500 метров, становится необыкновенно тяжело: при каждом резком движении захватывает дыхание. Повернешься ночью в своем меховом мешке, и чувствуешь, что задыхаешься. Сердце начинает учащенно стучать, в голове стоит шум. Встревоженный, вскакиваешь. Еще хуже. Вспоминаешь наставления бывалых людей, и ложишься на спину. Через несколько секунд чувствуешь себя совершенно нормально, и засыпаешь. Но в 1924 году мы уже настолько освоились с высотой, что безмятежно спали на высоте 8.000 метров. Мы приучили себя есть медленно, пить небольшими глотками, умерять свои движения. Все это, однако, не избавляло нас от влияния на наш организм разреженного воздуха: мы сделались апатичными, безучастными друг к другу, и даже гибель двух наших товарищей не произвела на нас тогда особенно сильного впечатления. Я чувствовал, что все мои мускулы одрябли и дрожали, что умственные способности мои притупились, и я с трудом заставлял себя работать.Фауна «Матери Земли».
Теперь, когда человек пытается завоевать самую высокую из гор земного шара — Эверест, возникают интересные вопросы: какие существа живут на этих гигантских высотах, до какого предела высоты распространяется мир животных вообще, какая причина не дает ему подниматься выше, холод или отсутствие пищи? В ответ на некоторые из этих вопросов участник экспедиции на Эверест, Р. Хингсгон, сообщает любопытные сведения. Безусловно, вопрос питания тесно связан с высотой, до которой добираются отдельные представители животного мира. Они обосновываются там, где находят свою обычную пищу, и при этом ни холод, ни разреженность воздуха не являются для них препятствиями. Только змеи, по наблюдениям Хингстона, составляют исключение: они ищут тепла. Из высокоорганизованных теплокровных животных одна порода горных овец добралась до границы растительности — на высоту 5.600 метров. На той же высоте встречались зайцы. Птицы забирались выше. Не все они, однако, — постоянные обитатели этих негостеприимных горных плато; большинство их, скорее, — временные гости, как, например, могучий коршун-ягнятник, который кружил над скалой на высоте более 6.000 метров, или как альпийская галка, которая, получая регулярные подачки, следовала за экспедицией до невероятной высоты в 8.300 метров.
Бивак экспедиции у Ледяного Озера, на высоте 5.400 м. (ночной снимок).
Насколько сильна в мире насекомых сопротивляемость холоду, можно судить по жукам, которые зимуют на высоте 5.600 метров, где они с согнутой вниз головой и с усиками, сложенными на груди, ищут защиты под камнями. Здесь встречается редкая разновидность маленьких ос, которые прячут свою добычу в вырытых ими самими миниатюрных туннелях. Даже бабочки порхают на этих гудящих от ветра высотах: вблизи ледников и морен Хингстону попались париасска и махаон. На этих крайних пределах растительности встречаются также дневные бабочки и маленькие кузнечики, окрашенные под цвет окружающей их природы. В области льдов Эвереста тоже есть жизнь. На Ронгбукском глетчере, который спускается со склонов Эвереста, живут пауки-охотники и жуки, а в лужах растаявшего льда собираются гусеницы. Так животный мир далеко переходит за границу растительного. Из растений — на самой большой высоте (6.000 метров) найдена была синяя вика, но много выше ее, там, где только скалы да лед, на высоте в 7.000 метров, живет скромный маленький паучок, который, таким образом, является самым высоко-живущим существом на земле.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ЭКСПЕДИЦИЯ В ПУСТЫНЮ КАРА-КУМЫ.
К востоку от Каспийского моря, вплоть до реки Аму-Дарьи, на пространстве, равном почти половине Франции, раскинулась обширная пустыня Кара-Кумы, что на языке туркменов значит «Черные пески». Эта область нашего Союза до самых последних лет была наименее исследованной, и здесь встречались места, где еще никогда не ступала нога европейца. Пустыня Кара-Кумы лежит в стороне от большой дороги из европейской части СССР в Бухару и Ташкент, поэтому сюда редко заглядывали путешественники. Кроме того, путешествие по пустыне Кара-Кумы — одно из наиболее трудных. Здесь почти нет воды, и немногочисленные кочевники-туркмены пользуются лишь немногими колодцами, там и сям разбросанными среди песков. В прошлом году академик Ферсман разработал план экспедиции в Кара-Кумы. По этому плану экспедиция организовалась в составе трех отрядов: географического, под руководством астронома Беляева, химического, под руководством химика Волкова, и геологического, под руководством геолога Щербакова. Общим руководителем экспедиции являлся академик Ферсман. Летом 1926 г. экспедиция провела в пустыне несколько месяцев, исследовав значительные области. Путешественники, имея в своем распоряжении 20 верблюдов и 3 лошади, прошли свыше 1.000 километров по совершенно неизвестным до этого времени местам, среди безводных сыпучих песков. Путешественники два раза сбивались с дороги, и едва не погибли от сильного песчаного бурана, продолжавшегося двое суток. Экспедиции удалось открыть в пустыне огромные залежи серы. У колодца Атта-Кую, в западной части пустыни, путешественники открыли стоянку человека каменного века. Были произведены большие научные работы. Велась непрерывно маршрутная с’емка, и было открыто свыше 100 неизвестных до того времени оазисов, населенных кочевыми племенами. Кочевники Кара-Кумы находятся па самой первобытной ступени культуры. Они не имеют никакого представления о советском строе. Живут чрезвычайно бедно, занимаясь овцеводством и разведением верблюдов. Открыто было также несколько оазисов, еще не заселенных людьми. В этих оазисах, заросших богатой растительностью, путешественники встретили в изобилии диких серн, коз, зайцев и многочисленных птиц. Экспедиции удалось несколько раз принять по радио концерты московской, ростовской и тифлисской передач. На местное население радиопередача произвела ошеломляющее впечатление.Н. Л.
ТРИ МЕСЯЦА НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ.
Недавно в Ленинград вернулась экспедиция исследователя Ушакова, командированная Ленинградским Гидрологическим Институтом на Новую Землю. Эта экспедиция имела своей целью изучение Карских берегов северного острова Новой Земли — самого недоступного и неисследованного в полярных областях места. Ледокол «Таймыр» доставил экспедицию, в августе 1926 г., на Новую Землю. Но, благодаря сплошному льду, пристать к острову не удалось, и путешественники высадились на лед, а затем, пройдя пешком, сделали попытку переплыть полосу чистой воды на небольшой парусной лодке. Достигнув берега, путешественники почти целый месяц провели в легкой брезентовой палатке, продуваемой жгучим северным ветром. В это время ледокол «Таймыр» ушел обратно в Архангельск. Экспедиция произвела исследования Поморской губы и губы Серебрянки. Весь сентябрь и половину октября путешественники, обследуя побережье, шли на юго-запад. В это время экспедиция была совершенно оторвана от внешнего мира. Путешественники сильно страдали от холодов, и считали себя обреченными на гибель, так как «Таймыр», который должен был заехать за ними, не мог из-за плавающих льдов подойти к берегам Новой Земли. Только в конце октября «Таймыру» удалось приблизиться к западному берегу северного острова Новой Земли и здесь найти путешественников, уже готовившихся, было, к трудной зимовке. Экспедиция привезла много ценных образцов животных и растений Новой Земли и, кроме того, основательно изучила пролив Маточкин Шар, отделяющий южный остров Новой Земли от северного. Несмотря на суровые условия, в которых путешественникам пришлось прожить три месяца, все они вернулись в Архангельск живы и здоровы.Н. К.
П. П. СЕМЕНОВ-ТЯНШАНСКИЙ.
(По поводу столетия его рождения).
География, как наука, является одной из самых молодых. Долгое время география даже не признавалась многими учеными за науку и считалась просто каким-то собранием описаний различных стран и путешествий, рассказов о жизни народов. Понадобились усилия двух замечательных умов — Карла Риттера и Александра Гумбольдта, чтобы возвести географию на степень науки. Многочисленные ученики и продолжатели этих двух ученых укрепили позиции научного землеведения, и география лишь в наше время была признана «наукой». Одним из выдающихся последователей Риттера и Гумбольдта, пионером географии, бесспорно является Петр Петрович Семенов-Тяншанский, столетие со дня рождения которого торжественно было отпраздновано Русским Географическим Обществом 14 января текущего года. П. П. Семенов внес большой вклад в научное землеведение и вполне заслуживает признательность современных географов. Географической науке он посвятил всю свою долгую жизнь, и более сорока лет состоял бессменным вице-председателем Русского Географического Общества. Благодаря его стараниям и содействию было снаряжено несколько десятков географических экспедиций, из которых наиболее знаменитыми являются путешествия Пржевальского, Потанина, Грум-Гржимайло, Миклуха-Маклая, Козлова и др. Семенов-Тяншанский был не только кабинетным географом. Он был сам географ-исследователь. После того, как в 1852 г. он прослушал лекции знаменитого Карла Риттера, в Берлине, и близко сошелся с Гумбольдтом, Семенов под влиянием рассказов Гумбольдта решил поехать в Среднюю Азию. Местом своих исследований Семенов избрал горную область Тян-Шань, или «Страну Небесных Гор». До него эта область Средней Азии была совершенно неизвестна. Несмотря на то, что путешествие по Тян-Шаню, населенному воинственными племенами киргизов, кокандцев и других горцев, было небезопасно, Семенов отправился, в 1856 г., в Среднюю Азию и в сопровождении нескольких проводников проник в область Заилийского Алатау, а оттуда направился в область Тян-Шаня. Горы Тян-Шаня составляют главный горный массив Азии к северу от Гималаев и Куэнь-Луня. Они тянутся на протяжении более 2.500 километров. Обширные пустыни, большие болота, мелководные озера преграждают доступ к этим горным хребтам, покрытым ледниками и вечными снегами. Несмотря на все препятствия, несмотря на враждебность жителей, Семенов детально исследовал главнейшие горные хребты и провел в путешествии почти три года. Он вывез с собою богатые геологические, ботанические и зоологические коллекции, и дал впервые географическое описание Тян-Шаня. С 1864 г. Семенов руководит работой центрального статистического комитета. Он не только сумел упорядочить официальную статистику, но и вдохнул жизнь в мертвые до него цифры: его труд «Статистика поземельной собственности в России» ярко показал, что реформа 1861 года была освобождением крестьян… «от земли»… В этот же период Семенов упорно работает над составлением «Географическо-статистического словаря Российской империи». Этот словарь состоял из пяти больших томов. В 1873 г. ученый был избран вице-председателем Русского Географического Общества, и остался им до смерти — в 1914 г. В 1884 г. Семенов снова отправляется в путешествие. На этот раз он совершил поездку с научной экспедицией в Закаспийскую область и Туркестан, где экспедиции удалось собрать богатейшие энтомологические коллекции. Будучи вице-председателем Географического Общества и, в сущности, фактические руководителем его, Семенов весь отдавался делу развития географической науки. В числе больших литературных трудов, появившихся в свет благодаря инициативе Семенова, необходимо назвать обширное сочинение в двадцати больших томах — «Живописная Россия» (изданное Вольфом). В этом труде перу Семенова принадлежат многочисленные статьи. Точно так же инициативе Семенова мы обязаны и изданием другого коллективного ценного труда — «Р о с с и я», — полное описание нашей страны. До революции вышло 11 томов. Издание осталось незаконченным. Кроме того, самим Семеновым написана трехтомная «История полувековой деятельности Русского Географического Общества». Семенов явился одним из инициаторов: и главным организатором «Первой всеобщей переписи России» (1897 г.). Эта «всенародная» перепись была подготовлена и проведена под главным его руководством, и ore же в своем труде — «Характерные выводы из; первой всеобщей переписи» — сумел и посмел не только обрисовать весь ужас нищеты и безграмотности царской России, но и указать на другие темные стороны тогдашней жизни: все растущее обеднение: крестьянских хозяйств, разоренность целых областей, вымирание «инородцев», чудовищно высокую смертность среди детей и многое другое. Теперь, когда через 30 лет после «первой всенародной переписи 1897 г.» в СССР проведена колоссальная работа по действительно первой всенародной переписи, — нельзя не вспомнить теплым словом того, кто оставил нам богатейшее и полезнейшее наследство: неутомимого работника и исследователя П. П. Семенова, чьи труды позволяют нам судить, путем сравнения, об огромных достижениях советского строительства.. Семенов-Тяншанский принадлежал к поколению идеалистов-шестидесятников. Будучи человеком науки, он, тем не менее, никогда не замыкался от жизни в стены своего кабинета, а, занимаясь научными вопросами, думал о том, как бы науку приблизить к массам, как говорили тогда — «к народу».. «Наука, — говорил он, — должна проникать, в жизнь народную. Это необходимо потому, что наука в наше время уже не есть туманное отвлечение схоластических умов, но является познанием сил природы, умением подчинить их своей власти, употребить их для нужд и потребностей народа. Без науки немыслим не только умственный прогресс, но и материальный успех и благосостояние народа».Н. Л.

СЛЕДОПЫТ СРЕДИ КНИГ
«САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА».
Три минуты — три доллара.
Стремясь пробраться на Запад, в штаты, где можно рассчитывать найти работу, я и мой соотечественник Линдберг путешествовали, главным образом, в товарных поездах. Это привело нас в тюрьму; тюрьма— в пограничный с Мексикой форт, где мы служили «волонтерами» армии Соед. Штатов. Теперь, после блестящего бегства из форта, мы сидели на мели в маленьком городке Бенсоне. Линдберг выбыл из строя, и я должен был достать деньги во что бы то ни стало. На главной улице города, где помещалась наша гостиница, навстречу мне попалась куча мальчишек. Они шмыгали повсюду, раздавали афиши и кричали, что в воскресенье днем в Бенсоне состоится ряд сенсационных состязаний. Схватив один из листков, я проглядел его, и внезапно вдохновился гениальной идеей. В афише, между прочим, можно было прочесть следующее:50 ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ тому, кто проедет верхом на «СВЕРКАЮЩЕМ КОЗЛЕ» динамитном чемпионе города Канзаса. 30 ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ тому, кто оседлает «СЫНА ПУШКИ» Не выносит седла, прыгающий ужас Дикого Запада! или «ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИКА» знаменитого воздушного брыкуна Аризоны Начало состязаний в час дня на ипподроме. Когда и где они кончатся — никому не известно. Вход — один доллар. Участвующие в состязаниях — бесплатно.
Я поплелся по улицам города, прислушиваясь к отдаленному шуму ярмарки, и, сам того не замечая, приближался к ней. Во мне родилось безумное решение. Я протискался ко входу и сообщил сторожу, что желаю записаться на состязания. Меня впустили, провели к двум джентльменам в национальных одеждах и спросили мое имя и профессию. — Чарли Петерсон, шведский моряк. Мне раньше приходилось об’езжать диких лошадей, — прибавил я для пущей убедительности. Меня попросили подождать — многие до меня должны были попытать счастья — и пройти на арену, чтобы познакомиться с программой и состязаниями. Арена представляла собою квадратный плац, огражденный со всех сторон изгородью вышиной в человеческий рост. Повсюду виднелись густые толпы зрителей. Внутри по арене носилась лошадь, стараясь изо всех сил сбросить седока. Тысячеголовая гидра зрителей дрожала от страсти к зрелищам и жажды крови; рев ее наполнил мою душу холодом. Новый взрыв криков и воплей потряс массу зрителей. Лошадь в отчаянном порыве бешенства сбросила седока, и тот, хромая, пошел к трибуне. Мой товарищ по скитаниям, Линдберг, лежал в гостинице, с пузырем льда на голове, и долг в три доллара висел над нами, как Дамоклов меч. Эта мысль заставила меня протиснуться к одному из распорядителей и заявить ему, что я намерен попытать счастья на «Воздушном Брыкуне», но вовсе не добиваюсь главного приза, а хочу знать, сколько времени нужно продержаться на этой лошади, чтобы заслужить приз в три доллара. Меня просили обождать, и, когда следующий? номер закончился и публика притихла, человек с мегафоном завопил: — Чарли Петерсон, шведский моряк, желает знать, как долго он должен продержаться на «Воздушном Брыкуне», чтобы выиграть три доллара!.. Под первым впечатлением публика почти поголовно встала, испустила глухое рычанье и вновь села на места в большем или меньшем порядке, чтобы оправиться от изумления. Но затем разразился настоящий ураган. Трибуна тряслась под тяжестью тысяч людей, задыхавшихся не то от злобы, не от от негодования, не то от смеха. Некоторые из публики стали выкрикивать, предложения, большею частью, правда, шуточные. Назначалось от одной секунды до десяти минут. Какой-то ковбой вскочил на крышу автомобиля, разрядил в небо Аризоны две обоймы патронов из своего браунинга; и заорал, что нужно прежде всего доказать, существуют ли вообще шведские моряки. В конце-концов распорядители согласились, что три минуты — срок достаточный для трех долларов. Публика притихла. Вместе с двумя мексиканцами перелез яг через загородку, окружавшую тесное стойло лошади, и вскочил в седло. Воцарилась жуткая тишина. Оба мексиканца быстро отпустили привязывающие лошадь цепи и веревки, распахнули дверь из стойла на арену и перепрыгнули через загородку, чтобы уйти в безопасное место. В ту минуту, как лошадь поднялась на передние ноги, к изгороди подбежал ковбой, сорвал с себя широкополую шляпу и насадил мне ее на голову. В рядах публики прокатился рев. Я больше ничего не слышал и не видел: шляпа спустилась мне на глаза и на уши. Лошадь встала на дыбы и держалась минуту спокойно, но по всему телу ее пробегала судорожная дрожь. В следующую секунду «Воздушный Брыкун» напряг мускулы, сделал прыжок в воздух, подскочил на несколько метров вверх и опустился на то же место в стойле. Теперь началась серьезная игра. Лошадь приготовилась к новому прыжку, жилы и мускулы ее вновь затрепетали. Она ринулась из своей клетки как беснующийся демон, и в два-три длинных ужасающих прыжка перескочила, как резиновый мяч, через всю марену. Последним прыжком лошадь достигла противоположного конца арены, и там разразилась целым взрывом судорожных конвульсий, лихорадочных трепетаний и спазматических скачков. Мне показалось, что лошадь собирается опять сделать рекордный прыжок, но в ту же минуту шляпа слетела с моей головы, и я полетел по воздуху, все дальше и дальше от «Воздушного Брыкуна». Я упал на землю около самой трибуны. Седло пролетело над моей головой. Лошадь понеслась в облаке дыма и песку, а три доллара исчезли в голубом тумане. Тысячеголовая гидра клокотала вокруг меня, и мой испуг внезапно сменился припадком безумной злобы. Осталось только одно желание, одно стремление — высидеть на спине «Воздушного Брыкуна» три минуты. Сгорая от бешенства, бросился я за лошадью. Я последовал за животным коварно и расчетливо, как жаждущая крови гиена. Но каждый раз, как я хотел броситься на мою жертву, задние копыта лошади сверкали высоко в воздухе, мелькали вверх и вниз с быстротой молнии, и дождь песку и щебня грозил удушить меня. Наконец, мне повезло. Лошадь остановилась, обернувшись задом ко мне, и стояла неподвижно несколько секунд с вытянутой шеей и настороженными ушами, прислушиваясь к пронзительному реву публики. Я взял большой разбег, бросился сзади к лошади и пантерой прыгнул на нее. Перелетев через спину лошади, я задержался на ее шее. Десятую долю секунды спустя «Воздушный Брыкун» заметил случившееся и изо всех сил брыкнул задними ногами, но не смог причинить мне вреда. Обеими руками обхватил я его шею, а ноги сцепил у самых передних ног лошади. В ту же минуту я увидел, что часы на башне поблизости показывают 4 часа 27 минут. Ничего больше я не успел заметить. Лошадь вновь бешено понеслась по арене. Каждую секунду становилась она на дыбы или выписывала задними ногами зигзаги в пространстве. Я чувствовал, то будто подо мной отпущена стальная пружина, то будто я сижу на вулкане или взорвавшемся фейерверке. Меня совершенно укачало, горло горело, и все закружилось вокруг. Протекла вечность, часы показывали 4.28. Я попрежнему крепко цеплялся за «Воздушного Брыкуна», а мысль была обращена к Линдбергу. Новая вечность прошла, и когда часы на башне показали 4.29, я окончательно позабыл о Линдберге… Часы начали бить, и в то же мгновение я разжал свои руки, обнимавшие шею лошади, поднял их ко лбу и склонил голову на бок… На этот раз публика поднялась, как один человек, и разразилась самым продолжительным за весь день ревом; вслед затем на меня спустился мрак, и все затихло. Этот эпизод взят из романа Густава Эрикссона «Бродячая Америка» (изд. «Земля и Фабрика». Стр. 227. Ц. 1 р. 25 к.). Автор проводит своих героев — двух шведов-эмигрантов — через ряд интереснейших приключений, попутно рисуя современную жизнь в «цивилизованной» Америке».
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ.
В редакцию «Всемирного Следопыта» доставлены на отзыв следующие книги издательства «Земля и Фабрика»: Дж. Лондон. «Дорога». Повесть. «Жизнь Джека Лондона». 376 стр. 2 р. 50 к. — «Сын солнца». Рассказы. 184 стр. 1 р. 20 к. — «Сила сильных». Рассказы. 128 стр. 85 к. Ллона В. «Рыцари виски». Роман. 224 стр. 1 р. 25 к., — Соммерсет-Магам. «Король Талуа». Рассказы. 216 стр. 1 руб. Сытин, Ал. «Брат Идола». Повесть. 144 стр. 1 р 10 к. — Хомутов, В. «Кассир Кольчугин». Роман 160 стр. 1 р. 10 к. — Шишков, Вяч. «Тайга». Повесть. Собр. соч., т. I. 224 стр. 2 р. 40 к.

ШАХМАТНАЯ ДОСКА «СЛЕДОПЫТА»
Отдел ведется Н. Д. Григорьевым
Задача Генриха Мейера О. Блюменталь: «Сборник миниатюр»[10]) Белые дают мат в 2 хода.
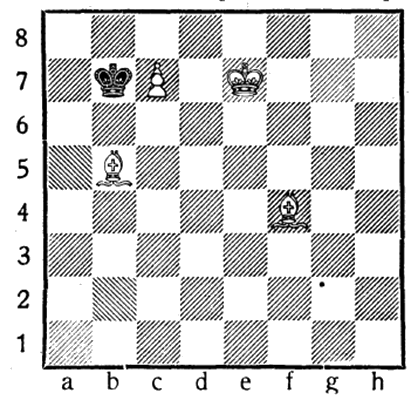
Этюд А. С. Селезнева Из прежних произведений автора Белые выигрывают.

Фамилии читателей, присылающих в редакцию верное решение помещаемых в «Следопыте» диаграмм (задач и этюдов), будут печататься при опубликовании самих решений.
ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛИ ПАТЫ НА ПРАКТИКЕ?
Прошлый раз мы говорили о разных ничьих, какие бывают в шахматах. Тогда же упоминали мы о пате. В серьезной шахматной практике больших мастеров можно насчитывать немало партий, окончившихся в ничью благодаря именно пату. Порой встречаются поистине классические примеры патовых ничьих. Что это именно так, что спастись патом удается не только в специально придуманных положениях, называемых этюдами, но иногда и в практической партии, — показывает хотя бы следующая «историческая справка». На международном турнире в Остенде (Бельгия) 1905 г., в партии Чигорина со Шлехтером получилось такое положение: Белые (Чигорин) — Кр а5 Ф d4 п а4, b5, f5, Ы… (6). Черные (Шлехтер) — Кр b8 Ф с7 п f6, f7, li5… (5). Белый король находится под шахом, и потому ясно, за кем сейчас ход. У белых формально одна лишняя пешка, а фактически — целых две. Действительно, лишняя пешка черных на королевском фланге не чувствуется, так как их сдвоенные пешки f6 и f7 вполне задерживаются одной белой пешкой f5. Понятно поэтому, что материальный перевес белых должен дать им верную и легкую победу. Конечно, эта победа станет совсем простой, если только белым удастся разменяться ферзями. В данный же момент (в приведенном положении) белые как раз и могут это сделать, защитившись ферзем на b6 от шаха и тем в свою очередь об’являя шах черному королю. То, что Шлехтер допустил до этого размена (последний ход черных был Ф е7 — с7 +), Чигорин об’яснил, должно быть, отчаянием своего противника, понявшего всю безнадежность дальнейшей борьбы. Итак, не долго думая, русский чемпион сыграл: 1. Ф d4 — b6 +. Велико же было его изумление (если не ужас), когда коварный австриец в ответ на защитительный шах белых вдруг отошел в угол своим королем (1… Кр b8 —а8!), оставляя на произвол судьбы ферзя с7. И тут Чигорин увидел (хотя уже было, поздно), что взятие ферзя ведет к пату черным. Все, что ему оставалось, это сыграть 2. Кр а5 — аб. Однако, на это последовало. 2…Ф с7 — с8 + 3. Кр аб — а5, и снова. Ф с8 — с7! Пришлось примириться с ничьей. Между тем, в приведенном положении партия белых на самом деле была легко выиграна, напр.: 1. b5 — b6! Ф с7 — еб + 2. Ф d4: еб+ f6: еб 3. Кр аб — b5 f7 — f6 (если 3… е4, то 4. Кр с4 и т. д.). 4. Кр b5 — сб! еб — е4 б. а4 — аб е4 — еЗ 6. аб — аб еЗ — е2 7. аб — а7 + Кр b8 — а8 8. Кр сб — с7! е2 — el Ф 9. b6 — b7+ и мат в 2 хода (новым ферзем на b6). Чигорин пострадал оттого, что не заметил во-время патовой возможности для черных. В выигранной по существу партии он должен был довольствоваться ничьей, потеряв таким образом 1/2 очка в турнире[11]). Любопытно, что и сам Шлехтер «выпустил» однажды (тоже по недосмотру) своего противника (Вейса), позволив ему спасти безнадежную партию неожиданной комбинацией с патом.НОВОСТИ В ШАХМАТНОМ МИРЕ.
ЗА РУБЕЖОМ. Международные турниры вошли в обычай за границей. Они часто устраиваются разными странами, в разных городах. По большей части эти турниры не могут итти даже в отдаленное сравнение с международным турниром в Москве (конца 1925 г.), по силе своего состава. В них не участвуют обычно ни чемпион мира Капабланка, ни экс-чемпион д-р Ласкер. Эм. Тем не менее, почти каждый международный турнир представляет тот или другой интерес. Из последних по времени турниров можно назвать: в Берлине (победитель — Е. Д. Боголюбов), в Меране (Италия; победитель — молодой бельгийской чемпион Эдгар Колле), и в начале текущего года в Мюнхене (I — поляк Пшепюрка, II — Боголюбов). Из предстоящих событий надо прежде всего упомянуть международный турнир в Нью-Йорке, при участии немногих избранных мастеров во главе с Капабланкой, и предполагающийся весной этого года матч за первенство в мире Капабланки с Алехиным. В СССР. Злобой советского шахматного дня следует признать недавнее решение Исполбюро Всес. Шахсекции о лишении Боголюбова, в связи с его самовольным выходом из советского гражданства, звания чемпиона СССР. Нового советского чемпиона определит исход турнира-чемпионата СССР (осенью тек. года). В настоящее время важнейшим шахматным событием у нас является турнир на первенство Москвы, начавшийся 6/II при участии известнейших советских шахматистов. В общем, все возрастающее шахматное оживление заметно повсюду в СССР. Везде, не прекращаясь, идут турниры разных типов и разной значительности. 31/1 Москва была свидетельницей редкого шахматного зрелища. На арене 1 Госцирка была разыграна партия, в которой роль фигур и пешек исполняли лучшие артисты балета, оперы и эстрады. Игру вели с одной стороны А. И. Рабинович совместно с В. И. Ненароковым, с другой — Н. М. Зубарев п Н. Д. Григорьев. Представление, не имевшее, конечно, серьезной шахматной ценности явилось все же прекрасным средством шахматной пропаганды. Огромный цирк был переполнен.ЧТО ЧИТАТЬ ПО ШАХМАТАМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
На русском языке теперь имеется немало прекрасных шахм. руководств. Для первого знакомства с игрой можно рекомендовать прежде всего: «Шахматную азбуку» В. И. Ненарокова, являющуюся как бы вторым изданием «Азбуки шахм. игры» Н. И. Грекова и В. И. Ненарокова, ныне уже распроданной в 12.000 экз. Цена «Азбуки» 60 к. «Начатки шахматного знания» д-ра Ласкера, Эм. Цена 55 коп. «Шахматы шаг за шагом» Ф. Маршалля и Г. Мэкбета. Цена 1 р. 70 к. «Первую книгу шахматиста» Г. Я. Левенфиша. Цена 2 р. 40 к. О руководствах следующей ступени трудности — в другой раз.Гигантская дьявол-рыба

В Мексиканском заливе водится гигантский скат, называемый дьяволом-рыбой. Рыбакам побережья полуострова Флориды иногда случается, во время рыбной ловли, встретиться с этим чудовищем тропических морей. На этой фотографии мы видим такую рыбу-дьявола. С ней возились четыре с половиной часа, пока одолели ее. Вес ее оказался свыше 1.000 килограммов — около 60 пудов.
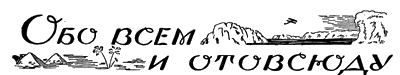
ОБО ВСЕМ И ОТОВСЮДУ
ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ПРОЙТИ ПЕШКОМ.
Несмотря на многочисленные кровопролитные захватнические войны, которые велись на протяжении веков, а, возможно, и благодаря им, в Европе удержался целый ряд курьезных маленьких государств, сохраняющих номинально свою «самостоятельность», хотя, экономически и политически, — и зависимых от своих более сильных соседей. Самым крохотным из этих государств является известное своей рулеткой княжество Монако, занимающее территорию лишь в 21,6 кв. клм., с населением около 30.000 человек. Несколько больших размеров республика Сан-Марино в центральной Италии. Территория этой республики—62 кв. клм., население — 12.500 человек. Княжество Лихтенштейн, на границе Австрии и Швейцарии, стоит на третьем месте. Поверхность его территории равна 159 кв. клм., населения около 11.000 человек. Затем следует расположенная на южном склоне Пиринеев, на границе между Испанией и Францией, республика Андорра, насчитывающая на 452 кв. клм. 5.300 жителей. На пятом месте стоит «вольный» город Данциг с территорией в 1.930 кв. клм. и населением в 386.000 чел., находящийся в таможенном союзе с Польшей. Это — государственное новообразование последнего времени, так как оно существует лишь с 1920 г. в силу Версальского договора. Ряд «карликов» замыкает великое герцогство Люксембург, на границе Бельгии и Германии, с территорией в 2.586 кв. клм. и населением свыше 261.000 человек. В совокупности все эти шесть карликовых государств занимают территорию в 5.210 кв. клм. или в шесть раз меньше Московской г., имея населения около 730.000, т.-е. почти втрое меньше, чем одна Московская губ., не считая самой Москвы.Б. В.
МУРАВЬИ, КОТОРЫЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ РАБОТУ ТЕЛЕФОНА.
Термиты, известные также под названием белых муравьев, нелюбимы людьми за то, что употребляют в пищу древесину. В тропических странах они истребляют железнодорожные шпалы, телеграфные столбы, домашнюю мебель и утварь; предметы, имеющие снаружи вполне исправный вид, оказываются совершенно полыми внутри, потому что термиты искусно выедают внутренность, оставаясь сами невидимыми. Но они выгрызают не одно только дерево, но также и другие подходящие для них предметы. Подобно тому, как крысы прогрызают иногда свинцовые трубы водопровода — термиты грызут свинцовую оболочку электрического кабеля, причиняя серьезные повреждения. В Австралии обнаружили несколько случаев подобной разрушительной работы термитов, при чем в одном случае ими был испорчен кабель трамвайной линии. Действительно ли термиты прогрызают свинцовую оболочку кабеля, сказать трудно. Возможно, что они растворяют постепенно металл при помощи той кислоты, которую они выделяют. Найдя в свинце подходящее место, они добираются до находящихся под свинцом заманчивых для них материалов (бумаги и проч.), над которыми они и трудятся, пока не доберутся до кабеля. В Северной Австралии был замечен другого рода случай разрушения термитами электрических проводов. Телефонный провод, находившийся на высоте 32 футов над поверхностью земли, пришелся как-раз над гнездом термитов, которое, вырастая постепенно, доросло до провода и охватило его со всех сторон; вследствие этого получилось короткое замыкание.ОПУСТОШЕНИЯ, ПРИЧИНЯЕМЫЕ КРЫСАМИ.
Крысы водятся в отдельных излюбленных домах, а потому те, у кого в доме нет. крыс, не могут себе представить, какие опустошения и какой вред причиняют эти грызуны. Их ловкость, хитрость, прожорливость и способность прогрызать всякие преграды, кроме стальных и железных, делают их одним из самых страшных врагов человека. Когда крыс много, они становятся отважными; бывали случаи, что крысы заедали взрослых людей. На спящего человека они нападают и в одиночку. Огромный вред приносят крысы, прогрызая столбы, водопроводные и канализационные трубы, стены, полы (даже цементные), пробираясь таким образом в склады и изгрызая там все, что попадется: дерево, ткани, кожу и всякие другие материалы. Больше всего опустошений они производят в складах с’естных припасов, при чем, к несчастью, портят еще больше, чем поедают. Их смелость, когда они ищут пищу, поразительна. Убыток, который они приносят, вычислен, например, в Англии и составляет 15.000.000 фунтов стерлингов в год по довоенному расчету. Теперь эту сумму пришлось бы увеличить вдвое. В С.-А. Соед. Штатах крысы ежегодно поедают хлеба на 20.000.000 фунтов стерлингов. Кроме грабежа, крыса вредит человечеству распространением бубонной чумы, от которой ежегодно умирают миллионы людей в Азии и Центральной Африке. Если бы люди не боролись с крысами, то, несомненно, были бы вскоре побеждены этими четвероногими хищниками. В Англии в 1921 году был издан закон, согласно которому всякий домохозяин привлекается к суду, если в его доме окажутся крысы.НОВАЯ МАШИНА, СБЕРЕГАЮЩАЯ ВРЕМЯ.
Такая машина введена в настоящее время в северо-американских почтовых учреждениях. Она запечатывает письма, штемпелюет их, наклеивает на них марки и считает. Конверты поступают в машину на бесконечном резиновом ремне, который подводит их сначала к приспособлению, которое слегка сгибает угол конверта и смачивает проклеенные его края; дальше конверт идет под небольшой пресс, который прижимает смоченный угол накрепко к конверту. После этого конверт попадает под другой пресс, где на письмо ставится штемпель и наклеивается марка. Машина эта употребляется в особенности для циркуляров, которые сдаются торговыми фирмами на почту в большом количестве. Она действует автоматически. Отправитель заранее оплачивает марки, и машина наставляется на определенное количество марок. Когда последнее письмо пройдет под штемпелем, машина останавливается сама. Чиновник отпирает дверцу и наставляет ее снова на то количество марок, которое потребуется.АСФАЛЬТОВОЕ ОЗЕРО О. ТРИНИДАДА
На о. Тринидаде, расположенном в группе Антильских островов, находится большое асфальтовое озеро из чистого натурального-асфальта, занимающее несколько кв. километров поверхности. Озеро это совершенно черного цвета и покрыто трещинами, в которых скопилась вода. Почти по всему озеру можно беспрепятственно ходить, и, с осторожностью, даже там, где асфальт размягчился, хотя бывали случаи, что озеро засасывало на-смерть проходивших в таких местах людей и животных. По озеру проложены рельсы, и по ним возят в тележках отколотые кирками глыбы асфальта. Какая глубина озера, никому не известно. Несколько лет тому назад были прорыты буровые скважины до глубины 150 м., но трубы полопались, и работы пришлось прекратить. Позднее части труб появились на поверхности озера в совершенно другом месте, выброшенные таинственными течениями. Асфальт из озера добывается больше полувека. Ежегодно из озера вывозят до 200.000 тонн асфальта, однако, уровень озера не понизился и на 5 метров. Большая часть асфальта идет в Соед. Штаты, затем в Европу на замощение улиц. Для о. Тринидад это — одна из доходных статей вывоза.Б. В.
ОТ КОНТОРЫ «СЛЕДОПЫТА»
В виду наплыва подписки, дополнительная премия для годовых подписчиков (внесших подписную плату непосредственно в Изд-во до 15 января) — книга «Последний Народный Трибун» — полностью разошлась. Части подписчиков взамен ее была разослана равноценная книга, история, роман Энве — «История одного коммунара». Для ускорения ответа на ваше письмо в Изд-во, различные запросы (о высылке журналов, о книгах и по редакционным вопросам) пишите наОТДЕЛЬНЫХ листках. При высылке денег обязательно указывайте их назначение на отрезном купоне перевода. При заявлениях о неполучении журнала (или приложений), при доплатах за подписку и при перемене адреса, необходимо прилагать адресный ярлык с бандероли, по которой получался журнал. Кроме того, за перемену адреса к письму надо прилагать 20 коп. почтовыми или гербовыми марками. При возобновлении подписки и при доплатах НЕ ЗАБУДЬТЕ указать на купоне перевода: «ДОПЛАТА». «Всемирный Следопыт за 1925 год полностью разошелся. За 1926 г. имеются ТОЛЬКО следующие номера: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, И и 12. Комплект указанных номеров высылается по получении 3 руб. Отдельные номера — по 35 коп. (с перес.). Стоимость можно высылать почтовыми или гербовыми марками.Загадочный аквариум

На нашей фотографии мы видим изумительное зрелище: шарообразный сосуд, наполненный водой. В этом аквариуме мы видим двух живых канареек, весело прыгающих на жердочках, и семь золотых рыбок. Предупреждаем читателей, что это не трюк фотографа. Птицы и рыбки действительно находятся в банке. В чем же секрет этого загадочного аквариума?.. — Кто не догадается сам, — узнает в одном из следующих номеров «Следопыта», в отделе «Шевели мозгами».
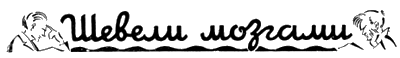
ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ
ЗАДАЧА БУКВ

Данную фигуру предлагается разрезать на равных по форме и величине частей и сложить из них новую симметричную фигуру так, чтобы по вертикальным рядам ее можно было прочитать ряд географических названий (озер, рек, городов и пр.), а в одной из диагоналей — фамилию виднейшего путешественника.
ЗАДАЧА ОБ 11-ти СПОРТСМЕНАХ.

Одиннадцать спортсменов играли в футбол на площадке, занимая места, как показано на рисунке. Возьмите линейку и четырьмя прямыми линиями, разделите все поле таким образом, чтобы каждый спортсмен оказался на совершенно особом участке, отделенном от других проведенными линиями.
ПРЫГАЮЩИЙ КУЗНЕЧИК.

Двенадцать очков прилагаемого рисунка расположены в восходящем порядке в направлении часовой стрелки. Задача состоит в том, чтобы переместить все очки в обратном порядке, при чем пустое очко должно остаться на своем прежнем месте. Можно двигать кружки на любое соседнее пустое очко, или же можно перескакивать через одно, подобно тому, как перескакивают друг через друга шашки, с той только разницей, что здесь то очко, через которое перескакивают, не снимается, а остается на своем месте. Для решения этой задачи следует вырезать из бумаги двенадцать кружечков и перенумеровать их от одного до двенадцати, а затем переставлять их на рисунке, пока не получится нужный результат. Задача должна быть решена сорока четырьмя ходами. Первым ходом, разумеется, будет передвижение номеров первого или двенадцатого на пустой кружок.
ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ.
1) В название какого созвездия надо вставить польское имя, чтобы получить название города? 2) Какие и как надо расположить предлоги и ноту, чтобы получить название реки? 3) Название какой страны составляет полтора союза? 4) В название какого насекомого надо вставить предлог, чтобы получить название гор?РЕБУС № 1

Фамилии приславших верные решения всех задач, ребусов, и пр., будут печататься одновременно с самими решениями.
При этом номере журнала всем подписчикам рассылается № 2 «Вокруг Света».
ЕВРОПА
К карте на 4-й стр. обложки

Собственно говоря, Европа не представляет отдельного материка, а является как бы большим полуостровом Азии. Некоторые географы на основании этого и считают Европу и Азию за общий континент — Евразию. Однако, по своему климату и по своей природе, Европа имеет свои характерные отличия, и поэтому вполне правильно рассматривать ее, как отдельный материк. Восточной границей Европы и Азии древние народы считали реки Дон и Вислу. С XVII столетия большинство географов стали признавать границей Европы и Азии Уральские горы, которые считаются и в настоящее время восточной границей Европы. К югу от Урала границу проводят через Мугоджарские горы и реку Эмбу до Каспия. С западной, северной и южной сторон Европа омывается морями: на севере — Полярным морем (прежде назыв. Сев. Ледовит, океаном), с большим заливом, образующим Белое море; на западе — Атлантическим океаном, образующим два больших залива — Северное море и Балтийское море; на юге— Средиземным морем, которое вдается в сушу также большими заливами, образующими Адриатическое море, Эгейское, Мраморное, Черное и Азовское. Характерной чертой Европейского материка является изрезанность береговой линии. Благодаря этому суша вдается в море, образуя бесчисленные полуострова и мысы. Наиболее значительными полуостровами являются: на севере — Кольский, на западе— Скандинавский и Ютландский, на юге — Пиринейский, Апеннинский, Балканский и Крымский. Европа окружена также многочисленными островами, из которых наиболее крупными являются — группа Великобритании и Ирландии и Исландия, а на Средиземном море Корсика, Сицилия, Сардиния, Крит и Кипр. Особенно много островов на Эгейском море. Южные берега Европы большею частью гористы, северные же — низменны. По строению своего рельефа Европа принадлежит к низменным странам; в ней преобладают обширные равнины (русская и средне-германская). Горные хребты проходят лишь на севере (Скандинавские горы) и на юге (Пиринеи, Альпы, Балканы, Апеннины). В центральной части Европы проходят Карпатские и Рудные горы. На востоке Европы — невысокий Уральский хребет. Европа обладает богато развитой речной сетью. Величайшая река Европы — Волга (3.700 клм. длины), а из других наиболее важных рек следует назвать: Днепр, Дунай, Дон, Урал, Эльбу, Рону, По, Рейн, Вислу, Днестр, Сену, Темзу, и Неву. Из озер самыми большими являются: Ладожское, Онежское, группа Шведских озер и Женевское в Швейцарии. Современные европейские народы принадлежат к трем главным расам: латинской (французы, итальянцы, испанцы и др.), германской, с сильно развитой англосаксонской ветвью (англичане), и славянской (русские, украинцы, белоруссы, поляки, сербы, чехи, хорваты и др.). В настоящее время Европа представляет собой, в политическом отношении, 30 государств, из которых большинство пользуются только видимой самостоятельностью, а на самом деле целиком зависят от нескольких крупных капиталистических стран. Одновременно в Западной Европе все более усиливается влияние Соед. Шт. Сев. Америки. Нахождение в Европе метрополий (центров) главнейших империалистических государств — Англии, Франции, Италии, Германии (до войны) — создает из Европы арену, где плетутся все интриги, возникающие обычно в колониях на почве борьбы за рынки сырья, сбыта и рабочей силы. В Европе же эти интриги находят свое кровавое разрешение, как, например, в войне 1914–1918 г. Эта война совершенно переменила внешний вид Европы, создав ряд новых государств (свыше 10), из которых большинство вызвано к жизни какими-либо политическими махинациями крупных империалистических государств. Эти же махинации «великих держав» об’ясняют и нелепый, неустойчивый вид современных границ между европейскими странами. Война оставила ряд «спорных» областей, иногда явно не тем, кому следует. Оккупация Францией Рейнской области, Румынией— Бессарабии и Буковины, Польшей— Виленщины; Албанский вопрос; Данцигский корридор; Верхняя Силезия — все это еще ждет пересмотра… Политически же из всего этого вытекают новые противоречия, — отсюда совершенно определенная постоянная угроза новой войны…
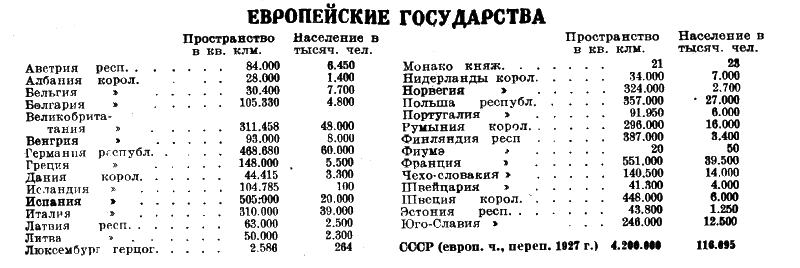
Последние комментарии
11 часов 19 минут назад
12 часов 11 минут назад
23 часов 36 минут назад
1 день 17 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 10 часов назад