Адам Мицкевич
Стихотворения
Поэмы

Перевод с польского
{1}

Адам Мицкевич
Имя Мицкевича, наряду с другими славными польскими именами — Коперника, Шопена, Склодовской-Кюри, — давно воспринимается как олицетворение того вклада, который внесла Польша в сокровищницу мировой культуры. В России узнали и полюбили Мицкевича без малого полтора столетия тому назад. Его творчество настолько богато жизненным содержанием, настолько масштабно в своих гуманистически-философских обобщениях, настолько проникновенно, человечно и возвышенно, что — перекидывая мост между прошлым и настоящим, преодолевая десятилетия, — способно в основном и главном восприниматься читателем сегодняшнего дня, даже не поляком, без комментаторского посредничества. Но верно и то, что в какой-то степени мы можем приблизить к себе великого поэта, припомнив времена, свидетелем которых он был, познакомившись, пусть бегло, со страницами его жизни. Это была жизнь борца, стремившегося слово подтверждать делом, не мирившегося с достойной отрицания действительностью и умевшего идти сквозь бури, испытания, поражения. Мицкевич был не только гением поэзии — он был воином польской и европейской демократии. У нас еще А. В. Луначарский подчеркивал, что Мицкевич — это, не столь частое в литературе, «сочетание в одном лице поэта мирового значения и поэта революционного».
* * *
Дата рождения Мицкевича — 24 декабря 1798 года. Несколькими годами ранее, под нажимом соседних монархий, погубленная внутренним неустройством, политической отсталостью шляхетской массы, прямым предательством реакционных магнатов, Польша становится жертвой разделов и перестает существовать как государство. Какое-то время, пока Европа бурлила войнами, польские патриоты еще лелеяли надежды на благоприятный поворот событий. Наполеоновские походы, в которых участвовало и польское войско, были горьким историческим уроком, они показали, что завоевание свободы вряд ли придет извне и трудно сочетается со служением чуждому делу. Однако они оставили польскому обществу не только «наполеоновскую легенду», долго еще туманившую умы, но и память о днях, когда в крови и пушечном дыме менялся облик континента. В эти годы ускоренно шла выработка нового патриотического сознания, уже освобождавшегося от феодально-кастового духа и способного подняться до понимания интересов более широкой массы. Польской демократии предстояло в XIX веке стать одним из самых боевых отрядов демократии всеевропейской.
Детство и молодые годы Мицкевича, родившегося на хуторе Заосье близ города Новогрудка, протекли в Белоруссии и Литве. История этих земель, переживших натиск крестоносцев и татарские набеги, являвшихся полем войны между Речью Посполитой и Московским государством, была неспокойной и полной превратностей. Территории древних русских княжеств и Великого княжества Литовского, они вошли в состав Речи Посполитой, но как особая часть — Литва, в отличие от собственно Польши, или «Короны». (Не случайно в поэзии Мицкевича Литва выступает как обозначение родины не реже, чем Польша.) Лишь под конец XVIII века разделы Польши привели эти земли под власть Российской империи. Память о прошлом оказалась, однако, достаточно живучей, поддерживалась существованием прежних нравов и быта, а на первых порах и остатками старых учреждений (что прекрасно показано в «Пане Тадеуше»). Еще долго поборники польской независимости не мыслили ее без воссоединения этнографической Польши с территориями, прилегавшими к ней на востоке. Белорусско-литовские земли охватывались в XIX веке и сетью польской патриотической конспирации, и пламенем вспыхивавших революционных восстаний. Чрезвычайно жесткий характер носили здесь русификаторские и репрессивные меры царских властей. Местное польское население было достаточно многочисленным и вовсе не состояло из одних лишь помещиков; оно включало в себя и горожан, и шляхтичей только по гербу, живших службой, а подчас и пахавших землю. Отец будущего поэта, Миколай Мицкевич, был адвокатом, поместий не имел и, скончавшись в 1812 году, оставил многочисленную семью в весьма трудном положении.
Среда, взрастившая Мицкевича, была, таким образом, достаточно демократичной и не была замкнуто польской. Это стоит учитывать, следя за его духовным развитием и сталкиваясь с такими чертами, как устойчивые фольклорные интересы, представления о необходимости мирного сожительства народов, восприимчивость к славянской идее, неприязнь к аристократии, знание быта в широком социальном разрезе, неизменное народолюбие.
1815 год, когда Мицкевич стал казеннокоштным студентом Виленского университета, был и годом, когда более чем на столетие определилась судьба польских земель. После разгрома Наполеона, чье бесславное отступление из России видел и пережил будущий поэт, Венский конгресс произвел новый раздел Польши, — и теперь под властью России оказалась часть территорий собственно польских, образовавших Королевство (Царство) Польское с такими атрибутами автономии, как сейм и собственная армия. Плоды либеральных александровских жестов не могли, конечно, выжить в атмосфере все более откровенного перехода царизма к аракчеевским методам. Неуклонно обозначался и раскол внутри польского общества. Цель ведущих политиков Королевства состояла в сохранении существующего порядка. Либеральные круги делали ставку на мирный прогресс, развитие промышленности, просвещения и культуры. Зарождавшиеся тайные общества рвались к завоеванию политических свобод, к борьбе за национальную независимость.
Студенческие годы Мицкевича (1815–1819), а затем годы учительства в Ковно дали ему не только основательнейшее филологическое образование (Виленский университет был тогда крупнейшим центром польской культуры). Он открывает для себя широкий мир европейской мысли и поэзии. Увлечение вольнодумием и язвительной иронией Вольтера, чьим переводчиком и подражателем был Мицкевич в своих первых пробах пера, дополняется жгучим интересом к размышлениям Руссо об обществе, цивилизации, морали, к историческим концепциям Гердера и т. д. И, конечно, оставили свой след в духовной биографии Мицкевича поэтические кумиры тогдашнего поколения — Шекспир, Гете, Байрон. Но еще важнее то, что Мицкевич — студент и ковенский учитель — делает первые шаги в общественной деятельности. В 1817 году Мицкевич и небольшая группа его друзей основывают тайное «Общество филоматов» («любящих науку»).
Документы и материалы филоматов, дошедшие до нас, не отражают, по понятным причинам, всех тех стремлений, которыми жил этот круг молодых энтузиастов. Можно, однако, с уверенностью сказать, что начали они с взаимной помощи в занятиях науками, с чтения на собраниях первых литературных опытов, с идеи морального совершенствования и закалки, а затем все отчетливее стала вызревать мысль о возможно более деятельном служении родине. «Отчизна» в лозунгах и песнях филоматов занимает место рядом с «наукой» и «добродетелью». Замысел подготовки юных граждан к общественно-патриотическим свершениям, на первых порах четко не определяемый, выливается в резкую оппозицию печальной для Польши политической действительности, в стремления, которые вели к национальной революции. Кружки преобразовываются. Возникают «дочерние» организации «променистых» («лучистых»), а затем «филаретов» («любящих добродетель») с более широким составом, с разветвленной сетью, с разною степенью посвящения. Устанавливаются связи с конспираторами вне Литвы, и более чем вероятна какая-то степень осведомленности филоматов об аналогичном движении в России.
Подобная эволюция была, разумеется, уделом не всех, а лишь наиболее решительных из филоматского круга — будущих повстанцев, ссыльных, эмигрантов. Многие из них оставили свой след и в польской литературе. Великим стал только один. Но начинал Мицкевич с того, что стремился быть голосом сотоварищей и братьев, начинал с откликов на микрособытия дружеского кружка, со стихотворного выражения общих лозунгов и программ. Мужает, все ярче обрисовывается могучая поэтическая индивидуальность, Мицкевич опережает сверстников — и дело не обходится без расхождений, непонимания. Но строки, вышедшие из-под пера поэта, впоследствии подхватил круг современников и потомков, куда более широкий, чем филоматский. Чеканный призыв «Песни филаретов» (1820): «Мерь силы по намерениям» — становится обозначением революционного дерзания. Классическую форму и образность прославленной «Оды к молодости» (1820), в общем не разрывавшую с тогдашними поэтиками, прямо-таки разламывал поразивший современников невиданный ранее романтический энтузиазм. Ибо «Ода» оказывается чем-то гораздо большим, чем вершина филоматской поэзии, чем мост между Просвещением и новой эпохой, чем усвоение польской лирикой властвовавшего над умами бунтарско-шиллеровского духа. Революционного молодого современника захватывало в ней все: контраст аллегорических образов Молодости и Старости — то есть смелого самопожертвования и трусливого благоразумия, братства бойцов и эгоизма «существователей», — вселенски-космическое видение мира, соответствовавшее грандиозной цели поколения — освободить родину, и дерзкий призыв толкнуть планету «на новые пути», и радостное приветствие забрезжившей «зорьке свободы» — предвестнице «солнца избавления». В политическую атмосферу эпохи, гениально почувствованную автором, входит как неотъемлемая часть и сама «Ода», распространяемая в списках, а через десять лет ее печатают как боевую прокламацию варшавские повстанцы. Такое соотношение между поэзией и действительностью в принципе останется для Мицкевича характерным во все годы его славы, начиная с опубликования первого тома «Поэзии» (1822; второй том появляется годом позже), когда было положено начало новому, романтическому направлению в польской литературе.
В Польше романтизм был связан не только с литературным прогрессом, не только с теми открытиями в изображении мира и человека, которые принесло с собой это общеевропейское литературное движение. Предгрозовая атмосфера приближавшегося восстания придала спорам литераторов политическую остроту, сделала их зашифровкой такого содержания, о котором нельзя было говорить в открытую. Литературное староверие, отстаивание клонившихся к упадку прежних направлений (классицизм, сентиментализм) стало восприниматься как нечто равнозначное верности существующему порядку вещей. Низвержение устарелых поэтических канонов превратилось в символ бунта против стеснительных для развития нации политических условий. Смелое введение в литературу национально-народного элемента было созвучно подымавшимся в обществе патриотическим и демократическим стремлениям. Поэзия молодого Мицкевича давала все основания для такой интерпретации, хотя была и шире ее в своем человеческом, на века вошедшем в жизнь народа содержании.
Когда в балладе «Романтика» (программной для всего цикла «Баллад к романсов», 1822) ведется спор между «разумом» и «чувством» (ученый старец и крестьянская девушка) — это не упрощенно-плоский выбор между рационализмом и иррационализмом в пользу последнего. Энтузиазм и порыв в неведомое противопоставлялся ограниченно-самодовольной мудрости и осторожной трезвости. И это обретало совершенно ясный смысл в тогдашнем споре между патриотизмом и национальным оппортунизмом. Ориентация на народность, пронизавшая «Баллады и романсы» (хотя осуществленная не во всем последовательно, подчас с налетом сентиментальности), внесла в польскую поэзию не только взятые из фольклора сюжеты и образы, поразившие тогдашнего читателя своей свежестью, не только новое звучание стиха и пополнение поэтического словаря. Она знаменовала поворот в области эстетического вкуса — в сторону большей естественности и большей демократичности: простонародный элемент получал права гражданства в сфере поэзии. Больше того, народное творчество представало у Мицкевича хранителем истинно нравственных понятий, мечты о мире, где проведена четкая граница между добром и злом и человеческие поступки получают справедливое воздаяние. А мысль о моральном возрождении общества была в те годы равнозначна стремлению к политическому возрождению нации.
Линию баллад продолжает лирико-драматическая поэма «Дзяды» (части II и IV, 1823). Фольклор остается эстетическим ориентиром; обращаясь к нему, поэт видит создание истинно национальных драматических форм (от народного обряда поминовения умерших происходит и название поэмы). Непрекращающийся морализаторский поиск заходит в область социальных отношений (крестьянский суд и загробное возмездие жестокому пану во второй части «Дзядов»).
И тут же в произведение вторгается глубоко личная тема. Мицкевич пережил к этому времени бурное и несчастливое чувство к Марыле Верещака, чье имя встречается на многих страницах его лирики. Четвертая часть «Дзядов» стала поразительным по откровенности и страстности рассказом о любви и муках героя, разлученного с возлюбленной (дочь состоятельных родителей, Марыля вышла за графа Путкамера). Необычной была и форма: монодрама, драма-монолог, драма-исповедь. Обвинительный акт против возлюбленной получился у поэта — при всем обилии подлинных деталей — не во всем точным и справедливым (от поэтической автобиографии вообще не стоит требовать скрупулезной верности). Дело было в другом: с редкою достоверностью в польской поэзии зазвучала человеческая страсть, появилась личность, протестующая против попрания своих прав, появился герой, воспринятый как польский Вертер, но выступающий с бунтом и отрицанием более резким, почти байроновским. Личное редко оставалось в поэзии Мицкевича только личным. В «Дзядах» героя сводит с ума не просто женское малодушие: виновным оказывается всевластие денег и титулов, мир предстает устроенным так, что для прав сердца в нем нет простора. И слияние в едином замысле (хотя и не получившем целостного завершения) темы интимно-личной и более широкой, народно-фольклорной, было у Мицкевича, конечно, не случайным.
Бунт во имя прав личности как таковой в польском романтизме после 1823 года отступил, впрочем, на второй план. И Мицкевич, опубликовав в том же году поэму «Гражина», дал иной вариант романтического героя. Менее дерзкая в разрыве со старой эстетикой — при явной, впрочем, новизне сплава лирического и эпического элементов, исторического колорита и самого жанра (это был первый образец излюбленной романтиками «поэтической повести»), — «Гражина» положила начало героико-патетической линии в польском романтизме, представила героиню, гибнущую ради того, чтобы увлечь на борьбу с врагом своих соотечественников.
В годы, когда первые томики Мицкевича волновали польского читателя, вербуя новому направлению восторженных сторонников и явных недоброжелателей, автор их был выключен из польской литературной жизни. В жизни Мицкевича произошло потрясение, как бы стершее личные переживания предшествующих лет. Царские власти напали на след филоматско-филаретских организаций. В октябре 1823 года в келье ставшего следственной тюрьмой базилианского монастыря в Вильне оказался со своими товарищами и Мицкевич. Следствие, которое возглавил один из приближенных Александра I сенатор Новосильцев, было долгим и придирчивым, а приговоры достаточно суровыми (вплоть до крепостных работ и солдатчины). Мицкевич, благодаря собственной осторожности и сдержанности ближайших друзей, подвергся наказанию сравнительно мягкому: высылке во внутренние губернии Российской империи. 25 октября 1824 года он выезжает из Вильны и прибывает в Петербург в дни знаменитого наводнения, описанного в пушкинском «Медном всаднике».
Тяжесть ссылки, продлившейся четыре с половиною года, была для Мицкевича в значительной степени смягчена тем благожелательным приемом, который был оказан ему в русском обществе, и приобщением к литературной жизни русских столиц. Окружение его составили в эти годы не только сотоварищи по несчастью и проживавшие в России поляки: поэт завязывает многочисленные знакомства среди русских. На первом месте — и по хронологии и по степени важности — следует поставить его сближение с будущими декабристами, осуществившееся в первые же недели после прибытия в Петербург, Члены Северного общества К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев станут теми, кого Мицкевич несколько лет спустя первыми упомянет в поэтическом послании «Русским друзьям». Почва для сближения не была исключительно литературной, хотя Рылеев еще до встречи с польским поэтом взялся за перевод двух его баллад — «Лилий» и «Свитезянки», хотя «Вольное общество любителей российской словесности», служившее декабристам легальным прикрытием, содействовало установлению польско-русских культурных связей. Если буквально толковать строки из рекомендательного письма, ранного Мицкевичу при отъезде из Петербурга в Одессу (январь 1825 г.), Мицкевич был для Рылеева «к тому же и поэтом». Главное же в отношении к ссыльным полякам определялось известной рылеевской фразой: «По чувствам и образу мыслей они уже друзья». Вряд ли мы получим когда-либо исчерпывающее решение вопроса о причастности Мицкевича к деятельности первых русских революционных организаций. Но множеством данных подтверждаются и широта его связей в кругах, оппозиционных царизму, и, по меньшей мере, незаурядная осведомленность о революционном брожении в России.
Когда, проведя в Одессе почти год, Мицкевич прибывает в декабре 1825 года в Москву, связи его в русском обществе восстанавливаются не сразу и приобретают характер преимущественно литературный. Красноречив неудавшийся замысел поэта осуществить издание польского журнала в России, чтобы содействовать культурному сближению двух народов. Нельзя не отметить публикации его статей в журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф». О многом говорит и длинный список русских писателей, Мицкевича знавших, ценивших, переводивших, упоминавших его имя в стихах, переписке, мемуарах (Жуковский, Грибоедов, Баратынский, Дельвиг, Вяземский, Козлов, Полевой и ряд других). Самый же значительный и самый известный факт — сближение Мицкевича с Пушкиным, впоследствии выросшее в символ единения и дружбы культур и народов.
Первая встреча поэтов произошла осенью 1826 года. О значении ее вряд ли кто сказал лучше, чем младший ее современник — А. И. Герцен: «Пушкин возвратился и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашел больше своих друзей, — не смели даже произносить их имена; только и говорили что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и устрашены. Он встретил на минуту Мицкевича, этого другого славянского поэта; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами бушевала гроза…»
Отношения Пушкина и Мицкевича — тема, заслуживающая специальной статьи. Здесь мы лишь напомним читателю о знаменитом стихотворении Пушкина, где Мицкевич изображен пророком «времен грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся» (оно дополняется целым рядом упоминаний имени польского поэта в других пушкинских стихах), и отошлем к вошедшим в эту книгу пушкинским переводам баллад Мицкевича и к стихотворению «Памятник Петру Великому», в котором Пушкин представлен как олицетворение свободолюбивых стремлений России, веры в падение самовластия. Подчеркнем также, что взаимный творческий интерес, взаимное уважение поэтов пережили труднейшее испытание разгромленного царизмом восстания 1830 года и достаточно серьезные расхождения в политических взглядах, что подтверждается свидетельствами, названными выше, а также статьей Мицкевича «Пушкин и литературное движение в России» (1837), оценками пушкинского творчества в позднейших парижских лекциях (все это издано на русском языке).
Ссылка не повлекла за собой ослабления творческой энергии Мицкевича. Напротив, талант его окреп, возмужал, засверкал новыми гранями. Если сравнить, например, баллады 1828 года, вызвавшие переводческий интерес Пушкина, с первыми балладами, очевидной станет крепнущая связь поэзии Мицкевича с реальностью, обогащение его художнической палитры. Цикл лирических стихотворений, созданный в Одессе, приносит с собой новые черты; неповторимую жизнерадостность и изящество, редкую музыкальность (многое из этого цикла — даже в переводах — вызвало ряд откликов в русском романсе), обилие житейских реалий, а подчас — ироническое восприятие поэтом-романтиком пошлой обыденщины так называемого «света».
Создание знаменитых «Крымских сонетов» можно счесть моментом, когда творчество Мицкевича ближе всего сходится с развитием русской поэзии. Сам автор стал свидетелем их благосклонного приема русской публикой и имел возможность написать из Москвы: «Почти во всех альманахах (альманахов здесь выходит множество) фигурируют мои сонеты; они имеются уже в нескольких переводах (…). Я уже видел русские сонеты в духе моих». Счастливой была и последующая судьба цикла в русской поэзии: она отмечена и обращением к нему виднейших поэтов, и серией удач, украшающих историю русского перевода. Сыграло свою роль характерное для 20-х годов увлечение русских читателей и романтизмом, и «ориентальной» темой — вспомним, сколькими яркими страницами обязана Кавказу и Крыму наша поэзия. И вряд ли мы ошибемся, утверждая, что в обстановке подавленности, характерной для периода после 14 декабря, появление «Крымских сонетов» с их звучанием «вольным и широким» (если повторить Герценовы слова о поэзии Пушкина) пришлось как раз вовремя. Великолепные по стихотворной форме описания роскошной природы юга скреплялись в них единым лирическим настроением, образом героя-«пилигрима», который, не сгибаясь под ударами судьбы, остро тоскуя по отчизне и близким, «ищет бури», созвучной настроению мятежной души.
И в Варшаве сонеты вызвали живой (хоть и не единодушный) интерес, обострили споры между сторонниками и противниками романтизма (в полемику включился и сам Мицкевич статьей 1829 года «О критиках и рецензентах варшавских»). Варшава приближалась к восстанию. И одной из искр, воспламенивших молодых патриотов, стало крупнейшее из созданных в ссылке произведений Мицкевича — поэма «Конрад Валленрод» (1828).
С «Гражиною» ее роднит не только сюжетно-историческая основа: обращение к временам, когда Литва отражала натиск крестоносцев. В «Валленроде» опять выступает на сцену самоотверженный герой-патриот, Противоречие между частным интересом и патриотическим долгом безоговорочно решается в пользу последнего: невозможно личное счастье, если его нет в отчизне. Романтический трагизм — и такое его понимание надолго укоренится в польской поэзии — основывается не на конфликте личности с окружением, с миром, подавляющим индивидуальность, а на причастности ее к общему, национальному бедствию. И лишь такую личную трагедию — человека, страдающего как часть угнетенной людской общности, — польский романтизм признаёт по-настоящему высокой и масштабной. «Поэтическая повесть» Мицкевича, со всеми элементами важного для романтиков исторического колорита, действием стремительным и таинственным, слиянием лирического и эпического начал, была насквозь современной, специфически польской. И не только утверждение прав угнетенного на борьбу стало ее содержанием. Совсем недавние события (а одному из них — декабристскому восстанию — Мицкевич был очевидцем) делали ощутимым кризис дворянской революционности, методов «военной революции» и заговора избранных. (Польше вскоре предстояло кровью и страданиями оплатить соответствующий урок истории.) Автор «Валленрода» схватывает и представляет — смутно и приблизительно, без ясных и бесспорных выводов, в одном лишь эмоционально-этическом плане — как бы две стороны знакомого ему движения: и самоотверженность, энтузиазм, и трудности, слабости, трагизм. Герой его проходит сквозь сомнения, колебания, муки и оказывается борцом, сражающимся за народ, но без него, в терзающем душу одиночестве, — тем, кто обречен стать жертвой и не увидеть плодов своего самоотречения, погибнуть, проложив путь грядущему мстителю.
В мае 1829 года Мицкевичу удается получить разрешение на выезд из России и отправиться из Петербурга в заграничное путешествие — в Германию, Швейцарию, Италию. В Риме застает его весть о восстании, вспыхнувшем в Варшаве ноябрьскою ночью 1830 года. Спустя некоторое время поэт — через Францию и Германию — выезжает на родину, несколько месяцев проводит в находившейся под прусским владычеством Великой Польше, вблизи границы Королевства Польского. Свободная, хоть и на короткое время, Варшава и армия, воевавшая под польским знаменем, не увидели своего поэта. (Героизм сражавшихся он воспел позднее, по рассказам друзей-очевидцев, в нескольких повстанческих балладах.) Трудно определить сейчас и характер внешних препятствий, помешавших поэту осуществить тот замысел, с которым он отправлялся в путь, и его душевное состояние в эти трагические месяцы. Нельзя совершенно исключить и недостаток решимости, может быть, даже неверие в возможность немедленного освобождения; небезынтересно в этом плане предповстанческое стихотворение «Матери-польке». Но, свидетель национальной катастрофы, он пережил ее с острою и жгучею болью, запечатлел в поэтическом слове, разделил с уцелевшими от расправы повстанцами тяготы эмигрантского существования и оставшиеся годы жизни провел на переднем крае национально-освободительной борьбы.
Начинается одно из самых трагических десятилетий в истории польского народа. Царские власти отправили пленных на каторгу и в ссылку и чугунным ярмом сдавили избежавших репрессий. Сделали выводы соседи, соучастники по грабежу и насилиям, — Пруссия и Австрия. В обескровленном крае долго еще оставался невозможным новый революционный порыв, на который надеялась польская эмиграция, с почетом встреченная демократической Европой и с настороженной неприязнью — западными правительствами.
В новый этап развития вступила и польская литература. Борьба за утверждение романтизма отошла в прошлое: восстание подвело черту под старыми спорами. На долю поэтов выпадают задачи, невиданные по грандиозности: духовно поддержать и сплотить соотечественников, объяснить случившееся и призвать к борьбе, вписать судьбы нации в историческую перспективу, приемлемую и понятную для современников. И в момент, когда перед неповторимо-трагической судьбой народа маловажным выглядит эстетический и литературный поиск, когда средоточие умственной и художественной жизни неестественным образом оказывается за пределами страны, польская романтическая поэзия возносится к вершинам суровой правды, истинно прометеевского пафоса и достигаемой словно бы без малейшего усилия оригинальности. Будто торопясь засвидетельствовать присутствие польского народа в культурной и духовной жизни Европы, на подавление восстания она отвечает шедеврами. Первый из них — третью часть «Дзядов» — создает весной 1832 года в Дрездене, где ненадолго задержалась эмигрантская волна, Мицкевич. С этого же года поэт почти постоянно живет в Париже.
Основной пафос третьей части «Дзядов» без труда дойдет и до людей нашего века, чья история изобилует примерами неравной борьбы народов за свободу, мужественного сопротивления грубой силе. Для понимания реальной основы драмы достаточно знать, что процесс «филаретов» описан в ней с соблюдением правды характеров и верности многих деталей, что обращение автора к нему было не случайным: уже не открытый бой, а трудный и упорный поединок с торжествующим врагом стал в эти годы нормой и единственно возможным проявлением патриотизма. Не удивят читателя, знающего обличительную силу классической русской литературы, и портреты гонителей польского народа, циничных и аморальных царских сатрапов. Можно добавить, что появление среди виленских патриотов русского офицера, будущего декабриста, и типично для отношения Мицкевича к России, и вполне достоверно исторически (именно в 1823 году побывал в Вильне М. П. Бестужев-Рюмин).
Небесполезны будут и пояснения. Грандиозность замысла «Дзядов» (автор собирался развить его и далее), желание дать синтетическое решение комплекса философско-политических и моральных проблем продиктованы были отмеченными выше стремлениями и обязанностями послеповстанческой литературы. Неудивительно, что на первый план выдвигается жанр свободно построенной романтической драмы, к которому вскоре обратились и другие романтики — Словацкий и Красинский. Отсюда и фрагментарность, кажущаяся неслаженность конструкции: непрерывная смена картин, до предела насыщенных эмоционально, без крепко сбитой композиционной основы, при связи, основанной лишь на единстве чувства и мысли. Отсюда и своеобразный жанровый сплав (историческая и философско-этическая драма, лирико-драматическая поэма) с привлечением средств разнообразных поэтик (оперы, мистерии, народного фарса и т. д.), элементов эпического повествования, лирического монолога и агитационной песни, при отмеченной самим автором «непрерывной смене тона и ритма». Отсюда и двуплановость: сосуществование реализма — в героико-патетической и обличительно-гротескной разновидностях — с самой крайней романтикой и фантастикой.
Не могут быть отсечены от драмы занимающие в ней существенное место и представленные в выразительно-наивной упрощенности элементы христианской мифологии, ее дьяволы и ангелы. Они понадобились поэту для предельно четкой обрисовки сил добра и зла, для такой оценки действующих лиц и исторических сил, которая исключала бы недомолвки и легко усваивалась тогдашним читателем. Не обошелся без них Мицкевич и при решении другой задачи: отстоять смысл исторического развития, для Польши обернувшегося в тот момент трагической до несправедливости стороной, убедить себя и читателя, что победа сил свободы и добра этим развитием (оно сливалось в понимании поэта с высшим предопределением) в конечном счете обусловлена, другими словами — устоять на почве оптимизма, без которого немыслимо было остаться поляком-революционером. И тут мировоззренческие искания Мицкевича пошли по своеобразно «еретическому» руслу. В «Дзядах» (а с еще большей обстоятельностью в другом сочинении, художественно-публицистическом, в стиле библейской прозы — «Книгах польского народа и польского пилигримства», 1832) он начинает развивать доктрину так называемого «польского мессианизма». Заразив в той или иной форме виднейших романтиков 30 —40-х годов, доктрина эта отводила Польше особую историческую роль: искупить своим страданием, подобно Христу, грехи народов и возвестить человечеству эру братских межнациональных отношений В пору недостаточной зрелости польской общественной мысли она как бы отражала неестественность положения растерзанной и придавленной Польши в тогдашней Европе, но не была ни националистической, ни антиреволюционной, особенно в изложении Мицкевича, призывавшего собратьев сражаться на стороне народов, где бы ни вспыхнуло восстание против деспотизма.
Все это небезразлично и для сопоставления героев драмы, Конечно, нам всего ближе и понятнее самый яркий из них — поэт и богоборец Конрад, до известной степени являющийся двойником автора. Восставая против верховного авторитета, вооружась небывалою силою чувства, основанного на принадлежности к угнетенному народу («Я и отчизна едины»), он клеймит бога, холодного и равнодушного, как виновника господствующего в мире страдания. (Здесь и полемика с философско-исторической концепцией деизма.) Но солидарность с этими обвинительными речами была для Мицкевича равнозначна духовной капитуляции. Он начинает спор с героем, с собственным прошлым, с вчерашним днем национального движения, противопоставляет друг другу два типа патриотизма и героизма. Один — индивидуалистического толка, мечущийся между гордостью и отчаянием, преувеличивающий возможности исключительной личности в национальном деле (требование Конрадом власти над душами). Суть другого — в непритязательном самопожертвовании, в бесхитростной и терпеливой вере в будущее. Образное их воплощение (Конрад — ксендз Петр), безусловно, неравноценно: в одном воплотилась реальная боль, пережитое и прочувствованное, другой был обозначением, нащупыванием идеала. Но даже в этом сложном переплетении верного и гадательного отразился переломный характер эпохи: польское освободительное движение пересматривало старый багаж, шло к новому идеалу патриота, теснее связанному с массой, хоть и вовсе не такому, каким он мыслился Мицкевичу. Здесь могут служить проясняющей параллелью и призыв одного из патриотов в «Дзядах» сойти «в глубины» нации, и позже одна из линий «Пана Тадеуша» (превращение Яцека Соплицы в патриотического эмиссара Робака).
Эпическое приложение к третьей части «Дзядов» («Отрывок»), представляющее для нашего читателя особый интерес, в содержании своем полностью объясняется датой опубликования. Соединение жанров своеобразного путевого дневника и небывалого по резкости бичующего памфлета исключало, конечно, безупречную многосторонность изображения. Пушкин, одним из первых в России познакомившийся с «Отрывком», вступил в «Медном всаднике» в поэтическую полемику с Мицкевичем (апофеоз Петра I, картины Петербурга, оценка русской государственности). Но среди всего, что писалось тогда о России за рубежом, «Отрывок», бесспорно, выделяется как картина, увиденная глазами революционера, основанная на лично испытанном, созданная во многом «изнутри», свободная от высокомерной недоброжелательности. Надо заметить, что почти ко всему, сказанному польским поэтом о России, — вплоть до таких вещей, как оценка Петра и его реформ, горький упрек брату-славянину, пассивно терпящему неволю, — находятся параллели в истории
русской публицистики и литературы XIX века. Многозначительно и то, что Мицкевич выступает не только обличителем, но и пророком, предвещающим свержение тирании, и то, что для него важно быть правильно понятым передовой Россией, провести грань между нею и царизмом («Памятник Петру Великому», «Русским друзьям»).
Второе из этих стихотворений — еще один пункт сближения Мицкевича с нашей литературой, В нелегальную русскую поэзию оно вошло несколькими переводами, появившимися на разных этапах освободительного движения (петрашевец Момбелли, Огарев, Добролюбов и др.). В 1906 году оно открыло вместе с пушкинским посланием в Сибирь «Собрание стихотворений декабристов».
В 1834 году Мицкевич публикует прославленную поэму «Пан Тадеуш» — крупнейшее и известнейшее из своих произведений. Поэма эта, при всей своей польской специфичности, до конца постигаемой, вероятно, лишь на родине, принадлежит к тем произведениям польской поэзии, которые воспринимаются нашим читателем с наибольшей легкостью и глубочайшим удовлетворением. Именно здесь полнее всего раскрываются в творчестве Мицкевича реалистические тенденции, из романтизма органически вырастающие, тесно связанные с характерными для него проблемами и подчиненные романтическому настроению, особенно сильному в последних двух книгах; оно проявляется в патриотическом пафосе и скорби, в эмоционально-субъективной (при максимальной сдержанности и тактичности) оценке изображаемого, в своеобразной манере повествования.
Мастерство реалистического бытописания, воспроизведения природы в поразительном богатстве красок и тонов, мастерство индивидуального и группового портрета, типизации, сочетающей неповторимо-личное с обусловленным временем и средою, становится сразу же очевидным для любого чуткого читателя «шляхетской истории» Мицкевича. Не менее важно и пронизывающее поэму чувство историзма. Привлекательные и живописные черты старошляхетского уклада не мешают поэту показывать — то с лирическим юмором, то с достаточной остротой — и смешные слабости, и явные, губительные для страны пороки сословия, а главное — принадлежность героев отмирающему и невозвратному прошлому. Неминуема, по Мицкевичу, не только смена поколений, но и замена отживших понятий новыми (многозначителен эпизод освобождения крестьян заглавным героем), ломка старого быта и нравов, обновление облика нации. Путь, следуя которым польский народ сможет выжить, сохранить себя, — это не цепляние за прошлое, а объединение в патриотической борьбе. И в соответствии с этим выступают в роли героев времени солдаты освободительного дела.
Патриотический замысел определил и особое отношение поэта к событиям 1812 года, изображенного как время радостного подъема и надежд. (Впрочем, и тут объективно отмечено, что культ Наполеона даже тогда не был всеобщим.) И дело не только в обаянии «наполеоновской легенды», от влияния которой Мицкевич не освободился до конца жизни, но и в стремлении создать книгу вдохновляющую и ободряющую, уверить современников в их способности возродиться и сплотиться в вольнолюбивом порыве.
«Пан Тадеуш» стал свидетельством подъема польской романтической поэзии до высшего уровня европейского литературного развития. Исследования показали, что разнообразнейшие художественные открытия и искания, в целом комплексе жанров, поэтических и прозаических, Мицкевичем были так или иначе учтены, гениально подхвачены или независимо повторены, обогащены и развиты. Не потому ли его гениальная поэма — как это нередко бывает — ломает рамки жанровой классификации?.. От романтической поэмы в строгом смысле слова, от «поэтической повести» ее отделяет очень многое. Термин «эпопея» передаст скорее место «Пана Тадеуша» в национальной литературе, читательское к нему отношение. Быть может, не так уж неуместно было бы сказать: «роман в стихах»… если бы ранее не успел завладеть этим определением Пушкин.
Творческий взлет начала 30-х годов завершил, в сущности, путь Мицкевича как художника. Если не считать двух драм на французском языке, писавшихся для заработка, и лирических шедевров 1838–1841 годов, замечательных светлою грустью, классической прозрачностью, мужественным приятием жизненной доли и глубиною рефлексии, он не выступает с поэтическими произведениями. Может быть, просто иссякает столь щедро проявлявшая себя прежде творческая энергия. Наверняка губительную роль играют вынужденный отрыв от родины, тяжесть забот о многочисленном семействе, главою которого стал поэт, женившийся в 1834 году на Целине Шимановской, дочери знаменитой пианистки. Светлых моментов в эмигрантском существовании Мицкевича было немного: краткий период профессорства в Лозанне, возможность публичного выступления со славянской кафедры парижского Коллеж де Франс (1840–1844) и, наконец, пора надежд и действия — «Весна народов» — 1848 год.
Главным в жизни поэта становится стремление к публицистической и практически-революционной деятельности. Началом ее было редактирование Мицкевичем демократической газеты «Польский пилигрим» (1832–1833). Оно обозначило его верность принципам польской демократии, при всей сложности отношений, расхождениях по важным вопросам и даже полемике с некоторыми радикальными идеологами эмиграции.
Первая половина 40-х годов в жизни Мицкевича стала полосой застоя и спада в мировоззренческом развитии. Вступление его в нашумевшую мистическую секту Анджея Товянского было связано с уходом в мессианизм иного порядка, нежели в 30-е годы, подменивший, по сути дела, революционную устремленность пассивным морализаторством, нравственным взаимоистязанием в поисках мистического совершенства. Отрезвление принес 1848 год. Мицкевич организует польский легион, сражающийся за свободу Италии. В 1849 году в Париже он приступает к изданию интернациональной демократической газеты «Трибуна народов» на французском языке (в том же году она была закрыта властями). Тогда же происходит его встреча с А, И. Герценом, описанная в «Былом и думах». И если созданный здесь русским писателем портрет Мицкевича замечателен своей пластической выразительностью, то оценка его публицистической деятельности нуждается в серьезных дополнениях. «Трибуна народов» была боевым органом демократии. Опубликованные в ней блестящие статьи Мицкевича стали венцом его мировоззренческих исканий, завершившихся приходом к революционному демократизму, беспощадно разили европейскую реакцию, звали к революционному союзу народов, отмечены были живым интересом к социалистическим учениям, расцениваемым как предвестие гибели старого общества, выражение «новых стремлений и новых страстей». Речь шла, конечно, о социализме утопическом, в толкование его идей Мицкевич внес примесь наивной религиозности, Но показательно, что в мирную реализацию утопий поэт-революционер не верил и восклицал, обращаясь к их пропагандистам: «Вы признаете, что существуют лишь рабы и их угнетатели, жертвы и палачи, а между тем хотите осчастливить человечество, установив гармонию между добром и злом? Неужели вы хотите, чтобы эксплуататоры уступили перед логикой ваших рассуждений, когда они сопротивлялись самоотверженной борьбе и жертвам целых поколений?» Сторонник тактики смелой и решительной, он понимал, что «в известных положениях вялость и равнодушие являются величайшим преступлением перед отечеством», и призывал подавлять сопротивление врагов свободы: «в революции надо быть революционером, и тот, кто им не стал, падет». Статьи 1849 года оказались идейным завещанием пламенного демократа, поборника дружбы народов.
Во время Восточной войны, надеясь в обстановке конфликта между европейскими державами извлечь какую-либо пользу для польского дела, Мицкевич выезжает с политической миссией в Константинополь, где формировались польские легионы для участия в военных действиях на стороне Турции. Здесь и прерывается его скитальческая жизнь: заболев холерой, поэт умирает 26 ноября 1855 года.
Б. СТАХЕЕВ
Стихотворения
1820–1824
Ода к молодости
Перевод П. Антокольского
{2}
Без душ, без сердца! Толпа скелетов!
О, дай мне, молодость, крылья!
И я над мертвым взлечу мирозданьем,
В пределы рая, в обитель светов,
Животворящий восторг изведав,
Где над цветеньем и созиданьем
Златые сонмы картин открылись!
Пускай, годами отягощенный,
Склонился старец, уставясь в землю,
Потухшим оком едва объемля
Мир омраченный.
Ты, молодость, прах юдоли отринешь,
Взлетишь и, светлым взглядом ширяя,
Все человечество ты окинешь
От края до края!
Глянь вниз! Там ночь воздвиглась немая,
Планету своим зловонным потоком
Всю обнимая.
Глянь вниз! Над этой заводью гнусной
Какой-то гад всплывает искусно,
Он служит рулем себе и флагштоком
И прочих мелких зверушек топит,
Всплывает кверху, нырнет обратно
И снова сух в волне коловратной.
А если жалкий пузырик лопнет,
Нам дела нет, что проглочен глубью
Гад себялюбья!
О, молодость! Сладок напиток жизни,
Когда его с другими поделим!
Так лейся же, опьяняй весельем,
Избытком золота в сердце брызни!
Друзья младые! Вставайте разом!
Счастье всех — наша цель и дело.
В единстве мощь, в упоенье разум.
Друзья младые! Вставайте смело!
Блажен и тот, на дороге ранней
Чье рухнет в битве юное тело, —
Другим оно служит ступенью в брани.
Друзья младые! Вставайте смело!
На скользких срывах по кручам этим
Сила и слабость на каждой грани.
На силу силой, друзья, ответим,
А слабость сломим в юности ранней!
Кто в младенчестве гидру задушит,
{3}Подрастет — взнуздает кентавров,
Изведет из Тартара души,
Удостоится вечных лавров.
Досягни, куда глаз не глянет!
Чего разум неймет, исполни!
Орлим взлетом молодость прянет,
Обнимая перуны молний!
Други, в бой! И строем согласным
Всю планету вкруг опояшем!
Пусть пылают в единстве нашем
Мысль и сердце пламенем ясным!
Сдвинься, твердь, с орбиты бывалой!
С нами ринься на путь окрыленный,
Ты припомнишь возраст зеленый,
С кожурой расставшись завялой.
Когда в мирах былой полунощи
Вражда стихий пировала бурно,
Одно да будет господней мощи
Обосновало закон природы, —
Запели вихри, помчались воды,
Возникли звезды в тверди лазурной.
Так и сейчас еще ночь глухая,
Все человечество в алчных войнах.
Чтобы любовь благая воскресла,
Встанет из хаоса Дух, полыхая;
Пускай зачнет его юность во чреслах,
А дружба взрастит в объятьях стройных.
Ломают льды весенние воды.
С ночною свет сражается тьмою.
Здравствуй, ранняя зорька свободы!
Солнце спасенья грядет за тобою!
Декабрь 1820 г.
Песнь филаретов
Перевод Н. Асеева
{4}
Эй, больше в жизни жара!
Живем один лишь раз:
Пусть золотая чара
Недаром манит нас.
Живей пускай по кругу
Веселых дней подругу!
Хватай и наклоняй до дна,
Чтоб жизни глубь была видна!
К чему здесь речь чужая?
Ведь польский пьем мы мед:
Нас всех дружней сближает
Песнь, что поет народ.
У древних нам учиться —
Не в книжном прахе гнить:
Как греки — веселиться,
Как римляне — рубить.
Вон там юристы сели,
И им бокал поставь:
Сегодня — право силы,
А завтра — сила прав.
Сегодня громогласье
Свободе невдомек:
Где дружба и согласье —
Молчок, молчок, молчок!
Кто гнет металл и плавит,
Тот плавит времена;
Нам, чтоб его прославить,
Пусть Бахус даст вина!
Тому из мудрых слава,
Кто в химии знал вкус:
Тончайшего состава
Пил мед любимых уст.
Измеривший дороги,
Пути небесных тел,
Был Архимед убогим:
Опоры не имел.
А нынче, если двигать
Задумал мир Ньютон, —
У нас пусть спросит выход —
И этим кончит он.
Чертеж небесной сферы
Для мертвых дан светил,
Для нас же — сила веры
Вернее меры сил.
Затем, что, где пылает
Порывов сердца дух,
Зря мерку сиять желают!
Единство — больше двух!
Эй, больше в жизни жара!
Живем ведь только раз.
Вот золотая чара,
Не медли, дорог час.
Кровь стынет в бедном теле,
Поглотит вечность нас —
Вот филаретов сказ.
Декабрь 1820 г.
Пловец
Перевод О. Румера
О море бытия, каким ты страшным стало!
Когда я отплывал, твоя сияла гладь, —
Теперь же ночь кругом и грозный грохот вала!
Нельзя ни дальше плыть, ни к берегу пристать:
Что толку руль сжимать рукой усталой?!
Блажен, на чьей ладье за кормчих — Красота
И Добродетель! В час, когда вскипают волны
И меркнет день, к пловцу небесная чета
Склоняется: в руках у этой кубок полный,
Свой чудный Лик приоткрывает та.
И с Добродетелью одной к утесу Славы
Вы сможете доплыть: стоический бальзам
Вас дивно укрепит на подвиг величавый;
Но если Красота не улыбнется вам,
Вы доплывете, пот пролив кровавый.
Однако Красота, Лик показавши свой,
Нередко средь пути коварно улетает,
Надежды лживые все унося с собой;
О, как тогда душа, осиротев, страдает,
Великою охвачена тоской!
С небесной Красотой в мучительной разлуке
Бороться с бурею, в кромешной тьме тонуть,
Хвататься в ужасе за каменные руки,
Валиться замертво на ледяную грудь, —
Кто долго выдержит такие муки?
Пресечь их так легко! Одним движеньем я
Навек спастись бы мог от бурь и тьмы дремучей…
Иль тем, кто брошены в пучину бытия,
Ни сгинуть без следа в волне ее гремучей,
Ни вырваться из недр ее нельзя?
Мне люди говорят, что все живое тленно…
Но голос веры им во мне не заглушить,
Да, звездам духа чужд закон природы бренной,
Им до конца времен светиться и кружить
По необъятной глубине вселенной.
Кто крикнул с берега? Ужели до сих пор,
О братья и друзья, вы на скале стоите?
Ужель в такую даль ваш долетает взор
И до сих пор вы сквозь туман глядите,
Как я держусь, волнам наперекор?
Коль в бездну брошусь я, отчаяньем гонимый,
Упреков тьма падет на голову мою
От вас, которым туч громады еле зримы,
Чуть слышен ураган, терзающий ладью,
И мнится, что гроза проходит мимо.
Вам не понять того, что пережито мной
Тут, на моей ладье, — под громом, ливнем, градом!
Судья нам — только бог: кто хочет быть судьей,
Тот должен быть во мне, а не со мною рядом.
— Я дальше поплыву, а вы, друзья, домой.
17 апреля 1821 г.
Из «Баллад и романсов»
{6}
Романтика
Перевод А. Ревича
{7}
Methinks, I see… Where?..
In my mind’s eyes.
Shakespeare [1]
Девушка, что ты?
— И не ответит —
Нет ни души здесь. Ну что ты?
Тихо местечко. Солнышко светит,
Что же ты руки тянешь в просторы?
С кем ты ведешь разговоры?
— И не ответит.
То в пустоту ненароком
Смотрит невидящим оком,
То озирается с криком,
То вдруг слезами зальется.
Что-то хватает в неистовстве диком,
Плачет и тут же смеется.
«Здесь ты, Ясенько? Вижу, что любишь,
Если пришел из могилы!
Тише! меня ты погубишь,
Мачеха дома, мой милый!
Слышит? — и ладно, пусть я в ответе!
Ты ведь не здесь — на том свете!
Умер? Как страшно в сумраке ночи!
Нет, мне не страшно, ты рядом, как прежде,
Вижу лицо твое, губы и очи!
В белой стоишь ты одежде!
Сам ты холстины белее.
Боже, как холодны эти ладони!
Дай их сюда — отогрею на лоне.
Ну поцелуй же, смелее!
Умер! Прошли две зимы и два лета!
Как холодна ты, могила!
Милый, возьми меня с этого света,
Все мне постыло.
Люди все злобою дышат,
Горько заплачу — обидят,
Заговорю я — не слышат,
Вижу, а люди не видят!
Днем не придешь ты… Не сон ли?.. Как странно
Я тебя чувствую, трогаю даже.
Ты исчезаешь. Куда ты? Куда же?
Рано, совсем еще рано!
Боже! Запел на окраине кочет,
В окнах багряные зори.
Стой же! Уходит. Остаться не хочет.
Горе мне, горе!»
Так призывает девушка друга,
Тянется следом и плачет.
Голос печали слышит округа,
Люди толпятся, судачат.
«Богу молитесь! — твердят старожилы, —
Просит душа о помине.
Ясь неразлучен с Карусей поныне,
Верен был ей до могилы».
Я в это верю, не сомневаюсь,
Плачу, молиться пытаюсь.
«Девушка, что ты?» — крикнет сквозь ропот
Старец и молвит солидно:
«Люди, поверьте, поверьте в мой опыт,
Мне ничего здесь не видно.
Духи — фантазия глупой девицы,
Что вы за темные души!
Спятила — вот и плетет небылицы,
Вы же развесили уши!»
«Девушка чует, — отвечу я сразу, —
Люди без веры — что звери.
Больше, чем разуму, больше, чем глазу,
Верю я чувству и вере.
Будет мертва твоя правда, покуда
Мертвый твой мир настоящим не станет.
Жизни не видишь — не видишь и чуда.
Было бы сердце — оно не обманет!»
Январь 1821 г.
Свитезь
Баллада
Перевод В. Левика
Михалу Верещака
{8}
Когда ты держишь в Новогрудок путь,
Плужинским
{9} проезжая бором,
Над озером дай коням отдохнуть,
Окинь его любовным взором.
Ты видишь Свитезь. Гладь воды ясна,
Как лед, недвижна и блестяща,
И вкруг нее, как черная стена,
Стоит таинственная чаща.
Когда в ночи проходишь той тропой,
Ты видишь небо в темных водах,
И звезды — под тобой и над тобой,
И две луны на синих сводах.
И не поймешь: вода ли в вышину
Уходит зеркалом бездонным,
Иль опустилось небо в глубину
И там блестит зеркальным лоном.
Не знаешь, то вершина или дно
Во мраке берега пропали,
И кажется, с мирами заодно
Плывешь в неведомые дали.
Прозрачен воздух, ясен небосклон,
И тот обман отраден взору.
Но если ты не храбрецом рожден,
Не езди тут в ночную пору.
Такого начудесит сатана,
Таких накрутит штук бесовских!
И вспомнить — страх! Всю ночь лежишь без сна,
Послушав былей стариковских.
То, словно люди в страхе гомонят,
Из бездны шум идет великий,
Валит столбами дым, гремит набат,
Оружья звон и женщин крики.
Вдруг дым пропал, стихает гром и звон,
И только смутно шепчут ели,
И, словно над покойником псалом,
В пучине жалостно запели.
Что это значит? Кто ж ответ вам даст?
На дне ведь люди не бывали.
Болтают всякое — кто что горазд,
А правда есть ли в том? Едва ли.
Плужинский пан, тот самый пан, чей дед
И прадед Свитезью владели,
И сам все думал и держал совет:
Как разобраться в этом деле?
С заказом в город он послал людей,
Большие сделал там закупки,
И мастерят уж невод в его локтей
И строят парусные шлюпки.
Тут я сказал: «Бог да поможет вам,
Ему усердно помолитесь».
Пан дал на мессу, в Цирин
{10} съездил сам,
И ксендз приехал с ним на Свитезь.
На берег вышел, свой надел орнат,
Все окропил и помолился.
Пан подал знак, гребцы взмахнули в лад —
И с шумом невод погрузился.
Уходит вглубь, и поплавки за ним,
Как будто под водой и дна нет.
Канаты напряглись, мы все глядим:
Неужто ничего не тянет?
Но невод тяжко из воды идет,
Так тяжко, словно тащит глыбу.
Сказал бы, — да поверит ли народ, —
Какую выловили рыбу.
Не рыбу, нет, — болтать не стану зря, —
Из волн красавица явилась.
Уста — кораллы, щеки как заря,
Вода с кудрей льняных струилась.
На всех тут страх напал. Иной бежит,
Иной стоит белее мела.
Она под воду скрыться не спешит
И молвит ласково и смело:
«О юноши! То знает весь народ:
Никто в задоре безрассудном
Веслом не смел коснуться этих вод —
Он потонул бы вместе с судном.
Ты, дерзкий, также и твои челны
Истлели б скоро под волнами,
Но здесь твой дед и прадед рождены,
И ты единой крови с нами.
Так знай, хоть любопытство — ваш порок,
Но вы призвали божье имя,
И быль об этом озере вам бог
Устами огласит моими.
Когда-то здесь, где тростники шуршат,
Где царь-травой
{11} покрыты мели,
Кипела жизнь, стоял обширный град,
Строенья крепкие белели.
Красавиц много было в граде том,
Мужей, искусных в деле бранном.
И Свитезью владел тот княжий дом,
Что славен доблестным Туганом
{12}.
Кругом леса в ту пору не росли,
Желтела на полях пшеница,
И Новогрудок виден был вдали —
Литвы цветущая столица.
Но русский царь войной пошел на нас,
И осадил он град Мендога
{13}, —
И обуяла в этот грозный час
Литву великая тревога.
С гонцом письмо литовский государь
Шлет моему отцу Тугану:
«Ты выручал наш стольный град и встарь,
Спеши, ударь по вражью стану!»
Туган прочел — и приказал скликать
Мужей для воинской потехи.
И собралось охочих тысяч пять,
При каждом — конь и все доспехи.
Труба гремит — и пыль столбом взвилась:
То скачет рать за княжьим стягом.
Но вижу, вдруг остановился князь
И в замок воротился шагом.
Он говорит: «Могу ль губить своих,
Чтоб князю дать помогу в брани?
У Свитези ведь нет валов иных,
Как только крепость нашей длани.
Но если в битву мы не все пойдем —
Друзьям не будет обороны.
А все пойдем — как защитить свой дом,
Где наши дочери и жены?»
И я в ответ: «Отец! Послушай дочь:
Ступай! Над нами власть господня.
Мне снилось, ангел огненный всю ночь
Летал над городом сегодня.
Мечом он Свитезь очертил твою,
Златыми осенил крылами
И мне сказал: «Пока отцы в бою,
Не бойтесь, чада, — я над вами».
И внял Туган, — за войском он спешит.
Но вот уже и ночь настала.
И вдруг раздался грохот, стук копыт,
И крик «ура», и звон металла.
Таранами по стенам замка бьют,
Стреляют ядрами по сводам.
И дети, старцы, женщины бегут —
Весь двор заполнился народом.
Кричат: «Скорей ворота на запор!
Спасите! Русь валит за нами!
Пусть лучше смерть, но только не позор!
Убьем! Убьем друг друга сами!»
И яростью сменяется их страх, —
Приносят факелы, солому,
Сокровища сжигают на кострах,
Огнем грозят гнезду родному.
«Кто убежит — будь проклят!» Я — во двор.
Унять хочу их — не умею.
Благодарят поднявшего топор,
Торопятся подставить шею.
Но что преступней: жизнь и честь губя,
Отдаться под ярем кровавый
Иль душу погубить, убив себя?
И я вскричала: «Боже правый!
Ты видишь, нам не совладать с врагом,
К тебе взываем, погибая:
Пусть лучше нас убьет небесный гром,
Укроет мать-земля сырая!»
И белизна внезапно разлилась,
Закрыла мир, как покрывало.
Я опустила очи, изумись…
И подо мной земли не стало.
Взгляни на луг прибрежный: это бог
Избавил слабых от расправы.
Он дев и жен безгрешных уберег,
Их обратил в цветы и травы.
Подобно белым бабочкам, цветы
Парят над спящею водою.
Напоминают свежестью листы
Зеленую под снегом хвою.
Так белый цвет безгрешности своей
Они хранят в веках нетленным.
Не оскорбит их пришлый лиходей
Прикосновением презренным.
То был царю и всем врагам урок:
Победу празднуя над нами,
Иной из них хотел сплести венок,
Иной — украсить шлем цветами.
Но лишь к цветам притронулись они,
Свершилось чудо правой мести:
В недуге страшном скорчились одни,
Других застигла смерть на месте.
Хоть все уносит времени поток,
Но быль народ не забывает:
Поет о чуде, и простой цветок
Он царь-травою называет».
Так молвит нам — и прочь плывет она.
И тонут сети, шлюпки тонут.
Летит на берег с грохотом волна,
Деревья в пуще дико стонут.
Как бездна, хлябь разверзлась перед ней,
Она исчезла в темном чреве,
И с той поры никто до наших дней
Не слышал о прекрасной деве.
1820 г.
Свитезянка
Баллада
Перевод А. Фета
[2]
Кто этот юноша скромный, прекрасный,
Рядом с ним дева кто эта,
Идут по берегу Свитези ясной
В проблесках лунного света?
Дева ему предлагает малины,
Он ей цветов предлагает;
Знать, то виновник девичьей кручины;
Видно, по ней он вздыхает.
Каждую ночь я в условную пору
Тут их под дубом встречаю.
Здешний стрелок он и рыщет по бору;
Кто эта дева — не знаю.
Скрылась — куда? И откуда? Поныне
Это никто не узнает.
Всходит она, как цветок на трясине,
Искрой ночной пропадает.
«Друг мой, скажи мне, — зачем ты скрываешь?
Тайна к чему нам пустая?
Что за тропинку глухую ты знаешь?
Где твоя кровля родная?
Лето минуло, дождлива погода,
Лист пожелтел на вершинах, —
Буду ль всегда твоего я прихода
Ждать на прибрежных долинах?
Полно блуждать, словно облачко дыма,
Серной мелькать молодою,
Лучите останься ты с тем, кем любима!
Милая, следуй за мною!
Домик мой здесь недалеко; раздольно
В нем меж кустами ольшины;
Там молока и плодов с нас довольно,
Всякой довольно дичины».
«Стой! Стой! Отвечу пред гордым мужчиной,
Вспомня отцовский обычай:
В голосе вашем привет соловьиный,
В сердце же помысл лисичий.
Страшно! Любви я не верю, робею;
Хитрый обман злонамерен.
Может быть, я и была бы твоею,
Только ты будешь ли верен?»
Юноша пал на колени, хватает
Землю, клянется ей светом,
Ясной луною и адом… Кто знает,
Будет он верен обетам?
«Этим обетам будь верен, мой милый!
Кто нарушает подобный,
Здесь ему горе, и там, за могилой,
Горе душе его злобной».
Дева венок свой надела в смущенье,
Смолкла, махнула рукою
И, поклонившись стрелку, в отдаленье
Скрылась знакомой тропою.
Он ей вослед, но напрасны старанья!
Сколько стрелок ни метался,
Дева исчезла, как ветра дыханье;
Он одинокий остался.
Где он? Свернул незнакомой тропою…
Гнется трясина живая,
Тихо кругом, лишь трещит под ногою
Изредка ветка сухая.
Вот и к воде подошел он в смущенье,
Взоры блуждают без цели…
По лесу ветер завыл в отдаленье…
Волны, кипя, зашумели…
Льются и плещут, кипя и сверкая…
О, это призрак напрасный:
Чудная дева всплыла, разверзая
Влагу на Свитези ясной!
В каплях чело ее мягче сияет
Роз белоснежных завоя,
Легче тумана покров обвивает
Тело ее неземное.
«Юноша, юноша нежный, прекрасный, —
Дева взывает с упреком, —
Что ты тут бродишь у Свитези ясной
В полночь в раздумье глубоком?
Юного сердца порывы так жарки,
Ты околдован мечтою…
Может быть, речи вертлявой дикарки
Были насмешкой пустою?
Слушай и верь мне: с тоскою расставшись,
Брось этот призрак печальный;
Здесь оживешь ты; здесь будем, обнявшись,
Плавать по влаге кристальной;
Будешь, как резвая ласточка, шибко
Волн по верхам прикасаться,
Либо, доволен и весел, как рыбка,
День весь со мною плескаться,
Ночью ж, на дне серебристой купели
Под зеркалами живыми,
Нежась на мягкой лилейной постели,
Тешиться снами златыми!»
То, не касаясь до влаги стопами,
Радугой блещет лучистой,
То, погружаясь, играет с волнами,
Пеною брызжет сребристой.
Юноша к ней; но, опомнясь, с разбегу
Хочет прыгнуть и не хочет:
В ноги к нему подкатившись по брегу,
Нежно волна их щекочет.
Льнет и щекочет так сладко-игриво,
Так в нем душа замирает,
Будто бы руку ему торопливо
Милая тайно сжимает.
Вмиг позабыты душой омраченной
Клятвы пред девой лесною;
К гибели мчится стрелок ослепленный,
Новой взманен красотою…
Мчится и смотрит, и смотрит и мчится
Следом коварного тока,
Синяя бездна дрожит и кружится,
Берег остался далеко.
Рук белоснежных он ищет руками.
Очи в очах утопают,
Хочет к устам прикоснуться устами,
Волны бегут и сверкают.
Вдруг ветерок пропорхнул, разгоняя
Тучки сребристой завесу;
Юноша смотрит, черты узнавая…
Ах, это дева из лесу!
«Где же обет твой священный, мой милый?
Кто нарушает подобный,
Здесь ему горе, и там, за могилой,
Горе душе его злобной.
Где тебе мчаться равниною водной,
С бездной играть голубою?
Бренное тело землею холодной,
Очи закроются тьмою.
А у знакомого дуба скитаться
Будет душа твоя злая;
Тысячу лет суждено ей терзаться,
В пламени адском сгорая!»
Слышит стрелок эти речи в смущенье,
Взоры блуждают без цели;
По лесу ветер завыл в отдаленье,
Волны, кипя, зашумели.
Мечутся волны толпой разъяренной,
Плещут, клокочут и стонут,
Пасть разверзается хляби бездонной,
Дева и юноша тонут.
Волны поныне и в брызгах и в пене
Плещут, исполнены гнева;
Мчатся по ним две знакомые тени —
Юный стрелок то и дева!
12 августа 1821 г.
Пани Твардовская
Баллада
Перевод М. Голодного
Пьют, играют, трубки курят —
Дым, веселье, кутерьма;
Шумно пляшут, балагурят,
Ходуном идет корчма!
За столом сидит Твардовский
{14},
Подбоченясь, как паша,
И хохочет: «Я таковский!
Пой, душа! Гуляй, душа!»
Вот к солдату-забияке
Подошел, уставя взгляд.
Саблю выхватил! Гуляки
Видят — зайцем стал солдат!
Вот судье из трибунала
Показал червонец он, —
И судейский над бокалом
Сразу в мопса превращен.
Вот сапожнику воронку
Он к башке приставил… Ба!
Водка гданьская презвонко
Льется в бочку изо лба.
Стал он пить из кубка водку,
Вдруг на дне возня и шум;
Заглянул он в кубок: «Вот как!
Черт на дне… Откуда, кум?»
В кубке хитрый дьяволенок —
Истый немец
{15}, юркий бес,
Поклонился, статен, тонок,
Шапку снял, на стол полез.
Спрыгнул на пол, на два локтя
Приподнялся от земли.
Нос крючком. По-птичьи когти
Пол дощатый заскребли.
«А, Твардовский? Друг, здорово!
Перед нами ты в долгу.
Не узнал ты, что ли, снова
Мефистофеля слугу?
Бычью шкуру договора
Помнит Лысая гора;
Сроки все прошли для спора,
Старый долг платить пора!
Ты клялся, — слыхали черти, —
Лишь два года пролетят,
В Рим придешь, готовый к смерти,
Душу к нам отпустишь в ад.
Хватит! Время миновало,
И не два — прошло семь лет;
Ты о Риме думал мало,
Объезжая белый свет.
Все, как надо, получилось, —
Глянь, корчма зовется «Рим».
Под арестом ваша милость,
По пути поговорим!»
Услыхав dictum acerbum
[3],
Пан Твардовский в дверь полез.
«Стой, а где nobile verbum?»
[4] —
И в кунтуш
{16} вцепился бес.
Что поделаешь? Как видно,
Срок приходит помирать.
Но идти к чертям обидно —
Изловчился пан опять.
«Ладно, я попался сдуру!
Знать, корчма тому виной,
Но взгляни на бычью шкуру:
Пункт один еще за мной.
Там указано: работы
Три задать могу тебе;
Коль исполнишь все до йоты —
Покорюсь своей судьбе.
Конь над дверью намалеван,
Я хочу, чтоб для меня
Был он взнуздан и подкован, —
Я испробую коня!
Свей мне кнут и кнутовище
Из песка — коня хлестнуть,
Да построй в лесу жилище,
Чтоб в дороге отдохнуть.
Дом из ядрышек ореха,
Но в Карпаты — вышиной,
Крышу домика для смеха
Маковым зерном покрой.
Собери гвоздей для стройки,
Зерен мака не жалей
И гвоздей в три дюйма тройку
В каждое зерно забей!»
Бес вскочил исполнить слово,
Щелкнул раз — из-под земли
Дым, огонь — и все готово:
Конь храпит, жилье вдали!
Сел Твардовский, — конь копытом
Злобно роет прах под ним,
И в галоп и в рысь испытан,
И седок доволен им.
«Что ж, испробуем другое;
Вот решение мое:
Со свяченою водою
Видишь миску? Лезь в нее!»
А вода такая — горе!
Черта пот пробрал насквозь.
Пан жесток — слуга покорен:
Искупаться довелось.
Брр! Он выскочил оттуда,
Словно пущенный пращой.
«Вот так баня!.. Ну, причуда…
Но теперь ты — вечно мой!»
«Рано, бес! (Ну, здесь бесовской
Силе, кажется, каюк!)
Слышу я шаги Твардовской, —
Познакомься с ней, мой друг!
И покуда год прилежно
Прослужу я сатане,
Послужи ты пани нежно,
Мужем будь моей жене!
Милой пани будь послушен,
Поклянись ее любить!
Провинишься — пункт нарушен
И по-твоему не быть!»
Дьявол слушает в пол-уха,
На окно глаза скосил,
Прыгнул к двери легче пуха,
Дверь рванул что было сил.
Но Твардовский — хвать за холку:
«Нет, постой-ка, ты куда?»
Бес как взвизгнет, шмыг — и в щелку
Улизнул — и навсегда!..
1820
Лилии
Перевод А. Ревича
[5] {17}
Беда стряслась нежданно —
Убила пани пана,
В лесной зарыла чаще
Над речкою журчащей,
Сажала клубни лилий
И пела на могиле:
«Растите так высоко,
Как пан зарыт глубоко,
Как он зарыт глубоко,
Так вам расти высоко».
Вся в брызгах крови алой
Мужеубийца встала,
Бежит, по рощам рыщет,
По склонам и по долам.
Стемнело. Ветер свищет
Во мраке невеселом.
Прокаркал ворон в ухо,
Заухал филин глухо.
Избушка на поляне,
Ручей и старый бук.
К избушке мчится пани,
Стучится в дверь — тук-тук!
«Кто там?» — И на пороге
Отшельник с ночником.
Она, крича в тревоге,
Как дух, ворвалась в дом.
Лицо бело, как иней,
Безумный взор горит,
Рот искривился синий,
Хохочет: «Муж! Убит!»
«Постой. Господь с тобою.
Что бродишь дотемна
Ненастною порою
В глухом лесу одна?»
«Мой замок за кудрявым
Леском, у синих вод.
На Киев с Болеславом
Ушел мой муж в поход.
И нет о нем ни слова.
Проходит год, года.
Стезя добра сурова,
А я ведь молода.
Был грех — пришла тревога:
Что станется со мной?
Король карает строго.
Ах, едет муж домой!
Узнает муж немного!
Вот кровь! гляди! вот нож!
А мужа нет… Ну что ж,
Старик, я все сказала.
Сними же грех с души,
Тоску души усталой
Молитвой заглуши.
Приму я муки ада,
На казнь пойду за грех,
Одно мне только надо —
Позор мой скрыть от всех».
Ответил схимник старый:
«Тебя не совесть жжет,
Страшишься только кары?
Не бойся — все сойдет,
Будь весела, беспечна,
Жить этой тайне вечно,
Так, знать, судил нам бог,
Смолчишь — и все в секрете.
Муж рассказать бы мог,
Да нет его на свете».
Обрадовалась пани,
За дверь — и на поляне,
Домой во мраке ночи
Помчалась что есть мочи.
Навстречу дети: «Мама! —
Твердят они упрямо, —
Послушай, где отец?» —
«Мертвец? Где? Ах, отец? —
И молвит наконец, —
Отец ваш там, у бора,
Домой придет он скоро».
Прождали вечер дети,
Ждут и второй, и третий,
Неделю погрустили
И наконец забыли.
Но пани не забыла,
Все время в мыслях грех,
И комом в горле смех,
А сердцу все постыло.
Все ночи до утра
Ей не сомкнуть ресницы:
Кто там к дверям светлицы
Приходит со двора?
И слышно на рассвете:
«Я здесь! Я с вами, дети».
Вновь утро. Все уныло,
И снова в мыслях грех,
И комом в горле смех,
А сердцу все постыло.
«Что это? Стук копыт?
Эй, Ганка, — за ворота!
Я слышу мост гудит.
Неужто едет кто-то?
Взгляни, кто скачет там?
Быть может, гости к нам?»
«Да, вижу их на склоне,
Хотя в тумане даль,
Ржут вороные кони,
Сверкает сабель сталь.
Да, едут!Как нежданно!
Ах, это братья пана?»
«Привет! Мы снова вместе!
Встречай нас честь по чести!
Где брат наш?» — «Брата нет.
Покинул этот свет».
«Давно ли?» — «Год уж минул,
Как он в сраженье сгинул».
«Не верь! Все это бред!
Войны в помине нет.
Он жив, забудь же горе,
Увидишь мужа вскоре».
Как пани побледнела,
На миг обмякло тело,
В глазах застыл испуг,
Смятенье и тревога.
«Где мертвый?.. Где супруг?»
Пришла в себя немного;
Приняв пристойный вид,
Она гостям твердит:
«Где муж мой? где мой милый?
Так жду — нет больше силы!»
«Он с нами был вначале,
Но поспешил тотчас
Твои унять печали,
Достойно встретить нас.
Он будет завтра дома,
Пошел кружным путем,
Дорогой незнакомой.
Немного подождем,
На поиски пошлем.
Он будет завтра дома».
Послали челядь в лес,
Все тщетно — брат исчез.
День ждали, не дождались,
В слезах домой собрались.
Но панн у порога:
«Родные, хоть немного
Прошу вас обождать.
В дороге что за счастье —
Осеннее ненастье?
Глядите — дождь опять».
Ждут, ждут — не видно брата,
Промчалась без возврата
Зима. Всё ждут и ждут:
Придет весной, быть может?
А брата черви гложут,
Цветы над ним растут,
Так выросли высоко,
Как он лежит глубоко.
Ждут братья, и домой
Не тянет их весной.
Хозяйство тут завидно,
Хозяйка миловидна.
Пора бы в путь собраться,
Нет, ждут, как прежде, братца,
Прошла весна, и к лету
О нем помина нету.
Хозяйство тут завидно,
Хозяйка миловидна,
Вдвоем тут загостились,
Вдвоем в нее влюбились.
Надежды не помогут,
Сомнений не избыть,
Вдвоем с ней жить не могут,
А без нее — не жить!
Чтоб все решить по чести,
Идут к невестке вместе.
«Хотим промолвить слово,
Не будь же к нам сурова.
Уже почти что год
Мы брата ждем напрасно,
Ты молода, прекрасна,
Но молодость пройдет,
Пусть нелегка утрата,
Возьми за брата — брата».
Они умолкли оба,
Их стала ревность жечь,
В глазах сверкнула злоба,
Бессвязной стала речь,
В сердцах вражда до гроба,
Рука сжимает меч.
Невестка, видя это,
Не в силах дать ответа
И просит обождать.
Она бежит опять
Туда, где на поляне
Ручей и старый бук.
К избушке мчится пани,
Стучится в дверь — тук-тук!
И старику с начала
Всю правду рассказала.
«Как быть, скажи, отец?
Объяла братьев злоба;
Они милы мне оба;
Так с кем же — под венец?
Есть дети, есть достаток,
Есть деревень с десяток,
Хотя живется хуже,
Чем я жила при муже.
Мне счастья бог не судит,
Замужества не будет.
Как мне уйти от кары?
Чуть ночь — опять кошмары:
Едва сомкну ресницы,
Трах! — настежь дверь светлицы,
Вскочу — и ухо слышит,
Как он идет, как дышит,
Мне слышен шаг, отец,
Я вижу — он… мертвец!
Склонился к изголовью
С ножом, залитым кровью,
Из пасти искры сыплет,
Меня терзает, щиплет.
Ах, что это за страх!
Не жить мне в тех стенах,
Мне счастья бог не судит,
Замужества не будет!»
Сказал ей схимник старый:
«Злодейства нет без кары,
Но, слыша покаянье,
Смягчает бог страданье.
Такое знаю слово —
Чудотворящий знак:
Захочешь — муж твой снова
Вернется в мир. Ну, как?»
«Воскреснет? Боже правый!
Нет! только не сейчас!
Навеки нож кровавый
Разъединяет нас.
Пусть я достойна кары,
Снесу любые кары,
Но только б не кошмары.
Все брошу — дом, веселье,
И в монастырской келье
От всех укроюсь глаз.
Но это!.. Боже правый!
Нет, только не сейчас!
Навеки нож кровавый
Разъединяет нас!»
Вздохнул старик в печали,
Лишь слезы замерцали,
И заслонил старик
Ладонью скорбный лик.
«Ступай, венчайся в храме,
Мертвец навеки в яме,
Себя ты не тревожь,
Он канул в мрак унылый,
Не выйдет из могилы,
Пока не позовешь».
«Но как мне быть, отец?
Но с кем же — под венец?» —
«Вернейшая дорога —
Отдаться воле бога.
Чуть свет, с росою ранней,
Пусть братья на поляне
Цветов нарвут и вместе
Сплетут венки невесте,
На них оставят метку —
Тесемку или ветку,
Пусть в алтаре положат,
И тут господь поможет:
Чей ты венок возьмешь,
С тем под венец пойдешь».
Обрадовалась пани:
Скорее — под венец!
Не страшен ей мертвец,
Все решено заране:
Во сне ли, наяву —
Его не призову!
Повеселела пани,
За дверь — и на поляне,
Домой во мраке ночи
Помчалась что есть мочи.
Мелькает лес, поляны,
Захватывает дух,
И ловит чуткий слух
Какой-то шепот странный.
Кто это там, незванный?
Ночная шепчет глушь:
«Я муж твой! Слышишь? Муж!»
Чу! Снова шепот странный.
Бегом! Все как во сне,
Мурашки по спине,
Как страшен мрак бездонный.
Кто это? В чаще стоны.
И снова шепчет глушь:
«Я муж твой! Слышишь? Муж!»
Час близится. В усадьбе
Приготовленья к свадьбе,
Во двор выходят братья,
Невеста в белом платье
Стоит среди подруг
И в их толпе веселой
Идет под свод костела,
Берет венок. Застыли
В молчанье все вокруг.
Венок сплетен из лилий!
«Не ты ли сплел? Не ты ли?
Кто? Кто же мой супруг?»
Выходит старший брат,
Смеется, пляшет, рад,
Пылают щеки маком.
«Он мой, венок! Он мой!
Моей сплетен рукой,
Моим отмечен знаком —
Приметною тесьмой!
Он мой, он мой, он мой!
«Ложь! — закричал второй. —
Пойдемте все из храма
К могиле над рекой,
Туда пойдемте прямо,
Где собственной рукой
Цветы сорвал я в чаще
Над речкою журчащей.
Он мой, он мой, он мой!»
В неукротимой страсти
Так братья горячи!
Схватились за мечи
И рвут венок на части.
Жестокий вспыхнул бой.
«Он мой, он мой, он мой!»
Дверь настежь. Вмиг погасло
Во всех лампадах масло,
И, в саване до пят, —
Знакомая фигура
Возникла — все дрожат,
Возникла — смотрит хмуро.
И — голос гробовой:
«Венок не ваш, а мой!
Цветы — с моей могилы,
Меня венчай, прелат!
Жена! Я здесь — твой милый,
Твой муж! А вам я — брат!
Спасетесь вы едва ли:
Мои цветы вы рвали.
Я здесь. Я муж и брат.
Вас обуяла злоба.
Я к вам пришел из гроба,
Теперь идемте в ад!»
Постройка задрожала,
Обрушился портал,
Разверзлась глубь провала,
И рухнул храм в провал.
Над ним, как на могиле,
Белеют чаши лилий,
И так растут высоко,
Как пан лежал глубоко.
Май 1820 г,
К М***
Перевод М. Зенкевича
{18}
Стихи, написанные в 1823 году
«Прочь с глаз моих!..» — послушаюсь я сразу,
«Из сердца прочь!..» — и сердце равнодушно,
«Забудь совсем!..» Нет, этому приказу
Не может наша память быть послушна.
Чем дальше тень, она длинней и шире
На землю темный очерк свой бросает, —
Так образ мой, чем дальше в этом мире,
Тем все печальней память омрачает.
Все в тот же час, на том же самом месте,
Где мы в мечте одной желали слиться,
Везде, всегда с тобою буду вместе, —
Ведь я оставил там души частицу.
Когда на арфу ты положишь руку,
Чтоб струны вздрогнули в игре чудесной,
Ты вспомнишь вдруг, прислушиваясь к звуку:
«Его я развлекала этой песней».
Иль, наклонясь над шахматной доскою,
Готовя королю ловушку мата,
Ты вспомнишь вдруг с невольною тоскою:
«Вот так и он играл со мной когда-то».
Иль, утомясь от суматохи бальной,
Окинув место у камина взглядом,
Ты вспомнишь вдруг с улыбкою печальной:
«Он там не раз сидел со мною рядом».
Возьмешь ли книгу, где судьба жестоко
Двух любящих навеки разлучила,
Отбросишь книгу и вздохнешь глубоко,
Подумав: «Ах, и с нами так же было!»
А если автор все ж в конце искусно
Соединил их парой неразлучной, —
Гася свечу, подумаешь ты грустно:
«Такой бы нам конец благополучный!»
Зашелестит в саду сухая груша,
Мигнет во тьме летучая зарница,
Сова простонет, тишину наруша, —
Ты вздрогнешь: «Это он ко мне стремится!»
Все в тот же час, на том же самом месте,
Где мы в одной мечте стремились слиться,
Везде, всегда с тобой я буду вместе, —
Ведь там оставил я души частицу.
В альбом С. Б
Перевод С. Кирсанова
{19}
Дни миновали счастливые, нет их!
Было цветов — сколько сердце захочет!
Легче нарвать было сотни букетов,
Нежели ныне цветочек.
Ветер завыл, и дожди заструились,
Трудно найти средь родимого луга,
Трудно найти, где цветы золотились,
Лист для любимого друга.
Будь же довольна осенним листочком,
В дружеской был он руке, хоть неярок,
Будь ему рада хотя бы за то, что
Это последний подарок.
22 октября 1824 г., через несколько часов
после получения приказа
покинуть Москву.
1825–1829
Пловец
(«Когда увидишь челн убогий…»)
Перевод М. Живова
(Из альбома З.)
{20}
Когда увидишь челн убогий,
Гонимый грозною волной, —
Ты сердце не томи тревогой,
Не застилай глаза слезой!
Давно исчез корабль в тумане
И уплыла надежда с ним;
Что толку в немощном рыданье,
Когда конец неотвратим?
Нет, лучше, с грозной бурей споря,
Последний миг борьбе отдать,
Чем с отмели глядеть на море
И раны горестно считать.
Одесса, 14 апреля 1825 г.
«Когда пролетных птиц несутся вереницы…»
Перевод В. Брюсова
{21}
Когда пролетных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путем к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснет моей судьбе,
На крыльях радости промчусь я быстро с юга
Опять на север, вновь к тебе!
6 апреля 1829 г.
В альбом Целине Ш
Перевод М. Живова
{22}
Набор уж начался. Вот движется колонна —
Пехота, конница, гусары и уланы
Идут на твой альбом, воинственны и рьяны,
Вздымая имена, как грозные знамена.
В дни старости, — бог весть в каком я буду ранге, —
Вернувшись к прошлому, гордясь былым примером,
Я расскажу друзьям, что первым гренадером
Я в армии твоей стоял на правом фланге.
С-Петербург, 1829 г.
Сомнение
Перевод А. Эппеля
{23}
Тебя не видя — в муках не терзаюсь,
При встрече — не краснею, не теряюсь;
Но если друг от друга мы далеко —
И грустно мне, и очень одиноко,
И не могу я разрешить секрета:
Любовь ли это? Дружество ли это?
Вдали от глаз и от улыбок милых
Я облик твой восстановить не в силах,
И пусть усилья памяти напрасны,
Он все же рядом, зыбкий, но прекрасный.
И не могу решить я до рассвета:
Любовь ли это? Дружество ли это?
Я много пережил, но, тем не мене,
Не мнил тебе открыться в горькой пени,
Без цели идучн и не держась дороги,
Как отыскал я милые пороги?
И что вело меня? Не нахожу ответа:
Любовь ли это? Дружество ли это?
Тебе отдам здоровье, если надо,
За твой покой стерплю мученья ада;
И не пустым я движим суесловьем,
Себя сочтя покоем и здоровьем.
Но что причина дерзкого обета:
Любовь ли это? Дружество ли это?
Коснусь ли я руки твоей украдкой,
Забудусь ли в мечтательности сладкой,
Едва решу, что так навеки будет —
А сердце вновь сомнения разбудит
И у рассудка требует совета:
Любовь ли это? Дружество ли это?
Не диктовал мне этих шестистрочий
Друг стихотворца — вещий дух пророчий;
В толк не возьму: откуда на листочке
Возникли рифмы, появились строчки?
Что вдохновляло твоего поэта?
Любовь ли это? Дружество ли это?
1825
К Д. Д
(«О, если б ты жила хоть день с душой моею…»)
Перевод М. Зенкевича
{24}
Элегия
О, если б ты жила хоть день с душой моею…
День целый? Нет, тебе дать мук таких не смею.
Хотя бы только час… Счастливое созданье,
Узнала б ты тогда, как тяжело страданье!
В терзаньях мысль моя, бушует в чувствах буря;
То гнев грозой встает, чело мое нахмуря,
То мысли скорбные нахлынут вдруг волнами,
То затуманятся глаза мои слезами.
Виной мой гнев, что ты торопишь миг разлуки,
Иль слишком я уныл, и ты боишься скуки?
Не знаешь ты меня, мой образ страсть затмила,
Но в глубине души есть все, что сердцу мило:
Сокровища любви, и преданности нежной,
И грез, что золотят наш рок земной мятежный.
Но ты не видишь их. Так в бурях урагана
Не видно нам на дне сокровищ океана:
Прекрасных раковин и дорогих жемчужин, —
Чтоб обнаружить их, свет яркий солнца нужен!
О, если б я не знал в твоей любви сомненья,
О, если б страх изгнать я мог хоть на мгновенье,
Забыть, как от твоих измен мне было больно!
О, был бы счастлив я, была б ты мной довольна!
Как дух волшебницы, послушный заклинанью,
Покорно б исполнял я все твои желанья.
А если подданный, забыв, что он бесправен,
Вдруг возомнит на миг, что госпоже он равен, —
О, смейся, милая! Хоть запрещает гордость
Слугою быть твоим, — как проявлю я твердость?
Я прикажу, чтоб ты мной дольше забавлялась,
По вкусу моему порою одевалась,
Прическу изменив, и средь хлопот домашних
Нашла досуг и для признаний тех всегдашних,
Что я в стихах пишу. Тебе б немного муки
То стоило: лишь час один терпенья, скуки,
Притворства полчаса, минуту лицемерья, —
Что ты моим стихам внимаешь, я поверю.
И пусть глаза твои лгать будут, лицемерить,
Я буду в них добро читать и лжи их верить.
Тебе вручил бы я мою судьбу и долю,
К твоим ногам сложил свой разум, чувства, волю.
Воспоминанья все я скрыл бы, как в могиле,
Чтоб в чувствах мы всегда одною жизнью жили.
Тогда бы улеглось волненье дикой страсти.
Сейчас я, как ладья, в ее стихийной власти,
Она еще валы вздымает на просторе.
Поплыли б тихо мы с тобой в житейском море.
И если б снова рок волной грозил надменно,
Тебе бы все ж я пел, всплывая, как сирена.
1825
К Д. Д
(«Когда в час веселья, моя баловница…»)
Перевод М. Живова
{25}
Когда в час веселья, моя баловница,
Начнешь лепетать, ворковать, щебетать,
Твой лепет, твой щебет так сладко струится,
Что я пропустить и словечко не смею,
Что я замираю тогда и немею, —
Хочу лишь внимать, и внимать, и внимать.
Но вот засверкали глаза огоньками,
Румянец на щечках стал ярче пылать,
А губы и зубы, — коралл с жемчугами, —
И не оторвать мне влюбленного взгляда…
Уста приближаю… Нет, слушать не надо…
А лишь целовать, целовать, целовать!
Одесса, 1825 г.
Два слова
Перевод М. Живова
Когда с тобой вдвоем сижу,
Могу ль вопросы задавать:
В глаза гляжу, уста слежу,
Хочу я мысли прочитать,
Пока в глазах не заблестели;
Хочу слова твои поймать,
Пока с губ алых не слетели.
И вовсе пояснять не надо,
Чего ждет слух и жаждут взгляды,
Оно не сложно и не ново, —
О милая, всего два слова:
«Люблю тебя! Люблю тебя!»
Когда продолжим жизнь на небе,
Будь воля властна там моя,
Всегда и всюду видеть мне бы
Запечатленными сто раз
В зрачках твоих прелестных глаз
Все те ж слова: «Люблю тебя!»
И слушать там хотел бы я
Одну лишь песню, чтоб с рассвета
До ночи ею упиваться:
«Люблю тебя! Люблю тебя!»
И чтоб звучала песня эта
В мильонах нежных вариаций!
1825
Сон
Перевод Л. Мартынова
Меня оставить все ж тебе придется,
Но в этот час не обрекай на муки
И, если в сердце верность остается,
Не говори, прощаясь, о разлуке.
Пусть в эту ночь пред сумрачным рассветом
Блаженное мгновение промчится,
Когда ж настанет время разлучиться,
Вручи мне яд, прошу тебя об этом!
Уста к устам приблизятся, а веки,
Когда в них смерть заглянет, не сомкну я;
И так блаженно я усну навеки,
Твой видя взор, лицо твое целуя.
И сколько лет спать буду так — не знаю…
Когда ж велят с могилой распроститься,
Ты, об уснувшем друге вспоминая,
Сойдешь с небес, поможешь пробудиться!
И, ощущая вновь прикосновенье
Любимых рук, к груди твоей прильну я;
Проснусь, подумав, что дремал мгновенье,
Твой видя взор, лицо твое целуя!
Одесса, 1825 г.
Разговор
Перевод Л. Мартынова
{26}
К чему слова! Зачем, моя отрада,
С тобою чувства разделить желая,
Души я прямо в душу не вливаю,
А на слова ей раздробиться надо?
Остынет слово, выветриться может,
Покуда к слуху, к сердцу путь проложит!
Влюблен я, ах, влюблен! — твержу тебе я,
А ты грустишь, ты начала сердиться,
Что выразить я толком не умею
Своей любви, что не могу излиться.
Я — в летаргии; не хватает силы
Пошевелиться, избежать могилы.
Уста мои от слов пустых устали;
С твоими слить их я хочу. Хочу я,
Чтоб вместо слов звучать отныне стали
Биенье сердца, вздохи, поцелуи…
И так бы длилось до скончанья света,
И вслед за тем продолжилось бы это!
Одесса, 1825 г.
Час
Перевод Е. Полонской
Элегия
Час назад не спускала ты глаз с циферблата,
Подгоняла глазами ты стрелок движенье
И, сквозь шум городской, нетерпеньем объята,
Узнавала знакомых шагов приближенье.
О, единственный час! И мне вспомнить отрадно,
Что еще чье-то сердце ждало его жадно.
Этот час — моя пытка. Душою плененной
Я кружил вкруг него, Иксион возрожденный.
Час настал — мне казалось, я ждал его вечно.
Час прошел — вспоминать я могу бесконечно.
Столько милых подробностей вновь оживало:
Как вошел, как беседа текла поначалу,
Как срывалось порою неловкое слово,
Вызвав ссору. Потом примирение снова.
Опечалюсь — причину в глазах прочитаешь,
Просьбы есть у меня — ты их предупреждаешь…
Есть еще одна — взглянешь, не смею открыться…
Лучше завтра… Иль вдруг начинаю сердиться —
Улыбнешься, и я безоружен. Порою
Я прощенья прошу, преклонясь пред тобою.
Слово каждое, взгляда любого намеки,
Мимолетную ласку, надежду, упреки —
Мелочь каждую в сердце моем сохраняю,
Вновь и вновь пред глазами ее вызываю, —
Как скупец над казной, по червонцу добытой, —
Смотрит, сохнет, и не наглядится досыта.
Этот час меж былым и грядущим граница,
Им открыл и закончил я счастья страницы.
В серой мгле моей жизни, в сплетенье событий
Он блеснул золотою единственной нитью.
Шелкопрядом крылатым в ту пить я вцепился,
Вил и вил себе кокон и в нем затворился.
Солнце круг свой свершило в обычную пору.
Снова пробил тот час. Где теперь ее взоры?
И о чем ее мысли? Быть может, в ладонях
Нежит руку чужую и голову клонит
На чужое плечо, и с горячим волненьем
Внемлет кто-то коварного сердца биеньям.
Если б громом меня на пороге сразило,
Разве это бы их хоть на миг разделило?
Одиночество! Я от твоей благостыни
Отвернулся в тот час, — так прими меня ныне!
Как ребенок, приманкой на миг соблазненный,
Возвращается к няне, иду, преклоненный.
Будь ко мне благосклонно! Хоть счастье и манит,
Хоть и трудно поверить, что снова обманет, —
Может быть, погашу я в себе это пламя:
Я надеюсь на гордость и горькую память.
О, надежды! Теперь поискать бы покоя
Средь полей и лесов или в шуме прибоя.
Час прогулки настал. Что ж я медлю, бессильный?
Слышу, скрипнула дверь. «Не с письмом ли посыльный?»
Снова письма ее положу пред собою…
То хватаю часы, посмотрю и закрою…
То бегу… Побежал — и застыл у порога…
Был тот час… И привычна былая тревога.
Так, отдавши земле существо дорогое,
Полный смертной тоски, с наболевшей душою,
Человек вдруг забудет на долю мгновенья
О потере своей. Так отрадно забвенье!
Входит в дом… остановится, молча глазами
Обведет все кругом и зальется слезами.
1825

«Свитезянка»
Размышления в день отъезда
Перевод А. Эппеля
1825, 29 октября, Одесса
Откуда эта горечь? Что со мной такое?
Я снова возвращаюсь в стылые покои,
И одичалым взором, смутный и смятенный,
Прощально озираю дружеские стены;
Они глухою ночью и в часы рассвета
Внимали терпеливо горестям поэта.
Я подхожу к окошку, где стоял подолгу,
Высматривая что-то тщетно и без толку,
И отхожу, прискучив зрелищем проулка,
И эхо в целом доме отдается гулко;
Я двери отворяю и снова затворяю,
И с маятником мерным шаги свои сверяю,
И слышу — где-то шашель древесину точит;
Видать, к своей подруге проточиться хочет.
Утреет. Заждались настырные возницы.
Что ж! Забирайте книги, вынесем вещицы.
Пошли! Опальный странник, встречен без участья, —
Уеду восвояси без напутствий счастья.
Пускай покину город, и пускай в тумане,
К пришельцу безучастны, сгинут горожане.
Пускай не огорчатся, всхлипнув простодушно, —
Мне, говоря по чести, слез ничьих не нужно.
Так над раздольным лугом, золотым и щедрым,
С увядшей ветки сорван нетерпеливым ветром,
Цветок летит засохший, утлый и гонимый,
И розы он коснется, пролетая мимо,
И хочет вечно длить случайное свиданье,
Но ветер засвистит и длит его скитанье:
Так среди улиц шумных я, пришелец странный,
Носил чужое имя, облик чужестранный;
И многих дев прелестных занимал прохожий,
На местных сердцеедов чем-то непохожий.
Цветного мотылька поймают дети в поле
И, наигравшись всласть, кричат: лети на волю!
Летим же! коли перья сберегли для лёта:
Летим! И поклянемся не снижать полета!
Когда-то покидая отчую округу,
И молодых друзей, и пылкую подругу,
Я словно бы летел на рысаках крылатых,
Мелькали меж дерев платочки провожатых;
Я плакал! Слезы льет порывистая младость;
А нынче стар я стал, и плакать мне не в радость.
Смерть молодым легка. Мы уповаем свято
Остаться жить в сердцах невесты, друга, брата;
Но лживый свет познав, живет старик согбенный
И свой провидит гроб, покинутый и тленный,
И знает, что надежду тешить нету нужды…
Довольно! Мне пора! Простимся, город чуждый!
И с богом! Кто задержит гробовые дроги?
Их не проводит взглядом путник на дороге
И, воротясь домой, слезинки не уронит,
Услышав, как бубенчик в дальнем поле стонет.
Сонеты
{27}
Quand'era in parte altr'uom
da quel, ch'io sono.
Petrarca[6]
К Лауре
Перевод В. Левика
Едва явилась ты — я был тобой пленен.
Знакомый взор искал я в незнакомом взоре.
Ты вспыхнула в ответ, — так, радуясь Авроре,
Вдруг загорается раскрывшийся бутон.
Едва запела ты — я был заворожен,
И ширилась душа, забыв земное горе,
Как будто ангел пел, и в голубом просторе
Спасенье возвещал нам маятник времен.
Не бойся, милая, открой мне сердце смело,
Коль сердцу моему ответило оно.
Пусть люди против нас, пусть небо так велело,
И тайно, без надежд, любить мне суждено,
Пускай другому жизнь отдаст тебя всецело,
Душа твоя — с моей обручена давно.
«Я размышляю вслух, один бродя без цели…»
Перевод В. Левика
Я размышляю вслух, один бродя без цели,
Среди людей — молчу иль путаю слова.
Мне душно, тягостно кружится голова.
Все шепчутся кругом: здоров ли он, в уме ли?
В терзаниях часы дневные пролетели.
Но вот и ночь пришла вступить в свои права.
Кидаюсь на постель, душа полумертва.
Хочу забыться сном, но душно и в постели.
И я, вскочив, бегу, в крови клокочет яд.
Язвительная речь в уме моем готова.
Тебя, жестокую, слова мои разят,
По увидал тебя — и на устах ни слова,
Стою как каменный, спокойствием объят!
А завтра вновь горю — и леденею снова.
«Как ты бесхитростна! Ни в речи, ни во взоре…»
Перевод В. Левика
{28}
Как ты бесхитростна! Ни в речи, ни во взоре
Нет фальши. Ты сердца влечешь не красотой,
Но каждому милы твой голос, облик твой,
Царицей ты глядишь в пастушеском уборе.
Вчера текли часы в веселье, в песнях, в споре,
Твоих ровесниц был прелестен резвый рой.
Один их восхвалял, и порицал другой,
Но ты вошла — и все, как в храме, смолкло вскоре.
Не так ли на балу, когда оркестр гремел
И буйно все неслось и мчалось в шумном зале,
Внезапно танца вихрь застыл и онемел,
И стихла музыка, и гости замолчали,
И лишь поэт сказал: «То ангел пролетел!»
Его почтили все — не все его узнали.
Свидание в лесу
Перевод В. Левика
«Так поздно! Где ты был?» — «Я шел почти вслепую:
Луна за тучами и лес окутан тьмой.
Ждала, скучала ты?» — «Неблагодарный мой!
Я здесь давно — я жду, скучаю и тоскую!»
«Дай руку мне, позволь, я ножку поцелую.
Зачем ты вся дрожишь?» — «Мне страшно — мрак ночной,
Шум ветра, крики сов… Ужели грех такой,
Что мы с тобой вдвоем укрылись в глушь лесную?»
«Взгляни в мои глаза, иль ты не веришь им?
Но может ли порок быть смелым и прямым?
И разве это грех — беседовать с любимым?
Я так почтителен, так набожно смотрю
И так молитвенно с тобою говорю, —
Как будто не с земным, а с божьим херувимом».
«Осудит нас Тартюф и осмеет Ловлас…»
Перевод В. Левика
Осудит нас Тартюф и осмеет Ловлас:
Мы оба молоды, желанием томимы,
И в этой комнате одни, никем не зримы,
Но ты — в слезах, а я не поднимаю глаз.
Гоню соблазны прочь, а ты, ты всякий раз
Бряцаешь цепью той, что рок неумолимый
Нести назначил нам, — и мы, судьбой гонимы,
Не знаем, что в сердцах, что в помыслах у нас.
Восторгом ли назвать, иль мукой жребий мой?
Твои объятия, твой поцелуй живой
Ужель, о милая, могу назвать мученьем?
Но если в час любви рыдаем мы с тобой,
И если каждый вздох предсмертным стал томленьем,
Могу ли я назвать все это наслажденьем?
Утро и вечер
Перевод В. Левика
В венце багряных туч с востока солнце встало,
Луна на западе печальна и бледна,
Фиалка клонится, росой отягчена,
А роза от зари румянцем запылала.
И златокудрая Лаура мне предстала
В окне, а я стоял, поникший, у окна.
«Зачем вы все грустны — фиалка, и луна,
И ты, возлюбленный?» — так мне она сказала.
Я вечером пришел, едва ниспала мгла, —
Луна восходит ввысь, румяна и светла,
Фиалка ожила от сумрака ночного.
И ты, любимая, ты, нежная, в окне,
Вдвойне прекрасная, теперь сияешь мне,
А я у ног твоих тоскую молча снова.
К Неману
Перевод В. Левика
Где струи прежние, о Неман мой родной?
Как в детстве я любил их зачерпнуть горстями!
Как в юности любил, волнуемый мечтами,
Ища покоя, плыть над зыбкой глубиной!
Лаура, гордая своею красотой,
Гляделась в их лазурь, увив чело цветами,
И отражение возлюбленной слезами
Так часто я мутил, безумец молодой!
О Неман, где они, твои былые воды?
Где беспокойные, но сладостные годы,
Когда надежды все в груди моей цвели,
Где пылкой юности восторги и обеты,
Где вы, друзья мои, и ты, Лаура, где ты?
Все, все прошло, как сон… лишь слезы не прошли.
Охотник
Перевод В. Левика
Я слышал, у реки охотник молодой
Вздыхал, остановясь в раздумии глубоком:
«Когда б, невидимый, я мог единым оком,
Прощаясь навсегда с любимою страной,
Увидеть милую!» Чу! Кто там, за рекой?
Его Диана? Да! Она в плаще широком
Несется на коне, — и стала над потоком.
Но обернулась вдруг… глядит… Иль там другой?
Охотник побледнел, дрожа, к стволу прижался,
Глазами Каина смотрел и усмехался.
Забил заряд, — в лице и страх и торжество, —
Вновь опустил ружье, на миг заколебался,
Увидел пыль вдали и вскинул — ждет его!
Навел… все ближе пыль… и нет там никого.
Резиньяция
Перевод В. Левика
Несчастен, кто, любя, взаимности лишен,
Несчастней те, чью грудь опустошенность гложет,
Но всех несчастней тот, кто полюбить не может
И в памяти хранит любви минувшей сон.
О прошлом он грустит в кругу бесстыдных жен,
И если чистая краса его встревожит,
Он чувства мертвые у милых ног не сложит,
К одеждам ангела не прикоснется он.
И вере и любви равно далекий ныне,
От смертной он бежит, не подойдет к богине,
Как будто сам себе он приговор изрек.
И сердце у него — как древний храм в пустыне,
Где все разрушил дней неисчислимых бег,
Где жить не хочет бог, не смеет — человек.
К***
(«Ты смотришь мне в глаза, страшись, дитя, ихвзгляда…»)
Перевод В. Левика
Ты смотришь мне в глаза, страшись, дитя, их взгляда:
То взгляд змеи, в нем смерть невинности твоей.
Чтоб жизни не проклясть, беги, беги скорей,
Пока не обожгло тебя дыханьем яда.
Верь, одиночество — одна моя отрада,
И лишь правдивость я сберег от юных дней,
Так мне ль судьбу твою сплести с судьбой моей
И сердце чистое обречь на муки ада!
Нет, унизительно обманом брать дары!
Ты лишь в преддверии девической поры,
А я уже отцвел, страстями опаленный.
Меня могила ждет, тебя зовут пиры…
Обвей же, юный плющ, раскидистые клены,
Пусть обнимает терн надгробные колонны!
«Впервые став рабом, клянусь, я рабству рад…»
Перевод В. Левика
Впервые став рабом, клянусь, я рабству рад.
Все мысли о тебе, но мыслям нет стесненья,
Все сердце — для тебя, но сердцу нет мученья,
Гляжу в глаза твои — и радостен мой взгляд.
Не раз я счастьем звал часы пустых услад,
Не раз обманут был игрой воображенья,
Соблазном красоты иль словом обольщенья,
Но после жребий свой я проклинал стократ.
Я пережил любовь, казалось, неземную,
Пылал и тосковал, лил слезы без конца.
А ныне все прошло, не помню, не тоскую, —
Ты счастьем низошла в печальный мир певца.
Хвала творцу, что мне послал любовь такую,
Хвала возлюбленной, открывшей мне творца!
«Мне грустно, милая! Ужели ты должна…»
Перевод В. Левика
Мне грустно, милая! Ужели ты должна
Стыдиться прошлого и гнать воспоминанья?
Ужель душа твоя за все свои страданья
Опустошающей тоске обречена?
Иль в том была твоя невольная вина,
Что выдали тебя смущенных глаз признанья,
Что мне доверила ты честь без колебанья
И в стойкости своей была убеждена?
Всегда одни, всегда ограждены стенами,
С любовной жаждою, с безумными мечтами
Боролись долго мы — но не хватило сил.
Все алтари теперь я оболью слезами, —
Не для того, чтоб грех создатель мне простил.
Но чтобы мне твоим раскаяньем не мстил!
Добрый день
Перевод В. Левика
День добрый! Дремлешь ты, и дух двоится твой:
Он здесь — в лице твоем, а там — в селеньях рая.
Так солнце делится, близ тучи проплывая:
Оно и здесь и там — за дымкой золотой.
Но вот блеснул зрачок, еще от сна хмельной:
Вздохнула, — как слепит голубизна дневная!
А мухи на лицо садятся, докучая,
День добрый! В окнах свет, и, видишь, я с тобой.
Не с тем к возлюбленной спешил я, но не скрою:
Внезапно оробел пред сонной красотою.
Скажи, прогнал твой сон тревог вчерашних тень?
День добрый! Протяни мне руку! Иль не стою?
Велишь — и я уйду! Нет, свой наряд надень
И выходи скорей. Услышишь: добрый день!
Спокойной ночи
Перевод В. Левика
Спокойной ночи! Спи! Я расстаюсь с тобой.
Пусть ангелы тебе навеют сновиденье,
Спокойной ночи! Спи! Да обретешь забвенье!
И сердцу скорбному желанный дашь покой.
И пусть от каждого мгновения со мной
Тебе запомнится хоть слово, хоть движенье,
Чтоб, за чертой черту, в своем воображенье,
Меня ты вызвала из темноты ночной!
Спокойной ночи! Дай в глаза твои взглянуть,
В твое лицо… Нельзя? Ты слуг позвать готова?
Спокойной ночи! Дай, я поцелую грудь!
Увы, застегнута!.. О, не беги, два слова!
Ты дверь захлопнула… Спокойной ночи снова!
Сто раз шепну я: «Спи», чтоб не могла уснуть.
Добрый вечер
Перевод В. Левика
О добрый вечер, ты обворожаешь нас!
Ни пред разлукой, в миг прощания ночного,
Ни в час, когда заря торопит к милой снова,
Не умиляюсь я, как в тот прекрасный час,
Когда на небесах последний луч погас,
И ты, что целый день таить свой жар готова,
Лишь вспыхивая вдруг, не проронив ни слова, —
То вздохом говоришь, то блеском нежных глаз.
День добрый, восходи, даруй нам свет небесный
И людям озаряй их жизни труд совместный,
Ночь добрая, укрыть любовников спеши.
В их чаши лей бальзам забвения чудесный!
Ты, добрый вечер, друг взволнованной души,
Красноречивый взор влюбленных притуши!
Визит
Перевод В. Левика
К Д. Д.
Едва я к ней войду, подсяду к ней — звонок!
Стучится в дверь лакей, — неужто визитеры?
Да, это гость, и вот — поклоны, разговоры…
Ушел, но черт несет другого на порог!
Капканы бы для них расставить вдоль дорог,
Нарыть бы волчьих ям, — бессильны все затворы!..
Ужель нельзя спастись от их проклятой своры?
О, если б я удрать на край вселенной мог!
Докучливый глупец! Мне дорог каждый миг,
А он, он все сидит и чешет свой язык…
Но вот он привстает… ух, даже сердце бьется!
Вот встал, вот натянул перчатку наконец,
Вот шляпу взял… ура! уходит!.. О, творец!
Погибли все мечты: он сел, он остается!
Визитерам
Перевод В. Левика
Чтоб милым гостем быть, послушай мой совет:
Не вваливайся в дом с непрошенным докладом
О том, что знают все: что хлеб побило градом,
Что в Греции — мятеж, а где-то был банкет.
И если ты застал приятный tête-à-tête,
Заметь, как встречен ты: улыбкой, хмурым взглядом,
И как сидят они, поодаль или рядом,
Не смущены ль они, в порядке ль туалет.
И если видишь ты: прелестнейшая панна,
Хоть вовсе не смешно, смеется непрестанно,
А кавалер молчит, скривив улыбкой рот,
То взглянет на часы, то ерзать вдруг начнет,
Так слушай мой совет, откланяйся нежданно!
И знаешь ли, когда прийти к ним? Через год!
Прощание
Перевод В. Левика
К Д. Д.
Ты гонишь? Иль потух сердечный пламень твой?
Его и не было. Иль нравственность виною?
Но ты с другим. Иль я бесплатных ласк не стою?
Но я ведь не платил, когда я был с тобой!
Червонцев не дарил я щедрою рукой,
Но ласки покупал безмерною ценою.
Ведь я сказал «прости» и счастью и покою,
Я душу отдавал, — за что ж удар такой?
Теперь я понял все! Ты в жажде мадригала
И сердцем любящим, и совестью играла.
Нет, музу не купить! Мечтал я, чтоб венком
Тебя парнасская богиня увенчала,
Но с каждой рифмы я скользил в пути крутом,
И стих мой каменел при имени твоем.
Данаиды
Перевод В. Левика
Где золотой тот век, не ведавший печали,
Когда дарили вы, красавицы, привет
За праздничный наряд, за полевой букет,
И сватом голубя юнцы к вам засылали?
Теперь дешевый век, но дороги вы стали:
Той золото даешь — ей песню пой, поэт!
Той сердце ты сулишь — предложит брак в ответ!
А та богатства ждет — и что ей в мадригале!
Вам, данаиды, вам, о ненасытный род,
Я в песнях изливал всю боль, что сердце жжет,
Все горести души, алкающей в пустыне.
И пусть опять пою в честь ваших глаз и губ, —
Я, нежный, колким стал, я, щедрый, ныне скуп,
Все отдавал я встарь, все, кроме сердца — ныне.
Извинение
Перевод В. Левика
В толпе ровесников я пел любовь, бывало;
В одном встречал восторг, укор и смех в другом:
«Всегда любовь, тоска, ты вечно о своем!
Чтобы поэтом стать — подобных бредней мало.
Ты разумом созрел, и старше сердце стало,
Так что ж оно горит младенческим огнем?
Ужель ты вдохновлен высоким божеством,
Чтоб сердце лишь себя всечасно воспевало?»
Был справедлив упрек! И вслед Урсыну
[7]{29} я,
Алкея лиру взяв
[8], высоким древним строем
Тотчас запел хвалу прославленным героям, —
Но разбежались тут и лучшие друзья.
Тогда, рассвирепев, я лиру бросил в Лету:
[9]Как видно, слушатель всегда под стать поэту!
Крымские сонеты
{30}
Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichter’s Lande gehen.
Goethe[10]
Спутникам путешествия по Крыму.
Автор
1. Аккерманские степи
Перевод И. Бунина
{31}
Выходим на простор степного океана.
Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна.
Темнеет. Впереди — ни шляха, ни кургана.
Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод…
Вон блещет облако, а в нем звезда встает:
То за стальным Днестром маяк у Аккермана.
Как тихо! Постоим. Далеко в стороне
Я слышу журавлей в незримой вышине,
Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет,
Как где-то скользкий уж, шурша, в бурьян ползет.
Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать
И зов с Литвы… Но в путь! Никто не позовет.
2. Штиль
На высоте Тарканкут
Перевод В. Левика
{32}
Едва трепещет флаг. В полуденной истоме,
Как перси юные, колышется волна.
Так дева томная, счастливых грез полна,
Проснется, и вздохнет, и вновь отдастся дреме.
Подобно стягам в час, когда окончен бой,
Уснули паруса, шумевшие недавно.
Корабль, как на цепях, стоит, качаясь плавно.
Смеются путники. Зевает рулевой.
О море! Меж твоих веселых чуд подводных
Живет полип. Он спит при шуме бурь холодных,
Но щупальца спешит расправить в тишине.
О мысль! В тебе живет змея воспоминаний.
Недвижно спит она под бурями страданий,
Но в безмятежный день терзает сердце мне.
3. Плаванье
Перевод В. Левика
Гремит! Как чудища, снуют валы кругом.
Команда, по местам! Вот вахтенный промчался,
По лесенке взлетел, на реях закачался
И, как в сетях, повис гигантским пауком.
Шторм! Шторм! Корабль трещит. Он бешеным рывком
Метнулся, прянул вверх, сквозь пенный шквал прорвался,
Расшиб валы, нырнул, на крутизну взобрался,
За крылья ловит вихрь, таранит тучи лбом.
Я криком радостным приветствую движенье.
Косматым парусом взвилось воображенье.
О, счастье! Дух летит вослед мечте моей.
И кораблю на грудь я падаю, и мнится:
Мою почуяв грудь, он полетел быстрей.
Я весел! Я могуч! Я волен! Я — как птица!
4. Буря
Перевод В. Левика
В лохмотьях паруса, рев бури, свист и мгла…
Руль сломан, мачты треск, зловещий хрип насосов.
Вот вырвало канат последний у матросов.
Закат в крови померк, надежда умерла.
Трубит победу шторм! По водяным горам,
В кипящем хаосе, в дожде и вихре пены,
Как воин, рвущийся на вражеские стены,
Идет на судно смерть, и нет защиты нам.
Те падают без чувств, а те ломают руки.
Друзья прощаются в предчувствии разлуки.
Обняв свое дитя, молитвы шепчет мать.
Один на корабле к спасенью не стремится.
Он мыслит: счастлив тот, кому дано молиться,
Иль быть бесчувственным, иль друга обнимать!
5. Вид гор из степей Козлова
Перевод О. Румера
{33}
Пилигрим и Мирза
Пилигрим
Аллах ли там оплот из ледяных громад
Воздвиг и ангелам престол отлил из тучи?
Иль Дивы этот вал поставили могучий,
Чтоб звездам преграждать дорогу на закат?
Какой там блеск вверху! Пылает ли Царьград,
Иль то аллах зажег маяк на горной круче,
Чтобы указывать пути в ночи дремучей
Мирам, которые во мгле небес кружат?
Мирза
Туда взбирался я… Там, пасти рек питая
И клювы родников, сидит Зима седая;
Там исторгали снег, дыша, мои уста;
Я был, где и орлам дороги незнакомы,
Я тучи миновал, в которых дремлют громы,
И над моей чалмой стояла лишь звезда.
6. Бахчисарай
Перевод В. Левика
Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей.
Трон славы, храм любви — дворы, ступени, входы,
Что подметали лбом паши в былые годы, —
Теперь гнездилище лишь саранчи да змей.
В чертоги вторгшийся сквозь окна галерей,
Захватывает плющ, карабкаясь на своды,
Творенья рук людских во имя прав природы,
Как Валтасаров перст, он чертит надпись: «Тлей!»
Не молкнет лишь фонтан в печальном запустенье —
Фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет,
Он тихо слезы льет, оплакивая тленье:
О слава! Власть! Любовь! О торжество побед!
Вам суждены века, а мне — одно мгновенье.
Но длятся дни мои, а вас — пропал и след.
7. Бахчисарай ночью
Перевод А. Ревича
Молитва кончена, и опустел джамид,
Вдали растаяла мелодия призыва;
Зари вечерней лик порозовел стыдливо;
Златой король ночей к возлюбленной спешит.
Светильниками звезд гарем небес расшит;
Меж ними облачко плывет неторопливо,
Как лебедь, дремлющий на синеве залива, —
Крутая грудь бела, крыло как жар горит.
Здесь — минарета тень, там — тень от кипариса,
Поодаль глыбы скал уселись под горой,
Как будто дьяволы сошлись на суд Эвлиса
Под покрывалом тьмы. А с их вершин порой
Слетает молния и с быстротой Фариса
Летит в безмолвие пустыни голубой.
8. Гробница Потоцкой
Перевод А. Ревича
Ты в сказочном саду, в краю весны увяла.
О роза юная! Часов счастливых рой
Бесследно пролетел, мелькнул перед тобой,
Но в сердце погрузил воспоминаний жала.
Откуда столько звезд во мраке засверкало,
Вон там, на севере, над польской стороной?
Иль твой горящий взор, летя к земле родной,
Рассыпал угольки, когда ты угасала?
Дочь Польши! Так и я умру в чужой стране.
О, если б и меня с тобой похоронили!
Пройдут здесь странники, как прежде проходили,
И я родную речь услышу в полусне,
И, может быть, поэт, придя к твоей могиле,
Заметит рядом холм и вспомнит обо мне.
9. Могилы гарема
Перевод В. Левика
Мирза — Пилигриму
До срока срезал их в саду любви аллах,
Не дав плодам созреть до красоты осенней.
Гарема перлы спят не в море наслаждений,
Но в раковинах тьмы и вечности — в гробах.
Забвенья пеленой покрыло время прах;
Над плитами — чалма, как знамя войска теней;
И начертал гяур для новых поколений
Усопших имена на гробовых камнях.
От глаз неверного стеной ревнивой скрыты,
У этих светлых струй, где не ступал порок,
О розы райские, вы отцвели, забыты.
Пришельцем осквернен могильный ваш порог,
Но он один в слезах глядел на эти плиты,
И я впустил его, — прости меня, пророк!
10. Байдары
Перевод А. Ревича
Гоню я скакуна, и он летит, как птица;
Долины, скалы, лес мелькающей чредой,
Как за волной волна, бегут передо мной;
Потоком образов я тороплюсь упиться.
Весь в мыле бедный конь, на горы мрак ложится,
И под покровом тьмы померк простор земной,
Но, словно в зеркале разбитом, мир дневной —
Поток лесов и скал — в моих глазах дробится.
Спит мир, лишь я не сплю. Спускаюсь к морю с гор
Грохочет черный вал, на камни набегая;
Склоняюсь перед ним и руки распростер;
Обрушилась волна, в глубины увлекая;
Я жду, что разум мой, как в омуте ладья,
Закружится на миг в пучине забытья.
11. Алушта днем
Перевод А. Ревича
С горы упал туман, как сброшенный халат.
Шумит, намаз творя, пшеница золотая,
Кладет поклоны лес, порой с кудрей роняя,
Как с четок дорогих, рубин или гранат.
В цветах земля. Цветы взлетают и парят:
Алмазным пологом все небо закрывая,
Порхают бабочки, как радуга живая,
И сушит стрекоза крылатый свой наряд.
Лишь там, где лысый кряж глубоко вдался в море,
Отпрянет и на штурм идет опять волна,
Угрозу для земли тая в своем напоре.
Как тигра хищный глаз, мерцает глубина.
А дальше — гладь и блеск, и в голубом просторе
Играют лебеди близ мирного челна.
12. Алушта ночью
Перевод И. Бунина
Повеял ветерок, прохладою лаская.
Светильник мира пал с небес на Чатырдах,
Разбился, расточил багрянец на скалах
И гаснет. Тьма растет, молчанием пугая.
Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов — дыханье роз в садах —
Беззвучной музыкой плывет, благоухая.
Дремлю под темными крылами тишины.
Вдруг метеор блеснул — и, ослепляя взоры,
Потопом золота залил леса и горы.
Ночь! одалиска-ночь! Ты навеваешь сны,
Ты гасишь лаской страсть, но лишь она утихнет —
Твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет!
13. Чатырдаг
Перевод И. Бунина
Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни,
Великий Чатырдаг, могучий хан Яйлы.
О мачта крымских гор! О минарет аллы!
До туч вознесся ты в лазурные пустыни
И там стоишь один, у врат надзвездных стран,
Как грозный Гавриил у врат святого рая.
Зеленый лес — твой плащ, а тучи — твой тюрбан,
И молнии на нем узоры ткут, блистая.
Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым,
Летит ли саранча, иль жжет гяур селенья, —
Ты, Чатырдаг, всегда и нем и недвижим.
Бесстрастный драгоман всемирного творенья,
Поправ весь дольний мир подножием своим,
Ты внемлешь лишь творца предвечные веленья!
14. Пилигрим
Перевод А. Ревича
Передо мной страна волшебной красоты,
Здесь небо ясное, здесь так прекрасны лица.
Так почему ж душа в далекий край стремится,
В былые времена влекут меня мечты?
Литва! Своей листвой мне слаще пела ты,
Чем соловей Байдар, чем юная певица;
Бродя среди болот, умел я веселиться,
А здесь не веселят ни рощи, ни цветы.
Какою прелестью манит земля чужая!
Так отчего ж грущу, со вздохом вспоминая
Далекую мою, подругу давних лет?
Она в родном краю, куда мне нет возврата,
Где все ей говорит, как я любил когда-то.
Вздохнет ли обо мне, на мой ступая след?
15. Дорога над пропастью в Чуфут-Кале
Перевод В. Левика
Мирза и Пилигрим
Мирза
Молись! Поводья кинь! Смотри на лес, на тучи,
Но не в провал! Здесь конь разумней седока.
Он глазом крутизну измерил для прыжка,
И стал, и пробует копытом склон сыпучий.
Вот прыгнул. Не гляди! Во тьму потянет с кручи!
Как древний Аль-Каир, тут бездна глубока.
И рук не простирай — ведь не крыло рука.
И мысли трепетной не шли в тот мрак дремучий.
Как якорь, мысль твоя стремглав пойдет ко дну,
Но дна не досягнет, и хаос довременный
Поглотит якорь твой и челн затянет вслед.
Пилигрим
А я глядел, Мирза! Но лишь гробам шепну,
Что различил мой взор сквозь трещину вселенной.
На языке живых — и слов подобных нет.
16. Гора Кикинеиз
Перевод В. Левика
Мирза
Ты видишь небеса внизу, на дне провала?
То море. Присмотрись: на грудь его скала
Иль птица, сбитая перунами, легла
И крылья радугой стоцветной разметала?
Иль это риф плывет в оправе из опала?
Не риф, но туча там. Она, как ночи мгла,
Полмира тенью крыл огромных облекла.
А вот и молния. Видал, как засверкала?
Но конь твой пятится, — тут пропасть, осади!
Пусть он, как мой скакун, возьмет ее с размаха!
Я прыгаю! Сперва исчезну, но следи:
Мелькнет моя чалма — ударь коня без страха
И, шпоры дав, лети, — лишь призови аллаха!
А не мелькнет — вернись: тут людям нет пути!
17. Развалины замка в Балаклаве
Перевод В. Левика
Обломки крепости, чья древняя громада,
Неблагодарный Крым! твой охраняла сон.
Гигантским черепом торчащий бастион,
Где ныне гад живет и люди хуже гада.
Всхожу по лестнице. Тут высилась аркада.
Вот надпись. Может быть, герой здесь погребен?
Но имя, бывшее грозой земных племен,
Как червь, окутано листами винограда.
Где италийский меч монголам дал отпор,
Где греки свой глагол на стенах начертали,
Где путь на Мекку шел и где намаз читали,
Там крылья черный гриф над кладбищем простер,
Как черную хоругвь, безмолвный знак печали,
Над мертвым городом, где был недавно мор.
18. Аюдаг
Перевод В. Левика
Мне любо, Аюдаг, следить с твоих камней,
Как черный вал идет, клубясь и нарастая,
Обрушится, вскипит и, серебром блистая,
Рассыплет крупный дождь из радужных огней.
Как набежит второй, хлестнет еще сильней,
И волны от него, как рыб огромных стая,
Захватят мель и вновь откатятся до края,
Оставив гальку, перл или коралл на ней.
Не так ли, юный бард
{34}, любовь грозой летучей
Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей,
Но лиру ты берешь — и вновь лазурь светла.
Не омрачив твой мир, гроза отбушевала,
И только песни нам останутся от шквала —
Венец бессмертия для твоего чела.
Объяснения
Аккерманские степи
…Минуя острова багряного бурьяна… — На Украине и Побережье
{35} бурьяном называют великорослые кусты, которые летом покрываются цветами и приятно выделяются на степном фоне.
Вид гор из степей Козлова
Дивы — по древней персидской мифологии, злые гении, некогда царствовавшие на земле, потом изгнанные ангелами и ныне живущие на краю света, за горою Каф.
Какой там блеск вверху! Пылает ли Царьград… — Вершина Чатырдага после заката солнца благодаря отражающимся лучам в течение некоторого времени представляется как бы охваченной пламенем.
Чатырдаг — самая высокая вершина в цепи Крымских гор на южном берегу; она открывается взору издалека, верст за двести, с разных сторон, в виде исполинского облака синеватого цвета.
Бахчисарай
Бахчисарай. — В долине, окруженной со всех сторон горами, лежит город Бахчисарай, некогда столица Гиреев, ханов крымских.
…Как Валтасаров перст, он чертит надпись: «Тлей!» — «В тот час изыдоша персты руки человечи и писаху противу лампады на покоплении стены дому царства, и царь (Валтасар) видяше персты руки пишущие». Пророчество Даниила V, 5, 25, 26, 27, 28.
Бахчисарай ночью
Молитва кончена, и опустел джамид, //
Вдали растаяла мелодия призыва… — Меджид, или джамид, — обыкновенная мечеть. Снаружи, по углам ее, возвышаются тонкие стрельчатые башенки, называемые минаретами (менаре); на половине своей высоты они обведены галереею (шурфе), с которой муэдзины, или глашатаи, созывают народ к молитве. Этот напевный призыв с галереи называется изаном. Пять раз в день, в определенные часы, изан
{36} слышится со всех минаретов, и чистый и звучный голос муэдзинов приятно разносится по городам мусульманским, в которых благодаря отсутствию колесных экипажей царствует необычайная тишина (Сенковский, Collectanea, т. 1, стр. 66).
…Как будто дьяволы сошлись на суд Эвлиса… — Эвлис, или Иблис, или Гаразель — это Люцифер у магометан.
…с быстротой Фариса… — Фарис — рыцарь у арабов-бедуинов.
Гробница Потоцкой
Недалеко от дворца ханов возвышается могила, устроенная в восточном вкусе, с круглым куполом. Есть в Крыму народное предание, что памятник этот был поставлен Керим-Гиреем невольнице, которую он страстно любил. Говорят, что эта невольница была полька, из рода Потоцких. Автор прекрасно и с эрудицией написанной книги «Путешествие по Тавриде»
{37}, Муравьев-Апостол, полагает, что предание неосновательно и что могила хранит останки какой-то грузинки. Не знаем, на чем он основывает свое мнение, ибо утверждение его, что татарам в половине XVIII столетия нелегко было бы захватить невольницу из рода Потоцких, неубедительно. Известны последние волнения казаков на Украине, когда немалое число народа было уведено и продано соседним татарам. В Польше много шляхетских семейств, носящих фамилию Потоцких, и невольница могла и не принадлежать к знаменитому роду владетелей Умани, который был менее доступен для татар и казаков. На основе народного предания о бахчисарайской могиле русский поэт Александр Пушкин с присущим ему талантом написал поэму «Бахчисарайский фонтан».
Могилы гарема
В роскошном саду, среди стройных тополей и шелковичных деревьев, находятся беломраморные гробницы ханов и султанов, их жен и родственников; в двух расположенных поблизости зданиях свалены в беспорядке гробы; они были некогда богато обиты, ныне торчат голые доски и видны лоскутья материи.
…Над плитами — чалма, как знамя войска теней… — Мусульмане ставят над могилами мужчин и женщин каменные чалмы различной формы для тех и других.
…И начертал гяур для новых поколений… — Гяур, точнее киафир, значит «неверный». Так мусульмане называют христиан.
Байдары
Прекрасная долина, через которую обычно въезжают на южный берег Крыма.
Алушта днем
Алушта — одно из восхитительнейших мест Крыма; туда северные ветры никогда не доходят, и путешественник часто в ноябре должен искать прохлады под тенью огромных грецких орехов, еще зеленых.
С горы упал туман, как сброшенный халат… — Халат (хилат) — почетная одежда, которой султан жалует высших сановников государства.
Шумит, намаз творя, пшеница золотая. — Намаз — мусульманская молитва, которую совершают сидя и кладя поклоны.
…Как с четок дорогих, рубин или гранат. — Мусульмане употребляют во время молитвы четки, которые у знатных людей бывают из драгоценных камней. Гранатовые и шелковичные деревья, алеющие прелестными плодами, — обычное явление на всем южном берегу Крыма.
Чатырдаг
…могучий хан… (падишах) — титул турецкого султана.
…Как грозный Гавриил у врат святого рая. — Оставляю имя Гавриила как общеизвестное, но собственно стражем неба, по восточной мифологии, является Рамег (созвездие Арктура), одна из двух больших звезд, называемых Ас семекеин.
Дорога над пропастью Чуфут-Кале
Чуфут-Кале — городок на высокой скале; дома, стоящие на краю, подобны гнездам ласточек; тропинка, ведущая на гору, весьма трудна и висит над бездною. В самом городе стены домов почти сливаются с краем скалы; взор, брошенный из окон, теряется в неизмеримой глубине.
Здесь конь разумней седока. — Крымский конь при трудных и опасных переправах, кажется, проявляет особый инстинкт осторожности и уверенности. Прежде нежели сделать шаг, он, держа ногу в воздухе, ищет камня и испытывает, можно ли ступить безопасно и утвердиться.
Гора Кикинеиз
То море. Присмотрись: на грудь его скала // Иль птица, сбитая перунами, легла… — Известная из «Тысячи и одной ночи», прославленная в персидской мифологии и многократно восточными поэтами описанная птица Симург. «Она велика, — говорит Фирдоуси в Шах-Намэ, — как гора; сильная — как крепость; слона уносит в своих когтях…» И далее: «Увидев рыцарей, Симург сорвался, как туча, со скалы, на которой обитал, и понесся по воздуху, как ураган, бросая тень на войска всадников». Смотри Гаммера.
Geschichte der Redekünste Persiens. Wien, 1818, стр. 65.
Не риф, но туча там. — Если с вершины гор, вознесенных под облака, взглянуть на тучи, плавающие над морем, кажется, что они лежат на воде в виде больших белых островов. Я наблюдал это любопытное явление с Чатырдага.
Развалины замка в Балаклаве
Над заливом того же названия стоят руины замка, построенного некогда греками, выходцами из Милета. Позднее генуэзцы возвели на этом месте крепость Цембало.
Воевода
Перевод А. Пушкина
{38}
Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постели;
Дернул полог… В самом деле!
Никого; пуста кровать.
И, мрачнее черной ночи,
Он потупил грозны очи,
Стал крутить свой сивый ус…
Рукава назад закинул,
Вышел вон, замок задвинул;
«Гей, ты, кликнул, чертов кус!
А зачем нет у забора
Ни собаки, ни затвора?
Я вас, хамы!.. Дай ружье;
Приготовь мешок, веревку
Да сними с гвоздя винтовку.
Ну, за мною!.. Я ж ее!»
Пан и хлопец под забором
Тихим крадутся дозором,
Входят в сад — и сквозь ветвей,
На скамейке, у фонтана,
В белом платье, видят, панна
И мужчина перед ней.
Говорит он: «Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье…
Воевода все купил.
Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я!
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он,
И ему ты отдалась.
Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья,
И потом навек бежать».
Панна плачет и тоскует,
Он колени ей целует,
А сквозь ветви те глядят,
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили,
Вбили шомполом заряд.
Подступили осторожно.
«Пан мой, целить мне не можно, —
Бедный хлопец прошептал: —
Ветер, что ли, плачут очи,
Дрожь берет; в руках нет мочи,
Порох в полку не попал».
«Тише ты, гайдучье племя!
Будешь плакать, дай мне время!
Сыпь на полку… Наводи…
Цель ей в лоб. Левее… выше.
С паном справлюсь сам. Потише;
Прежде я; ты погоди».
Выстрел по саду раздался,
Хлопец пана не дождался;
Воевода закричал,
Воевода пошатнулся…
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.
Конец 1827 г.
Будрыс и его сыновья
Перевод А. Пушнина
{39}
Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.
«Дети! седла чините, лошадей проводите
Да точите мечи с бердышами.
Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз
{40} идет на поляков, а Ольгерд
{41} на пруссаков,
А на русских Кестут-воевода.
Люди вы молодые, силачи удалые
(Да хранят вас литовские боги!),
Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу;
Трое вас, вот и три вам дороги.
Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах,
Домы полны, богат их обычай.
А другой от пруссаков, от проклятых крыжаков,
Может много достать дорогого,
Денег с целого света, сукон яркого цвета,
Янтаря — что песку там морского.
Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха;
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но уж, верно, оттуда
Привезет он мне на дом невестку.
Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела — что котенок у печки —
И, как роза, румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся, будто две свечки!
Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку».
Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Ждет-пождет их старик домовитый,
Дни за днями проводит, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж, видно, убиты!
Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?» —
«Нет, отец мой; полячка младая».
Снег пушистый валится; всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.
«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?» —
«Нет, отец мой; полячка младая».
Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.
Конец 1827 г.
Фарис
Перевод О. Румера
Касыда, сочиненная в честь эмира Тадж-уль-Фехра{42}, посвященная Ивану Козлову
Как, брег покинув, радуется челн,
Что вновь скользит над голубой пучиной
И, море веслами обняв, средь пенных волн
Летит, блистая шеей лебединой, —
Так бедуин метнуть с утеса рад
Коня в простор степей открытый,
Где, погрузясь в поток песка, шипят,
Как сталь горячая в воде, его копыта.
Мой конь в сухих зыбях уже плывет,
Сыпучие валы дельфиньей грудью бьет.
Все быстрей, быстрей сметает
Зыбкие гряды песка;
Выше, выше их взметает
Над землей, под облака.
Как туча он, мой черный конь ретивый.
Звезда на лбу его денницею горит;
Как перья страуса, летит по ветру грива,
Сверкают молнии из-под копыт.
Мчись, летун мой белоногий!
Лес и горы, прочь с дороги!
Пальма тень свою и плод
Мне протягивает тщетно:
Оставляет мой полет
Эту ласку безответной.
И пальма в глубь оазисов бежит,
Шурша усмешкой над моей гордыней.
А вот, на страже у границ пустыни,
Чернеют скалы. Цокоту копыт
Ответив отзвуком, они сурово в спину
Глядят и смерть пророчат бедуину:
«Ты куда летишь? Назад!
Смертоносны солнца стрелы.
Там шатры не охранят
Жизнь безумца сенью белой.
Там шатер — лишь небосвод,
Там и пальма не растет.
Только скалы там ночуют,
Только звезды там кочуют».
Я лечу во весь опор,
Их угрозам не внимая;
К ним свой обращаю взор
И едва их различаю:
Длинной тают чередой
И скрываются за мглой.
Поверил коршун им, что я его добыча.
За мной пустился он, взмахнув крылом,
И трижды — надо мной паря и клича —
Мне черным голову обвил венком.
«Чую, — каркнул, — запах трупа.
Эй, безумный всадник, глупо
Средь песков искать пути,
Трав коню здесь не найти.
Горькая вас ждет расплата,
Вам отсюда нет возврата.
Ветер бродит тут, свой след
Неустанно заметая;
Где пасутся гадов стаи,
Для коней лугов там нет.
Только трупы тут ночуют,
Только коршуны кочуют».
В глаза мои когтей направив острия,
Он каркал. Трижды мы взглянули око в око.
Кто ж испугался? Коршун, а не я.
Он крыльями взмахнул и улетел высоко.
Лук натянувши, взор я бросил в глубь небес:
Враг пятнышком висел в синеющем просторе,
Весь с воробья… с пчелу… с комарика, и вскоре
В лазури растворился и исчез.
Мчись, летун мой белоногий!
Скалы, коршуны — с дороги!
Тут, от закатных отделясь лучей,
Вдруг облак полетел за мной на крыльях белых:
Прослыть в небесных захотел пределах
Таким гонцом, каким был я в песках степей.
Спустившись, он повис над головой моею
И свистнул мне, в лучах закатных пламенея:
«Стой! Умерь ты прыть свою!
Зной сожжет тебя тлетворный;
Не прольется благотворный
Дождь на голову твою.
Там ручей не отзовется
Серебром своих речей;
Там голодный суховей
Пьет росу, чуть та прольется».
Я все вперед лечу, не слушая угроз.
Усталый облак стал на небесах метаться,
Все ниже головой склоняться…
Потом улегся на утес.
Я оглянулся — он не превозмог бессилья,
На небо целое его опередил я,
Но видел издали, что в сердце он таил:
Побагровев от злобы волчьей,
От зависти налившись желчью,
Он почернел, как труп, и в горы пал без сил.
Мчись, летун мой белоногий!
Степи, тучи — прочь с дороги!
Огляделся я кругом:
На земле и небосклоне
Уж никто не смел в погоню
За моим лететь конем.
Тут объятой сном природе
Не слыхать людских шагов;
Тут стихии без оков
Спят, как звери на свободе,
Что укрыться не спешат,
Человечий встретив взгляд.
Глядь! Я не первый тут! Какие-то отряды
Там, за песчаной прячутся оградой.
Кочуют ли они, иль вышли на разбой?
Какой пугающей сверкают белизной!
Взываю к ним, — в ответ молчанье. Трупы это!
Здесь караван погиб, засыпанный песком,
И дерзкий ураган открыл его потом.
Верблюды, всадники — с того пришельцы света.
Между голых челюстей,
Сквозь широкие глазницы,
Мне конец пророча дней,
Медленно песок струится:
«Бедуин, вернись назад!
Ураганы там царят».
Я не ведаю тревоги.
Мчись, летун мой белоногий!
Ураганы — прочь с дороги!
Тут африканский смерч, пустыни властелин,
Блуждая по сухим волнам ее равнин,
Заметил издали меня. Он, изумившись,
Остановил свой бег и крикнул, закружившись:
«Что там за вихрь? Не юный ли мой брат?
Как смеет он, ничтожный червь на взгляд,
Топтать мои наследные владенья?»
И — пирамидою — ко мне в одно мгновенье.
Увидев смертного с душой, где не жил страх,
Ногою топнул он с досады,
Потряс окружных гор громады
И, словно гриф, сдавил меня в своих когтях.
Жег меня огнем дыханья,
Из песка до неба зданья
Возводил биеньем крыл
И на землю их валил.
Не сдаваясь, бьюсь я смело,
Чудище в объятьях жму,
Ярыми зубами тело
Тороплюсь разгрызть ему.
Столбом хотел уйти на небо смерч сыпучий,
Но нет! Дождем песка, рассыпавшись, упал,
И, словно городской широкий вал,
У самых ног моих лег труп его могучий.
Вздохнул свободно я и поднял к звездам взор.
Очами золотыми все светила
Послали мне привет в земной простор, —
Мне одному: кругом безлюдие царило…
Как сладостно дышать всей грудью, полной силы!
Казалось мне, во всей полуденной стране
Для легких воздуха не хватит мне.
Как сладостно глядеть вокруг! С безмерной силой
Я напрягаю восхищенный взор,
И убегает он все дале, дале,
Чтобы вобрать в себя земные дали
И улететь за кругозор.
Как сладко обнимать красу природы милой!
Я руки с нежностью вперед простер,
И мнится мне: от края и до края
Весь мир к своей груди я прижимаю.
В безбрежную лазурь несется мысль моя,
Все выше, в горние незримые края,
И вслед за ней душа летит и в небе тонет.
Так, жало утопив, пчела с ним дух хоронит.
1828, Петербург.
Объяснения
Фарис — всадник, почетное звание у арабов-бедуинов, означающее то же, что кавалер, рыцарь в средние века; под этим именем известен был на Востоке граф Вацлав Жевуский.
Как туча он, мой черный конь ретивый. // Звезда на лбу его денницею горит; // Как перья страуса, летит по ветру грива, // Сверкают молнии из-под копыт. — Эти четыре строки, содержащие описание коня, являются переводом арабского четверостишия, помещенного в примечаниях к «Арабской антологии» Лагранжа.
«Чую, — каркнул, — запах трупа…» — На востоке распространено поверие, будто коршуны чуют смерть издалека и кружат над человеком, которого ждет смерть. Как только путник умирает в дороге, тотчас же появляются поблизости несколько коршунов, хотя раньше их не было видно.
Тут африканский смерч, пустыни властелин… — Смерч (ураган) — это название (американское — урикан), означающее ужасную тропическую бурю. Так как это название широко известно в Европе, я употребил его вместо арабских слов семум, серсер, асыф, для обозначения вихря, смерча (тайфуна), засыпающего иногда целые караваны. Персы называют его гирдебад.

«Лилии»
1829–1855
К *** («Нет! Не расстаться нам! Ты следуешь за мною…»)
Перевод Л. Мартынова
{43}
На Альпах, в Сплюгене 1829
Нет, не расстаться нам! Ты следуешь за мною, —
И по земным путям, и над морской волною
Следы твои блестят на глетчерах высоко,
Твой голос влился в шум альпийского потока,
И дыбом волосы встают: а вдруг однажды
Увижу въявь тебя? Боюсь тебя и жажду!
Неблагодарная! На поднебесных кручах
Схожу я в пропасти, и исчезаю в тучах,
И замедляю шаг, льдом вечным затрудненный,
Туман смахнув с ресниц, ищу во мгле бездонной
Звезду полярную, Литву, твой домик малый.
Неблагодарная! Ты и сейчас, пожалуй,
Царица бала там и в танце хороводишь
Веселою толпой. А может быть, заводишь
Интрижку новую, вот так для развлеченья,
Иль говоришь, смеясь, про наши отношенья?
Своими подданными можешь ты гордиться:
Загривок рабски гнут, кадят тебе: «Царица!»
Роскошно задремав, проснешься в ликованье.
И даже не томят тебя воспоминанья?
Была б ли счастливей ты, милая, со мною,
Вручив свою судьбу влюбленному изгою?
Ах, за руку б я вел тебя по скалам голым
И песни пел тебе, чтоб не был путь тяжелым.
Я устремлялся бы в бушующие воды
И камни подстилал тебе для перехода,
Чтоб ты, идя по ним, не промочила ножки.
Целуя, согревал бы я твои ладошки.
Мы в горной хижине искали бы покоя,
13 ней под одним плащом сидели бы с тобою,
Чтоб там, где теплится пастушеское пламя,
Ты на моем плече дремала бы ночами!
24 сентября 1829 г.
Моему чичероне
Перевод Л. Мартынова
{44}
Мой чичероне! Здесь вот, на колонне,
Неясное, незнаемое имя
Оставил путник в знак, что был он в Риме…
Где путник тот? Скажи, мой чичероне!
Быть может, вскоре скроется он в пене
Ворчливых волн иль немо, бессловесно
Поглотят жизнь его и злоключенья
Пески пустынь, и сгинет он безвестно.
Что думал он, — хочу я догадаться, —
Когда, блуждая по чужой отчизне,
Слов не нашел, сумел лишь расписаться,
Лишь этот след оставив в книге жизни.
Писал ли это он, как на гробнице,
В раздумье, медленно рукой дрожащей;
Иль обронил небрежно уходящий,
Как одинокую слезу с ресницы?
Мой чичероне, с детским ты обличьем,
Но древней мудростью сияют очи,
Меня по Риму, полному величьем,
Как ангел, водишь ты с утра до ночи.
Ты взором в сердце камня проникаешь.
Один намек — и делается зримым
Тебе былое… Ах, быть может, знаешь
Ты даже то, что будет с пилигримом!
Рим, 30 апреля 1830 г.
К польке-матери
Перевод М. Михайлова
{45}
Стихи, написанные в 1830 г.
О полька-мать! Коль в детском взгляде сына
Надеждами тебе заблещет гений
И ты прочтешь в нем гордость гражданина —
Отвагу старых польских поколений;
Коль отрок — сын твой, игры покидая,
Бежит он к старцу, что поет былины,
И целый день готов сидеть, внимая,
Все слушать, весь недетской полн кручины,
Словам былин о том, как жили деды, —
О полька-мать! Сыновнею забавой
Не тешься, — стань пред образом скорбящей,
Взгляни на меч в ее груди кровавой;
Такой же меч тебе готовит враг грозящий.
И если б целый мир расцвел в покое,
Все примирилось — люди, веры, мненья,
Твой сын живет, чтоб пасть в бесславном бое,
Всю горечь мук принять — без воскресенья.
Пусть с думами своими убегает
Во мрак пещер; улегшись на рогоже,
Сырой, холодный воздух там вдыхает
И с ненавистным гадом делит ложе;
Пусть учится таить и гнев и радость,
Мысль сделает бездонною пучиной
И речи даст предательскую сладость,
А поступи — смиренный ход змеиный.
Христос — ребенком в Назарете
Носил уж крест, залог страданья.
О полька-мать! Пускай свое призванье
Твой сын заране знает.
Заране руки скуй ему цепями,
Заране к тачке приучай рудничной,
Чтоб не бледнел пред пыткою темничной,
Пред петлей, топором и палачами.
Он не пойдет, как рыцарь в стары годы,
Бить варваров своим мечом заветным
Иль, как солдат под знаменем трехцветным
{46},
Полить своею кровью сев свободы.
Нет, зов ему пришлет шпион презренный,
Кривоприсяжный суд задаст сраженье,
Свершится бой, в трущобе потаенной
Могучий враг произнесет решенье.
И памятник ему один могильный —
Столб виселицы с петлей роковою,
А славой — женский плач бессильный
Да грустный шепот земляков порою.
11–14 июля 1830 г.
Одиночеству
Перевод Б. Турганова
Одиночество! зноем житейским томим,
К твоим водам холодным, глубоким бегу я
И с каким наслажденьем, с восторгом каким
Погружаюсь в прозрачные, чистые струи!
Погружаюсь, ныряю, и мысли плывут, словно волны,
Как с морскими валами, я с ними играю безмолвно,
Чтоб, устав, охладев, наконец мое бренное тело
Сном глубоким забылось и оцепенело.
Ты — стихия моя; отчего ж эти светлые воды
Холодят мое сердце, на ум навевают туманы,
И опять, как летучая рыба, взыскуя свободы,
Вырываюсь на воздух и солнца ищу непрестанно?..
И без солнца внизу, в вышине — без дыханья,
Я в обеих стихиях — все тот же изгнанник!..
Весна 1832 г.
Расцвели деревья снова
Перевод Н. Асеева
Расцвели деревья снова,
Ароматом дышат ночи;
Соловьи гремят в дуброве,
И кузнечики стрекочут.
Что ж, задумавшись глубоко,
Я стою, понурив плечи?
Сердце стонет одиноко:
С кем пойду весне навстречу?
Перед домом, в свете лунном,
Музыканта тень маячит;
Слыша песнь и отзвук струнный,
Распахнул окно и плачу.
Это стоны менестреля —
В честь любимой серенада;
Но душа моя не рада:
С кем ту песнь она разделит?
Столько муки пережил я,
Что уж не вернуться к дому,
Не доверить дум другому, —
Только лишь немой могиле.
Стиснув руки, тихо сядем
Пред свечою одинокой;
То ли песню в мыслях сладим,
То ль перу доверим строки.
Думы-дети, думы-птицы!
Что ж невесело поете?
Ты, душа моя, — вдовица,
От детей своих в заботе.
Минут весны, минут зимы,
Зной, снега сменяя, схлынет,
Лишь одна, неизменима, —
Грусть — скитальца не покинет.
Весна 1832 г.
Редут Ордона
Перевод С. Кирсанова
{47}
Рассказ адъютанта
Нам велели не стрелять. Чтоб виднее было,
Я поднялся на лафет. Двести пушек било.
Бесконечные ряды батарей России
Прямо вдаль, как берега, тянулись, морские.
Прибежал их офицер. Меч его искрится.
Он одним крылом полка повел, будто птица.
И потек из-под крыла сомкнутый пехотный
Строй, как медленный поток слякоти болотной,
В частых искорках штыков. Как коршуны, к бою
Стяги черные ведут роты за собою.
Перед ними, как утес, белый, заостренный,
Словно из морских глубин, — встал редут Ордона.
Тут всего орудий шесть. Дымить и сверкать им!
Столько не срывалось с губ криков и проклятий,
Столько ран отчаянья не горело в душах,
Сколько ядер и гранат летело из пушек.
Вот граната ворвалась в средину колонны,
Точно так кипит в воде камень раскаленный.
Взрыв! — и вот взлетает вверх шеренга отряда,
И в колонне — пустота, не хватает ряда.
Бомба — издали летит, угрожает, воет.
Словно перед боем бык — злится, землю роет.
Извиваясь, как змея, мчась между рядами,
Грудью бьет, дыханьем жжет, мясо рвет зубами.
Но сама — невидима, чувствуется — в стуке
Наземь падающих тел, в стонах, в смертной муке.
А когда она прожжет все ряды до края —
Ангел смерти будто здесь проходил, карая!
Где же царь, который в бой полчища направил?
Может, он под выстрелы и себя подставил?
Нет, за сотни верст сидит он в своей порфире —
Самодержец, властелин половины мира.
Сдвинул брови — мчатся вдаль тысячи кибиток;
Подписал — и слезы льют матери убитых;
Глянул — хлещет царский кнут, — что Хива, что Неман!
Царь, ты всемогущ, как бог, и жесток, как демон!
Когда, штык твой увидав, турок еле дышит
{48},
А посольство Франции
{49} стопы твои лижет, —
Лишь Варшава на тебя смотрит непреклонно
И грозит стащить с твоей головы корону —
Ту, в которой Казимир по наследству правил
{50},
Ту, что ты, Василья сын
{51}, украв, окровавил.
Глянет царь — у подданных поджилки трясутся,
В гневе царь — придворные испуганно жмутся.
А полки все сыплются. Вера их и слава —
Царь. Не в духе он: умрем ему на забаву!
С гор Кавказских генерал
{52} с армией отправлен,
Он, как палка палача, верен, прям, исправен.
Вот они — ура! ура! — во рвах появились,
На фашины вот уже грудью навалились.
Вот чернеют на валу, лезут к палисадам,
Еще светится редут под огненным градом —
Красный в черном. Точно так в муравьиной куче
Бьется бабочка, — вокруг муравьи, как тучи;
Ей конец. Так и редут. Смолкнул. Или это
Смолк последней пушки ствол, сорванный с лафета?
Смолк последний бомбардир? Порох кровью залит?..
Все погасло. Русские — загражденья валят.
Ружья где? На них пришлось в этот день работы
Больше, чем на всех смотрах в княжеские годы
{53}.
Ясно, почему молчат. Мне не раз встречалась
Горстка наших, что с толпой москалей сражалась,
Когда «пли» и «заряжай» сутки не смолкало,
Когда горло дым душил, рука отекала,
Когда слышали стрелки команду часами
И уже вели огонь без команды, сами.
Наконец, без памяти, без соображенья,
Словно мельница, солдат делает движенья:
К глазу от ноги — ружье, и к ноге от глаза.
Вот он хочет взять патрон и не ждет отказа,
Но солдатский патронташ пуст. Солдат бледнеет:
Что теперь с пустым ружьем сделать он сумеет?
Руку жжет ему оно. Выходов других нет.
Выпустил ружье, упал. Не добьют — сам стихнет.
Так я думал, а враги лезли по окопам,
Как ползут на свежий труп черви плотным скопом.
Свет померк в моих глазах. Слезы утирая,
Слышал я — мой генерал шепчет мне, взирая
Вдаль в подзорную трубу с моего оплечья
На редут, где близилась роковая встреча.
Наконец он молвил: — Все! — Из-под трубки зоркой
Несколько упало слез. — Друг! — он молвил горько. —
Зорче стекол юный взор, посмотри, там — с краю —
Не Ордон ли? Ведь его знаешь ты? — О, знаю!
Среди пушек он стоял, командуя ими.
Пусть он скрыт — я разыщу спрятанного в дыме.
В дымных клубах видел я, как мелькала часто
Смелая его рука, поднятая властно.
Вот, как молния из туч вырваться стремится,
Ею машет он, грозит, в ней фитиль дымится.
Вот он схвачен, нет, в окон прыгнул, чтоб не сдаться…
Генерал сказал: — Добро! Он живым не дастся!
Вдруг сверкнуло. Тишина… И — раскат стогромый!
Гору вырванной земли поднял взрыв огромный.
Пушки подскочили вверх и, как после залпа,
Откатились. Фитили от толчков внезапных
Не попали по местам. Хлынул дым кипучий
Прямо к нам и окружил нас тяжелой тучей.
Вкруг не видно ничего. Только вспышки взрывов…
Дождь песка опал. Редел дым неторопливо.
На редут я посмотрел: валы, палисады,
Пушки, горсточки солдат и врагов отряды —
Все исчезло, словно сон. Всех похоронила.
Эта груда праха, как братская могила.
Защищавшиеся там с нападавшим вместе
Заключили вечный мир, в первый раз — по чести.
И пускай московский царь мертвым встать прикажет —
Души русские царю наотрез откажут.
Сколько там имен и тел, взрывом погребенных!
Где их души? Знаю лишь, где душа Ордона.
Он — окопный праведник! Подвиг разрушенья
В правом деле свят, как свят подвиг сотворенья!
Бог сказал: «Да будет!", бог скажет и: «Да сгинет!»
Если вера с вольностью этот мир покинет,
Если землю деспотизм и гордыня злая,
Как редут Ордона, всю займут, затопляя,
Победителей казня, их мольбам не внемля, —
Бог, как свой редут Ордон, взорвет свою землю.
23 июня 1832 г.
Exegi munimentum aere perennius… [11]
Из Горация
Перевод С. Кирсанова
{54}
{55}
Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом
{56}.
Переживет он склеп Костюшки
{57}, Пацов дом
{58},
Его ни Виртемберг
{59} не сможет бомбой сбить,
Ни австрияк-подлец немецкой штукой срыть.
Ведь от Поиарских гор
{60} до ближних к Ковно вод
{61},
За берег Припяти слух обо мне идет,
Меня читает Минск и Новогрудок чтит,
Переписать меня вся молодежь спешит
{62}.
В фольварках оценил меня привратниц вкус,
Пока нет лучших книг — в поместьях я ценюсь.
И стражникам назло, сквозь царской кары гром —
В Литву везет еврей моих творений том.
Париж, 12 марта 1833 г.
Стихотворение, навеянное визитом Францишка Гжималы
Над водным простором…
Перевод В. Короленко
Над водным простором широким
Построились скалы рядами,
И их отраженья глубоко
В заливе кристальном застыли…
Над водным простором широким
Промчалися тучи грядами,
И их отраженья глубоко,
Как призраки дымные, плыли…
Над водным простором широким
Огонь в облаках пробегает,
Дрожит в отраженье глубоком
И, тихо блеснув, угасает…
Опять над заливом день знойный,
И воды, как прежде, спокойны.
В душе моей так же печально,
И глубь ее так же кристальна…
И так же я скал избегаю,
И так же огни отражаю…
Тем скалам — остаться здесь вечно,
Тем тучам — лить дождь бесконечно…
И молньям на миг разгораться…
Ладье моей — вечно скитаться.
Лозанна, 1838
Полились мои слезы…
Перевод В. Звягинцевой
Полились мои слезы, лучистые, чистые,
На далекое детство, безгрешное, вешнее,
И на юность мою, неповторную, вздорную,
И на век возмужания — время страдания:
Полились мои слезы, лучистые, чистые…
1839–1840
Гражина
Литовская повесть
Перевод А. Тарковского
{63}
Дул ветер — и холодный и сырой.
В долине — мгла. А месяц плыл высоко,
Средь круговерти черных туч порой
Ущербное показывая око.
Вечерний мир — как сводчатый чертог:
Вращающийся свод его поблек.
И лишь окно чуть брезжит одиноко.
Весь новогрудский замок на крутом
Плече горы луною позолочен.
Поросший дерном вал высок и прочен.
Песок синеет. Тень косым столбом
Уходит в ров, где вздохи влаги сонной
Колеблют бархат плесени зеленой.
Спит Новогрудок. В замке тушат свет.
Лишь стражам, окликающим друг друга,
Ни сна на башнях, ни покоя нет.
Но кто внизу проносится вдоль луга?
Кто при луне закончить путь спешит?
За тенью тень ветвистая бежит,
И топот слышен, — верно, это кони,
И что-то блещет, — верно, это брони.
Слышнее ржанье, громче звон подков…
Три рыцаря торопят скакунов.
Приблизились — и вспыхнул отблеск лунный
Один из них дохнул в рожок латунный.
И троекратно прозвучал рожок.
И рог ему ответил с башни темной,
Зажегся факел, зазвенел замок,
И с лязгом опустился мост подъемный.
На звон подков дозорные спешат,
Чтоб разглядеть мужей и их наряд.
Был первый рыцарь в полном снаряженье,
Что надевает немец для сраженья.
Нагрудный крест на золотом шнуре,
Крест на плаще — на белой ткани четкий,
Рог за спиной, копье в гнезде, и четки
За поясом, и сабля на бедре.
Литовцам эти признаки не внове,
И рыцаря нетрудно им признать,
«Из крестоносной псарни прибыл тать,
Пес, разжиревший от литовской крови!
Когда бы стража не стояла здесь,
В глубоком рву свою он смыл бы спесь.
И голову ему я вбил бы в плечи!» —
Так шепчутся, — и рыцарь изумлен
И возмущен… Хотя и немец он,
А все ж людские разумеет речи!
[12]
«Князь во дворце?» — «Он здесь, но в этот час
Литавор-князь принять не может вас, —
Посольство ваше слишком запоздало;
Быть может, поутру…» — «Не поутру,
А сей же час! Нам ждать нельзя нимало.
Я на себя ответственность беру.
Ступайте, о посольстве доложите
И перстень этот князю покажите, —
Князь по гербу поймет, кто я такой
И почему смутил его покой».
Все тихо. Замок спит. Но что за диво?
Куда как ночь осенняя длинна, —
А в башне князя лампа зажжена
И звездочкой мерцает сиротливой.
Князь длительной поездкой утомлен,
Отягощенным векам нужен сон.
Но спит ли князь? Идут узнать. Он даже
И не ложился. Из дворцовой стражи
Никто ступить на княжеский порог
В столь поздний час осмелиться не мог.
Посол напрасно и грозит и просит, —
II просьбы и угрозы — звук пустой.
«Где Рымвид?» — «Спит». Идут в его покой.
Он волю князя подданным приносит,
Его считает князь вторым собой
И на совете, и на поле брани;
Он может князя видеть в час любой
В опочивальне и в походном стане.
Темно в опочивальне. На столе
Светильник еле теплится во мгле.
Литавор ходит взад-вперед угрюмо
И застывает, омраченный думой.
О немцах Рымвид речь свою ведет.
Краснеет князь, бледнеет и вздыхает,
Хоть внемлет — ничего не отвечает,
А на челе его — печать забот.
Князь поправляет лампу: в ней до масла
Фитиль не доставал; но почему
Он сделал так, что лампа вдруг погасла, —
Нарочно иль невольно — не пойму…
Спокойствия, тревожась чрезвычайно,
Лицу придать не мог он своему,
Хоть и желал, чтоб сокровенной тайной
Слуга его не завладел случайно…
Молчит Литавор и вперед-назад
Под окнами решетчатыми ходит;
Луна свой луч на смуглый лик наводит.
Черты суровы. Рот угрюмый сжат,
Нахмурен лоб, и ярко блещут очи,
Как молнии среди глубокой ночи,
И взор суров. Уходит в угол князь,
Дверь запереть велит оборотясь.
Волнение он сдерживает снова
И говорит, спокойным притворясь,
Глумливым смехом приправляя слово:
«Ты в Вилъне был и знаешь, Рымвид мой,
Что милостивый Витольд не в обиде
На своего слугу и князем в Лиде
Меня готов поставить. За женой
Я земли взял. И мне мои владенья
Дарует Витольд в знак благоволенья!» —
«Все правда, князь!» — «Так выступим же в путь,
Как подобает князю, за дарами.
Вели мои знамена развернуть!
Вели мой замок озарить огнями!
Где трубачи? Они спешить должны
На рынок новогрудский о полночи
И там на все четыре стороны
Трубить без передышки, что есть мочи, —
И труб да не опустят трубачи,
Пока всех рыцарей не перебудят.
Пускай наточат копья и мечи!
Пусть каждый рыцарь в бронь закован будет!
Взять корму для людей и лошадей,
А женам снедь готовить для мужей,
Чтобы с утра до вечера хватило!
Пасутся кони — в город привести,
Седлать их и готовиться к пути.
Когда, блеснув над Мендога могилой,
За Щорсами зажжется факел дня,
Пускай, подняв мой стяг ширококрылый,
На Лидском тракте войско ждет меня!»
И князь умолк. Советника седого
Смутил обычный боевой приказ;
Зачем он был в полночный отдан час
И почему взор князя так сурово
Сверкал, когда за словом резким слово
Вперегонки бежало, как в бреду?
Казалось — высказана половина,
В груди другая смята, словно глина,
Со смыслом речи голос не в ладу, —
Все предвещает бурю и беду.
Желал Литавор, чтоб с его приказом
Советник удалился; все же тот
Как будто бы еще чего-то ждет.
Увиденное искушенным глазом
С услышанным сопоставляет разум
И легких слов тяжелый чует гнет.
Что предпринять? Он знает: уговорам
Не часто князь внимает молодой,
Пустым не любит предаваться спорам,
В душе скрывает замысел любой;
Встает преграда — все ему едино,
Он только разгорается сильней…
Но Рымвид — и советчик господина,
И рыцарь, верный родине своей, —
Погряз бы в несмываемом позоре,
Когда б народа не сберег от бед.
Сказать? Молчать? Колеблется… Но вскоре
Он сообщает князю свой совет:
«Куда мой государь ни устремится,
Нам хватит и людей и лошадей.
Едва укажет путь твоя десница,
Все ринутся за славою твоей, —
Да и меня помчит мой конь горячий…
Но относись, мой государь, иначе
К толпе простой — орудью рук твоих —
И тем мужам, что большего достойны.
От всех таясь, и твой отец покойный
Прял часто нить деяний боевых;
Но, прежде чем мечи сзывать на дело,
Звал на совет мудрейших старый князь,
Где слово мог и я промолвить смело,
Своим свободным мнением делясь.
Прости, когда сейчас, в ночное время,
Устам замолкнуть сердце не велит.
Я долго жил. Мне на седое темя
Времен и дел легло большое бремя.
Но все теперь приемлет новый вид,
И сердце постаревшее томит…
Коль впрямь идешь на Лидские владенья,
Тебе принадлежащие, в поход,
Такой поход, подобный нападенью,
Всех подданных от князя оттолкнет.
Смутится старый подданный, а новый
Изведает лишенья и оковы.
Весть, как зерно, на землю упадет,
Молва ее взлелеет и умножит,
Потом родится ядовитый плод,
Отравит мир и славу изничтожит,
И скажут: алчность жадная твоя
Тебя в чужие завлекла края.
Не так пути прокладывали к славе
Князья Литвы в былые времена:
Закон и мир несли своей державе, —
И тех князей мы помним имена.
Верна дорога старая. Коль скоро
Пойдешьпо ней, то я — твоя опора.
Я рыцарям благую весть подам —
И тем, что близко в городе остались
И что по сельским разбрелись грядам, —
Чтобы немедля в замок собирались.
Твоя родня и знатные мужи,
Великолепья и охраны ради,
Со свитой будут у тебя в отряде;
А мы хоть завтра, только прикажи,
Иль послезавтра, при любой погоде,
Пойдем вперед с прислугой и жрецом,
Потребное для пиршеств припасем
И заготовим, как велит обычай,
Побольше меду и побольше дичи.
Не только что простой народ, а знать
От лакомства — и та не отвернется
И служит преданно, коль доведется
Руки господской щедрость увидать.
Таков обычай на Литве и Жмуди,
Как старые рассказывают люди».
Стал у окна и молвил погодя:
«Уж как бы ветер не нагнал дождя!
Вон чей-то конь у башни. Дремлет, стоя.
Там рыцарь, на седло облокотясь.
А там коней прогуливают двое…
Я узнаю послов немецких, князь!
Впустить послов? Иль ждут пускай, доколе
Ты княжеской не сообщишь им воли?»
Спросив, окошко затворил на крюк,
На господина поглядел украдкой;
Он о тевтонах речь завел не вдруг;
Приезд послов был для него загадкой.
Князь торопливо говорит в ответ:
«Когда в чужом нуждаюсь я совете,
Себе не веря, для меня на свете
Один советчик — ты, другого нет.
Ты истинно доверия достоин,
В совете — старец, в поле — юный воин.
Я не люблю, чтоб видел чуждый глаз
То, что в тиши взрастил я одиноко.
Мысль, что во мраке сердца родилась,
Нельзя на солнце выставлять до срока.
Пусть, воплотясь, она, как вешний гром,
Убьет сначала, а сверкнет — потом!
Спроси: когда? Спроси: куда? Не скрою:
Сегодня-завтра — через Жмудь, на Русь!» —
«Не может быть!» — «Так быть должно, клянусь!
Я сердце открываю пред тобою.
Я потому велел седлать коней
И выйти с войском Витольду навстречу,
Что ищет он погибели моей,
Готовит мне губительную сечу.
Меня он хочет в Лиду заманить,
Чтоб заточить в темницу иль убить!
Но предложили мне союз тевтоны,
Они отряд мне посылают конный,
А я магистру Ордена за труд
Пообещал добычи нашей долю.
Ты видишь сам — послы у замка ждут:
Спешит магистр мою исполнить волю.
Еще Седьмые Звезды не зайдут,
Мы выступим, и в общий строй с Литвою
Три тысячи тевтонов на конях
Войдут, а с ними кнехтов пеших вдвое.
Когда я у магистра был в гостях,
Я сам назвал количество такое.
Бронь боевая тяжко облегла
Их мощные, огромные тела.
Копейщики, что скалы, рядом с нами.
А уж когда начнут рубить мечами…
А каждый кнехт — с железною змеей!
Накормит он змею свинцом и сажей,
И пасть ее направит к силе вражьей,
И хвост уколет искрой огневой, —
Убьет иль ранит, кнехтом наведенный,
Железный гад!.. Так древле в миг один
Повержен был мой прадед Гедимин
{64}На достославных насыпях Велоны
{65}.
Готово все. Мы потайным путем
Приблизимся, покуда Витольд в Лиде
Еще не приготовился к обиде…
Ворвемся, перережем, подожжем!»
В смятенье Рымвид. Недоумевая,
Стоит, нежданной вестью поражен.
От близких бурь спасенья ищет он.
В бегущей мысли тонет мысль другая.
Но ждать нельзя. Печалясь и гневясь,
Он говорит Литавору: «Мой князь!
Ужель на брата брат пойдет? О, горе!
Зачем я дожил до такой поры!
Вчера на немцев шли мы в топоры,
Днесь топоры мы точим им в подспорье!
Ужасна рознь, но хуже мир такой.
Огонь скорее примиришь с водой!..
Случается, что со своим соседом
Сосед враждует много лет подряд, —
Вдруг, словно им старинный гнев неведом,
Обнимутся, друг другу молвив: «Брат!»
Бывает, что и злейшие соседи,
Закон вражды приявшие в наследье, —
Литвин и лях, — из чаши общей пьют,
Проводят время в дружеской беседе,
Ночуют рядом, делят ратный труд.
В былой вражде сыны Литвы и Польши
Нередко доходили до войны;
Но человек и гад ползучий — больше
Друг против друга ожесточены.
А если уж вползает к нам в жилище,
Ему во славу божию литвин
Отвека не отказывает в пище:
Пьют молоко, и ковш у них один.
И, зла не причиняя, в колыбели
Гад на груди младенца мирно спит,
Свернувшись в бронзовое ожерелье.
Но кто тевтонских гадов укротит
Гостеприимством, просьбами, дарами?
Мазовии и Пруссии царями
{66}Добра немало брошено им в пасть,
А гады часа ждут, чтобы напасть,
И пасти их зияют перед нами!
Единство сил — вот верный наш оплот!
Напрасно мы влечемся что ни год,
Чтоб срыть одну из крепостей тевтона.
Похож проклятый Орден на дракона:
С плеч голова — другая отрастет.
Другая с плеч, — а как нам быть с десятой?
Все сразу ссечь! Его мирить с Литвой —
Напрасный труд. У нас простой оратай, —
Не то что князь, — твой подданный любой
Возненавидел злобный и лукавый
Нрав крестоносца. Крымскую чуму —
И ту литвины предпочтут ему;
Им легче лечь костьми в борьбе кровавой,
Чем увидать врага в своем дому,
И лучше руку на огне держать им,
Чем обменяться с ним рукопожатьем.
Грозит нам Витольд?.. Разве до сих пор
Без немцев мы не выходили в поле?
Разросся впрямь раздор, — но до того ли,
Что куколя семейных наших ссор
Не вырвут руки дружеской приязни,
Меч сохранив для справедливой казни?
Откуда, князь, уверенность, что слова
Не сдержит Витольд и откажет снова
И договор нарушит? Почему
Изменит он? Отправь меня к нему, —
Возобновим союз…» — «Нет, Рымвид, хватит!
Что договоры Витольду? Игра!
Попутный ветер нес его вчера,
Сегодня новый на него накатит.
Вчера еще я верить мог ему,
Что Лиду я в приданое возьму.
Сегодня замышляет он другое,
В удобный час пускаясь на обман:
Мои войска далёко, на покое, —
А он под Вильной свой раскинул стан
И заявляет, будто бы лидяне
Мне подчиниться не хотят, и он,
Князь Лиды, в исполненье обещаний,
Иной удел мне выдать принужден.
Пустую Русь, варяжские болота!..
Вот где мне быть! Он, верно, оттого-то
Родных и братьев гонит в край чужой,
Что всей намерен завладеть Литвой.
Вон как решил! Хоть разные дороги,
Да цель зато у Витольда одна:
Была бы спесь его вознесена,
А равные — повержены под ноги!
Иль не довольно Витольд на коне
Держал Литву? Навеки ль, в самом деле,
Кольчуги наши приросли к спине,
Ко лбу заклепки шлема прикипели?
Грабеж да битва, битва да грабеж, —
Весь мир прошел, а все еще идешь:
То немцев гнать; то через Татры
{67} дале,
На села Польши; то в глухих степях,
За ветром, уплывающим в печали,
Монголов бить, взметая жгучий прах…
И все, что мы в походах добывали,
Чего живая сабля не ссечет,
Не сгложет голод, пламя не дожжет, —
Все Витольду! На этих исполинских
Усильях наших мощь его растет;
Все города он взял себе — от финских
Заливов бурных до хозарских вод.
Ты видел, каковы его чертоги!
Я был в тевтонских крепостях. В тревоге
Глядят на них, бледнея, храбрецы.
Но трокский или вильненский дворцы
Еще величественней их. Под Ковно
Широкий дол открылся предо мной:
На нем русалки раннею весной
Цветы и травы расстелили ровно, —
Нет благодатней места под луной!
Но — веришь ли? — у Витольда в палатах
Узорчатые травы и цветы
Куда свежее на коврах богатых,
На тканях несравненной красоты!
То серебро, то золото… Богини
Таких цветов создать бы не могли,
Но выткали их ляшские рабыни.
Стекло для окон замка привезли
Откуда-то из дальних стран земли:
Блестит, как польская броня иль Неман,
Когда еще под ранним солнцем нем он
И с берегов уже снега сошли.
А я — что взял за ратный труд? С пеленок
Что принял я? Кольчугу да шелом.
Природный князь, как нищий татарчонок,
Я был вскормлен кобыльим молоком.
Весь день в седле. В ночи лошажья грива
Подушкой мне: прижался к ней — и стой
До утреннего трубного призыва…
В те времена, когда ровесник мой
Верхом на палке, с саблей деревянной,
Решив потешить мать или сестру
Сражения картиною обманной,
Устраивал невинную игру,
Не в шутку я с татарами сражался,
И с польской саблей мой клинок скрещался.
За Эрдвилом
{68} сменялся князем князь,
А вотчина моя не разрослась.
Ты погляди на мой дворец кирпичный,
На частокол дубовый погляди,
Моих отцов обитель обойди:
Где свод стеклянный? Где металл добычный?
Покрыты стены мшистой скорлупой,
А не бесценной тканью золотой.
Я шел сквозь дым из боя в бой кровавый
Не за богатством, а за бранной славой.
Но Витольд всех и славою затмил:
Он — словно солнце средь других светил,
Его поет, как Мендога второго,
За пиршественной чашей вайделот,
Его дела до внуков донесет
Гул вещих струн и несенное слово.
А кто, скажи мне, наши имена
В грядущие припомнит времена?
Я не завистлив. Пусть ведет, с кем хочет,
Победный бой — и славен и богат,
Но пусть зубов на княжества не точит,
Что не ему, а нам принадлежат.
Давно ль потряс — в дни мира и покоя —
Литовскую столицу произвол
И Витольд беспощадною рукою
С престола прочь Ольгердовича смел?
О властолюбец! Как во время оно
Гонец Крывейта, так его гонец
Князей возводит и низводит с трона.
Но мы положим этому конец.
На спинах наших ездил он довольно!
Пока горит в моей груди огонь,
Пока руке железо подневольно,
Пока быстрее кречета мой конь,
Что был добычей крымскою моею
(Такого же я дал тебе коня,
Другие десять в стойлах у меня:
Для верных слуг я их не пожалею),
Пока мой конь… Пока я полон сил…»
Тут горло князю гнев перехватил,
Меч зазвенел. Собою не владея,
Князь вздрогнул и поднялся. И тогда —
Какое пламя пронеслось над князем?
Так, покидая небосвод, звезда
Летит стремглав, роняя искры наземь…
Князь обнажил тяжелый свой клинок
И в пол ударил, и под своды зданья
Снопом взлетело пламя из-под ног.
И окружило снова их молчанье.
Вновь князь заговорил: «Довольно слов!
Пожалуй, ночь достигла половины,
Сейчас вторых услышим петухов.
Отдай приказ вождям моей дружины.
Я лягу. Телу надобен покой,
И сна возжаждал дух смятенный мой:
Три дня, три ночи я не спал в дороге.
Взгляни, как блещет месяц полнорогий, —
День будет ясен. Кейстута сынам
Достанутся не пышные чертоги,
А только щебень с пеплом пополам!»
В ладони хлопнул князь. Вбежали слуги,
Ему раздеться помогли. Он лег
На ложе при советнике и друге,
Чтобы скорей тот вышел за порог,
И Рымвид подчинился поневоле
И, господину не переча боле,
Ушел. По долгу верного слуги,
Веленье князя передал дружине,
И в замок вновь направил он шаги.
Ужель вторично он посмеет ныне
Литавора тревожить? Нет, идет
К другому, левому крылу твердыни,
Уж позади подъемный мост. И вот
Он в галерее, у дверей княгини.
Тогда за князем замужем была
Дочь величавой Лиды властелина,
И первою на Немане слыла
Красавицей прекрасная Гражина
{69}.
Она уже пережила рассвет,
Она вступила в полдень женских лет,
Зато владела прелестью двойною —
И зрелой и девичьей красотою.
Казалось — видишь летом вешний цвет,
Что молодым румянцем розовеет,
А в то же время — плод под солнцем зреет…
Кто краше, чем Литавора жена?
Кто стройностью с княгинею сравнится?
Гражина тем еще могла гордиться,
Что ростом князь не выше, чем она.
Когда, как лес, прислужники со свитой
Вокруг четы толпятся именитой,
Князь молодой с красавицей женой —
Как тополя над чащею лесной.
Не только стан красавицы княгини,
Но и душа была под стать мужчине.
Забыв о пяльцах и веретене,
Она не раз, летя быстрее бури
Верхом на жмудском боевом коне,
Охотилась — в медвежьей жесткой шкуре
И рысьей шапке — с мужем наравне.
Порой, со свитой возвратясь, Гражина
Обманывала глаз простолюдина,
Литавору подобная вполне;
Тогда не князю, а его супруге
Почет смиренно воздавали слуги.
Среди трудов совместных и забав,
Усладой — в горе, в счастье — другом став,
Княгиня, с мужем разделяя ложе,
С ним разделяла бремя власти тоже.
И суд, и договоры, и война,
Хоть не было другим известно это,
И от ее зависели совета.
Была мудрей и сдержанней она
Хвастливых жен, главенствующих дома,
Самодовольство не было знакомо
Супруге князя. Удавалось ей
Хранить от постороннего вниманья,
От самых проницательных людей
Живую силу своего влиянья.
Но Рымвиду известно было, где
Искать ему поддержку надо ныне.
Все, что узнал, поведал он княгине,
Сказал, что скоро быть большой беде,
Что князь не может избежать позора,
Ведя народ дорогою раздора.
Словами Рымвида потрясена,
С собой сумела совладать она.
Волненья своего не выдавая,
Промолвила княгиня молодая:
«Не думаю, чтоб женские слова
Влияние на князя возымели.
Он сам себе советчик и глава
И замысел осуществит на деле.
Но если это временный порыв,
То гнев пройдет, грозы не возбудив.
Ведь молод князь: порой свое стремленье
Он ставит выше разума и сил;
Пусть время и благое размышленье
Утишат мысли и остудят пыл,
Забвенья тьма его слова покроет…
А нам пока тревожиться не стоит».
«Прости, княгиня! Слышал я слова
Не те, что в час беседы откровенной
Мы забываем, высказав едва;
Мне выдал князь не замысел надменный,
Которым только миг душа жива;
Я наблюдал пожар души смятенной,
Я чуял гнева крепнущий порыв
И жар, который предвещает взрыв!
Уже немало лет при господине
Я неотлучно состою слугой,
Но я не помню, чтобы князь доныне
Так откровенно говорил со мной.
На Лидском тракте он велел дружине
Собраться перед утренней звездой.
Спеши! Не жди до рокового срока,
Ведь ночь светла и Лида недалеко».
«Какую весть приносишь, старый друг!
По всей Литве молва промчится вскоре,
Что брата взял за горло мой супруг,
Чтоб отстоять приданое! О, горе!
Как вынуть мне у мужа меч из рук?
Пойду скажу, что счастья нет в раздоре…
Покуда солнце высушит росу,
Ответ благоприятный принесу!»
Хоть цель пред ними общая стояла,
Они простились, кончив разговор.
Не медля в горнице своей нимало,
Княгиня вышла в тайный коридор,
Советнику терпенья не хватало
Спокойно ждать, чем разрешится спор, —
И вот он по наружной галерее
К покоям князя поспешил скорее.
Он смотрит в щелку. Вдруг, приотворясь,
Дверь заскрипела в боковом приделе
Опочивальни. «Кто здесь?» — крикнул князь.
«Я», — женский голос отвечал. С постели
Литавор встал. Хоть слов отдельных связь
Порой терялась и слова слабели,
Поглощены камнями стен сырых,
Но Рымвид понял содержанье их.
Княгинин голос чаще раздавался.
Ее, сперва взволнованная, речь
К концу беседы тише стала течь,
А князь молчал и, мнилось, улыбался.
Он встал (поднять иль оттолкнуть жену?),
Когда она упала на колени,
И что-то через несколько мгновений
Промолвил с жаром. Больше тишину
Ничто не нарушало. Отворилась
Неслышно дверь. За ней княгиня скрылась,
И — снизошел ли князь к ее мольбе,
Она ль решила прекратить моленья —
Княгиня удаляется к себе.
Ложится князь. Пройдет еще мгновенье,
Пред ним предстанут сонные виденья.
Советник, выйдя, увидал пажа:
Тот немцам что-то говорил с балкона;
И Рымвид замер, слух насторожа.
Хоть ветер, гнавший тучи с небосклона,
Ему ни слова разобрать не дал,
Значенье речи Рымвид разгадал:
Паж на ворота указал рукою.
Тевтон, взбешенный дерзостью такою,
В седло вскочил, крича: «Святым крестом
Клянусь тебе — сим знаком командора, —
Когда бы только не был я послом,
Я б не стерпел подобного позора
И пролила бы кровь моя рука!
Властители с почетом не меня ли
У кесарских и папских врат встречали!
А здесь, в Литве, у твоего князька
Я под открытым небом жду ответа,
И паж велит мне убираться прочь!
Ни в чем языческая хитрость эта
Не может вам, отступники, помочь.
Вы с Витольдом договорились вместе
Оружье против нас оборотить,
Но Витольду секиры нашей мести
От ваших тощих шей не отвратить!
Так и скажи. Князь не поверит, — снова
Все повторю сначала слово в слово,
Не изменив ни буквы, потому
Что рыцарская клятва как молитва
И мой клинок, чуть разразится битва,
То, что сказал я, подтвердит ему.
Для нас вы яму роете, но сами
Окажетесь еще сегодня в яме!
Я — Дитрих фон Книпроде, командор —
Поклялся так. Эй, кнехты, марш за мною!»
И взвился конь. Пустеет княжий двор.
Три всадника летят во весь опор
Через пустое поле под луною.
Порой заблещут брони седоков,
Порой услышишь звяканье подков,
Коней раздастся ржание порою…
И в лунной мгле, среди глухих лесов,
Скрываются за дальнею горою.
«Спеши, посол! Чтоб этих гордых стен
Тебе до гроба не увидеть боле! —
С улыбкой Рымвид вглядывался в поле: —
За ночь одну — как много перемен!
Как благотворно женское влиянье!
Нет, не дается смертному познанье
Чужого сердца! Гневен и суров,
Князь не давал мне вымолвить двух слов,
У птицы взял бы крылья для полета,
Чтоб ринуться на Витольда, — но вот
Одна улыбка, нежной речи мед —
И вмиг прошла к сражениям охота.
Забыл, старик — остывшая душа,
Что молод князь, княгиня хороша».
В раздумье Рымвид подымает очи:
Ужель в окне лампада не зажглась?
Но не желтеет огонек средь ночи…
И — снова на крыльцо: быть может, князь
Уже зовет? Ни звука. Часового
Он спрашивает, не было ли зова.
К дверям подходит — слышит, как во сне
Князь мерно дышит в полной тишине.
«Все, все смешалось ныне. Что за диво!
Я, право, ничего не разберу…
Вчера во власти гневного порыва
Велел мне князь войска собрать к утру —
И спит еще, хоть близок час рассвета.
Он сам призвал врагов страны своей…
И вдруг приказ уехать без ответа
Послам принес паж госпожи моей!
Хотя не мог расслышать я ни слова,
Но ясен был мне княжеский ответ —
Он говорил так резко и сурово…
Ужель она, не глядя на запрет,
Могла решиться на такое дело,
Лишь на свою надеясь красоту?
Но как бы ей, летящей слишком смело,
Не изменили крылья на лету!
Она была решительна и ране,
Но это — выше всяких ожиданий…»
Закончить мысли Рымвид не успел:
По лестнице прислужница сбегает
И с нею в левый замковый придел
Идти ему тихонько предлагает.
Княгиня вводит Рымвида в покой
И двери затворяет за собой.
«Советник добрый, дело наше худо,
Но прочь гони отчаяния тень!
Ушла надежда в эту ночь отсюда,
Ее вернет, быть может, новый день,
Терпение! Не выдадим ни словом
Своих тревог солдатам и дворовым,
Послов отправим с честью, чтобы князь,
Еще пылая местью и гневясь,
Не поспешил до времени с ответом:
Он будет сам раскаиваться в этом.
Не бойся! что бы ни произошло,
Не будет князю твоему во зло.
Он соберет войска в любое время,
Коль гнев его дотоле не пройдет.
Но — чтоб немедля вставить ногу в стремя
И столь поспешно двинуться в поход?..
Как? Даже дня он здесь не проведет!
Вчера Литавор снял кольчуги бремя,
Ужель ему сегодня в бой идти,
Не отдохнув от долгого пути?»
«Что слышу я, княгиня! Промедленья
Не может быть. Увы, ошиблась ты!
Кто за собой решился сжечь мосты,
Не станет ждать ни часа, ни мгновенья.
Но как твои советы принял князь?
Ты высказалась, — что же было дале?»
Она уже ответить собралась,
Но говорить Гражине помешали.
Шум во дворе: примчался верховой.
Едва дыша, вбегает паж в покой
С известьем от литовского дозора:
«На Лидском тракте взяли языка;
Тот показал, что подняты войска
Тевтонские по воле командора.
Уже из леса, как язык донес,
За ратью конной двинулась пехота,
А за пехотой тянется обоз.
Идут они, чтоб город взять с налета.
Скорей, скорей! Пока не грянул гром,
Пусть Рымвид сговорится с государем!
На стенах оборону мы займем
Иль в чистом поле на врага ударим?
Дозорный говорит, что время есть
Удар внезапный коннице нанесть.
Покуда кнехтов пешие отряды
Еще влекут орудья для осады
{70},
Мы конных уничтожим на пути,
Не дав им к Новогрудку подойти,
Потопчем пеших быстрыми конями —
И крестоносцы в прах падут пред нами!»
Княгиня удивляется. Она
Сильнее Рымвида потрясена.
«А где ж посол?» — Гражина восклицает.
Паж удивленно брови подымает,
В упор княгиня смотрит на пажа.
Тот говорит: «Что слышу, госпожа!
Иль ты не помнишь слов своих? Не мне ли,
Когда вторые петухи пропели,
Ты княжескую волю принесла,
Чтоб до зари спровадил я посла?
И твой приказ я выполнил на деле».
Она, бледнея, отвращает лик,
Не в силах скрыть невольное смущенье,
И речи ей — лишенные значенья,
Бессвязные — приходят на язык:
«Да, я забыла… Я припоминаю…
Иду… Как быть? Постойте! Нет, я знаю!»
Потуплен взор, склоняется чело,
Задумалась, не говорит ни слова;
Ее черты какой-то мыслью новой
Взволнованы. Мелькнуло и ушло
Сомнение. И лик ее светло
Созревшее решенье озарило.
Тогда, шагнув, она заговорила:
«Пойду — и мужа разбужу опять.
Пускай у замка строится дружина.
Паж, торопись! Вели коня седлать,
Доспехи принеси для господина.
Должно быть все готово сей же час.
Ты, Рымвид, отвечаешь мне за это, —
Я волей князя отдаю приказ.
О целях и намереньях — до света
Не спрашивать! Ждать во дворе, пока
Не выйдет князь, чтобы вести войска!»
Ушла, захлопнув двери за собою,
И Рымвид размышляет на ходу:
«Уже давно колонной боевою
Войска стоят. А я куда иду?»
Вот он шаги замедлил понемногу,
Вот он стоит с потупленным лицом
И думает, не зная сам о чем,
Уже не в силах одолеть тревогу;
Разрозненных и беспокойных дум
Собрать не может истомленный ум.
«Жду, а меж тем уйдут ночные тени,
Разгадку тайны принесет рассвет.
Проснулся государь мой или нет —
Пойду к нему!» Советник входит в сени.
Чуть слышно дверь скрипит, приотворясь,
Выходит из опочивальни князь.
С плеч ниспадает, пурпуром пылая,
Обычная одежда боевая —
Широкий плащ, а лик забралом скрыт,
Грудь облегает тяжело и туго
Блестящая железная кольчуга;
В деснице — пояс, в левой — малый щит.
Забота ли его душой владела,
Но князь нетвердым шагом шел, и знать,
Что вкруг него, как пчелы, зашумела,
Не пожелал он взглядом обласкать;
Из рук пажа он взял свой лук несмело,
Меч справа прикрепил, но указать
Никто не смел на это, хоть едва ли
Не все оплошность князя увидали.
Предвозвещая бой, дружине люб,
Стяг золотой уже струит сиянье.
Князь на коне. Подъяты жерла труб,
Но опустить их, против ожиданья,
Он знак дает, не размыкая губ.
И, не нарушив странного молчанья,
Дружину князь выводит из ворот
И в поле через мост ее ведет.
Но не по тракту воины погнали
Своих коней, а вниз — направо. Дале —
Среди холмов и зарослей. Потом
Пересекли пустынную дорогу
И расширяющимся понемногу
Идут оврага темным рукавом.
От замка на таком же расстоянье,
Как слышен гром немецкого ружья,
Течет лесная речка без названья,
В теснине извиваясь, как змея;
И в зеркале озерном цель скитанья
Находит беспокойная струя:
К воде сбегают вековые чащи
С большой горы, над озером стоящей.
Примчась туда, литовцы на горе
Тевтонские отряды увидали.
Сверкнули шлемы в лунном серебре,
И по сигналу звякнули пищали.
Сомкнулась рота — и за рядом ряд
Сплошной стеною рейтеры стоят.
Не так же ли на Понара вершине
В лучах луны великолепен бор,
Когда зеленый облетит убор
И росный бисер превратится в иней,
Мерцающий, как жемчуг светло-синий,
И смотрит путник, сердце веселя,
На дивные дворцы из хрусталя?
Во гневе меч подняв над головою,
Помчался князь на немцев. Позади
Нестройною рассыпалась толпою
Дружина. Удивляются вожди,
Что князь войска не приготовил к бою,
Что не известно, будет он среди
Стрелков иль латников, каким отрядам
На флангах быть, каким сражаться рядом.
Но Рымвид, князю и слуга и друг,
Летит и строит по пути дружину,
Растянутый сжимает полукруг:
«Стрелки — на фланги! Латники — в средину!»
Обычный строй! Сигнал — и в сотнях рук
Запели струны луков и лавину
Свистящих стрел отправили в полет.
«Исус, Мария! На врага! Вперед!»
Ударит через несколько мгновений
В железо лат тяжелых копий лес…
Зачем, о ночь побед и поражений,
Твой грозный блеск во тьме времен исчез?
Сошлись! Хрустит броня. Мятутся тени.
Ударов лязг доходит до небес.
Гудят клинки. С плеч головы слетают.
Меч пощадит — подковы попирают.
Литавор не страшится ничего.
Он впереди, как и в начале боя.
Враги узнали красный плащ его
И герб на шлеме. С целою толпою
Он рубится. Враги бегут, и он
Летит за ними, битвой увлечен.
Какой же бог Литавора карает,
И почему ослаб его клинок,
Что по броне со звоном ударяет,
Но никого свалить не может с ног?
С оружьем, видно, не в ладу десница:
Удар то мимо, то плашмя ложится.
Слабеет князь. Тевтоны, осмелев,
К нему внезапно лица обращают,
И грозным лесом копий окружают,
И на него обрушивают гнев, —
А он, смутясь, глядит на лес железный
И опускает меч свой бесполезный.
Спасенья нет! Уже со всех сторон
Сверкают копья, пули свищут рядом.
Но вот — литовских конников отрядом
Литавор окружен и защищен;
Одни — его щитами прикрывают,
Другие — путь мечами пролагают.
Уже розоволосая заря
На облаке летит по небосклону,
А битва все бушует, не даря
Удачи ни литвину, ни тевтону.
И бог победы равномерно льет
Потоки крови в чаши весовые,
А все ж весы недвижны роковые…
Так старец Неман, князь литовских вод,
Румшишского встречая великана,
То стан врага рукою обовьет,
То взроет дно, сражаясь неустанно.
Скала ему дороги не дает,
Войдя в песок до половины стана,
И продолжает Неман голубой,
Не отступая, вековечный бой.
У немцев, неудачей раздраженных,
Еще один, резервный был отряд.
Сам фон Книпроде возглавляет конных,
Литовцев силы новые теснят.
В рядах бойцов, сраженьем утомленных,
Царит смятенье. Строй литовский смят.
Но клич неведомого исполина
Услышала литовская дружина.
Все взоры на него устремлены:
Муж на коне — как ель на круче горной.
Как ветви долу клонятся, темны, —
Так ниспадает плащ его просторный…
И плащ его и шлем его — черны.
И конь под ним горе подобен черной.
Клич прогремел, как троекратный гром.
Кому ж своим послужит он мечом?
И черный рыцарь за тевтоном мчится;
Доносятся до слуха с тех сторон,
Где щедро сеет смерть его десница,
То звон железа, то протяжный стон.
Там — стяг упал, а здесь — шишак рогатый.
Уже враги бегут, страшась расплаты.
Проникший в лес могучий лесоруб
В широкошумной зелени потонет,
Но упадет с протяжным гулом дуб,
Ствол за стволом под топором застонет,
И человек средь поредевших куп
Появится и в пень топор свой вгонит…
Так пролагал дорогу под горой,
Круша врагов, неведомый герой.
К победе, рыцарь, оживи стремленье:
Грозит литовским воинам позор!
В сердца мужей вдохни ожесточенье!
Тяжелых копий и мечей забор
Разрушен в прах. Пылая жаждой мщенья,
По полю брани рыщет командор.
Навстречу — князь, меча не опуская…
Сейчас начнется схватка роковая.
Литавор нападает, разъярясь,
Но командор стреляет из пищали.
О, горе, горе! Меч роняет князь.
Взглянув на них, литовцы задрожали,
На помощь князю не пришли, смутясь,
И повода персты не удержали.
В тяжелом шлеме голову клоня,
Литавор наземь падает с коня.
Безвестный рыцарь застонал и тучей
На командора яростно летит.
Свистит клинок, трещит немецкий щит…
Недолгий бой! Один удар могучий —
И командор во прахе под конем,
И черный конь дробит броню на нем!
Вот победитель свиту и прислугу
Расталкивает, и глядят они,
Как тот окровавленную кольчугу
Снимает с князя, разорвав ремни.
В себя приходит раненый. Туманный
Блуждает взор. Струится кровь из раны.
И вот рука, холодная как лед,
Надвинув снова на лицо забрало,
Слуг отстранив и гневно и устало,
Немея, руку Рымвидову жмет.
И слышит Рымвид: «От людского взора
В груди, старик, до гроба тайну скрой.
Везите в замок! Час настал. Я скоро
Навек расстанусь со своей душой!»
И Рымвид смотрит, недоумевая,
Озноб его охватывает вдруг:
От слез влажна, десница ледяная
Выскальзывает из дрожащих рук…
Не в силах Рымвид вымолвить ни слова —
То не был голос князя молодого!
Поводья черный рыцарь старику
Вручает, князя обхватив рукою.
По сторонам не глядя на скаку,
К дороге мчится с ношей дорогою;
Из-под ладони кровь бежит ручьем…
На двух конях они летят втроем.
И горожане путь им преградили,
У городских ворот встречая их,
Но всадники, взметая вихри пыли,
Помчались к замку на конях лихих.
Подъемный мост за ними опустили,
И рыцарь повеление дает —
Ни перед кем не отворять ворот.
С победой возвращаются отряды.
Но воины в столицу на мечах
Не принесли на этот раз отрады:
На лицах скорбь, сердца стесняет страх.
В тревоге спрашивает горожанин:
Что с князем? Жив ли? Тяжело ли ранен?
Мост подняли, задвинули засов.
Нельзя проникнуть в замок. С топорами
И пилами бойцы сбегают в ров:
И лиственницы падают рядами,
И слышен треск подрубленных стволов…
Привозят бревна и щепу возами
И тащат в город хворост на плечах, —
И встречными овладевает страх.
У храма бога, свищущего в тучах,
И гневного владыки гроз гремучих,
Где точит кровь коней или волов
На зорях жрец коленопреклоненный,
Горою встал костер, нагроможденный
Превыше набежавших облаков.
В средине дуб, к нему прикован пленный,
Тройную должен искупить вину.
Магистра дерзкого посол надменный,
Тевтонский вождь, затеявший войну,
Убийца князя, чтимого в народе, —
Да сгинет трижды Дитрих фон Книпроде!
У мещанина, рыцаря, жреца
Одни надежды и одни страданья:
Одной и той же мукой ожиданья
Томятся их тревожные сердца.
Не ослабляя ни на миг вниманья,
Ждут горожане вести из дворца.
Мост опустился, и труба запела,
И похоронный двинулся кортеж:
Несут, несут безжизненное тело,
День почернел от траурных одежд,
Лишь ткань покрова пурпуром горела
И меч блестел. Но неподвижных вежд
Рыдавшая толпа не увидала:
Лицо скрывало плотное забрало.
Смотрите, вот глава народа! Где,
В каком краю найдется мощь такая?
С кем вам, литовцы, заседать в суде,
Тевтонов гнать и воевать Ногая
{71}?
Обычаев твоя родня в беде
Не помнит, стариной пренебрегая:
Не так в последний путь, о государь,
Князей Литвы мы провожали встарь!
Что ж не ступает твердою стопою
Оруженосец верный твой в огонь
И на костер не всходит за тобою
С пустым седлом олененогий конь?
Где псы, что ветер встречный рассекали?.
Где сокол твой таится в час печали?
Уж тело на костре. Льют молоко.
Медовые выдавливают соты.
Слышны труба и флейта далеко.
Поют во славу князя вайделоты.
Зажегся факел. Жрец занес кинжал.
Вдруг: «Стойте!» — черный рыцарь закричал.
Кто этот муж? Народ в недоуменье.
Дружина незнакомца узнает:
«Вчера его мы видели в сраженье.
Князь ранен был. Он кинулся вперед…
Дружине бы не избежать позора,
Да из седла он вышиб командора…
Мы ничего не ведаем о нем…
Его коня и плащ мы узнаем…
Не знаем, кто он и откуда родом…
Смотрите все! Он хочет снять шелом!»
Литавор-князь стоит перед народом!
Молчитнарод, как громом поражен,
Затем, очнувшись, всколыхнулся он,
Приветствуя воскресшего героя.
Крик сотрясает небо голубое:
«Литавор жив!» Сверкает шелк знамен.
А он стоит, склоняя лик свой бледный.
Еще разносит эхо гул победный…
Князь подымает взор, благодаря
Дружину и народ улыбкой странной,
Не той улыбкой — светлой, и желанной,
И радостной, как вешняя заря, —
Но словно силой привлеченной, словно
Рожденной, чтобы отлететь в тоске,
Улыбкой слабой, как цветок бескровный,
Увядший у покойника в руке.
«Зажечь костер!» Восходит к солнцу пламя.
Князь продолжает: «Знайте, кто она —
Чья плоть в огне сгорает перед вами!
Герой по духу, красотой — жена,
Она, как муж, несла доспехи эти…
Я отомстил, но нет ее на свете!»
И падает в огонь на милый прах,
И погибает в дымных облаках.
Эпилог издателя
Мой читатель, ты в повесть вникал терпеливо,
Но концом недоволен. Что ж, это не диво;
В лабиринте событий заблудится разум,
Не насытишь тогда любопытства рассказом.
Как случилось, что войско доверил Гражине
Князь, так поздно пришедший на помощь дружине?
Своевольно ли князя жена заместила
И в ночи против немцев мечи обратила?
Понапрасну, читатель, ты ищешь ответа!
Знай, что автор, кем повесть изложена эта,
Живший в те времена, для потомства украдкой
То, что видел и слышал, записывал кратко.
В тайну он не проникнул внимательным взором,
Почитая догадки обманом и вздором.
От него унаследовав рукопись эту,
Выдать я наконец порешил ее свету,
Чтоб доставить, читатель, тебе развлеченье,
Приложив к ней, однако, свое добавленье.
Я расспрашивал всех, кто доверья достоин.
В Новогрудке один лишь дряхлеющий воин —
Рымвид — знал кое-что, но молчал он об этом,
Видно, связан присягою или обетом.
Вскоре умер старик. Но другого случайно
Встретил я человека, владевшего тайной:
Паж княгини присутствовал в замке в то время,
Почитал он молчанье за тяжкое бремя.
Я следил за теченьем рассказа живого
И записывал бережно каждое слово.
Что здесь правда, что вымысел — кто же рассудит?
Уличите во лжи — мне обидно не будет:
Расскажу все, как было услышано мною,
Не прибавлю ни слова, ни слова не скрою.
Вот как паж говорил мне: «Княгиня в тревоге
Долго мужа молила, упав ему в ноги,
Чтоб не звал он врагов на литовскую землю,
Но упрямился князь, ей с насмешкою внемля:
«Нет и нет!» Не сменил, видно, гнева на милость,
И от князя супруга ни с чем удалилась.
Понадеясь, что он переменит решенье,
Мне тотчас отдала госпожа повеленье
Прочь отправить послов. Оба мы виноваты,
И отсюда — беда, ибо немец проклятый
Обозлился, и к нашему замку с досады
Приказал он тараны везти для осады.
Услыхав эту новость, княгиня, бледнея,
Побежала к супругу. Я — следом за нею.
Было тихо в покоях. Стою на пороге —
Крепко спит государь после долгой дороги.
То ли князя будить госпожа не посмела,
То ли снова его умолять не хотела, —
План другой приняла и, приблизясь к супругу,
Меч близ ложа нашла. Боевую кольчугу,
Плащ надела — и вышла и дверь затворила,
Строго-настрого мне говорить запретила.
Конь уже был оседлан. И странное дело!
На боку ее левом, когда она села,
Я меча не увидел. На месте и пояс,
И кольчуга, и шлем… Нет меча! Беспокоясь,
Возвращаюсь, ищу… А за ротою рота
Выступает в поход. Затворяют ворота.
Страшно стало, меня словно обдало жаром,
Что мне делать — не знаю… Удар за ударом
Слышу издали я, вижу блеск отдаленный.
Понял я: это начали битву тевтоны.
Вдруг Литавор проснулся и спрыгнул с постели:
Гром и скрежет до слуха его долетели.
Слуг зовет — никого! Разум мой помутился,
Я, от страха дрожа, в темный угол забился…
Тщетно ищет оружье свое боевое,
В дверь колотит, бежит он к супруге в покои,
Возвращается — и на крыльцо выбегает.
Я в окошко смотрю, а уже рассветает,
Князь стоит во дворе, озирается дико
И кричит. Но не слышит никто его крика.
Княжий двор обезлюдел. Спешит к коновязям.
Обезумев от страха, слежу я за князем.
На коня — и застыл, чтоб услышать, отколе
Слышен грохот сраженья… И ринулся в поле.
Через двор, через город летел он стрелою,
Черный плащ трепетал у него за спиною…
Стихло все. Истомило меня ожиданье.
Наконец встало рдяное солнце в тумане,
Возвратились они. Госпожу без сознанья
Нес Литавор. Печальные воспоминанья!
Тяжко ранена пулей немецкой Гражина,
Кровь бежит, погибает княгиня безвинно.
Молит князя — то ноги его обнимая,
То в беспамятстве слабые руки ломая:
«Я впервые тебя обманула… Прости же!»
Плачет князь. Подойти я осмелился ближе:
Умерла! Он лицо закрывает рукою,
Слезы льет и недвижно стоит над женою.
А когда они тело на ложе слагали,
Убежал я… Все знают, что следует дале».
Вот и все, что мне паж рассказал под секретом,
Ибо Рымвид молчать заповедал об этом.
Рымвид умер. Запрет был нарушен, и вскоре
Весть проникла в народ, разрослась на просторе.
Никого в Новогрудке не сыщется ныне,
Кто бы песни тебе не пропел о Гражине.
Повторяют ее дудари по старинке,
А долина зовется Долиной литвинки.
Исторические объяснения
… Новогрудский замок на крутом // Плече горы… — Новогрудок — древний город в Литве, которым некогда владели ятвяги, а позднее — русины; разрушен татарами во время нашествия Батыя. После их изгнания город был занят литовским князем Эрдзивилом Монтвиловичем, о чем Стрыйковский
{72} пишет: «А когда они (литовцы) переправились через Неман, нашли они в четырех милях оттуда гору, красивую и высокую, на которой ранее находился замок русского князя, называвшийся Новогрудком и разрушенный Батыем; Эрдзивил обосновал здесь свою столицу и восстановил замок, а осевши здесь и завладев большим пространством русской земли без кровопролития, ибо никто ее не защищал, стал именоваться великим князем Новогрудским». Руины замка можно увидеть и в настоящее время.
«Из крестоносной псарни прибыл тать…» — Орден крестоносцев, называвшийся также орденом марианитов, странноприимных или тевтонских рыцарей, был основан в Палестине в 1190 году и позднее, около 1230 года, был призван мазовецким князем Конрадом для защиты Мазовии от пруссов и литовцев. Орден этот стал впоследствии самым грозным врагом не только для язычников, но и для соседних христианских народов. Современные летописцы единодушно обвиняют орден крестоносцев в алчности, жестокости, спеси и недостаточном усердии в распространении христианской веры. Епископы обращались с жалобами к папе на то, что крестоносцы мешают им обращать язычников в христианство, захватывают церковное имущество и притесняют духовенство. Мы могли бы привести многочисленные доказательства подобных действий, упоминаемых в жалобах, неоднократно обращенных к папе и императору, но на тот случай, если бы кто-либо не захотел поверить жалобам заинтересованной стороны, мы приведем слова беспристрастного летописца Иоанна Винтертурского. Этот летописец, известный своей добросовестностью, не питавший никакой злобы к крестоносцам, а как немец и духовное лицо по меньшей мере не являвшийся защитником язычников, по простоте душевной писал о крестоносцах: «Около этого времени (то есть 1343 года), как я сам слышал от людей, заслуживающих доверия, крестоносцы, широко распространив свою власть в Пруссии, объявили войну королю литовскому и насильно отторгли часть его владений. Желая получить обратно свои земли, король обещал им принять католическую веру; когда же крестоносцы не обратили никакого внимания на его обещание, король сказал по-литовски: «Вижу, что вас не вера интересует, а богатство, и поэтому я останусь язычником». Об этих крестоносцах утверждают (явление прискорбное и для веры католической весьма вредное), что они предпочитают, чтобы язычники оставались при своем идолопоклонстве, но, покоренные, платили дань, чем, освобожденные от дани, приняли христианство, о чем они сами упорно просили и просят. Имеются также сведения, что они, крестоносцы, совершают свои набеги не только на земли князей языческих, но и христианских».
То же самое говорит о крестоносцах, подробно описывая их жестокие и коварные действия против пруссов и литовцев, немецкий писатель Август Коцебу, отнюдь не расположенный ни к литовцам, ни к полякам, в своем сочинении, весьма важном для истории Литвы, «Древняя история Пруссии», изданном в Риге в 1808 году. Нельзя без содрогания читать описания всех зверств, которые крестоносцы совершали над несчастным народом. Приведем только один пример. Еще в конце XIV столетия, когда Пруссия была полностью покорена и усмирена, великий магистр ордена крестоносцев Конрад Валленрод, разгневавшись на кумерляндского епископа, приказал отрубить правые руки всем крестьянам его епископства. Об этом свидетельствуют также и Лео, и Третер, и Лука Давид
{73}. Таковы были крестоносцы — Орден, состоявший исключительно из немцев, что было еще одним поводом для славян и литовцев относиться к немцам с ненавистью. Издавна немцев с презрением называли псами. Бандтке
{74} тоже полагал, что Песье поле, памятное по победе Болеслава III, названо так потому, что там много немцев (псов) полегло.
Когда бы стража не стояла здесь, //
В глубоком рву свою он смыл бы спесь… — Не удивительно, таким образом, что пруссы и братья их литовцы питали к немцам извечную ненависть, которая стала чуть ли не чертой их характера. Не только во времена язычества, но и после принятия христианства, когда хоронили литовца или прусса, плакальщики пели над ним: «Ступай, горемыка, из этого скорбного мира в лучший, где не хитрые немцы будут властвовать над тобою, а ты над ними». Об этом свидетельствуют Бельский
{75} и Стрыйковский. До настоящего времени в глубине Литвы, где владычествует Пруссия, назвать простолюдина немцем, значит нанести ему самое тяжкое оскорбление.
Хотя и немец он, //
А все ж людские разумеет речи! — Не только о характере немцев, но и об их умственных способностях среди пруссов и литовцев утвердилось весьма невыгодное мнение. У них вошло в поговорку «глуп, как немец». Коцебу в первом томе своей «Древней истории Пруссии» пишет: «И поскольку немцы плохо усваивают чужие языки, пруссы говорили о малоспособном человеке: «он глуп, как немец». Подтверждение этому мы находим и в словаре Линде
{76} под словом «немец» и в переводе с литовского на немецкий язык, сделанном Резой, поэмы «Год в четырех песнях» Христиана Донелайтиса
{77}.
…милостивый Витольд не в обиде… — Витольд, сын Кейстута, — один из величайших мужей, которых родила Литва. О его деяниях, военных и политических, кроме отечественных летописцев, сообщает Коцебу в упомянутой выше «Древней истории Пруссии» (том 3, стр. 232) и еще подробнее в жизнеописании Свидригайлы
{78}.
Когда, блеснув над Мендога могилой, //
За Щорсами зажжется факел дня… — Щорсы — владение древнего литовского рода Хрептовичей, расположенное на востоке от Новогрудка. Мендог, Миндагос, или Миндовг, — великий князь литовский, первый, который, освободив Литву из-под чужеземного ига, поднял ее могущество, стал грозою для своих соседей; он принял христианство и с дозволения папы короновался в 1252 году в Новогрудке королем литовским. Под Новогрудком есть гора, которая зовется отныне горой Мендога и которая, как полагают, является могилой этого героя.
…Побольше меду и побольше дичи. — Дичь и мед — два главных предмета угощения в древней Литве.
…А я магистру Ордена за труд… — Во главе Тевтонского ордена, или ордена крестоносцев, стоял великий магистр (гроссмейстер), избираемый капитулом; за ним следовал великий комтур, или казначей Ордена, маршал, или гетман, и комтуры, или командоры отдельных общин при городах и замках.
Еще Седьмые Звезды не зайдут… — У древних литовцев был свой способ обозначения времени года, месяцев и часов. Созвездие, упоминаемое здесь, на их языке называется Retis
{79}.
…Три тысячи тевтонов на конях // Войдут, а с ними кнехтов пеших вдвое. — Войско крестоносцев состояло сперва из самих братьев Ордена, оруженосцев и мирян, принадлежавших к Ордену, из рейтеров, то есть кавалеристов — добровольцев или рекрутов, — а также из пехотинцев, находившихся на жаловании и называвшихся ландскнехтами, фусскнехтами или кнехтами.
Бронь боевая тяжко облегла //
Их мощные, огромные тела… — Почти в каждом описании битвы летописцы отмечают, что немцы превосходили литовцев ростом и силой; ударам их копий трудно было противостоять. Кейстут, Наримунд
{80}, а также наиболее сильные рыцари в поединках с немцами не раз бывали выбиты из седла.
Вчера на немцев шли мы в топоры… — Топоры и палицы — самое грозное оружие древних литовцев.
А если уж вползает к нам в жилище… — Литовцы чтили ужей, которых приручали, держали в домах и кормили; подробнее об этом Иоанн Ласициус
{81} Полонус: «De diis Samogitarum»: «Nutriunt etiam, quasi deos penates, nigri coloris, obesos et quadrupedes serpentes quosdam, givoitos vocatos»
[13]. Еще Стрыйковский наблюдал в свое время пережитки этого древнего почитания ужей у латышей, а Гвагнин — в деревне Лаваришках, в четырех милях от Вильно.
Что Витольду его договора! — Вся речь Литавора — верное изображение того, что в те времена думали о Витольде литовские удельные князья.
…варяжские болота!.. — земли, прилегающие к Варяжскому, или Нормандскому, морю, ныне Балтийскому. Исстари политика великих князей литовских направлена была к тому, чтобы рассаживать своих родственников в качестве вассалов на землях, завоеванных у неприятеля. Монтвилл, Мендог, Гедимин дали этому пример.
…от финских // Заливов бурных до хазарских вод… — то есть от Балтийского моря до Черного, которое называлось тогда Хазарским.
Но трокский или вильненский дворцы… — Троки с двумя замками, из которых один был построен на острове посреди озера, были столицей Кейстута, а затем перешли по наследству к Витольду.
Под Ковно // Широкий дол открылся предо мной… — В нескольких верстах от Ковно тянется среди гор долина, покрытая цветами и пересекаемая ручьем. Это одно из прекраснейших мест в Литве.
…Его поет, как Мендога второго, // За пиршественной чашей вайделот… — Вайделотами, сигонотами, лингустонами назывались жрецы, обязанностью которых было при всяких торжественных случаях, особенно же на осенних празднествах «козла», рассказывать о деяниях предков и воспевать их подвиги. Доказательством того, что древние литовцы любили поэзию и создавали ее, служат старинные песни, до настоящего времени в большом количестве сохранившиеся в народе, а также свидетельства историков. У Стрыйковского мы читаем, что при погребении князей жрец воспевал и подвиги, что во времена Меховиты
{82} была распространена песня о князе Зыгмунте
{83}, убитом русскими князьями. Но самую интересную и значительную подробность мы находим в немецком сочинении «Опыт истории великих магистров», Берлин, 1798. Автор этого ценного труда, Беккер, цитирует древнюю хронику Винцента Майнцкого, который был придворным капелланом у великого магистра Дусенера фон Арфберга и описывал события своего времени (с. 1346 г.). В этой хронике мы, между прочим, читаем о том, как на пиру по случаю избрания великим магистром Винриха фон Книпроде пел один немецкий миннезингер и был награжден рукоплесканиями и золотым кубком. Такой радушный прием, оказанный певцу, соблазнил присутствовавшего на пиру прусса, по имени Рикселюс: он попросил разрешения спеть на родном литовском языке и прославил в своей песне первого литовского короля Вайдевутаса. Великий магистр и крестоносцы, не понимавшие и не любившие литовского языка, осмеяли певца и преподнесли ему тарелку пустых орехов. (Коцебу также приводит этот рассказ, но он как будто сомневается в существовании рукописи хроники Винцента. Однако в Щорсовской библиотеке среди сочинений гданьских студентов имеется рукопись некоего Ташке, помеченная 1735 годом, в которой автор цитирует хронику Винцента, как будто напечатанную во Франкфурте, но доказывает, что упомянутый Винцент был родом не из Майнца, а из Гданьска.) Поэтому не должны вызывать у нас недоверия утверждения Коцебу и Богуша
{84}, что литовская литература была богата героическими и историческими поэтическими произведениями, если даже до наших времен дошло мало образцов этой поэзии. Дело в том, что крестоносцы запретили под угрозой смертной казни всем должностным лицам и близко стоящим ко двору употребление литовского языка: они изгнали из страны, равно как цыган и евреев, всех вайделотов, литовских бардов, которые одни только и знали историю и могли ее воспевать. В Литве же, с принятием христианства и введением польского языка, песни старых жрецов и родная речь были постепенно преданы забвению: простой народ, поверженный в рабство и вынужденный заниматься исключительно хлебопашеством, расставшись с оружием, забыл и о рыцарских песнях, повторяя лишь больше соответствовавшие его новому положению заунывные плачи и сельские идиллии. Если же и сохранились в народной памяти некоторые из героических и исторических песен, то их распевали только под домашним кровом или при совершении старинных, связанных с язычеством обрядов, да и то при соблюдении глубокой тайны. Шимон Грюнау
{85} в XVI веке попал случайно в Пруссии на празднество «козла» и едва спас свою жизнь, клятвенно обещав крестьянам, что не выдаст никому того, что он услышит и увидит. Тогда, после жертвоприношения, старый вайделот начал воспевать героев древней Литвы, присоединяя к песне нравственные поучения и молитвы. Грюнау, хорошо понимавший литовский язык, утверждает, что не ожидал услышать что-либо подобное из уст литовца, — такая была в этой песне красота и выразительность.
…С престола прочь Ольгердовича смел? — Витольд изгнал из Вильно Скиргайло, сына Ольгерда и брата Ягеллы, и сам завладел великокняжеским престолом.
…Как во время оно //
Гонец Крывейта… — У древних литовцев правление было отчасти теократическое. Жрецы пользовались большим влиянием. Главный жрец назывался Криве-Крывейто, или Кирвейто. Летописцы, утверждавшие, что литовцы происходят от римлян или греков, усматривали и в этом названии главного жреца греческое происхождение. Местопребывание свое глава языческого духовенства имел неподалеку от города Ромова в Пруссии, где потом возникло поселение Гейлигенбейль. Там под священным дубом он принимал жертвы и оттуда рассылал по стране со своими наказами вайделотов и сигонотов, вооруженных жезлами в знак того, что они являются гонцами главного жреца.
…Верхом на жмудском боевом коне… — Жмудские кони, на которых литовская конница одержала немало побед, вероятно, в свое время не были такими слабыми, какими мы их видим теперь. Стоит вспомнить в связи с этим старую литовскую песню о коне Кейстута
{86}:
Татарских коней нет на свете быстрее,
Тевтонских мечей нет на свете острее,
А меч для Кейстута литовцы ковали.
Коня для Кейстута в Литве выбирали.
Лоптадка гнедая, невзрачного роста,
А меч из железа, отделанный просто.
Чего же при виде Кейстутовой бурки
Бегут без оглядки и немцы и турки?
На княжеский меч шли с булатом тевтоны,
Булат о железо разбился со звоном,
Татарского хана от жмудской погони
Спасти не сумели и крымские кони.
Кейстутовский меч из железа хоть кован,
Но княжеской силою он заколдован,
И конь его, мчася по бранному полю,
Кейстутову чует отважную волю
[14].
…Румшишского встречая великана… — Неподалеку от местечка Румшишек находится самая большая на Немане подводная скала, опасная для судоходства, прозванная Великаном.
У храма бога, свищущего в тучах, // И гневного владыки гроз гремучих… — Перкунас — бог грома в Литве, и Похвист — бог ветра и дождя на Руси. До настоящего времени в Новогрудке показывают место, где стояло капище этих богов. Теперь на этом месте воздвигнут костел Базилианов.
…Да сгинет трижды Дитрих фон Книпроде… — Военнопленных, особенно немцев, литовцы сжигали в жертву богам. Для этого обряда предназначался вождь или выдающийся благодаря своему роду или мужеству рыцарь; если в плен попадало несколько рыцарей, тянули жребий, кто должен быть несчастной жертвой. Например, в своем описании победы, одержанной литовцами над крестоносцами в 1315 году, Стрыйковский рассказывает: «Когда Литва и Жмудь за эту победу и богатую добычу, захваченную у разбитого и разгромленного врага, воздавали богам жертвы и возносили молитвы, они одного знатного крестоносца Герарда Рудде, войта или старосту земли Самбийской, наиболее именитого из взятых в плен, вместе с конем, на котором он воевал, с конской сбруей и рыцарским вооружением, сожгли живым на огромном костре и душу с дымом на небеса отправили, а тело с пеплом по воздуху рассеяли». Лука Давид рассказывает: «В конце того же века пруссы, уже принявшие христианство, восстав и убив 4000 немцев, схватили и сожгли на костре Мемельского комтура».
Уж тело на костре. Льют молоко. // Медовые выдавливают соты… — Обычай сжигания тел, распространенный в древности среди многих народов, сохранялся в Литве вплоть до принятия христианства. Летописцы и в этом усматривали доказательство происхождения литовцев от греков или римлян. Погребальные обряды неоднократно описывает Стрыйковский, особенно же подробно церемонию погребения Кейстута: «Тело его (Кейстута) доставил в Вильно со всеми княжескими почестями Скиргайло, брат Ягеллы. Сложив огромный костер из сухого дерева на Виленском кладбище, сделали все приготовления к сожжению тела согласно их языческим обычаям. Нарядив его в княжеское облачение со всем его вооружением — саблей, копьем и колчаном, положили князя на костер, а рядом с ним — верного слугу, живого, лучшего коня, тоже живого, в сбруе, по паре гончих и легавых собак, соколов, а также рысьи и медвежьи когти и охотничий рог. Потом, вознеся молитвы, воздав жертвы богам и воспев подвиги, совершенные им при жизни, зажгли костер из смолистых дров, и так все тело сгорело; затем собрали пепел и обгоревшие кости и похоронили в гробу. Таковы были и кончина и погребение славного князя Кейстута».
Герой по духу, красотой — жена… — Характер и действия Гражины могут показаться слишком романтическими и не соответствующими нравам того времени, поскольку историки рисуют положение женщин в древней Литве отнюдь не привлекательными красками. Эти несчастные жертвы насилия и угнетения жили в презрении, обреченные почти на невольничий труд. Но, с другой стороны, у тех же историков мы находим совершенно противоположные свидетельства. Так, по утверждению Шютца
{87}, на прусских знаменах и на древних монетах можно было видеть изображение женщины в короне, из чего можно сделать вывод, что некогда женщина царствовала в этой стране. Гораздо более достоверны доходящие до позднейших времен предания о двух знаменитых и боготворимых жрицах Гезане и Кадыне, облачения и реликвии которых долго еще хранились и в христианских храмах. Я слышал от знатока древней истории Онацевича
{88}, что в рукописи волынского летописца имеется упоминание о славном подвиге женщин одного литовского города, которые, после того как мужья их ушли на войну, сами защищали городские стены, а когда не были в силах противостоять неприятелю, предпочли добровольную смерть неволе. Нечто подобное упоминает и Кромер
{89}, рассказывая о замке Пуллен. Эти противоречия можно примирить, если учесть, что род литовский сложился из двух издавна живших вместе, но всегда несколько отличавшихся друг от друга племен, то есть из туземцев и пришельцев, кажется, норманнов, и эти последние сохраняли врожденные чувства уважения и привязанности к прекрасному полу. На основании каких-то особых, издавна утвердившихся прав или по литовским обычаям женщины этого племени пользовались особенным уважением со стороны своих мужей. К тому же презрительное отношение к женщинам и их унижение имело место только в самые древние, варварские времена. Позднее же, а именно в тот век, к которому мы относим действие нашей повести, романтический рыцарский дух проявляется все сильнее. Известно, как мужественный и суровый воин Кейстут любил свою Бируту, которую он похитил с опасностью для своей жизни, когда она была посвящена служению богам, и сделал ее княгиней, несмотря на то что она была простого происхождения. Известно также, как жена Витольда ловко и смело освободила мужа из темницы и спасла его от угрожавшей ему смерти.
И падает в огонь на милый прах, // И погибает в дымных облаках. — Литовцы в случаях тяжелых болезней или больших несчастий имели обыкновение сжигать себя заживо в своих домах. Первый их король и верховный жрец Вайдевутас и его преемник кончили жизнь добровольной смертью на костре. Такое самоубийство в их представлении было чрезвычайно почетным.
Конрад Валленрод
Историческая повесть
Перевод Н. Асеева
{90}
Dovete adunque sapere come sono
due generazioni da combatiere…
bisogna essere volpe e leone.
Macchiavelli[15]
Бонавентуре и Иоанне Залеским
на память
о 1827 годе
посвящает
автор.
Предисловие
Литовский народ
{91}, являющий собой совокупность племен: литовцев, пруссов и леттов, немногочисленный, населяющий не обширные и малоплодородные земли, был долго неизвестен Европе, и только около тринадцатого века набеги соседей заставили его перейти к более активной деятельности. В то время как пруссы подчинялись оружию тевтонов, Литва, выйдя из своих лесов и болот, начала уничтожать огнем и мечом соседние государства и сама стала грозой для всего севера. История еще не выяснила с достаточной полнотой, каким образом народ, столь слабый и так долго покорствовавший чужеземцам, вдруг нашел в себе силы, чтобы не только оказать сопротивление всем своим врагам, но и угрожать им, — с одной стороны, ведя непрерывную кровавую войну с орденом крестоносцев, а с другой стороны, опустошая Польшу, взимая дань с Великого Новгорода, распространяя свои набеги до берегов Волги и до Крымского полуострова. Самая блестящая эпоха в истории Литвы — это времена Ольгерда и Витольда, владычество которых простиралось от Балтийского до Черного моря. Но это огромное государство, расширяясь с чрезмерной быстротой, не успевало выработать в себе ту внутреннюю мощь, которая спаяла бы воедино все разнородные части и сделала их жизнеспособными. Литовская народность, растворившись на непомерно обширных землях, утратила свое национальное своеобразие. Литовцы подчинили много русских родов и вступили в политические взаимоотношения с Польшей. Славяне, давно уже принявшие христианство, стояли на более высокой ступени цивилизации, и, даже будучи покоренными Литвой или находясь под угрозой ее, они благодаря своему медленному, но неуклонному влиянию приобрели нравственный перевес над сильным, но варварским угнетателем и поглотили его, как китайцы татарских завоевателей. Ягеллоны
{92} и наиболее могущественные их вассалы стали поляками; многие литовские князья на Руси приняли религию, язык и народность русскую. Таким образом, Великое княжество Литовское перестало быть литовским; подлинный литовский народ снова сосредоточился в своих прежних границах: язык его перестал быть языком двора и знати и сохранился только в простом народе. Литва представляет собою любопытный пример народа, который исчез, поглощенный своими огромными завоеваниями, как ручеек спадает после бурного половодья и течет по еще более узкому руслу, чем прежде.
Несколько веков отделяет от нас упомянутые здесь события, сошла со сцены политической жизни и Литва, и самый грозный враг ее — орден крестоносцев, совершенно изменились взаимоотношения соседних народов, расчеты и страсти, из-за которых загорались тогдашние войны, давно угасли, и память о них не сохранилась даже в народных песнях. Литва уже вся в прошлом; ее история представляет поэтому благородный материал для поэзии, ибо поэт, воспевающий события того времени, должен сосредоточить свое внимание на исторических фактах, их углубленном изучении и художественном воплощении их, не руководствуясь никакими расчетами, страстями и вкусами читателей. Именно такие темы учил искать Шиллер:
Was unsterblich im Gesang soli leben,
Muss im Leben untergehen.
Что бессмертно
{93} в мире песнопений,
В смертном мире не живет
[16].
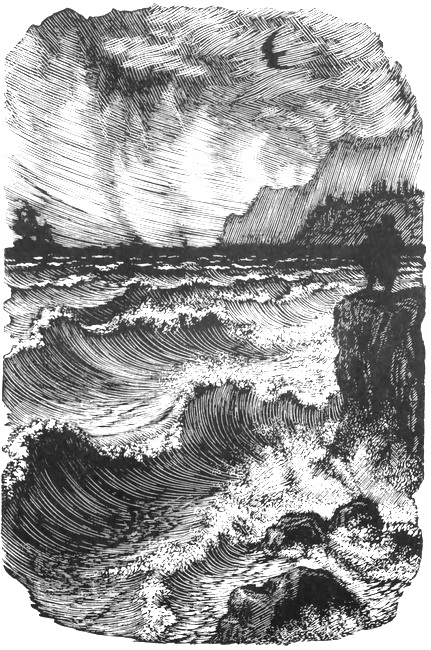
«Крымские сонеты»
Вступление
Сто лет прошло
{94}, как нечестивцев кровью
Крест рыцарского Ордена умылся;
Уже пруссак познал цепей оковы
Иль, бросив дом, от плена в чащу крылся;
За ним гонясь вплоть до Литвы границы,
Его вязал и гнал в неволю рыцарь.
Стал Неман рубежом Литвы с врагами:
С литовской стороны леса шумели,
Где алтари курились пред богами;
С другой, своей вершиной в небо целя,
Крест, символ немцев, плечи грозно ширил,
Как бы стремясь все земли Палемона
{95}Пригнуть под власть немецкого закона,
Все подчинив себе в литовском мире.
Здесь толпы юношей-литовцев храбрых
В плащах из шкур медвежьих, в рысьих шапках,
Лук у плеча и наготове стрелы,
Снуют, следя немецкие пределы.
Там — конный немец в панцире из стали
Стоит, недвижен, как на пьедестале,
Уставя взор на укрепленья вражьи
И четки и пищаль держа на страже.
И тут и там закрыты переправы.
Так Неман, чьи гостеприимны воды,
Соединявший братских две державы
{96},
Стал вечности порогом двух народов.
Никто без риска жизнью и свободой
Не мог переступить запретны воды.
Лишь тонкая литовская хмелинка,
С любимым прусским тополем в разлуке,
По камышам, по ряске и кувшинкам
К нему стремилась, простирая руки,
Венком свивалась, вплавь перебиралась
И, наконец, с любимым обнималась.
Да соловьи из Ковенской дубровы
С собратьями от взгорий Запущанских
Все по-литовски рокотать готовы
И о делах любовно совещаться,
На остров общий прилетая снова.
А люди? Разделясь свирепством боя,
Литвы и пруссов родственность забыли!
И лишь любовь в своей извечной силе
Людей сближала. Вспомнились мне двое.
О, Неман! Уж стоят на переправах
Огонь и смерть несущие дружины,
И берегов покой ненарушимый
Сталь оголит от зарослей зеленых,
Гул пушек соловьев спугнет в дубравах.
А то, что связано родства оплотом.
Разъединится злобою кровавой;
Все распадется, — лишь сердца влюбленных
Забьются снова в песнях вайделотов.
I. Избранье
С мариенбургской башни
{97} звон раздался,
Гром пушек в барабанный бой вмешался;
Великий день для Ордена святого;
В столицу рыцари спешат от дому.
Здесь для собранья все уже готово,
Чтоб по внушению от духа свята
Решать — на чьей груди кресту большому
Возлечь и меч большой кому — на латы.
День и другой проходят в обсужденьях,
Немало славных рыцарей предстало,
Чье имя остальным не уступало
Ни в подвигах, ни в знатности рожденья;
Но чаще прочих братьями святыми
Произносилось Валленрода имя.
Он — чужеземец, в Пруссии безвестный,
Прославил Орден славой повсеместной:
Он мавров разгромил в горах Кастильи,
Он оттоманов одолел на море,
Язычники пред ним в испуге стыли.
Он первым был всегда в военном споре
И первым на турнирах был, готовый
Перед соперником открыть забрало,
И рыцарская доблесть отступала
Пред ним, ему отдав венок лавровый.
Не только грозной воинской отвагой
Он возвеличил званье крестоносца:
Но, презирая жизненные блага,
Он в христианской доблести вознесся.
Был Конрад чужд придворной светской лести,
Не прибегал к уловкам и поклонам, —
Он своего оружия и чести
Не продавал враждующим баронам.
В монастыре, соблазнов не касаясь,
Чуждаясь света, он проводит юность;
Ему чужды и звонкий смех красавиц,
И песен менестрелей сладкострунность,
Ничто его не возмущает духа,
Он к похвалам не приклоняет слуха,
На красоту не устремляет взоров,
Чарующих не ищет разговоров.
Он был ли равнодушен от рожденья,
Или с годами стал, — хоть годы были
Не стары, но главу посеребрили
И бледность щек печатью охлажденья
Отметили, — решить про это трудно.
Но выпадали редкие минутки,
Когда среди придворной молодежи
Он шутками парировал их шутки
И дамам комплименты сыпал тоже,
Как детям сласти, явно развлекаясь
С любезностью холодной улыбаясь.
Однако это было исключеньем;
И вдруг случайно брошенное слово,
Для прочих не имевшее значенья,
Привлечь его внимание готово.
Слова — отчизна, долг, любовь, сраженье
Тревожили его воображенье,
Веселость Валленрода угасала;
Заслышав их, он предавался думам,
Как будто вдруг ему все чуждым стало,
Он становился мрачным и угрюмым.
Быть может, вспомнив святость посвященья,
Он прерывал услады развлеченья?
Душе его в одном была услада,
Один был друг всегда ему желанным —
Святой монах, назвавшийся Хальбаном.
Он отчужденность разделял Конрада,
Он был его всегдашний исповедник,
И чувств его и дум его посредник.
Блажен, кто близок в жизни со святыми
Был чувствами и мыслями своими.
В собранье Орден обсуждает рьяно
Достоинства и качества Конрада.
Есть в нем изъян, — но кто же без изъяна? —
Конрад не любит светского обряда,
Конрад не терпит и беседы пьяной;
Однако, запершись в своем покое,
Когда брала тоска или досада,
Искал он забытья в хмельном настое:
Весь вид его, печальный и суровый,
Приобретал тогда оттенок новый.
Болезненным румянцем вдруг окрашен
Он был; глаза, что в юности блистали,
Которых свет с годами был погашен,
Опять былые молнии метали,
И горький вздох из сердца вырывался,
И взор слезой жемчужной одевался.
Где лютня? Песня с губ уже слетает!
На языке чужом те переливы,
Но слушатели сердцем понимают
Торжественно-печальные мотивы.
Лишь на певца взглянуть, и все понятно:
Он память напрягает до предела,
Его душа куда-то улетела,
Он время хочет повернуть обратно!
О чем тех несен горькие стенанья?
Должно быть, мыслью он следит незримо
За юностью, промчавшеюся мимо…
Где дух его? В краю воспоминанья.
Но никогда из лютни многострунной
Не извлекал он звук веселья юный,
И уст его улыбка не затронет, —
Ее с лица, как смертный грех, он гонит.
Вся лютня под его рукой стенает,
И лишь одна молчит струна — веселья,
Все чувства жарко слушатель с ним делит,
И лишь одной надежды не хватает.
Не раз, к нему в покой войдя нежданно,
Дивилась братья перемене странной:
Конрад, очнувшись, вздрагивал от гнева
И, бросив лютню, прерывал напевы;
Безбожные слова он сыпал градом,
Шептал Хальбану что-то в страсти ярой,
Потом, как бы командуя отрядом,
Грозил кому-то беспощадной карой.
В смятенье братья вкруг него толпятся,
Хальбан же, глядя на него, садится,
И взор его безмолвным напряженьем,
Таинственным наполнен выраженьем.
В чем этих взоров тайное значенье?
Грозят они или предупреждают?
Но с Конрада спадает исступленье,
Светлеет взор, чела морщины тают.
Так укротитель львов на представленье
Решетку клетки в сторону откинет,
У зрителей спросив соизволенья,
Подаст сигнал — и мощный царь пустыни
Взревет, — мороз по коже подирает;
Один лишь укротитель неустанным
И неуклонным взором озирает
Его, — одними глаз своих лучами.
Души своей бессмертным талисманом,
Сильнее, чем замками и плетями,
Он ярость зверя страшную смиряет.
II
С мариенбургской башни звон пронесся,
И зала совещанья опустела;
Цвет орденского братства крестоносцев
Вслед за магистром двинулся в капеллу,
Чтобы молитвой насладиться слуху
И вознести хвалы святому духу.
Гимн
Святый душе божий!
Голубе Сиона!
Днесь весь христианский мир — подножье
Твоего трона.
Освети нас светом новым
И покрой нас крыл своих покровом.
Да блеснут из-под них стрелы света
Блеском благодати
На достойнейшего из всей братьи,
Осени его господне лето,
Перед ним же ниц преклоним главы,
Ибо в нем провидим светоч славы.
Сыне-избавитель!
Мановением пресветлой длани
Просвети обитель —
Кто достоин первым
Охранять твои святые раны,
Меч Петра поднять на нечестивых,
Свет Христов явить очам неверным
В золотых хоругвей переливах.
Да склонятся все сыны земные
Под знамена Ордена святые!
* * *
Молитву кончив, вышли. Был предложен
Совет магистром
{98}; по отдохновенье,
Об указании всевышней воли божьей
Вновь продолжать усердные моленья.
Все разошлись дышать ночной прохладой.
Одни уселись на ступеняхвхода,
Другие устремились за ограду
Садов и рощ, благоуханью рады, —
Был май в цвету и тихая погода.
Уж свет зари боролся с синевою,
Бледнел в лице обтекший небо месяц,
То сумраком, то серебром завесясь.
Любовник так печалится порою,
Когда гнетет его любви забота:
Измерив думой круг существованья,
Все радости, надежды, подозренья,
То вспыхнет он от страстного пыланья,
То, вновь познав тщету очарованья,
Склоняется в угрюмом размышленье.
В прогулках рыцарство у замка бродит,
Магистр же, даром времени не тратя,
С Хальбаном и мудрейшими из братьи
Объединившись, в сторону уходят,
Чтоб вдалеке от шумного собранья
Совет услышать, внять предупрежденью.
Идут, не намечая путь заране,
Уже равниной: замок в отдаленье.
Уж несколько часов прогулка длится…
Вот озеро раскинулось
{99} привольно;
Близка заря; пора назад в столицу.
Вдруг голос. Чей? Из башни наугольной.
Прислушались — затворница младая
Тому с десяток лет здесь появилась,
Пришелица неведомого края,
И в башню добровольно заключилась.
Мариенбурга жителям чужая,
Она пришла искать господню милость:
Высоким ли небес произволеньем
Она рассталась с жизненным волненьем,
Раскаянья ль таинственная сила
Ее при жизни здесь похоронила.
Монахов, что глядели так сурово,
Усердных просьб ее смягчило слово;
И вот она уж за святым порогом.
Но лишь она его переступила,
Осталась здесь с душой своей и богом:
Забили склеп, и никакая сила
Вновь не смогла бы отвалить каменья, —
Лишь ангелы в день светопреставленья.
Вверху окно решетки узкой щелью,
Куда приносит пищу люд окрестный,
А небо — ветерок и блеск чудесный.
О грешница, бедняжка! Неужели
Так грубый мир твои встревожил годы,
Что ты боишься света и свободы?
С тех самых пор, как заключилась в склепе,
Никто ее не видел у оконца
Встречающей божественное солнце,
Грустящей о далеком чистом небе,
Стоящей, о земных цветах жалея,
О лицах близких, что цветов милее.
Лишь знали, что жива: неоднократно
Задерживал движенье пилигрима,
Бредущего угрюмой башни мимо,
Какой-то звук, печальный и приятный,
То, верно, звук святого песнопенья.
И прусских деревень окрестных дети,
Играющие в роще близлежащей,
Давно уже запомнили, приметя,
Мелькающее за окном виденье.
То был ли зорьки отблеск уходящей
Иль белизна руки в вечернем свете,
Издалека их головы крестящей?..
Магистр туда невольно обратился —
Стал этот голос слух его тревожить:
«О боже, Конрад! Приговор свершился.
Магистром став, твой долг — их уничтожить,
Но не дознаются ль? Притворство тщетно,
Хотя б, как уж, свою сменил ты кожу,
Твоей души прошедшее приметно,
Как и в моей оно осталось тоже!
Приди ты тенью из загробной дали —
Тебя бы крестоносцы опознали».
До рыцарей доходит голос странный
Отшельницы, но слов невнятны звуки;
Ее простерты сквозь решетку руки.
К кому? Нет никого в дали туманной,
Лишь издали какой-то свет мерцает,
Как бы от блеска рыцарского шлема,
Да тень плаща широкого мелькает. Исчезла…
Вновь вокруг все пусто, немо,
Должно быть, это обмануло зренье,
Зари внезапной встретив пробужденье.
«О братья! — рек Хальбан. — То воля божья:
Дано нам ныне неба указанье;
Недаром шли сюда по бездорожью —
Отшельницы нам было прорицанье.
Вы слышали, она вещала: «Конрад»,
А Конрад — это Валленрода имя.
Решим же, братья, дружно и без спора
Его избрать решеньями своими
В великие магистры, как обычно.
И все вскричали: «Правильно, отлично!»
И шумным огласились долы кличем,
И долго ликованья длились крики:
«Да здравствует Конрад, магистр великий!
Да сгинет враг пред Ордена величьем!»
Хальбан один остался, всю монашью
Толпу презрительным окинув взглядом,
И, устремив прощальный взгляд на башню,
Запел такую песню тихим ладом:
Песня
Вилия
{100} — мать родников наших чистых,
Вид ее светел и дно золотисто,
Но у литвинки, склоненной над нею,
Сердце бездонней и очи синее.
Вилия в Ковенской дивной долине,
Мчащаяся меж тюльпанов и лилий,
У ног литвинки — юноши наши,
Роз и тюльпанов стройнее и краше.
Вилия пренебрегает цветами,
К Неману не уставая бросаться;
Так и литвинка спешит меж парнями,
Предпочитая чужого красавца.
Неман в объятья ее принимает,
Мчит с нею к скалам и диким просторам,
Крепко к холодной груди прижимает —
И исчезают, охвачены морем.
Так и тебя, литвинка, скиталец
Вдаль оторвал от родного порога!
В море житейском, грустя и печалясь,
Тонешь ты горестно и одиноко.
Сердцу и струям указывать тщетно!
Девушка любит, Вилия мчится,
Вилия к Неману льнет беззаветно,
Девушка в башне угрюмой томится.
III
Магистр поцеловал устав священный,
Великий крест и меч ему вручили.
Он гордо поднял голову, хоть тени
Забот высокий лоб его мрачили.
Его огнем пронзающее око,
Гнев с радостью смешав, вокруг взглянуло,
И слабая улыбка промелькнула,
Как будто гость внезапный и случайный.
Так туча, утром вставшая с востока,
Полна зари и молнии лучами.
Его, грозе подобное, обличье
Сердцам деянья славные пророчит.
Мечтают все о битвах и добыче
И в мыслях — кровь языческую точат.
Не устоять пред ним ничьим преградам, —
Перед его оружием и взглядом.
Дрожи, Литва! Уже близка минута, —
На стенах Вильна крест взовьется круто.
Надежды тщетны. Дни летят, недели,
Проходит целый долгий год в покое,
Литва грозит, а Валленрод безделен,
Не шлет он войск и сам не ищет боя.
А если что-то делать начинает, —
Обычай предков дерзко нарушает,
Всем заявляя, что повинно братство,
Что Орден выбрал путь себе неправый:
«Откажемся от славы и богатства,
Да будет добродетель нашей славой!»
Он бденьем, покаяньем и постами
Лишает братью радостей невинных,
Он поднял меч над малыми грехами,
Грозит судом в узилищах старинных.
А между тем литвин, который близко
Не смел к столицы подходить воротам,
Теперь деревни жжет вокруг без риска
И над окрестным тешится народом.
У замка стен он начинает рыскать,
Хвалясь явиться под капеллы сводом.
И дети в страхе у порогов жмутся
От боевых сигналов дудки жмудской.
Когда ж и мстить соседке непокорной?
Литва разъята внутренним раздором:
Отважный русич там, здесь лях задорный,
Татары — с третьей стороны напором.
Витольд, низвергнутый Ягеллой с трона,
Пришел у Ордена просить заслона
{101}.
В уплату он сулит свои владенья,
Но все не получает подкрепленья.
В волненье братья, все мрачнее лица.
Хальбан спешит отыскивать Конрада.
Магистра нет ни в замке, ни в каплице, —
Должно быть, он у башни за оградой.
Следила братья за его шагами,
И было всем известно: каждый вечер
Блуждает он над озером лугами
Иль, прислонив к подножью башни плечи,
Как мраморное смутное виденье,
Покрыт плащом, он видим издалека,
До раннего предутреннего срока,
Всю ночь в бессонном пребывая бденье.
И тихому из башни пенью следом
Звучат его негромкие ответы,
И никому их тайный смысл неведом.
Но на забрале переливы света
И кверху простираемые руки —
Все говорит о важности беседы.
Песня из башни
Кто моих вздохов, моих страданий
Счет поведет, моих слез без предела?
Разве такая горечь в рыданьях,
Что и решетка перержавела?
Падают слезы на камень холодный,
Словно взывая к душе благородной.
Неугасимы огни Свенторога;
Оберегаемый вечно жрецами,
Светел источник вершины Мендога,
Чистыми вечно питаем снегами;
Вздохов и слез моих нету начала, —
Сердце мне горечь тоски истерзала.
Отчие ласки, матери руки,
Замок богатый, край беспечальный,
Дни без заботы, ночи без муки —
Радостность жизни первоначальной;
Утром и ночью, в поле и дома —
Все было близко мне, все мне знакомо.
Трое у матери было красивых,
Первой в замужестве быть бы должна я,
Трое нас было, долей счастливых,
Кто ж мне открыл, что есть доля другая?
Юноша статный! Твоим рассказом
Был очарован мой девичий разум.
Светлого бога, духов веселых
Ты мне явил своими речами,
Ты рассказал мне, как служат в костелах,
Как девы властвуют над князьями,
Теми, кто рыцарской храбростью славен,
Нежностью — нравам пастушеским равен
{102}.
Ты мне поведал про край тот чудесный,
Где человек приближается к небу…
Ах, я уж верила жизни небесной, —
Только внимать бесконечно тебе бы!
Ах, пред судьбою доброй и злою
Небо я видела только с тобою.
Крест на груди твоей радовал взор мой,
Был он мне вечного счастья залогом.
Горе! Тот крест стал судьбой моей черной,
Свет погасил за родимым порогом!
Но не до дна я исплакала вежды, —
Все потеряв, сохранила надежды
* * *
«Надежды!» — тихим отзывчивым эхом
Лес и долины вокруг отвечали.
Диким Конрад разражается смехом:
«Надежды! Зачем они здесь прозвучали?
Что мне в той песне? Трое счастливых
Было вас, дочери молодые,
Первой ты замуж пошла из красивых;
Горе вам, горе, цветы полевые!
Гад притаился у вашего сада, —
Где он прополз, извиваясь и жаля,
Травы засохли, розы увяли,
Желты, как брюхо проползшего гада!
Мчись же мечтою туда, вспоминая, —
Все это было бы явью и ныне,
Если б… Молчишь ты?
О, плачь, проклиная:
Пусть твои слезы пробьются сквозь камин;
Шлем свой сорву с головы моей прочь я:
Слезы расплавленным оловом хлынут
Пусть мне на голову! Встречу воочью
Страшную казнь, что в аду суждена мне!»
Голос из башни
Прости, любимый мой, прости, мой милый!
Пришел ты поздно. Я ли виновата
В том, что мой голос стал таким унылым, —
Не весела любви моей утрата.
С тобой, любимый, были мы как будто
Одно мгновение, одну минуту.
Но это промелькнувшее мгновенье
Мне не заменят все иные люди;
Ты сам сказал мне, что они в запруде
Живут, как раковины, без движенья;
Лишь раз в году дыханьем непогоды
Их сдвинут с места взвихренные воды,
Раскроют створки их, привыкших к илу,
И вновь на дно опустятся в могилу.
Нет, не такой я жизни желала,
Нет, не такой мне был люб обычай!
Еще на родине, в толпе девичьей,
О чем-то тайно я тосковала,
О чем-то сердце мне напоминало.
Не раз, покинув родные долы,
Я на крутые холмы взбегала
И, слыша жаворонков веселых,
Взять по перу у них из крыл мечтала,
Чтоб с ними взвиться с зеленой кручи,
Сорвав в долине цветок на память,
Лететь далеко, лететь за тучи
И скрыться в небе за облаками.
Ты дал мне крылья — и вот уж кружим
Мы по небесным с тобой дорогам.
Что мне до жаворонков вешних пенья?
Тот позавидует ли их паренью,
Кто сердцем в небе — с великим богом,
Кто на земле был с великим мужем?
Конрад
Величье, вновь величье, ангел милый!
Лишь для него мы в муках надрывались.
Но — беды прочь! Мгновенья им остались,
Пусть сердце соберет остаток силы.
Свершилось! Слезы о минувшем — скупы.
Мы плакали — пусть вражьи дрогнут жилы.
Конрад рыдал — пусть вражьи стынут трупы!
Но ты, зачем же ты, о дорогая,
Сюда пришла от мирного покоя?
Тебя я сохранить, оберегая,
Мечтал в монастыря надежных стенах.
Не лучше ль было там смириться кротко,
Чем здесь, в краю обмана и разбоя,
В могильной башне, в безнадежных пенях,
Глядеть из-за безжалостной решетки,
Ко мне печально простирая руки?
А мне, твои переживая муки,
Беспомощность их чувствовать и слушать,
Стократ кляня судьбу свою и душу
За то, что в ней звучат былого звуки!
Голос из башни
О, если ты принес одни упреки,
Не приходи сюда, мой друг жестокий;
На век решетка крепкая, литая
Меня укроет непроглядной тенью, —
Я молча слезы затаю, глотая…
О, будь же счастлив без меня, любимый,
Пусть в вечность канет миг невозвратимый,
Когда ко мне забыл ты сожаленье.
Конрад
О нет, мой ангел, нет, мой друг бесценный!
Когда твою я утеряю милость, —
Я лоб свой раскрою об эти стены,
Чтоб Каина ты казни устрашилась.
Голос из башни
О, пожалеем же друг друга сами!
Подумай: в этом мире нас лишь двое,
Бескрайние пространства перед нами,
Мы — две росинки на песке с тобою;
И если нас жестокий вихрь насушит, —
Пусть воспарят, сливаясь, наши души!
В тебя вселить не смею я тревогу,
Но сердца небу я не посвятила:
Я не могла душой предаться богу,
Когда твоя в ней властвовала сила.
В монастыре остаться я пыталась,
Уставу посвятив себя и службам,
Но без тебя там, — как я ни старалась, —
Все было диким мне, все было чуждым.
Мне вспоминался замысел твой дерзкий
В немецком замке тайно появиться
И, местью поразив их стан немецкий,
За горести народа расплатиться.
Годов надежда сокращает сроки.
Я думала: быть может, недалеко,
Быть может, там он; разве грех — мечтанья
Тому, кто заживо сошел в могилу,
Чтобы с тобой осуществить свиданье,
Чтоб перед смертью видеть облик милый?
Пойду, решила я, в затворе строгом
Замкнусь одна над каменным отрогом,
Где путь пролег. Быть может, ветром свежим
Возлюбленное имя донесется
В устах какого-нибудь крестоносца,
Помянуто дорогой мимоезжим.
А может, сам он здесь проедет мимо,
В ином обличье и в чужом наряде, —
Узнает сердце: это мой любимый,
Его при первом угадает взгляде.
И если друга тяжкий долг принудит
Все уничтожить вкруг и окровавить, —
Ike ж близкая душа незримо будет
Его дела благословлять и славить!
Здесь я нашла свой склеп, свое изгнанье,
Откуда слух ничей не мог жестоко
Разгадывать тоски моей стенанья.
Я помнила: ты любишь одиноко
Бродить, и ожидала я упорно,
Что ты своих товарищей оставишь,
Придешь сюда, на луг, к волне озерной;
Меня припомнив, голос мой узнаешь.
Вознаградило небо за терпенье —
Тебя сюда мое призвало пенье!
Мечтала я, чтоб облик твой приснился,
Хотя б не твой, хотя б по виду схожий.
И вот — ты здесь. Мой сон желанный сбылся:
Мы вместе плачем…
Конрад
В чем же плач поможет?
Я плакал горько — помнишь, — вырываясь
Навеки из твоих объятий нежных,
Со счастьем добровольно расставаясь
Для замыслов кровавых и мятежных.
Теперь, когда пришли к концу мученья,
Близка уж долгожданная расплата,
Когда могу отмстить врагам заклятым, —
Приход твой подорвал мои стремленья.
С тех пор как ты из башни вновь взглянула,
Весь мир мне видим сделался нечетко,
Все дымкой безразличья затянуло;
В глазах моих — лишь башня да решетка.
Вокруг меня война рокочет глухо,
Тревога труб, оружья перезвоны, —
Меж тем взволнованное слышит ухо
Лишь с уст твоих слетающие стоны,
И целый день мой полон ожиданьем,
Чтоб мрак полночный сжалился над нами:
Я вечер длю средь дня воспоминаньем,
Я жизни счет веду лишь вечерами…
А Орден шлет меж тем ко мне упреки,
Зовет к войне, беды своей не чуя,
И мстительный Хальбан торопит сроки
Давнишних клятв, упреками волнуя.
Когда ж его я не желаю слушать, —
Тяжелым вздохом, гневных глаз укором
Он пламя мести вновь вдыхает в душу.
Уж близок приговор неотвратимый,
Ничто не помешает грозным сборам:
Вчера сюда приспел гонец из Рима,
Сошлись отвсюду крестоносцев тучи,
Все требуют, чтоб кровь текла обильно,
Чтоб крест и меч взнести на стены Вильно
Грозой войны, бедою неминучей.
А я, о, стыд! В грознейший час из прочих,
Народов управляющий судьбою, —
Весь в мыслях о тебе, ищу отсрочек,
Чтоб день один еще побыть с тобою!
О молодость! Готов, бывало, с жаром
Все — жизнь, любовь, и счастье, и свободу —
Отдать на службу своему народу,
Всем жертвуя. А ныне стал я старым.
Отчаяние, долг, веленье божье
Зовут в поход, а я, седоголовый,
Не ухожу от этих стен подножья,
Чтоб от тебя еще услышать слово.
Умолк. Из башни слышны только стоны,
Так ночь прошла. Час засветился ранний
В воде, луча румянцем озаренной.
Кусты вокруг от ветра зашумели,
И птичье пробудилось щебетанье,
Но снова смолкли ранние их трели,
Как будто дали знать, что из тумана
Их голоса возникли слишком рано.
Конрад с колен поднялся. Долгим взором
Глядит на башню, точно не очнулся,
Как бы прощаясь с сумрачным затвором.
Защелкал соловей. Он оглянулся, —
Вокруг уж день. Он опустил забрало
И плащ широкий на лицо накинул,
Взмахнул рукой, и вот — его не стало.
Он в роще скрылся.
Так адский дух бежит, томим изгнаньем,
От паперти при колоколе раннем.
IV. Пир
Был день Патрона
{103}, день торжеств священных.
Заполнен замок крестоносцев клиром.
Везде знамена плещутся на стенах,
Конрад всех чествует богатым пиром.
Вокруг стола сто белых веет мантий,
На каждой — черный крест в размеры роста,
За каждым креслом для достойных братий
Почтительно стоят оруженосцы.
Конрад воссел за стол на первом месте,
Витольд с ним рядом со своей дружиной.
Враг Ордена — он ныне с ними вместе:
Против Литвы вступил в союз единый.
Магистр привстал и кубок поднимает:
«Прославим бога!» — Кубки ярко блещут.
«Прославим бога!» — Стол весь повторяет,
И край о край вино кипит и плещет.
Сам Валленрод, о стол оперши локоть,
С презреньем за разгулом наблюдает;
Шум молкнет, и беседы тихой рокот
Да кубков звон молчанье нарушает.
«К веселью, братья! Что ж так тихо стало?
Как будто вы в раздумье или в страхе.
Так пировать ли рыцарям пристало?
Разбойники мы, что ли, иль монахи?
В мои года пиры иными были, —
Когда, врагов разбив и опрокинув,
При лагерных кострах мы шумно пили
В горах Кастильи или в землях финнов.
Там пелись песни!.. Нынче средь собранья
Здесь нет ли барда или менестреля?
Вино — сердец вздымает ликованье,
Но песня мысль живит сильнее хмеля».
Тотчас певцы различные явились:
То итальянец соловьиным тоном
Конрада славит мужество и милость,
То трубадур от берегов Гаронны
Поет влюбленных пастушков прелестных,
Красоты дам и рыцарей безвестных.
Конрад задумался. Умолкло пенье…
Он к итальянцу взоры подымает
И с золотом кошель ему бросает:
«Вот за хвалы твои — вознагражденье.
Мне одному твои неслись хваленья:
Одним лишь этим награжу я струны.
Возьми и скройся с глаз. Певец же юный,
Который пел о том, что сердцу мило,
Пусть нас простит, — мы сердцем слишком грубы,
И нет здесь той, которая ему бы
В награду хоть бы розу подарила.
Здесь розы все увяли. Нет! Иного
Певца здесь рыцари-монахи ждали,
Чья песнь звучала б дико и сурово,
Как рев рогов и грозный скрежет стали,
Чтоб сумрачней была молитвы в келье
И яростней пустынника похмелья.
Для нас, кто убивает и спасает,
Пусть песня смерти возвестит спасенье,
Пусть возбуждает гнев и изнуряет,
Неся для угнетенных устрашенье;
Жизнь такова — будь тем же песнопенье.
Кто так споет? Кто?»
«Я», — ответ донесся
Встает старик седой, послушный кличу,
Сидевший посреди оруженосцев,
Пруссак или литовец по обличью;
Он, временем и горем иссушенный,
Лоб и глаза прикрыты капюшоном,
Но на лице его рубцы страданий.
И, левую поднявши кверху руку,
Пирующих он попросил вниманья;
И, старой прусской лютни внявши звуку,
Насторожилось шумное собранье.
«Давно я пел для пруссов и литвинов;
Одни, родной земли не сдавши с бою,
Слегли; а те — покончили с собою,
Труп родины погибшей не покинув,
Как верная и добрая дружина
Себя сжигает с трупом господина.
Иные в чаще скрылись, за лесами,
Иные, как Витольд, живут меж вами.
Но после смерти… Немцы, вам известно,
Что будет с тем за гробовой доскою,
Кто предал родину свою бесчестно?
И если предков призовет с тоскою,
Пыланьем преисподней пожираем,
То зов его не долетит до рая;
Да разве в речи варварской немецкой
Признают предки прежний голос детский?
О дети! Как Литвы кровавы раны!
Ничьей души не тронула забота,
Когда в немецких кандалах, бесправно
От алтаря влачили вайделота…
Так одинокие года промчались.
Певец несчастный — не для кого петь мне.
Ослеп от плача, о Литве печалясь,
Как край родной, не знаю, рассмотреть мне:
Хочу увидеть дом мой, где он, дом мой, —
Кругом враждебный край и незнакомый.
И только здесь вот, в сердце, сохранилось
Все лучшее, чем родина гордилась,
Сокровищ прах, жемчужных песен нити, —
На память, немцы, их себе возьмите!
Так рыцарь, побежденный на турнире,
Жизнь сохранивший, но лишенный чести,
Осмеянный и отчужденный в мире,
Опять явясь на пораженья месте,
Остаток сил последних напрягает
И, меч сломав, к ногам врага бросает, —
Так и меня взяла теперь охота
Еще раз опустить на лютню руку.
Внимайте же напеву вайделота,
Последнему литовской песни звуку».
Окончив, ждет магистра он сужденья,
Затихли все в молчании глубоком;
Витольдово лицо и поведенье
Конрад пытливым наблюдает оком.
Все видели: Витольд в лице менялся
От звуков вайделотова напева,
При слове об измене покрывался
Он пятнами стыда, румянцем гнева.
И, наконец, рукой сжимая саблю,
Идет, локтями растолкав собранье,
Взглянул на старца, стал, как бы расслаблен,
И туча гнева в бурные рыданья
Вдруг разразилась, слез исторгнув капли.
Он повернулся, сел, плащом закрылся
И в черное раздумье погрузился.
Меж немцев ропот: «Разве среди пира
Нужна нам старца плачущая лира?
Кто, эту песню слыша, понимает?» —
Так за столом надменно рассуждают.
Над песнею глумясь при общем смехе,
Пажи свистят пронзительно в орехи,
Крича: «Вот звук литовского напева!»
Встает Конрад: «Отважные бароны!
Сегодня Орден наш, блюдя обычай,
От городов и княжеств покоренных
Приемлет в дань различную добычу.
Дар старика — один из самых скромных:
Он песню нам принес, пропеть готовый, —
Возьмем ее, подобно лепте вдовьей.
Сегодня среди нас Литвы властитель,
Его военачальники меж нами;
Вы гордости и славе их польстите,
Прослушав песнь с родными им словами.
Кто не поймет, тот может удалиться,
А я люблю напев такого рода:
Литовская в нем буря бьет и злится,
Как на море бунтует непогода
Иль тихий дождь весенний вдруг заплещет,
Сон нагоняя. Пой же, старче вещий!»
Песнь вайделота
Когда чума грозит Литвы границам —
Ее приход провидят вайделоты,
И, если верить вещим их зеницам,
То по кладбищам, по местам пустынным,
Зловещим Дева-Смерть идет походом,
В одеждах белых и в венке рубинном,
Превыше Беловежския дубравы,
Рукою развевая плат кровавый.
И стражи замков шлемы надвигают,
Псы деревень, взрывая прах носами,
Дрожат и, смерть почуяв, завывают.
Она идет зловещими шагами:
Где города, где села, замки были —
Там остаются мертвые пустыни;
Где плат она кровавый кверху вскинет —
Встают рядами свежие могилы.
Ужасный вид! Но большие потери
Несут Литве немецкие набеги,
Шишак блестящий в страусовых перьях
И черный крест, украсивший доспехи.
Где этому виденью появиться —
Что сел отдельных, городов разруха! —
Там всей стране в могилу превратиться.
Ко мне, ко мне, к отечества кладбищу,
Все, кто литовского исполнен духа, —
Мечтать, рыдать и петь на пепелище.
О песнь народа! Ты — ковчег завета
Над прошлым и грядущим поколеньем!
Ты — меч народа из огня и света,
Ковер, расшитый дум его цветеньем.
Ковчег завета, не подвластный самым
Безудержным ударам силы вражьей;
О песнь народа, ты стоишь на страже
Перед его воспоминаний храмом,
Архангельские крылья простирая
И меч его подчас в руке вздымая…
Огонь пожрет истории прикрасы,
Злодеями похитятся алмазы,
Но песня — души всех людей проникает;
Когда ж глупцы поймут ее не сразу,
Не впустят в сердце, не впитают в разум, —
Ввысь над развалинами, к небу ближе
Она взлетит, былое воспевая, —
Так соловей, горящий дом оставя,
На крыше сев на миг, глядит на пламя;
Когда же кровля рушится, — взлетает
И мчится в лес над грудою развалин;
И песенки напев его печален.
Я помню песнь. Не раз старик крестьянин,
Прервав свой труд на дедовском наделе,
Склонясь над плугом взрытыми костями,
На ивовой наигрывал свирели,
Великих предков славя со слезами,
Чьих нет потомков. Дол был полон тою
Мелодией бесхитростно простою,
Те звуки — прямо в сердце мне летели.
Как в Судный день архангельской трубою
Все мертвые поднимутся толпою,
Так звуком песни кости оживлялись,
Из-под стопы моей вставали зримы
И в образы огромные срастались;
Колонны, своды виделись за ними,
Озера в лодках, настежь замков двери,
Властителей короны, шлемов перья,
Бряцанье лютен, хороводов пенье…
Мечтанье дивно — дико пробужденье!
Исчезли родины леса и горы,
Поникла мысль крылами без опоры,
Привыкшая к бездумному затишью,
Умолкла лютня под усталой дланью;
Меж горького сородичей стенанья
Я больше голос прошлого не слышу,
Но, юности далекая отрада,
На дне души — былой огонь трепещет
И, память озаряя, вспыхнув, блещет.
Ты, память, — как хрустальная лампада,
Украшенная росписью обильной,
И хоть покрыта пеленою пыльной,
Но, если свет в лампаде той зажжется, —
Еще не раз людские встретят взоры
Невиданные, пышные узоры
И по стенам сиянье разольется.
О, если б я сумел их переплавить
Тем огненным пыланьем — ваши души!
О, если б смог в тех образах прославить
Сердцам собратьев этот день минувший!
О, хоть бы на единое мгновенье
Прислушались к родимой песни кличу, —
Услышали б они сердцебиенье,
Представивши бывалое величье!
И этот миг единственный, столь редкий,
Прожили б жизнью той, что жили предки.
Но что хвалить времен минувших сроки,
Сегодняшнего глазом не окинув?
Есть муж великий, жив он, недалеко,
О нем пою: прислушайтесь, литвины!
* * *
Умолк певец. Глядит вокруг несмело,
Что скажут немцы — продолжать ли пенье;
Но зала вся как будто онемела —
Знак, что желанно песни продолженье.
Вот начинает песню он другую,
Несхожую по складу и звучанью,
Он трогает едва струну тугую,
От пенья перейдя к повествованью.
Повесть вайделота
Мчатся откуда литвины? С ночного мчатся набега,
Скачут с ценной добычей, захваченной в замках и храмах.
Толпы пленников-немцев поспешно бегут за конями:
Руки связаны их и арканами шеи повиты.
Взор на Пруссию кинут они — и зальются слезами,
Глянут в страхе на Ковно — и богу себя поручают.
Там, средь города Ковно, простерлась поляна Перуна,
Где литовские витязи часто, вернувшись с победой,
По обычаю древнему, жгли на кострах крестоносцев…
Только двое из пленных на Ковно взирают без страха:
Молод первый из них, а второй — убелен сединами.
Строй немецкий покинув, они добровольно явились
Средь литовских полков и предстали пред Кейстутом-князем;
Князь их встретил любезно, однако к ним стражу приставил
И, приведши их в замок с собою, допрос учиняет:
«Кто такие? Откуда? С какою явились вы целью?»
«Я ни роду, ни имени, — младший ответил, — не знаю,
Потому что ребенком был немцами в плен я захвачен.
Помню только одно я, что в городе старом, литовском,
Был родительский дом мой. И город тот был деревянный,
На холмах возвышавшийся; дом же был красный, кирпичный.
Бор шумел там сосновый, и озеро в чаще сверкало.
В ночь однажды мы все пробудились от страшного шума:
Пламя в стеклах зарей расплескалось, и лопались стекла,
Дым клубился по зданью; мы выбежали за ворота, —
Вся в огне была улица, искры, как град, осыпались;
Крики слышались: «В городе немцы! К оружью! К оружью!..»
Меч схвативши, ушел мой отец и назад не вернулся.
Немцы в дом ворвались. Ихний всадник погнался за мною,
Подхватил на коня, — и не знаю, что дальше случилось.
Только крик моей матери долго в ушах раздавался,
Громче лязга оружья и треска пылающих зданий.
Этот крик, не смолкая, несется за мною повсюду, —
Лишь увижу пожар, он опять вспоминается мною,
Отдаваясь в душе, как громовое эхо в пещере.
Вот и все, что от милых родных, от Литвы мне осталось.
Лишь во сне я почтенных родителей вижу и братьев,
Но чем дальше, тем больше обличье их кроется мглою, —
Время в памяти их заволакивает очертанья.
Так текло мое детство. Я рос среди немцев как немец;
Дали имя мне Вальтер, прибавили прозвище Альфа,
Но под кличкой немецкою — сердце литовское билось:
В нем скрывалась тоска по отечеству, ненависть к немцам.
Во дворец меня взял к себе Винрих
{104}, магистр крестоносцев.
Сам крестил меня, словно родного любя и лаская;
Но бродил по дворцу я, его избегая объятий,
Привлечен стариком вайделотом. В те дни среди немцев
Жил в плену вайделот из Литвы: переводчиком был он.
И когда он проведал, что я сирота и литовец,
Стал к себе приближать, о Литве говорил он со мною,
Звуком речи родимой и песни волнуя мне душу,
Согревая ее сиротливость приветливой лаской.
Часто он уводил меня к синего Немана водам:
Были видны нам отчие горы и долы оттуда;
А когда возвращались, старик отирал мои слезы,
Чтобы не возбуждать подозрений; но, слезы утерши,
Он вражду разжигал во мне к немцам. И, в замок вернувшись,
Я оттачивал тайно кинжал, упиваясь отмщеньем,
И магистра ковры разрезал, зеркала я царапал,
И на щит его светлый плевал, и кидал в него пылью.
Позже, в юные годы, из гавани немцев, Клайпеды,
Мы со старцем на лодке к литовскому берегу плыли;
Рвал цветы я родимой земли, и волшебный их запах
Пробуждал в моем сердце неясные воспоминанья.
Аромат их впивая, я вновь становился ребенком, —
Мнилось, с братьями снова в отцовском саду я играю.
Это чувство старик оживлял во мне речью цветистой,
Ярче трав и цветов позабытое детство рисуя:
Что за счастье на родине юному жить среди близких.
И как много литовских детей того счастья не знают
И рабами у Ордена детство проводят, тоскуя!
Эти речи он вел на лугах; а на взморье Паланги,
Где бушующей грудью без устали море вздыхает
И потоки песка извергает из пенистой пасти,
Мне иное говаривал старец, внушая: «Ты видишь,
Как лугов наших свежесть заносит песками? Ты видишь,
Как растения тщатся пробиться сквозь саван смертельный?
Но напрасно! Все новые толпы песчаных чудовищ
Наползают на них своим брюхом белесым, душа их,
Затемняя им жизнь, превращая их зелень в пустыни…
Сын мой! Вешние всходы, что заживо взяты в могилу, —
Это братья родные, литвины, народ угнетенный!
А песок, изрыгаемый морем, — то орден тевтонский!»
О, как сердце мое истреблять крестоносцев ярилось,
Как стремилось в Литву! Но удерживал старец порывы,
Говоря: «Лишь свободные рыцари, выбрав оружье,
Могут в честном бою состязаться открыто с врагами.
Ты же — раб
{105}; у рабов лишь одно есть оружье — измена.
Оставайся у немцев, учись у них ратному делу
И входи к ним в доверье. А дальше что делать — увидим…»
Я послушался старца и следовал с войском тевтонов.
Но при первой же стычке, лишь наши знамена увидел,
Лишь заслышал военную песню родного народа, —
Я рванулся к своим, старика за собой увлекая.
Так и сокол, что взят из гнезда и в неволе воспитан,
Как бы долгой неволей его ни темнили рассудок,
Приучали его против соколов-родичей биться,
Только в небо поднимется, только окинет очами
Голубые просторы своей безграничной отчизны,
Лишь вздохнет он свободно и шум своих крыльев услышит, —
Возвращайся до дому, ловец! Не вернется твой сокол!»
Так свой юноша кончил рассказ; и внимал с любопытством
Кейстут с дочкой своею, божественно юной Альдоной.
Вот и осень пришла, вечера потянув за собою;
Дочка Кейстута, как повелось, меж сестер и подружек
Вечерами садится за ткацкий станок или прялку;
Иглы быстро мелькают в руках, веретена кружатся,
Вальтер речь начинает про немцев, про разные дива;
Вспоминает он юность свою. И что Вальтер ни скажет —
Ловит ухом Альдона и в памяти вмиг отмечает:
Все ей в мысли ложится и в снах предстает, как живое.
Там, за Неманом, сказывал Вальтер, огромные замки,
Там блестящи наряды и великолепны забавы,
Копья рыцари там вмноголюдных турнирах ломают,
А девицы глядят с галерей, им венки присуждая.
Он рассказывал дальше о власти единого бога
И о милости матери-девы его непорочной;
Он показывал образ ее на иконе заветной,
Что носил до сих пор на груди он своей постоянно, —
Ныне ж отдал Альдоне, уча ее истинной вере.
Он молитвы твердил с ней; хотел просветить он Альдону
Всем, что сам он от немцев узнал; но, ее просвещая,
Научил и тому, в чем и сам был неопытен: страсти!
Вместе с нею учился, внимая со сладким волненьем
Звукам речи литовской, их в памяти вновь воскрешая!
С каждым словом воскресшим в нем новое чувство рождалось, —
Словно искры под пеплом, мерцали родные названья:
Дружба, родственность и — любовь, — драгоценное слово,
В свете равных которому нет ничего, кроме слова Отчизна…
Кейстут-князь размышляет: «Что с дочкою за перемена?
Ни веселости детской, ни девичьих нет развлечений!
Все ровесницы в праздник идут позабавиться пляской,
А Альдоне утеха — лишь с Вальтером разговоры.
Все девицы по будням сидят за иглой да за пряжей,
У Альдоны ж игла выпадает и спутаны нитки;
Как сама не в себе она, все это замечают.
Видел сам я вчера: она вышила розу зеленым,
А листочки и стебель из красного вышила шелка.
Как цвета отличить ей, когда ее взоры и мысли
Только Вальтера заняты образом и разговором?
Каждый раз, как спрошу, где она, — отвечают: в долине.
А откуда пришла? Из долины. Ну, что за долина?
Садик Вальтер разбил там. Да разве он может сравниться
С моим садом у замка? (Роскошны сады у Кейстута,
Полны яблок и груш — для всех девушек Ковно приманка.)
Нет, не сад ее манит. Зимой у окна ее видел:
Стекла в этом окне, обращенные к Неману, чисты,
Словно в мае, хрусталь их прозрачный не тронут морозом.
Вальтер там на прогулке; его у окна поджидая,
Лед горячим дыханьем она на стекле растопила!
Полагал я, что он ее чтенью, письму обучает, —
Слыша: всюду князья детей обучать начинают.
Вальтер — юноша храбрый, письму, словно ксендз, обученный…
Не прогнать же из дому его? Для Литвы он полезен!
Он военного строя искусник, возводит хитро укрепленья,
Сведущ в пушечном деле, один стоит целого войска…
Будь же зятем мне, Вальтер, Литву защищая со мною!»
Вальтер мужем Альдоны стал. Немцы, вы, верно, решили,
Что на этом рассказ мой окончен? Ведь в ваших романсах,
Если рыцарь женился, — конец трубадуровой песне;
Разве только добавить, что долго и счастливо жили…
Вальтер любящим мужем был, но благородной душою
Не был счастлив в семье, так как не было счастья в отчизне.
Только снег растопился — вновь жаворонки запели,
Радость этою песнью народам иным возвещая,
Лишь несчастной Литве возвещая резню и пожары.
К ней идут крестоносцев бесчисленные дружины,
Гул движения их из-за Немана ветер доносит,
Лязг оружья, военные клики и конское ржанье.
Словно тучи, плывут их полки, над полями сгущаясь,
Там и здесь их передних отрядов мелькают знамена,
Как пред бурею молчали. Стали над Неманом немцы,
Переправы наладили, Ковно кругом обложили
{106}.
День за днем разбивают таранами башни и стены;
Ночь за ночью ведут разрушительные подкопы;
Бомба в небе проносится, вспышкой его озаряя,
Словно коршун на пташек, свергается с неба на крышу.
Все в развалинах Ковно: литовцы отходят в Кейданы
{107};
Немцы взяли Кейданы: литовцы в леса отступили,
Бьются храбро, упорно. Но враг продвигается дальше.
Кейстут с Вальтером об руку — первыми всюду в сраженье,
В отступленье — последними. Кейстут, как прежде, спокоен:
С детских лет он привык к перемене военного счастья;
Знал он, как его предки с тевтонами злобными бились, —
По примеру их дрался и он, о грядущем не мысля.
Но у Вальтера думы иные. Воспитан у немцев,
Понимал он, как Орден могуч, как по кличу магистра
Вся Европа оружье, и войско, и деньги доставит.
Бились с немцами пруссы, и стерли тевтоны пруссаков:
Раньше, позже ли — участь такая ж, к несчастью, постигнет литвинов.
«Сын мой! — Кейстут воскликнул. — Ты страшную гибель пророчишь,
Ты сорвал мне повязку с очей, чтобы пропасть явить мне.
Я слова твои честные выслушал — руки мои опустились;
Ныне вслед за надеждой отвага покинула душу.
Как же с немцами сладить?» — «Отец, — отвечал ему Вальтер, —
Мне известно единственно верное, страшное средство!
Позже, может быть, я и откроюсь». Такие беседы
Часто вели они между сражений, покуда тревога
Боевою трубой не звала их на новые битвы.
Все печальнее Кейстут, и Вальтер переменился!
Хоть и встарь никогда не бывал он безоблачно весел, —
Даже в счастье чело его тайные думы темнили, —
Все же облик его прояснялся в объятьях Альдоны,
Он улыбкой встречал ее и провожал ее лаской;
Ныне ж горе, казалось, все чувства его иссушило:
Перед домом вседневно, со скрещенными руками,
Наблюдает он дымы палящих селенья пожаров.
Взор его одичал, и ночами, срываясь с постели,
В окна он на кровавое зарево сумрачно, яростно смотрит.
«Что с тобою, мой муж дорогой?» — вопрошает Альдона.
«Что со мной?.. Ничего. Не проспать бы прихода нам немцев,
Чтобы, связанным, в руки их палачей не попасться!» —
«Бог храни нас от этого! Войско ведь всюду на страже!» —
«Да, действительно войско на страже, и я при оружье;
Ну, а если рассеется войско и сабля погнется —
Ты подумай, какая нас старость с тобою тогда ожидает!» —
«Бог нам в детях даст радость!..» — «А если придут крестоносцы,
И тебя умертвят, и детей уведут на чужбину,
И научат пускать в отца родимого стрелы!
Я и сам бы — не встреть вайделота — с отцом бы сражался
И с родимыми братьями!» — «Вальтер, любимый, уедем,
Мы в Литве далеко среди гор и лесов затаимся!» —
«Мы уедем, а прочих детей с матерями покинем?
Так бежали пруссаки, а немцы в Литве их настигли.
Так и с нами случится!..» — «А мы еще дальше уедем». —
«Дальше? Кроме Литвы, ты куда же, бедняжка, уедешь?
В руки русичей или татар?» — И Альдона, смутясь, замолчала,
Не найдясь, что ответить; до этой поры ей казалось,
Что отчизны родимой ее беспредельны границы;
Услыхала впервые, что негде укрыться в Литве ей…
«Что ж нам делать?» — в отчаянье руки ломает Альдона.
«Для литвинов одно только средство, Альдона, осталось:
Черный Орден разрушить; и мне это средство известно,
Ты о нем не расспрашивай! Час тот — да будет он проклят, —
Когда я применю его, вынужденный врагами!»
Разговор прекратил он, молений Альдоны не слыша.
Слышал только и видел он беды Литвы пред собою.
Пламя жгучее мести питал с той поры он в молчанье,
Видом бед и пожаров всечасно его разжигая;
Все он вытравил чувства из сердца, и даже то чувство —
Чувство нежной любви, что в несчастьях его утешало.
Так, костром подожженный охотничьим, дуб беловежский
Тлеет, медленным жаром свою иссушив сердцевину, —
Скоро леса властитель утратит шумящие листья,
Сникнут, сломаны ветром, его почерневшие ветви,
И вершина с короной омелы зеленой засохнет.
Долго по замкам, лесам и горам литвины блуждали,
То нападая на немцев, то храбро от них отбиваясь.
Наконец разразилась Рудавская страшная битва
{108},
Много тысяч в которой литовской легло молодежи,
Среди стольких же тысяч солдат и вождей крестоносцев.
К немцам свежее войско на помощь пришло из-за моря;
Кейстут с Вальтером, с горсточкой воинов, в горы пробились.
Сабли их притупились, щиты их изрублены были;
Пылью, кровью покрытые, сумрачно в дом они входят.
Вальтер взгляда не кинул жене, не сказал ей ни слова,
С вайделотом и Кейстутом стал говорить по-немецки;
Непонятна Альдоне их речь, только сердце вещает
Об ужасных событьях. И вот они, кончив беседу,
Все втроем устремили к Альдоне печальные взоры.
Вальтер дольше других скорбный взгляд удержал на Альдоне;
Из очей его крупными каплями брызнули слезы.
Он к йогам ее пал, к сердцу руки ее прижимает
И простить ее просит за все, что она претерпела.
«Горе, — молвит он, — женам, которые любят безумцев,
Тех, чьи взоры стремятся за грани родимого края,
Тех, чьи мысли, как дым в высоту, улетают бессменно,
Чьи сердца не привержены только к семейным утехам!
Эти души, Альдона, подобны огромнейшим ульям;
Мед по край их пс полнит, — в них ящерицы гнездятся.
Не печалься, Альдона! Сегодня я дома останусь.
Все забыв, этот день посвятим мы друг другу.
Как бывало давно. Завтра ж…» — и не посмел он докончить.
Что за радость Альдоне! Так хочется верить бедняжке,
Что изменится Вальтер, став снова спокоен и весел;
Вот уж менее хмур он, глаза его вновь оживились,
Зарумянились щеки. Весь вечер у ног он Альдоны;
Позабыв о Литве, о сраженьях, о крестоносцах,
Говорит, вспоминая счастливое прежнее время
Своего возвращенья в Литву, их начальные встречи,
Их прогулки в долине, вникая во всякую мелочь,
Столь значительную для любовных воспоминаний.
Только что ж это речь обрывает, промолвивши «завтра»,
И, задумавшись, снова он долго глядит на Альдону
Со слезами в глазах, — говорить бы и рад, да не в силах?
Неужели он вызвал далекого счастья виденья
Для того лишь, чтоб с ними сейчас же навеки проститься?
И последнего вечера эта сердечная нежность
Станет вспышкой прощальной любовного чистого света?..
Что подумать об этом Альдоне? С душою смятенной
Из покоя выходит она и сквозь щель наблюдает:
Вальтер цедит вино, за бокалом бокал осушая,
Старика вайделота с собою он на ночь оставил.
Солнце чуть показалось — стучат по дороге копыта;
Двое рыцарей в горы спешат, растворяясь в тумане,
Обманули б любых часовых они, только не стражу
Чутких, любящих взоров: Альдона их бегство открыла,
На пути им предстала. Печальна была эта встреча!
«О, вернись, дорогая, домой; там ты счастлива будешь…
Может быть, ты счастливее станешь в объятьях отчизны!
Ты юна и прекрасна, ты сердце утешишь, забудешь.
Помнишь — много руки твоей знатных князей добивалось:
Ты свободна, отныне — вдова ты великого мужа;
Он для счастья родимой страны от всего отказался —
От любви, от тебя отказался для блага любимой отчизны!
Так прощай же! Поплачь иногда, обо мне вспоминая!
Вальтер все потерял, одиноким остался на свете,
Словно ветер в пустыне; он должен по свету скитаться,
Предавать, убивать и погибнуть позорною смертью;
Но промчатся года, и забытое Альфово имя
Вновь, гремя по Литве, на устах вайделотов возникнет;
Ты услышишь о нем, и тогда, дорогая, подумай,
Что ужасный тот рыцарь, окутанный темною тайной,
Был тебе лишь известен, — твоим был когда-то супругом;
Пусть та гордая дума тебя утешает в сиротстве!»
Молча слушает речь ту Альдона, но слов ее не постигает.
«Едешь, едешь!» — вскричала и крика того испугалась.
Слово «едешь» — одно это слово заполнило слух ей,
Ее мысли смешались, и все вкруг нее помутилось.
Только сердце ее говорило: нельзя возвращаться
И нельзя позабыть. И, очами блуждая в тревоге
И встречая в отчаянье Вальтера горькие взоры,
В них утехи себе, как бывало, не находила;
И, опоры ища, снова взоры она устремляет
На равнины, как будто чего-то от них ожидая.
Там, за Неманом, блещет в лесу одинокая башня —
Крестоносцев святыня, унылое мрачное зданье.
Взор и мысли Альдона на башне той остановила, —
Так же голубь, над морем захваченный бурей нежданной, свирепой,
Изнемогши, без сил к корабельным снастям припадает.
Вальтер понял Альдону, последовал молча за нею
И свой замысел тайный открыл ей, супругу молчать заклиная.
У ворот монастырских печальна была их разлука!..
Альф исчез с вайделотом — и больше о нем не слыхали.
Горе, горе ему, если он не сдержал обещанья,
Если, сам лишась счастья, и счастье Альдоны разрушил.
Если все, что он отдал, — окажется жертвой напрасной!
Время это откроет. — Вот, немцы, и кончена песня!
* * *
«Конец, уже конец?.. — шумели в зале. —
Что с Вальтером? Что сделал он такого?
Кому же месть?» — Все слушавшие встали;
Один средь возбужденного народа
Магистр сидит, не проронив ни слова,
Склонив лицо, спокойное как будто.
Но он взволнован: каждую минуту
Он пьет и наполняет кубок снова.
В его чертах, как молния, мгновенно
Различных чувств мелькает перемена,
Все сумрачнее вид его и хмурей,
Бледнеют щеки, напряглися жилы,
И взоры — точно ласточки пред бурей.
Вот, плащ сорвавши, наконец вскочил он:
«Где песни продолженье? Пой не медля!
Иль лютню дай; чего, дрожа, таишься?
Подай мне лютню; кубок мой напеньте,
Я допою конец коль ты боишься!
Я знаю: все, все песни вайделотов
Сулят беду, как псов вытье ночное;
Вам любо петь пожары и убийства,
Нам предоставив славу и мученья.
Еще к нам в люльки ваша песнь вползает,
Предательски нам душу обвивает
И острым ядом сердце наше сбрызнет:
Любовью к славе, верностью отчизне.
Она идет с младенчества за нами,
Как тень врага убитого крадется,
И на пиру садится за столами,
Чтоб в хмель вина примешиваться кровью.
Я слышал этих песен слишком много,
Предатель старый, сбывшихся воочью;
Поэту клад — военная тревога,
И сбудется все так, как ты пророчишь!
Конец тех песен ведом. Есть другие,
Когда сражался я в горах Кастильи,
Меня балладам мавры обучили.
Старик, напомни звуки дорогие,
Что там в долине… о, блаженства время —
Под звуки те мне петь привычно было.
Вернись, старик, или, богами всеми,
Немецкими и прусскими, клянуся…»
Вернулся тот, и лютни звук плачевный
Чуть слышно вторил выкрикам Конрада,
Как раб влачась за господином гневным.
Тем часом за столом уж гаснут свечи,
Утомлена вся рыцарей громада,
Но голос Конрада их будит снова, —
Встают в кружок и, распрямляя плечи,
Стараются не проронить ни слова.
Альпухарская баллада
Бегут разбитые мавров отряды,
Народ их — скован и связан;
Еще стоит твердыня Гренады,
Но косит Гренаду зараза.
— Еще в Альпухаре
{109} последние силы
Сплотились вокруг Альманзора
{110};
Испанцы город кругом обложили
И штурмом ударят скоро.
Рев пушечный прокатился с рассветом,
И — стены в провалах и ямах, —
Уж крест утверждается над минаретом,
Вломились испанцы в замок.
Один Альманзор, в разгаре сраженья,
Узнав об огромном уроне,
Из вражьего выскользнув окруженья,
Спасается от погони.
Испанцы на свежих замка руинах,
Средь трупов, застывших на стенах,
Устроили пир, купаются в винах,
Добычу делят и пленных.
Как вдруг часовые испанцев доносят,
Явясь пред своими вождями,
Что рыцарь из дальнего края просит
Принять его с новостями.
То был Альманзор, король мусульманский, —
Он больше свой сан не скрывает,
Он сдался, он просит испанской ласки,
Он жизнь сохранить желает.
«Испанцы, — молвит он, став у порога,
Склоняясь в смиренье глубоком, —
Пришел признать я вашего бога,
Поверить вашим пророкам.
Пускай молва прогремит перекатом
О том, что арабов владыка
Своих победителей младшим братом
Становится с этого мига».
Испанцы умеют ценить отвагу;
Пленясь Альманзора речью,
В ответ его смиренному шагу
Объятья открыли навстречу.
По очереди Альманзор обнимает
Испанцев, старших местами,
А главного их к груди прижимает,
В уста впиваясь устами.
И вдруг, ослабев, упал на колена,
И руки забились дрожью,
Тюрбан с головы он срывает мгновенно,
Обвив им трона подножье.
Вокруг он глянул, и все поразились:
Бледны помертвелые щеки,
И страшной усмешкой уста исказились,
И взгляд западает глубокий…
«Смотрите, гяуры, на вид мой ужасный, —
Он вам не доставит услады!
В ряды к вам проникнул посланец опасный,
Чуму вам принес из Гренады.
Я вам запятнал поцелуями губы,
И яд был в речей позолоте…
Глядите, вам стоны предсмертные любы:
Вы в муках таких же умрете!»
Он мечется, зубы, крича, обнажает,
Смеясь торжествующим смехом,
Объятьем смертельным испанцев желает
К груди приковать своей всех он.
Вот так он и умер, смеясь. Уже веки
И губы его не дрожали,
А смех этот адский, застывший навеки,
Черты его выражали.
Испанцы покинули город в тревоге,
Но всюду, вернее кинжала,
Покуда все не слегли по дороге,
Чума их ряды поражала.
* * *
«Так мавры мстили в годы те сурово.
Хотите ль знать про замысел-литяина?
Что, если он сдержать захочет слово,
Отраву подмешавши в наши вина?
А впрочем, нет! Теперь иной обычай:
Князь Витольд здесь, с литовскими вождями,
Родные земли нам несут добычей
И кличут месть над родиною сами.
Но нет! Не все! Не все — клянусь Перуном!
Есть люди на Литве, я это знаю!
Прочь эту лютню — оборвались струны.
Пусть песня смолкнет — все ж я ожидаю,
Что будет что-то… Будет час расплаты.
А впрочем, пьян я… Чаши снова сдвиньте.
А ты, Альманзор, — прочь, старик проклятый!
Прочь от меня, Хальбан… Меня покиньте!»
Сказал, поворотясь неверным шагом
К своему месту, в кресло рухнул тяжко;
Грозил кому-то, в стол ноги размахом
Ударил, опрокинув кубки, фляжки,
И наконец, слабея постепенно,
Как будто тяжкую свершив работу,
Погаснул взглядом, рот покрыла пена,
И впал в дремоту.
И рыцари застыли в изумленье,
Хоть знали все, что их магистр великий,
Когда впадал чрезмерно в опьяненье,
Подвержен был запальчивости дикой.
Но на пиру! Не соблюдая чина!
Так при гостях безумствовать постыдно!
Не вайделот ли этому причина?
Куда исчез? Нигде его не видно.
Средь рыцарства пошли предположенья,
Что звуками литовского напева
Переодетый Хальбан на сраженье
Звал христиан, вздувая пламя гнева
У Конрада. Но чем обижен Витольд?
Что значит альпухарская баллада?
Так каждый свой хотел особый видеть
Событий смысл, теряясь средь догадок.
V. Война
Война — уж Конрад удержать не властен
Настойчивые требованья братства;
Весь край волнуют мстительные страсти:
Литве воздать за Витольда коварство.
Князь Витольд, что просил себе защиты,
Чтоб сообща отвоевать столицу, —
Вдруг, после пира, со своею свитой
Решил, союз нарушив, возвратиться:
Разведав тайну воинского плана,
Ушел тайком из Орденского стана.
В тевтонских замках, встречных по дороге,
Приказ магистра ложный предъявляя,
Он внутрь входил, не возбудив тревоги,
И все палил, круша и истребляя.
Стыдом и гневом Орден был охвачен,
Поход на нечестивцев им назначен.
Воззвала булла
{111} — и неудержимо,
Крестом украсясь, морем и по суше
Князей, вассалов ринулись дружины,
Чтоб на Литву святой удар обрушить,
Язычество сияньем славы божьей
То ль озарить, то ль вовсе изничтожить.
Вошли в Литву; и что ж там совершили?
Когда ты хочешь правду знать об этом,
Взойди на холм, взгляни с его вершины,
Лишь день померкнет с предзакатным светом:
Ты зарева увидишь вкруг сиянье —
Войны несправедливой одеянья;
Зловещ их блеск, их переливы стары,
Картины их — резня, грабеж, пожары,
Что в глупых возбуждает восхищенье,
А мудрецам внушает отвращенье
И ожиданье грозной божьей кары.
Все шире ветром пламя раздувало, —
В Литву войска все дальше уходили.
Шел слух, что Ковно, Вильно обложили;
Затем ни слухов, ни вестей не стало.
Огонь спалил всю ближнюю окрестность,
Для немцев наступила неизвестность.
Напрасно из разграбленного края
Добычи ждут и пленных, многократно
Гонцов к войскам поспешных посылая:
Гонцы не возвращаются обратно;
Узнать бы, что там, — нет вестей оттуда,
И каждый ожидает — нет ли худа?
Минула осень, всё снега покрыли,
В сугробах тонут все дороги, зданья.
Вновь по небу сполохи заходили —
Полярный свет? Или войны пыланье?
Все ярче в небе отблеск алый веет,
Все ближе небо мглисто багровеет.
Глядят Мариенбурга горожане:
Не Конрад ли с вождями на дороге?..
Победа? Или бегство с поля брани?
Чем их встречать? Восторгами? Тревогой?
Где все их войско? Конрад поднял руку
И указал разбитые колонны;
Их вид один уже тому порука,
Что нет победы: по сугробам тонут,
Идут толпой, теснятся без порядка,
Как саранча ползет, побита градом,
Чуть движутся, покачиваясь шатко,
Топча подошвой павших тут же рядом.
Одни едва влачат бессильно ноги,
Другие обмерзают на дороге,
К сугробам привалившись, руки вскинув,
Столбами придорожными застынув.
Народ потек из города, взволнован.
Не задавая никаких вопросов,
Угадывал историю без слов он
Злосчастного похода крестоносцев.
В зрачках их смерть морозная застыла,
Им голоданье лица иссушило,
Вкруг них снегов пустынное мерцанье,
Их провожает песье завыванье,
За спинами — литовская погоня,
Над головами — карканье воронье.
Все кончено. Привел Конрад их к бедам;
Он, — с кем никто в сраженьях не был равным,
Привыкший к многочисленным победам, —
Поход на Вильно проиграл бесславно.
На Витольдовы хитрости не глядя,
Он осторожность всякую откинул:
Завел войска в литовскую равнину,
Их истомив при виленской осаде.
Когда у немцев кончились запасы
И голод их терзал без сожаленья —
Враги, осмелясь, к стану стали красться,
Уничтожать подвоз и подкрепленья.
И стали немцы тысячами падать;
Пора бы штурмом злой поход закончить
Или домой вернуться, сняв осаду, —
Но Валленрод, спокоен и уклончив,
В охоте находил себе отраду.
И тайный план душа его скрывала,
Вождей не посвятив в него нимало.
Угасло в нем былое вдохновенье,
Он войск своих не тронется мольбами,
Он не ведет их больше на сраженье;
Со сложенными на груди руками
Все медлит и с Хальбаном длит беседы.
Зима кружит густые снегопады,
А Витольд, новые собрав отряды,
Одерживает без конца победы.
О том не знают Ордена преданья:
Магистр великий, поле битвы кинув,
Наместо лавров и богатой дани
Приносит весть о торжестве литвинов!
Вы видели, как — преданный разгрому —
Рой призраков он возвращает к дому?
Чело его покрыто скорби тучей
И судорогой исказились щеки;
Конрад страдает. Но — вглядитесь лучше
Во взор его потупленный глубокий, —
Там отблески таящегося света
То вспыхнут, то померкнут на мгновенье,
Как путнику ночное наважденье,
То радостью, то бешенством сияя,
Какой-то адский пламень излучая.
Народ роптал. Но Конраду — нет дела;
Он рыцарей собрал совет недружный,
Кричал, грозил позором без предела,
Являя вид отчаянья наружный.
Опять Конрадово всесильно слово,
Все божьим гневом объяснить готово.
Стой, гордый вождь! Близка с тобой расплата:
В глубоком подземелье до рассвета
Горит неугасимая лампада, —
Идет собранье тайного совета.
Двенадцать кресел стало окруженьем
У трона, где устав Креста хранится,
Двенадцать судей в черном облаченье
Под масками свои укрыли лица,
Таясь от любопытных в подземелье,
Друг другу даже не вольны открыться.
Все в клятвенном согласные решенье
Карать своих старейшин прегрешенья,
За преступленья здесь их ждет расплата;
Здесь каждый — пусть предательством, пусть силой —
Хотя б над головой родного брата
Исполнит приговор произносимый,
Виновному — возмездие жестоко:
В руках у них кинжалы, шпаги — сбоку.
И вот один, приблизясь важным шагом,
У трона став, воздев к уставу шпагу,
Воскликнул: «Грозное собранье,
Недаром повод к подозреньям подан:
Тот, кто считался Валленродом ране, —
Совсем не Валленрод он.
Кто он — не знаю. К нам давно приехал, —
Должно быть, год двенадцатый уж минул.
Когда граф Валленрод шел в Палестину,
Он в свите был, его нося доспехи.
Граф Валленрод пропал без вести вскоре:
Подозреваемый в его убийстве,
Сей человек из Палестины скрылся,
В Испанию приплывши через море,
Там с маврами он в битвах отличился,
И на турнирах он с успехом бился,
Назвавшись Валленрод, — в его уборе.
И вот — теперь магистр он в нашем стане,
На гибель нашу и на поруганье
Как правил он — известно. В эту зиму,
Когда Литва и голод нам грозили,
Он все в леса, в дубравы удалялся
И с Витольдом сокрыто совещался.
Мои шпионы вслед за ним ходили,
С отшельницею наблюдали встречи.
О чем у них велись — не знают — речи,
На языке литовском говорили.
Все это ныне сопоставив вместе
И тайные доносчиков известья,
И то, о чем уже все судьи знают
И чуть ли не в народе обсуждают,
Магистру я вменяю обвиненье
В притворстве, и убийстве, и измене».
Перед уставом пал он на колени,
И, на распятье возложивши руку,
Он клятву дал, что правы обвиненья,
В свидетельство призвав Христову муку.
Умолк. И совершился суд бесстрастный:
Ни возгласа, ни шепота, ни шума,
Голов движенье лишь да взгляд угрюмый —
Все говорит о мысли грозной, властной.
И каждый, приближаясь к возвышенью,
Святых законов предается чтенью,
Страницы отвернув концом стилета,
У совести своей прося ответа.
И все, объединясь в согласном хоре,
Единодушно восклицают: «Горе!»
И трижды эхом отвечают стены
Их кличу: «Горе»,
В кратком этом слове
Весь приговор. И вот уж наготове
В двенадцати руках клинки блистают,
Конраду в грудь они вонзятся вскоре.
Выходят молча, Эхо повторяет
Вослед шагам их грозный отгул: «Горе!»
VI. Прощанье
Снег зимним утром искрится и вьется,
Конь мчится, грудью разрезая вьюгу, —
То Конрад скачет к озеру по лугу,
И зов его пред башней раздается:
«Альдона! Жизнь вернулась к нам, Альдона!
Я клятву выполнил, добился цели.
Они разбиты! Смяты их знамена».
Отшельница
То голос Альфа! Альф мой драгоценный!
Неужто ты ко мне вернулся снова?
И не уедешь? Кончилась тревога?
Конрад
Не спрашивай об этом ради бога,
Внимательно мое обдумай слово,
Конец тевтонам; страшны их утраты:
Гляди, как в небе зарево зардело, —
Литва опустошает их пределы.
Столетья не залечат ран закона,
Пронзил я грудь стоглавого дракона.
В развалинах их замки и палаты,
Я их лишил могущества и чести.
Сам ад страшней не выдумал бы мести.
Довольно! Я ведь — человек из плоти:
Вся молодость в бесславье и разбоях,
Теперь, в трудах согбенный и в заботе,
Я обессилел. Не гожусь для боя.
Довольно мщенья — немцы тоже люди.
Я был в Литве, и бог открыл глаза мне;
Чернеют замка ковенского груды —
В твоем дому и камня нет на камне.
Покинувши унылые руины,
Коня остановил я у долины.
А там — все той же рощи лепетанье,
Трава ковер все так же расстелила,
Как в давний вечер нашего прощанья, —
Как будто бы вчера все это было!
Ты помнишь камень тот? Высокий камень,
Который был прогулок наших целью?
Он так покрылся мохом и вьюнками,
Что я его чуть разглядел сквозь зелень.
Я счистил мох. Облил скамью слезами,
Где ты сидела в жаркую погоду
Под явора шумящими ветвями;
Ручей, откуда брал тебе я воду, —
Все, все глазами видел я своими,
Тот сад, что насадил тебе у склона,
Огородивши вербами сухими, —
С ним чудо приключилося, Альдона!
Сухие прутья укрепились прочно,
Они теперь шумят ветвями глухо,
Они полны сияющего пуха,
Цветут, корнями углубившись в почву!
При виде их — надежда обновленья
Былого счастья сердце мне пронзила;
Целуя вербы, пал я на колени:
«О боже, — вскрикнул, — если б это было, —
Чтоб в край родной вернулись мы с тобою,
Зажили бы опять в Литве, как прежде,
Чтобы, как эти ветви, наше счастье
Зазеленело листиком надежды».
Вернемся же! По моему приказу
Ворота эти распахнутся сразу…
Хотя б они раз в тысячу прочнее,
Ворота эти я открыть сумею. Любимейшая!
На ладонях ждущих
Я унесу тебя в твою долину.
Есть много уголков в литовских пущах,
Средь беловежских чащ укрытий много,
Куда волнений гребни не дохлынут,
Не долетит военная тревога,
Ни вражеское злобное глумленье,
Ни горький звук мучительного стона…
Там, средь пастушьего уединенья,
В объятиях твоих, моя Альдона,
Весь мир забыв, начну я жизнь сначала.
Ответь, решись!
Она не отвечала.
Конрад умолк и тщетно ждет ответа.
Уж свет зари румянцем небо ранит:
«О, отвечай же! Близок час рассвета,
Проснутся люди, стража нас застанет,
Альдона!» Голос рвется от волненья,
Прерывисто дыханье, хриплы звуки,
Он молча простирает кверху руки,
Пал на колени, молит сожаленья.
«Нет, поздно, — голос грустный, но спокойный
Ему в ответ. — Бог ниспошлет мне силу,
От слабости удержит недостойной,
Я поклялась у этого порога
Отсюда выйти — только лишь в могилу.
Боролась я с собой, о друг мой милый,
А ты зовешь меня перечить богу.
Кого ты кличешь к жизни? Привиденье.
Подумай: если б я ума лишилась,
Покинувши мое уединенье,
Опять в твоих объятьях очутилась,
А ты, любимой не узнав подруги,
Вскричал бы скорбно в горестном испуге:
«Альдона! Как ты страшно изменилась?..»
Где взор, что полон был огня и света?
Стан, долгим заточеньем изможденный!
Нет, пусть не исказит виденье это
Прекрасный лик былой твоей Альдоны.
Прости, любимый мой, — сама признаюсь:
Когда луна нам слишком ярко светит,
Я очи отвращаю, опасаясь
След времени в лице твоем приметить.
Ты, может, стал совсем иным по виду,
Не тем, каким запомнился мне прежде,
Когда ты прибыл в замок с нашей свитой,
Но сердце память о тебе хранило —
В том виде, в том обличье, в той одежде.
Так бабочка, что в янтаре застыла,
Хранит узорных крыльев очертанья.
Альф! Пусть же память первого свиданья
Останется залогом новой встречи,
Но уж не здесь, не на земле — далече!..
Прекрасные долины — для счастливых,
А я сроднилась с каменным затишьем.
Довольна тем, что жив ты, что призывы —
Твой голос милый — вечерами слышу.
Любимый мой! И в этих тесных стенах
Для мук найдем источник мы целящий.
Брось мыслить об убийствах и изменах.
Старайся приходить сюда почаще.
Послушай: если бы на луг пред башней
Ты смог перенести родные ивы,
Здесь повторивши садик наш тогдашний,
И те цветы, и камень наш счастливый,
Чтоб дети из соседнего селенья
Играли меж деревьями густыми,
Венки плели под мирной этой сенью
И песнями бы тешили родными…
Родные песни гонят прочь кручину,
Сны о Литве, об Альфе навевают,
А после, позже, по моей кончине,
Пусть над твоей могилой распевают…»
Но Альф уже не слушал. Быстрым шагом
Он уходил без мысли и без цели,
На берег, побелевший от метели,
Сквозь заросли, по скатам и оврагам.
Хотел он в этом яростном движенье
По сумрачным пригоркам и равнине
Найти себе от муки облегченье,
С плеч плащ сорвав, но горя не отринув.
На городском валу, уж на рассвете,
Остановился он на самом взгорье,
Тень за собой какую-то приметив:
Мелькнула и в овраге скрылась вскоре,
Лишь возглас слышен: «Горе, горе, горе!»
Услышав этот голос, Альф очнулся
И понял все мгновенно. Повернулся,
Окинув взором даль над берегами, —
Повсюду пусто, только ветра стоны,
Да вьюжил снег, да лес под ветром гнулся;
Взволнованный, он покидает склоны
И медленно, неверными шагами
Идет назад к убежищу Альдоны.
Он видит тень ее в лучах рассвета,
Кричит: «День добрый! Сколько лет с тобою
Встречались мы лишь сумрачной норою,
Теперь — день добрый! Добрая примета!
Днем, в первый раз за годы испытанья,
Узнай, зачем пришел я на рассвете».
Альдона
Я не хочу загадок. До свиданья,
Любимый! Уходи: тебя заметят;
Не убеждай меня, прошу я слезно
Уйти отсюда…
Альф
О, теперь уже поздно!
Ты знаешь, что теперь могу желать я?
Брось мне хоть ветку, стебелек увядший.
Цветок не можешь? Лоскуток от платья,
Обрывок ленты, камешек от башни:
Хочу сегодня — жизни день не прочен —
Хранить залог любви твоей всегдашней,
Который бы груди твоей касался,
Чтоб он со мной в предсмертный час остался,
Чтоб стал он мне последней жизни вестью.
Мне гибель предстоит. Погибнем вместе.
Ты видишь там вон, на валу, бойницу,
Там я останусь. Каждый день с рассветом
Взовьется черный флаг над парапетом,
А вечером там лампа загорится.
Гляди туда и знай по той примете,
Что если утром там платок не взвился,
А ночью лампы луч не засветился, —
То, значит, больше нет меня на свете.
Прощай!
И — скрылся: звук его походки
Затих вдали. Альдона онемела,
Вся кровь ее от ужаса застыла.
Уж день прошел, а все заметно было,
Как ветер шевелил одеждой белой
Фигуры, распростертой у решетки.
* * *
«Уж закатилось, — молвил Альф Хальбану,
На солнце указав в окно бойницы,
Откуда наблюдал оннепрестанно
За башнею Альдоновой темницы. —
Дай плащ и саблю, верный мой наставник
Иду я к башне. Будь здоров и славных
Дождись времен. Я ж ожидаю худа.
Послушай, если мне не удалось бы
Назад вернуться, — уходи отсюда.
И — вот еще одна осталась просьба…
О боже, как я одинок на свете,
Ни с кем не связан, только двое эти!
Ни на земле, ни в тверди поднебесной…
Так вот, Хальбан: чтоб стало ей известно,
Сорви платок, свисающий со свода…
Постой! Ты слышишь?.. Ломятся в ворота».
«Кто там?» — привратник трижды окликает.
И снизу: «Горе!» — отвечают хором;
Замолкнул страж, в борьбе изнемогает,
Уж поддались ворота под напором.
Уж в бастион врываются у входа,
Уж винтовою лестницей несутся,
Ведущею в укрытье Валленрода.
Шаги все ближе, ближе раздаются.
Альф двери закрывает на засовы,
Меч выхватив, зажал в руке, другою
Взял кубок, выпил; наливает снова.
«Свершилось! Старец, дело за тобою!»
Хальбан, бледнея, на него взирает.
Из рук хотел он выбить кубок с ядом,
Но за дверьми оружие бряцает, —
Они пришли — совсем уж близко — рядом.
«Старик! Тебе понятны эти звуки?
Чего же медлить? Кубок ноли до края,
Мой — выпит. Принимай же этот в руки»…
Хальбан молчит, в отчаянье внимая.
«Нет… И тебя я пережить обязан,
Мой сын, я и тебе глаза закрою.
Чтоб подвиг твой был людям всем рассказан,
Чтобы в веках прославиться герою.
Я по Литве промчу рассказ чудесный,
По хижинам убогим и палатам,
Пусть о тебе поют вот эту песню —
Бард — рыцарям, а матери — ребятам.
И пусть напев ее поднимет в росте
В грядущем — мстителя за наши кости!»
К бойнице Альф приник, слезу роняя,
И долго-долго он глядит на башню,
Как будто хочет день вернуть вчерашний,
Который меркнет, в далях пропадая.
Обнял Хальбана. Пристальные взоры
В последний раз друг друга ободряют.
Не выдержали натиска запоры,
Вошли враги — и Альфа окликают:
«Изменник! Близко казни совершенье,
Меч на тебя сейчас удар обрушит,
Вот капеллан, пред ним очисти душу,
Покайся в совершенном прегрешенье».
Альф, меч поднявши, встречи ожидает,
Но вдруг бледнеет, голову склоняет,
О подоконник оперся, шатаясь,
Но — знак магистра — плащ срывает пышный,
Ногами топчет, гордо усмехаясь:
«Вот грех мой, да простит его всевышний!
Готов я к смерти, что ж еще услышать
Хотите? Счет правленья мной представлен:
Считайте — сколько сгибло ваших тысяч
И сколько тлеет выжженных развалин.
Слышна вам вьюга? Снежной мглой покрыты,
Останки стынут ваших войск разбитых,
Над ними псов голодных рыщет стая,
Они окоченели, умирая.
Я это сделал. И одним ударом
Стоглавую я уничтожил гидру.
Колонны расшатав, Самсоном ярым
Разрушив зданье, сам под ним погибнул!»
Сказав, он пал, и жизни в нем не стало,
Но лампу сбил, в паденье изогнувшись,
Что, трижды колесом перевернувшись,
У самой головы его упала.
В разлитом масле чуть огонь мерцает,
Мигает, меркнет, вот его не стало,
И вдруг, как знак последнего привета,
Прощальной вспышкой Альфа освещает,
И — кончено: погас источник света.
И в тот же миг, пронзивши стены башни,
Пронесся крик, протяжный, скорбный, страшный…
Чье сердце застонало — вам понятно,
А тот, кто издали б его услышал,
Решил бы: та, из чьей груди он вышел,
Звучанья не вернет себе обратно,
И с криком тем — навек сомкнулись губы.
Так струны лютни, под ударом грубым
Порвавшись, отдадут всю силу звука, —
Началу песни добрая порука,
Конца ж ее вовеки не узнают.
Так об Альдоне не кончайся, песня!
Пусть ангелы в гармонии небесной,
А слушатели — в сердце допевают.
Объяснения
С мариенбургской башни звон раздался… — Мариенбург, по-польски Мальборг, укрепленный город, некогда бывший столицей крестоносцев, при Казимире Ягеллоне
{112} был присоединен к Речи Посполитой, позднее отдан в залог маркграфам Бранденбургским и, наконец, перешел во владение прусских королей. В подземельях мариенбурского замка находились гробницы великих магистров, некоторые из них сохранились доныне. Фойгт, кенигсбергский профессор, опубликовал несколько лет тому назад историю Мариенбурга, труд, имеющий большое значение для истории Пруссии и Литвы.
.
..кресту большому // …и меч большой… — Большой крест и большой меч — знаки великих магистров.
.
..одними глаз своих лучами // Души своей бессмертным талисманом… //
Он ярость зверя страшную смиряет. — Взор человека, утверждает Купер, если он горит огнем отваги и ума, производит сильное впечатление даже на диких зверей. Мы можем привести в доказательство этого истинное происшествие, случившееся с американским охотником, который, подкрадываясь к уткам, услышал шорох, поднялся и к ужасу своему увидел лежавшего рядом огромного льва. Зверь, казалось, также был поражен, увидев пред собой человека атлетического сложения. Охотник не решился выстрелить, так как ружье его было заряжено дробью Он стоял поэтому неподвижно, угрожая врагу одним только взглядом. Лев, со своей стороны, продолжал лежать спокойно, не спуская глаз с охотника; через несколько мгновений он отвернул голову и стал медленно удаляться, но, сделав десяток-другой шагов, остановился и вернулся снова. Он застал охотника на том же месте, неподвижным, как раньше, опять встретился с ним взглядом и, наконец, словно признавая превосходство человека, опустил глаза и ушел. Bibliotheque Universelle, 1827, fevrier: «Voyage du capitaine Head».
.
..затворница младая // …в башню добровольно заключилась. — Хроники тех времен рассказывают о крестьянской девушке, которая, прибыв в Мариенбург, потребовала, чтобы ее замуровали в отдельной келье, и там закончила свою жизнь. Могила ее славилась чудесами.
Вы слышали, она вещала: «Конрад»… — Если при избрании великого магистра не было единодушного и твердого мнения, то случаи, подобные описанному, воспринимались как знамение свыше и имели влияние на решение капитула. Так, Винрих фон Книпроде был избран единогласно благодаря тому, что несколько братьев будто бы слышали донесшийся из могил магистров троекратный призыв: «Винрих! Орден в опасности!»
Неугасимы огни Свенторога… — Виленский замок, в котором некогда хранился «знич», то есть вечный огонь.
.
..Зловещим Дева-Смерть идет походом… — Простой народ в Литве представляет себе моровое поветрие в образе девы, появление которой, описанное здесь на основании народных сказаний, предшествует страшной болезни. Привожу содержание слышанной мною когда-то в Литве баллады: «В деревне появилась моровая дева и, по своему обыкновению, стала просовывать в окно или в дверь руку и, размахивая красным платком, сеять по домам смерть, Жители заперлись в своих домах, как в крепости, но голод и иные потребности вскоре заставили их пренебречь мерами предосторожности; все, таким образом, ждали смерти. Один шляхтич, хотя он и был обеспечен в достаточном количестве провизией и имел возможность дольше других выдержать эту необычайную осаду, решил, однако, принести себя в жертву для блага ближних, взял саблю-зыгмунтовку
{113}, на которой были начертаны имя Иисуса и имя Марии, и, вооруженный ею, открыл окно своего дома. Шляхтич одним взмахом сабли отрубил чудовищу руку и завладел платком. Правда, он умер, умерла его жена, но с той поры в деревне никогда уже не знали морового поветрия». Платок этот как будто потом хранился в костеле, не помню какого местечка. На Востоке перед нашествием чумы, говорят, появляется привидение с крыльями летучей мыши и пальцами указывает, кто обречен на смерть. Мне представляется, что народное воображение выражало в подобных образах то тайное предчувствие и ту необычайную тревогу, которые предшествуют большим несчастьям или смерти и которые испытывают не только отдельные лица, но и целые пароды. Так, в Греции будто бы предчувствовали длительность и страшные последствия пелопоннесской войны, в Риме — падение монархии, в Америке — появление испанцев и т. д.
.
..Дали имя мне Вальтер, прибавили прозвище Альфа… — Вальтер фон Стадион, немецкий рыцарь, взятый в плен литовцами, женился на дочери Кейстута
{114} и тайно уехал с нею из Литвы. Случалось нередко, что пруссы и литовцы, детьми похищенные и воспитанные среди немцев, возвращались на родину и становились самыми ожесточенными врагами немцев. Таков был прославившийся в истории Ордена прусс Гер-кус Монте.
«Война». — Картина этой войны изображена в соответствии с историей.
.
..Идет собранье тайного совета. — В средние века, когда могущественные герцоги и бароны неоднократно совершали всякие преступления, когда авторитет обыкновенных трибуналов не был достаточен для их обуздания, создано было тайное братство, члены которого, не зная друг друга, обязались под присягой карать виновных, не щадя ни собственных друзей, ни родных. Лишь только тайные судьи
{115} выносили смертный приговор, ставили об этом в известность осужденного, крича под окнами его дома или где-либо в другом месте в его присутствии: «Горе!» Трижды повторенное слово это было предостережением; услышавший его готовился к смерти, которая неминуемо и неожиданно должна была его постичь от неведомой руки. Тайный суд назывался еще «вестфальским». Трудно определить, когда он возник; по мнению некоторых, он был учрежден Карлом Великим. Сперва себя оправдавший, он в дальнейшем дал повод к различным злоупотреблениям, и власти неоднократно вынуждены были возбуждать преследования против самих судей, а затем и совершенно упразднить это судилище.
Мы назвали нашу повесть исторической потому, что характеристика действующих лиц и все описание важнейших упоминаемых в ней событий основаны на исторических данных. Хроники того времени, сохранившиеся в отрывочных и неполных списках, часто требуют догадок и должны быть дополнены домыслами, чтобы на их основе воссоздать какое-нибудь историческое целое. Излагая историю Валленрода, я допустил домыслы, но я надеюсь, что сумею оправдать их соответствием исторической правде. Согласно хроникам, Конрад Валленрод не происходил из известного немецкого рода Валленродов, хотя выдавал себя за члена этого рода. Он был как будто чьим-то незаконнорожденным сыном. Кенигсбергская хроника (библиотеки Валленрода) указывает: «Он был сыном церковного служителя», О характере этого странного человека мы имеем возможность читать самые разнообразные и противоречивые предания. Большинство летописцев ставит ему в укор гордость, жестокость, пьянство, суровое отношение к подчиненным, недостаточное радение о вере и даже ненависть к духовенству. «Он был настоящим головорезом» (хроника библиотеки Валленрода). «Сердце его постоянно стремилось к войне, к раздорам и сварам; и, хотя по своей принадлежности к Ордену он должен был быть человеком богобоязненным, он внушал, однако, отвращение всем благочестивым духовным лицам». «Он правил недолго, ибо бог покарал его недугом внутреннего огня». С другой стороны, летописцы того времени признают за ним величие ума, мужество, благородство и силу характера; действительно, без исключительных качеств он не мог бы удержать власть среди общей ненависти и бедствий, в которые поверг Орден. Вспомним теперь, каково было поведение Валленрода. Когда он принял на себя бразды правления Орденом, был благоприятный момент для войны с Литвой, так как Витольд обещал немцам, что сам поведет их на Вильно и щедро вознаградит их за помощь. Валленрод, однако, оттягивал войну и, что еще хуже, оттолкнул Витольда и в то же время так легкомысленно доверился ему, что князь этот, тайно помирившись с Ягелло, не только ушел из Пруссии, но, вступая по дороге в немецкие замки как друг, предавал их огню, а гарнизоны вырезывал. При такой неблагоприятной перемене обстоятельств следовало бы отказаться от войны или приступить к ней с большими предосторожностями. Великий магистр объявляет крестовый поход, опустошает казну Ордена на военные приготовления (пять миллионов марок, около миллиона венгерских злотых — сумма для того времени умопомрачительная), идет на Литву. Все же он мог бы взять Вильно, если бы не тратил времени на пиры и на ожидание подкреплений. Наступила осень. Валленрод, оставив лагерь без продовольствия, в полном беспорядке, уходит обратно в Пруссию. Летописцы того времени и позднейшие историки не в состоянии разгадать причину столь неожиданного отъезда его и не находят в тогдашних обстоятельствах никакого повода к этому. Некоторые объясняли бегство Валленрода его умопомешательством. Все отмеченные здесь противоречия в характере и действиях нашего героя удастся примирить, если допустить, что он был литовцем и что он вступил в Орден, чтобы мстить ему. В самом деле, его правление нанесло самый тяжелый удар могуществу крестоносцев. Допустим, что Валленрод был тем самым Вальтером Стадионом, — сократим лишь на какой-либо десяток лет время, прошедшее между отъездом Вальтера из Литвы и появлением Конрада в Мариенбурге. Валленрод умер в 1394 году внезапной смертью, причем смерть его сопровождалась весьма странными обстоятельствами. «Он умер, — повествует хроника, — в помешательстве, без последнего миропомазания, без пасторского благословения. Незадолго до его смерти бушевали бури, ливни, наводнения; Висла и Ногат прорвали свои плотины… в то же время воды проложили себе новое русло там, где теперь находится Пилава». Хальбан, или как его называют летописцы, доктор Леандер фон Альбанус, монах, единственный и неразлучный товарищ Валленрода, хотя носил маску благочестия, был, по свидетельству летописца, еретиком, язычником, а может быть, и колдуном. О смерти Хальбана нет точных сведений, Некоторые пишут, что он утонул, другие — что он загадочно исчез или был похищен сатаной. Хроники мы приводили преимущественно из сочинения Коцебу «Древняя история Пруссии». Гарткнох
{116}, называя Валленрода «безумцем», дает о нем очень краткие сведения.
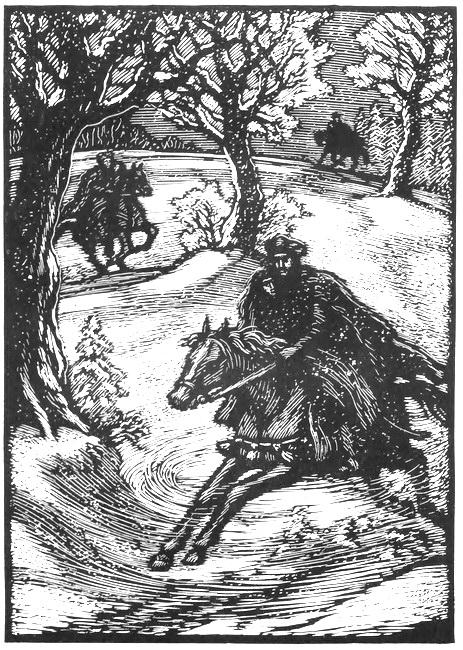
«Будрыс и его сыновья»
Дзяды
Поэма
Части II и IV
Перевод Л. Мартынова
{117}
Призрак
Стиснуты зубы, опущены веки,
Сердце не бьется — оледенело;
Здесь он еще и не здесь уж навеки!
Кто он? Он — мертвое тело»
Живы надежды, и труп оживился,
Память зажглась путеводной звездою,
Видишь: он в юность свою возвратился,
Ищет лицо дорогое.
Затрепетали и губы и веки.
И появился в глазах жизни признак.
Снова он здесь, хоть не здесь он навеки.
Что он такое? Он — призрак!
Ведомо всем, кто у кладбища жили,
Что пробуждается в день поминальный
И восстает из кладбищенской гнили
Этот вот призрак печальный.
Но зазвонят из тумана ночного,
Что воскресенье уже наступило, —
С грудью как будто разодранной снова
Падает призрак в могилу.
Живы его хоронившие… Часто
О человеке ночном говорится…
Кто же он, юноша этот несчастный?
Это — самоубийца!
Терпит, наверно, он страшную кару:
Весь пламенеет, тоскует ужасно…
Слышал однажды наш ризничий старый
Призрака голос неясный.
Передрассветные звезды блистали,
И привиденье, покинув могилу,
Руки вздымая в великой печали,
Жалобно заговорило:
«Ты, дух проклятый, зачем жизни пламя
Вновь заронил под бесчувственный камень?
Ведь угасало оно в этой яме!
Снова зачем этот пламень?
О, приговор справедливо суровый!
Вновь познакомиться, вновь разлучиться,
Из-за нее умереть смертью новой,
Помнить о ней и томиться.
Вновь между всякого сброда шататься
Буду я всюду, гонясь за тобою;
Впрочем, с людьми не хочу я считаться —
В жизни изведал всего я!
Если смотрела ты — взор опускал я,
Точно преступник; когда говорила —
Слышал я все, но молчал и молчал я,
Словно немая могила.
Это замечено было друзьями,
Юноши это причудой считали,
Старшие — лишь пожимали плечами
Либо мораль мне читали.
Слушал насмешки я, слушал советы…
Впрочем, и я бы на месте другого
Точно вот так же осмеивал это
И осуждал бы сурово.
Некто решил, что моим поведеньем
Гордость задета его родовая,
Но отстранялся с любезным терпеньем,
Будто бы не замечая.
Горд был и я: мол — понятно мне это!
Громко дерзил я в ответ на молчанье
Или выказывал вместо ответа
Полное непониманье.
Ну, а иной не прощал прегрешенья,
И на лице у него выражалась
Сквозь оскорбительное снисхожденье
Лишь лицемерная жалость.
Жалости той не прощу ни за что я!
Я не молил его — я улыбнулся,
Но, и презрением не удостоив,
Он от меня отвернулся!
Вновь подвергаюсь я всем испытаньям,
В мир устремляясь кладбищенской тенью.
Эти — как черта, хлестнут заклинаньем,
Те — убегают в смятенье.
Этот смешит меня глупою спесью,
Этот — навязчив, а этот — ехиден…
Рвусь лишь к одной. Почему же всем здесь я
Дивен иль даже обиден?
Тем, кто жалел, покажу непочтенье,
А зубоскалам, пожалуй, и жалость!..
Только бы ты, о любимая, с тенью
Снова сейчас повстречалась!
Ты погляди и скажи мне хоть слово,
Не осуди беспокойную душу.
Только на час ведь я — призрак былого —
Новое счастье нарушу!
Может быть, к солнцу привычные очи
Не испугаются темного гостя,
И до конца ты дослушать захочешь
Речь, что звучит на погосте.
Может быть, мысль и твоя устремится,
Пусть на мгновенье хотя бы, к былому —
К сорным травинкам в щелях черепицы
Старого, старого дома».
Дзяды. Это название торжественного обряда, доныне справляемого простым народом во многих местностях Литвы, Пруссии и Курляндии в память «дзядов», то есть умерших предков. Обряд этот ведет начало свое от времен языческих и некогда назывался «праздником козла»
{118}, на котором распорядителем был кудесник — косьляж
{119}, гусьляж или усляр, одновременно и жрец и поэт
(geślarz). В наше время, поскольку просвещенное духовенство и власти стремятся искоренить этот обычай, связанный с выполнением суеверных обрядов, часто принимающих формы, достойные порицания, — народ справляет
дзяды тайно, в часовнях или пустующих домах близ кладбища. Там обычно ставят угощение — разную еду, напитки, плоды — и призывают души умерших. Достойно внимания, что обычай угощать мертвых, по-видимому, существовал у всех языческих народов — в Древней Греции во времена Гомера, в Скандинавии, в странах Востока и поныне на островах Нового Света. У нас в Литве
дзяды имеют ту особенность, что к обрядности языческой здесь примешиваются представления христианской религии, а главное — этот языческий праздник по времени почти совпадает с христианским днем поминовения усопших. Простой народ верит, что угощением и песнями приносит облегчение душам, томящимся в чистилище. Возвышенная цель обряда, пустынная местность, ночное время, фантастичность обстановки некогда сильно волновали мое воображение; я вслушивался в сказки, рассказы и песни о мертвецах, возвращающихся с просьбами или предостережениями; и во всех этих чудовищных вымыслах можно было уловить определенные моральные стремления и определенную идею, образно выраженную простым деревенским людом. Настоящая поэма написана именно в таком духе, обрядовые же песни и заклинания в большинстве переданы верно, а иногда и дословно взяты из народной поэзии.
Часть II
There are more things in Heaven and Earth,
Than are dreamt of in your philosophy.
Shakespeare.
Есть на земле и в небе чудеса,
Какие вашей мудрости не снились.
Шекспир.
Кудесник. — Старец первый в хоре. — Хор крестьян и крестьянок. — Часовня, вечер.
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится,
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Дверь часовни затворите,
Станьте перед домовиной;
Все лампады потушите,
Не оставьте ни единой.
А на окна — покрывала,
Чтоб луна не проникала.
Ну-ка, живо, смело, дружно!
Старец
Все исполнено, что нужно!
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится,
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Чистилища души
В воде и на суше:
Вы, пылающие в смолах
Где-то в огненной геенне,
Или зябнущие в речках,
Иль для мук, стократ тяжелых,
Грубо вбитые в поленья,
Чтоб пищать и плакать в печках, —
Мчитесь к нам! Врата открыты
Дома этого святого,
Милостыня вам готова —
Угощенья, и напитки,
И молитвы, и обряды —
Будет все у вас в избытке:
Нынче мы справляем Дзяды!
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится,
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Дайте горсточку кудели.
Зажигаю! Дуйте дружно!
Искрам ввысь подняться нужно,
Чтоб летели и блестели
Так вот, так вот, выше, выше —
В темноту, до самой крыши!
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится,
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Это — сонмы душ легчайших,
Души тех, кто здесь в округе
Средь рыданий, мрака, вьюги
И лишений глубочайших
Отсверкали и сгорели,
Словно горсточка кудели.
Вас, — в какой бы дальней дали
Между адом вы и раем
По сегодня ни блуждали, —
Призываем, заклинаем!
Хор
Что вам дать? Пусть молвит каждый!
Голодом томитесь? Жаждой?
Кудесник
Ах, смотрите! Кто сияет
Там, вверху, под сводом мглистым,
Опереньем золотистым?
Два младенчика летают!
Как под ветерком листочки
На трепещущем сучочке,
Как птенцы, как голубочки,
Там играют ангелочки!
Кудесник и старец
Как под ветерком листочки
На трепещущем сучочке,
Как птенцы, как голубочки,
Там играют ангелочки!
Ангелок
(одной из крестьянок)
А мы — к маме. Что-то с мамой!
Мама, ты узнала Юзя?
Я ведь Юзё! Я — тот самый!
А со мной — сестричка Рузя.
С неба мы, из рая прямо!
Там нам лучше, чем у мамы!
Посмотри — какие крылья!
Мы, как бабочки, порхаем.
Нас в сиянье нарядили —
Мы, как лучики, сверкаем!
Там, в раю, всего в достатке,
Вечно новые забавы:
Где мы ступим — блещут травы,
Где дохнем — цветут дубравы!
Но хотя всего в достатке —
Мы в печали, мы в тревоге…
Мама! Мы, твои ребятки,
В небо не найдем дороги!
Хор
Да, хотя всего в достатке,
Всё же души их в тревоге!
Слышишь, мать: твои ребятки
В небо не нашли дороги!
Кудесник
Что же нужно, ангелочек,
Чтоб попасть тебе на небо?
Божья помощь? Или хлеба?
Пончик? Сладкий пирожочек?
Или молока глоточек?
Овощ? Ягодку из сада?
Что же просишь ты, дружочек,
Чтоб попасть душе на небо?
Ангелочек
Не хотим сластей и хлеба!
Угощений нам не надо!
На земле мы сытно ели —
Мы вкушали только сласти,
Горького мы не познали,
И от этого — несчастье! —
Всё мы пели да скакали.
Побежать с ней на лужочек,
Для нее сорвать цветочек —
Вот была моя работа,
Куклы — вот ее забота.
И с Розалькой прилетели
Мы сегодня к вам на Дзяды,
Но не нужно нам обряда,
И молитв нам не читайте,
Молоком не угощайте,
Пирожков не надо тоже,
И не хочется печенья —
Два зерна горчичных дайте!
Эти зернышки дороже
Всяческого отпущенья.
Слушайте же все и разумейте,
Знайте, что господь повелевает:
Тот, кто горя не познал на свете,
После смерти радость не познает!
Хор
Слушайте же все и разумейте,
Знайте, что господь повелевает:
Тот, кто горя не познал на свете,
После смерти радость не познает!
Кудесник
Детки горемычные,
Вот вам на дорогу
Два зерна горчичные
И — летите к богу!
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца и сына и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Хор
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца и сына и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Призрак исчезает.
Кудесник
Полночь! Двери — на колодке?
Ну-ка, ставьте в середину
Тот котел. Он полон водки.
Поднесемте к ней лучину,
Чтобы водка вся сгорела!
Знак подам — берись за дело.
Только быстро, только смело!
Старец
Загорелось, закипело,
Отпылало!
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится…
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Вы, прискорбные созданья,
Что прикованы доныне
Тяжкой цепью злодеянья
К этой вот земной долине!
Ангел смерти ждет вас, ищет,
Смерть давно вас одолела,
Но на старых пепелищах
В страшных пытках ваше тело
Мучиться, томиться будет
До тех пор, покуда люди
Вас не выручат из ада.
Заклинаю вас родною
Вам стихией огневою:
Говорите, что вам надо!
Хор
Что вам дать? Пусть молвит каждый!
Голодом томитесь? Жаждой?
Голос
(за окном)
Совы, вороны, орлицы!
Жадные, не налетайте,
Дайте к церковке пробиться,
Шаг хотя бы сделать дайте!
Кудесник
Вот он, за окном стоящий!
Призрак, к нам сюда глядящий!
Будто в поле кость белеет —
Так он бел средь темной ночи.
Ишь на лоб полезли очи —
Точно угли в пепле тлеют!
Дышит молнией и дымом,
Волосища встали дыбом.
Будто сноп сухой горящий
Сыплет искры над травою —
Пляшут искры над пропащей,
Обреченной головою!
Хор
Будто сноп сухой горящий
Сыплет искры над травою —
Пляшут искры над пропащей,
Обреченной головою!
Призрак
(из-за окна)
Вы меня узнали, дети?
Я покойный ваш владетель!
Третий год пошел сегодня,
Как в могилу лег я, дети!
Ах, как длань тяжка господня!
Мук не выдумать жесточе!
Я под властью духа злого,
И от света от дневного,
Проклят солнечным сияньем,
Я бегу в объятья ночи
По дороге бесконечной.
Нет конца моим блужданьям,
Жжет утробу голод вечный.
Кто подарит подаяньем?
Плоть клюют обжоры-птицы.
Кто поможет защититься?
Нет конца моим страданьям!
Хор
Плоть клюют обжоры-птицы.
Кто поможет защититься?
Нет конца его страданьям!
Кудесник
Так чего же ты желаешь,
Чтоб избавиться от пытки?
Просишься ли ты на небо?
О святых пирах мечтаешь?
Есть здесь яства и напитки,
Хватит молока и хлеба,
Есть и ягода и овощ!
Чем прийти тебе на помощь,
Чтоб душа достигла неба?
Призрак
В небо?.. мне?.. Оставь хуленья!
Нет! Я не хочу на небо!
Одного хотелось мне бы:
Для души освобожденья!
Одного душе бы надо —
В ад бы! Пусть в глубины ада,
Лишь бы только не влачиться
С темной нечистью по свету,
Видя пепел наслажденья,
Видя копоть преступленья, —
От заката до рассвета,
От рассвета до заката
Жаждой, голодом томиться,
Быть добычей хищной птицы…
Нет жесточе наказанья!
До тех пор я в теле буду
Душу волочить, покуда
Вы, рабы мои, крестьяне,
Есть и пить мне не дадите!
Смилуйтесь же! Пощадите!
Долго ль будет мука длиться?
Хоть бы мерку мне водицы,
А вдобавок к той водице —
Хоть бы два зерна пшеницы!
Хор
Долго ль будет он томиться?
Хоть глоток ему водицы,
А вдобавок к той водице —
Хоть бы два зерна пшеницы!
Хор ночных птиц
Тщетны просьбы, тщетны стоны:
Вот мы кружим черной тучей,
Совы, филины, вороны.
Были мы людьми твоими:
Голодом ты нас замучил, —
Пищу мы твою отымем!
Филины, вороны, совы,
Гей, бросайтесь на него вы,
Налетайте, полны злобы!
Когти остры, кривы клювы —
Шарьте у него во рту вы,
Пасть, и глотку, и утробу
Обыщите и проверьте…
Пан, не знал ты милосердья!
Гей, сычи, вороны, совы,
Будем мы теперь готовы
Беспощадно, в лютой злости
Пищу пана рвать на части.
Нету пищи в панской пасти,
Будем пана рвать на части, —
Пусть белеют в поле кости!
Ворон
Голод для тебя несносен?
Мучишься! А неужели
Ты забыл, как я под осень
В сад пришел? Плоды алели;
Я три дня не ел ни крошки,
Стряс два яблока и только.
Ждал садовник на дорожке —
Пса науськал, как на волка.
Взяли! Стража одолела…
Начались тут суд да дело.
А о чем же, в самом деле?
Эх, не о лесном плоде ли?
Только! А плоды-то эти
Разве не для всех на свете
Дал господь, как хлеб, как воду?
Пан кричит: «В пример народу
Должен быть злодей наказан!»
Все село смотреть сбежалось.
Я лежу, к сохе привязан
{120}.
Не знакома пану жалость:
Мол, наказывайте строже,
Столько лоз ему отмерьте,
Чтоб, вконец его измучив,
Косточки отбить от кожи,
Как горошины от стручьев!
Пан, не знал ты милосердья!
Хор птиц
Гей, сычи, вороны, совы,
Вот и мы теперь готовы
Беспощадно, в лютой злости
Пищу пана рвать на части.
Нету пищи в панской пасти,
Значит, пана рви на части, —
Пусть белеют в поле кости!
Сова
С голоду сдыхать не сладко?
Помнишь? Дело было к святкам,
У дверей твоих я стала,
На руках дитя держала.
«Пан, — молила со слезами, —
Смилуйся над сиротами!
Не вернется муж. Он — мертвый.
Дочку взял к себе на двор ты,
В хате мать лежит больная.
Что и делать мне, не знаю!
Может, ты поможешь, пане?»
Но, жесток в своем бездушье,
Золотом звеня в кармане,
Тихо молвил гайдуку ты:
«Кто гостям тут трубит в уши?
Попрошайку эту к черту
Гнать, не медля ни минуты!»
И гайдук меня с порогу
Выгнал прямо на дорогу:
Мол, в господский дом не лезьте!
Потащилась я по снегу,
Не могла найти ночлега,
Померла с ребенком вместе
На дороге лютой смертью…
Пан, не знал ты милосердья!
Хор птиц
Гей, сычи, вороны, совы,
Вот и мы теперь готовы
Беспощадно, в лютой злости
Пищу пана рвать на части.
Нету пищи в панской пасти,
Значит, пана рвем на части, —
Пусть белеют в поле кости!
Призрак
Нет мне помощи, я знаю!
Перехватит птичья стая
Все, что мне подать вы рады!
Что мне Дзяды? Что мне Дзяды?
Знайте, справедлива воля неба!
Ведь тому, который хоть немного
Человеком в этой жизни не был,
Люди помощи подать не могут!
Хор
Знайте, справедлива воля неба!
Ведь тому, который хоть немного
Человеком в этой жизни не был,
Люди помощи подать не могут!
Кудесник
Если нет тебе помоги —
Так исчезни, дух убогий!
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца и сына и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Хор
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца, и сына, и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Призрак исчезает.
Кудесник
Тот венок на хворостинке
Я беру… Трава святая,
Загорись, чтоб, ввысь взлетая,
Искрились твои былинки!
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится…
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Встаньте перед нами ныне,
Промежуточные духи,
Вы, кто в сей земной долине
Средь несчастья и разрухи,
Темноты, метели, мрака
Прозябали, но, однако,
Не терпели никакого
Над собой суда людского!
Не для нас и не для света
Жили вы, как мальва эта,
Как чабрец среди равнины, —
Нет в них прока для скотины,
Для людей в них нету прока,
Но, сплетенные венками,
На стене висят над нами
Так высоко, так высоко,
Как когда-то, в дни иные,
Возвышали грудь и око
Вы, о женщины земные!
Ты, что чистыми крылами
Не впорхнула в двери рая,
Мы кадим тебе цветами,
Призывая, заклиная!
Хор
Что вам дать? Пусть молвит каждый!
Голодом томитесь? Жаждой?
Кудесник
Кто это? Не мать ли божья?
И на ангела похожа!
Будто с неба, с тучи черной,
Наземь радуга сбегает
Почерпнуть воды озерной, —
Так вот и она сияет
В ризе белой и просторной!
Кудри с ветерком играют,
И уста ее смеются,
Но, смотрите — слезы льются!
Кудесник и старец
Риза белая сияет,
Кудри с ветерком играют,
И уста ее смеются,
Но, смотрите — слезы льются.
Кудесник и девушка
Кудесник
Вот в венке краса-девица!
В ручке стебель — зелен, тонок,
Перед ней бежит ягненок,
Мотылек над ней резвится.
«Бась, бась, бась!» — зовет девица,
Но ягненок скачет, мчится,
Не дается, убегает.
Мотылька она хватает —
Зря поймать его мечтает:
Не дается — улетает!
Девушка
Я в венке, краса-девица!
В ручке стебель — зелен, тонок,
Предо мной бежит ягненок,
В небе мотылек резвится.
Я велюостановиться,
Но ягненок скачет, мчится,
Не дается, убегает…
Мотылька рука хватает —
Зря поймать его мечтает:
Не дается — улетает!
_____
Ах, порой весенней, ясной
Утро было, солнце грело.
Всех девиц в селе прекрасней,
Здесь пастушка Зося пела:
«Ля-ля, ля-ля!»
«Вот в подарок голубочек —
Поцелую, дай, в уста я!» —
Просит Олесь.
Но хохочет Зося, девушка пустая!
«Ля-ля, ля-ля!»
Антось дал ей ленты эти,
Юзеф отдал все на свете,
Но и Юзя и Антося
Только высмеяла Зося:
_____
Я — Зося! Все меня в деревне знали!
Жила на свете и звалась я Зосей!
Была красивая, а замуж не пошла я,
И, прорезвившись девятнадцать весен,
Я умерла, не ведая печали
И счастья настоящего не зная.
Жила на свете; ах, но не для света!
Уж слишком резво мысль порхала где-то
Без отдыха в равнине мира,
Гонясь за легким дуновением зефира,
За мушкой, за красивеньким цветочком,
Барашком или мотылечком,
Но только не за миленьким дружочком.
Свирель и песенку была я слушать рада,
К тем пастухам гнала я стадо,
Что любовалися моей красою,
Но не любила никого я!
Зато по смерти я не знаю,
Что делается со мною!
Огнем неведомым пылаю.
Хоть и играю я на воле,
Лечу, куда подует ветер,
Я без тревоги и без муки,
Резвлюсь, проказничаю в поле,
Из радуги венки сплетаю,
Из утренних прозрачных слезок
Творю и пташек и стрекозок —
А все ж изнемогла от скуки!
И вот, былинок шелест чуя,
Кого-то высмотреть хочу я,
Но остаюсь я сиротинкой.
Досадно! Будто бы пушинкой,
Всегда играет мною ветер.
И здесь ли я, на том ли свете —
Мне непонятно это даже!
Приближусь к цели — и тотчас же
Я — выше, ниже, сбоку где-то…
Так, в волнах пугливой дрожи,
В небо взвиться невозможно,
И земли коснуться тоже —
Невозможно, невозможно!
Хор
Так, в волнах пугливой дрожи,
В этом вечном бездорожье
К небу взвиться невозможно
И земли коснуться тоже!
Кудесник
Что же нужно, мой дружочек,
Чтоб попасть тебе на небо?
Божью помощь? Или хлеба?
Пончик? Сладкий пирожочек?
Или молока глоточек?
Овощ? Ягодку из сада?
Что же нужно, мой дружочек,
Чтоб попасть душе на небо?
Девушка
Одного лишь надо мне бы:
Повстречаться с пареньками,
Чтоб, обняв меня руками,
Притянули бы к земле.
Поиграть бы с ними мне!
Слушайте вы все и разумейте,
Знайте — так господь повелевает:
Кто с землей не знался здесь на свете,
Тот на небесах не побывает!
Хор
Слушайте вы все и разумейте,
Знайте — так господь повелевает:
Кто с землей не знался здесь на свете,
Тот на небесах не побывает!
Кудесник
(к нескольким крестьянам)
Что ж вы бежите от ничтожной тени?
До вас бедняжка ручек не дотянет!
Одно лишь ветра дуновенье —
Виденья этого не станет!
(Девушке.)
Не рыдай! Тебе до срока
И молитва не поможет»
Но вперед гляжу далеко:
Поблуждаешь одиноко
Года два еще, быть может,
И — за райским ты порогом
Будешь! Улетай же с богом!
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца и сына и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Хор
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца и сына и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Девушка исчезает.
Кудесник
А теперь любую душу
Напоследок заклинаю:
Пир готов!
Что хочешь, кушай!
В каждый угол я бросаю
Чечевицы, мака горсти —
Угощайтесь, ешьте, гости!
Хор
Что вам дать? Пусть молвит каждый!
Голодом томитесь? Жаждой?
Кудесник
Дверь часовни открывайте,
Лампы, свечи зажигайте!
С окон сбросьте покрывала.
Петуха несется пенье.
Кончив жертвоприношенье,
Вспомним то, что миновало,
Что во дни отцов бывало!
Стойте!
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится…
Что-то будет, что случится?
Кудесник
(одной из крестьянок)
Ты, пастушка в черном платье!
Ты уселась на гробницу?
Встань скорее, бога ради!
Детки! Там за нею, сзади,
Задрожала, зашаталась,
Опустилась половица;
Привиденье показалось
И неверными шагами
Приближается к несчастной,
Смотрит дикими очами!
Бледен мертвый и ужасный
Лик, как будто занесенный
Новогодними снегами!
Ах, на сердце поглядите, —
На коралловые нити
Струи алые похожи.
Ей на сердце показал он,
И ни слова не сказал он!
Что это такое, что же?
Хор
Ей на сердце показал он,
И ни слова не сказал он!
Что это такое, что же?
Кудесник
Что тебе, душа младая?
Или бродишь, ожидая
Освященной крошки хлеба?
Или хочется на небо?
Просьбы я не угадаю!
Ждешь чего, душа младая,
Чтоб скорей попасть на небо?
Виденье молчит.{122}
Хор
Глушь повсюду, тьма ложится…
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Бледный дух! Мы ждем ответа!
Что ж молчит виденье это?
Хор
Что ж молчит виденье это?
Кудесник
Раз кутьей пренебрегаешь,
Отправляйся куда знаешь!
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца, и сына, и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Виденье стоит.
Хор
А чье ухо к просьбам глухо —
Во имя отца, и сына, и святого духа! —
Видите господень крест?
Кто не пьет здесь и не ест —
Убирайтесь прочь от нас!
Кыш! Сгиньте с глаз!
Кудесник
Бог, избавь от духа злого!
Он — ни шагу и ни слова!
Хор
Он — ни шагу и ни слова!
Кудесник
Дух проклятый иль блаженный,
Ты оставь наш дом священный!
Видишь — даже пол разъялся!
Не уйдешь откуда взялся —
Прокляну во имя бога!
После паузы.
Прочь с порога!
Прочь лети! В леса и реки!
Пропади и сгинь навеки!
Виденье стоит.
Бог, избавь от духа злого!
Нет! Ни шагу он, ни слова!
Хор
Он ни шагу и ни слова!
Кудесник
Тщетны просьбы и заклятья —
Не могу его прогнать я.
Дайте с алтаря кропило…
Нету толку и в кропиле:
Это чудище застыло,
Немо, глухо и уныло,
Будто камень на могиле!
Хор
Нету силы и в кропиле:
Это чудище застыло,
Немо, глухо и уныло,
Точно камень на могиле!
Глушь повсюду, тьма ложится…
Что-то будет, что случится?
Кудесник
Тайна призрака такого
Выше разума людского!
Эй, пастушка! В чем тут дело?
Траур ты по ком надела?
Муж здоров, родня здорова!
Что ж не говоришь ни слова?
Ты жива? Ну, отзовись же!
Эй, пастушка! Что я вижу?
Рассмеяться ты готова!
Что ты в нем нашла смешного?
Хор
Рассмеяться ты готова!
Что ты в нем нашла смешного?
Кудесник
Дайте мне свечу-громницу!
Вспыхнет свет — все станет ясно.
Нет! Свечу зажгли напрасно!
Он не хочет удалиться,
Этот бледный дух проклятый!
В том пастушка виновата —
Под руки ее возьмите,
Из часовни уведите!
Что глядишь — скажи на милость?
Чем ты в призраке прельстилась?
Хор
Что глядишь — скажи на милость?
Чем ты в призраке прельстилась?
Кудесник
Боже! Быстрыми шагами
Вслед за нею, вслед за нами,
Вслед за нами он стремится!
Что-то будет, что случится?
Хор
Вслед за нами он стремится!
Что-то будет, что случится?
Часть IV
Ich hob alle mürbe Leichenschleier auf,
die in Särgen lagen — ich entfernte den
erhabenen Trost der Ergebung, bloss uin mir
immer fort zu sagen: «Ach, so war es ja
nicht! Tausend Freuden sind auf ewig nach-
geworfen in Grüfte und (du) stehst allein
hier und überrechnest sie!» Dürftiger! Dürf-
tiger! Schlage nicht das ganze zerrissene
Buch der Vergangenheit auf!.. Bist du noch
nicht traurig genug?
Jean Paul [17]{123}
Жилище ксендза. — Стол накрыт, только что закончился ужин. — Ксендз. — Отшельник. — Дети. — На столе две свечи. Лампада перед образом богоматери. На стене часы с боем.
Ксендз
Из-за стола вставайте, дети!
Теперь колени преклоните
И за земные яства эти
Создателя благодарите.
Днесь церковь молится за участь
Тех во Христе собратьев, кои,
Господней взятые рукою,
В чистилище томятся, мучась.
И мы сейчас должны молиться
За обреченных на мученья.
(Раскрывает книгу.)
Прочтем вот это поученье!
Дети
(читают)
«Во время оно…»
Входит отшельник, странно одетый.
Ксендз
Кто?.. что надо?
(Смущенно.)
Откуда ты, гость запоздалый?
Дети
Мертвец! Мертвец! Злой дух из ада!
Во имя господа!.. Сгинь, скройся!
Ксендз
Брат! Кто ты? Отвечай, не бойся!
Отшельник
(медленно и скорбно)
Мертвец!.. Да, дети! Так и есть, пожалуй!
Дети
Отца не тронь!
{124} Мертвец! Ужасен взор твой!
Отшельник
Мертвец!.. О нет! Для мира лишь я — мертвый!
Отшельник я. Понятно?
Ксендз
Брат усталый,
Куда бредешь в ненастье поздней ночью?
Кто ты такой? и чем могу помочь я?
Как звать тебя? Встречал тебя я где-то!
Мне кажется, что ты отсюда родом?
Отшельник
Да, да! Бывал я здесь…
Давно… Перед уходом…
А это… года три назад случилось это…
Но только, что тебе мое происхожденье?
Не важно это, добрый ксендз, нисколько!
Бывает, в колокол звонят при погребенье,
Всем любопытно: кто ушел со света?
Но старый дед ворчит взамен ответа
(подражая деду):
«А вам не все равно? Молитесь, да и только!»
И я вот так же: «Кто ушел со света? —
А вам не все равно? Молитесь, да и только!»
Кто я?
(Смотрит на часы.)
То — рано знать… А к твоему порогу
Пришел издалека. Из ада ли, из рая,
Не знаю, но стремлюсь я вновь к тому же краю
{125}.
Коль знаешь, добрый ксендз, так покажи дорогу!
Ксендз
(мягко, с улыбкой)
Путь к смерти не хотел казать я никому бы…
(Кротко.)
Мы направляем тех, чьи заблужденья грубы.
Отшельник
(с грустью)
Да, это правда! Многие блуждают
И в стенах малого, но собственного дома.
Покоен белый свет, или кипит в нем смута,
Народ ли бедствует, любовь ли погибает —
А ты сидишь с детьми… Камин пылает…
А я мечусь по миру без приюта!
Священник! Слышишь ты удары грома?
Там за окошком буря завывает!
(Осматривается.)
О, радость маленького собственного дома!
(Поет.)
Кто любви не знает, тот живет счастливо,
Днем тому покойно, ночью не тоскливо…
[18]{126}В покоях собственного дома!
(Поет.)
Из чертога снизойдешь ты
К скромной хижине вот этой.
В ней цветов найдешь букеты,
Сердце чуткое найдешь ты,
Насладишься пеньем пташек,
Звоном струек говорливых…
Для любовников счастливых
Ксендз
Мой дом ты хвалишь так и мой очаг? Будь с нами!
Садись, погрейся — сделай одолженье!
Смотри, служанка раздувает пламя.
Отшельник
Разумное, бесспорно, предложенье!
(Поет, указывая на грудь.)
Ах, ты не знаешь, что за пламя
И в дождь и в стужу здесь пылает!
О, что за пламя!
И снег рука моя хватает,
И лед сжимаю я руками —
Но снег и лед мгновенно тают,
И валит пар, и улетает…
Что — это пламя!
Ведь мог бы растопить металлы И даже камень,
И только бы сильнее стал он —
(указывая на камин)
Мой вечный пламень!
И снег и лед мгновенно тают,
И валит пар и улетает;
А он сильней еще бушует —
Вот этот пламень!
Ксендз
(в сторону)
Да… Я свое, а он свое толкует!
(К отшельнику.)
Промок насквозь ты, странник неизвестный!
Озяб и побледнел. Дрожишь, как лист древесный.
И кто бы ни был ты, а, видно, утомился…
Отшельник
Кто я? Час не пришел, чтоб в этом я открылся.
Иду издалека. Из ада или рая —
Не знаю, но стремлюсь я вновь к тому же краю…
Тебя, однако, предостерегу я.
Ксендз
(в сторону)
С ним надо взять политику другую!
Отшельник
Путь к смерти хорошо знаком тебе, наверно?
Ксендз
Ну, ладно… Я готов служить тебе всемерно,
Но для тебя еще не близки эти сроки —
Путь к смерти для тебя, поверь мне — путь далекий.
Отшельник
(в замешательстве и огорченно, самому себе)
Ах, быстро я прошел тот путь, весьма далекий!
Ксендз
Вот и устал ты… Отдых тебе нужен.
Ты подкрепись… Я приготовлю ужин…
Отшельник
(безумно)
И мы пойдем?
Ксендз
(с улыбкой)
Но надобно сначала
Собраться!
Отшельник
(в рассеянности, невнимательно)
Хорошо.
Ксендз
Ну, дети, подойдите.
Вот — в доме гость. И вы его займите,
Затем, чтоб его милость не скучала!
(Уходит.)
Дитя
(разглядывая)
Забавно ваша милость разодета!
Как чучело! Как сказочный бродяга!
В соломе, в листьях вывалялись где-то!
На вас надета грубая сермяга.
Но под сермягой — чудная китайка!
(Замечает кинжал, отшельник прячет его.)
А на шнурочке — что это за бляха?
А это ленты? Бусы? Ну-ка, дай-ка!
Ха-ха-ха-ха!
Ой, чучело! Ой, я помру от страха!
Ха-ха-ха-ха!
Отшельник
(вскидывается и как бы придя в себя)
Нет, детки, надо мной смеяться не должны вы!
Послушайте меня! Когда я был моложе,
Я повстречался с женщиной красивой
И так же вот, как я, несчастной тоже.
В таком же рубище, осыпана листвою,
Вошла она в село… И все село толпою
Глумилось, тешась над ее бедою, —
Кто тыкал пальцем, кто за нею гнался…
А я… хоть только раз, а все же засмеялся!
Уж не за то ли ты меня караешь, боже!
Но кто бы мог тогда предвидеть, кто же,
Что я и сам приму подобный облик тоже?
…Тогда я молод был… я счастьем наслаждался!
(Поет.)
Кто любви не знает, тот живет счастливо —
Днем тому покойно, ночью не тоскливо!
Ксендз приходит с вином и пищей.
Отшельник
(с деланной веселостью)
А грустных песенок ты, ксендз, не любишь?
Ксендз
Я песенок таких слыхал по воле бога.
Но надо жить, надежды не теряя,
Что за печалью — утешенье близко!
Отшельник
(Поет.)
И расстаться неохота,
И вернуться трудно что-то!
[20]Простая песенка, но мысль в ней не плохая!
Ксендз
О ней — потом. Сейчас заглянем в миску.
Отшельник
Простая песенка! В романах — есть получше!
(С улыбкой, беря книги из шкафа.)
А! Элоизы жизнь
{128} тебе известна?
И для тебя, отец мой, интересны
Рыданья Вертера и пламень его жгучий?
(Поет.)
Много, много видел я несчастья,
Только смертью скорбь я успокою.
Если я кого обидел робкой страстью,
(Достает кинжал.)
Ксендз
(удерживает его)
Что делаешь?.. Безумный! Разве можно!
Эй, прочь оружье! Что в руке сжимаешь?
Ты христианин? Мысль твоя безбожна!
С Евангельем знаком?
Отшельник
А ты несчастье знаешь?
(Прячет кинжал.)
Ну, ладно! Надо вовремя все делать!
(Смотрит на часы.)
Здесь три свечи горят. А время — ровно девять.
(Поет.)
Много, много видел я несчастья,
Только смертью скорбь я успокою.
Если я кого обидел робкой страстью,
Этот грех своей я кровью смою!
Почему же ты мне всех милее?
Между многих ты была одною.
Ах, зачем в глаза взглянул тебе я?
Ведь обручена ты не со мною!
Ах, если Гете знаешь ты в оригинале,
То голосок ее под звуки фортепьяно
Тебе услышать бы! Но ксендз поймет едва ли!
Он предан лишь одним обязанностям сана!
(Перелистывает книгу.)
А книжки светские ты тоже любишь все же…
Ах, эти книжки! Сколько зла, безбожья!
(Сжимает книгу.)
О, юности моей и небо и мученье!
В тех муках исковерканы жестоко
Вот этих крыльев основанья.
Годятся крылья лишь парить высоко,
И нет в них силы долу устремиться.
Влюблен лишь в сновиденья и в мечтанья,
От скучных дел земных хотел я отстраниться.
Бесстрастна к существам обыкновенным,
Любви божественной душа моя искала,
Которой не было в подлунном мире этом,
Которую лишь в гребнях мнимой пены
Дыханье страсти раздувало
И озаряло выдуманным светом.
И в наших днях не видя идеала,
Из современности стремился я в былое,
О золотом мечтая веке;
Парил в придуманных поэтами высотах,
Гонясь за нею неустанно;
И, обойдя в конце концов все страны,
Бросаюсь я в утехи, словно в реки,
Чьи воды мутны, как вода в болотах…
Бросаюсь и оглядываюсь все же…
И что же? Наконец ее нашел я
Вот здесь, возле меня — она, что всех дороже!
Вблизи себя ее нашел я,
Нашел… чтоб потерять навеки!
Ксендз
Несчастный брат! Тебе вполне я верю…
Но есть же средства… Я тебя жалею…
Давно ли ты болеешь?
Ксендз
Давно ли плачешь о своей потере?
Отшельник
Давно ль? Дал слово, что молчать я буду.
Но ты спроси о том кого-нибудь другого, —
Хотя бы друга, что идет за мной повсюду…
(Осматривается.)
Здесь так тепло, светло под этим мирным кровом;
А где-то за дверьми, на холоде суровом,
Стоит он, в одиночестве глубоком,
Приятель бедный мой! Дрожит он, ожидая.
Гонимы вместе с ним мы беспощадным роком.
Прими его, отец! Пускай нас будет двое!
Ксендз
Несчастных не держал за дверью никогда я!
Отшельник
Так подожди, отец! Сам приведу его я!
(Уходит.)
Ребенок
(ксендзу)
Ха-ха-ха-ха! Отец, что это значит?
Он мечется, вопит. Совсем — пустоголовый!
Одежда странная и так смешно надета!
Ксендз
Смеющийся над горем — сам заплачет!
Не смейся! Человек больной и бедный это…
Дети
Больной! А бегает, как будто и здоровый!
Ксендз
Здоров с лица, но в сердце ранен тяжко.
Отшельник
(тянет ветку елки)
Эй, брат, иди, иди!
Ксендз
(детям)
С ума сошел, бедняжка!
Отшельник
(к елке)
Ксендза не бойся, брат! Нет! Нрава он не злого!
Дети
Отец, смотри: он сук еловый тащит!
Он — как разбойник с палицей еловой!
Отшельник
(ксендзу, указывая на елку)
Друзья отшельника в лесной таятся чаще!
Тебя смущает вид его чудесный?
Ксендз
Приятель? Сук древесный?
Отшельник
Да! Он, как я сказал, в лесной воспитан чаще!
Ну, поздоровайся!
(Поднимает елку.)
Дети
Злодей! Побойся бога!
Отца не тронь, разбойник! Прочь с порога!
Отшельник
Да, детки! Он разбойник настоящий!
Но сам себя убьет он — вот и только!
Ксендз
Опомнись, брат: зачем же эта елка?
Отшельник
О голова, ученая без толка,
Не елка — он! Получше приглядишься,
Увидишь: это — ветка кипариса,
Сказать иначе, сувенир прощальный,
Девиз судьбы моей многопечальной!
(Берет книги.)
Ксендз, в книги загляни! Припомни, что когда-то
У греков два растенья были святы.
И если кто любил счастливо, без печали,
Те миртовым венком чело свое венчали.
(После паузы.)
Ветвь кипариса! Снова ты и снова
Напомнишь мне слова прощанья: «Будь здорова!»
Я взял ту веточку. И служит она верно.
Бесчувственна она, но знаю я наверно —
Душевностью она людей стократ богаче.
Не скучно ей от слез, не тошно ей от плача;
Из всех моих друзей она одна осталась,
Моими тайнами сердечными владея!
Ты расспроси ее. Поговорите малость,
Тебя наедине я оставляю с нею.
(К ветке.)
Поведай, как давно я плачу о разлуке
С моей любимой! Помню, взял я в руки
Тот кипарисовый листочек,
Едва приметный стебелечек;
Поведай, как его унес и посадил в песках далеких,
И поливал соленым морем горячих слез.
Смотри, как хорошо он рос,
Побегов сколько дал высоких,
Когда от слез моих воскрес!
О, если б только удалось,
Когда убит я буду горем,
Закрыть могилу тенью этих кос,
Чтоб не видать бушующих небес,
Когда ты, боже, разъяришься!
(С нежной улыбкой.)
Ах, вот таков был цвет ее волос,
Как эта ветка кипариса!
Ты, хочешь — покажу? На, посмотри скорей!
(Ищет на груди.)
Нет, оторвать я эту прядь не смею.
(Еще с большим усилием.)
Прядь нежную… Девических кудрей.
Но только положил ее на грудь себе я —
Как власяница, обвилась вокруг
И в грудь впилась… и тело жадно гложет…
Задушит, загрызет! Терплю я много мук,
И — поделом! Велик мой грех, о боже!
Ксендз
Мой сын! Послушай голос утешенья.
Я вижу, велики твои страданья,
Но знай: господь твои земные прегрешенья
Зачтет на небесах, все примет во вниманье!
Отшельник
Но в чем грехи мои — спросить осмелюсь все же?
Невинная любовь достойна ль муки вечной?
Создатель красоты, господь, отец предвечный,
Ведь и любовь он создал тоже!
И, души почерпнув из кладезя сиянья,
Сковал их звеньями очарованья
Одну с другой тогда еще, в начале,
Покуда не надел на них одежд печали.
И вот сейчас, когда нас гнет людская злоба,
Те звенья растянулись, но не рвутся!
Преграду эту чувствуем мы оба,
Не можем воедино мы сомкнуться,
Но наши души связи не порвали,
В одной орбите все-таки несутся.
Ксендз
Не людям разлучить, что бог связал вначале.
Быть может, радостью закончатся печали.
Отшельник
А, что там! Может быть, расставшись с плотью грубой,
Сольются наконец душа с душой, как прежде;
Но здесь, — ты видишь, ксендз, — я разлучен с подругой.
Надежда умерла, и не ожить надежде!
(После паузы.)
Я помню осень, поздний час, прохладу…
Перед отъездом я блуждал по саду!
В молитвах, в думах я искал спасенья, —
Брони, чтоб сердце было под защитой,
Такое мягкое от века, от рожденья…
Ведь не хотел упасть я, как убитый
Прощальным взглядом… Ночь была прекрасна,
Дождь кончился, и в небе стало ясно.
Я шел меж зарослей, куда глаза глядели…
Росинки землю в мягкий блеск одели;
Как снег, лежал туман кой-где в долине;
Но снова тучи встали, как буруны;
Меж них метался бледный серпик лунный
Там, где тонули звезды в бездне синей…
Взглянул я ввысь… А звездочка востока,
Как и всегда, блестит среди тумана!
Взглянул кругом… И от беседки недалеко —
Ее увидел я нежданно
Меж черных веток в белом одеянье —
Совсем как над могилой изваянье.
Взглянула… Вздрогнула… Уйти она решила?
Нет! Только очи долу опустила.
Она грустила. Подступаю ближе..
Слезинки на глазах я вижу.
Сказал я: «Еду на рассвете!»
«Ну, будь здоров!» Слова я помню эти:
«Забудь меня!..» Забыть? Смешное повеленье!
Легко приказывать! А собственною тенью
Моя любимая повелевает?
Тогда скажи ей: пусть она растает.
Пусть за тобой она не ходит всюду!
Легко приказывать: «Забудь!» Нет, не забуду!
(Поет.)
Не рыдая, не тоскуя,
Разойдемся, путник встречный.
Буду помнить тебя…
(Обрывает пение)
вечно
(кивает головой, поет)
Но твоей быть не могу я!
Ах, только помнить?.. «Завтра уезжаю!»
…Хватаю за руки ее и обнимаю.
(Поет.)
Хороша, как будто ангел рая,
Милая, прелестная девица.
Взор небесный, — так лишь солнце мая
В вешних водах может отразиться.
Поцелуй божественно прекрасный!
Как лучи сплетаются с лучами,
Как, в один напев сливаясь ясный,
Голоса двух лютен зазвучали, —
Так пылают и уста и лица,
И душа сливается с душою.
Млеет небо, и земля ложится
Нет, ксендз! И не поймешь ты моего рассказа!
{131}Ведь к сладостным устам возлюбленной ни разу
Не прикасался ты! Пусть светский богохульник
Кощунствует, пускай молокосос-разгульник
Безумствует, — но жреческое сердце,
Окаменев, не может разогреться…
{132}…О, были будто в небе мы, живые,
Когда устами сблизились впервые!
(Поет.)
Поцелуй божественно прекрасный!
Как лучи сплетаются с лучами,
Как в одни напев сливаясь ясный,
Голоса двух лютен зазвучали!
(Хватает ребенка, хочет поцеловать; тот вырывается.)
Ксендз
Он — человек, как ты! Ненадобно пугаться!
Отшельник
Ах, от несчастного все убежать стремятся,
Как будто вышел он из ада!
Так и она, моя отрада:
«Прощай!..» — и перед тем, как скрыться,
Она блеснула, как зарница,
И в мраке улицы исчезла.
(К детям.)
А почему? Кому известно?
Чем оскорбил ее я? Взором?
Быть может, жестом? Разговором?
Хочу я вспомнить.
(Старается вспомнить.)
Нет, напрасно…
Такое головокруженье…
Нет! Все это я помню ясно,
Я помню каждое движенье.
Ведь только два сказал я слова…
(С грустью.)
Ксендз! Лишь два слова:
«Будь здорова!»
«Прощай!» — она мне отвечает
И эту веточку вручает:
«Вот все, что здесь нам
(указывает на землю)
остается!»
Сказала так и, как зарница,
Блеснула, скрылась, не вернется!
Ксендз
О юноша! Ужель твоей не вижу боли!
Но тысячи людей бедны гораздо боле!
А скольких проводил я к вечному покою?
Отца и мать похоронил давно я,
На небо взяты двое деток малых.
Расстался я с возлюбленной женою —
Моей подругой в счастье и в недоле.
Ну, что же делать? Дал господь и взял их!
Пусть все вершится по господней воле!
Ксендз
Ах, сердце рвется, вспоминая!
Отшельник
Куда ни обернись, повсюду плач о женах!
Но я не виноват — твоей жены не знаю.
(Спохватываясь.)
Утешься же, один из многих огорченных:
Жена твоя была мертва еще живая!
Отшельник
(еще громче)
Дева, нареченная женою,
Как будто заживо сокрыта под землею!
Ведь от отца, от матери, от брата
И ото всех, ей дорогих когда-то,
С чужого отреклась она порога!
Ксендз
Туманом слов ты горе одеваешь,
Но все ж она жива, она, о ком рыдаешь?
Отшельник
(с иронией)
Жива? Да, есть за что благодарить мне бога!
Не веришь? Думаешь, что это — бред бессвязный?
И если поклянусь и присягну я,
Что к жизни ее больше не верну я?
(После паузы, медленно)
Послушан… смерть бывает разной!
Смерть весьма разнообразна:
Ежедневно, ежечасно Умирают старцы, дети.
Так обычны смерти эти —
Будничное умиранье:
Умер, и похоронили!
Так и умерла Марыля,
Та, что пела на поляне.
(Поет.)
Там, где Неман разветвленный
{133}Омывает луг зеленый,
Что за славный бугорочек?
У подножья, как веночек,
Розы, бузина, малина…
(Перестает петь.)
Ах, унылая картина,
Если красота в расцвете
Умирает, покидает все на свете!
Видишь, видишь: сумрак в спальне…
Будто без кровинки в теле
Девушка лежит в постели.
У постели — ксендз печальный
И ксендза печальней — слуги,
Слуг печальнее — подруги,
Мать печальна еще больше,
А жених — скорбит всех горше!
Девушка — на смертном ложе.
На лице тускнеют краски,
Западают, гаснут глазки,
Но еще мерцают все же.
Видишь: ротик приоткрылся,
Видишь: стали бледны губы,
Будто лепесток пиона сорван грубо,
И завял он, и покрылся
Неживою синевою…
Головою покачала,
Голова ее упала,
Руки стынут, а сердечко биться вовсе перестало.
Искра духа отблистала…
Вот и нет ее, не стало!
А блистали эти очи солнца жарче!
Видишь этот перстень, отче?
Грустное воспоминанье!
Диамантов этихярче
Было глаз ее сиянье.
Искра духа отблистала!
Так в алмазе, в сердцевине
Гаснут пламени крупинки,
Так на веточках — росинки
Превращает стужа в иней!
Головою покачала,
Голова ее упала,
Руки стынут, а сердечко биться вовсе перестало,
Искра духа отблистала…
Вот и нет ее, не стало!
Дитя
И умерла? Вот горе-то какое!
Знакомая твоя? Сестричка молодая?
Не плачь! Ты не вернешь ее, рыдая!
Она достигла вечного покоя!
Теперь мы будем за нее молиться.
Отшельник
Такой бывает смерть. Но, дети, рядом с нею
Есть и другая смерть, во много раз страшнее:
Она не сразу нас берет, а длится!
Не одного — двоих она хватает
И убивает постепенно.,
Но только лишь мои надежды убивает,
А той, другой, вреда не причиняет.
И та особа, как обыкновенно,
Живет, слезинки мелкие роняет,
Потом у ней ржавеют чувства,
И сердце, где мертво и пусто,
Становится немым гранитом…
Убиты двое! И — одновременно?
Нет! Лишь надежды у меня убиты,
А та особа все еще в расцвете!
Кто умер так? Ах, толку нет в ответе!
Но это очень страшно, дети,
Когда вот так стоит он перед вамп —
Мертвец с раскрытыми глазами!
Дети убегают.
Да, умерла!.. Кричу, рыдаю,
Вокруг толпятся ротозеи,
Они вытягивают шеи,
Бьют по плечу меня, глумятся бестолково.
«Безумец, ты не плачь: она жива-здорова!»
(Ксендзу.)
Не верь им, ксендз! Ведь я-то твердо знаю!
Ведь что бы там ни говорили
Все уличные зубоскалы,
Мне сердце явственно сказало:
Нету, нету Марыли!
(После паузы.)
Есть третья разновидность смерти:
Смерть вечная, как сказано в Завете.
Нет хуже смерти той! Поверьте,
Вот этой самой смертью, дети,
И буду ввергнут в ад кромешный
Я, многогрешный!
Ксендз
Пред миром и собой ты, сын мой, больше грешен,
Чем перед господом! Ведь люди-то родятся
Не для того, чтоб плакать и смеяться,
А чтоб добро творить для ближних. Будь утешен,
Что господу слугой ты должен быть до гроба.
Что перед вечностью твоя ничтожная особа?
И как тебя господь испытывать ни станет,
На помощь ближним отдавай ты силы…
У лодырей вся жизнь похожа на могилу,
Чтоб спать, пока труба архангела не грянет!
Отшельник
(удивленно)
Мой ксендз! Да это впрямь не колдовство ли?
(В сторону.)
Ведь все — ее слова! Подслушивал он, что ли?
(Ксендзу.)
Клубок ее речей распутывая снова,
Ты повторял, как будто слово в слово
Благочестивейшие назиданья,
Мне данные в тот вечер на прощанье!
(С иронией.)
Да! Час был выбран самый подходящий
Для проповеди мудрой и блестящей!
Ее слова звучали величаво:
«Друзья, наука, родина и слава!»
Как от стены горох теперь отскочит это!
А ведь когда-то я пылал от строф поэта,
Спать не давала слава Мильтиада!
(Поет.)
Ты, молодость
{134}, прах юдоли отринешь,
Взлетишь, и, светлым взглядом ширяя,
Все человечество ты окинешь
От края до края!
Уже развеяло ее дыханье
Все образы великие! Осталась
Одна лишь тень, лишь маленькая малость —
Облатки еле видимая крошка,
Которую пожрет любая мошка.
На той крупице строить зданье
Она пыталась!
Стал комаром я по ее желанью,
А думает, что я, как Атлас некий,
Способен быть опорой небосвода!
Вздор! Искра, что таится в человеке,
Горит лишь раз, в его младые годы.
Дохнет Минерва на нее устами —
И в племенах, которые отстали,
Мудрец взрастает. И звезда Платона
Нам сотни лет сияет благосклонно.
А факел гордости зажжем об это пламя —
Тогда мы слышим слово громовое
И видим появление героя.
Идет по миру этот гений
Великих добродетелей путями
Или путем великих преступлений.
Идет он, чтоб сшибать с царей короны
И рушить троны правящих династий;
И в новый скиптр всемирной власти
Пастушью палку превращает.
(После паузы, медленно.)
А небожительница свет тот зажигает —
Тот свет в груди людской сам для себя пылает,
Вот как лампады римских усыпальниц!
{135}
Ксендз
О молодой энтузиаст несчастный
Ты не преступник, ты — большой страдалец!
Из покаяний, что сейчас лепечет
Твое больное сердце, — все мне ясно!
Послушай! Та, что разум твой калечит,
Не только красотой своей прекрасна!
Ты страстно любишь! С той же силой страстной
И подражать тебе бы нужно тоже
Небесной девы чувствам и мышленью,
А ты как будто добр, но рвешься к преступленью!
Ну, здесь меж вами выросла преграда:
Вы — две звезды во мгле, но раньше или позже
Тот мрак рассеется, и будете вы вместе!
С землею заодно исчезнут и оковы,
И в небе вы соединитесь снова.
И страсть, хотя и большую, чем надо,
Обоим вам простит господь небесный!
Отшельник
Да! Все ты угадал. Но как? Скажи по чести!
(Подражает голосу ксендза.)
«Ее душа светла, как лик ее прелестный,
Земная цепь на небе будет сбита…»
А! Сам ты обличил себя в поступках низких!
Ты тайну выманил, что в недрах сердца скрыта
От всех друзей, от всех родных и близких!
Ведь, руку положив на ветку кипариса
И положив на грудь другую руку,
Мы обо всем молчать навеки поклялися,
Ни слова никому не говорить, ни звука!
Но, впрочем, нет… Припоминаю день я,
Когда при-помощи искусства рисованья
Хотел я воскресить очарованье,
Чтоб показать друзьям ее изображенье.
Но эти прелести не тронули нисколько
Друзей моих, — увы, для них любое чувство
Одной забавою является и только;
А в глубь души они вглядеться не умеют,
И только лишь одно известно им искусство:
Холодным циркулем друзья мои владеют,
Чтоб мерить красоту бесстрастнее, чем судьи!
И даже в небеса глядят такие люди,
Подобно волку либо астроному!
Поэт, любовник — смотрят по-иному!
Ах, так ее люблю, что на ее портрете
Я беззащитных уст коснуться не посмею
Своим дыханием… Когда при лунном свете
Ложусь я спать, — не обнажу я шеи,
Покуда веткой кипариса
Ее глаза я не прикрою.
Мои друзья!.. Томленьем и тоскою
Напрасно вздумал с ними я делиться!
Один мой друг послушал и лукаво
Заулыбался, рот прикрыв рукою:
«Ну, что особенного? Так себе девица!»
Другой прибавил: «Ты ребенок, право!»
Друзья мои! Вот что они такое!
И этот старец!..
{136} Он хитер безмерно,
Проклятый! Он и выдал нас, наверно!
(Всё с большим смятеньем.)
На рынке обо всем распространялся
Перед детьми, перед толпой бабенок!
И кто-то из толпы, старик или ребенок,
На исповедь пришел, да взял и проболтался…
(В явном помешательстве.)
Не ты ли сам признаний домогался?
На исповеди мне не ты ли ставил сети?
Ксендз
Ну, а к чему нам измышленья эти?
Хоть и запутана в клубок необычайный
Твоя печаль, однако тот, чье зренье
Еще способно видеть чувств движенье,
Сумеет все понять и смысл распутать тайный.
Отшельник
Ты прав! Но такова натура человечья:
Боль тайны целый день в груди людской таится,
Однако человек во сне заводит речи….
А тут-то обо всем он и проговорится!
Со мной бывали случаи такие…
Пришел домой я после первой встречи,
Ни слова не сказал я никому в тот вечер
И молча спать пошел. А после этой ночи
Мать утром говорит: «Уж набожен ты очень!
Чем это объяснить? Ведь пресвятой Марии
Ты молишься
{137} всю ночь, вздыхаешь, что-то шепчешь!»
Я понял. Запер дверь я вечером покрепче.
Но осторожным быть возможности не стало —
Нет спальни у меня, сплю нынче где попало
И часто брежу я… Мысль, как по морю, мчится!
Погаснет свет и снова разгорится,
И чьи-то лица возникают,
В одно они стремятся слиться
И исчезают…
Но этот лик не может в бездне скрыться:
Лежу ли на песке, гляжу ль в земные недра,
Он, будто месяц на волнах, струится,
Недосягаемый, — сиянье льющий щедро;
Взгляну я ввысь — и вижу лик похожий:
Он в небесах летит, как будто ангел божий,
И, как орленок, распушивши перья,
(смотрит вверх)
Он замирает между туч высоко,
Чтоб, прежде чем низринуться на зверя,
Его еще с небес пронзить стрелою ока;
Трепещет над поверхностью земною
Он, как за крылья к небу пригвожденный,
Как будто бы в сетях в голубизне бездонной…
…Так именно она сияет надо мною!
(Поет)
День ли в солнечном сиянье,
Ночь ли в черном одеянье,
Я взываю: «Где ты, где ты?»
Ты со мной, и не при мне ты!
Когда она вот так встает перед глазами,
В листве лесной, между цветами полевыми,
Велю себе молчать, — слова родятся сами,
И вдруг, не выдержав, промолвлю это имя.
А этого и надо негодяям,
Подслушают и крикнут: «Всё мы знаем!»
И кинутся разбалтывать об этом…
Я помню: дождь прошел перед рассветом,
Туман, как снег, ложился на откосы,
А на цветах уже сверкали росы,
И, завершив движение ночное,
Тонули звезды где-то в отдаленье;
Одна лишь не угасла надо мною,
Та самая, что видел каждый день я
Там, над беседкой…
(Опомнившись.)
Ха! Сбежал с холма я…
Но что я говорю! Бред романтично-страстный,
Он вызывает головокруженье…
(После паузы, вспоминает.)
Не в этот раз, а это было позже —
Такое утро… Плачу и вздыхаю,
Когда я снова все припоминаю…
Дождь лил как из ведра, и ветер был ужасный,
И в этот самый куст зеленый Я спрятал голову…
И что же?
(С кроткой улыбкой.)
Меня подслушал тот бездельник…
Не знаю, — слышал только стоны,
Иль между стонами моими
Услышал он и это имя…
Ксендз
Безумный юноша отшельник!
Ну, кто тебя подслушал?
Отшельник
(важно)
Это
Был светлячок… как человечек…
Под листиком сверкнул он где-то.
Вот этот червячок-советчик
И молвил (чтоб меня утешить!):
«Эй, головы не надо вешать!
Не надо скорби безнадежной!
Нельзя себя винить напрасно,
Что эта девушка прекрасна,
А ты с душой родился нежной!
Ведь вот и я: сияю ясно,
Зато и потухаю быстро.
Вот я выстреливаю искру,
Чтобы кустарник озарился…
Той искрой я сперва гордился,
Но убедился,
Что эта искорка — проклятье:
В добычу ящерицам злобным
Из-за нее достались братья.
И я погибну, им подобно, —
Я это знаю,
Но как предотвратить несчастье?
Никак! В моей ли это власти?
И вот, покуда жив, — сияю!»
(После паузы, указывая на сердце.)
И вот, покуда жив — сияю!
Дети
(ксендзу)
Отец! Какой рассказ чудесный!
Ты знаешь ли об этом чуде?
Ксендз отходит, пожимая плечами.
А светлячок в листве древесной,
Он может говорить, как люди?
Отшельник
А почему же нет? Возможно ли иначе?
Дитя, иди сюда. Прижми к конторке ухо.
Там душка бедная скребется, плачет
И просит трех молитв. Ага, дошло до слуха?
Ребенок
Тик-так! Тик-так! Как будто под подушкой —
Тик-так — идут часы. А что случилось с душкой?
Чего она за стенкой этой хочет?
Тик-так, тик-так — о чем выстукивает звонко?
Отшельник
Теперь он жалкий червь, лишь дерево он точит,
А был — ростовщиком!
(К червяку.)
Ну, что тебе, душонка?
(Изменяет голос.)
«О трех молитвах я прошу ребенка».
А, пан скупец! Знаком я с этим дедом:
Моим когда-то близким был соседом;
Он в золото по горло зарывался,
Он дома на засовы запирался —
Не беспокоился, что стонут на пороге
Сироты, вдовы, нищи и убоги, —
Ни корки не дал им и не швырнул монеты!
Покуда не ушел со света,
Душа его в мешках презренного металла
На дне конторки обитала.
Л потому и ныне, после смерти,
Покуда кары он достойной не отбудет,
Ворочаться он там, пищать и грызться будет.
Вы слышите, как сверлит он, как вертит!
Коль милость оказать ему хотите —
Три раза «Богородицу» прочтите!
Ксендз входит со стаканом воды.
Отшельник
(еще возбужденнее)
А что? Ты слышишь голос духа злого?
Ксендз
О, милосердный бог! Что выдумал ты снова?
(Озирается.)
Ведь нет же ничего. Темно кругом и глухо.
Отшельник
Услышишь! Только лишь наставь получше ухо!
(Ребенку.)
Что, детка? Духа писк дошел тебе до слуха?
Ребенок
Отец, ведь верно, говорит там кто-то!
Ксендз
Дети, спать! Мерещится вам что-то!
Нигде — ни шороха. Кто страх на вас наводит?
Отшельник
(с улыбкой детям)
Природы голоса до старцев не доходят!
Ксендз
Брат, вот тебе вода! Возьми в ладонь водицы —
Пусть буйное чело немного охладится!
Отшельник
(берет воду, умывается, в это время часы начинают бить; после нескольких ударов отшельник проливает воду и смотрит, неподвижный, серьезно и мрачно)
Вот десять бьет!
Поет петух.
Одна свеча гаснет.
Срок близок. Первый свет угас.
Знак верный! Осталось два часа…
(Начинает дрожать.)
Как холодно!
Между тем ксендз не без удивления смотрит на свечу.
Что, вьюга
Иль дождь на улице?
(Идет к печи.)
Я где?
Отшельник
(придя в себя)
Я напугал тебя? Ведь я, в наряде диком,
Ворвался в дом чужой, всех потревожил криком!
Болтал?.. Ах, позабудь, о чем вели беседу!
Я бедный путник. Я с чужбины еду.
(Осматривается и приходит в себя.)
Ах, в юности еще, давным-давно когда-то,
До нитки обобрал меня
(усмехаясь)
злодей крылатый,
Лохмотьями, тряпьем теперь прикрыты плечи.
(Обрывает листья, поправляет платье; жалобно.)
Сокровища мои украл злодей проклятый!
В невинность кутаюсь. Прикрыться больше нечем!
Ксендз
(который не отрываясь глядел на свечу, отшельнику)
Ты успокойся!
(Детям.)
Кто тут гасит свечи?
Отшельник
Чудес не ждешь? Так жди от разума ответа!
Природа, как и мы, таит свои секреты.
(С жаром.)
Не могут разрешить кое-каких вопросов
Не только простаки, но — ксендз, мудрец, философ!
Ксендз
(берет его за руку)
О сын мой!
Отшельник
(растроганный и удивленный)
Сын? Как молния, твой голос:
Мрак озарен, и память пробудилась!
(Присматривается.)
Да, узнаю тебя, и этот дом я знаю.
Ты — мой второй отец! Отчизна дорогая!
Как детки выросли! Как все переменилось.
И у тебя, отец, седой я вижу волос!
Ксендз
(с волнением берет свечу, вглядывается)
Как? Знаешь ты меня?.. Он?.. нет же… быть не может!
Ксендз
Густав! Ты? О всемогущий боже!
(Обнимает его.)
Мой ученик? Мой сын!
Густав
(обнимает ксендза, глядя на часы)
Отец, еще могу я
Обнять тебя… а через час… уйду я
В тот дальний край, куда и ты, мой отче,
Пойдешь, хоть и идти, быть может, не захочешь!
Ксендз
Откуда ты пришел? Твой вид! Одежда эта!
Ты должен объяснить, зачем, куда ты скрылся?
Как будто утонул, сквозь землю провалился!
Не написать письма! Не переслать привета!
И столько лет отсутствовать!.. О боже!
Ты, Густав! Ты, краса и гордость молодежи!
Каким ты был тогда прелестным мальчуганом!
И вот теперь… В таком ты виде странном?
Густав
(с гневом)
Старик! Уж если мы друг друга попрекаем,
Знай, ты убил меня! Читать меня учил ты,
И книги чудные передо мной раскрыл ты,
И книгу естества… Вот этим и убил ты!
Ведь адом сделал мир ты для меня…
(С печальной улыбкой.)
и раем!
(Громко, с презреньем.)
А это — лишь земля!
Ксендз
Что слышу! Бог свидетель —
Я не губил тебя. Я только добродетель
Внушал тебе. Я пекся, как о сыне!
Густав
Вот именно по этой лишь причине
Тебе, отец мой, многое прощаю!
Ксендз
Ах, Густав! Об одном всегда молил я бога —
Чтоб встретиться нам снова привелось бы…
(Обнимая.)
Густав
(Смотрит на свечу.)
Обнимемся еще!
Сейчас свеча другая
Погаснет! Бог твою исполнил просьбу!
Уж поздно…
(Смотрит на часы.)
а длинна обратная дорога!
Ксендз
Ты завтра все свои опишешь приключенья!
Теперь же отдыхай! Спать надобно ложиться.
Густав
Спасибо. Не могу принять я приглашенья:
Я не имею средств с тобою расплатиться.
Густав
Проклят, кто живет на даровщинку!
Все нужно оплатить… И если не работой, —
По крайней мере, чувствами, заботой,
Слезами! Ведь господь за каждую слезинку
Воздаст! Но я, пройдя края воспоминаний,
Где каждый уголок так много взял рыданий,
Оставил там все чувства, слезы, вздохи.
Брать в долг, чтоб не отдать, — способны лишь пройдохи!
(После паузы.)
Недавно посетил я дом покойной мамы
{138}.
Все, все разрушено. Едва узнал я прямо!
Руины, пустошь, тлен, разбитые калитки,
В траве перед крыльцом лежат паркета плитки.
Полынь, чертополох — одни в усадьбе гости.
Царит молчание, как в полночь на погосте!
И вспомнилось, как этими местами
В былые дни я возвращался к маме.
Привет я слышал ото всей округи:
Еще за городом дежурят наши слуги.
Братишка с сестрами на площадь выбегают:
«Ах, Густав, это ты!» Коляску окружают,
Гостинцы получив, несутся с упоеньем,
А на пороге мать стоит с благословеньем,
И школьные друзья спешат пожать мне руку…
А нынче — пустота! И — ни души, ни звука!
Вдруг лай послышался. Есть все же в доме житель.
Да это верный Крук, наш пес, наш охранитель!
Ведь лучшим сторожем в усадьбе ты считался!
Один из всех друзей и близких ты остался,
Состарился, а все ж хранишь ты от кого-то
Дом без хозяина и без замка ворота.
«Крук!» Прыгнул мне на грудь, услышав зов нежданный,
Завыл и на землю свалился бездыханный!..
Тут свет мелькнул в окне. Вхожу я. Что такое?
Чей там фонарь горит в глубокой тьме покоя?
Там — вор! Топор — в руках. Гляжу я — что-то рубит!
Остатки прошлого вконец, проклятый, губит.
Где ложе матери стояло — место это
Он рушит топором, дробит куски паркета.
Схватил его! Дрожит! Глаза на лоб полезли.
А я? Заплакал я. И будто бы воскресли
Тут тени прошлого… Но вот и жизни признак:
Старуха страшная, похожая на призрак.
Ей показался я, наверно, тоже тенью, —
Шатается она, кричит она в смятенье.
«Не бойся! С нами бог. Ты, дорогая, кто же?
Зачем среди руин ты оказалась тоже?»
«Я нищая, — она мне молвит со слезами, —
Я в доме здесь жила когда-то с господами.
Ах, память вечная добрейшим людям этим!
Но счастья не дал бог ни им самим, ни детям:
Погибли, разбрелись. Пустыня в этом доме!»
«Где ж барич молодой?» — «Должно быть, тоже помер!»
За сердце взялся я и замер у порога.
Так, значит, все прошло?
Ксендз
Кроме души и бога!
И радость и печаль пройдут по божьей воле.
Густав
У дома твоего, вот здесь, при этой школе,
И на дворе с детьми пересыпал песочек.
Купались в речке мы и бегали в лесочек,
И там из птичьих гнезд раздобывали яйца,
И со студентами играли здесь мы в зайца.
И в рощице вон той сидели час за часом,
Гомера слушая и рассуждая с Тассом.
Под Веною с тобой мы были, Ян Собеский
{139}!
Кричу я школярам: «Эй, стройтесь к лесу ближе!
Там полумесяцы встают в кровавом блеске
Над тучей басурман! Здесь — войско немцев вижу!
Наставить копья! Эй! Взять повода короче!»
Врываюсь. А за мной как молнии удары
Блеск польских сабель. Бей! И гибнут янычары,
Прочь головы летят, летят тюрбанов клочья.
Кой-кто спасается… А сколько в землю вбито!
Ударил в звезды вопль, сквозь пыль гремят копыта.
Под самый вал враги отброшены далеко!
…Туда она пришла взглянуть: играют дети.
Увидел я ее под знаменем Пророка, —
И умерли во мне и Готфрид
{140} и Ян Третий.
Так сделалась она владычицей моею,
Живу лишь для нее, живу я только ею!
Повсюду чудятся черты ее живые:
Здесь дивный лик ее я увидал впервые,
Здесь удостоен был впервой ее приветом,
Цветы я для нее сбирал в лесу вот этом,
Здесь на пригорке мы Руссо читали вместе,
Беседку для нее воздвиг на этом месте,
Любила с удочкой вот здесь она склоняться
Над речкой, где форель, где карпы серебрятся.
А нынче!..
Ксендз
Плачь; но знай, что скорбь воспоминаний
Порой съедает нас, но времени движенья
Не остановит, нет!
Густав
И после всех страданий,
И после стольких лет скитаний, испытаний
Вернулся я сюда в ужасном положенье!
Вот камень, в детстве ты играл которым…
С тем камнем не хотел ты расставаться,
Ты взял, пронес его по всем земным просторам
И вот принес назад затем, чтоб убедиться,
Что на одно лишь нынче он годится —
Стать изголовьем гробовым для старца.
О ксендз, коль не заплачет этот камень
Отчаянья горчайшими слезами —
Брось этот камень прямо в адский пламень!
Ксендз
Нет горечи в слезах, коль смешан со слезами
Нектар божественный — о прошлом счастье память.
Свет милосердия струит слеза такая,
Отрава горькая — вот слезы негодяя!
Густав
Так слушай же! Я вновь пошел бродить по саду,
Вдыхал такую же вечернюю прохладу,
И в небе надо мной обычное сиянье
Лил бледный месяц, и сверкали росы,
В лугах туман снегоподобный несся,
И звезд ночное кончилось блужданье,
Они тонули в синеве глубоко…
И вот: как ветарь, горит звезда востока,
И то же чувство жжет, но лишь ее здесь нету!
В беседке легкий шум… Уж не она ли это?
Нет. Это шум листвы… Шуршит она уныло.
Беседка! Колыбель ты счастья и могила!
Здесь я нашел, здесь — потерял! Кто знает —
Быть может, здесь вчера она гуляла,
Вот этим самым воздухом дышала?
Гляжу кругом. Напрасно взор блуждает,
Лишь крохотного я увидел паучонка:
Намереваясь двинуться куда-то,
Он свесился с листка на паутинке тонкой…
Да, оба связаны мы с миром слабовато!
Скамейку прежнюю увидел я в беседке,
Сухие листики на ней, сухие ветки,
Букетик брошенный, какая-то травинка
И — моего листка другая половинка!
(Достает листок.)
Да, этот самый лист! Я вспомнил: «Будь здорова!»
Ты здесь, мой старый друг! Вот встретились мы снова!
И ласкова беру я этот листик в руки:
Ну, как она живет? Не сохнет от разлуки?
Чем забавляется? Встает не слишком рано?
Что любит исполнять она на фортепьяно?
Гуляет где она? Сидит в какой из комнат?
Румянец скромности пылает ли, коль вспомнит
Она меж дел своих и обо мне, далеком?
И вспоминает ли меня хоть ненароком?
Что слышу? Вот мне казнь за все расспросы эти!
(Со злобой бьет себя по лбу.)
В замужестве!..
(Поет.)
Вначале!..
(Обрывает песню, к детям.)
Пойте, дети!
(Поет.)
Та девушка вначале
И день и ночь в печали…
Хор детей
Так любит, обожает —
Все время вспоминает!
Густав
Потом — в день только разик,
А после — только в праздник!
Хор детей
Так любит в самом деле,
Что вспомнит раз в неделю!
Густав
И впредь не забывает —
Раз в месяц вспоминает!
Хор детей
Добра! Не забывает —
Раз в месяц вспоминает!
Густав
Ручьи стремятся полем,
Мы память не неволим:
Пусть вспомнит в год хоть разик —
На пасху, в светлый праздник!
Хор детей
Мила, не забывает,
Раз в год — а вспоминает!
Густав
(указывая на листок)
Ей даже памяток моих уже не надо!
Забыта прошлого последняя частица!..
А рядом… Рядом, за решеткой сада,
Сияющий дворец во мраке громоздится.
Мне изменил мой шаг. Идти так трудно было,
Но все ж меня влекла неведомая сила.
Из сада темного туда, к дворцу, я вышел
И крики кучеров и стук колес услышал.
И сквозь хрусталь окна я вижу: гости в зале.
Играют и поют… Чей праздник там справляли?
Тост! Имя слышу я… Чье имя? Не скажу я!
«Да здравствует!» — кричит там кто-то, торжествуя.
И много сотен уст крик повторяют снова:
«Да здравствует!» И я прибавил: «Будь здорова!»
И ксендз, я слышу, выступает с речью:
Сказал он здравицу, назвав другое имя…
(Как бы всматривается в двери.)
Воспоминания! Убит, убит я ими!
И кто-то… Не она ль?.. Не знаю, не отвечу —
Быть может, и она… благодарит любезно…
И тут передо мной как бы разверзлась бездна,
Слепой от ярости, напряг я, помню, плечи,
Чтоб высадить окно… и наземь повалился
Без чувств…
(После паузы.)
Нет! Я не чувств… я разума лишился!
Ксендз
Ты добровольных мук искал, несчастный!
Густав
Там веселились. Я, как труп безгласный,
Лежал в траве, слезами орошенной:
Мученья и любви контраст ужасный!
Все кончилось. Я был как оглушенный.
Молниеносный миг. Он бесконечно длится…
Кровавый день вставал, томительно пылая…
В день Страшного суда все это повторится!
(После паузы.)
Так смерти ангелом я изгнан был из рая!
Ксендз
Ты боль не береди в полузажившей ране!
Старо, но верно предостереженье:
Что кончилось, то снова не настанет —
Вот каково господнее решенье!
Густав
(печально)
Нет! Друг для друга мы! Звезда одна и та же,
Когда родились мы, зажглась в ночи над нами.
Мы сходны внешностью, и равны мы летами,
Одно и то же думали мы даже,
Одно и то же по душе нам было,
Одно и то же нас и отвращало.
Объединяло нас одно начало.
(С глубокой печалью.)
Бог завязал узлы, а ты их разрубила!
(Громче, гневно.)
О женщина! Создание пустое!
Пушинка на ветру! Ты внешней красотою
Внушаешь зависть ангелам крылатым,
Но как бездушна ты! Ослеплена ты златом!
Кубышка почестей, сияя и блистая,
Но так же, как и ты, внутри совсем пустая,
Слепит твои глаза… Так пусть же станет златом
Все, что ты тронешь сердцем и устами!
Целуйся, обнимайся с хладным златом!
И все же, если скажут мне сегодня:
«Вот лучшая из девушек прелестных!
Тебе отдать ее — решение господне,
Она прекраснее всех ангелов небесных,
Прекрасней той, твоей, прекрасней грез поэта!» —
Я все-таки, в обмен на совершенство это,
И взгляда твоего не променяю!
И если б за прельстительницей тою
Приданое поплыло золотое —
Все клады Тахо
{141}, все услады рая
С небесным царством вместе, — и тогда я
На все это сверкание пустое
Ни взгляда твоего не променяю!
И даже не взгляну! А если б та девица
Просила хоть ничтожную частицу
Той жизни, что тебе дарю сполна я, —
Не захочу ни на единый день я
Моей любовью с нею поделиться
И даже на одно мгновенье!
(Сурово.)
А ты? С холодным сердцем, с безразличным взглядом
Моей погибели ты вымолвила слово.
Костры ты без числа во мне воспламенила
На вечное мое мученье!
Они горят меж нами вечным адом.
О соблазнительница! Ты меня убила!
Пусть небеса казнят тебя сурово,
Я тоже не прощу… Не дам я отпущенья.
Иду! Пускай дрожат повинные в измене!
(Доставая кинжал и злобно усмехаясь.)
Паны вельможные! Вот штучка пресмешная!
Для тостов свадебных вам нацежу вина я!
О дева-выродок! Я твой венец сумею
Сорвать и, как петлю, надеть тебе на шею!
Иду! Сгребу тебя и брошу в пламень ада,
Как собственность.
(Останавливается и задумывается.)
Но нет! Для этого ведь надо
Быть все ж намного злей, чем дьявол самый лютый!
Прочь этот нож!
(Прячет.)
Пусть с каждою минутой
Все злей и злей казнят тебя воспоминанья!
Ксендз уходит.
Пусть ранят совести кинжалы!
А я, не убивая и не раня,
Без всякого оружья в эти залы
Войду и полюбуюсь просто,
Как возглашают свадебные тосты
Гуляки, золотом сверкая!
В дерюге этой безобразной,
С листвой, с травою в гриве грязной
Войду и стану у стола я…
Как удивились все! Встречать идут толпою.
И все они пьют за мое здоровье,
Садиться просят: я ж стою скалою,
Молчу в ответ на пустословье.
Кружат танцоры, шпорами бряцая,
На танец просят гостя дорогого:
«Повеселитесь!» Я в ответ — ни слова!
Засохший листик я в руке сжимаю.
Тут, в ангельском своем очарованье,
Она подходит: «Гость мой, кто б ты ни был,
Ты дорог мне! Скажи, откуда прибыл?
Как звать тебя?» И ей в ответ — молчанье.
Молчу. И лишь пронзаю взором,
Вот этим взором, яд змеи в котором!
Взор ненавидящий ужалит ядовито!
Удар почувствуешь, хоть будь ты из гранита!
Вопьюсь, как адский дым, под трепетные веки,
Запечатлеюсь в памяти навеки.
Мысль омрачу твою на целый день я,
И ночью я твои нарушу сновиденья!
(Медленно, с нежностью.)
Но нет! Она нежна, как на травинке где-то
Легчайшая весенняя пушинка:
Колеблется она, зефирами задета,
Опасна для нее ничтожная росинка;
Ее волнует каждое движенье
И обижает слишком резкий голос,
И угасает вся ее веселость,
Когда печаль по мне пройдет хотя бы тенью.
Отлично понимаем мы друг друга:
Один подумает — другому все известно.
Не выйдем из единого мы круга:
Так меж собою связаны мы тесно,
Что, если только чувство возникало
В моей душе, — тотчас оно чудесно
Ей прямо в сердце проникало
И, возвратясь, в моих глазах сверкало,
Как бы в зеркалах отраженье.
Нет! Не нарушу я ее покоя,
Я маскою судейской не закрою
Лица влюбленного. К чему тут осужденья!
Что сделала она такое?
Чем, чем она передо мной грешила?
Быть может, в заблуждение вводила,
Лукавыми словами обольщала?
В чем присягала мне? Что обещала?
Иль, может быть, она заманивала взглядом?
О нет, — ни наяву, ни в сновиденье!
Я сам питал свой бред! И с самого начала
Я сам готовил яд, сам отравился ядом!
К чему ж безумствовать? Имею ли я право?
Что, собственно, моя ничтожная особа?
Где добродетели? Чины? Почет и слава?
Ведь ничего! Одна любовь до гроба.
Я понимаю это! Никогда ведь
Взаимности твоей не смел я добиваться!
Просил лишь взглядом не оставить
И по соседству оставаться,
Как с кровным кровная, — сестричка с братом.
Я помирился даже бы на этом!
«Вот видел я ее перед закатом,
Увижу снова с завтрашним рассветом».
Быть утром, днем и вечером с ней рядом,
Сказать ей «добрый день» и обменяться взглядом —
Вот счастье!
(После паузы.)
Но напрасно увлекаюсь!
Ты — под ревнивым взором хитрой стражи.
Грозят мне жалом, если приближаюсь,
Чуть что — уйти, исчезнуть мне прикажут…
Что ж, умереть?
(Печально.)
О люди! Вы из камня!
Никто из вас почувствовать не может,
Как смерть отшельника страшна. Никто глазамне
Не подойдет закрыть — уснуть мне не поможет,
Щепоть земли никто на гроб мой не положит,
Над гробом не прольет слезинок скуповатых,
И к дому вечности не будет провожатых.
О, пусть бы это все тебе хотя б приснилось,
Хотя бы лишь на час, но в траур облачилась
Ты в память о моей невыносимой пытке.
Пусть был бы траур тот не толще черной нитки!..
Но слезка жалости блеснет, быть может, все же.
«Он так меня любил!» — прошепчешь ты, быть может.
(С дикой иронией.)
Стой, жалкий птенчик, стой! Брось бабьи причитанья!
Тебе ль, счастливчик, плакать перед смертью?
Все взяли небеса — все, все, до основанья,
Но все же не отдам последних крох сознанья!
При жизни не просил я подаянья,
И, мертв, не попрошу я милосердья!
(Решительно.)
Ты — госпожа себе. Так будь еще сильнее.
Забудь! Забуду я!
(Смущенно.)
Мне безразличен взор твой…
(Задумчиво.)
Ее черты… темнее и темнее,
Как будто льдами вечности затерты.
Безумство прошлого я презираю.
(Пауза.)
А что вздыхаю?.. Да, о ней я вспоминаю!
О ней прекрасно помню я и мертвый!
Ведь вот она! Вот здесь! Меня не покидает.
Рыдает… Слезка блещет на реснице!
Так искренно слезинка серебрится.
(С грустью.)
Плачь, милая! Твой Густав умирает.
(Решительно.)
Смелее, Густав! Сталь уже сверкает!
(Поднимает кинжал; печально.)
Не бойся, милая. Он вовсе не боится!
С собой он ничего не забирает!
Останутся тебе веселье и богатство,
Оставлю я тебе всю жизнь, весь мир, всю радость!..
(С бешенством.)
Блаженствуй!.. Все твое!.. Мне ничего не надо!
Ни слезки я твоей не стану домогаться!
(Ксендзу, который входит со слугами.)
Послушай, ксендз, коль встретишься ты вскоре…
(с нарастающей резкостью)
С прелестнейшею девушкою этой…
Нет… с женщиной… И если в разговоре —
Как умер я? — вдруг спросит, то в ответ ей
Не говори, что умер я от горя!
Скажи, что был румян, сверкал веселым взором,
Что никогда не вспоминал любимой,
Что был картежник я неутомимый,
Что слыл я пьяницей, что был танцором…
И ногу вывернул…
(ударяет ногой)
вот так танцуя где-то.
Причиной смерти послужило это!
(Убивает себя.)
Ксендз
Иисус, Мария! О, побойся бога!
(Хватает его за руку, Густав стоит; часы начинают бить.)
Густав
(борясь со смертью, смотрит на часы)
Цепь шелестит… Одиннадцать! В дорогу!
Петухи поют второй раз.
Густав
Петухи вторично закричали.
Кончины близок час!
Часы кончают бить, вторая свеча гаснет.
Вторично свет погас…
Конец печали!..
(Вынимает кинжал из раны и прячет.)
Ксендз
Во имя божье помогите, братья!
Кинжал он в грудь вогнал до рукояти,
Пал жертвою безумия!
Густав
(с холодной улыбкой)
Едва ли!
Пал, да не падаю!
Ксендз
(хватая его за руки)
Господь, прости злодея!
Густав
Не беспокойся. Говорю тебе я:
Грех сотворять такой могу не каждый день я.
Свершилось — осужден, — и лишь для поученья
Я вновь воспроизвел, что сделано вначале.
Густав
Штучки. Чары. Наважденье!
Ксендз
Ах, волосы мои сегодня дыбом встали!
Едва хожу. Оставь же эти бредни!
Во имя господа скажи: что это значит?
Густав
(глядя на часы)
Был час любви. Был час печали. Начат
Час предостереженья. Час последний…
Ксендз
(хочет его усадить)
Ложись! Ах, как меня все это взволновало!
Дай раны осмотрю.
Густав
Даю тебе я слово
До Страшного суда не обнажать кинжала.
Не беспокойся. Жив-здоров я снова.
Ксендз
Ей-богу, не могу понять я, в чем тут дело!
Густав
То — не обман! Есть ценное такое
Оружье, что не поражает тела,
Но насмерть расправляется с душою.
Таким оружьем я убит два раза…
(Помолчав с улыбкой.)
При жизни были им два женских глаза.
(Мрачно.)
А после смерти я убит моими
Раскаяньями!
Ксендз
Эй, ответь во имя
Отца, и сына, и святого духа —
Жив ты иль мертв? Мороз идет по коже!
Глаза твои бельмом покрыты… Боже!
Ты что — лишился зрения и слуха?
И пульса нет! Как все на смерть похоже!
В чем дело? Говори!
Густав
О том узнаешь позже.
А выслушай сейчас, зачем я в мир явился…
Когда я стал у твоего порога,
Ты с детками за мертвецов молился,
Для них просил ты милости у бога.
Ксендз
(хватает распятие)
Да, надо кончить…
(Привлекает детей к севе.)
Густав
Стой! Скажи без лицемерья,
В ад и чистилище ты веришь ли?
Ксендз
Я верю!
Всему, что говорит учение Христово
И учит церковь-мать, я верю слово в слово!
Густав
А предков набожных ты веру разделяешь?
Ах, день поминок! Славный праздник Дзяды, —
Зачем обряд ты этот упраздняешь?
Ксендз
В язычестве тот праздник взял начало;
Бороться с суеверьем без пощады
И просвещать народ мне церковь приказала
{142}.
Густав
(указывая на землю)
Однако просят те, чей голос слушать надо!
Прислушайся к их просьбе благосклонно!
Верни нам Дзяды. У господня трона,
Где весят целиком и без изъятья
Всю нашу жизнь, до крошечки единой, —
Одна слеза слуги над гробом господина
Важней, чем лживые некрологи в печати,
Наемная толпа и траур катафалка.
Ведь, коль сородича и впрямь народу жалко,
Народ ему свечу поставит над могилой, —
Та свечка стоит грош, но светит с большей силой,
Чем тысячи лампад, зажженных лицемерно
В фальшивом трауре… И знаю я наверно —
Коль на могиле горсть муки оставят,
И если принесут творог и мед пахучий,
То это душу напитает лучше,
Чем самый модный бал, что на поминках правят
Наследники, слетевшись целой тучей!
Ксендз
Ни слова! Дзяды — сборища ночные
На пустырях, в часовнях, в склепах старых.
Обряды богохульные, блажные,
Чтоб оставалось общество во мраке.
Отсюда эти россказни и враки
О духах ночи, упырях и чарах!
Густав
Да? Мир бездушен? Ты такого мненья?
(С иронией.)
Мир, значит, как скелет? Но кто ж привел в движенье
Все эти тайные соединенья?
Кто этот врач? Иль вправду в этом мире,
Как будто бы в часах, все движут только гири?
(С улыбкой.)
Вам разум показал пружины и колеса,
А вот руки с ключом — узреть не довелося!
Когда б сорвал ты с глаз земное покрывало,
То не одна бы жизнь перед тобою встала!
Нет, этих жизней целая громада
Стремится хлынуть мертвой массой света.
(Входящим в комнату детям.)
Приблизьтесь, дети, вот к конторке этой!
(К конторке.)
Скажи, душа, что тебе надо?
Голос из конторки
Я трех молитв прошу!
Ксендз
(пораженный)
Викария будите!
Оделось слово в плоть!.. О боже!.. Всех зовите!..
Густав
Стыдись, стыдись, отец! Где вера? Где твой разум?
Распятие сильней всех домочадцев разом,
Богобоязненным ничто не страшно в мире!
Ксендз
Чего же хочешь ты?.. О, хитрости упырьи!
Густав
Чего же мне просить? Просящих много всюду!
(Ловит у свечи мотылька.)
А! Мотылек? Вы, сударь мой, откуда?
(Ксендзу, показывая мотылька.)
Крылатый рой! На грани тьмы он где-то…
Все истины лучи они при жизни тушат,
Настанет Страшный суд — пойдут во тьму за это.
Но, ненавидя свет, должны стремиться к свету
Их осужденные, блуждающие души —
Жестокой это им является расплатой.
Вот этот мотылек, весьма щеголеватый,
При жизни был царек, возможно — пан богатый:
Его роскошных крыльев шевеленье
Бросало тень на город и селенья.
А этот вот — кривляющийся, черный,
Был цензором. Упорный, глупый, вздорный,
Он облетал цветы изящного искусства,
Чернил он красоту, возвышенные чувства.
Все, все губил, что было в ноле зренья,
Любую прелесть ядовитым жалом
Высасывал, а зернышко науки
В зародыше нещадно убивал он,
В него вонзая зуб гадюки!..
А эти, что, зудя, снуют в кромешном мраке, —
Льстецы больших вельмож, чернильные писаки.
Куда прикажет им лететь хозяйский голос,
Где пакостить велит — туда они и мчатся
И всходы первые и зрелый колос
Грызут, чтоб вновь посевам не подняться.
Они — как саранча… За насекомых этих
И «Богородицы» прочесть не стоит, дети!
Но кое-кто и впрямь достоин сожаленья!
Их звал друзьями ты, считал учениками;
К полету сам толкнул ты их воображенье;
Искусно раздувал природное их пламя…
И кара им была за эту жизнь какая, —
С порога вечности тебе я объявляю.
Вновь втиснул жизнь свою я в три коротких часа
В расчете, что тебя предостеречь удастся.
Поминок и молитв другим дари отраду,
А мне теперь одних воспоминаний надо.
Вся жизнь моя была достаточно суровой
Расплатой за грехи. И предан казни новой
Иль награжден я здесь — об этом я не знаю.
Я помню лишь ее. Все прочее отрину!
Кто на земле познал всю радость рая,
Кто отыскал свою вторую половину,
Кто светской жизни мог переступить границу,
Кто от любви душой томится
И гибнет от любовного смятенья, —
Тот одинаково и после погребенья
Существованье личное теряет
И остается только тенью
Близ той, кого он обожает!
Кто верен был тебе, господь небесный,
Тот славу в небе разделил с тобою,
Кто был с лукавым — пожран вечной бездной,
Томится в ней, как все на свете злое!
Но ангела я подданный. Такая У
дача выпала! Жалеть мне не придется.
Обоим нам грядущее смеется.
Вблизи возлюбленной я, точно тень, блуждаю,
Бываю в небесах, но и в аду бываю.
Коль вспомнит обо мне, вздохнет, прольет хоть слезку
Я легким ветерком колеблю ей прическу,
К ее груди незримо приникаю,
Касаюсь уст и пью ее дыханье.
Тогда я в небесах…
Но разве вы забыли?
Ох, помните вы все, которые любили,
Что значит ревности пыланье!
Здесь долго буду я блуждать неутомимо,
Пока господь ее не позовет в объятья.
На небо тень моя за ангелом любимым
Прокрадется тогда… и кончу здесь блуждать я.
Часы начинают бить.
(Поет.)
Слушайте же все и разумейте,
Знайте — так господь повелевает:
Кто на небе был хоть раз до смерти,
Мертв, туда не сразу попадает!
Часы кончили бить, петух поет, лампада перед образом гаснет. Густав исчезает.
Хор
Слушайте же все и разумейте,
Знайте — так господь повелевает:
Кто на небе был хоть раз до смерти,
Мертв, туда не сразу попадает!

«Фарис»
Дзяды
Поэма
Часть III
Перевод В. Левика
{143}
Незабвенным
Яну Соболевскому,
Циприану Дашкевичу,
Феликсу Кулаковскому —
товарищам по учению,
по заключению,
по изгнанию,
подвергавшимся преследованию
за любовь к родине,
умершим от тоски по родине
в Архангельске,
в Москве,
в Петербурге,
мученикам народного дела —
посвящает автор.
Польша вот уже полвека являет собой зрелище, с одной стороны, такой постоянной, неиссякаемой и неумолимой жестокости тиранов, с другой же — такого безграничного самоотвержения народа и такой упорной стойкости, каких история не знает со времен гонений на первых христиан. Видимо, государи, как некогда Ирод, предчувствуют появление в мире нового светоча и свое близкое падение, а народ все горячее верит в свое возрождение к новой жизни.
История страданий Польши — это история многих поколений и неисчислимого множества жертв. Кровавые дела творятся над поляками на всем пространстве нашей родины и в чужих краях. В моей поэме я показал некоторые мелкие детали этой огромной картины, несколько эпизодов из времен гонений, которым подвергались мои соотечественники при императоре Александре I.
Около 1822 года начала определяться, укрепляться и принимать четкое направление политика Александра I, политика удушения всякой свободы. В это-то время и начались повсюду в Польше притеснения народа польского, которые становились все более жестокими и кровавыми. Выступил на сцену навсегда памятный Польше сенатор Новосильцев
{144}. Инстинктивную звериную ненависть царского правительства к полякам он первый воспринял как спасительную и правильную политику и руководился ею в своих действиях, задавшись целью уничтожить поляков как нацию. Тогда вся страна, от Просны до самого Днепра и от Галиции до Балтийского моря, была изолирована и превращена в громадную тюрьму. Весь административный аппарат превращен был в одно гигантское орудие пытки для поляков, а в действие его приводили цесаревич Константин
{145} и сенатор Новосильцев.
У Новосильцева была своя система — он первым делом принялся за детей и молодежь, чтобы уничтожить в зародыше надежду Польши, ее будущие поколения. Своим «главным штабом» палачи избрали Вильно, центр просвещения
{146} литовско-русских провинций. В то время среди университетской молодежи существовали различные литературные кружки, ставившие себе целью сохранение родного языка и национальной культуры, — право на то и на другое было предоставлено полякам и Венским конгрессом, и указами русского императора. Эти кружки, когда правительство стало все более и более преследовать их своими подозрениями, сами прекратили свою деятельность
{147}, — еще до того, как были запрещены особым указом. Однако Новосильцев, прибыв в Вильно через год после этого, солгал императору, будто кружки еще существуют и продолжают свою деятельность. Их литературные занятия он изобразил как явный бунт против правительства, арестовал несколько сот молодых людей и для-суда над студентами учредил военные трибуналы, которые творили его волю. Тайный царский суд не дает обвиняемым возможности защищаться, так как они часто не знают, какое им предъявлено обвинение: даже выслушав их показания, комиссия по своему усмотрению одни заносит в протокол, другие не заносит. Присланный в Литву цесаревичем Константином с неограниченными полномочиями, Новосильцев был одновременно и обвинителем, и судьей, и палачом.
Он закрыл в Литве несколько школ и посещавшую их молодежь обрек на гражданскую смерть, отдав приказ, чтобы ее не принимали ни на какую службу и не допускали ни в одно частное или общественное учебное заведение, где можно было бы закончить образование. Такой приказ, воспрещающий учиться, является беспримерным в истории оригинальным изобретением царского правительства. Наряду с закрытием школ десятки юношей сосланы были в сибирские рудники, на каторгу или в гарнизоны в Азию; среди них были несовершеннолетние, были юноши из самых известных литовских семей. Несколько десятков преподавателей и студентов университета сосланы были на вечное поселение в глубь России, как подозреваемые в польском национализме. Раз всего этого множества изгнанников только одному пока удалось выбраться из России.
Все писатели, упоминающие о гонениях в Литве, сходятся в мнении, что в деле виленских студентов есть нечто мистическое и таинственное. Склонный к мистицизму, кроткий, но непоколебимый Томаш Зан
{148}, руководитель этой молодежи, высокое самоотречение, братская любовь и согласие, связывавшие молодых узников, всем явная божья кара
{149}, постигшая притеснителей, — все это глубоко запечатлелось в умах всех, кто был свидетелем или участником этих событий; а записи их словно переносят читателя в далекие времена — времена веры и чудес.
Все, кому хорошо известны события, о которых идет речь, могут засвидетельствовать, что историческая обстановка и характеры действующих лиц в моей поэме очерчены добросовестно, без каких бы то ни было преувеличений и прикрас. Да и зачем бы я стал преувеличивать или добавлять свое? Для того чтобы оживить в сердцах моих соотечественников ненависть к врагам? Или вызвать жалость к ним в Европе? Но что значат все жестокости прошедших лет в сравнении с мучениями, которые терпит сейчас польский народ и на которые Европа взирает равнодушно! У автора этой поэмы была одна цель — чтобы сохранилась в памяти народа правдивая история Литвы за несколько десятков лет: мне не было надобности возбуждать в соотечественниках отвращение к врагам — они этих врагов знают исиокон века. А что до жалостливых народов европейских, рыдавших над Польшей, как некогда жены иерусалимские рыдали над Христом, — польский народ скажет им словами спасителя: «Не меня оплакивайте, о дщери Иерусалима, — оплакивайте самих себя!»
Дзяды
Часть III
Литва. Пролог
Перевод В. Левика
Остерегайтесь же людей: ибо
они будут отдавать вас в судилища
и в синагогах своих будут бить вас.
От Матфея, гл. 10, ст. 17.
И поведут вас к правителям и
царим за меня, для свидетельства
пред ними и язычниками.
Ст. 18.
И будете ненавидимы всеми за
имя мое; претерпевший же до
конца спасется.
Ст. 22.
В Вильно на улице Остробрамской, в монастыре отцов Базилианов, превращенном в государственную тюрьму. Тюремная камера.
Узник, опершись на подоконник, спит.
Ангел — хранитель
Ты, дитя дурное, злое,
Вспомни мать! Пока жила —
Хрупкий век твой берегла.
Как скончалась — не забыла,
За тебя творца молила,
От беды тебя блюла.
Так цветет, благоухая,
В мае роза молодая,
Сада нежный серафим,
Детский сон оберегая
Благовонием своим.
Материнским вняв моленьям,
Часто, божьим изволеньем,
По златым лучам луны
Нисходил я с вышины
И стерег твой сон украдкой,
Опустясь над вашей хаткой.
Я не спал в тиши ночей,
Мир души твоей лелея, —
Так, склонясь, глядит лилея
В замутившийся ручей.
И в душе твоей упрямо
Я искал к добру пути, —
Жаждал зерна фимиама
В муравейнике найти.
И, найдя их, брал я смело
Спящий дух, и к богу сил,
В мир, где вечность пламенела,
С тихой песней уносил, —
С тою песней, что спросонок
Забывает вмиг ребенок,
А забыв, не вспомнит он
Звуков, слышанных сквозь сон.
Предвещая светлый жребий,
Я тебя баюкал в небе,
Но увы, твой грешный дух
Был к небесным песням глух.
Бесом огненным являлся
Я тогда в твоих очах,
Чтоб, изведав сердцем страх,
Ты прозрел и убоялся;
Но, как раб — хозяйский кнут,
Принимал ты божий суд.
А проснувшись, злобы смутной
И гордыни полон был,
Словно ты напиток мутный
Из ключа забвенья пил.
И небес запечатленья
Влек ты в прах, как водопад
Мчит с подоблачных громад
В бездну хрупкие растенья.
В те минуты плакал я,
И в небесные края
Не хотел я возвращаться,
Чтобы там не повстречаться
С милой матерью твоей;
Ибо что ответить ей,
Если спросит: «Все ль в порядке?
Был ты, ангел, в нашей хатке?
Как мой сын? Здоров ли он
И какой он видел сон?»
Узник
(просыпается усталый и смотрит в окно — утро)
О ночь отрадная, откуда в мир пришла ты —
Кто спросит, кто поймет? Увидев сонмы звезд,
Кто может предузнать по ним твой путь крылатый?
Светило дня зашло, так скажет астроном,
А почему зашло — никто не отвечает;
Покрыла землю тьма, забылись люди сном,
Но чем навеян сон — никто не вопрошает.
И бодрствуют без чувств, как спят без чувств они,
И не придут в восторг, опять зарю встречая.
Сменились ночь и день, как стража полковая,
Но где же командир, им данный искони?
А сон? Безмолвный мир, таинственная сфера,
Жизнь духа, — вот предмет, достойный мудреца!
Кем будут найдены ему число и мера?
Тревожен спящий, встал — и страх бежит с лица.
Но мудрецы твердят, что сон — воспоминанье.
О, мудрость, духа нищета!
Ужель не знаю сам, где память, где мечта?
Ужель мое тюремное страданье —
Одно воспоминанье?
Нам говорят: во сне восторг и боль души —
Игра фантазии, родившейся в тиши.
Игра фантазии! Что знает мир об этом?
Глупцы вступают в спор с поэтом!
Нет, мне фантазии знакома широта,
Я знаю грань ее — за ней лежит мечта.
Скорее полночь — день, скорей восторг — страданье,
Чем боль — фантазия, чем сон — воспоминанье.
(Ложится и встает снова, идет к окну.)
Нет отдыха душе! Как сны томят меня,
То устрашая, то маня.
(Дремлет.)
Ночные духи
Пух черный, пух мягкий страдальцу подложим,
Тихонько споем, не вспугнем, не встревожим.
Дух с левой стороны
В тюрьме печаль и мрак, а в городе — огни,
Поют о радости поэты,
И ночи веселы, как праздничные дни.
По улицам скользят кометы,
Кометы с глазками и светлою косой.
Узник засыпает.
И кто им вслед ладью направит,
Тот на волне уснет, лелеемый мечтой,
Пробудится у нас и берег наш восславит.
Ангел
Молили бога мы о том,
Чтоб ты захвачен был врагом.
Мудрец обрящет свет в пустыне,
А ты в тюремной келье ныне
Пойми, прочувствуй, как пророк,
Чем стать тебе назначил бог.
Хор ночных духов
Днем бог докучает, а ночью — веселье,
Для бражников ночь создана.
Свободнее ночью поют менестрели,
И учит их петь сатана.
И дум чистоту, обретенную в храме,
И жажду бесед или книг, —
Все шумная ночь осквернит за пирами,
Пиявкою высосет вмиг.
Споем ему песню, — придет наше время,
Он станет слугой сатаны,
Вползем ему в сердце и вспрыгнем на темя,
А прочее — сделают сны!
Ангел
Молились о тебе, — и знаем ныне мы,
Что выпустят тебя тираны из тюрьмы.
Узник
(просыпается и думает)
Ты ближнего казнишь, гноишь в тюрьме, пытаешь,
Пируя по ночам и улыбаясь днем.
Едва ли поутру свой сон ты вспоминаешь,
Когда же вспомнишь вдруг — что ты читаешь в нем?
(Дремлет.)
Ангел
Узнай, твой срок придет, свободен будешь снова.
Узник
(просыпается)
Свободен? Помню, так вчера сказали мне;
Но бог ли то вещал, иль слышал я во сне?
(Засыпает.)
Ангелы
Теперь лишь охранить его от духа злого, —
Уже с самим собой ведет он в мыслях спор.
Духи с левой стороны
Удвоим натиск мы.
Духи с правой
Удвоим мы отпор.
А зло в нем верх берет, добро ли одолело, —
Покажут завтра нам и речь его и дело;
Одна минута здесь решит исход борьбы
И станет роковой для всей его судьбы.
Узник
Свободен! Кто сказал? И эта весть не ложна?
Под скипетром царя свобода невозможна:
Злодей освободит лишь тело от оков.
Но, душу заковав, певца навек принудит
Уйти в изгнание, скитаться меж врагов,
В стране, где песнь его непонятой пребудет
И в пустоте умрет. Последний этот меч
Еще в руке моей, и служит он отчизне.
Но вот они хотят отнять у барда речь,
Чтоб для родной страны он мертвым стал при жизни,
Чтоб мысль в душе его вкушала темный сон,
Как чистый бриллиант, что в камне заключен
(встает и пишет углем на стене, с одной стороны):
D. О. М.{150}
GUSTAVUS
OBIIT MDCCCXXIII
CALENDIS NOVEMBRIS.
(С другой стороны):
HIC NATUS EST
CONRADUS
MDCCCXXIII
CALENDIS NOVEMBRIS.
(Опирается на подоконник и — засыпает.)
Дух
Когда бы смертный знал, как мысль его сильна!
Едва, незримая, блеснет, как искра в туче, —
Тотчас рождает гром и молнию она,
И плодоносный дождь, и град, и вихрь летучий.
Когда бы смертный знал: чуть мысль его блеснет,
Уже в молчанье ждут, как грома ждут стихии,
И духи темных сил и духи всеблагие —
Метнет ли тьмой он в ад, иль светом в небосвод.
А ты — летишь один, как тучка грозовая,
Не зная, что творишь, куда летишь — не зная.
О люди! И в тюрьме для мысли нет препон:
Она и вознесет, она и свергнет трон.
Акт I
Сцена I
{151}
Коридор. — В отдалении стража с карабинами. — Несколько молодых узников со свечами выходят из своих камер. — Полночь.
Адольф
Дежурит наш капрал, —
А стража пьет.
Адольф
Да, медлить — толку мало.
Якуб
Патруль поймает нас, так засекут капрала.
Адольф
Ты погаси свечу, чтоб свет не выдавал.
Гасят свечу.
Патруль не так уж быстр: пока смотритель встанет,
Возьмет пароль, отдаст, пока ключи достанет,
А там — пока войдут, пройдут весь коридор, —
Мы врозь, легли, храпим, и двери на запор.
Входят другие узники, вызванные из камер.
Кс. Львович
Как! И вы здесь!
Фрейенд
Жегота, приглашай. Со всеми ль ты знаком?
Друзья, в наш клан попал сегодня новый узник.
И у него — камин. Мы будем с огоньком.
К тому же новое обследуем жилище!
Соболевский
И ты, Жегота, здесь! Где твой дворец, дружище?
Жегота
Он строен на двоих, троим уж места нет.
Фрейенд
Пойдемте в камеру Конрада, мой совет, —
Она и дальше всех
{152}, и смежная с костелом.
Сегодня я хочу быть шумным и веселым,
Кричать, смеяться, петь — не бойтесь ничего:
Прохожие решат, — ведь завтра Рождество, —
Что это хор поет в костеле… Для начала
Раскупорим кларет.
Фрейенд
Почтеннейший капрал нам и подаст пример,
Недаром он поляк и встарь — легионер.
Он в москали попал, но то ведь царь неволит.
Католик добрый он и узникам позволит
На встрече Рождества распить бутылок пять.
Якуб
Когда проведают, нам всем несдобровать.
Входят в камеру Конрада, разводят огонь в камине и зажигают свечу. Камера Конрада, как в прологе.
Кс. Львович
Жегота, милый друг, ты как сюда, откуда?
Жегота
В амбаре собственном был схвачен нынче днем.
Кс. Львович
Так ты хозяйство вел?
Жегота
Как вел-то! Просто чудо!
Я славлюсь на Литве как лучший эконом.
Соломы от овса не отличал, бывало.
А нынче — овцевод, каких, пожалуй, мало.
Жегота
Нет, но я слыхал не раз,
Что в Вильно — следствие. Мой дом вблизи дороги,
И часто из окон глядели мы в тревоге,
Как на восток летят кибитки мимо нас.
А если мы сидим, бывало, за столом
И зазвенит стакан иль скрипнет стул соседа, —
Бледнеют женщины, смолкает вдруг беседа,
Как будто ломится фельдъегерь царский в дом.
Но в заговорах я не принимал участья,
Политике был чужд. И думаю, что цель
У них весьма проста: раздули дело власти,
Чтоб нашей денежкой набить скорей кошель.
Обчистят — выпустят.
Томаш
Ты думаешь, Жегота?
Жегота
В Сибирь отправить нас не могут без вины!
Но вы молчите все? Так разве было что-то?
За что мы схвачены и в чём обвинены?
Какой предлог они измыслят для расправы?
Томаш
Вот Новосильцев к нам приехал из Варшавы,
А знаешь ты, как пан сенатор разъярен?
В немилость у царя попал недавно он
За то, что пьянствовал и воровал открыто
И, обозлив купцов, лишился их кредита.
Он стал из кожи лезть, чтоб заговор найти,
Поляков оболгать и тем себя спасти;
Но, не найдя того, что угрожало б миру,
В Литву перетащил шпионов штаб-квартиру.
Чтобы в доверие войти к царю опять
И после грабить нас и нашу кровь сосать,
Он жертвы должен вновь представить Николаю
И новый заговор открыть.
Жегота
Я полагаю,
Мы оправдаемся.
Томаш
Нет, бесполезный труд.
За тайным следствием назначат тайный суд,
И обвинитель наш судьею нашим будет, —
Он, не сказав за что, нам каторгу присудит:
Нужна не истина, а видимость ему.
Один лишь путь у нас к спасенью остается:
Кому-то на себя принять вину придется
И, выручая всех, погибнуть одному.
Я в нашем обществе главою был, а значит,
Я должен пострадать за вас, мои друзья.
Найдите нескольких еще таких, как я —
Без близких, без родных, — по ком никто не плачет
И чья бесцельна жизнь, а гибель помогла б
Отважных, молодых спасти от вражьих лап.
Якуб
Грустишь, старик! Что ж, это нам знакомо:
Не думал, что вовек тебе не быть уж дома?
Фрейенд
Вон Яцек, тот жену оставил на-сносях,
Но видел кто-нибудь слезу в его глазах?
Кулаковский
Слезу! Ну вот еще! Коль будет сын, ей-богу,
Берусь я малышу предречь его дорогу.
Дай руку, Яцек, я отчасти хиромант:
Посмотрим, как пройдет по жизни твой инфант.
(Рассматривает руку Яцека.)
Под царским скипетром, коль будет честный малый,
Узнает суд, острог, да и Сибирь, пожалуй;
Иль, может, с нами, здесь, кончать свой будет век —
Люблю я сыновей, как будущих коллег.
Жегота
А вы здесь уж давно?
Фрейенд
Увы, не знаем сами.
Календаря здесь нет, а писем нам не шлют.
Но хоть одно бы знать: как долго тлеть нам тут?
Сузии
Я без окна живу и все равно, что в яме.
Как отличишь там день от ночи, свет от тьмы?
Фрейенд
Спроси у Томаса, он патриарх тюрьмы.
Как рыба крупная, попался первым в сети
И раньше всех других обжил хоромы эти.
Он знает всех — кто здесь, за что и отчего.
Сузии
Паи Томаш? Это он? Я не узнал его.
Дай руку! Ты меня недолго знал и мало:
Тебя толпа друзей в то время окружала,
Подобно всем и я попасть в их круг хотел,
Но, к сожаленью, ты меня не разглядел.
Ты пострадал за нас. Я знаю, наш оракул,
Как ты, спасая нас, неравный принял бой,
И с той поры горжусь, что был знаком с тобой,
И вспомню в смертный час, как с Томашем я плакал.
Фрейенд
Пожалуйста, без слез, ведь так сойдешь сума!
У Томаша, поверь, и в те года златые
Уж было на челе написано: «Тюрьма»,
А в этой крепости он как в своей стихии.
Под солнцем, точно гриб, он долго жить не мог,
Но здесь, где все во тьме и в сырости мертвеет,
Где мы, подсолнухи, увяли в краткий срок,
Он наливается здоровьем и полнеет.
К леченью голодом пан Томаш приступил:
Леченье модное, и в нем — источник сил.
Фрейенд
Нет, корм ему давали,
Но проглотить тот корм сумел бы ты едва ли.
И, право, он верней аптечных порошков
Перетравить бы мог мышей, клопов, сверчков.
Томаш
Неделю я крепился,
Потом попробовал и в тот же день свалился.
Все тело стало ныть, как будто принял яд:
Я месяц пролежал без чувств, как говорят.
Не знаю, чем болел, но, если молвить честно,
Врачей здесь не было, и это неизвестно.
Потом я встал и вот, хотя был слаб и худ,
Окреп, как будто бы рожден для этих блюд.
Фрейенд
(с напускной веселостью)
Кто не сидел в тюрьме, те, право, духом нищи:
Здесь открывается секрет жилья и пищи.
Разборчивость, друзья, — привычка. Раз литвин
Спросил у пинчука или у черта, что ли:
«Ты почему сидишь в болоте, вражий сын?»
А тот в ответ: «Привык!»
Якуб
Привыкнешь ли к неволе?
Фрейенд
Вся штука в этом, брат.
Якуб
Я здесь уж скоро год,
Но с прежней силою тоска меня гнетет.
Фрейенд
Вот Томаш, тот привык к тюремным ароматам,
На свежем воздухе он задохнется вмиг.
Все в камере сидит и так дышать отвык,
Что если б вышел вон, то мог бы стать богатым;
Глотнул бы воздуха, уже, глядишь, и пьян,
А кто не пьет вина, у тех полней карман.
Томаш
Нет лучше голодать, болеть, лежать в могиле,
Побои, хуже — суд иль следствие терпеть,
Чем с вами, господа, со всеми тут сидеть!
Они б, мерзавцы, нас гуртом передушили.
Фрейенд
Ах, значит, ты о нас печалишься, сосед!
Уж не меня ль жалеть? Скажи, кому я нужен?
Вот если бы война! Пан Фрейенд с шашкой дружен,
Уж он казакам бы нашпиговал хребет!
А что я без войны? Еще полсотни лет
Царя я буду клясть, а там сгнию в могиле.
На воле чем я был? Так, чем-то вроде пыли,
С вином и порохом себя сравнил бы, но
Закупорено все, и порох и вино, —
Я приравнен в цене к бутылкам и к патронам.
На воле я б сгорел, как порох над огнем,
Давно бы выдохся, как незакрытый ром;
Но если я пойду, звеня кандальным звоном,
В Сибирь, на каторгу, в Литве заговорят:
«Так гибнет ни за что на каторге наш брат.
Постой, проклятый царь! Постой, москаль негодный!»
Да я б на плаху лег, мой Томаш благородный,
Чтоб ты на свете жил хотя бы лишний час!
Лишь смертью мне дано служить моей отчизне.
Живи я десять раз, я б отдал десять жизней,
Когда б такой ценой вернул твою хоть раз
Иль спас Конраду жизнь, поэту с мрачным ликом,
Кто знает, как цыган, что людям суждено.
(Конраду)
Слух о тебе идет как о певце великом,
И я люблю тебя, — ты, право, как вино:
Ты хмелем песен жжешь, ты чувства зажигаешь,
Мы пьем, и пьяны все, а ты, брат, иссякаешь.
(Утирая слезы, берет за руку Конрада.)
(К Томашу и Конраду.)
Да, да, вы любы мне, но можно ведь любить
И не реветь при том. Итак, предупреждаю:
Не плачьте, а не то, как стану слезы лить,
Так потушу огонь, и не видать нам чаю.
(Готовит чай.)
Минута молчания.
Кс. Львович
Печальный гостю мы устроили прием!
(Указывает на Жеготу.)
На новоселье плач — недобрая примета.
Но что же все молчат? Не намолчались днем?
Якуб
Что слышно в городе?
Адольф
Вот Ян был в городе — на следствии
{153} опять,
И видно по лицу, что опечален сильно,
Да все молчит.
Несколько голосов
Ну, Ян! Что делается в Вильно!
Ян Соболевский
(уныло)
Там ужасы. В Сибирь кибиток двадцать пять
Погнали.
Ян
Средь бела дня, чтоб видели все люди.
Устроили парад.
Несколько голосов
Ты сам видал?
Яцек
А брата моего ты не заметил там?
Ян
Заметил. Увезли, как всех. Толпа рыдала.
Когда мы шли назад, я упросил капрала
Чуть задержаться. Он сказал, что подождет,
Я стал за портиком костела, слышу пенье:
Как раз обедня шла. Но в это же мгновенье
Раскрылась настежь дверь и повалил народ.
Гляжу, бегут к тюрьме, волнуются, — в чем дело?
Я заглянул в костел и вижу там ксендза.
Он, с чашею в руках, горе возвел глаза,
И мальчик со звонком у левого придела.
А вкруг тюрьмы толпа, полиция кругом,
И от ворот тюрьмы до площади, в два ряда,
Войска с оружием, оркестр, как для парада,
Кибитки среди них. А с площади верхом,
Надутый, как индюк, сам полицмейстер скачет,
От рожи так и прет: глядите, мол, что значит
Вести такой парад! — не шутка, черт возьми!
Ведь здесь триумф царя — победа… над детьми!
Ударил барабан, и ратушу открыли.
Я видел их — идут, и цепи их гремят.
За каждым, со штыком наперевес, солдат.
Детишки бедные! Всем головы обрили,
Все бледны и худы. Один — лет десяти.
Он плакал, что в цепях не может он идти,
И все показывал, что ногу стер до крови.
А полицмейстер тут как тут и хмурит брови.
Гуманный человек! Сам цепи осмотрел
И молвит ласково: «Чего ж тебе, пострел?
Вес — десять фунтов. Все согласно предписаньям».
Ввезли Янчевского
{155}. Он страшно исхудал,
Оброс и почернел, но я его узнал.
Облагорожено лицо его страданьем.
Всего лишь год назад красавец и шутник, —
Он, выпрямясь, глядел с кибитки в этот миг,
Как Цезарь
{156} с высоты скалы уединенной,
И взор его дышал отвагой непреклонной!
Казалось, мужество в друзей вливает он.
Порой он ласково народу улыбался,
Как будто, уходя в изгнание, прощался
И нам хотел сказать: мой дух еще силен.
Вдруг, показалось мне, мы встретились очами,
И он, не разобрав, что близ меня капрал,
И думая, что я отпущен палачами,
Воздушный поцелуй рукою мне послал,
Как будто поздравлял меня с освобожденьем;
В лицо мне сотни глаз вперились, а капрал
Мне шепчет: «Не смотри!» Я за колонну стал;
Там и лицо его, и каждое движенье —
Все ясно видел я. Он понял, что народ
Заплакал оттого, что он в цепях, — нагнулся
И показал, что цепь не очень ногу трет.
Внезапно свистнул кнут, — возок его рванулся —
Тут шляпу снял, привстал, и голос он напряг,
И трижды прокричал: «Вовеки слава Польше!»
Толпа шарахнулась, молчать не в силах больше…
Та шляпа, черная, как погребальный стяг,
И руки, что простер он ввысь подобно крыльям,
И голова его, обритая насильем,
Что в тысячной толпе над волнами голов
Так смело высилась, горда и непокорна,
Как образ правоты, замученной позорно,
Как в час перед грозой, меж пенистых валов,
Дельфина голова над шумной глубиною, —
Все это в памяти хранимо будет мною,
Чтоб верным компасом на жизненном пути
Меня к великому свершению вести.
И бог меня забудь, когда о том забуду!
Кс. Львович
Аминь за вас!
Каждый из узников
Аминь за каждого из нас!
Ян Соболевский
Кибитки новые подъехали тотчас,
В них так же узников по одному сажали.
Я оглядел толпу, все бледные стояли.
И в этой тишине, среди стольких людей
Был слышен каждый шаг и каждый звук цепей.
Я чувствовал: в сердцах кипит негодованье,
Но царь внушает страх, — народ хранил молчанье
Пред злодеянием, чье прозвище — закон.
Ввели последнего, но странно медлил он,
Как будто не хотел идти и упирался.
Потом я понял: он от слабости шатался,
Ступил — и с лестницы слетел вниз головой.
То Василевский
{157} был, сосед тюремный мой;
Ему на следствии вкатили двести палок.
Он так измучен был и так смертельно жалок!
Тотчас же подбежал солдат. Одной рукой
Он поднял и понес беднягу, а другой
Смахнул тайком слезу. Нес долго, неумело.
Тот не лишился чувств и не повис, как труп,
Но, как распятое, все вытянулось тело,
Хоть стон не излетал из побелевших губ.
И над солдатом он крестом раскинул руки —
Глаза, остекленев, расширились от муки.
Я видел ужас, гнев и скорбь в очах людей,
И вдруг невольный вздох из тысячи грудей
Рыданьем вырвался, глубоким и тяжелым,
Как будто все гроба разверзлись под костелом.
Но грянул барабан, команда раздалась:
«Готовься! Шагом марш!» И вихрем понеслась
Кибитка меж рядов, на вид совсем пустая.
Была закидана соломою она,
Но голая рука, недвижна и бледна,
Тянулась из нее, как бы благословляя
Испуганный народ. И прежде, чем кнутом
Рассеяли толпу, кибитка с мертвецом,
К костелу подкатив, у врат остановилась.
Тут зазвонил звонок. Я заглянул во храм.
Дрожащий капеллан, призвав господню милость,
Вознес Христову кровь и тело к небесам.
И я сказал: «Господь! Чтоб мир спасти, когда-то
Ты пролил сына кровь — таков был суд Пилата.
Ты слышал суд царя — прими, как жертву, вновь
Равно невинную, хоть не святую кровь!»
Долгое молчание.
Юзеф
Случалось мне не раз читать о войнах древних.
Война была резней, не знал пощады враг.
Он в рабство угонял, сжигал дотла деревни,
Он истреблял огнем и дерево и злак.
Но царь умней и злей, он вовсе нас раздавит,
Он в Польше и зерна для сева не оставит,
Как будто, злобствуя, сидит в нем сатана.
(Феликс) Кулаковский
И сатана его вознаградит сполна.
Минутная пауза.
Кс. Львович
А может, узник тот еще не умер все же, —
То знаешь ты один, о всемогущий боже!
Как ксендз я помолюсь, и вы за упокой
Невинно страждущих помолитесь со мной.
Кто знает, что нас ждет, когда взойдет денница.
Адольф
И о Ксаверии
{158} прошу я помолиться;
Он пулю в лоб пустил, когда за ним пришли.
Фрейенд
Бывало, с нами пир делил он до рассвета,
А как пришла беда, так первый прочь со света!
Кс. Львович
Господь его душе спасение пошли.
Янковский
Вот смех-то! Полно, ксендз, надеяться на бога!
Ну, пусть я вор, шпион, — подобных званий много, —
Пусть турок, австрияк, татарин иль пруссак,
Чиновник царский пусть, — чего скулить: «Мой боже!»
Коль Василевский мертв, нас в яму кинул враг,
А царь — царит!
Фрейенд
Чуть-чуть я не сказал того же.
Спасибо, на душу ты грех мой взять успел.
Но дайте же вздохнуть, я вовсе поглупел
От этих россказней. Умней не станешь, плача.
Ты б, Феликс, посмешил! Хоть нелегка задача,
Но ты заговоришь, так черта рассмешишь.
Несколько узников
Да, Феликс, говори и пой! Чего молчишь?
Эй, Фрейенд, наливай — имеет Феликс слово.
Жегота
Минутку, стой! Кто я? Не шляхтич сеймиковый?
{159}Хоть я здесь новичок, но чем я хуже вас?
Тут раньше речь зашла о зернах, — верно, Юзеф?
А я ведь эконом, так полезай же в кузов,
Кто назвался груздем: о зернах мой рассказ.
Когда бы царь забрал весь хлебный наш запас
И перевез к себе, и то у нас в отчизне
Не быть бы голоду, лишь быть дороговизне.
Антоний уж писал об этом всем.
Один из узников
Какой
Антоний?
Жегота
Басенку Горецкого слыхали?
{160}
Несколько голосов
Нет, ну-ка, расскажи, коллега дорогой!
Жегота
Когда, отведав плод, Адам и Ева пали,
Не с тем их выгнал бог, чтоб род наш извести.
Архангелам своим достать велел он хлеба
И там, где люди шли, просыпать зерна с неба,
Чтоб наши грешники поесть могли в пути.
Адам нашел их, взял и бросил, не смекая,
На что нужна ему в дороге вещь такая.
Но это увидал владыка всех чертей
И молвит: «Видно, бог не зря просыпал жито!
Тут зерна неспроста — в них что-нибудь да скрыто.
Давай-ка спрячем их подальше от людей».
Он рогом вырыл ров, его засыпал житом,
Землею закидал и притоптал копытом —
И рад, что замысел господень разгадал.
Захохотал, взревел и скрылся бес во мраке.
Но пробил срок — представь, какой в аду скандал! —
Взошли, и расцвели, и дали семя злаки.
Вы, дети хитрости, исчадья адской тьмы,
Чьи злобой черною отравлены умы!
Не богу — лишь себе недоброе подстроит,
Кто вольности зерно увидит и зароет.
Якуб
Ай да Гороцкий! Хват! Варшаву посетит —
За эти басни вновь он с годик посидит.
Фрейенд
Вернемся к Феликсу! Ей-богу, толку мало
В такой поэзии! Охота слушать вздор!
Покуда смысл найдешь — ломай мозги сначала.
Пусть Феликс нам споет, и кончен разговор.
(Наливает ему вина.)
Янковский
А что же Львович-то? Все молится? Так точно.
Ну, слушайте! Пою для Львовича нарочно.
(Поет.)
Молись, доверчивый народ!
Иисус, Мария!
Пока не сломлен царский гнет, —
Иисус, Мария!
Пока силен тиранов род, —
Иисус, Мария!
Не верю, что от них спасет
Иисус, Мария!
Пока проклятый живоглот, —
Иисус, Мария!
Здесь Новосильцев пьет и жрет, —
Иисус, Мария!
Пока не сверг царя народ, —
Иисус, Мария!
Не верю, что от них спасет
Иисус, Мария!
Конрад
Стой! Этих двух имен, коль пьешь, не поминай!
Хотя не верю я давно ни в ад, ни в рай,
Хоть безразличны мне и бог и все святые, —
Не смей кощунствовать над именем Марии!
Капрал
(подходя к Конраду)
Вот хорошо, что пан хоть это имя чтит!
Продувшийся игрок, пусть грош один в кармане,
Имеет все права не вешаться заране.
Тот грош когда-нибудь он в дело обратит,
И вот он с барышом, потом с другим и с третьим, —
И, смотришь, кое-что еще оставит детям.
Да, с этим именем солдат не пропадет!
В Испании — тому уже который год,
А помню как сейчас — ходил я под началом
Домбровского
{161}, потом зачислен был капралом
В полк Соболевского
{162}, — вот был солдат лихой!
Капрал
Господи! Душе его покой!
Под пули шел, и пять в него попали разом.
Он был похож на вас. Пришлось с его приказом
Мне ехать в городок Ламего. Ну так вот,
Приехал я, гляжу: французы там. Играют,
В картишки режутся, девчонок обнимают.
Потом ревут, — француз как выпьет, так ревет.
А что поют! Ей-ей, от седоусых, лысых
Такие сальности я слышал — право, стыд!
Я, молодой, краснел, Иной святых хулит
Или пречистую, а я ведь в содалисах
{163}Издавна состою, мой долг — Марию чтить.
Как начал я тогда распутников честить:
«Заткните, черти, пасть!» — вся банда замолчала.
Конрад задумывается, а другие начинают разговаривать.
Но слушайте, что тут произошло. Сначала
Был спор, как водится, а после мордобой.
Потом все спать пошли. А ночью вдруг тревога.
Трубят: «К оружию!» Французиков-то много.
Они за шапки хвать — да случай-то какой:
Надеть их не на что, голов — нет и в помине.
Хозяин всех, как кур, порезал, — экий хват!
Гляжу: я с головой — один из всех солдат,
И в шапке у меня записка по-латыни:
«Марии верный страж — да здравствует поляк!»
Вот, пан, я Деву чту, оно и вышло так.
Один из узников
Пой, Феликс, наконец! Вина тебе иль чаю?
Давай стакан.
Феликс
Ну что ж! Вы просите, друзья,
И я уныние из сердца изгоняю.
Вина мне! Буду петь и весел буду я.
(Поет.)
Не знаю, чем грозит заря,
В Сибири я, в тюрьме ли буду,
Но, верноподданный, повсюду
Работать буду на царя.
Дробя скалу, гранит буря,
Наткнусь на пласт руды железной,
Скажу: ну что ж, металл полезный —
Скуем топор мы для царя!
Мечтой о мщении горя,
Возьму себе татарку в жены,
Чтоб сын, в изгнании рожденный,
Как Пален, задушил царя.
Когда в колонии осяду
{164} —
Вспашу, засею огород,
Чтоб лен растить за годом год
Хоть три десятилетья кряду.
И дни мои пройдут не зря:
Лен может в нить тугую свиться,
И кто-то сможет похвалиться,
Что петлю сделал для царя.
Хор
(поет)
Тра-ра, тра-ра, взойдет заря, —
Родится Пален для царя.
Сузин
Но что ж Конрад сидит, в раздумье погружен,
Как будто исповедь в уме готовит он?
Не слушал Феликса и смотрит так сурово.
Глядите, побледнел, а вот краснеет снова.
Не болен ли?
Феликс
Чу, стой! На башне полночь бьет.
Ведь это час его. Теперь я понимаю;
Сейчас он будет петь. Итак, я умолкаю.
Но музыка нужна. Друг Фрейенд, твой черед!
Сыграй-ка песнь его, ты помнишь, ту, в миноре.
А мы, поодаль став, ему подтянем в хоре.
Юзеф
(глядя на Конрада)
Друзья, он воспарил душою в мир иной:
Быть может, он судеб читает там скрижали,
Быть может, встретил он знакомых духов рой
И слушает, что им светила рассказали.
Как странен взор его, каким горит огнем,
Но кто из нас ответ прочесть сумеет в нем?
Душа из глаз ушла, вот тал костры во мраке
Горят на брошенном войсками бивуаке,
И не погаснуть им до той поры, пока
Не возвратятся вновь на бивуак войска.
Фрейенд пробует разные мелодии.
Конрад
(поет)
В гробу моя песнь обрела уже мир,
Но кровь услыхала, воспрянула снова
И встала, как жаждущий крови вампир,
И кровью, и кровью упиться готова.
И песня к великому мщенью зовет,
Так с богом, иль пусть против бога — вперед!
Хор повторяет.
И песнь продолжает: ваш мир я нарушу!
Сперва я зажечь моих братьев должна.
Кому запущу я клыки свои в душу,
Тем участь вампиров, как мне, суждена.
И песня к великому мщенью зовет,
Так с богом, иль пусть против бога — вперед!
Мы кровь его выпьем. Зубами, ногтями
Вопьемся, разрубим врага топором,
Мы к доскам его приколотим гвоздями,
Чтоб он из могилы не встал упырем.
В геенну низвергнем — там ждут его черти, —
И грызть его будем, как в жизни земной.
Душить его будем, покуда бессмертье
Не выдавим прочь из душонки дрянной.
И песня к великому мщенью зовет,
Так с богом, иль пусть против бога — вперед!
Кс. Львович
Конрад, господь с тобой! Твои стихи грешны!
Капрал
Как страшно смотрит он! То песня сатаны!
Перестают петь..
Конрад
(в сопровождении флейты)
Я возношусь на гребень горной кручи
Превыше всех племен земных.
Здесь царствует пророков род могучий,
Кругом клубятся будущего тучи,
И, как блестящий меч, мой взор пронзает их.
Как вихрями, я мглу руками раздираю,
В прорывы облаков народы озираю.
Я книг сивиллиных читаю письмена.
Сквозь бездну ночи
Я будущие вижу времена.
Они, как стайка птиц, едва заслыша в небе
Полет орлиный мой,
Спасаются, бегут — о, как смешон их жребий!
Смотри, они в песок зарылись головой!
Вы, очи-молнии, мои сокольи очи,
Их уловляйте на бегу!
Вы, когти острые, хватайте мелюзгу!
Но что за птица там, светило затмевая,
Как тень огромная, бросает вызов мне?
Ее крыла черны, как туча грозовая,
Длинны, как радуга в лазурной вышине —
То ворон, то громадный ворон
{165}.
Откуда он летит? Куда крыла простер он?
О, кто ты? Я — орел! Как смотрит… Я сбиваюсь…
Я громовержец, кто же ты?
Он смотрит на меня — глаза мне дым застлал…
Он мысль мою запутал, — я сбиваюсь.
Несколько узников
Смотри, как бледен он! Что? Что он говорит?
(Бросаются к Конраду.)
Конрад
Стой! Стой! Я с вороном в смертельный бой вступаю.
Стой! Вспомню мысль — и песнь — и песнь я допою…
(Склоняется.)
Капрал
И слушать неохота!
Звонок! Вы слышите? Патруль! Гаси огонь
И живо расходись!
Один из заключенных
(смотря в окно)
Да, отперли ворота.
Конрад лишился чувств. Пусть! Пусть лежит — не тронь!
Все убегают.
Сцена II
Импровизация
Конрад
(после долгого молчания)
Ты одинок… Что мир?.. Что песнотворец миру?
Кто из людей поймет и примет мысль певца,
Горящий в песне дух постигнет до конца?
Несчастен, кто для них свою тревожит лиру:
Лжет слово голосу, а голос — мысли лжет,
И в слове гибнет мысль, утратив свой полет;
Как почва над ушедшим вглубь потоком,
Так слово, поглотив живую мысль, дрожит.
Но, видя почвы дрожь, кто может зорким оком
Узнать, куда поток бежит?
В душе, как в жилах кровь, кипит страстей волненье.
Но кто, увидевший румянец щек моих,
Узнает крови цвет? И кто, мой слыша стих,
Постигнет, сколько дум таит мое творенье?
Ты, песнь моя, — звезда! Тебя не досягнуть
Глазам земных существ, бесплодны их усилья:
Хоть взор людской обрел трубы подзорной крылья.
Ему границею поставлен Млечный Путь.
Что солнца там — он видит, верит,
Но не поймет их, не измерит.
Зачем тебе, о песнь, глаза и слух людей?
Струей подземного потока
Звени в моей груди глубоко,
Свети звездою мне с высот души моей,
Внимай, природа, мне!
Внимай, о боже правый!
Вот песня, вот певец, достойный вашей славы.
Я мастер!
Я мастер, я протягиваю длани!
На небеса кладу протянутые длани
И, как гармоники стеклянные круги
{166},
То звонко песнь поющие, то глухо,
Вращаю звезды силой духа.
И бурей звуков ночь наполнилась вокруг:
Я создал звуки те, я знаю каждый звук.
Я множу их, делю и снова сочетаю,
В аккорды, в радуги я сонмы их сплетаю,
Рождаю молнии движением руки.
Но вот я снял персты, и вдруг, лишившись крылий,
Круги гармоники свой бег остановили.
И я запел, и в песне той
Рев океана, бури вой.
И в глубь души она стремится,
Ей вторит времени полет,
И сердце вместе с ней поет,
И каждый звук пылает и струится,
Мой наполняя слух и взор,
Как ветер, что волну колышет,
И свищет, и грозою дышит,
Волнуя весь земной простор.
Творца мое достойно вдохновенье!
Такая песнь — вселенной сотворенье,
Такая песнь — как подвиг для борца,
Такая песнь — бессмертие певца.
Творю бессмертие, иду к бессмертью славы.
Что лучшего ты создал, боже правый?
Смотри, все мысли я обрел в себе самом,
Облек в слова — они несутся,
Парят, поют, сияют, вьются
И тонут в небе голубом;
Издалека я взлет их чую,
Впиваю звуков красоту,
Рука их ловит на лету.
Персты ласкают, как живую,
Их дивной формы полноту.
Люблю вас, дети вдохновенья!
О мысли, звезды вы мои,
О чувства, вихри вы мои!
Как любящий отец в кругу своей семьи,
Стою меж вас в восторге умиленья,
И горд я тем, что вы — мои.
Бросаю вызов я поэтам,
Молвой увенчанным певцам,
Бросаю вызов мудрецам!
Когда б до наших дней, прославленные светом,
Вы жили меж своих детей,
Когда б вы слышали толпы рукоплесканья
И, веря в суд ее, прислушивались к ней,
Когда бы славы яркое сиянье,
Как нимб, над головой своей зажгли,
Когда б за все века, со всех концов земли
Собрали похвалы, восторги, восклицанья, —
Вы всё ж не обрели б той радости и сил,
Какие в эту ночь в себе я ощутил,
Чтобы излить их в этой песне
И, одиночество любя,
Петь лишь себе и для себя.
Да, я силен, я мудр, я смел, я полон веры
В свои дерзания, я чую мощь свою.
Сегодня — мой зенит, сегодня узнаю,
Превыше ли я всех, иль только горд без меры.
Уже душа моя все силы напрягла,
Уже подобен я Самсону
В тот миг, когда слепец расшатывал колонну, —
Так сброшу плоть и духу дам крыла!
Стремлю полет свой дерзновенный
Сквозь тысячи миров, туда, за грань вселенной,
Где бог с природою граничит искони.
Есть крылья у меня, есть крылья — вот они!
С восхода на закат их простираю,
Грядущий мир и мир былой
Одним размахом обнимаю,
Лучами чувств иду в предел высокий твой,
Твои, зиждитель, чувства постигаю.
Как говорят, с небес ты видишь все, господь, —
Смотри ж, я воспарил, тебе я равен силой!
К тебе вознесся бурей быстрокрылой.
Но я ведь человек, свою земную плоть
И сердце я оставил там, в отчизне,
Где я любил, где ведал радость жизни.
Моя любовь не так, как на цветке пчела, —
Не на одном почила человеке,
Но все народы обняла
От прошлых дней доныне и вовеки.
И не столетье, не одну семью, —
Весь мир я принял в грудь свою,
Как море принимает реки.
Люблю народ, как муж, любовник, друг, отец,
Хочу поднять его, наставить
И в мире, из конца в конец,
Его деяния прославить.
И я пришел к тебе, чтоб средство обрести,
Со мною только мысль — мой двигатель чудесный,
Та мысль, что у тебя исторгла гром небесный,
Разверзла глубь морей, узнала звезд пути.
Есть сила у меня, что из себя родится,
Есть чувство у меня, оно в себе таится,
То — песней огненной клокочущий вулкан.
Не древом райским был язык певца мне дай,
Я почерпнул его не из плода познанья
И не из книг, не из преданья,
Не из пророчества сивилл,
Я сам ту силу сотворил,
Как ты, себя в себе рождая,
Себя собою создавая, —
Я силу черпал не из внешних сил
И не могу теперь ее лишиться.
И пусть не я, пускай твоя десница
Дала моим очам их мощь и быстроту, —
Не все ль равно! Я птицу на лету
Остановить могу моим единым взором,
Когда она летит над полевым простором.
Вот стаи собрались в отлет,
Но я не захочу — твой ветер не помчит их,
Вперю горящий взор в полночный небосвод —
И сонмы дальних солнц остановлю в орбитах.
Лишь развращенный мир людей,
Бессмертный в слепоте своей,
Тебя не чтит, меня не знает тоже,
Служить не хочет мне,
И потому, о боже,
Я путь к сердцам ищу в надзвездной вышине.
Той властью, что певцу дана над всем твореньем,
Хочу я жечь сердца людей.
Как звезды и как птиц — единым мановеньем —
Их воле подчинять своей.
Не песней — слишком долго зреет,
Не чудом — в чуде правды нет,
Не мудростью — она истлеет,
И не мечом — есть меч в ответ.
Но чувством, в сердце утаенным,
Их подчинять и быть для них законом,
Дабы во мне была их жизнь и свет.
Что захочу — да угадают
И в этом счастье обретут.
Восстанут — пусть весь век страдают
И в бездну гибели падут.
Пусть будут для меня они как мысль, как слово,
Из коих песни строится основа.
Так правишь ты! Ты знаешь сам,
Что я берег язык, лелеял мысль живую;
Как пламенную песнь, я мой народ создам,
Когда над душами, как ты, восторжествую.
О, если ты со мной разделишь власть свою,
Тебе неведомое чудо сотворю я:
Я песню радости спою!
Дай мне такую власть! Лишь от презренья к миру,
Верней — к тому, чем стал он волею глупцов,
Я не разбил его одной лишь силой слов,
На гневный лад настроив лиру.
Но если б я из струн весь пламень чувств извлек
И в песнь вложил всю ярость вдохновенья, —
Я б звезды погасил, другие бы зажег:
Бессмертный, я встречал в кругах миротворенья
Бессмертных, равных мне, но высших — никогда.
Ты — первый в небесах, но я пришел сюда,
Как тот, кому дано земное первородство.
Я не видал тебя, но ведаю: ты здесь.
Предстань же мне, всевышний, днесь,
Яви свое мне превосходство,
Вручи мне власть иль к ней открой дорогу мне!
Пророки были встарь, но с ними наравне
И я пророком быть могу в моей стране.
Хочу, как ты, царить над душами людскими,
Хочу, как ты, господь, владеть и править ими.
Продолжительное молчание.
(С иронией.)
Молчишь! Но суть твою теперь я разглядел,
Я понял, как ты миром овладел.
Любовью назван ты напрасно,
Ты только мудрость, это ясно.
Не сердце — только мысль в бессмертном бытии
Могла тебя открыть, познать пути твои.
Лишь тот, кто трупам, и металлам,
И числам отдал жизнь и труд —
Тот хрупкий бытия сосуд
С тобой сравняется хоть в малом,
Поймет природу до конца,
Изобретет и пар и порох,
Сгребет в один ненужный ворох
Все домыслы лжемудреца.
Ты мысли отдал власть над нами,
Душе послал лишь муку в дар,
Ты смертным жизнь отмерил днями,
Но в них зажег страстей пожар.
Молчание.
Что есть чувство мое?
Искра, беглый свет!
Что есть жизнь, бытие?
Миг во мраке лет!
Гром, что завтра грянет, нынче — что такое?
Искра, беглый свет.
Что в анналах мира бытие людское?
Миг во мраке лет.
Что собой являл ты в бездне довременной?
Искру, беглый свет.
Если мир поглотишь, чем он станет, бренный?
Мигом в мраке лет.
Голос Голос
с левой стороны с правой стороны
Одним прыжком Как ты горяч!
На душу верхом Мы здесь над ним,
И вскачь, вскачь, Его защитим,
Напролом. Осеним крылом.
Но искра, миг продлясь, внезапно зажигает,
Взнесет — и низвергает.
Смелей, смелей! Мгновение продлим!
Смелей, смелей, ту искру распалим!
Так — хорошо! Тебя еще раз вызываю,
Тебе я дружески всю душу открываю.
Но ты молчишь! Прими же вызов мой!
Не ты ли в оны дни боролся с сатаной?
Я не один под братским небосводом,
Я братством на земле с великим слит народом,
Есть войско у меня, чтобы вести войну,
И если богохульствовать начну,
Страшней, чем сатана, противником я стану:
Он дрался на умах, я буду — на сердцах.
Ведь я любил, страдал, я ведал боль и страх.
Не ты ли в сердце мне нанес когда-то рану?
Ты отнял счастье то, что сам же подарил.
Но кровью собственной я руки обагрил, —
Я не хотел с тобой сразиться.
Голос Голос
Взовьется конь, как птица. Звезда падучая!
Орлом взлетит Какая
В лазурь, в зенит. Тебя свергает сила
злая?
Душой в отчизне воплощенный,
Я душу поглотил ее.
Одно с моей страной дано мне бытие.
Мне имя — Миллион. За миллионы
Несу страдание свое.
Как сын глядит безумными глазами,
Когда отца ведут на эшафот,
Так я гляжу на мой народ,
Ношу его в себе, как носит мать свой плод,
Люблю и мучаюсь, — а ты под небесами,
Извечно одинок, творишь неправый суд,
Караешь смертный люд, —
И справедливостью твой произвол зовут!
Но если правда все, что вера мне внушала
Едва ль не с колыбельных дней,
И возлюбил ты мир и любишь изначала,
Как кровное дитя, как плод любви своей,
И сердце чуткое меж грубых тварей билось,
Которых ты в ковчег укрыл от грозных вод,
И если сердце то — не мерзостный урод,
Что создан случаем и краткий век живет,
И если власть твоя не отвергает милость,
И люди для тебя не только скучный счет,
Что в книге записей, запутавшись, растет,
И если, господи, любовь в твоих владеньях
Не следствие простой ошибки в вычисленьях…
Голос Голос
Орла — в гидру! От солнца и света
Глаза ему вырву. Куда ты, комета?
Вперед! Сметем! Куда тебя манит
Жги огнем! Тропою блужданья,
Где кончишь скитанья?
Конца нет, конца нет!
Молчишь! А я раскрыл всю душу пред тобой!
О, дай мне власть, молю! И малая частица
Того, чем гордости даешь ты насладиться,
Счастливым сделать бы могла весь род людской!
Молчишь! Пусть не душа, пусть будет ум владыкой!
Я первый из толпы людей тысячеликой,
Из сонма ангелов сумел постичь тебя.
Господь, разделим власть, ее достоин я!
Ответь, коль я не прав! Молчишь! Но разве лгу я?
Чего не сломит мысль, то чувством сжечь могу я.
Ты знаешь тот очаг, что я в груди таю?
То — чувство. Жар его я разожгу до боли,
Я заключу его в тиски железной воли
И в пушку, как снаряд губительный, вобью.
Голос Голос
Взорви! Разбей! Пощади! Пожалей!
Ответь, иль в естество твое стрелять я буду.
Не обращу его в бесформенную груду —
Так сотрясу твой мир и сброшу твой алтарь.
Мой голос полетит во все концы творенья,
И голос тот, гремя, пройдет сквозь поколенья.
Я крикну: не отец вселенной ты, а…
Конрад стоит некоторое время неподвижно, потом шатается и падает.
Духи с левой стороны
Первый
Хватай его!
Первый
Пока он без сознанья,
Давай убьем его!
Дух с правой стороны
Прочь, адское созданье!
Дух с левой
Как видишь, гонят нас.
Первый с левой стороны
Я вижу, как ты глуп!
Не вырвал у него решительного слова.
Мгновенье гордости — и это был бы труп!
В когтях у смерти был — и вот упущен снова.
Кровь на губах была — а растоптать не смей!
Ты упустил его, глупейший из чертей!
Не вынудил его продолжить распрю с богом.
Первый
Прочь! Не то поддену рогом,
И полетишь, болван, ты в глотку сатане.
Второй
Ха-ха! Ой, напугал! Ой-ой, как страшно мне!
Я буду плакать, у-у!
(Плачет.)
Вот, получай-ка сдачи!
(Ударяет его рогом.)
А, бухнул! Не сварись, — котел небось горячий!
Ура, мои рога!
Стук в дверь, поворот ключа.
Второй
Ксендз идет! Лезь в щелку и молчи!
Сцена III
Входят капрал, монах-бернардинец Петр, один заключенный.
Ксендз Петр
Во имя божие!
Заключенный
Он заболел. Конрад!
Не слышит ничего. Отсутствующий взгляд.
Ксендз Петр
Благословен господь! Мир грешнику, мир дому.
Заключенный
Он бредит, мечется… Как побледнел он вдруг!
Какой-то тягостный томит его недуг.
Ксендз Петр молится.
Капрал
(заключенному)
Идите, сударь, мы пришли помочь больному.
Заключенный
Давайте ж времени в молитвах не терять.
Поднимем-ка его, положим на кровать,
Ксендз Петр!
Заключенный
Подушку!
(Берет подушку и подкладывает ее под голову Конрада.)
С ним случалось:
Вдруг начинал он петь иль говорить. Казалось,
Совсем с ума сошел. Так день тянулось, ночь,
И больше, а потом все в миг один кончалось.
Но кто же вам сказал, чтоб вы пришли помочь?
Капрал
Брат Петр помолится, пойдем в сторонку, пане.
Я знал, чем кончит он, да, знал уже заране.
Когда патруль ушел, я услыхал здесь шум.
Гляжу я в скважину и — чтоб мне провалиться! —
Такое вижу здесь… Где, думаю, мой кум,
Брат Петр? Пойду за ним, скажу, что тут творится.
Ступай, мол, погляди — наш узник нехорош.
Заключенный
Да говори скорей! С тобой с ума сойдешь.
Капрал
С ума сойдешь? Э, нет, себя возьмите в руки!
Хоть пан красноречив, хоть все прошел науки,
Да вот — ученый наш — лежал в пыли, пластом
И пену извергал красноречивым ртом.
Он много слов сказал, да что-то — непонятных,
А этот страшный взгляд и щеки в красных пятнах!
Я понял в тот же миг, что будет плохо с ним.
Ведь я легионер, уж после взят в рекруты
{167}.
Брал штурмом крепости, монастыри, редуты
И больше мертвецов видал в грязи, в пыли,
Чем ваша милость книг за весь свой век прочли.
А кто видал, мой пан, как умирают люди,
Тот кое-что видал. Я видел, как ксендзов
Под Прагой резали
{168}, как с башенных зубцов
Под Сарагоссою живых кидали в ров,
Видал, как женщинам отрезывали груди,
В утробе матери закалывали плод.
Видал, как в смертный час глядят убийцы, воры,
И праведника смерть, и мученика взоры,
И турок на колу, французов, вмерзших в лед.
Видал расстрелянных, что в пасть ружья глядели,
Сорвав повязку с глаз, не сдавшись до конца.
Видал и подлый страх на их недвижном теле,
Который выползал, как червь, из мертвеца,
Почуяв, что стыда уже ослабли путы, —
Тот страх, что мучает в предсмертные минуты
Иного гордеца, как жалкого хорька,
Тот страх, когда душа к отчаянью близка.
Я думаю, мой пан, лицо того, кто помер, —
Как пропуск в мир иной, как вытянутый номер:
Вмиг узнаёшь, куда его определят,
В каком он ранге там и проклят или свят.
Так этот человек, недуг его и пенье,
Лицо и взор его внушают мне сомненье.
Идите же к себе, а мы, брат Петр и я,
Мы посидим с больным, — вот, сударь, речь моя.
Заключенный уходит.
Конрад
Пусть бездна — пусть века — пустыня — мрак могилы!
Пусть миллион веков, — ужель не хватит силы?
Молиться? Но к чему? Молитва не нужна.
Была ли бездна та — без берегов, без дна?
Не знал я, но была.
Капрал
Как странны эти речи!
Ксендз Петр
На любящую грудь приникни, человече!
(Капралу.)
Пойди, постереги, чтоб не вошли сюда,
Пока не выйду я.
Капрал уходит.
Конрад
(срывается с места)
Нет! Нет и никогда!
Не вырвал глаз моих! Вперяю в вечность око…
Вот… вижу все… мой взор проник во тьму глубоко.
Я вижу, Роллисон
{169}, тебя мой бедный брат!
Избитый, весь в крови, за каменной стеною
Веревку ищешь ты… Что? Смерть? Ты смерти рад,
О камни пробуешь ты биться головою.
«Спасите!» Глух господь, а я — что я, кто я?
Глазами, может быть, убить тебя сумею,
Глазами укажу врата небытия:
Окно — разбей — лети — сломай о камни шею!
В пространство, в глубину, во тьму — лети за мной!
Не лучше ль бездна та, чем грустный мир земной?
Там нет отцов, детей, народов — и тиранов.
Ксендз Петр
Нечистый дух, иди, я узнаю твой яд!
Владыка хитрости, из адской тьмы воспрянув,
Ты в дом покинутый вползаешь, мерзкий гад.
В уста его ты вполз и гибель здесь обрящешь.
Во имя божье, прочь! Его ты в ад не стащишь.
Дух
Постой! Освободи порог!
Я выйду.
Ксендз Петр
Не пройдешь, коль не захочет бог.
Лев из Иудина колена
{170} здесь над нами.
Он побеждает. Сеть ты льву расставил здесь,
Но в этом грешнике ты сам пленен им днесь,
В его устах тебя я сокрушу сегодня.
Лжец, правду говори! Так власть велит господня.
Дух
Parle-moi done frangais, mon pauvre capucin,
J’ai pu dans le grand monde oublier mon latin.
Mais étant saint, tu dois avoir le don des langues.
Vielleicht sprechen Sie deutsch? Was murmeln Sie so
bang?
What is it? — Cavalleros, rispondero Io
[25].
Ксендз Петр
Из уст его вопишь ты стоязычным змием.
Дух
C’est juste, dans се jeu, nous sommes de moitié:
II est savant, et moi, diable de mon métier.
J’etais son précepteur et je m’en glorifie,
En sais-tu plus que nous? parle — je te défie
[26].
Ксендз Петр
Во имя божие, отца и сына…
Дух
Стой!
Стой, ксендз, не продолжай! Я побежден тобой.
Ведь ты не сатана, мой милый ксендз, не мучай!
Дух
Предстал мне зверь могучий.
Ксендз Петр
Снова лжешь. Пусть мой священный сан
И божий крест…
(Поднимает крест.)
Дух
Слушай, именем любовницы моей,
Той, знаешь, черненькой, которой Гордость имя.
Нелюбопытен ты, мой глупый ксендз, ей-ей!
Ксендз Петр
(про себя)
Строптивы чада тьмы, не внемлют заклинаньям,
Паду пред господом с великим покаяньем.
(Молится.)
Дух
Ну, что поделаешь, попал в ловушку бес!
Как видно, в душу я неловко нынче влез.
Надел навыворот, и вот вам странный случай:
Уже я в ранах весь, она ежа колючей.
Ксендз молится.
А ты, хоть ксендз простой, однако же умен;
Тебя б должны ослы избрать на папский трон.
Но глупость впереди красуется в костеле,
Ты ж, солнце мудрости, в такой ничтожной роли!
Ксендз Петр
Тиран и подлый льстец, не силься обмануть,
Ты ползаешь у ног, но жалом целишь в грудь.
Дух
(смеясь)
Ты сердишься! Прервал молитву ты — da capo;
[28]Ведь смех берет смотреть, когда ты крутишь лапой, —
Так защищается медведь от комаров!
Но он твердит свое… Довольно, я готов,
Мне не под силу спор с таким монахом дошлым.
Давай поговорим о будущем и прошлом.
Ты знаешь, о тебе что брешет твой приход?
Ксендз молится.
Ты знаешь, Польшу что лет через двести ждет?
Что Апокалипсис под зверем разумеет?
И что против тебя игумен твой имеет?
Молчит и молится, а смотрит как змея!
Скажи, дражайший ксендз, ну, в чем вина моя?
За что мне выносить удары, как скотине?
Ведь я не царь чертей, я черт в мизерном чине.
Нельзя карать слугу, коль господин виной.
Ведь я не сам пришел, я прислан сатаной,
И я ведь не могу с ним быть запанибрата.
Он — царь, а я в чинах крейсгауптмана, ландрата
{173}Иль губернатора: прикажет взять в тюрьму —
Беру, а ежели не по душе тому,
Кто заграбастан мной, — что делать! Очень часто
Хозяин пишет мне: «Быть по сему». И баста.
Приятно ль мучить мне? Ведь я страдаю сам.
Ах (вздыхает), — тяжело в аду чувствительным сердцам!
Когда я грешника когтями обдираю,
Поверь, хвостом не раз я слезы утираю.
Ксендз молится.
А завтра, знаешь, ксендз, ты будешь бит, как Гаман
{174}.
Ксендз Петр
In nomine Patris et Filii et Spiritns Sancti, Amen.
Ego te exorciso spiritus immunde
[29].
Дух
Стой, ксендз, я все скажу — повремени секунду!
Ксендз Петр
Где узник, жаждущий погибели души?
Молчишь? Exorciso te!
Дух
Скажу, лишь не спеши.
Ксендз Петр
Кого ты зрел?
Дух
Того, на ком греха проклятье.
Дух
В монастыре доминиканской братьи
{175}.
Он грешник, проклят он, и он по праву мой.
Дух
Скачу, лечу, пою, — а что сказать, не знаю —
Мне душно…
Дух
Он болен, он в бреду.
Сломает шею — хрясь! — и завтра он в аду.
Дух
Кум мой Вельзевул — свидетель. Будет случай —
Его и допроси, меня ж ты зря не мучай.
Ксендз Петр
Как грешника спасти?
Дух
Хотя б ты, поп, издох,
Я не…
Ксендз Петр
Но чем же? Говори, я заклинаю небом!
Дух
Мой кесарь, мой король!
Дай мне вздох…
Дух
Мой милый ксендз, позволь!
Никак не вымолвлю.
Ксендз Петр
Так! Хлебом и вином. То кровь твоя и плоть —
Иду, и дай мне сил его спасти, господь!
(Духу.)
Ты! забирай с собой свои грехи и злобу
И, как пришел, ступай к диаволу в утробу.
Дух исчезает.
Конрад
Ты спас меня… Кто ж ты? Стой! Можешь сам свалиться…
Дай руку — мы летим — все выше, словно птица.
О, свет, о, аромат! Но кто мне руку дал?
То люди добрые и ангелы. Откуда
Сочувствие ко мне? Вы снизошли, о, чудо!
Не знал я ангелов, людей я презирал.
Ксендз Петр
Молись! Тебе господь назначил испытанье.
Величье Вечного ты оскорбил хулой.
То дьявол помутил твой разум ложью злой,
Но глупость изрекать для мудрого — страданье.
Чтоб глупость слов своих не вспомнил с болью ты,
Не мучился стыдом.
Ксендз Петр
Молись! Тебе их вновь да не подскажет злоба
И бог не вопросит о них за дверью гроба,
Подобна мысль твоя, в одежде грязных слов,
Царице свергнутой, когда пред храмом бога
Стоит она, клонясь под бременем грехов,
В смиренном рубище, черна и босонога.
Но вот покаялась, надела свой наряд,
И яхонты на ней, как сонмы звезд, блестят,
И вновь на царский трон открылась ей дорога…
Уснул.
(Преклоняет колени.)
Безмерно благ твой промысел святой!
(Падает ниц.)
О боже, пред тобой слуга твой, грешник старый,
Усталый твой слуга… А этот — молодой.
Вели, о боже, стать ему твоим слугой,
А за его грехи принять вели мне кары.
Душой воскреснет он, воздаст хвалу тебе.
Молюсь, о всеблагий! Внемли моей мольбе.
(Молится.)
В ближнем костеле, за стеной, начинают петь песнь рождества Христова. Над ксендзом Петром хор ангелов на мотив: «Ангел пастухам сказал».
Хор ангелов
(Детские голоса.)
Мир грешнику, мир дому!
Молитесь всеблагому.
Слуга, слуга смиренный твой
Внес мир в дом гордости земной.
Мир грешнику, мир дому.
Первый архангел
(мелодия: «Бог наше прибежище»)
Господь, он согрешил, и страшен грех его.
Второй архангел
Но ангелы о нем мольбы свои подъемлют.
Первый архангел
Надменных сокруши, когда тебе не внемлют.
Второй архангел
Прости не понявших величья твоего.
Ангел
Когда на свет пришел Христос,
Когда звезду надежд я нес,
Гимн рождества мы, ангелы, слагали,
Но мудрецы нас не видали
И короли не услыхали.
Лишь пастушки, приметив нас,
Помчались в Вифлеем тотчас.
И всяк, кто беден, прост и мал,
Владыку вечного признал
И мудрость вечную приял.
Первый архангел
Когда лукавых, любопытных господь средь ангелов заметил,
Не даровал он тем прощенья, кто должен быть, как солнце, светел.
И, точно звездный дождь, низверглись тьмы падших ангелов с высот,
И ныне тем же вихрем злобным умы лжемудрецов мятет.
Хор ангелов
Младенцам открывает бог,
Что он для мудрых тьмой облек.
О, смилуйся над грешным чадом,
Ведь шел он с мудрецами рядом.
О, смилуйся над грешным чадом!
Второй архангел
Он не прельщался любопытством, не отвергал твой суд святой,
Не соблазнялся ложной славой иль праздной мудростью людской.
Первый архангел
Тебя не знал, тебя не чтил он, господь великий наш, в се мощный,
Тебя не призывал, спаситель, душой не возлюбил тебя.
Второй архангел
Но чтил он имя пресвятое Марии, девы непорочной,
Любил народ, любил он многих, страдал он, многих возлюбя.
Ангел
Крест украшает золоченый
Могучих кесарей короны,
У мудрецов зарей блистает на груди,
Но в сердце им не может он войти.
О господи, их душу просвети!
Хор ангелов
Любовь и мир несем мы людям,
Людей всегда любить мы будем!
Не к королям, не к мудрецам —
Стремимся мы к простым сердцам,
И день и ночь поем мы там!
Хор ангелов
Сойди к нему, и, встав из праха, он досягнет главой до звезд,
И добровольно склонит выю, почтив животворящий крест.
И, ниц упав благоговейно, дабы обнять креста подножье,
Весь мир прославит справедливость, прославит милосердье божье.
Оба хора
Мир, мир смиренной простоте,
Покорной, тихой доброте.
Слуга твой кроткий и смиренный
Внес мир в дом гордости надменной, —
Мир грешнику и сироте.
Сцена IV
Деревенский дом под Львовом.
Спальня. Ева{176}, молодая девушка, вбегает, поправляет цветы перед образом богоматери, становится на колени и молится.
Входит Марцелина{177}.
Марцелина
А ты все молишься! Ложись, уж полночь било.
Ева
За пашу родину я господа молила,
За мать и за отца, — как с детства учат нас.
Но и за тех мольбы я вознесу тотчас, —
Они в другом краю, но это дети Полыни,
И если не она — отчизны нет нам больше.
Литвин, что прибыл к нам, бежал от москалей.
Как мучают они, проклятые, людей!
Все брошены в тюрьму по царскому веленью,
Как Ирод, всех детей обрек он истребленью.
Расстроил так отца рассказами литвид,
Что в поле целый день бродил старик один.
А мать послала в храм заказывать обедни.
Погибших — тысячи. Паду в мольбе последней
За них и за того, кто эти песни
{178} пел.
(Показывает книжку.)
Его не миновал неволи злой удел.
Я все стихи прочла, иные так прекрасны!
Молю пречистую, чтоб не погиб несчастный.
Где мать его, отец? Кто знает — в эти дни
За сына своего помолятся ль они?
Марцелина уходит. Ева молится и засыпает.
Ангел
Тихо я рею над сонным простором.
Хор ангелов
Милому брату подстелем крыло,
Кроткими снами овеем чело,
Звездным его убаюкаем взором.
Сказку нашепчем ему ветерком,
В хоре сплетемся лилейным венком,
Руки прохладной раскинем листвою,
Розы, как нимбы, зажжем над собою,
Волны воздушных волос расплетем,
Ложе обнимем шатром своих крылий,
Кинем на спящего тысячи лилий
Звездным, душистым, лучистым дождем.
Будем играть и летать, напевая,
Брату блаженные сны навевая.
Видение
Ева
Росе подобный, теплый дождь идет.
Откуда он? Так ясен небосвод,
Так ясен небосвод!
В зеленых, светлых каплях все кругом,
И стан мой оплетен венком
Из лилий, роз, — о, сон благоуханный!
Не покидай меня, до смерти длись, желанный!
Как солнце, розы те светлы,
Как молоко, те лилии белы!
Их родина не здесь — над облаком летящим.
Глядит нарцисс глазком, как первый снег, блестящим.
А незабудок синие глаза —
Как взор детей, как бирюза.
Я помню каждую, — я все их поливала,
Я в нашем садике вчера их собирала,
Я Девы мудрое чело
На образе украсила цветами,
И чудо! — улыбнувшись мне светло,
Пречистая взяла их кроткими перстами,
Дала Христу-младенцу те цветы,
И он с улыбкой мне их кинул с высоты.
Их сотни, тысячи, — нет, вы их не сочтете!
Летят — и множатся в полете.
Я в небе сад мой узнаю.
Взлетая ввысь, под облаками
Цветы сплетаются венками,
И на земле я, как в раю.
Так хорошо мне здесь, о боже!
Пусть обовьет меня их праздничный узор.
Пускай засну, умру на благовонном ложе,
Вперив нарциссу взор во взор.
Ах, эта роза ожила!
Как ножкой, легким стеблем движет,
Душа в ее цветок вошла,
Он весь огнем душистым брызжет.
Вот, встрепенувшись, улыбнулась мне,
Румяна, как заря в небесной вышине.
Уста-кораллы томные раскрыла,
И что-то шепчут легкие листы.
О роза, что мне шепчешь ты,
Как будто жалуясь, так тихо, так уныло?
Ужель тоскуешь по траве родной?
Но ты ведь сорвана не для забавы мной.
Священный образ я украсила тобою,
От исповеди шла кропить тебя слезою.
Но искры роем золотым
Из нежных губ твоих несутся, —
Ответь, чего же хочешь ты?
Иль слышу песню я небесной красоты,
И звуки пламенные льются
Лучами алого огня?
Роза
О, если б на сердце взяла ты меня!
Ангелы
Мы наш хороводный венок расплетаем.
Роза
Я, крылья сложив, покидаю венок.
Ангелы
В лазурный, небесный чертог улетаем.
Роза
Покуда зарей не зардеет восток,
Я буду лежать подле сердца младого:
Так богом любимый апостол возлег
Главою священной на лоно Христово.
Сцена V
Келья ксендза Петра.
Ксендз Петр
(молится, лежа на полу и раскинув руки крестом)
Перед лицом твоим, господь, в твоих очах
Что я? Ничтожество и прах.
Но пусть ничтожен я, пусть ничего не стою,
Господь, я говорю с тобою.
Видение
Се лютый Ирод встал и жезл кровавый свой
Простер над Польшей молодой.
Что вижу? Крестные пути во мрак грядущий,
Дороги дальние через поля и пущи,
Все к полночи! — туда, в страну, где вечный снег,
Текут, как воды рек.
Текут! В конце одной — врата в затвор тюремный,
Другая — в рудники, к работе подъяремной.
А третья — в океан. Возки, возки по ним
Летят, как облака под ветром грозовым,
На север, в холод, в бездорожье…
Там наши дети, боже, боже!
В изгнанье, в цепи, в снежные гроба
Их гонит лютая судьба.
Ужели не спасешь невинных, вседержитель,
И с корнем истребить позволишь самый род?
Смотри, дитя спаслось, — растет
Народа дивный избавитель
{179}.
Кровь древних витязей… мать — из земли чужой…
А имя — сорок и четыре
{180}…
О господи! Скорей врата ему открой,
Да снидет к нам во благости и в мире.
Дай сил нам вытерпеть! Мой взор тиранов зрит.
Связали мой народ — ведут, о, страшный вид!
Не вся ль Европа нас влачит и топчет в прахе!
«На суд!» — вопит толпа и тащит жертву к плахе.
Там судьи без сердец, без рук, и это суд —
О боже, это суд!
«Галл, галл, пусть судит галл!» — душители орут.
Галл не нашел вины, но умывает руки
{181}.
А короли кричат: «Казни! предай их муке!
Кровь их падет на нас и наших сыновей.
Варавву выпусти, распни Христа скорей!
Распни — он кесаря покрыть хотел позором,
Распни — и кесаря судом обрадуй скорым».
Галл выдал — схвачены; невинное чело
Язвящим тернием глумленье обвило.
Он на кресте висит. Бегут глядеть народы,
Галл молвит: «Вот народ, узревший свет свободы».
Господь, я вижу крест, — и долгою тропой
Ему с крестом идти, — о, сжалься над слугой!
Дай сил ему, господь, — конец пути далече,
В длину Европы всей тот крест раскинул плечи,
Из трех народов крест
{182}, из древа трех пород.
На место лобное возводят мой народ.
«Я жажду», — стонет он, глотка воды он просит,
Но уксус Пруссия, желчь — Австрия подносит,
У ног Свобода-мать стоит, скорбя о нем.
Царев солдат
{183} пронзил распятого копьем,
Но этот лютый враг исправится в грядущем,
Один из всех прощен он будет Всемогущим.
Народ мой! Чуя смерть и голову склоня,
Он молит: «О, зачем покинул ты меня?»
Скончался!
Слышится хор ангелов. — Издали доносятся пасхальные песнопения, — наконец раздается: «Аллилуйя! Аллилуйя!»
Он к небу, к небу возлетел.
От легких стоп его развился Покров, как снег нагорный, бел —
Ниспал, и мир им облачился.
Но мой возлюбленный горе от нас не скрылся.
Лучи трех солнц лиют нам три его зрачка,
Простерлась над землей пробитая рука.
Кто он? Наместник он в юдоли скорбной мира.
Его я помню с детских лет,
Он возмужал в горниле бед!
Он слеп, но он парит средь ангельского клира.
Муж разума, в трех лицах он един И три чела имеет.
Простерта книга тайн над ним, какбалдахин.
Его глаза — как огневицы.
Своим подножием избрал он три столицы.
И с неба, точно гром, его несется глас,
Он воззовет — и мир немеет:
Наместник вольности, он зрим для смертных глаз!
Он подчинит мирские троны
Своей великой церкви.
Народов и царей превыше вознесенный,
На три короны стал, но сам он без короны.
Народ народов — так его зовут,
И жизнь его — великий труд.
От витязей, гремевших в древнем мире,
И чужеземки — род его ведут,
А имя — сорок и четыре.
Вовеки слава! слава! слава!
(Засыпает.)
Ангелы
(сходят зримо)
Из тела, как дитя из люльки золотой,
Мы вынем ясный дух, оденем в свет весенний,
Освободим его от плотских ощущений
И, в небо унеся от горести земной,
Отцу его дитя положим на колени,
Да подарит ему отцовскую любовь.
А пред заутреней, как прежде, дух невинный
Одеждой чистых чувств оденем голубиной
И, словно в колыбель, положим в тело вновь.
Сцена VI
Роскошная спальня. — Сенатор ворочается в постели и вздыхает. Двое чертей у изголовья.
Первый черт
Пьян, а не хочет спать.
Сколько заставил ждать!
Скоро ль, подлец, заснешь?
Что под тобою — еж?
Второй черт
Сыпь мак в очи глупцу.
Первый черт
Заснет — кинусь, как зверь.
Второй черт
Вцеплюсь, как волк в овцу.
Оба
В ад его — сунем в печь,
Будем змеями сечь.
Вельзевул
Дичь мне не распугай!
Первый черт
Пусть заснет негодяй —
Я задам ему сон!
Вельзевул
Если покажешь ад,
Как там жгут и коптят
Души, — от страха он
Может исправиться.
Он еще жив.
Второй черт
(показывая когти)
Хоть раз
Дай позабавиться.
Что ты дрожишь над ним?
Если уйдет от нас, —
Хочешь, стану святым,
Буду крест целовать.
Вельзевул
Если начнешь пугать,
Нос нам натянет он,
Страшный напустишь сон —
Выпустишь птицу из рук.
Первый черт
(указывая на спящего)
Что же, лучший мой друг,
Мой любимейший сын
Так и проспит без мук?
Нет, мы его прижмем!
Вельзевул
Цыц! Ты знаешь мой чин?
Я поставлен царем!
Первый черт
Ах, pardon
[30] вы тут власть!
Вельзевул
Можешь на душу напасть,
Спесью ее раздуть,
В лужу позора пихнуть,
Общим презреньем жечь,
Общим глумленьем сечь.
Но о пекле — молчок!
Ну, летим, — скок, скок, скок!
(Улетает.)
Первый черт
Итак, я душу — цап!
А, негодяй, дрожишь!
Второй черт
Не выпусти из лап,
Хватай, как кошка — мышь!
Видение сенатора
Сенатор
(сквозь сон)
Что? Грамота? Рескрипт? Сто тысяч царь мне шлет
И званье канцлера! Хо-хо! И титул княжий!
От злости лопнут все! Хо-хо! И орден даже!
Прикалывай, лакей! Чего разинул рот!
(Переворачивается.)
К царю! В передней мы. Все по стенам теснятся.
Все кланяются мне, — не любят, но боятся.
Канцлер! Grand Contrôleur
[31] — под маской не узнать.
Кругом такой приятный шепот,
Такой приятный шепот:
Сенатор в милости, да, в милости опять!
Ах, в этом шепоте душа растаять хочет,
Как будто пятки девка мне щекочет.
Мной очарован весь салон.
Мне каждый отдает поклон.
Мне все завидуют, и нос я задираю.
Ах, умираю, ах, от счастья умираю!
(Переворачивается.)
Его величество! Царь! Царь сюда идет!
А! Что? Не смотрит он! Взглянул — и гнев во взоре.
А! Что? Я не могу… Не смотрит… горе, горе!
Дрожу… нет голоса… знобит, бросает в пот…
Ах, канцлер!.. Государь!.. Он стал ко мне спиною!
Спиною… как следят чиновники за мною!
Я умираю, мертв… Уже я тлен, гнилье,
И червь презрения жрет естество мое.
Все отшатнулись прочь. Ха! как тут пусто, глухо!
Ты шельма, камергер! Смеется… что за звук!
Дбрум! То смешок заполз мне в губы, как паук.
(Сплевывает.)
Дзинь! Это каламбур, препакостная муха!
(Машет рукой около носа.)
Остроты целятся мне в нос,
Как рой голодных ос.
Ах, эпиграммы доведут до слез,
Насмешки, как сверчки, мне заползают в ухо
Мне в ухо, прямо в ухо!
(Ковыряет пальцем в ухе.)
А камер-юнкеры свистят под стать сычам,
Трещат гремучею змеею шлейфы дам.
Какой ужасный шум! Все разом завизжали:
«Сенатору капут! В опале он, в опале!»
(Падает с кровати на землю.)
Черти
(опускаются зримо)
Как пса из конуры, мы душу подлеца
Частично выпустим, но в теле часть оставим,
Чтобы сознанья свет погас не до конца,
И душу смрадную на край земли отправим,
К началу вечности, где круг замкнули дни
И где граничат ад и совесть искони.
Мы там привяжем пса и уж почешем плетью,
Отделаем кнутом! Когда же песню третью,
Встречая день, споет проснувшийся петух, —
Мы в тело возвратим избитый, грязный дух.
И вновь его запрем в сознании, в рассудке,
Как бешеного пса в его смердящей будке.
Сцена VII
{184}
Варшавский салон.
Несколько крупных чиновников, несколько видных литераторов, несколько великосветских дам, несколько генералов и штаб-офицеров пьют чай за столиком. — Ближе к дверям несколько молодых людей и два старых поляка. — Стоящие оживленно беседуют. — Общество за столиком говорит по-французски, у дверей — по-польски.
У дверей.
Зенон Немоевский
(Адольфу)
Ну, а в Литве у вас картина та же, брат?
Адольф
О нет, там льется кровь, там хуже во сто крат!
Адольф
Да, но не в боях, а под кнутом и палкой.
Мы гнусных извергов добычей стали жалкой.
Разговаривают тише.
За столиком.
Граф
Так вышел славный бал? Мундиры? Много дам?
Француз
Нет, как в костеле, граф, безлюдно было там.
Камер-юнкер
Хоть много было слуг, прислуживали скверно.
Так недоступен был для общества буфет,
Что не достались нам ни вина, ни паштет.
Первая дама
А беспорядок был такой, что танцевали,
Ступая по ногам, как на английском бале.
Вторая дама
Но этот вечер был приватный, говорят.
Камергер
Прошу прощения, был званый — вот билеты.
Вынимает приглашения и показывает их, другие рассматривают.
Первая дама
Тем хуже: все слилось, все лица, туалеты.
Подчас и разглядеть я не могла наряд.
Вторая дама
Ах, Новосильцев, жаль, уехал из Варшавы.
Невеселы теперь варшавские забавы:
Ни разу без него не удавался бал, —
Как на картине, он гостей группировал.
Среди мужчин слышен смех.
Первая дама
Что ж, смейтесь, господа, а все же вы не правы:
Сенатор был лицом, полезным для Варшавы.
У дверей.
Адольф
С Циховским я знаком.
Был у него, хотел дознаться обо всем,
Чтоб нашим на Литве послать известье срочно.
Зенон Немоевский
Сплотиться мы должны и связь наладить прочно,
Не то на казнь пойдем мы все до одного.
Разговаривают тише.
Молодая дама
(стоящая возле них)
Убийцы подлые! Как мучили его!
Продолжают беседовать.
За столиком.
Генерал
(литератору)
Читай же наконец! Тебя и не упросишь.
Литератор
Не знаю наизусть…
Генерал
Да ведь стихи ты носишь
В кармане, — вот они! Ну, огласи их нам,
Все дамы ждут.
Литератор
Увы, литературных дам
Я не французскими стихами, может статься,
Лишь утомлю.
Генерал
(обращаясь к дамам)
Mesdames! Прошу вас не смеяться.
Дама
Как, чтение? Pardon! Хоть польский знаю я,
Но польские стихи, клянусь, галиматья.
Генерал
(офицеру)
Она права. Стихи по-польски пишут плохо,
(Указывая на литератора.)
Поэму посвятил он сеянью гороха!
(Литератору.)
Читай же! Если ты не прочитаешь, брат,
Смотри —
(указывая на другого литератора)
он рифмами палить в нас будет рад.
Отличная была б для общества забава, —
Подмигивает нам, хихикает лукаво,
Глаза, как пара фиг, а взгляд их — точно мед.
И дохлой устрице под стать разинул рот.
Литератор
(про себя)
Уходят!
(Генералу.)
Но стихи длинны, и я устану.
Генерал
(офицеру)
Он скучен — пусть молчит: я горевать не стану.
Молодая дама
(отделясь от группы молодых, направляется к столику)
Ужасно! Вы должны послушать, господа!
(Адольфу.)
Вы о Циховском им. Подите-ка сюда!
Старший офицер
Циховский выпущен?
Граф
Его ведь посадили
Уж много лет назад.
Камергер
Я думал, он в могиле.
(Про себя.)
Внимать таким вещам опасно, но сейчас
Невежливо уйти, прервав его рассказ.
(Выходит.)
Граф
Как странно! Выпущен?
Адольф
А что? Нашли невинным.
Церемониймейстер
Тут дело не в вине, другие есть причины.
Кто долго был в тюрьме, тот много видел там
И слышал, а всегда приходится властям
Хранить свои дела и цели от огласки.
Вершить политику немыслимо без маски,
И тайна — ось ее. Вам странно, господа?
Вы, скажем, из Литвы приехали сюда, —
Так у себя в глуши, вдали от всех событий,
Вы государство знать, как хутор свой, хотите!
(Смеется.)
Камер-юнкер
Литовцы говорят по-польски? Но, клянусь,
Я думал, что Литва в основе та же Русь.
В моих глазах Литва — как часть другой планеты:
О ней совсем молчат парижские газеты!
Лишь в Constitutionnel два слова иногда.
Барышня
(Адольфу.)
Тут, кажется, вопрос национальный? Да?
Рассказывайте…
Старый поляк
Я когда-то знал Циховских, —
Почтенный, скромный род помещиков литовских.
У них загублен сын, — он был мне как родной.
Где он? О, страшный век! О, люди, боже мой!
Трем поколениям достались кровь и муки.
На пытку вслед отцам пошли сыны и внуки.
Все приближаются и слушают.
Адольф
Я с детства знал его. Циховский молодой
Считался остряком. Умен, красив собой,
Он был неистощим на шутки и проказы.
Откуда только брал веселые рассказы!
А как детей любил, какой он был им друг!
«Веселым паном» звал его наш детский круг.
Да, помню, как не раз перебирал руками
Я кудри юноши, играя завитками.
И помню взгляд его блестящий и живой,
Пленявший каждого открытой прямотой.
Детей обворожить умел он как кудесник,
Порой казалось нам, что это наш ровесник.
Невеста у него была. Он приносил
Подарки от нее. Всех малышей просил
На свадьбу к ним прийти… Но вдруг его не стало.
Полиция туда, сюда, да толку мало.
Ну, словно он с собой покончил в цвете лет.
Мы все к родным, к друзьям. «Исчез!» — один ответ.
И вскоре у людей иной не стало мысли:
Был найден плащ его мальчишками на Висле.
Плащ принесли жене. Признала — да, его…
Но трупа не нашли. Год минул — ничего.
Догадки строили, жалели, слезы лили,
Но посудачили, а там и позабыли.
Так года два прошло. Однажды в поздний час,
Когда вечерний свет на улицах погас,
И гнали в Бельведер толпою заключенных,
Один из жителей, участьем привлеченных,
Иль, может быть, смельчак, варшавский патриот,
Из тех, что узникам ведут украдкой счет,
Услышав, как звенят на улицах оковы,
Сказал вполголоса: «Ответьте, братья, кто вы?»
Их страж отстал в тот миг. Назвали сто имен,
Меж них — Циховского. Так был вдруг найден он.
Жена писала всем, просила, умоляла,
Но больше ничего о муже не узнала.
Вновь года три прошло без вести. Только вдруг
Разносится по всей Варшаве страшный слух,
Что жив он, что в тюрьме он терпит истязанья,
Что пыткой у него не вырвали признанья,
Что били, жгли его, пытались запугать,
Щекоткой мучили, селедками кормили,
И не давали пить, и не давали спать,
Страшили масками и опием поили…
Но шли аресты вновь, тюрьма была полна.
Он всеми был забыт, лишь плакала жена.
Раз ночью вся семья проснулась от трезвон
Открыли — офицер, жандарм вооруженный,
И с ними узник, он! Велят его родным
Расписку дать, что он пришел домой живым.
И офицер ему с какой-то дикой злобой,
Захлопывая дверь, сказал: «Болтать попробуй!..»
Бегу назавтра к ним. Но встретился мне друг
И молвит: «Не ходи, там сыщики вокруг».
Иду я через день — жандармы там засели.
Иду спустя дней семь — он слаб, лежит в постели.
Но за городом вдруг встречаю экипаж.
Мне говорят, что в нем сидит Циховский наш.
Я не узнал его: хоть пополнел он сильно,
Но вряд ли оттого, что ел в тюрьме обильно.
Нет, щеки у него отечны и бледны,
В морщинах все лицо, глаза воспалены.
Не вспомнил он меня, а прежде знал отлично.
Хоть я назвал себя, смотрел он безразлично.
Тут я сказал, что мы знакомы с давних пор,
И ожил лишь тогда его потухший взор.
Ах, все, что вынес он, что было за плечами,
Что передумал он бессонными ночами,
Все по глазам его я понял в этот день, —
Такая скорбная заволокла их тень.
Сравнил бы я глаза страдальца и ресницы
Со стеклами окон решетчатых темницы,
Чей с паутиной схож туманный серый цвет,
Хоть радугой с боков их мертвый зрак одет, —
Чья сумрачная глубь для взора непонятна
Затем, что ржавчина легла на них и пятна,
И в душной затхлости, в потемках под землей,
Прозрачность потеряв, они покрылись мглой.
А через месяц я пришел к нему в надежде,
Что память он обрел и стал таким, как прежде.
Но много тысяч дней под следствием был он,
На тысячи ночей его покинул сон.
И столько лет его тираны истязали,
И стеньг слушали, и камни предавали,
И защищаться он молчаньем мог одним,
И только призраки беседовали с ним…
Вот почему, попав в столичный шум и гомон,
Печальный опыт свой превозмогал с трудом он,
Шпионами ему казались все кругом,
Жена — тюремщиком, а каждый гость врагом.
Знакомые придут, а он, настороженный,
Услышит стук замка и думает: шпионы.
Рукою голову поддерживает он,
И так в движениях стеснен и напряжен,
Так явно каждого боится жеста, слова
И проявленья чувств, хоть самого простого,
И вдруг, вообразив, что он еще в тюрьме,
Бежит в глубь комнаты и прячется во тьме,
И на любой вопрос, хотя бы о здоровье,
«Не знаю, не скажу!» — бормочет как присловье.
И долго молят сын, жена и мать в слезах,
Пока безумный он преодолеет страх.
Я помню узников рассказы о неволе,
Я думал — о своей и он расскажет доле,
Опишет подвиг свой, геройские дела
Сынов родной земли, которых погребла
Рука тирана там, в узилищах Сибири,
Где Польши летопись полней, чем в целом мире.
Какой же я ответ услышал от него?
Что заточенья он не помнит своего,
Что в памяти его хранившееся дело,
Как Геркуланума история, истлело, —
Воскресший автор сам не может в ней читать.
Сказал он: «Господа я буду вопрошать —
Он все расскажет мне, — все записал спаситель…»
(Адольф утирает слезы.)
Долгое молчание.
Молодая дама
(литератору)
Об этом, господа, писать вы не хотите ль?
Граф
Старик Немцевич
{186} пусть в свой мемуар внесет:
Он копит всякий хлам уже не первый год.
Первый литератор
Вот это был рассказ!
Второй литератор
Ужасный!
Камер-юнкер
Превосходный!
Первый литератор
Прекрасный за столом — для книги не пригодный.
Как может говорить о наших днях поэт?
Кругом свидетели, легенд покуда нет…
В искусстве правила мы держимся святого:
Поэты ждут до… до…
Один из молодежи
До времени какого?
Да, сколько ждать, пока покроет факты лак,
Засахарится вещь, слежится, как табак?
Первый литератор
Здесь твердых правил нет.
Второй литератор
Лет сто.
Первый литератор
Ах, слишком мало!
Третий литератор
Лет тысячу иль две —
Четвертый литератор
Не время б нам мешало, —
И новый мы воспеть сумели бы предмет:
Национального, жаль, польского в нем нет!
У нас ведь простота, радушие в природе,
К жестоким сценам нет пристрастия в народе.
Мы воспевать должны стада, любовь селян:
К простой идиллии всегда влечет славян.
Первый литератор
Ведь не рискнете вы нам выдать за находку
Стихи о том, как он в темнице ел селедку?
Ах, нет поэзии в стихах, где лоска нет,
А лоск лишь там, где двор: умеет высший свет
Судить о красоте, о вкусе и о славе…
Ах, гибнет Польша — нет у нас двора
{187} в Варшаве!
Церемониймейстер
Как, нет двора у нас? Признаться, я не знал!
При ком же соблюдать мне церемониал?
Граф
(тихо церемониймейстеру)
Наместнику
{188} словцо замолви ты за друга
И станет фрейлиной тотчас моя супруга.
(Громко.)
Нет, видно, не для нас придворные чины:
Аристократы лишь двору теперь нужны.
Другой граф
(недавно пожалованный из мещан)
Аристократия — опора всех свобод:
Пример — Британия и английский народ.
Начинается политический спор — молодежь выходит.
Первый из молодежи
Мерзавцы! Палок им!
А[д а м] Г.
Всех на одну веревку!
Я б показал им двор и светскую сноровку!
Н[абеляк]
Как тут начнешь, друзья? Вот главарей парад!
Такие во главе народных сил стоят!
Высоцкий
Вернее — наверху. Народ наш, словно лава:
Он сверху тверд, и сух, и холоден, но, право,
Внутри столетьями огонь не гаснет в нем…
Так скорлупу к чертям — и в глубину сойдем!
Уходит.
Сцена VIII
{189}
Господин сенатор
В Вильно. — Приемный зал; направо двери в зал следственной комиссии, куда приводят заключенных и где видны огромные кипы бумаг. — В глубине дверь в комнаты сенатора, откуда доносится музыка. — Время послеобеденное. — У окна сидит над бумагами секретарь, левее столик, за которым играют в вист. Новосильцев пьет кофе; подле него камергер Байков, Пеликан и доктор. — У дверей караул и несколько неподвижных лакеев.
Сенатор
(камергеру)
Diable quelle corvée!
[32] Окончился обед,
Тут танцы начинать, княгини ж нет как нет.
Les dames sont vieilles и все горят желаньем глупым
Вершить свои дела, imaginez-vous!
[33] за супом,
Впредь патриоток всех chasser fort de та table
Avec leur franc parler, et leur ton détestable
[34].
Я о нарядах им, о танцах, о казино,
Они же мне твердят всё про отца и сына:
«Monsieur le sénateur, он слаб, он слишком стар,
А этот слишком юн, семье — такой удар!»
Тот ждет духовника, тот — мать, а тот — соседа, —
Веселый разговор для званого обеда!
Au nom de diable!
[35] Нет, я больше не могу!
Из Вильно мерзкого в Варшаву убегу.
Велит мне monseigneur
[36] скорее возвратиться —
Скучает без меня. А мне все эти лица, —
Доктор
(подходя)
Я, мой ясновельможный пан,
Уже вам говорил: в процессе есть изъян.
Он — словно тот больной, который ждет леченья,
Когда диагноз есть, но скудны подтвержденья.
Покуда множество учеников сидит,
Но доказательств нет, нарыв еще не вскрыт.
Нашли стишки — и всё! Се sont des maux légers,
Ce sont, мне кажется, accidents passagers;
[38]А заговора суть по-прежнему темна…
Сенатор
(с обидой)
У вас темно в глазах, но, право, то вина
Обильно питых вин! Итак, signor Dottore
[39],
Я вас благодарю, но, право, кончим споры!
Темна! А проводил все следствие я сам.
И vous osez, docteur!
[40] Мой бог, не стыдно вам?
Да кто решал ясней подобные вопросы!
(Указывая на бумаги.)
Вот добровольные признанья, вот допросы.
Да! Суть была темна, но каждый пункт, ей-ей,
Теперь сенатского указа мне ясней.
Темна!.. Вот за труды достойная награда!
Доктор
Простите, я не прав! Доказывать не надо.
Конечно, заговор бесспорен…
Лакей
Пана ждет
Посыльный от купца. Твердит о давнем счете.
Сенатор
О счете? О каком?
Лакей
Он говорит, вы ждете
Купца Каниссына…
Сенатор
Пошел ты, идиот!
Не видишь — занят я.
Доктор
(лакею)
Ты, глупая скотина!
Суешься, кофе пить мешаешь господину.
Секретарь
(поднимается из-за столика)
Грозится — если вы оттянете расчет,
Он в суд подаст.
Сенатор
Пиши повежливей: пусть ждет!
(Задумывается.)
Но, скажем, à propos
[41], хватил Каниссын лишку.
Пора бы сына взять под следствие.
Сенатор
Мальчишки все они, но в тайниках души…
Чтоб не вспылал огонь, ты искру потуши.
Секретарь
Но сын его в Москве.
Сенатор
В Москве? A, voyez-vous
[42],
Он клубов эмиссар. Я так и назову
Гаденыша. Схватить, схватить сию минуту!
Сенатор
Кадет? В войсках он сеет смуту.
Секретарь
Ребенком выехал из Вильно.
Сенатор
Он письма шлет сюда.
(Секретарю.)
Се n’est pas ton affaire;
[44]Ты понял?
(Дежурному.)
Эй! Ступай и нынче до зари
Кибитку снаряди да письма отбери.
Отцу бояться нас, конечно, нет причины,
Коль без уверток сын свои признает вины.
Доктор
А в заговоре — я поклясться вам готов —
Есть люди возрастов различных и чинов.
И в этом вижу я симптом, и не случайный,
Того, что можно бы назвать пружиной тайной…
Сенатор
(обиженно)
Как — тайной?
Доктор
Тайны здесь имелись, но когда
Взялся за дело пан, он вскрыл их без труда.
Сенатор отворачивается.
(Про себя.)
Нетерпеливый черт! Он рот зажал мне снова!
Тут столько дел, а он сказать не даст и слова!
Пеликан
(сенатору)
А Роллисон? Как с ним, ясновельможный пан?
Пеликан
Да тот — вы помните, смутьян.
Пришлось поколотить его…
Пеликан
Пан Ботвинко
{190} был доволен.
Я при допросе был — он палок не считал.
Байков
Ха-ха! Ботвинко! Счет, конечно, был не мал.
Расправ таких никто не делает добротней.
Parions
[46], он отсчитал не меньше, чем три сотни.
Сенатор
(с удивлением)
Trois cents coups sans mourir, — quel dos de jacobin!
Trois cents coups sans mourir, — quel dos de jacobin!
В России, думал я, la vertu cutanêe
Surpasse tout, но вот une peau mieux tannêe!
[47]Xa-xa-xa, mon ami
[48], и подлый же народ!
(Игроку в вист, поджидающему своего партнера.)
Торговлю кожами нам Польша перебьет!
Un honnete soldat en serait mort dix fois!
(Подходит к столику).
Для вас есть un homme de bois
[50] —
Да, некий мальчуган из дерева: Ботвинко
Три сотни палок дал, а жив, — вот это спинка!
(Пеликану.)
И не сознался?
Пеликан
Нет. Сквозь зубы крикнул он,
Что им не будет друг невинный обвинен.
Но этим он уж все открыл нам поневоле:
Среди мальчишек есть его друзья по школе.
Сенатор
C’est juste!
[51] Так упрям!
Доктор
Но я ведь говорил:
Вот, глупостям уча, что век наш натворил.
Возьмем хоть древнюю историю, — мой боже!
Как пагубна она для нашей молодежи!
Сенатор
(весело)
Vous n’aimez pas l’histoire, ha-iha, un satirique
Aurait. dit, это страх devenir historique
[52].
Доктор
Нет, от истории, конечно, не уйдешь,
И должно юношам знать королей, вельмож…
Доктор
(обрадованный)
Но просвещать их надо осторожно,
С известным выбором. На что, скажите, им
Республиканский строй, Афины, Спарта, Рим?
Неужто обойтись без оных невозможно!
Пеликан
(одному из своих товарищей, указывая на доктора)
Какой проклятый льстец! Забыл он всякий стыд.
Но будет в милости — смотри, как лебезит.
(Подходит к доктору.)
Ну, к месту ли сейчас беседы о науке!
Ясновельможный пан уже зевнул от скуки.
Лакей
(сенатору)
Прикажете впустить тех женщин — или дам,
Которых каждый день карета возит к вам?
Одна из них слепа…
Сенатор
Слепая? И карета?
Пеликан
Мать Роллисона это.
Лакей
Приходит каждый день.
Лакей
Мы гнали, но она все плачет у дверей.
Велели взять ее в тюрьму, да ведь она-то
Слепа — как с ней идти? Народ избил солдата.
Прикажете впустить?
Сенатор
Не справишься, дурак?
Впустить, и — с лестницы! Ты понимаешь, как?
Спровадить взашей вон (с жестом), чтоб неповадно стало
И чтоб нахалка впредь нам не надоедала.
Второй лакей входит и подает письмо Байкову.
Байков
Elle porte une lettre
[53].
(Передает письмо.)
Сенатор
Кто просит за нее?
Байков
La princesse peut-être?
[54]
Сенатор
(читает)
Она! Что ей на ум взбрело мне навязать…
Avec quelle chaleur!
[55] Ну, черт возьми, позвать!
Входят две дамы и ксендз Петр.
Пеликан
(Байкову)
Та ведьма старая — mêre de се fripon
[56].
Сенатор
(учтиво)
Прошу, прошу, но кто здесь пани Роллисон?
Г-жа Роллисон
(плачет)
Я… сын мой… ясный пан…
Сенатор
Простите, что такое?
У вас письмо ко мне, но вас, я вижу, трое?
Сенатор
(второй даме)
С чем же вы?
Вторая дама
Я привела ее.
Сенатор
Да, но чему же я такой обязан честью?
Вторая дама
Она незрячая, — вот почему мы вместе.
Сенатор
Но каждый день сюда ведет ее чутье.
Вторая дама
И все ж она стара и не совсем здорова.
Г-жа Роллисон
О, ради бога!..
Сенатор
Тсс!
(второй)
А вы — кто?
Сенатор
Сидели б дома вы да сыновей блюли.
Нам донесли на них.
Кмитова
(бледнея)
Как, сударь, донесли?
Сенатор смеется.
Г-жа Роллисон
Пан! Сжальтесь, я — вдова! Пан, это невозможно!
Я слышала, его избили там безбожно!
Мое дитя! Он жив — так ксендз мне говорит;
Но кто же бьет детей? Ах, пан, мой сын избит!
О, сжальтесь! Мальчик мой! За что так беспощадно!
(Плачет.)
Сенатор
Но где, когда, кого? Да говорите складно!
Г-жа Роллисон
Кого? Мое дитя! Я, сударь мой, вдова.
Ведь сыновья, мой пан, растут не как трава!
Чтоб Яся воспитать, пришлось мне долго биться,
Уж он учил других, а как любил учиться!
Я бедная вдова, он содержал меня.
Он — глаз мой, без него не проживу и дня.
Сенатор
Причем побои тут? Что путает старуха?
Кто ей налгал?
Г-жа Роллисон
Мой пан, у матери есть ухо.
Пусть я слепа — мой сын теперь душа моя.
То — матери душа. И услыхала я,
Как шел он в ратушу…
Г-жа Роллисон
Прогнали
С порога, со двора… Но стены — стены знали.
И, ухо приложив к стене, я час, другой,
Весь день сидела там, до полночи глухой.
А в полночь слышу вдруг… крик Яся… боже правый!
Я не ошиблась, нет, клянусь господней славой.
До слуха матери из глубины земли
Те крики страшные сквозь толщу стен дошли,
Чуть слышный, тихий звук… Он несся издалека,
Но слух мой проникал быстрей и глубже ока.
Как мучили его!
Сенатор
У вас горячка, бред!
Там многие сидят, сударыня.
Г-жа Роллисон
О нет!
Могла ль я не узнать крик своего ребенка?
Среди несметных стад овца найдет ягненка
По блеянью его… Ах, то был крик такой!..
О, если б добрый пан услышал крик такой,
Он до скончанья дней забыл бы сон спокойный.
Сенатор
Когда он так кричал, здоров ваш сын достойный.
Г-жа Роллисон
(падает на колени)
Коль сердце есть у вас…
Отворяются двери в зал — слышна музыка, — вбегает барышня в бальном платье.
Барышня
Monsieur le sênateur —
Oh, je vous interromps, on va chanter le chceur
De «Don-Juan»; et puis…
[57] потом сюиту Герца
{191}.
Сенатор
Herz! Chœur!
[58] Здесь также речь сейчас идет о сердце.
Vous venez à propos, vous belle comme un coeur.
Moment sentimental! II pleut ici des cœurs
[59].
Когда б grand-duc Michel
[60]{192} слыхал меня, нет спора,
Я в Государственный совет попал бы скоро.
(Барышне.)
J’y suis — dans un moment
[61].
Г-жа Роллисон
О, не лишайте нас
Надежды! Не пущу…
(Хватает его за одежду.)
Барышня
Mais faites-lui done grâce!
[62]
Сенатор
Diable m’emporte!
[63] О чем старуха умоляет?
Г-жа Роллисон
Лишь сына повидать!
Сенатор
(с нажимом)
Но царь не позволяет.
Ксендз Петр
Ксендзу позвольте.
Г-жа Роллисон
Да, пошли ксендза к нему.
Мой сын просил о том… Пошли, побойся бога!
Пусть тело мучают, но хоть души не трогай.
Быть может, он умрет…
Сенатор
C’est drole!
[64] Я не пойму,
Кто эти сплетни-то по городу разносит?
Кто, пани, вам сказал, что сам ксендза он просит?
Г-жа Роллисон
(указывает на ксендза Петра)
Почтенный ксендз сказал; на несколько минут
Свиданья просит он — и то ведь не дают.
Спроси — ксендз знает все…
Сенатор
Он знает все? Почтенный!
(Быстро переводит взгляд на ксендза.)
Ну, ладно, справедлив наш царь благословенный.
Он шлет и сам ксендзов в искорененье зла,
Чтоб ваша молодежь мораль и долг блюла.
Поверь — никто, как я, религии не любит.
(Вздыхает.)
Морали полный крах подростков ваших губит.
Eh bien
[65], прощайте же!
Г-жа Роллисон
(барышне)
Ах, барышня моя,
Вступитесь! Вас прошу во имя бога я!
Сынок мой! Год сидит он на воде и хлебе,
Во тьме и холоде… но есть же бог на небе!
Сенатор
(в замешательстве)
Что? Сидит он целый год?
Imaginez-vous
[67], сам не знал я.
Вот народ!
(Пеликану.)
Ты срочно разберись, где правда в этой чуши,
И если это так — драть комиссарам уши.
(Г-же Роллисон.)
Soyez tranquille
[68]. Сюда придете в семь часов.
Г-жа Кмитова
Не плачь. Достойный пан тебе помочь готов.
Про Яся он не знал, — освободят, быть может…
Г-жа Роллисон
(обрадованно)
Не знал? Готов помочь? Пусть бог ему поможет!
Твердила людям я: не верю я, что в нем,
Коль материнским был он вскормлен молоком,
Сидит бездушный зверь. Ведь он — созданье божье,
Он человек. Они смеялись… Ну и что же?
(Сенатору.)
Ведь я права: не знал! Таили от него…
Всё подлецы вокруг, и нет ни одного,
Кто правду бы сказал. Спроси ты нас — вернее:
Мы скажем всё тебе.
Сенатор
(смеясь)
Поговорим позднее,
Мне некогда, adieu
[69]. Почтение мое.
Княгине — сделаю, что можно, для нее.
(Учтиво.)
Madame Кмит, adieu. Все сделать обещаю.
(Ксендзу Петру.)
А вас, отец, прошу еще на пару слов.
(Барышне.)
J’y suis dans un moment
[70].
Все уходят, кроме прежних лиц.
Сенатор
(помолчав, лакеям)
Кто вас учил, ослов?
Я шкуру с вас спущу. Всех вышколю, лентяи!
Стоите у дверей, так не зевайте там!
(Одному лакею.)
Иди за бабами!
(Пеликану.)
Нет, поручаю вам.
Вы к сыну пропуск ей немедленно дадите,
К княгине пусть пройдет, а там в тюрьму ведите,
В другую камеру — и под замок, одну!
C’en est trop!
[71] Подлецы! Я всех вас подтяну.
(Бросается в кресло.)
Лакей
(дрожа)
Велели вы впустить…
Сенатор
(вскакивает)
Ты в Польше научился
Невежей быть?! Чтоб он скорее излечился
От грубости — эй, вы! Сто палок дать ему
И на голодный стол, на сорок дней, в тюрьму
Я покажу тебе!
Пеликан
Как ни секретно дело,
Как стража ни строга, — весь город облетело,
Что Роллисон избит, и я вам говорю:
Уж постараются злокозненные лица,
Нас гнусно очернив, послать донос царю.
Мы с этим следствием должны поторопиться.
Доктор
Об этом, ясный пан, и думал я сейчас.
Помешан Роллисон — пытался уж не раз
С собой покончить он, бросается к окошку,
А окна заперты…
Пеликан
Да, воздухом немножко
Он должен подышать — в чахотке Роллисон.
Поскольку в верхний он этаж переведен,
Открыть ему окно, пусть дышит грудью всею…
Сенатор
(рассеянно)
Когда я кофе пью, сажать мне баб на шею!
Минуты не дадут…
Доктор
А я предупреждал.
Нельзя, мой ясный пан, чтоб ваш режим страдал.
Забудьте все дела, хотя бы за обедом!
Ça mine la santé
[72], ведет к ужасным бедам.
Сенатор
(спокойно)
Eh, mon docteur!
[73] Для нас порядок и дела
Важней всего. К тому ж мне служба помогла
Желудок укрепить: желчь fait la digestion
[74].
Я мог бы в этот час voir donner la question
[75],
Коль мне велит мой долг — en prenant mon café
[76].
За кофе я готов смотреть аутодафе.
Пеликан
(отталкивая доктора)
А что же Роллисон? И как с ним быть, решите.
Вдруг он сегодня же умрет?
Сенатор
Похороните,
Набальзамируйте. Ну, словом, как хотите.
Да, а тебе, Байков, не надобен бальзам?
Клянусь, на мертвеца ты смахиваешь сам,
А женишься… Да, да, невеста у Байкова!
{193}
Двери с левой стороны открываются — входит лакей. Сенатор указывает на зал.
Вон та красоточка, румяна, черноброва.
А женишок avec un teint si dćlabrć
[77].
Ты в женихах — точь-в-точь Тиберий à Caprć!
[78]Но, право же, вы, пан, искусник не из малых:
Как вы добились «да» от этих губок алых?
Байков
Добились? Но, parions, и года не пройдет,
Я с нею разведусь, и после каждый год,
Не принуждая, брать я буду молодую, —
На них лишь посмотри, а там бери любую:
Стать генеральшами шляхтянкам молодым —
C’est beau
[79], спроси ксендза.
Сенатор
(ксендзу)
Мой черный херувим!
Смотрите, quelle figure! Il а l’air d’un poète…
Видал ли ты еще un regard aussi bĉte?
[80]Мы оживим его. Вот рюмка рома, пей!
Ксендз Петр
Нет, я не пью.
Сенатор
Прошу, святой отец, живей!
Ксендз Петр
Я лишь смиренный брат.
Сенатор
Ну, брат ты или дядя,
Как вы узнали, пан, скажите, бога ради,
Что делают сынки чужие под замком?
Ты матери сказал?
Сенатор
(секретарю)
Он сознался в том
При всех — пиши скорей!
(Ксендзу.)
Откуда знаешь это?
Увидел протокол — и не дает ответа.
Эй, птичка милая, где братия твоя?
Ксендз Петр
У бернардинцев.
Сенатор
А! Но, полагаю я,
Доминиканцев ты зовешь роднею тоже?
У них был Роллисон. Но как узнал ты все же?
Признайся, кто сказал? Я именем царя
Велю тебе, монах! Молчишь ты, право, зря:
Есть добрый кнут у нас и есть в Сибирь дорога!
(Секретарю.)
Пиши: молчал.
(Ксендзу.)
Пойми: коль ты служитель бога,
Так будь им до конца и следуй вере строго.
От бога, знаешь сам, поставлены цари, —
Так если царь велит, уж лучше говори.
Ксендз молчит.
Иль будешь вздернут, поп, покроешься позором,
И вряд ли можешь быть ты воскрешен приором.
Ксендз Петр
Терпеть безмолвно власть — не значит власть принять.
Бог может эту власть и злому духу дать.
Сенатор
Ты будешь вздернут, поп. Допустим, царь узнал бы,
Что вздернут без суда, — так что же он сказал бы:
«Сенатор, вижу я, в тебя вселился бес».
Но ты б от этого, конечно, не воскрес.
Поближе подойди, я потерял терпенье!
Признайся, кто тебе сказал об избиенье?
Ну что ж? Быть может, ты от господа узнал?
Кто? Ангел весть принес? Бог? Дьявол?
Сенатор
(возмущенный)
«Ты»? Мне посмел на «ты»? Монах — «ты»?
Невозможно!
Доктор
Невежа! Говорят: «мой пан ясновельможный».
(Пеликану.)
Ты поучи его, он, видимо, пришел
Из хлева. Дай ему…
(Показывает рукой.)
Пеликан
(дает ксендзу пощечину)
Пан в гневе. Ты осел!
Ксендз
(доктору)
Прости ему, господь, — он, что творил, не ведал.
Ты, брат мой, сам себя советом злобным предал.
Готов твой саван?
Байков
Валяет дурака.
Пусть попророчит, пусть. — он захотел щелчка.
(Дает ему щелчок.)
Ксендз
И ты последовал, мой брат, его примеру!
За ним вослед пойдешь, ты переполнил меру.
Сенатор
Позвать Ботвинко! Эй! Попа держите тут!
Пускай нас палочной потехой развлекут.
Посмотрим, будет ли молчать он столь упорно.
Его настроили…
Доктор
Я доношу покорно:
Все это заговор. И во главе их — князь!
Да, Чарторыйский, князь
{194}, — я утверждаю смело.
Сенатор
(срывается с места)
Que me dites-vous la, mon cher?
Какая связь? Impossible!
[81]
(Про себя.)
Но что ж! Коль подойти умело,
Доставлю князю я на десять лет хлопот.
(Доктору.)
Ты точно знаешь ли?
Доктор
Да уж болтать не стану.
Доктор
А я шепнул об этом пану,
Да пан не слушает. Меж тем мятеж растет,
И кто-то жар раздул.
Доктор
В том нет сомненья.
Есть письма, жалобы, прямые донесенья.
Сенатор
Как? Письма князя есть?
Доктор
Нет, но о нем самом,
О действиях его — бумаги целый том.
Он и профессоров втянул. А в центре смуты,
Конечно, Лелевель
{195} — мятежник самый лютый.
Сенатор
(про себя)
Ах, если бы и впрямь улика вдруг нашлась,
Хоть маленький предлог, на вид совсем невинный!
Как часто шепчутся они в моей гостиной:
«Князь Новосильцева возвысил, только князь!»
Посмотрим же теперь, кто сможет похвалиться:
Кто вознести умел иль кто свалить решится.
(Доктору.)
Ну! que je vous embrasse!
[82] Давно бы так пора,
Уже я думал сам: при чем тут детвора?
И право, угадал, что это князя штуки.
Доктор
(фамильярно)
Вы черта посрамить могли б в сыскной науке!
Сенатор
(важно)
Нет, пан советник, пусть я мысль имел сию,
Улики — вы нашли, и слово я даю,
Да, écoutez
[83], мое сенаторское слово:
Удвоить вам размер оклада годового
И службы оплатить десятилетний срок,
А там — церковное добро
{196}, да хуторок,
Да орден — царь не скуп, коль просят о награде,
А я уж расхвалить сумею вас в докладе.
Доктор
Мне это стоило, клянусь, немало сил;
Из скудных средств моих я сыщикам платил:
Так я служу царю — усердно и по чести.
Сенатор
(беря его под руку)
Mon cher! С секретарем моим пойдите вместе
Забрать бумаги все и наложить печать.
(Доктору.)
Мы будем вечером все это разбирать.
(Про себя.)
Я следствие провел, как сукин сын трудился, —
И чтобы он потом открытием гордился!
(Задумывается. Секретарю на ухо.)
Под стражу доктора, а там — поговорим.
(Входящему Байкову.)
Здесь дело важное, и мы зажмемся им.
Проговорился он, я допросил, но все же
Возьмем под следствие, — придется с ним построже.
Пеликан, заметив взгляд сенатора, провожает доктора и низко ему кланяется.
Доктор
(про себя)
Еще вчера меня отталкивал. Ну-ну…
Не встанешь, Пеликан, когда тебя толкну.
(Сенатору.)
Сейчас вернусь.
Сенатор
(небрежно)
Ах, так? Мне в восемь отправляться.
Доктор
(глядя на часы)
Что это? На моих часах всего двенадцать!
Доктор
Как, пять? Когда б не видел сам!
Двенадцать на моих, я повторяю вам.
И стрелка на полдень показывает точно,
Ни на волос вперед, ну, прямо как нарочно.
Ксендз Петр
Ты видишь, брат, с утра твои часы стоят.
Помысли о душе, пока не поздно, брат.
Пеликан
Он пророчествовать хочет.
Глядит, как василиск, невнятное бормочет!
Ксендз Петр
Брат, знаменьями бог тебя предостерег.
Пеликан
Шпиона, кажется, послал нам в братце бог.
Отворяются двери слева, входит множество нарядных дам, чиновников, гостей. — Слышна музыка.
Генеральша
Ah, mon cher senateur!
[85]Мы ждали, ждали вас!
Советница
Vraiment, c’est un malheur!
[86]
Все вместе
И наконец пришли.
Сенатор
Что здесь? gala
[87] парад?
Дама
Устроим танцы здесь, коль нам хозяин рад.
Становятся в пары, готовясь к танцу.
Сенатор
Pardon, mille pardons, j’étais très occupé;
Que vois-je, un menuet? parfaitement groupé!
Cela m’a rappelé les jours de ma jeunesse!
Княгиня
Се n’est qu’une surprise.
Сенатор
Est-ce vous, ma déesse!
Que j’aime cette danse! une surprise? ah! dieux!
Княгиня
Vous danserez, j’espère
[88].
Сенатор
Certes, et de mon mieux
[89].
Музыка играет менуэт из «Дон-Жуана». — Слева стоят чиновники с женами и дочерьми. — Справа молодежь, несколько молодых русских офицеров, несколько стариков, одетых по-польски, и несколько молодых дам. — Посредине танцуют менуэт. Сенатор танцует с невестой Байкова; Байков — с княгиней.
БАЛ
Сцена поется.
Справа:
Дама
Как он пыхтит… Не пожалею,
Коль старый черт сломает шею.
(Сенатору.)
Ах, как легко танцует пан!
(В сторону.)
Il crèvera dans l’instant
[90].
Молодой человек
Смотри, как подъезжает к даме.
Вчера пытал, сегодня — в пляс.
Обшаривает всех глазами,
Шакалом рыщет среди нас.
Дама
Вчера, как зверь, когтил добычу,
Пытал и лил невинных кровь.
Сегодня, ласково мурлыча,
Играет с дамами в любовь.
Слева:
Коллежский регистратор
(советнику)
Сенатор пляшет, вы видали?
Пойдем и мы, советник, в пляс.
Советник
Со мною танцевать едва ли
Прилично было бы для вас.
Регистратор
Тут есть и дамы — ждут толпою.
Советник
Да не об этом речь моя.
Пойми, чем танцевать с тобою —
Один станцую лучше я.
Регистратор
А я ведь офицерский сын.
Советник
Но у тебя ничтожный чин,
Да и к тому ж ты хлыщ и сплетник.
(Полковнику.)
Полковник, в пляс! Чего ты стал?
Смотри, танцует сам сенатор.
Полковник
(указывая на регистратора)
Что за наглец к тебе пристал?
Советник
Слыхал? Коллежский регистратор!
Полковник
Вот якобинцы, — так и прут!
Дама
(сенатору)
О, как легко танцует пан!
Советник
(гневно)
Да, все чины смешались тут!
Дама
II crévera dans I’instant
[91].
Левая сторона, хором:
Дамы
Ah! quelle beauté, quelle graâce!
[92]
Мужчины
Какой здесь блеск, все тешит взоры!
Правая сторона, хором:
Мужчины
Ах, негодяи, живодеры!
Чтоб разразило громом вас!
Сенатор
(танцуя, губернаторше)
А я б со старостой не прочь
Свести знакомство, — у него ведь
Красотки и жена и дочь.
Губернатор
(бегая за сенатором)
Мы можем почву подготовить.
(Подходит к старосте.)
Где дочки?
Губернаторша
Ее здесь нет?
Губернатор
Жена с сенатором знакома?
Староста
О нет, как муж, хочу я сам
Женой владеть, признаюсь честно.
Губернаторша
Я приглашала дочку к нам.
Староста
Вниманье ваше крайне лестно.
Губернатор
Скажу я, сударь, вот что вам:
Одной нет пары в менуэте.
Сенатор приглашает дам.
Староста
На что мне приглашенья эти!
Ей пару подыщу я сам.
Губернаторша
Танцорки лучшей нет на свете,
Ее зовет сенатор сам.
Староста
У пана, знаю, на примете
Здесь не одна, а много дам.
Левая сторона, хором:
Как здесь играют, как поют,
И как чудесно убран дом!
Правая сторона, хором:
Убийцы кровь на завтрак пьют,
К обеду — подавай им ром.
Советник
(указывая на сенатора)
И порет их и угощает, —
Такой — не жаль, коль отодрал.
Староста
Подлец! Детей в тюрьму сажает,
А нам велит лететь на бал!
Русский офицер
(Бестужеву)
Нас ненавидят здесь все больше,
Но виноват ли в том народ,
Когда наш царь в пределы Польши
Лишь подлецов упорно шлет!
Студент
(офицеру)
А вот Байков — всмотрись получше:
Ну что за морда! Дрожь берет!
Как жаба на навозной куче,
Он скачет, выпятив живот.
Оскалил зубы, поперхнулся,
Смотри, как рот разинул он…
Рычит, послушай, он рехнулся!
Байков запевает.
(Байкову)
Mon général, quelle chanson!
[93]
Байков
(поет песенку Беранже{197})
Quel honneur, quel bonheur!
Ah! monsieur! le sénateur!
Je suis votre humble serviteur, etc, etc.
[94].
Студент
Général, ce sont vos paroles?
Студент
Je vous en fais compliment.
Один из офицеров
(смеясь)
Ces couplets sont vraiment fort drôles,
Quel ton satirique et plaisant!
[95]
Молодой человек
Pour votre muse sans rivale,
Je vous ferais académicien
[96].
Байков
(на ухо, указывая на княгиню)
Сенатор наш рогат — видали?
Сенатор
(на ухо, указывая на невесту Байкова)
Va, va, je te coifferai bien
[97].
Барышня
(танцуя, матери)
Он слишком старый и противный.
Мать
(с правой стороны)
Ну брось его — пускай грозит!
Советница
(с левой стороны)
Тебе к лицу, дочурка, — дивно!
Староста
От них вином так и разит.
Вторая советница
(дочери, стоящей рядом)
Ты, Зося, глазки подними.
Сенатор, может быть, оценит.
Староста
Пусть только он меня заденет —
(хватается за саблю)
Вот моя сабля, черт возьми!
Левая сторона, хором:
Какой здесь блеск, все тешит взоры!
Ah, quelle beauté, quelle grâce!
[98]
Правая сторона:
Ax, негодяи, живодеры!
Чтоб разразило громом вас!
С правой стороны среди молодежи:
Юстин Поль
(Бестужеву, указывая на сенатора)
Всадить бы нож ему в утробу
Иль хоть пощечину влепить.
Бестужев
Лишь без толку сорвешь ты злобу, —
Что пользы одного убить!
Они вам поднесут гостинца —
Закроют университет.
Мол, «все студенты — якобинцы», —
И нации погубят цвет.
Юстин Поль
Но за мученья он заплатит,
За кровь, за это море слез.
Бестужев
Псов у царя на псарне хватит,
Хотя б издох какой-то пес.
Поль
Ножом пырнуть бы эту жабу!
Бестужев
Нет! Говорю последний раз!
Поль
Позволь его избить хотя бы!
Бестужев
И сразу погубить всех нас!
Поль
Ах, подлецы, убийцы, воры!
Бестужев
Пойдем-ка, полно вздор молоть.
Поль
Ужель никто проклятой своры
Не истребит?
Отходят к дверям.
Ксендз Петр
Один господь!
Внезапно музыка меняется. Играют арию Командора.
Танцующие
В чем дело? Что там? Что?
Один
(глядя в окно)
Гроза готовится, за тучами луна.
(Закрывает окно — слышен раскат грома.)
Дирижер
Пан, ошиблись мы…
Дирижер
Я дал им разные отрывки. Очень странно,
Что спутали, они внимательны всегда.
Сенатор
Ну, arrangez-vous done, mesdames
[99], господа!
За дверью слышен крик.
Г-жа Роллисон
(за дверьми, страшным голосом)
Пусти меня! Пусти!..
Лакеи
(встревоженно)
Зрячей стала!
Да как летит! Держи!
Другие лакеи
Закройте двери зала!
Г-жа Роллисон
Эй, пьяница, тиран! Где ты? Мой сын убит!
Лакеи
(хотят задержать ее, но она опрокидывает одного из них)
Гляди, свалила с ног! Черт! Черт! В ней черт сидит!
Убегают.
Г-жа Роллисон
Где ты? Я разобью твой череп! Душегубы!
Убили Ясика! Мой сын! Сыночек любый!
Он выброшен в окно… Проклятый зверь, где ты?
Мой сын! Он выброшен… на камни… с высоты!
Есть сердце у тебя? Злодей, ты залит кровью
Детей невинных… Как! Ругаться над любовью
Несчастных матерей? О изверг! Разорву!
Он выброшен в окно, а я еще живу!
Единственный мой сын, кормилец, утешитель!
А ты, проклятый, жив! И в небе есть спаситель!
Ксендз Петр
Не богохульствуй! Жив твой сын, лишь ранен он.
Г-жа Роллисон
Жив? Сын мой жив? Отец! Твои слова не сон?
То правда, мой отец? Я проходила мимо —
Кричат: «Упал!..» Бегу… Ясь! Ясик мой любимый!
Мой Ясь единственный! Ах, эта слепота!
Не видела его… Теперь я сирота.
Лишь кровь я на камнях почуяла родную.
Клянусь всевышним, кровь! Кровь сына! Чую, чую,
Он здесь, его палач, проливший кровь святую!
Идет прямо на сенатора. — Сенатор отбегает, — Г-жа Роллисон падает в обморок. — Ксендз Петр подходит к ней, с ним только староста. — Слышен удар грома.
Все
(в страхе)
Вот плотью стал глагол! Где гром упал?
Один
(глядя в окно)
Но близко, — и попал он в университет.
Сенатор
(подходя к окну)
В окошко доктора!
Один из зрителей
Слыхал ты крик из дома?
Прохожий
(на улице, смеясь)
Ха, дьявол с ним!
Пеликан вбегает, перепуганный.
Пеликан
Убит ударом грома.
Как объяснить сей факт при помощи наук?
Громоотводы есть, и целых десять штук.
Он в задней комнате убит. Все в доме цело,
Одно лишь серебро в рублях не уцелело.
Лежала груда их на столике, и вмиг
Металл расплавился, — ведь это проводник.
Староста
Да, царские рубли копить не безопасно.
Сенатор
(дамам)
А все же менуэт вы кинули напрасно.
(Видя, что оказывают помощь г-же Роллисон.)
Убрать ее, убрать! Ей можно там помочь.
Несите!
Сенатор
Пусть, но уберите прочь!
Ксендз Петр
Еще не умер он. Прошу позволить с нею
И мне пройти к нему.
Сенатор
Хоть к черту, но скорее!
(Про себя.)
Так доктор мертв! Ах, ах! Но c’est inconcevable!..
Ксендз предсказал ему… А, каково? c’est diable!
[100]
(Обществу.)
Ну что ж тут страшного? Весной не редкость тучи,
И гром, и молния. Обыкновенный случай!
Советница
(мужу)
Нет, страх есть страх! Пускай то был обычный гром,
Я все ж немедленно покину этот дом;
Твердила я: детей вам трогать не пристало.
Хоть без вины он бил евреев — я молчала;
Но дети!.. Бог его убил рукой своей!
Советница
Пойдем! Мне дурно. Ну, скорей!
Снова слышен гром. — Все убегают, сначала пустеет левая, затем правая сторона. — Остаются сенатор, Пеликан, ксендз Петр.
Сенатор
(смотря вслед разбегающимся)
Проклятый доктор! Жил — мне досаждал немало,
Подох — так разогнал гостей в разгаре бала.
(Пеликану.)
Voyez, как смотрит ксендз, voyez, quel oeil hagard;
Престранный случай, да, un singulier hasard!
[101]Послушай, мой отец, твои ли это чары?
Как ты предвидел гром, орудье божьей кары?
Ксендз молчит.
По правде говоря, наш доктор был неправ,
По правде говоря, он действовал сверх прав.
On aurait fort à dire
[102] — блюди господне слово,
И не сведет тебя никто с пути прямого.
Ну что же, ксендз? Молчит… молчит, повесил нос.
Нет, выпущу его: on dirait bien des choses!..
[103]
(Задумывается.)
Пеликан
Ха! Если б следствие опасностью грозило,
Так этой молнией нас первых бы сразило.
Ксендз Петр
Две старых повести на память мне пришли…
Сенатор
(с любопытством)
Про гром? Про доктора? Давай!
Ксендз Петр
Две старых были.
Однажды путники селеньем проходили,
Остались на ночлег и под стеной легли.
Средь них убийца был. И ночью ангел божий
Злодея разбудил: «Скорей вставай, прохожий,
Стена обрушится». Так был злодей спасен.
Других он не будил, и смертью стал их сон.
И грешник господу вознес благодаренье
За то, что пощадил господь свое творенье.
Но божий ангел так сказал: «Велик твой грех, —
Погибнешь всех поздней, зато позорней всех».
Другая притча есть: в былые дни Востоком
Владел могучий царь. Его в бою жестоком
Осилил римский вождь. Казнив его рабов,
И сотников, и всех начальников полков,
Он будто сжалился над пленником державным:
Оставил жизнь ему и полководцам главным.
Возликовали те и стали славить Рим,
Твердить: «За милость мы вождя благодарим».
Но воин римский им сказал: «Вам веселиться,
Поверьте, нет причин. К победной колеснице
Военачальник вас цепями прикует,
По лагерю, потом по Риму проведет,
Чтоб в славном городе, в непобедимом Риме
Снискать себе триумф делами боевыми,
Чтоб восклицал народ: «Вот лучший из вождей!
Каких он воинов пленил, каких царей!»
И в золотых цепях весь город вы пройдете,
И в руки палача с позором попадете.
В темницу страшную посадит вас палач,
Где вечно стон стоит, зубовный скрежет, плач».
Так воин говорил. Но царь пожал плечами:
«Тебе не устрашить нас глупыми речами.
Ты разве на пирах с вождем своим сидел
Наперсником его высоких дум и дел?»
Так царь обидное сказал солдату слово,
И с полководцами запировал он снова.
Сенатор
(нетерпеливо)
Il bat la campagne…
[104] Ну, тебя я отпущу,
Но попадешься вновь — с тебя семь шкур спущу,
Как Роллисону, поп, вкачу тебе такое,
Что не узнает мать свое дитя родное.
Сенатор уходит к себе с Пеликаном. Ксендз Петр направляется к дверям и встречается с Конрадом, которого ведут на допрос два солдата. Увидев ксендза, он останавливается и долго смотрит на него.
Конрад
Вот странно! Никогда я не видал его,
А знаю между тем как брата своего.
Иль видел где-нибудь? Да, видел…Нет сомненья!
Те самые глаза, лицо… Мое виденье!
Да, это он меня из темной бездны спас.
(Ксендзу.)
Отец, хоть встретились мы с вами в первый раз, —
По крайней мере, я вам незнаком, конечно, —
За вашу милость вас благодарю сердечно.
Ведь если в дружбе мы обделены судьбой,
Пусть хоть приснится друг. Возьмите перстень мой,
Его продайте вы и деньги разделите:
Часть — нищим. Из другой — обедни закажите
По страждущим в аду. Неволя — тот же ад.
Еще хоть раз один услышу ль мессу, брат?
Ксендз Петр
Услышишь. И за дар прими предупрежденье:
Тебе далекий путь сулило провиденье;
Увидишь ты людей, что славятся умом,
Богатством, знатностью. Но ты найдешь в одном
Вершину знания. Он словом божьим встретит
Тебя — узнай его…
Конрад
(всматриваясь)
Ты ль это — кто ответит?
Еще мгновение!..
Ксендз Петр
Я не могу, прости!
Солдат
Нет! Тебе пора идти.
Сцена IX
Ночь дзядов.
Невдалеке часовня. — Кладбище. — Кудесник и женщина в трауре.
Кудесник
В костел торопится народ,
На Дзяды. Слышишь, полночь бьет?
Пойдем — и с нами божья сила!
Женщина
Ступай вперед, я не пойду.
Я на кладбище гостя жду.
Я духа вопросить решила,
Того, что много лет назад
{198}Предстал мне, бледный, изможденный,
Толпою духов окруженный,
В крови от головы до пят,
И жег меня с немым укором
Своим блестящим, диким взором.
Кудесник
Он, верно, жив, и оттого
Я тщетно вызывал его.
В ночи таинственной поминок
На сходку духов гробовых
Идут и призраки живых,
Хотя б игру, иль поединок,
Или беседу, иль дела
Не прекращали их тела.
На зов летит душа любая,
Но здесь, пока жива она,
Стоит нема, глуха, бледна,
Не слыша нас, не отвечая.
Женщина
Все так, но ранен в сердце он.
Кудесник
Удар был в душу нанесен.
Женщина
Найду ль я в темноте дорогу?
Кудесник
А я останусь на подмогу.
Туда кудесник зван другой,
Пусть он займется ворожбой.
Уже поют, а значит, вскоре
Начнутся Дзяды. Люди в сборе.
Я слышал, хор пропел пока
Лишь клятву прядки и венка,
И духов воздуха призвали.
Ты видишь, там огни, огни —
Как звезды, падают они,
Их блеском осветились дали.
То духов воздуха закляли.
Вот над каплицей вознеслись,
Огнями мрак небес распорот.
Так голуби несутся ввысь,
Когда объят пожаром город.
Летит, роняя белый пух,
Как звезды над землей, сверкая,
И тонет в небе темном стая.
Женщина
Не здесь, не с ними тот мой дух.
Кудесник
В каплице свет и пенье снова,
Огня заклятие прочли.
Тела во власти духа злого
Так вызывают из земли.
Они придут, покорны чарам,
И с ними он придет на зов.
Мы притаимся в дубе старом,
Что громовым сожжен ударом,
А был жилищем колдунов.
Все оживает на погосте.
Вот синий вспыхнул огонек,
Земли шуршанье, скрип досок,
В могилах шевелятся кости.
Вот эти проклятые, вот!
Их руки длинны, красен рот,
Глаза, как угли, пламенеют,
Ныряй в дупло и не смотри!
Сжигают взглядом упыри,
Кудеснику — вредить не смеют.
Ха!
Кудесник
Кафтан еще не сгнил. Из губ
Исходит серный смрад, и тело
Черно, как будто обгорело.
В глазницах черепа пустых
Горят огнем два золотых,
И черт на каждом когти точит,
Сидит в монете, как в зрачке,
Паясничает и хохочет,
Мелькает молнией в кружке.
А труп идет, рычит сердито, —
Ты слышишь хрип его и стон?
В руках, как бы из сита в сито,
Пересыпает деньги он.
Призрак
Где храм? Где тут храм? Где тут молятся богу?
Скорей! Серебро — как огонь.
Где храм? Покажи мне, прохожий, дорогу,
Мне деньги сжигают ладонь.
Возьми их, прохожий, для сирых и старых,
Для узника или вдовы,
Возьми золотой и серебряный жар их
Из рук моих и головы.
Бежишь! Иль держать мне металл раскаленный,
Покуда на вилы чертей
Не рухнет, расставшись с душонкой зловонной,
Проклятый убийца детей
{200}!
Волью это золото в сердце злодею.
Чтоб вылилось носом и ртом.
Мне труп его будет служить решетом,
Все деньги сквозь труп я просею.
О, скоро ль металл я очистить сумею?
О, долго ли ждать и казниться огнем!
(Убегает.)
Кудесник
Рядом с нами
Другой барахтается
{201} в яме.
Скребется, вылез наконец.
У! Что за мерзостный мертвец!
Блестит от жира, толст и бледен,
Напялил свадебный наряд.
В него впился недавно гад —
Он только в двух местах объеден.
С дороги в сторону скакнул.
Мерзавца дьявол обманул:
Оборотясь пред ним девицей,
Не подпустил его к каплице!
То ручкой мертвецу махнет,
То, глаз прищурив, подмигнет, —
И за девицей что есть силы
Мертвец бежит через могилы.
Задел ногой за чей-то гроб.
Как будто мельница крылами,
С натуги замахал руками
И вдруг в объятья черту — хлоп!
Но десять морд косматых, жадных
Под ним явились из земли,
И в поле десять псов громадных
Проклятого поволокли —
Прочь от его хвостатой любы.
Вонзили в мертвечину зубы
И с воем в клочья разнесли.
Но вот исчезли псы вдали.
И части трупа — чудо! чудо! —
Отдельно каждая жива! —
Бегут на кладбище оттуда.
Как жаба, скачет голова
С огнем в ноздрях. А вслед за нею,
Как черепаший панцирь, грудь
Ползком, ползком пустилась в путь.
Вот села голова на шею,
За грудью брюхо скок да скок.
Оторванные пальцы ног
И рук ползут, виясь как змеи,
Соединиться поскорее.
Ладонь гребет песок, и вот
Рука к ладони пристает.
Под брюхо подползают ноги,
И снова целый, по дороге
Тяжелым шагом труп идет.
Пред ним опять его девица,
И он догнать ее стремится,
А черти снова тут как тут,
И псы его на части рвут.
Хоть не дошел бы до погоста!
Кудесник
Нет, он гадок просто.
Один лишь труп, а сколько в нем
Змей, жаб, червей и всяких гадов!
Женщина
Мы, кажется, напрасно ждем.
Кудесник
Конец подходит ночи Дзядов.
Чу! Третий раз петух поет.
Вот славу прадедам пропели,
Уже расходится народ.
Женщина
Он не пришел и не придет!
Кудесник
Нет, если дух покуда в теле.
Скажи лишь имя. Есть состав
Из тайных чародейских трав.
Над ним волшебный стих шепну я,
И дух придет, твой зов почуя.
Кудесник
Слышать он не мог.
Его заклял я.
Женщина
Минул срок.
Но нет его.
Кудесник
Не внемлет чарам!
Тогда, скажу, одно из двух:
Иль веру изменил твой дух,
Иль с именем расстался старым
{202}.
Заря. Слабеет волшебство,
И нам уж не призвать его.
(Выходят из дерева.)
Но что там! Сила божья с нами!
Смотри: взметая снег столбами,
От Гедиминовых палат
{203}Кибитки к северу летят,
Как бы спасаясь от погони,
Во весь опор несутся кони.
И там, весь в черном, впереди, —
Кто это?
Женщина
Гляди!
Он только посмотрел… как странно…
Взглянул — и повернул назад!..
О боже, что за страшный взгляд!
Кудесник
Он весь в крови, под сердцем рана.
Рубцы от тысячи мечей,
Уже зажившие на теле,
Горят в его душе доселе.
Лишь смерть лекарством будет ей.
Женщина
Но кто пронзил его мечами?
Женщина
Над бровями
Заметил рану ты? На вид
Подобна капле, небольшая…
Кудесник
Та рана всех сильней горит.
Ее касался я и знаю.
Себе своею же рукой
Ее нанес он. Ране той
Целенья нет и за могилой.
Женщина
Господь несчастного помилуй!
Конец акта первого

«Гражина»
Дзяды
Отрывок части III
Перевод В. Левика
Дорога в Россию
По диким пространствам, по снежной равнине
Летит мой возок, точно ветер в пустыне.
И взор мой вперился в метельный туман, —
Так сокол, в пустынную даль залетевший,
Застигнутый бурей, к земле не поспевший,
Глядит, как бушует под ним океан,
Не знает, где крылья на отдых он сложит,
И чует, что смерть отвратить он не может.
Ни города нет на пути, ни села.
От стужи природа сама умерла.
И зов твой в пустыне звучит без ответа,
Как будто вчера лишь возникла планета.
Но мамонт, из этой земли извлечен,
Скиталец, погибший в потопе великом,
Порой, непонятные новым языкам,
Приносит нам были минувших времен —
Тех дней, когда был этот край обитаем
И с Индией он торговал и с Китаем. —
Но краденый томик из дальних сторон,
Быть может, добытый на Западе силой,
Расскажет, что много могучих племен
Сменилось на этой равнине унылой.
Всё — в прошлом. Стремнины потопа ушли,
Их русла теперь не найдешь на равнине.
Грозою народы по ней протекли —
И где же следы их владычества ныне?
Лишь в Альпах утесов холодный гранит
Минувших веков отпечатки хранит,
Лишь в Риме развалин замшелая груда
Расскажет о варварах, шедших отсюда.
Чужая, глухая, нагая страна —
Бела, как пустая страница, она.
И божий ли перст начертает на ней
Рассказ о деяниях добрых людей,
Поведает правду о вере священной,
О жертвах для общего блага, о том,
Что свет и любовь управляют вселенной?
Иль бога завистник и враг дерзновенный
На этой странице напишет клинком,
Что люди умнеют в цепях да в остроге,
Что плети ведут их по верной дороге?
Беснуется вихрь, и свистит в вышине,
И воет поземкой, безлюдье тревожа.
И не на чем взор задержать в белизне.
Вот снежное море подъемлется с ложа,
Взметнулось — и рушится вновь тяжело, —
Огромно, безжизненно, пусто, бело.
Вот, с полюса вырвавшись вдруг, по равнине
Стремит ураган свой безудержный бег
И, злобный, бушует уже на Эвксине,
Столбами крутя развороченный снег,
И путников губит, — так ветер песчаный
Заносит в пустынных степях караваны.
И снова равнина пуста и мертва,
И только местами снега почернели.
То в белой пучине видны острова —
Из снега торчащие сосны да ели.
А вот — что-то странное: кучи стволов,
Свезли их сюда, топором обтесали,
Сложили, как стены, приладили кров,
И стали в них жить, и домами назвали.
Домов этих тысячи в поле пустом,
И все — как по мерке. А ветер свистящий
Над трубами дым завивает винтом,
Подобно султану на каске блестящей.
Рядами иль кругом — то реже, то чаще —
Стоят эти срубы, и в каждом живут,
И все это городом важно зовут.
Но вот наконец повстречались мне люди,
Их шеи крепки, и могучи их груди.
Как зверь, как природа полночных краев,
Тут каждый и свеж, и силен, и здоров.
И только их лица подобны доныне
Земле их — пустынной и дикой равнине.
И пламя до глаз их еще не дошло
Из темных-сердец, из подземных вулканов,
Чтоб, вольности факелом ярким воспрянув,
Той дивной печатью отметить чело,
Которой отмечены люди Восхода
И люди Заката, вкусившие яд
Падений и взлетов, надежд и утрат,
Чьи лица — как летопись жизни народа.
Здесь очи людей — точно их города,
Огромны и чисты. И, чуждый смятенью,
Их взор не покроется влажною тенью,
В нем грусть состраданья мелькнет без следа.
Глядишь на них издали — ярки и чудны,
А в глубь их заглянешь — пусты и безлюдны.
И тело людей этих — грубый кокон,
Хранит не созревшую бабочку он,
Чьи крылья еще не покрылись узором,
Не могут взлететь над цветущим простором.
Когда же свободы заря заблестит, —
Дневная ли бабочка к солнцу взлетит,
В бескрайную даль свой полет устремляя,
Иль мрака создание — совка ночная?
Дороги по голым полям пролегли.
Но кто протоптал их? Возов вереницы?
Купцы ль, караваны ли этой земли?
Царь — пальцем по карте — провел их в столице.
И в Польше, куда бы тот перст ни попал,
Встречался ли замок, иль дом, или хата —
Их лом разбивал, их сносила лопата,
И царь по развалинам путь пролагал.
В полях не увидишь дорог под снегами,
Но тотчас приметишь их в чаще лесной.
На север уводят они по прямой,
Светлы в полутьме, как река меж скалами.
Кто ездит по ним? Вот выходят полки,
То конница скачет, за нею пехота
Змеей растянулась, за ротою рота,
А там артиллерия — пушки, возки.
И все они посланы царским указом —
Тех гонят с восточных окраин сюда,
Те с Запада вышли, на битву с Кавказом, —
Не знают, зачем, почему и куда,
Не спросят о том. Ты увидишь монгола, —
Скуласт, косоглаз, отбивает он шаг,
А далее бледный, больной, невеселый,
Плетется литовский крестьянин-бедняк.
Там ружья английские блещут, там луки,
И дышит калмык на озябшие руки.
Кто их офицеры? Немецкий барон.
В карете ездой наслаждается он,
Чувствительно Шиллера песнь напевает.
И плеткою встречных солдат наставляет.
Француз либеральную песню свистит —
Бродячий философ, чиновный бандит
С начальником занят беседой невинной:
Где можно достать по дешевке фураж?
Пускай перемрет солдатни половина —
Деньгам не ущерб. Если маху не дашь,
Рассудят, что это — казны сбереженье,
Царь орден пришлет и в чинах повышенье.
Но мчится кибитка — и все перед ней
Шарахнулось в сторону: пушки, лафеты,
Пехота и полк кирасир-усачей,
Начальство свои повернуло кареты.
Кибитка несется. Жандарм кулаком
Дубасит возницу. Возница кнутом
Стегает наотмашь солдат, свирепея.
Беги или кони сшибут ротозея!
Кто едет в кибитке? Не смеют спросить.
Жандармы сидят в ней, и путь их — в столицу.
То царь приказал им кого-то схватить.
«Наверное, взят кто-нибудь за границей?
Кто б мог это быть? — говорит генерал. —
Французский король то, саксонский иль прусский?
Кого самодержец не милует русский,
Кого он в тюрьму заточить приказал?
А может быть, в жертву и свой предназначен?
Быть может, Ермолов
{204} жандармами схвачен?
Кто знает! Бесстрашен и горд его взгляд.
Хоть он на соломе сидит, как в темнице.
Из крупных, как видно! За ним вереницей
Возки, точна свита в них едет, летят.
Но кто ж эти люди? Как держатся смело!
Сверкают их очи, отвагой горя.
Вельможи ль они? Камергеры царя?
Нет, мальчики, дети! Так в чем же тут дело?
Иль принцы они и король, их отец,
Дерзнул покуситься на русский венец?» —
Так, строя догадки, начальство дивилось;
Кибитка меж тем в Петербург уносилась.
Пригороды столицы
{205}
И вот уже слышно столицы дыханье.
Дорога отлична — ровна, широка.
Дворцы по бокам. Точно сена стога,
В соломе, под снегом, стоят изваянья.
Большая часовня с крестом золотым,
Античного стиля портал, и за ним —
Дворец итальянский под кровлею плоской,
А рядом японский, китайский киоски.
Екатерины классический век
Воздвиг и руины в классическом стиле.
На южных развалинах — северный снег.
Решеткой дома, как зверей, оградили,
Дома всех размеров и стилей любых,
Строения всякого вида и рода.
Но где же свое, самобытное, в них,
Где нации гений, где сердце народа?
А зданья чудесны! Искусной рукой
Взнесен на болоте их каменный строй.
Для цезарей цирк воздвигали когда-то,
И золото в Риме струилось рекой,
А в этих снегах, чтоб дворцы и палаты
Воздвиглись на радость холопам царя,
Лились наших слез, нашей крови моря.
И сколько измыслить пришлось преступлений,
Чтоб камня набрать для огромных строений,
И сколько невинных убить иль сослать,
И сколько подвластных земель обобрать!
Слезами Украины они оплатили
И кровью литовской и польской земли
Все то, что сюда из Парижа ввезли,
Чем в Лондоне их магазины прельстили.
И моют в их замках шампанским паркет,
И модный его залоснил менуэт.
Но зданья пусты. Двор в столице зимой.
И мухи придворные радостным роем
Во след ему ринулись, к царским помоям.
В домах только ветер танцует шальной:
В столице вельможи, и царь их в столице.
В столицу стремит и кибитка свой бег.
Бьет полдень. Морозно, и падает снег.
А солнце уж к западу стало клониться.
Безжизненно светел и чист небосклон,
Ни тучки, ни облачка в бездне пустынной.
Все бледно и тускло, ни краски единой, —
Так взор замерзающих жизни лишен.
Но вот уже город. И в высь небосклона
Над ним воздымается город другой,
Подобье висячих садов Вавилона,
Порталов и башен сверкающий строй:..
То дым из бесчисленных труб. Он летит,
Он пляшет и вьется, пронизанный светом,
Подобен каррарскому мрамору цветом,
Узором из темных рубинов покрыт.
Верхушки столбов изгибаются в своды,
Рисуются кровли, зубцы, переходы,
Как в городе том, что, из марева свит,
Громадою призрачной к небу воспрянув,
В лазурь Средиземного моря глядит
Иль зыблется в зное ливийских туманов
И взор пилигримов усталых влечет,
Всегда недвижим и всегда убегает…
Но цепь загремела. Жандарм у ворот.
Трясет, обыскал, допросил — пропускает.
Петербург
{206}
С рожденья Рима, с древних дней Эллады
Народ селился близ жилья богов —
В лесах священных, у ручья наяды
Иль на горах, чтоб отражать врагов.
Так Рим, Афины, Спарта возникала.
Века промчались, готика пришла,
И замок стал защитою села,
Лачуги жались к башням феодала
Иль по теченью судоходных рек
Медлительно росли за веком век.
Бог, ремесло иль некий покровитель,
Вот кто был древних городов зиждитель.
А кто столицу русскую воздвиг,
И славянин, в воинственном напоре,
Зачем в пределы чуждые проник,
Где жил чухонец, где царило море?
Не зреет хлеб на той земле сырой,
Здесь ветер, мгла и слякоть постоянно,
И небо шлет лишь холод или зной,
Неверное, как дикий нрав тирана.
Не люди, нет, то царь среди болот
Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!»
И заложил империи оплот,
Себе столицу, но не город людям.
Вогнать велел он в недра плывунов
Сто тысяч бревен — целый лес дубовый,
Втоптал тела ста тысяч мужиков,
И стала кровь столицы той основой.
Затем в воза, в подводы, в корабли
Он впряг другие тысячи и сотни,
Чтоб в этот край со всех концов земли
Свозили лес и камень подобротней.
В Париже был — парижских площадей
Подобья сделал. Пожил в Амстердаме —
Велел плотины строить. От людей
Он услыхал, что славен Рим дворцами, —
Дворцы воздвиг. Венеция пред ним
Сиреной Адриатики предстала —
И царь велит строителям своим
Прорыть в столице Севера каналы,
Пустить гондолы и взметнуть мосты, —
И вот встают Париж и Лондон новый,
Лишенные, увы! — лишь красоты
И славы той и мудрости торговой.
У зодчих поговорка есть одна;
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.
Все улицы ведут вас по прямой,
Все мрачны, словно горные теснины,
Дома — кирпич и камень, а порой —
Соединенье мрамора и глины.
Все равно: крыши, стены, парапет,
Как батальон, что заново одет.
Языков и письмен столпотворенье
Вам быстро утомляетслух и зренье,
Афишам и таблицам счета нет:
«Сенатор и начальник управленья
При комитете польских дел, Ахмет,
Киргизский хан». А рядом, не хотите ль:
«Monsieur Жоко{207}, начальных школ смотритель,
Придворный повар, сборщик податей,
Играл в оркестре. Взрослых и детей
Парижскому акценту обучает».
Другая надпись миру сообщает:
«Миланец Джокко, поставщик колбас
Для царских служб, уведомляет вас,
Что в этом доме он откроет вскоре
Девичий пансион». А на заборе
Афиша:
«Пастор господин Динер{208},
Трех орденов имперских кавалер,
С амвона проповедует сегодня,
Что царь — наш папа волею господней,
И совести и веры господин —
Вас призывает, братья кальвинисты,
Социниане{209} и анабаптисты,
Признать закон всевышнего един
И, как велит вам император русский
И верный брат его — владыка прусский,
Отныне веру новую приняв,
Единой церкви соблюдать устав».
Вот вам «Игрушки», «Дамские наряды»,
«Кнуты».
Мелькают магазины, склады,
А на полозьях, быстры и легки,
Как призраки в волшебной панораме;
Проносятся бесшумно перед вами
Кареты, колымаги и возки.
Сидит на козлах бородач-возница,
Все в инее: армяк, усы, ресницы.
Кнут щелканет. А впереди возка
Несутся на конях два казачка
И гикают, дорогу расчищая.
Как от фрегата — белых уток стая,
Испуганный шарахается люд.
От стужи здесь не ходят, а бегут.
Охоты нет взглянуть, остановиться.
Зажмурены глаза, бледнеют лица.
Дрожат, стучат зубами, руки трут,
И пар валит из бледных губ столбами
И белыми расходится клубами.
Глядишь на них, и, право, мысль придет,
Что это ходят печи, не народ.
А по бокам толпящегося стада
Идут другие в два широких ряда,
Медлительно, как в праздник крестный ход,
Как по реке идет прибрежный лед.
И что им ветер или стужа злая —
Подумаешь, соболья вышла стая!
Метель, но кто заботится о том?
Ведь в этот час гуляет царь пешком,
А значит, все гуляют. Вот царица,
И фрейлины за нею по пятам.
Вот камергеры, рой придворных дам,
Всё — высокопоставленные лица.
Дистанции в рядах соблюдены —
Вот первые, потом вторые, третьи,
Как будто шулер кинул карты эти.
Те старше, те моложе, те красны,
А те черны, — король, валет иль дама.
Тем влево лечь, тем вправо, этим — прямо
По сторонам проспекта, по мосткам,
Покрытым облицовкой из гранита.
Все высшие чины увидишь там:
Иной идет — и ветру грудь открыта,
Пусть холодно, зато видны сполна
Его медали все и ордена.
Как толстый жук, ползет он и поклоном
Ответствует чиновным лишь персонам.
За ним гвардейский франт, молокосос,
Весь тонок, прям, подобен пике длинной,
Тугой ремень вкруг талии осиной.
За ним — чиновник. Позабыв мороз,
Глядит кругом, кому бы поклониться,
Кого толкнуть, пред кем посторониться,
И, пресмыкаясь, точно скорпион,
Пред старшими юлит и гнется он.
В средине — дамы, мотыльки столицы:
На каждой шаль и плащ из-за границы,
Во всем парижский шик, и щегольски
Мелькают меховые башмачки.
Как снег белы, как рак румяны лица.
Но двор отъехал. Время по домам.
К хозяевам, как челноки к пловцам,
Теснясь в морозном северном тумане,
Катят кареты, колымаги, сани.
И вот разъезд. Пустеет все кругом.
Последние расходятся пешком.
Иной в чахотке, кашляет, и все же
Соседу вторит: «Я доволен тоже!
Царя видал, с пажами поболтал,
И мой поклон заметил генерал».
Но чужеземцев кучка там гуляла.
Иной был весь их облик, разговор.
Они прохожих замечали мало,
Но каждый дом приковывал их взор.
Они на стены пристально глядели,
На кровли, на железо и гранит.
На все глядели, будто знать хотели,
Как прочно каждый камень здесь сидит.
И мысль читалась в их глазах унылых:
«Нет, человек его свалить не в силах!»
И десятеро прочь пошли, а там,
На площади, лишь пилигрим
{210} остался.
Зловещий взор как бы грозил домам.
Он сжал кулак и вдруг расхохотался,
И, повернувшись к царскому дворцу,
Он на груди скрестил безмолвно руки,
И молния скользнула по лицу.
Угрюмый взгляд был тайной полон муки
И ненависти. Так из-за колонн
На филистимлян встарь глядел Самсон.
Вечерний сумрак на челе суровом
Лежал недвижным гробовым покровом,
И мнилось — ночь, сменяющая день,
Покинув неба горние селенья,
На том лице промедлила мгновенье,
Чтоб над землей свою раскинуть тень.
Невдалеке стоял там и другой
{211},
Но не пришелец из чужого края,
А житель Петербурга молодой.
В тот самый вечер, нищих оделяя,
Встречал их всех приветом братским он,
Расспрашивал про их детей и жен.
Потом, простясь, он на гранит прибрежный
Облокотился и стоял, смотря
На темный город, на дворец царя, —
Смотрел не так, как пилигрим мятежный.
Он взоры опускал, издалека
Солдата распознав иль бедняка.
И, полон дум, воздел он к небу руки,
Как бы небесной горестью томим.
Так в бездны ада смотрит херувим,
И зрит народов неповинных муки,
И чувствует, что им страдать века,
Что в безутешной жажде избавленья
Сменяться долго будут поколенья
И что заря свободы не близка.
И часто в снег на берегу канала
Его слеза горячая стекала;
Но бог ведет слезам подобным счет,
И счастье он за каждую пошлет.
Был поздний час. И так они стояли,
Друг другу незнакомы и одни.
Но наконец опомнились они
И долго друг за другом наблюдали.
И подошел к скитальцу тот, другой,
И молвил: «Брат, ты, верно, здесь чужой.
Откуда ты, куда твоя дорога?
Приветствую тебя во имя бога.
Я сын христовой церкви и поляк.
Крест и Погоня
{212} — видишь, вот мой знак».
Но тот взглянул, не проронив ни слова,
И прочь пошел, в раздумье погружен.
И вспомнил незнакомца молодого
Лишь поутру, когда тревожный сон
Бежал с его очей. И думал он:
«Зачем ему вчера я не ответил?»
О, если бы его он снова встретил!
Та речь, тот голос был ему знаком.
И образ тот, как тень скользнувший мимо,
Запал так странно в душу пилигрима…
А может быть, все это было сном?
Памятник Петру Великому
{213}
Шел дождь. Укрывшись под одним плащом,
Стояли двое в сумраке ночном.
Один, гонимый царским произволом,
Сын Запада, безвестный был пришлец;
Другой был русский, вольности певец,
Будивший Север пламенным глаголом.
Хоть встретились немного дней назад,
Но речь вели они, как с братом брат.
Их души вознеслись над всем земным. —
Так две скалы, разделены стремниной,
Встречаются под небом голубым,
Клонясь к вершине дружеской вершиной,
И ропот волн вверху не слышен им.
Гость молча озирал Петров колосс,
И русский гений тихо произнес:
«Вершителю столь многих славных дел
Воздвигла монумент Екатерина.
На буцефала медный царь воссел,
И медный конь почуял исполина.
Но хмурит Петр нетерпеливый взор:
Хоть перед ним без края даль открыта,
Гиганту тесен родины простор.
Тогда за глыбой финского гранита
В чужой предел царица шлет баржи,
И вот скала, покорствуя царице,
Идет, переплывает рубежи
И упадает в северной столице.
Тут скакуну в веселье шпоры дал
Венчанный кнутодержец в римской тоге,
И вихрем конь взлетел на пьедестал
И прянул ввысь, над бездной вскинув ноги.
Нет, Марк Аврелий в Риме не таков
{214}.
Народа друг, любимец легионов,
Средь подданных не ведал он врагов,
Доносчиков изгнал он и шпионов.
Им был смирен домашний мародер,
Он варварам на Рейне и Пактоле
{215}Сумел не раз кровавый дать отпор, —
И вот он с миром едет в Капитолий.
Сулят народам счастье и покой
Его глаза. В них мысли вдохновенье.
Величественно поднятой рукой
Всем гражданам он шлет благословенье.
Другой рукой узду он натянул,
И конь ему покорен своенравный,
И, кажется, восторгов слышен гул:
«Вернулся цезарь, наш отец державный!»
И цезарь едет медленно вперед,
Чтоб одарить улыбкой весь народ.
Скакун косится огненным зрачком
На гордый Рим, ликующий кругом.
И видит он, как люди гостю рады,
Он не сомнет их бешеным скачком,
Он не заставит их просить пощады.
И дети близко могут зреть отца,
И мнится — ждет бессмертье мудреца
И нет ему на том пути преграды.
Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметает все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.
Так водопад из недр гранитных скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед.
Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?»
Смотр войска
Есть плац обширный
{216}, псарней прозван он,
Там обучают псов для царской своры.
Тот плац еще уборной окрещен,
Там примеряет царь свои уборы,
Чтоб, нарядясь в десятки батарей,
Поклоны принимать от королей.
С утра дворцовый раут предвкушая,
Пред зеркалом кокетка записная
За целый день не скорчит тех гримас,
Какие царь тут сделает за час.
Еще и саранчатником иные
Тот плац зовут, затем что, возмечтав
Опустошить пределы всех держав,
Там саранчу выводит царь России.
Еще тот плац зовут станком хирурга:
По слухам, точит царь на нем ножи,
Чтобы Европу всю из Петербурга
Проткнуть, перерезая рубежи,
В расчете, что смертельной будет рана
И прежде, чем разыщут лекарей,
Он, обескровив шаха и султана
{217},
Прирежет и сармата
{218} поскорей.
Еще зовут… но кончить не пора ли?
Плац этот власти смотровым назвали.
Сегодня смотр. На башне десять бьет.
Мороз — колючий. Но толпа густая
Все прибывает, площадь обрамляя,
Как темный берег — чашу светлых вод.
Любого пикой оттеснить готовы
Или нагайкой съездить по лицу,
Как над водою чайки-рыболовы,
Казаки заметались на плацу.
Вот из толпы, как жаба, вылез кто-то,
Хлестнула плеть — и он назад, в болото.
Внезапно, монотонный и глухой,
Как мерный стук цепов на риге дальней
Иль грохот молотков по наковальне,
Вдали раздался барабанный бой.
И вот — они! Мундир на всех зеленый,
Но черной массой движутся войска —
На белый плац, колонна за колонной,
Вливаются, как в озеро река.
Дай, Аполлон, уста мне ста Гомеров,
Дай языков парижских трижды сто,
Дай перья всех бухгалтеров — и то
Смогу ли всех исчислить офицеров,
Всю перебрать ефрейторскую рать
И рядовых героев сосчитать?
И как поймешь, герой ли, не герой ли?
Стоят бок о бок, точно кони в стойле.
И так однообразны их ряды,
Как в книге — строки, на поле — скирды,
На грядке — всходы конопли зеленой,
Как саженцы вдоль черной борозды,
Как разговоры, коими горды
Столицы русской модные салоны.
Я лишь скажу: иные москали
На четверть ростом прочих превзошли,
И у таких на шапке литер медный
Отсвечивает лысинкою бледной.
То — гренадеры. Я стоял вдали,
Но насчитал три взвода их. За ними,
Как огурцы под листьями большими,
Все, кто до мерки той не доросли,
Построились рядами, рота к роте.
Чтоб сосчитать полки в такой пехоте,
Быть зорким надо, как натуралист, —
Он выудил вам червячка в болоте
И без раздумий скажет: «Это глист».
Играют трубы — конница въезжает.
Тут всех мастей, цветов и форм игра,
Все яркое, все взоры поражает:
Папахи, шапки, каски, кивера.
Так на прилавке шапочник с утра
Раскладывает свой товар. Гусары,
Драгуны, кирасиры, полк улан —
Все блещут медью, словно самовары,
И снизу — морда конская, как кран.
Отличий много есть у каждой части,
Но отличать — верней по конской масти.
Таков обычай русский испокон,
Таков и новой тактики закон.
Сам Жомини
{219} признал его всецело,
Сказав: не всадник — конь решает дело.
В России ценят издавна коней;
Гвардейский конь солдатского ценней,
За трех солдат идет он при расчете,
А офицерский, тот совсем в почете:
В одной цене с ним писарь, брадобрей
Иль гармонист, а в дни худые — повар, —
Как постановит полюбовный сговор.
Казенных кляч, возящих лазарет,
Которые стары, худы и слабы,
Таких на карту ставят, — споров нет:
Цена за клячу — две хороших бабы.
К полкам вернемся. Въехал вороной,
За ним буланый, два мышастых, чалый,
За ними — белый, точно снег подталый,
Потом гнедой, потом опять гнедой,
Гнедой англизированный, соловый,
Полк меринов, полк с меткой между глаз,
Бесхвостый полк, согласно моде новой.
Всего их шло тринадцать в этот раз.
Потом вкатили пушек три десятка
Да ящиков — на вид десятков шесть.
Чтоб их точней в одну минуту счесть,
Нужна наполеоновская хватка
Или, по крайней мере, твой талант,
Начальник склада, русский интендант:
В любом строю, чуть глянув острым глазом,
Ты их число угадываешь разом
И знаешь, сколько и какую часть.
Патронов удалась тебе украсть.
Уже мундиры площадь покрывают,
Вы скажете: как зелень — вешний луг.
Кой-где зарядный ящик поднимают,
Он тоже зелен, как болотный жук
Иль клоп лесной, на лист похожий цветом.
А рядом — пушка со своим лафетом.
Топорщится, чернея, как паук.
У паука, одетые в мундиры,
Две пары задних, две — передних ног:
Те — канониры, эти — бомбардиры.
Когда паук, уснув на краткий срок,
Стоит недвижно и не ждет тревоги, —
Покинув брюхо, бродят эти ноги,
И брюхо повисает пузырем.
И вот приказ, — и, будто грянул гром,
Очнулась пушка от недолгой лени.
Так, разомлевший на песке степном,
Тарантул, вдруг настигнутый врагом,
То сдвинет ноги, то согнет колени,
Встопорщится, закружится волчком,
Сучит ногами, морду задевая;
(Вот так же, угостившись мышьяком,
Хлопочет муха, рыльце обмывая), —
Передние две ножки подогнет,
Напружится, трясет и вертит задом,
Откинет ножки вбок, на миг замрет
И, наконец, смертельным брызнет ядом.
Внезапно все застыло в тишине.
Царь едет, царь! В кортеже генералы,
Полк адъютантов, старцы-адмиралы,
Но первым — царь на белом скакуне.
Кортеж причудлив. Те желты, те сини,
Нет счета лентам, ключикам, звездам,
Портретикам, и пряжкам, и крестам.
Так на ином заправском арлекине
Побольше пестрых насчитаешь блях,
Чем пуговиц на куртке и штанах.
Любой блестящ и горд, но вся их сила
В улыбке государевых очей.
Нет, эти генералы — не светила,
А светлячки Ивановых ночей;
Иссякнет царских милостей поток, —
И, смотришь, гаснет жалкий червячок.
Он не бежит служить в чужой пехоте,
Но где влачит он век? В каком болоте?
Сраженья генерала не страшат:
Что пули, раны, если царь доволен!
Но если был неласков царский взгляд,
Герой дрожит, герой от страха болен.
Пожалуй, чаще стоика найдешь
Среди дворян: хоть скверное почует,
Не сляжет он, не всадит в горло нож,
А только в свой удел перекочует,
В деревню — и письмишки застрочит,
Тот — камергеру, тот — придворной даме,
А либерал снесется с кучерами,
И смотришь, он уж снова фаворит.
Так, выкинь пса в окно — он разобьется,
А кот мяукнет, вмиг перевернется,
На лапки мягко станет и потом
Найдет дыру и вновь пролезет в дом.
А стоик, вольнодумничая тихо,
В деревне ждет, пока минует лихо.
Мундир зеленый с золотым шитьем
Был на царе. Рожденный солдафоном,
Он сросся с облачением зеленым —
Растет, живет и даже тлеет в нем.
Едва на ножки стал наследник царский,
Ему приносят пушечку и кнут,
Игрушечную сабельку дают,
Рядят в мундир казацкий иль гусарский;
И сабелькой по кубикам водя,
Как войско, их выстраивает в слоги
Иль такт, в танцклассе упражняя ноги,
Отхлестывает кнутиком дитя.
А подрастет — есть новая забава:
Солдат набрать, из них составить рать,
Потом рычать «налево» и «направо»,
Скликать на смотр и плетью муштровать.
Вот почему Европа их боится,
Ведь каждый царь воспитывался так.
Старик Красицкий
{220} прав: как говорится,
Мудрец докажет, разобьет дурак.
Самим Петром — ему за это слава —
Открыта царепедии
{221} забава:
Величием облек он царский трон,
Недаром был Европой просвещен.
Сказал он: «Русских я оевропею,
Кафтан обрежу, бороду обрею».
Сказал — и мигом, как французский сад,
Подрезаны кафтанов княжьих полы;
Сказал — и бороды бояр летят,
Как листья в ноябре, и лица голы.
Кадетский корпус дал дворянам он,
Дал штык ружью, настроил тюрем новых,
Ввел менуэт на празднествах дворцовых,
Согнал на ассамблеи дев и жен.
На всех границах насажал дозорных,
Цепями запер гавани страны,
Ввел откуп винный, целый штат придворных,
Сенат, шпионов, паспорта, чины.
Умыл, побрил, одел в мундир холопа,
Снабдил его ружьем, намуштровал, —
И в удивленье ахнула Европа:
«Царь Петр Россию цивилизовал!»
Он завещал наследникам короны
Воздвигнутый на ханжестве престол,
Объявленный законом произвол
И произволом ставшие законы,
Поддержку прочих деспотов штыком,
Грабеж народа, подкуп чужеземцев,
И это все — чтоб страх внушать кругом
И мудрым слыть у англичан и немцев.
Но дайте срок, француз, германец, бритт!
Когда начнут вас потчевать кнутами,
Когда указы зажужжат над вами,
Когда ваш край пожаром загудит
(О, разве это выразить словами!),
Когда вам царь прикажет обожать
Мундир, этап, Сибирь, остроги, плети, —
С какою песней вы и ваши дети
Царю восторг придете выражать?
Влетает царь, как палка в городки,
Здоровается с войском для начала.
«Здравья желаем!» — шепчут все полки,
И точно сто медведей зарычало.
Царем сквозь зубы брошенный приказ
Мячом несется в губы коменданта,
Из уст в уста, все дальше, и как раз
Доносится до крайнего сержанта.
И по рядам нестройный гул прошел,
Штыки блеснули, сабли засверкали.
Вы кашеварный видели котел,
Коль на линейном крейсере бывали:
Валят пшено — бочонков шесть туда,
Шипя, хрипя, работают насосы,
Рекою шумной хлынула вода,
И, чтоб варилась весело бурда,
Ее мешают веслами матросы.
Еще стократ бурливее котла
Французская палата депутатов,
Когда проект комиссия внесла
И наконец подходит час дебатов,
А уж Европе подвело живот,
И на обед она свободы ждет.
Крик начался. Один в потоп словесный
Спешит облечь свой либеральный пыл;
Тот вспомнил вольность, а народ забыл;
Тот веру славит. Некий неизвестный,
О страждущих народах говорит,
Царя и разных королей корит.
Ему ответом — гул весьма нелестный.
Орут: «К порядку болтуна призвать!»
Вдруг настежь дверь. Министр финансов входит,
Держа в руках огромную тетрадь,
И канитель на три часа заводит:
Долги, кредит, учет, переучет,
Проценты, сборы, пошлины, доход.
Послушали — и загалдели снова,
Шумят, как шторм, не разобрать ни слова.
Народы уж готовы ликовать,
Правительства поджали хвост в тревоге,
А речь идет… всего лишь о налоге.
Так вот — кому случилось побывать
На депутатских прениях в Париже
Иль кашеварню посмотреть поближе,
Поймет, какой раздался шум и гам,
Когда приказ разнесся по полкам.
Три сотни барабанов затрещали,
И, как весной расколотые льды,
Пехотные расстроились ряды,
Колоннами сошлись — и зашагали.
Крик командиров, барабанный гром…
Царь — будто солнце, рой планет кругом, —
То цепью полк проходит за полком.
Царь выпускает стадо адъютантов,
Как свору псов иль стаю воробьев, —
Летят, кричат, своих не слыша слов,
Им вторит крик полковников, сержантов,
Оружья звон и грохот музыкантов.
И вдруг, полки собрав в единый ряд,
Сомкнулась кавалерия стеною,
За ней громадой поползла стальною
Пехота, как размотанный канат.
Потом пошли фигуры, повороты,
Вот конница лавиной в семь полков
Во весь опор несется в тыл пехоты, —
Так свора псов, трубы заслыша рев,
Летит к медведю, что, зажат в капкане,
Стоит, бессильно корчась, на поляне.
А вот пехота сдвоила ряды
И словно ощетинилась штыками, —
Так еж топорщит иглы в час беды.
Вот конница тринадцатью полками
Летит навстречу скрытому врагу
И застывает вдруг на всем скаку.
И долго там шагали и скакали,
И пушки взад-вперед передвигали,
По-русски, по-французски всех ругали,
Под стражу брали, по шеям давали,
С коней слетали, головы ломали,
И, наконец, монарха поздравляли.
Предмет велик, и важен, и богат,
Певца его бессмертье ждет, нет спора;
Но муза гаснет, как в песке снаряд,
Под кучей прозаического сора.
И как Гомер, поющий спор богов,
Заснуть на полуслове
{222} я готов.
Но наконец проделал царь с войсками
Все то, о чем слыхал или читал.
И, как прибрежный отбегает вал,
Шумя, стуча замерзшими ногами,
Расходится и тает круг зевак,
Ряды тулупов, кожухов, сермяг:
Озябнув, любопытство утомилось —
А во дворце роскошный стол готов.
На завтрак иностранных ждут послов,
Что, покупая царственную милость,
Чуть свет встают, презрев мороз и лень,
Чтобы на смотр являться каждый день
И повторять в восторге: «Дивно! дивно!»
Царя все гости хвалят непрерывно,
Кричат, что в мире лучший тактик он,
Что полководцев он собрал могучих,
Что воспитал солдат он самых лучших,
Что царь — пример монархам всех времен,
И, пресмыкаясь перед царским троном,
Смеются над глупцом Наполеоном,
А между прочим, на часы глядят, —
Скорей бы, мол, кончалась эта мука.
Мороз под тридцать. Все уж есть хотят,
Всем челюсти зевотой сводит скука.
Но царь еще раз отдает приказ.
И вновь полкам — буланым, серым, бурым —
Приходится вертеться по сто раз,
Шагать, скакать неистовым аллюром,
Смыкаться иль растягиваться шнуром,
Раскидываться веером опять
Иль ждать атаки, строй сомкнув стеною.
Так старый шулер часто сам с собою
За стол садится — карты тасовать,
Раскладывать и смешивать, сдавать,
Как будто жадной окружен толпою.
Но, видно, стало и царю невмочь —
Он повернул и вдруг поехал прочь.
И на ходу застывшие колонны
Стояли долго, брошены царем.
Но наконец раздался трубный гром,
И двинулись, качнувшись, пеший, конный,
Ряды, ряды — кто сосчитает их? —
Вползли в ущелья улиц городских,
Ни в чем не уподобясь тем потокам,
Что с диким ревом, мутны и грязны,
Свергаются с альпийской вышины,
Чтоб в озере прозрачном и глубоком
Свои очистить волны, отдохнуть
И дальше, средь сияющей природы,
Спокойно мчать смарагдовые воды,
В цветущий дол прокладывая путь.
Блестящий, свежий, будто снег нагорный,
Вливался утром каждый полк сюда,
А выходил усталый, потный, черный,
Грязнее в грязь растоптанного льда.
Плац опустел. Ушли актер и зритель.
На площади чернеют здесь и там
Убитые. На этом белый китель:
Улан. Другой разрезан пополам,
И кто, кем был он? В грязь одежда вбита,
И размозжили голову копыта.
Один замерз и так стоит столбом, —
Полкам он здесь указывал дорогу.
Другой в шеренге сбил со счета ногу
И, по лбу ошарашен тесаком,
Пал замертво. Жандармы на носилки
Его швырнут, и в яме гробовой
Очнется среди мертвых он, живой.
Вот снова труп — с проломом на затылке.
Другой раздавлен пушкой. Нет руки.
И на снегу распластаны кишки,
Упав, он, колесом уже прижатый,
От боли трижды страшно закричал,
Но капитан взревел: «Молчи, проклятый!
Молчи, здесь царь!» И что ж, он замолчал.
Солдатский долг — послушным быть приказу.
Плащом закрыли раненого сразу:
Ведь ежели случайно на смотру
Заметит царь такой несчастный случай,
Увидит кровь и мясо — туча тучей
Потом он приезжает ко двору.
Там для придворных стол уже накрыт, —
А у царя испорчен аппетит.
Зато последний раненый немало
Всех удивил. Угрозами взбешен,
Бранился, не боясь и генерала,
А на царя проклятья сыпал он.
И люди, слыша крики, за парадом
Несчастных жертв следили скорбным взглядом.
Скакал — передавали — стороной
С приказом отделенному связной,
Но конь вдруг стал — и далее ни шагу.
А сзади мчался целый эскадрон.
Лавиной так отбросило беднягу,
Что под копыта камнем рухнул он.
Но, видимо, коням знакома жалость:
Они не люди. Пять полков промчалось,
Но лишь одним он был задет конем —
Подковою плечо ему сломало.
Прорвав мундир зеленый острием,
Белела кость кровавая. Сначала —
От боли белый сам, — как говорят,
Надолго впал в беспамятство солдат.
Потом очнулся, поднял к небу руку
И хоть терпел неслыханную муку,
Но приподнялся из последних сил
И звал к чему-то, что-то говорил.
Чего хотел он? Люди разбежались,
Затем что царских сыщиков боялись,
И все ж народ рассказывал потом,
Что говорил по-русски он с трудом,
Что слово «царь» он повторял стократно,
А остальное было непонятно.
И слух пошел, что это был литвин
Или поляк и, видимо, богатый.
Быть может, князя или графа сын.
Что был из школы силой взят в солдаты,
Потом попал в кавалерийский полк;
Ему полковник, невзлюбив поляка,
Дал дикого степного аргамака, —
Пускай свернет, мол, шею лях-собака!
Однако вскоре слух о нем замолк,
Его забыли, имени не зная.
Но помни, царь, придет пора иная.
И будет суд над совестью твоей,
И он предстанет там, окровавленный,
Меж тех, кого ты гнал сквозь строй зеленый,
Иль растоптал копытами коней,
Иль в шахты бросил до скончанья дней.
Над площадью кружился утром снег.
Выл где-то близко пес. Сбежались люди
И мерзлый труп отрыли в снежной груде.
Он после смотра там обрел ночлег.
Под скобку стрижен, борода густая,
Плащ форменный и шапка меховая, —
На вид полу-солдат, полу-мужик,
То, верно, офицерский был денщик,
Стерег несчастный шубу господина
И люто мерз. Хотя крепчал мороз,
Уйти не смел он. Снег его занес.
К утру он бездыханен был, как льдина,
И мертвого нашел здесь верный пес.
Хоть замерзал, но не надел он шубы.
Заиндевели смерзшиеся губы.
И был залеплен снегом глаз один.
Другой еще глядел остекленело
На площадь — не идет ли господин.
Терпенью слуг российских нет предела:
Велят сидеть — не встанет никогда
И досидит до Страшного суда.
Он мертв, но верен барину доселе
И держит шубу барскую рукой.
Погреть пытался пальцы на другой,
Но, видно, пальцы так закостенели,
Что их под плащ просунуть он не мог.
А где же барин? Так он осторожен
Иль так он черств, что даже не встревожен
Тем, что слуга исчез на долгий срок?
То был недавно прибывший в столицу
Заезжий офицер, как говорят.
Пришел он не по долгу на парад,
А чтоб мундиром новым похвалиться.
С парада, верно, зван был на обед,
Затем побрел ночной красотке вслед,
Иль, забежав к приятелю с поклоном,
Забыл бородача за фараоном,
Иль шубу с ним оставил для того,
Чтоб не могли знакомые глумиться:
Мол, офицер, а холода боится,
Ведь не боится русский царь его!
Чтоб не сказали: «В шубе! На параде!
Он либерал! Он вольнодумства ради
Ее надел!» Несчастный ты мужик!
Такая смерть, терпение такое —
Геройство пса, но, право, не людское.
Твой барин скажет: «То-то был денщик!
Верней собаки был!» — и усмехнется.
Несчастный ты мужик! Слеза течет
При мысли о тебе, и сердце бьется…
Славянский обездоленный народ!
Как жаль тебя, как жаль твоей мне доли!
Твой героизм — лишь героизм неволи.
День перед петербургским наводнением, 1824
Олешкевич
Морозом лютым небо пламенело
{223},
Но вдруг померкло, из конца в конец
Покрылось пятнами и посинело.
Так близ огня — промерзнувший мертвец
Не оживет, но, жар вобрав мгновенно,
Обдаст живых дыханьем смрадным тлена.
Мороз упал. Миражем ледяным
Над кровлями раскинувшийся дым —
Воздушный город, замок великана —
Повис, обмякнув, клочьями тумана
И, в испареньях теплых растворясь,
Покрыл столицу белою завесой.
Снег начал таять. В темноте белесой
На улицах, как Стикс, чернела грязь.
Полозья сняты, вмиг исчезли сани,
Колеса вновь гремят по мостовой.
Карету за аршин перед собой
Не разглядишь во мраке и в тумане.
Лишь огоньком, скользящим средь болот,
От фонарей чуть видный луч мелькнет.
Был поздний вечер. Над Невою сонной
Гуляли снова те же. В этот час
Пустеет все. Шпион не встретит вас,
Да и чиновник вам своей персоной
Пейзаж не портит. Разговор вели
Они на языке чужой земли.
Порой чужую песню напевали,
Порой, шаги замедлив, озирали
Окрестность — нет ли сыщика вдали?
Береговой гранит вздымался хмуро,
Как скалы в Альпах. Только на песке,
Где спуск ведет ступенями к реке,
Чернела одинокая фигура.
У самых вод мужчина с фонарем
Стоял, неверным освещен огнем.
Не сыщик ли? Но что ж глядит он в воду?
Иль перевозчик? Но спроси природу:
Возможно ль через лед переплывать?
Рыбак? Но с ним лишь книги да тетрадь.
Приблизились. Но он не обернулся,
Он вытянул веревку из воды,
Пересчитал на ней узлы, нагнулся
И записал каких-то цифр ряды
В свою тетрадь, как будто вычисляя,
Как велика здесь глубина речная.
Свет фонаря, от книги отражен,
Упал на льды мерцанием блестящим,
И в том луче казался желтым он,
Как облако над солнцем заходящим.
Лицом красив и благородно строг,
Листал он том старинный в увлеченье.
Не слышать подошедших он не мог,
Но продолжал, не отрываясь, чтенье,
Лишь руку молча поднял в знак того,
Что просит их не отвлекать его.
И это было так необычайно,
Что путники, хоть на устах у всех
Уж был вопрос, прервали шепот, смех,
И смолкли все, как бы смутившись тайно.
Но вдруг один воскликнул: «Это он!»
Кто — он? Поляк, художник. Но без дела
Лежит его палитра. Он всецело
В науку чародейства погружен,
И Каббалу он знает. Ходят слухи,
Что запросто беседуют с ним духи.
Тут чародей захлопнул книгу, встал,
Сложил листки и, глядя вдаль, сказал:
«С восходом солнца день чудес настанет,
Вслед за второю третья кара грянет.
Господь низверг Ассура древний трон,
Господь низверг развратный Вавилон,
Но третьей пусть мои не узрят очи».
И, глаз не подняв, не взглянув кругом,
Он осветил ступени фонарем,
Взошел по ним и скрылся в мраке ночи.
Никто не понял смысла тех речей, —
Кто засмеялся, кто нахмурил брови.
Один вскричал: «Шутник ваш чародей!»
Река шумела, ветер стал суровей,
И, постояв немного над Невой,
Продрогли все и побрели домой.
Но был один. Он в странном нетерпенье
По лестнице взошел почти бегом,
Хотел догнать поляка. В отдаленье
Мерцал фонарь болотным огоньком.
Хотя в лицо не видел чародея,
Что говорили — не дослушал он,
Но, предсказаньем темным потрясен,
Смирить свое волненье не умея,
Хотел понять загадку пилигрим
И мчался в ночь по скользким мостовым.
Он вспомнил голос тот. Во тьме глубокой
Дразнящий луч порой то словно гас,
То, загоревшись точкой одинокой,
Мерцал опять. Так длилось добрый час.
И вдруг он стал на площади широкой.
И пилигрим идет быстрей, быстрей,
Нагнал, — на груде сваленных камней
Стоит художник без плаща, без шляпы.
Рука подъята ввысь. Луч фонаря
Направлен прямо на дворец царя.
Дворец заснул. Спят царские сатрапы.
Но он глядит на угол, где окно,
Одно окно еще освещено,
Глядит, пытливых глаз не отрывая,
И словно богу молится. И вдруг
Заговорил онсам с собою вслух:
«Царь! Ты не спишь! Повсюду ночь глухая,
Уже давно твои вельможи спят,
Лишь ты в окно вперил бессонный взгляд.
В великом милосердье всемогущий
Ниспосылает ангела к тебе,
Чтоб ты помыслил о своей судьбе,
Затрепетал пред карою грядущей.
Ты сон зовешь. Не раз во сне с тобой
Беседовал хранитель ангел твой.
И был ты чужд и злобе и гордыне,
Но низко пал, тиранство возлюбя,
Твой ангел отступился от тебя,
И стал добычей дьявола ты ныне.
Ты, как виденье, как ненужный бред,
Забыть стремишься ангела совет.
Сегодня льстец тебя как бога славит,
Но завтра сатана тебя раздавит…
Жильцы лачуг — ничтожный, мелкий люд —
Допрежь высоких кару понесут.
Так молния страшней на горных скатах
Или на башнях в шумный час грозы,
А меж людей, казня невиноватых,
Она скорей в людские бьет низы…
В разврате, в пьянстве, в роскоши блестящей
Погрязли вы и спите крепким сном,
Забыв, что завтра грянет божий гром,
Как тот стрелок, что бродит в сонной чаще
И зверя бьет без выбора, пока
Не узрит вепря в гущах дубняка.
Я слышу: словно чудища морские,
Выходят вихри из полярных льдов.
Борей уж волны воздымать готов
И поднял крылья — тучи грозовые,
И хлябь морская путы порвала,
И ледяные гложет удила,
И влажную подъемлет к небу выю.
Одна лишь цепь еще теснит стихию,
Но молотов уже я слышу стук…»
Тут он заметил слушателя вдруг,
Задул свечу и поглощен был мраком, —
Исчез, как то видение, что нас
Ошеломляет в некий странный час,
Очам блеснув неведомого знаком.
Конец отрывка.
Русским друзьям
Этот отрывок
русским друзьям посвящает автор
{224}
Вы помните ль меня? Среди моих друзей,
Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых,
Сыны чужой земли! Вы также с давних дней
Гражданство обрели в моих заветных думах.
О где вы? Светлый дух Рылеева погас, —
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что, братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!
Нет больше ни пера, ни сабли в той руке,
Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев.
С поляком за руку он скован в руднике,
И в тачку их тиран запряг, обезоружив.
Быть может, золотом иль чином ослеплен,
Иной из вас, друзья, наказан небом строже:
Быть может, разум, честь и совесть продал он
За ласку щедрую царя или вельможи.
Иль деспота воспев подкупленным пером,
Позорно предает былых друзей злословью,
Иль в Польше тешится награбленным добром,
Кичась насильями, и казнями, и кровью.
Пусть эта песнь моя из дальней стороны
К вам долетит во льды полуночного края.
Как радостный призыв свободы и весны,
Как журавлиный клич, веселый вестник мая.
И голос мой вы все узнаете тогда:
В оковах ползал я змеей у ног тирана,
Но сердце, полное печали и стыда,
Как чистый голубь, вам вверял я без обмана.
Теперь всю боль и желчь, всю горечь дум моих
Спешу я вылить в мир из этой скорбной чаши,
Слезами родины пускай язвит мой стих,
Пусть, разъедая, жжет — не вас, но цепи ваши.
А если кто из вас ответит мне хулой,
Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый
И рвется искусать, любя ошейник свой,
Те руки, что ярмо сорвать с него готовы.
Объяснения
К III части «Дзядов»
Слова,
чин, чиновник часто употребляются здесь в их русском значении, понятном только для литвинов. В России, дабы не быть крестьянином или купцом, иначе говоря, чтобы обладать привилегиями, освобождающими от наказания кнутом, нужно поступить на правительственную службу и приобрести так называемый
класс, или
чин. Чиновничья служба делится на четырнадцать классов; для перехода из одного класса в другой необходимо служить несколько лет. Для получения того или иного чина полагается сдать различные экзамены, что напоминает формальности, существующие в иерархии мандаринов в Китае, откуда, как кажется, перешло в Россию через монголов и самое слово чин. Петр Первый угадал значение этого слова и учредил целый чиновничий институт в истинно китайском духе. Зачастую чиновник не является должностным лицом, а только ожидает получения должности и имеет право ее добиваться. Каждый класс, или чин, соответствует определенному военному званию: так, например, доктор философии или медицины состоит в восьмом классе и имеет звание майора, или чин
коллежского асессора; капитанское звание имеет фрейлина или придворная статс-дама; епископ или архиерей являются генералами. Между высшими и низшими чиновниками отношения подчиненности и послушания соблюдаются с такой же строгостью, как в армии.
…Как на восток летят кибитка мимо нас. — Фельдъегери, или царские «полевые охотники», нечто вроде жандармов; они охотятся главным образом за лицами, находящимися на подозрении у правительства. Обычно они ездят в
кибитках, то есть деревянных возках без рессор и железных частей, узких, плоских, высоких спереди и низких сзади. Байрон вспоминает об этих возках в своем «Дон-Жуане». Фельдъегерь появляется обычно ночью и стремительно увозит подозреваемую особу, никогда не сообщая, куда он ее доставит. Кибитка фельдъегеря снабжена почтовым колокольчиком. Кто не жил в Литве, тот с трудом может представить себе, какой страх охватывает жителей того дома, у ворот которого зазвенит почтовый колокольчик.
…Спросил у пинчука… — В Литве пинчуками народ называет жителей болотистой округи Пинска.
…На свежем воздухе он задохнется вмиг. — Узники, долгое время находившиеся в заключении, испытывают, выходя на свежий воздух, чувство настоящего опьянения.
На новоселье плач — недобрая примета. — Новосельем (inkrutowiny) называется праздник, который справляет хозяин, поселяющийся в новом доме.
…каждый пункт, ей-ей, //
Теперь сенатского указа мне ясней. — В России притчей во языцех сделалась темнота сенатских указов. Обычно судебные постановления и приговоры умышленно составляются таким образом, чтобы их можно было толковать как угодно, возбуждая новые дела. Это делается в интересах сенатских канцелярий, получающих огромные доходы от судебных процессов.
Коллежский регистратор — один из самых низших чинов. Виды и разряды советников весьма различны, как, например: советники титулярные, коллежские, тайные, действительные. Некий русский острослов заметил, что чин действительного тайного советника является тройным обманом, ибо его носитель ничего не советует, не знает ни одной тайны и обычно бывает самым недействительным созданием на свете. Шел как-то разговор о некоем чиновнике, которого назвали «добрым человеком». «Назовите его лучше «добрым малым», — сказал этот же острослов. — Разве чиновник может быть человеком, пока он остается коллежским регистратором? Для того чтобы в России быть человеком, необходимо иметь, по крайней мере, чин статского советника».
Детей в тюрьму сажает, // А нам велит лететь на бал! — Правительственное приглашение на бал является в России приказом, особенно, если бал дается по случаю дня рождения, именин, бракосочетания и т. д. царя или особ царской фамилии, или же какого-нибудь высшего начальствующего лица. В таких случаях человек, в чем-либо подозреваемый или находящийся на плохом счету, не явившись на бал, подвергает себя серьезной опасности. В России бывали случаи, когда родственники заключенных или осужденных на виселицу появлялись на придворных балах. В Литве Дибич
{225}, выступая против поляков, а Храповицкий, бросая в тюрьмы и истребляя повстанцев, приглашали польское общество на балы и праздники, устраивавшиеся по случаю побед. Затем подобные балы описываются в газетах как свидетельства добровольных изъявлений безграничной любви подданных к наилучшему и наимилостивейшему монарху.
Быть может, Ермолов жандармами схвачен? — В России существует уверенность в том, что царь может схватить и увезти в кибитке любого иноземного государя. И действительно, мы не знаем, что бы ответили в некоторых странах фельдъегерю, который явился бы с подобной целью. Впрочем, Новосильцев часто повторял: «Не будет мира до тех пор, пока мы не заведем в Европе такой порядок, при котором наш фельдъегерь мог бы с равной легкостью исполнять одни и те же приказы в Вильно, в Париже и в Стамбуле». Лишение генерала Ермолова, имя которого было очень популярно, власти в Грузии считалось более важным событием, чем победа над каким-нибудь мелким европейским корольком. Этому образу мыслей русских не следует удивляться. Вспомним, что его высочество принц Вюртембергский
{226}, осаждая с союзными войсками Данциг, писал генералу Раппу
{227}, что русский генерал равен королю и мог бы носить королевский титул, будь на то царская воля. См. Записки генерала Раппа.
И золото в Риме струилось рекой. — Эти слова произнес король готов, увидав в первый раз римский Колизей.
А солнце уж к западу стало клониться. — В зимнее время в Петербурге темнеет уже в третьем часу дня.
…То дым из бесчисленных труб. — Дым в северных городах, во время мороза, поднимаясь к небу фантастическими узорами, создает зрелище, подобное явлению, именуемому
миражем, которое обманывает плавающих на морях и путников в песках Аравии. Мираж представляется то городом, то деревней, то озером или оазисом; все предметы видимы весьма ясно, но приблизиться к ним невозможно, они держатся все время на равном расстоянии от глаз путешественника и наконец исчезают.
…Где жил чухонец… — Финны, по-русски называемые чухонцами или чудью, жили на болотистых берегах Невы, где впоследствии был основан Петербург.
…Свозили лес и камень подобротней. — У многих историков можно найти описание основания и строительства Петербурга. Известно, что жителей для этой столицы свозили насильно и что более ста тысяч их погибло во время ее постройки. Гранит и мрамор доставлялись морем из дальних краев.
…Единой церкви соблюдать устав — Вероисповедания, отпавшие от католической церкви, пользуются особым покровительством в России прежде всего потому, что представители их с легкостью переходят в греческую веру, следуя примеру немецких князьков и принцесс; а затем и потому, что пасторы являются лучшей опорой деспотизма, внушая людям слепое послушание светской власти, даже в делах совести, за решением которых католики обращаются к церкви Известно, что аугсбургское и женевское вероисповедания по указу прусского короля соединились в одну церковь.
…И пар валит из бледных губ столбами… — Выходящий изо рта во время сильных морозов пар имеет вид столба, высотою часто в несколько локтей.
…Воздвигла монумент Екатерина… — На памятнике Петра имеется надпись: «Petro Primo Catharina Secunda» [ «Петру Первому Екатерина Вторая»].
…И упадает в северной столице. — Этот стих переведен из одного русского поэта
{228}, имени которого я не помню.
…
И нет ему на том пути преграды. — Колоссальный конный памятник Петра и статуя Марка Аврелия, находящаяся в Риме в Капитолии, описаны здесь верно.
…Гвардейский конь солдатского ценней… — Кони русской кавалерии очень красивы и дорого стоят. За солдатского гвардейского коня платят часто несколько тысяч франков. Взрослого человека высокого роста можно купить за тысячу франков. Женщин во время голода в Белоруссии продавали в Петербурге по двести франков. Со стыдом следует признать, что некоторые польские паны в Белоруссии поставляли этот товар.
…
Тарантул, вдруг настигнутый врагом… — Тарантул — род больших ядовитых пауков, водящихся в степях южной России и Польши.
Так на ином заправском арлекине //
Побольше пестрых насчитаешь блях… — Российских орденов разных классов, в том числе царских вензелей и так называемых «пряжек», получаемых за выслугу лет, насчитывается до шестидесяти. Иной раз на одном мундире блестят двадцать знаков отличия.
…Не сляжет он, не всадит в горло нож… — Не столь давно один из придворных чинов зарезался, потому что на каком-то дворцовом торжестве ему было отведено более низкое место, чем это полагалось по иерархии. Он был Вателем чиновничества
{229}.
…Отхлестывает кнутиком дитя. — Портрет наследника цесаревича можно видеть в петербургской картинной галерее Эрмитажа. Художник, англичанин Доу
{230}, изобразил его ребенком в гусарском мундире с хлыстом в руках.
Олешкевич — художник, известный в Петербурге своею добродетелью, глубокими познаниями и мистическими пророчествами. См. его некролог
{231} в петербургских газетах 1830 года.

«Конрад Валленрод»
Пан Тадеуш
Перевод С. Мар (Аксеновой)
Или последний наезд на Литве
Шляхетская история 1811–1812 годов
В двенадцати книгах стихами
{232}
Книга первая
Хозяйство
Возвращение панича. — Первая, встреча в комнатке, другая за столом. — Тонкие рассуждения Судьи об учтивости. — Политичные замечания Подкомория о модах. — Начало спора о Куцем и Соколе. — Сетования Войского. — Последний Возный трибунала. — Взгляд на тогдашнее политическое положение Литвы и Европы.
Отчизна милая, Литва! Ты как здоровье,
Тот дорожит тобой, как собственною кровью,
Кто потерял тебя. Истерзанный чужбиной,
Пою и плачу я лишь о тебе единой.
О матерь божия, ты светишь в Острой Браме,
Твой чудотворный лик и в Ченстохове с нами,
И в Новогрудке ты хранишь народ от бедствий,
Да ты ведь и меня спасла от смерти в детстве
{233}!
(Благодаря твоей божественной опеке
Я поднял мертвые, сомкнувшиеся веки
И сам сумел дойти до твоего порога,
За исцсленье сам благодарил я бога.)
Ты нас на родину вернешь, явив нам чудо,
Позволь душе моей перелететь отсюда
К лесам задумчивым, к зеленым луговинам,
Бегущим к Неману по склонам и долинам.
К полям расцвеченным, как будто бы расшитым
Пшеницей золотой и серебристым житом,
Где желтый курослеп в гречихе снежно-белой,
Где клевер покраснел, как юноша несмелый,
Все обвела межа своим простым узором,
И груши тихие кой-где стоят дозором.
Среди таких полей, на берегу холмистом,
Где пробегал ручей с журчаньем серебристым,
Шляхетский старый двор стоял в былые годы,
Скрывали тополя его от непогоды,
И стены за листвой зеленой, вырезною
Издалека еще светились белизною.
Уютный старый дом, и рига там большая,
И скирды перед ней — приметы урожая;
Не могут под стрехой все скирды поместиться,
Недаром славится литовская пшеница!
И видно по снопам, несметным и душистым,
Которые блестят, как звезды в небе чистом,
И по числу плугов, что пар ломают рано
Под озимь на нолях рачительного пана,
Взрыхленных хорошо, как в огороде грядки,
Что дом зажиточен, содержится в порядке,
А по распахнутым воротам Соплицова
Видать, что не найти гостеприимней крова.
Вот бричка въехала в раскрытые ворота,
И шляхтич, осадив коней у поворота,
На землю соскочил, а кони без надзора
Лениво доплелись до самого забора.
Все тихо во дворе и на пустом крылечке,
А на дверях засов и колышек в колечке.
Приезжий ждать не стал, пока придет прислуга,
Но снял засов и дом приветствовал, как друга.
Он не жил здесь давно: всё изучал науки
В далеком городе, где изнывал от скуки.
Теперь он радостно поглядывал на стены
И в комнатах искал глазами перемены.
Все та же мебель здесь расставлена в порядке,
Средь этих кресел он играл, бывало, в прятки.
Но меньше стали все знакомые предметы,
Как будто выцвели старинные портреты,
И на одном из них Костюшко вдохновенный,
Стоит в чемарке
{234} он, сжимая меч священный
{235},
Вот этим же мечом, перед святым подножьем,
Трех деспотов изгнать клялся он
{236} в храме божьем
Иль честно умереть. Вот Рейтан
{237} на портрете,
Без вольности былой не мыслит жить на свете:
Сверкает нож в руке, решенье непреклонно,
Раскрыты перед ним «Федон» и «Жизнь Катона»,
А вот задумчивый красавец наш Ясинский
{238}И Корсак, друг его, с отвагой исполинской,
В окопах яростно дерутся с москалями,
А Прага вся в дыму, угрюмо светит пламя.
Куранты старые стоят в тиши алькова;
Приезжий видит их и радуется снова,
Как в детстве, за шнурок он ухватился смело,
И вновь Домбровского мазурка загремела.
Стремглав помчался он по светлой галерее,
Желая детскую увидеть поскорее.
Вошел и отступил, — да что ж это такое?
Здесь, что ни говори, жилище не мужское!
Но дядя — холостяк, а тетушка в столице…
Не экономка — нет! — живет в такой светлице.
Откуда в комнату попало фортепьяно?
Уж не гостит ли здесь молоденькая панна?
Все пораскидано, уют небрежный сладок —
Знать, руки юные творили беспорядок!
Кто платье положил на кресло у постели,
Расправив бережно оборки и бретели?
Расставлены горшки с геранью по окошкам,
С петуньей, астрами, гвоздикой и горошком.
Приезжий поглядел в окно — и вот так диво!
У края сада, где была одна крапива,
Дорожки пролегли, и в зелени несмятой
Английская трава перемешалась с мятой,
Пятерки римские в плетне, а у калитки,
Как пестрая кайма, мерцают маргаритки.
Должно быть, политы недавно были грядки,
Вон лейка полная стоит у чистой кадки.
Но нет садовницы. Когда ж уйти успела?
Калитка все еще легонечко скрипела,
Задетая рукой. След узкой женской ножки,
Босой и маленькой, лег на песок дорожки.
На мелком и сухом песке белее снега
След легкий; угадать не трудно, что с разбега
Оставлен ножкою, которая, казалось,
Уж так легка была! Едва земли касалась.
Приезжий не сводил с пустой аллеи взгляда,
Вдыхая аромат, несущийся из сада;
Потом прильнул к цветам, стоящим на окошке,
А взором побежал по беленькой дорожке,
Разглядывал следы и все искал беглянку,
Которая в саду трудилась спозаранку.
Внезапно девушку увидел на заборе,
Простоволосую, в бесхитростном уборе,
Едва прикрыта грудь косынкой кружевною,
А плечи юные сверкают белизною.
Так одеваются в Литве удобства ради,
Но принимать гостей нельзя в таком наряде,
И, хоть не угрожал никто ее покою,
Стыдливо девушка прикрыла грудь рукою.
Гость видел завитки густых волос коротких,
Накрученных с утра на белых папильотках,
Струящих тихий блеск сиянья золотого,
Как золотистый нимб на образе святого.
Лица не разглядел: склонясь вполоборота,
Глазами девушка вдали искала что-то;
Нашла, захлопала в ладоши восхищенно,
Как птица сорвалась и понеслась с разгона
По зелени густой, по клумбам, через грядки,
И по доске в окно взбежала без оглядки,
Впорхнула в комнату с улыбкою лучистой,
Быстра, легка, светла, как месяц серебристый.
Схватила платьице и к зеркалу пустилась,
Увидя юношу, внезапно так смутилась,
Что, платье выронив, как вкопанная стала.
Лицо приезжего мгновенно запылало,
Как будто облако столкнулось с зорькой алой.
Глаза потупил он в молчании смущенном,
Хотел заговорить, но отступил с поклоном.
И вскрикнула в ответ молоденькая панна,
Как малое дитя кричит со сна нежданно.
Он поднял голову. Да где же незнакомка?
Ее и след простыл, лишь сердце билось громко,
А он и сам себе не отдавал отчета —
То ль радостно ему, то ль стыдно отчего-то.
Меж тем известие дошло до всех дворовых.
Что бричка привезла гостей каких-то новых,
И распрягли коней дворовые мгновенно,
Засыпали овса, не позабыли сена.
Коней не посылал к еврею пан Соплица,
Не мог он с новшеством подобным примириться!
И юношу в дверях не повстречали слуги,
Не потому, что, мол, зевали на досуге, —
Все ждали Войского, пока он наряжался,
Пока он ужином еще распоряжался.
В отсутствии Судьи, согласно просьбе пана,
Приветствовать гостей привык он постоянно
(Он другом был Судье и дальнею роднею).
Старик прошел к себе тропинкой потайною —
Боялся встретиться с гостями в пудермане
{239}И праздничный костюм хотел надеть заране.
Костюм готов с утра, разглажен, отутюжен,
Ведь нынче пан Судья созвал гостей на ужин!
Завидя юношу еще на галерее,
Пан Войский кинулся обнять его скорее.
Беседа началась, вопросы полетели, —
Друзья все десять лет пересказать хотели!
Посыпались слова, короткие ответы,
Объятья пылкие, восторги и приветы.
И вот, наслушавшись приезжего досыта,
Пан Войский юноше поведал деловито:
«Тадеуш, — юношу назвали в честь Костюшки,
Недаром родился, когда гремели пушки
{240}И уповали все на славного героя, —
Тадеуш, вовремя приехал ты, не скрою,
Гостит теперь у нас немало панн в усадьбе,
А дядя о твоей подумывает свадьбе!
Невесты славные, и выбор преотличный!
Да, знаешь, суд у нас назначили граничный
{241}Для разрешения с упрямым Графом спора.
Паи Граф в имение приехать должен скоро,
Пан Подкоморий здесь, и дочери с ним тоже.
В лес пострелять пошел кой-кто из молодежи,
А старшие меж тем, условившись о встрече,
Ждут на покосе их от бора недалече.
Пойдем туда скорей, за косогором этим
И дядю и гостей мы непременно встретим!»
И вот приятели идут навстречу дяде,
Беседуют они, по сторонам не глядя,
А солнце летнее меж тем с небес сходило
И, хоть нежаркое, сильней, чем днем, светило,
Как смуглое лицо крестьянина пылало,
Когда с покоса он идет домой устало.
Но вот багровый диск зашел за лес зеленый,
И тихий мрак повил дубы, березы, клены.
Наполнил ветви он, вершину сплел с вершиной
И темный лес связал, как будто воедино.
Лес, как высокий дом, виднелся над полями,
А солнце разожгло на темной крыше пламя
И провалилось вглубь. Казалось, ветви тлели,
Блеснуло, как свеча сквозь ставенные щели, —
Погасло, и серпы работать перестали,
И грабли замерли, как будто бы устали.
Все по хозяйскому исполнилось приказу:
Как день окончится — бросай работу сразу!
Судья говаривал: «Всевышний знает сроки;
Когда слуга его покинет свод высокий,
Тогда и нам пора кончать работу в поле».
В именье все велось согласно панской воле,
Которую считал пан эконом законом:
Как только солнышко прощалось с небосклоном,
Свозили на гумно возы пустые даже,
И тешило волов отсутствие поклажи.
В порядке стройном шло все общество из бора:
Подростки впереди — под оком гувернера,
За ними вел Судья супругу Подкоморья,
Пан Подкоморий вслед с семьею шел со взгорья.
За ними барышни, и, отставая малость,
Шагали юноши, как в Польше полагалось.
Никто не думал здесь о соблюдепье правил,
Никто мужчин и дам в порядке не расставил,
Но трудно было бы не соблюдать приличий:
Судья хранил в дому былых времен обычай,
И требовал от всех он дани уваженья
Уму и старости, чинам и положенью.
Соплица говорил: «И семьи и народы
Порядком держатся, таков закон природы!
С падением его приходит все в упадок».
И кто б ни приезжал, перенимал порядок,
Которым все кругом в имении дышало,
Хотя бы погостил он в Соплицове мало.
Соплица повстречал племянника приветом
И руку дал ему поцеловать при этом,
Поцеловался с ним, поздравивши с прибытьем,
И хоть не удалось вдвоем поговорить им,
Но чувство прорвалось слезою умиленья,
Которую Судья смахнул рукой в смущенье.
За господами вслед, как повелось в поместье,
Крестьяне и стада домой уходят вместе.
Там овцы скучились, а дальше, за оврагом,
Все с колокольцами, неторопливым шагом
Коровы шествуют поодаль друг от друга,
Несутся лошади со скошенного луга
На водопой. Земля копытами изрыта;
Скрипит журавль, вода наполнила корыто.
Судья с гостями был, устал, гуляя долго,
Но пренебречь не мог он исполненьем долга:
Пошел на скотный двор сам поглядеть на стадо, —
Приглядывать за ним хозяйским оком надо.
Такое правило в неписаном законе:
От глаз хозяина вдвойне добреют кони.
Пан Войский взял свечу и вышел с Возным в сени,
Там он затребовал серьезных объяснений,
Выспрашивал его: какие-де причины
Заставили столы перетащить в руины
(Руины издали в густой листве белели),
Зачем столы туда поставил в самом деле?
Пан Войский не видал в таком поступке толка,
Спросил Судью, но тот пожал плечами только.
Однако некогда исправить упущенье,
Пора просить гостей отведать угощенье.
Дорогой Возный сам все объяснил пространно:
Мол, изменить пришлось распоряженье пана,
Мол, в доме комнат нет для пиршества пригодных,
Мол, в них не разместить гостей столь благородных!
А замок цел еще, не обвалились своды,
Хоть треснул потолок кой-где за эти годы;
Нет окон, но без них еще удобней летом.
На близость погребов ссылался он при этом,
А сам мигал Судье, — видать по важной мине,
Что он умалчивал об истинной причине.
За тысячу шагов от дома, за листвою,
Виднелся замок тот — наследье родовое
Горешков. Но погиб в восстанье
{242} пан последний,
И стало некому владеть землей наследной.
Тут начались суды, секвестры… Скажем смело,
Что от имения немного уцелело.
По женской линии родне кой-что досталось,
Да перепало там и кредиторам малость.
На замок только лишь не зарилось шляхетство,
Ведь разорить могло подобное наследство!
Однако юный Граф, богач и родич пана,
На замок предъявил свои права нежданно;
Любитель готики, он разбирался в стиле,
И стены древние ему но вкусу были.
Хоть утверждал Судья — ведь был он патриотом, —
Что замок выстроен поляком, а не готом!
И замка ни за что не уступал Соплица,
Он с Графом захотел из-за него судиться;
Но тяжба их в судах осталась без ответа
И поступила в суд губернский из повета,
Потом в сенат, потом дорогою привычной
Вернулась вновь она в исходный суд — граничный.
И правду говорил Протазий о руинах,
Хватило места всем в больших сенях старинных.
Колонны круглые там подпирали своды,
Мощенный камнем пол, широкие проходы,
И стены чистые, без всяких украшений,
Лишь по углам рога ветвистые оленей
И надписи, когда и где убиты были,
А чтоб о подвигах стрелецких не забыли,
Записан ряд имен, гербов прибито много;
Горешков Козерог
{243} виднелся у порога.
В сенях все общество столпилось в полном сборе,
И к месту главному идет пан Подкоморий —
Он, самый старший здесь и возрастом и чином, —
Проходит, кланяясь и дамам и мужчинам,
Ксендз
{244} и Судья за ним, как водится «доныне:
Вначале ксендз прочел молитву по-латыии,
Мужчины выпили, потом на скамьи сели,
Литовский холодец
{245} в молчанье дружном ели.
Тадеуш молод был, но на почетном месте
По праву гостя сел с Подкоморянкой вместе.
Меж ним и дядюшкой местечко пустовало,
Как будто бы оно кого-то поджидало.
Судья поглядывал на дверь, по всем приметам,
11 сам кого-то ждал, не говоря об этом;
К так же нервничал Тадеуш почему-то,
На дверь посматривал он каждую минуту.
И странно! Столько панн сидело тут же, рядом,
Тадеуш ни одной не удостоил взглядом.
И для царевича нашлась бы здесь невеста,
А юноша глядел лишь на пустое место.
Не знал он, чье оно, — пленяет юность тайна,
И тешила его загадка чрезвычайно!
Соседку между тем он не вовлек в беседу,
Не угощал ее, как следует соседу,
Был невнимателен и по своим манерам
Не выказал себя столичным кавалером.
Пустое место лишь влекло и волновало, —
В мечтах Тадеуша оно не пустовало!
Все мысли прыгали, гоняясь друг за дружкой,
Как скачет под дождем лягушка за лягушкой.
Но образ девушки в них силой чудотворной
Царил, как лилия над синевой озерной.
Пан Подкоморий сам за третьей переменой
За дочерями стал ухаживать степенно:
Одной подвинул хлеб, другой в мадере почки,
Сказав: «Услуживать приходится вам, дочки,
Хоть и не молод я!» Тут юноши в смущенье
Скорей придвинули соседкам угощенье.
Меж тем насупился Соплица недовольный,
Хлебнул венгерского и разговор застольный
Затеял: «Новые порядки — грош цена им!
Напрасно молодежь в столицу посылаем.
Не стану спорить я, что сыновья и внуки
Постигли лучше нас все книжные науки;
Да жаль, не учат там, как жить с людьми и светом,
Не наставляют их, как должно бы, советом!
Бывало, шляхтичи у панов жили годы,
И сам я десять лет провел у воеводы
{246} —
У Подкоморьего отца. — Тут он соседу
Чуть-чуть колено сжал и продолжал беседу: —
Сказать по совести, пан — памяти блаженной —
Манерам нас учил, учтивости отменной.
И благодарен я, добра мне сделал много,
И за него молю до сей поры я бога!
Хоть не отмечен был вниманием особым,
Остался, шляхтичи, я скромным хлеборобом,
В то время как среди воспитанников пана
Достигли многие и почестей и сана;
Но обо мне никто не скажет здесь с упреком,
Чтоб я кого-нибудь обидел ненароком!
По правде говоря, искусство обхожденья
Дается нелегко и требует терпенья!
Любезно руку жать и отдавать поклоны
Умеют в обществе любые фанфароны;
Развязность светская, купеческая живость —
Не старопольская шляхетская учтивость!
Училась молодежь учтивости недаром,
Учтивым должно быть и с малым и со старым,
Учтив с женою муж, пан со своей прислугой,
Но с каждым иначе. Немалая заслуга
Доподлинно узнать искусство обхожденья:
Кому воздать почет, кому лишь уваженье.
Учили старики! Беседа их порою
Была для шляхтича историей живою!
А панство разговор вело с ним о повете,
Давали шляхтичу понять беседы эти,
Что знает все о нем доподлинно шляхетство;
И шляхтич дорожил своею честью с детства.
Теперь каков ты? Кто? Не спрашивают паны,
Ведь ценятся одни набитые карманы!
Еще Веспасиан обмолвился когда-то:
«Не пахнет золото», — для нас оно и свято!
И всякий всюду вхож, когда он не Иуда,
Нет дела до того, свой род ведет откуда.
Приятелей мы чтим за спесь и капиталы,
Точь-в-точь как деньги чтут презренные менялы!»
Собранье оглядел внимательный Соплица,
Все слушали его, боясь пошевелиться,
Хоть опасался он наскучить молодежи,
Но поучить ее считал полезным тоже;
С сомненьем глянул он на пана Подкоморья,
Глазами поискал у старшего подспорья,
Но тот заслушался, кивая головою, —
Как видно, и его забрало за живое!
Тогда Судья подлил в бокал ему токая
И дальше продолжал: «Учтивость не такая!
Панове, нам она и впрямь нужна без меры,
Когда сумеем чтить и возраст, и манеры,
И добродетели других, то непременно
Поймем, что в нас самих и дорого и ценно.
Кто хочет взвеситься хотя б из интереса,
Другого должен он поставить мерой веса.
Всегда способствует учтивость доброй славе,
И дамы ждать ее от молодежи вправе;
Особенно ж когда богатство, древность рода
Венчают красоту, что создала природа,
Любви завязка здесь; поэтому нередки
Союзы славные, так рассуждали предки,
А нынче…» Тут Судья на юношу с упреком
Взглянул и замолчал, как будто ненароком,
Меж тем как речь его была прямым уроком.
По табакерке вдруг пощелкал Подкоморий:
«Нет! Было в старину у нас похуже горе!
Не знаю, мода ли другая виновата,
Но юноши умней, и нет того разврата.
Да что и говорить! Я помню, как в те годы
Сводил нас всех с ума кумир французской моды
Наехали толпой юнцы из-за границы —
С ногайскою ордой могли б они сравниться!;
Гоненья начались на старые порядки,
Права, обычаи, кунтуши, тарататки
{247}!
И кто бы прок нашел в шальных молокососах,
Гнусящих в нос порой, а иногда безносых,
Читающих с утра брошюры и газеты,
Хвалящих новые законы, туалеты!
Шляхетство поддалось ужасному влиянью, —
Кого захочет бог подвергнуть наказанью,
Того безумием настигнет он вначале…
Перед безумцами и умные молчали!
Народ страшился их, как мора или сглаза,
Не зная, что и в нем сидит уже зараза.
Ругали модников, но, поддаваясь блажи,
Бросали кунтуши, святую веру даже…
Разгул на масленой, и вот, не оттого ли,
За карнавалом вслед — великий пост неволи!
В дни юности моей приехал к нам в Ошмялы
Подчаший — образец французской обезьяны,
Он первый разъезжал у нас в коляске узкой
И первый на Литве носил сюртук французский.
Все, как за ястребом, за ним гнались, бывало,
А молодежь его едва не ревновала
К тем, у чьего крыльца появится двуколка;
Звал по-французски он свой экипаж «карьолка
{248}»,
И на запятках там сидели две болонки,
На козлах — немчура, как жердь сухой и тонкий,
В обтянутых штанах, с повадкой скоморошьей,
На туфлях серебро, — видать, что гусь хороший!
В дурацком парике с косицей для парада —
Недаром старики смеялись до упада!
Крестясь, твердил народ, что, мол, погнал по свету
Венецианский черт
{249} немецкую карету!
Каков Подчаший был, об этом речь другая, —
Похож на шимпанзе, похож на попугая…
И золотым руном звал свой парик Подчаший,
Который колтуном прослыл в округе нашей.
Остался все-таки у нас кой-кто из панства,
Кто презирал еще пустое обезьянство,
Но тот помалкивал, не то иные сдуру
Заголосили бы, что губит он культуру!
Так крепко этот вздор проник уже в натуру,
О конституции рассказывал Подчаший,
Реформы завести хотел в округе нашей
На основании французского открытья
О равенстве людей. Не стану говорить я
О нем, — известно нам из божьего закона,
Об этом равенстве и ксендз твердит с амвона,
Да только не было завету примененья.
Однако модники в безумном ослепленье
Не верили вещам известнейшим на свете,
Не напечатанным в сегодняшней газете!
Борясь за равенство, Подчаший стал маркизом, —
Он моде уступал и всем ее капризам,
А каждый модник был в те времена маркизом!
Когда же Франция переменила моду,
То демократом стал Подчаший ей в угоду!
Теперь Наполеон у них владеет троном,
И прежний демократ зовет себя бароном.
Но все меняется со временем крылатым,
И, не умри барон, он стал бы демократом!
Хоть мода и глупа, но говорят, однако:
Что выдумал француз, то мило для поляка!
Да, молодежь теперь успела измениться.
Не модами ее прельщает заграница,
Не ищет истины она в брошюрах разных,
Не совершенствует акцент в беседах праздных.
Наполеон — мудрец, он не дает народу
Заняться модами, тщеславию в угоду.
К тому ж орудий гром нас призывает к славе,
О Польше говорят, надеяться мы вправе,
Что нам теперь уже недолго ждать расцвета;
Где лавры, там цветет свобода, знаем это!
Жаль! Время тянется в бездействии печальном,
И все нам кажется несбыточным и дальним.
Так долго ждем вестей, а их нет и в помине!»
Тут он вполголоса спросил ксендза: «Ты ныне
Известьеполучил, отец, из-за границы,
Скажи нам, что же в нем о Польше говорится?»
«Да ровно ничего! — ксендз молвил беззаботно;
Видать, что слушал он беседу неохотно. —
Что мне политика? Я не ищу в ней славы,
А если получил известье из Варшавы, —
Дела церковные, и вам, как светским людям,
Неинтересные, касаться их не будем!»
При этом указал на край стола глазами.
Там русский капитан беседовал с гостями;
В селе у шляхтича стоял он на квартире
И позван был Судьей принять участье в пире.
Он смачно ел и пил, с гостями не чинился;
«Варшава» услыхав, тотчас насторожился:
«Пан Подкоморий, э, вы любопытны, право,
Все на уме у вас французы да Варшава!
Хотя я не шпион, но я по-польски знаю;
Для каждого из нас отчизна — мать родная!
Вы — ляхи, русский я, теперь мы не воюем,
В знак перемирия гуляем и пируем;
Мы и с французом пьем, была бы только кружка,
Потом: «В штыки! Ура!» — и кончена пирушка.
В России говорят: «Люби дружка, как душу!
Но спуска не давай, тряси его, как грушу!»
Но долго ждать войны! Вчера был у майора
Наш адъютант штабной, он говорил, что скоро
Пойдем на турка мы. А выпадет нам карта,
Придется пощипать пройдоху Бонапарта!
Он без Суворова, пожалуй, нас и вздует!
Солдаты говорят, что Бонапарт колдует,
Но соглашаются без всяких перекоров,
Что все ж он не такой колдун, как наш Суворов!
Да вот вам: Бонапарт прикинулся лисою,
Но обернулся вмиг Суворов наш борзою,
А Бонапарт — котом, царапаться пытался…
Суворов стал конем, и кот впросак попался!
Кто больше пострадал, понятно вам, панове?»
Лакеи с блюдами стояли наготове,
Он за еду взялся и смолк на полуслове.
На радость юноше, вновь распахнулись двери;
Тадеуш увидал, глазам своим не веря,
В дверях красавицу. Все поднялись с поклоном,
Она ответила им взглядом благосклонным.
Фигура женщины притягивала взоры,
На платье розовом сплелись цветов узоры,
И вырез низок был согласно новой моде,
И веер золотой, хотя не по погоде;
Казалось, веер был игрушкою, забавой,
Он сыпал искрами налево и направо.
К лицу красавице была ее прическа
И ленты розовой атласная полоска;
Светился бриллиант, меж локонами вдетый,
Как светится звезда, блестя в хвосте кометы.
Наряд изысканный! Кругом шептались панны,
Что слишком вычурный и для деревни странный.
А ножки! Панство их совсем не разглядело,
Как будто не прошла она, а пролетела.
Марионетки так стремительны и прытки,
Когда их дергают украдкою за нитки.
Приветствуя гостей, высматривала пани
То место, что Судья оставил ей заране.
Но как пройти к нему? Сидит в четыре ряда
На четырех скамьях шляхетство. Вот досада!
Перешагнуть скамьи нужна была сноровка.
Она протиснулась меж ними очень ловко,
У самого стола мгновенно очутилась,
Как биллиардный шар по ряду прокатилась,
Тадеуша едва задела кружевами,
Но вдруг запуталась оборка меж скамьями!
Тут гостья, оступясь, плеча его коснулась,
Прощенья попросив, невольно улыбнулась,
На место пробралась, тихонько в кресло села,
Но не пила вина и ничего не ела;
Тадеуша она оглядывала зорко,
Играла веером и кружевной оборкой,
Касаясь невзначай то веера, то банта,
А свет свечей играл на гранях бриллианта.
Все пировавшие немного помолчали.
В другом конце стола, чуть слышная вначале,
Беседа занялась и обернулась спором,
О качествах борзых шел разговор в котором.
Юрист доказывал Асессору со вкусом,
Что все достоинства соединились в Куцем:
Расхваливал его и говорил открыто,
Что пойманный русак — заслуга фаворита.
Асессор Соколу приписывал победу
И восхищался им назло Законоведу.
Просили спорщики сужденьями помочь им,
Который лучше пес, неясно было прочим.
Одни за Куцего, за Сокола другие…
Соседке говорил Судья слова такие:
«Уж ты не обессудь, любезная сестрица,
Что подавать велел, пришлось распорядиться!
Проголодались мы, да и не знали сами,
Захочешь ли прийти отужинать с друзьями».
Тут к Подкоморию Соплица обратился
И в обсуждение политики пустился.
Пока охотники кичились кобелями,
Тадеуш пожирал красавицу глазами,
И радовался он, что с самого начала
Предугадал, кого местечко поджидало!
Он разрумянился, забилось сердце сладко,
Не подвела его счастливая догадка!
Дождался наконец, и с ним сидела панна,
С которой наверху он встретился нежданно!
Казалось, что была повыше панна эта,
Не изменилась ли она от туалета?
И золото кудрей запомнил он как будто,
А эти потемней и завитые круто.
Наверное, они и не были иными —
От солнечных лучей казались золотыми!
Лицо красавицы он разглядел неясно,
Но догадался все ж, что девушка прекрасна,
Что губы красные, как вишенки-двоешки,
Что зубки белые — таким]г грызть орешки!
Что темные глаза, — все это было схоже;
Вот разве что она казалась помоложе,
Паненкой юного, на утреннем свиданье,
А нынче зрелою красой пленяла пани.
Но дела нет ему до возраста прекрасной,
Не станет головы ломать себе напрасно…
Для молодого все красотки — однолетки,
Как для невинного — невинны все кокетки!
Тадеуш в двадцать лет еще не видел света,
Он с детства в Вильне жил, но, несмотря на это,
Воспитывал его ксендз-воспитатель строго,
В суровых правилах и в почитанье бога.
Домой вернулся он еще неискушенный,
Неизбалованный, — но, радостей лишенный,
Мечтал свободою упиться без помехи
И, наконец, вкусить запретные утехи.
Ну, словом, всласть пожить под дядюшкиным кровом!
Знал, что хорош собой, к тому ж он был здоровым,
Как все в его роду, был истинный Соплица.
Здоровьем родичи могли бы похвалиться:
Все были крепыши, отлично фехтовали,
В науках, может быть, немного отставали.
Гордиться юношей могли бы смело предки;
Отличный пешеход, да и наездник редкий,
К наукам, правда, он не чувствовал влеченья
(Хоть денег не жалел Судья на обученье),
Зато он фехтовал не хуже офицера, —
Прельщала юношу военная карьера,
Что завещал отец. Послушный отчей воле,
О барабане он мечтал, скучая в школе.
Но вызвал дядюшка Тадеуша в поместье,
Писал, что, мол, пора подумать о невесте,
К хозяйству приступить, а там и справить свадьбу,
Деревню обещал, а позже — всю усадьбу.
Все добродетели Тадеуша особо
Соседка взвесила, она глядела в оба,
Тотчас заметила, что незнакомец строен,
Высок, широкоплеч, внимания достоин,
Что, встретив взгляд ее и вспыхнув, точно пламя,
Сам ей в лицо впился горящими глазами, —
Две пары жарких глаз при вожделенной встрече
Горели яростно, как в божьем храме свечи.
Вот по-французски с ним заговорила мигом, —
Из школы прибыл он, не чужд, наверно, книгам!
О модном авторе спросила, каждым словом
Пыталась побудить его к ответам новым.
О живописи с ним заговорила смело,
О танцах, музыке, все знала, все умела!
Когда же в ход пошли гравюры и пейзажи,
От мудрости такой остолбенел он даже!
Не издевается ль красавица немного?
Дрожал он, как школяр под взглядом педагога.
Но этот педагог красивый и нестрогий…
Соседка, угадав предмет его тревоги,
Тотчас же завела беседу с ним попроще:
Об их житье-бытье, о поле, доме, роще,
О том, как надо жить, чтоб не скучать в именье,
Какое бы найти получше развлеченье.
Едва оправившись от первого испуга,
Он отвечал смелей, и поняли друг друга.
Теперь она над ним подшучивала мило,
Три хлебных шарика на выбор предложила.
Он ближний шарик взял, лежавший на салфетке,
Что не понравилось второй его соседке;
Смеялась женщина, не объяснив секрета,
Кого касается счастливая примета.
В другом конце стола, где гомон был неистов,
Поклеп на Сокола затронул соколистов.
Бранили Куцего, на спорщиков насели,
И за столом уже последних блюд не ели.
Все пили, повскакав и ссорясь меж собою.
Юрист, как на току глухарь, без перебоя
Доказывал свое, упрямцев атакуя,
Жестикулировал, безудержно токуя
(Встарь адвокатом был нотариус Болеста
И обойтись не мог без красочного жеста!).
Вот руки выгнул он, к бокам прижавши локти,
И пальцы вытянул, — их удлиняли ногти, —
Изображал борзых и вдруг, теряя разум,
Как закричит: «Ату! Собак пустили разом!
Вмиг сорвались они и вместе промелькнули,
Как из двустволки две стремительные пули!
Ату! А заяц — шмыг! И в поле — мах скачками!
А псы за ним! — Юрист все пояснял руками,
А пальцы своре псов искусно подражали. —
Борзые — хоп! за ним! От леса отбежали.
Тут Сокол вырвался, а он кобель горячий…
Я знал, что Соколу не справиться с задачей!
Ушастый не простак, он разгадал уловки
И в поле утекал. Видать, зайчина ловкий!
Едва почувствовав погоню за собою —
Направо кувырком, а псы за ним гурьбою!
Вдруг он налево — скок! И в чащу изловчился,
Налево! Псы за ним. Мой Куцый отличился
И цап!» — Рассказчик тут передохнул впервые,
А пальцы по столу бежали, как борзые.
«Цап!» — закричал Юрист над ухом нежной пары,
Как будто обухом хватил их спорщик старый.
От изумления, а может, от испуга
Отпрянули они тотчас же друг от друга,
Как две верхушки лип, грозой разъединенных.
Разъединились вдруг и руки у влюбленных
С такой поспешностью, как будто обожгло их;
Румянец запылал на лицах у обоих.
Тут, замешательство желая скрыть словами,
Промолвил юноша: «И я согласен с вами,
Ваш Куцый — славный пес, а хороша ли хватка?» —
«Еще б не хороша! Охотничья повадка!»
Тадеуш очень рад, что Куцый без порока!
Превозносить его он стал весьма высоко
И сетовал на то, что с первого, мол, взгляда
Не мог он оценить достоинств всех как надо.
Асессор, выронив бокал, нагнулся низко,
Взглянул на юношу глазами василиска.
Асессор ростом мал и хоть невзрачен с виду,
Однако же умел ответить на обиду.
На сеймиках, балах все перед ним дрожало, —
Еще бы! Не язык был у него, а жало!
Шутил ехидно он, но так умно и кстати,
Что взял бы Календарь те шутки для печати!
Привык командовать, богатым был он с детства,
Но промотать успел именье и наследство
В те давние года, когда вращался в свете.
Теперь служил, хотел он роль играть в повете.
Охоту обожал, не знал другой забавы,
Напоминал ему заветный рог облавы
Былые времена, когда он был богатым
И псарни лучшие держал под стать магнатам.
Осталось две борзых, и вот, на смех округи,
Пытаются отнять у Сокола заслуги!
Тут усмехнулся он, поглаживая баки,
Вступился вежливо за честь своей собаки:
«Борзая без хвоста как шляхтич без усадьбы,
Бесхвостие порок, и мне хотелось знать бы,
За что же вы его достоинством зовете?
Вы лучше тетушку спросите об охоте;
Хотя она гостит недавно в Соплицове,
В столице век жила и ей охота внове,
Но лучше молодых в ней знает толк, — с годами
Приходит опытность, вы убедитесь сами!»
Тадеуш задрожал, как громом пораженный,
Хотел протестовать, но, языка лишенный,
Глядел со злобою, уже вскочил в задоре,
Но вовремя чихнул два раза Подкоморий.
Все крикнули: «Виват!» Ответил он поклоном
И, табакерку взяв, раскрыл ее со звоном.
На ней алмазами осыпана оправа
С изображением монарха Станислава;
Подарок короля — отцовское наследство,
Для Подкоморья был святыней с малолетства.
Тем звоном подал знак, что просит он вниманья,
Все смолкли, и никто не нарушал молчанья.
«Панове, — он сказал, — не место здесь раздорам,
Луга, поля, леса — единственный наш форум!
Я дома не берусь решать дела такие,
На завтра отложу, пусть отдохнут борзые,
И выступать истцам сегодня не позволю.
Перенеси процесс на завтра, Возный, в поле!
К тому же завтра Граф прибудет с егерями,
И мой сосед Судья поедет вместе с нами,
И пани с паннами, и пани Толимона;
Там качества борзых проверим несомненно.
Поможет Войский нам и делом и советом». —
Попотчевал его он табаком при этом.
В другом конце стола, не говоря ни слова,
Паи Войский жмурился и хмурился сурово;
Он ни одной борзой не отдал предпочтенья,
Хоть спрашивал уже кой-кто его сужденья,
Не пил, хотя ему палили в чарку водку;
И медлил поднести к ноздрям своим щепотку.
Понюхал и чихнул. Чох повторило эхо.
Качая головой, заговорил Гречеха:
«О чем вы спорите? Понять могу едва ли…
И что б великие охотники сказали
Про этот жаркий спор из-за хвоста собаки?
Стыдитесь, шляхтичи, чуть не дошли до драки.
Воскресни Рейтан, он от этакого вздора
В могилу бы сошел, не выдержав позора!
Ну что подумал бы пан Неселовский, други,
Владелец лучших свор и первый пан в округе?
Сто сорок егерей в его именье панском
И сто возов сетей при замке Ворончанском;
Но сиднем он сидит, не ездит на охоту,
Сказал бы, сколько лет, да сбился я со счету!
Бялопетровичу и то он шлет отказы,
Охота для него не детские проказы!
А русаков травить, не оберешься срама!
Пан Неселовский так в лицо вам скажет прямо!
В былые времена, на языке стрелецком
Кабан, медведь и волк звались зверьем шляхетским,
Зверье другое же стрелять зазорно панству,
Пан уступал его дворовым и крестьянству.
А дробь насыпать в ствол — неслыханное дело!
Двустволка бы сама того не потерпела!
Держали мы борзых; случалось после лова
Охотникам в пути наткнуться на косого,
Тогда спускали их, и, припустив лошадок,
Скакали малыши, таков уж был порядок!
Смешила стариков мальчишеская смелость…
Когда ж я слушал вас, мне плакать захотелось!
Не тратьте даром слов, на травлю приглашая,
Останусь дома я — потеря не большая!
Пан извинит меня за то, что не лукавлю,
За то, что не пойду, как мальчуган, на травлю:
Зовусь Гречехою; от царствованья Леха
{250}На зайца ни один не хаживал Гречеха!»
Смех заглушил слова. Все зашумели вскоре,
И встал из-за стола достойный Подкоморий.
Он самый старший здесь и возрастом и чином,
Проходит, кланяясь и дамам и мужчинам;
Ведет жену его учтивый пан Соплица,
Л перед ними ксендз, успевший помолиться;
С красавицей своей спешит Тадеуш следом,
А дочка Войского идет с Законоведом.
Тадеуш хмурился, сгорая от досады,
Он все припоминал застольные тирады
И сам понять не мог, что так его задело
В речах Асессора? Пустяк, пустое дело,
Но слово «тетушка» жужжало прямо в ухо,
Как неотвязная, назойливая муха!
Хотел он Войского порасспросить об этом, —
Старик, наверно, знал, — искал его, но где там!
Он, встав из-за стола, тотчас ушел с гостями,
Заняться должен был домашними делами:
Ночлег готовили в дому для именитых,
Старик раздумывал, как лучше разместит их;
А молодежь повел на сеновал Тадеуш,
Но от забот своих не мог уйти он, где уж!
Настала тишина. Господствует такая
В обители, когда к молитве звон смолкает.
Лишь окрик сторожа ночную темь тревожит,
Да все еще Судья забыться сном не может:
Хозяин-хлебосол командует парадом,
Повеселить гостей в дому и в поле рад он.
Распоряжения дает он эконому,
Конюшим, егерям, псарям, тому, другому.
Вот просмотрел счета усердный пан Соплица
И Возному сказал, что хочет спать ложиться.
Брехальский снял с него парчовый слуцкий пояс,
Витая бахрома на нем висела, сдвоясь,
Золототканый шелк, тяжелый и лучистый,
С изнанки вышитый решеткой серебристой.
На обе стороны тот пояс надевали:
На праздник — золотой и черный — в дни печали.
Один Брехальский мог сложить его в порядке..
И вот он говорил, разглаживая складки:
«Да разве в замке мы поужинали хуже,
Чем дома? Пан Судья и выиграл к тому же!
С сегодняшнего дня владеть мы замком вправе,
Понеже есть статья, известная в уставе,
Которая теперь нас вводит во владенье,
Противной стороне отрезав отступленье.
Кто в замке принимал, тот доказал тем самым,
Что он хозяин в нем. Ответчикам упрямым
Придется отступить: свидетельство их будет
Во вред самим себе, нам замок суд присудит».
Когда Судья уснул, старик покинул пана,
Подсел к свече, достал тетрадку из кармана,
Которую носил, как требник, неизменно
И дома и в пути читал обыкновенно:
Реестр судебных дел, фамилии и даты,
Весь длинный список лиц, судившихся когда-то,
Иных Брехальский сам провозглашал публично,
А об иных слыхал и помнил их отлично…
Обычный перечень — картинной галереей
Казался Возному, он упивался ею.
Все тяжбы старые
{251}: Огинского с Визгирдом,
Монахов с Рымшою, а Рымши с Высогирдом,
Потом Мицкевича с Малевским и Петковским,
Юраги и еще Гедройца с Рудултовским.
Да всех не перечесть… фамилий вереница,
А в довершение Горешки и Соплицы.
Дела минувших дней вновь видел он воочью,
Истцы, свидетели пред ним вставали ночью,
И видел он себя в кунтуше ярко-алом,
Стоящим на виду, пред целым трибуналом,
Сжимающим рукой стальную рукоятку
И призывающим ответчиков к порядку.
Мелькают перед ним уставы трибунала…
Последний Возный спит, закрыв глаза устало.
Так проводили жизнь в то памятное лето
В повете на Литве, когда почти полсвета
Слезами изошло, а он, военный гений,
Несметные полки швырял в огонь сражений,
Орлов серебряных
{252} запрягши в колесницу,
А с ними золотых, взяв Марса за возницу!
Маренго, Аустерлиц, Египет, пирамиды
Он с гвардией прошел, она видала виды!
Разя, как молния, неслась она к победам,
И слава бранная за ней летела следом,
Но, словно от скалы, у берегов литовских
Отпрянула она от грозных войск московских,
Они стеною путь в Литву закрыли сразу
От вести, что могла перенести заразу!..
Но вести падали в Литву, как будто с неба;
Нередко инвалид, просивший корку хлеба
Христовым именем, безрукий и безногий,
Оглядывался вдруг внимательно, с тревогой,
И если не видал вблизи мундиров красных
{253},
Ермолки торгаша, других примет опасных,
То признавался вдруг, что он пришел из Польши,
Отчизны защищать уже не в силах больше,
Вернулся умереть! Как все тогда рыдали,
Как все наперебой страдальца обнимали!
Садился он за стол, вниманьем окруженный,
И рассказать спешил толпе завороженной,
Как из Италии спешит домой Домбровский,
О Польше не забыл и о земле Литовской!
Мол, земляков собрал он на Ломбардском поле,
Князевич
{254} между тем взошел на Капитолий
И кинул с гордостью к ногам Наполеона
Войсками польскими отбитые знамена!
Мол, Яблоновский
{255} наш на острове далеком,
Где сахарный тростник исходит сладким соком,
На негров ринулся с Дунайским легионом,
А сам о родине грустит в раю зеленом!
И всякий был ему за вести благодарен,
А ночью исчезал из дома новый парень,
Блуждал чащобами, болотами, бывало,
И от солдатских пуль его река скрывала,
За Неман уплывал, а чуть на берег вышел;
«Приветствуем тебя!» — слова жолнеров слышал.
И, прежде чем уйти, кричал он в назиданье
Суровым москалям: «До скорого свиданья!»
Все так перебрались: Горецкий
{256}, Обухович,
И Межеевские, Рожицкий, и Янович,
Пац, Бернатовичи, Брохоцкий с Гедимином,
Петровские и Купсть, все шли путем единым,
Бросали родину и семьи оставляли;
В отместку москали добро конфисковали.
Нередко бернардин, явившийся из Польши,
Когда он узнавал окрестных панов больше,
То им показывал газету потаенно,
А в ней число солдат, названье легиона,
Фамилии вождей, бои на поле чести
И весть о подвигах, порой со смертью вместе.
Так через много лет судьбу родного сына
Могли родители узнать от бернардина,
И, в траур облачась, несчастные молчали,
Но шляхтичи могли понять по их печали:
И радость тихая, и горе без просвета —
Красноречивая, шляхетская газета.
Такой же бернардин, наверно, был и Робак,
Вдвоем с Соплицей он беседовал бок о бок,
А вести между тем кружили и в застянке!
Никто бы не сказал по квестарской осанке,
Что он молился век в монастыре по четкам,
Что соблюдал посты, смиренным был и кротким.
Над правым ухом шрам изобличал монаха
В том, что ударен был он саблею с размаха,
Второй рубец на лбу — вторичная улика,
Что не за мессою его хватила ника!
Не только грозный вид и боевые знаки, —
Указывало все, что он ходил в атаки.
Когда из алтаря с воздетыми руками
Монах, поворотясь, провозглашал: «Бог с вами!»
То делал поворот так четко и так браво,
Как ревностный солдат «равнение направо!»,
Читал молитвы он таким суровым топом,
Каким командуют в походе эскадроном, —
Так примечали все за мессою в костеле;
Да и в политике он разбирался боле,
Чем в «Житиях святых». Пускаясь в путь за сбором,
Прислушивался он в дороге к разговорам;
Депеши получал и прятал, не читая, —
Как видно, весточка была в них непростая! —
То посылал гонцов, — куда? Их путь неведом! —
То ночью уходил сам за гонцами следом;
Усадьбы посещал, со шляхтою шептался,
По селам, деревням в полночной тьме шатался;
Порой беседовал в корчме с простым пародом,
О Польше говорил все точно мимоходом.
Видать, что и теперь с ним вести прилетели, —
Пошел будить Судью, храпевшего в постели.

«Дзяды» часть IV
Книга вторая
Замок
Охота с борзыми на косого. — Гость в замке. — Последний из дворовых Горешки рассказывает историю последнего Горешки. — В саду. — Девушка на огуречной грядке. — Завтрак. — Случай с пани Телименой в Петербурге. — Новая вспышка спора о Куцем и Соколе. — Вмешательство Робака. — Речь Войского. — Пари. — По грибы.
Кто не запомнит лет, когда в полях весною
Бродил он юношей с двустволкой за спиною?
Препятствий никаких в дороге не встречалось,
Чужая от своей межа не отличалась!
Охотник на Литве — корабль в открытом море,
Куда глаза глядят, несется на просторе.
Порою в небеса глядит пытливым оком,
Читает в облаках, под стать иным пророкам.
Порою и земле он задает вопросы
И слушает ее ответ многоголосый.
Чу! Дернул коростель, искать его напрасно,
Как щука в Немане, он в зелени атласной!
Там колокольчиком весенним льются песни,
А жаворонка нет, он скрылся в поднебесье.
Воробышков вспугнул орлиный клекот грозный,
Пугает так царей комета в выси звездной.
Вон ястреб в синеве повис настороженный,
Дрожа, как мотылек, булавкою пронзенный;
Едва завидит он добычу острым взором,
Как тотчас на нее метнется метеором.
Когда ж, о господи, из горького изгнанья
Домой вернемся мы, забыв края скитанья,
Ударим конницей на зайца и лисицу
И дружно выступим с пехотою на птицу!
Домашние счета заменят нам газеты,
А косы и серпы — клинки и пистолеты.
Рассветные лучи, упав на стрехи, снова
Сквозь щели пробрались и в ригу Соплицова;
На духовитое рассыпанное сено,
Где летом молодежь спала обыкновенно;
Полоски золота, в глухую темь проема,
Как ленты из косы, струились невесомо.
И солнышко лучом по лицам проводило,
Как девушка цветком любимого будила.
Чирикать воробьи пустились на рассвете;
Загоготал гусак, за ним другой и третий,
Тут утки крякнули, наскучивши молчаньем,
Скотина тотчас же отозвалась мычаньем.
Все в доме поднялись, но крепко спал Тадеуш,
Он после ужина взволнован был, и где уж
Забыться сном ему! И петухи пропели,
А он все вертится на скомканной постели.
Вдруг в сене, как в волнах глубоких, утонул он,
Спал до тех пор, пока в лицо ему не дунул
Холодный ветерок. Взглянул, обеспокоясь,
А это ксендз вошел, в руке сжимая пояс.
«Surge, puer!»
[105] — сказал и, точно для острастки,
Взмахнул он поясом с угрозой, полной ласки.
А во дворе уже охотники толпятся,
Выводят лошадей, галдят и суетятся,
Повозки катятся, все делается споро,
Отозвалась труба, и выпущена свора.
Завидев лошадей, псарей и доезжачих,
Борзые прыгают на радостях собачьих,
Визжат и мечутся, — что делается с псами!
Бегут и головы суют в ошейник сами!
Должна удачной быть веселая охота,
Дал Подкоморий знак — пора и за ворота.
Один вслед за другим помчались вереницей,
И длинный ряд в пути длиннее стал сторицей.
Асессор и Юрист в средине едут оба,
В сердцах завистливых еще бушует злоба,
Но с видом рыцарей они, как люди чести,
Всю злобу затая, неспешно едут вместе.
Асессор Сокола ведет, как фаворита,
А Куцего Юрист спокойно, деловито.
Коляски позади, а сбоку кавалькада —
Гарцует молодежь, покрасоваться рада.
Ксендз Робак мерял двор широкими шагами,
Молился набожно, а сам искал глазами
Тадеуша; найдя, невольно усмехнулся
И поманил его — Тадеуш встрепенулся,
Ксендз пальцем погрозил Тадеушу сурово,
Но на вопрос — за что? — не отвечал ни слова.
Напрасно юноша расспрашивал с волненьем,
Не удостоил ксендз пытливца объясненьем.
Молитвы прочитав, накрылся капюшоном,
И юноша ни с чем отъехал к приглашенным.
В тот миг охотники борзых попридержали,
На месте замерли, покрепче сворки сжали,
И каждый призывал к молчанию другого,
Уставясь на Судью; тот увидал косого,
На камень поднялся и прочим с возвышенья
Движением руки давал распоряженья.
Немая тишина царила в поле чистом,
И дожидались все Асессора с Юристом.
Тадеуш обогнал соперников и разом
К Соплице подскакал, ища косого глазом;
Но серого никак не сыщешь в сером поле,
Среди камней русак укроется тем боле.
На зайца указал Тадеушу Соплица,
Косой приник к земле, боясь пошевелиться;
Как зачарованный, предчувствием терзаем,
Глазами красными глядел русак в глаза им;
Застыл в отчаянье с остекленелым взглядом,
Казался мертвым он, как мертвый камень рядом.
Пыль по полю летит, клубится тучей рыжей,
То Куцый с Соколом, они все ближе, ближе…
Но тут Нотариус с Асессором вступили
И с криками: «Ату!» — исчезли в клубах пыли.
Пока погоня шла, невдалеке от лога
Вдруг показался Граф, он опоздал немного.
Неаккуратностью прославился в округе,
Хоть были у него «всегда виновны слуги».
Проспал он и теперь. К охотникам, веселый,
Галопом поскакал, пустив по ветру полы.
На Графе был сюртук, необычайно длинный,
И слуги ехали за ним рысцою чинной,
В похожих на грибы шапчонках, и в ботфортах,
В обтянутых штанах, и в куртках не потертых.
Граф наряжал их так согласно новой моде
11 звал жокеями в домашнем обиходе.
Влетели всадники стремглав на луг зеленый,
Увидел замок Граф и замер, изумленный.
Не верил сам себе, что тот же замок это,
Так изменился он от солнечного света.
Граф не сводил с него восторженного взгляда:
Рассыпались лучи по контурам фасада,
Во мглистом воздухе казалась башня выше,
Блестела золотом простая жесть на крыше.
От солнечных лучей, струящихся потоком,
Играла радуга в разбитых стеклах окон.
Руины белые под пеленой тумана
Казались новыми, без трещин, без изъяна.
Далекой травли гул встревожил гул зеленый
И в замке отдался, стократно повторенный.
Казалось, замок был отстроен, обитаем,
Шумели люди в нем и вторили рога им.
Все Графу нравилось, что было необычным,
Необычайное считал он романтичным.
Граф величал себя романтиком; пожалуй,
И в самом деле был чудак он или шалый:
На травле отставал и ввысь глядел тоскливо,
Как смотрит кот на птиц, кружащихся над ивой.
Без пса и без ружья, как беглый рекрут, в чаще
Слонялся и сидел над речкою журчащей,
Он на воду глядел, не шевелясь, часами,
Как цапля, что пожрать готова рыб глазами.
Шляхетство местное по всем углам шепталось:
«У Графа в голове, мол, не хватает малость».
Но чтили все его за щедрость, древность рода,
За то, что никогда не обижал народа,
Со всеми был учтив.
В порыве вдохновенья
Помчался к замку
Граф, не медля ни мгновенья.
Достал он карандаш с бумагой из кармана
И принялся чертить на ней наброски рьяно;
Вот, голову подняв, окинул поле взглядом,
Другого знатока увидел тут же, рядом.
Глядел на замок он, в карманы сунув руки,
Как будто камни счесть задумал жрец науки.
Граф, опознав его, окликнул, но Гервазий
Не сразу услыхал, в таком он был экстазе!
Последний из дворян Горешки, он когда-то
Нес службу верную у гордого магната,
Старик уже седой, но все еще здоровый,
Лицо угрюмое, в морщинах лоб суровый.
Он был весельчаком, однако после боя,
В котором пан погиб, не тешился гульбою.
Не слышал от него с тех пор никто ни шуток,
Ни смеха громкого, ни складных прибауток,
Старик не посещал ни свадеб, ни гулянок,
И стойкости его дивился весь застянок
{257}.
В ливрею папскую рядился он доселе,
Но галуны на ней поблекли, пожелтели,
А некогда они казались золотыми!
Расшитые гербы пестрели рядом с ними,
Шелками вышиты Горешков Козероги
(Зван Козерогом был и шляхтич длинноногий).
«Монанку» звал он всех и прозван был «Монанку»,
А за рубцы — Рубцом прослыл он по застянку
(Они всю лысину его избороздили).
Звался Рубакой он, а герб его забыли.
И Ключником себя Рубака звал недаром,
Служил он ключником у пана в замке старом,
Ключи за поясом носил он и поныне
На шелковом шнуре с узлом посередине.
Хоть замок без замков и все открыто настежь,
Он где-то дверь нашел — и привалило счастье ж!
Ее исправил сам, приладил без помехи
И, открывая дверь, не знал другой утехи.
Здесь, в комнате пустой, ютился он под кровом,
Хотя у Графа жить мог и на всем готовом,
Но замок был ему от всех скорбей лекарство,
Гервазий за него не отдал бы и царства.
Вот шапку с головы сорвал Гервазий в спешке,
Склонился низко он пред родичем Горешки,
И лысина его, иссеченная сталью,
Светилась далеко. Старик вздохнул с печалью,
Погладил лысину и вновь склонился низко,
Растроганно твердя: «Мопанку! Мой паниско!
Прости, вельможный пан, мне смелость обращенья,
Привычка такова, в том нет не уваженья,
«Мопанку» говорить привыкли все Горешки,
И в этом не было ни капельки насмешки!
Мопанку, правда ли, что вздумал ты скупиться,
Не тратиться на суд и уступить Соплице?
Не верю я, хотя молва прошла плохая».
На замок он глядел и говорил, вздыхая.
«Дивиться нечему! Ведь замок-то наследный
Не стоит ничего, а шляхтич надоедный
Уперся, знает он, что смертной муки хуже
Сутяжничество мне, я и сложил оружье.
Приму условия, какие суд предложит». —
«Как? Мир с Соплицами? Да быть того не может!
Мир и Соплицы… Мир? — Гервазий так скривился,
Как будто этими словами подавился. —
Соплице уступить? Нет! Это не годится,
В Горешково гнездо не залетит Соплица!
Пан Граф, не знаете вы сами, что творите,
Но в замке родовом не так заговорите!
Слезайте же с коня — и убедитесь сами!»
И стремя придержал он с этими словами.
Едва взошли они под сумрачные своды,
Гервазий речь повел: «Здесь в памятные годы
Вельможный пан сидел за дружеской беседой
И после сытного, веселого обеда
Мирил своих крестьян, шутил, и слушал были,
И сам рассказывал, как в старину любили.
Так потешался пан, а молодежь, бывало,
Скакала по двору верхом и фехтовала».
Старик продолжил речь в сенях уже, с порога:
«Пол камнем вымощен, камней здесь очень много,
Но больше было тут распито бочек винных
На сеймах, сеймиках, на панских именинах.
Бочонки шляхтичи таскали из подвала
На поясах своих. И шляхта пировала.
На хорах музыка играла неустанно,
Гром трубный заглушал мелодию органа,
Гремели здравицы, и громкие виваты
Сопровождали их под медные раскаты.
«За здравье короля!» — «За здравье королевы!» —
«За здравье примаса
{258}!» — летело справа, слева.
«За здравье шляхты всей, простой и именитой!»
Потом: «За здравие всей Речи Посполитой!» —
«За братскую любовь!» — Под возгласы такие,
Бывало, до зари пьют шляхтичи лихие.
А сколько ждет карет и бричек пароконных,
Чтоб отвезти домой соседей приглашенных!»
В парадных комнатах, в молчанье погруженный,
Гервазий взглядывал на своды и колонны,
Он видел прошлых лет удачи и невзгоды
И, словно говоря: «Прошли, промчались годы!»,
То головой качал, а то махал рукою
И в мыслях горестных не находил покоя.
Все дальше шли они, уже в зеркальном зале,
Где рамы без зеркал у голых стен стояли,
А окна голые зияли пустотою,
Балкон напротив был над лесенкой витою,
Гервазий сгорбился под гнетом дум тяжелых,
Ладонями лицо закрыл, когда ж отвел их,
То скорбный взгляд являл отчаянье такое,
Что Граф растрогался и дружеской рукою
Сжал руку старика, хотя причин печали
Совсем не понимал. Тут оба помолчали.
Вдруг шляхтич произнес с подъятою десницей:
«Нет примирения Горешке и Соплице!
В тебе Горешков кровь, ты кровный родич пана
По матери своей, по внучке каштеляна!
А дед твой, каштелян, был человек известный
И дядя Стольника. Род именитый, честный.
Узнай историю сородичей почтенных,
Что разыгралась здесь, вот в этих самых стенах!
Покойный Стольник был в повете первым паном,
Гордился он своим сокровищем желанным:
Дочь у него была, прекрасная собою,
И не было у ней от женихов отбоя.
А среди шляхтичей ничтожнейшего рода
Соплица Яцек был, по кличке Воевода.
Владел заслуженно своею кличкой лестной, —
Глава трехсот Соплиц был человек известный,
Распоряжался он в повете голосами,
А сам гордиться мог лишь саблей да усами
И родовой земли еще клочком ничтожным.
У пана он бывал, дружил с ясновельможным.
Пан угощал его пред сеймиками знатно, —
Сторонникам его хотел польстить, понятно.
Вот тут-то, как на грех, и обнаглел Соплица,
Задумал этот хват с Горешкой породниться,
Горешке зятем стать! К нам зачастил без зова
И обжился у нас; казалось, все готово,
Посватается он; похлебкой чечевичной
Однажды встречен был и не пришел вторично.
А панна, говорят, и впрямь любила хвата,
Но втайне от других страдала дочь магната.
То были времена Костюшки. Третье мая
Горешко защищал, шляхетство подымая,
Конфедератам он хотел помочь
{259}, однако
Напали москали в тиши ночного мрака.
Едва лишь удалось нам запереть ворота,
Из пушки выпалить… Солдаты шли без счета,
А мы, пан Стольник, я, да удалые парни,
Четыре гайдука, да пьяные в поварне,
Да пани с пробощом
{260} — он был мужчиной дюжим, —
Все к окнам бросились немедленно с оружьем.
На приступ москали посыпали, как тати,
Из ружей десяти мы встретили их — нате!
Из окон гайдуки, с балкона мы палили.
Лежала тьма кругом, как в сумрачной могиле.
Все как по маслу шло, хоть было нас и мало,
Но ружей двадцать пять здесь на полу лежало;
Пальнем из одного, враз подают другое:
Ксендз-пробощ заряжал, не ведая покоя,
И пани с панною и девушки старались…
Да что там говорить, мы доблестно сражались!
Солдаты градом нуль нас осыпали дружно,
Стреляли редко мы, но целились как нужно.
Три раза у дверей сшибались мы с врагами;
По тройке всякий раз летело вверх ногами!
Враги в амбар ушли, а во дворе светлело,
Развеселился пан — пойдет скорее дело!
Кто только голову из-за стены покажет,
Он тотчас выстрелит, конечно, не промажет!
В траву покатится солдатская фуражка.
Куда тут нападать — и так им было тяжко!
Увидя в лагере противников смятенье,
Горешко сам теперь замыслил нападенье,
Распорядился он, довольно улыбнулся
И, закричав: «За мной!» — внезапно пошатнулся.
Я выстрел услыхал, в груди дыханье сперло…
Пан говорить хотел — кровь хлынула из горла…
Попала пуля в грудь. Взглянувши на ворота,
Он пальцем указать успел мне на кого-то…
Соплица! Замер я, от злобы холодея;
По росту, но усам я угадал злодея!
Он Стольника убил, ружье еще дымилось,
Хотел я отомстить немедля, ваша милость!
И я прицелился, стоял он недвижимо…
Два раза выстрелил и оба раза — мимо!
На мушку взять его отчаянье мешало.
На пана глянул я, его уже не стало».
Гервазий зарыдал, лишь вспомнил о потере,
И дальше продолжал: «Враги ломились в двери,
А я был сам не свой… Погиб мой пан, опора…
Не мог я дать врагам достойного отпора.
На счастье, подоспел на помощь Парфянович,
Мицкевичей лихих привел из Горбатович
{261},
Бойцы как на подбор и, как один, все вместе —
Противники Соплиц, мечтавшие о мести.
Так славный пан погиб, благочестивый, бравый,
В роду которого и кресла и булавы!
{262}Он был отцом крестьян и шляхте кровным братом,
Но сына не было, чтоб счеты свесть с проклятым!
Я был его слугой, и обмакнул я в рану
Свой беспощадный меч; известен Ножик пану:
Прошла молва о нем, он оказал услуги
На сеймах, сеймиках, как ведомо округе.
И вот я поклялся Соплицам мстить сторицей,
Пока о спины их клинок не зазубрится!
Двоих убил в бою, двоих прикончил в драке,
А пятого спалил в сарае, знает всякий,
Он спекся, как пескарь, при удалом наезде.
Соплицам всем воздал достойное возмездье,
Всем уши отрубил! Один лишь в целом свете
Соплица уцелел. Живет у нас в повете —
Брат Яцека родной, брат подлого нахала
Доселе здравствует. Ему и горя мало!
Вкруг замка Стольника шумит его пшеница,
И в должности судьи панует пан Соплица!
Уступишь замок ты, чтобы злодея ноги
Кровь пана моего топтали на пороге?
Пока Гервазий жив и палец хоть единый
Он может положить на Ножик перочинный,
Висящий на стене, над стариковским ложем,
До той поры Судье мы уступить не можем!»
Граф отвечал ему с восторгом вдохновенным:
«Недаром так меня тянуло к этим стенам!
Хотя не говорил никто мне из соседей,
Что этот замок был игралищем трагедий!
Мы отберем его, я не потатчик кражам,
Дворецким будешь ты, фамильной чести стражем!
Ты взволновал меня! Чего б я только не дал,
Чтоб этот же рассказ ты ночью мне поведал.
Накинув темный плащ, я сел бы на руинах,
А ты бы речь повел об ужасах старинных.
Увы! Нет у тебя рассказчика призванья!
Слыхал я много раз подобные преданья
О злодеяниях, убийствах, об изменах…
Легенды страшные хранятся в древних стенах!
Шотландские дворцы, германские поместья
И замки Англии — все вопиют о мести!
Из рода в род идут убийства роковые,
Но в Польше слышу я подобное впервые.
Недаром и во мне Горешков кровь струится,
От мщенья моего не скроется Соплица!
Немедля с ним порву! Кипит в душе отвага!
Не суд рассудит нас, а пуля или шпага!
Так честь велит, а я не стану спорить с роком!»
Гервазий слушал все в раздумий глубоком.
Из замка вышел Граф, взглянул он на ворота
И на коня вскочил, вздыхая отчего-то.
Над монологом он хотел поставить точку:
«Жаль! Одинок Судья… Влюбился бы я в дочку
И, в сердце затая жестокие мученья,
Боролся б и страдал, не победив влеченья!
Рассказ бы выиграл от затаенной страсти:
Тут — ненависть и месть, а там — любовь и счастье!»
Так размечтавшись, Граф коня ударил шпорой
И ловчих увидал невдалеке от бора,
А Граф был истинным любителем охоты…
Едва завидел их, отбросил все заботы,
Ворота миновал и парники с рассадой,
Но задержал коня пред низенькой оградой
Садовой.
Яблони за ней росли рядами
И осеняли луг. Над пестрыми грядами
Склоняя лысины, кочны толпились густо,
О судьбах овощей задумалась капуста.
Кудрявую морковь горох оплел стручками,
Уставясь на нее зелеными зрачками.
Султаном золотым кичилась кукуруза;
Арбуз на солнце грел раздувшееся пузо,
За дыней плеть ползла, и развалились дыни
На грядке бураков, как гостьи, — посредине.
Где провела межа границы ровным грядкам,
Шеренги конопли следили за порядком.
Похожа конопля на кипарис зеленый,
И запах и листва ей служат обороной;
Ужу не выбраться из гущи конопляной,
И одуреть червям в ее листве духмяной.
Поодаль мотыльки на стебли мака сели,
Расправив крылышки, которые блестели,
Как будто вкраплены в них самоцветы были,
Как жар горевшие от изумрудной пыли, —
А это мак пестрел, кивая с грядок полных,
И, как луна средь звезд, в кругу цветов подсолнух,
Стоявший целый день на солнечном припеке,
За солнцем лик вращал, большой и круглощекий.
В сторонке от кустов, у самого забора,
Темнели огурцы, разросшиеся споро,
Стелились по земле и закрывали грядки
Узорною листвой, растущей в беспорядке.
По грядкам девушка легонечко ступала,
В густой траве она, казалось, утопала,
Спускаясь с темных гряд, не шла она, а точно
Плыла в волнах травы, ныряя в ней нарочно.
Была в соломенной нарядной шляпке панна,
Две ленты розовых взвивались неустанно,
И выбивалась прядь волос нежнее шелка,
Покачивалась в такт плетеная кошелка.
Склонялась девушка и выпрямлялась гибко;
Как будто девочка, что гонится за рыбкой,
Играет с ней ногой и ловит ручкой белой,
Так к огурцам она склонялась то и дело,
Ногою шарила и белою рукою, —
Залюбовался Граф картиною такою!
Он вздрогнул, услыхав жокеев приближенье,
Рукою им махнул: замрите на мгновенье!
И, шею вытянув, застыл, как будто длинный
Журавль сторожевой пред стаей журавлиной,
Что на одной ноге стоит, закрывши око,
И камень сжал в другой, боясь уснуть глубоко.
Но бернардин вспугнул витающие грезы,
Окликнул графа он, и, точно в знак угрозы,
Веревку всю в узлах он показал сердито:
«Пан хочет огурцов? А вот и огурцы-то!
{263}Подальше от греха! Воспользуйтесь советом,
Нет овощей про вас на огороде этом!»
Ксендз, пальцем погрозив, пошел своей дорогой,
Граф призадумался над этой речью строгой.
Когда ж он глянул в сад, то никого не встретил,
Лишь платье белое в окошечке заметил.
Виднелись и следы; где девушка бежала,
Трава примятая чуть-чуть еще дрожала,
Но успокоилась, точь-в-точь вода речная,
Которой ласточка коснулась, пролетая.
На зелени густой травы, нежнее шелка,
Торчала кверху дном плетеная кошелка,
Запуталась она и на волне зеленой
Уже без огурцов покачивалась сонно.
С уходом девушки все стало тише, глуше,
И на дом Граф глядел, настороживши уши.
Он все раздумывал, а слуги все молчали.
Уединенный дом, что тихим был вначале,
Вдруг ожил, зашумел, раздался крик веселый, —
Так улей весь гудит, когда вернутся пчелы.
А это ловчие домой вернулись с луга,
И с завтраком уже забегала прислуга.
Вот принесли вино и подают приборы,
Под стук ножей уже ведутся разговоры;
Мужчины запросто, в охотничьем наряде,
С тарелками в руках стоят удобства ради,
Пристроились к окну, им и столов не нужно,
О ружьях, о борзых заговорили дружно.
Уселись за столом Судья и Подкоморий,
А панны в уголок забились, смех и горе!
Все беспорядочно за раннею закуской,
Согласно с модою затейливой, французской.
Недавно завелось здесь новшество такое,
И уступил Судья, хотя скорбел душою,
Тут для мужчин — одни, другие блюда — паннам,
Подносы с кофием несут благоуханным
Огромные, они расписаны на диво,
На них кофейники сияют горделиво,
Л возле чашечки саксонского фарфора,
И полный сливочник у каждого прибора.
Вкуснее кофия, чем в Польше, не найдете!
В зажиточных домах напиток сей в почете.
За варкою следит особая кухарка,
По праву женщина зовется кофеварка!
У каждой свой секрет и зерен есть избыток,
Попробуй кто другой сварить такой напиток!
Густой, как старый мед, и, словно уголь, черный,
Что варится у нас искусницей проворной.
Без сливок кофий плох, и в этом нет секрета!
Прислужница идет в молочную с рассвета,
Расставит загодя молочную посуду
И сливки свежие снимает отовсюду,
Чтоб вздулась пеночка, не вышло бы оплошки,
Для каждой чашечки берет она две ложки.
Но дамы, кофий пить привыкшие в постели,
За завтраком его уже не захотели.
Сметаной забелив дымящееся пиво,
Напиток с творогом приготовляют живо.
Закуска для мужчин была совсем иною —
Язык, копченый гусь и сало с ветчиною,
Домашним способом коптят их самым лучшим —
На можжевеловом густом дыму пахучем.
В конце же зразами гостей обносят слуги, —
Судья прославился как хлебосол в округе.
Две группы в комнатах образовались вскоре,
Забылись старики в серьезном разговоре:
Речь о хозяйстве шла и об указах тоже,
Указы что ни день то становились строже.
Пан Подкоморий вел и о войне беседу
И о политике рассказывал соседу.
А дочка Войского его супруге старой
Гадала в уголке, надевши окуляры.
В соседней комнате о травле разговоры —
Сегодня обошлись без криков и без ссоры.
Ведь лучшие стрелки, ораторы повета,
Сидят, насупившись, честь каждого задета!
Юрист с Асессором травили зайца вместе,
Трудились хорошо, но не добились чести:
Они доверили своим борзым косого,
А заяц скрылся вдруг средь поля ярового.
Борзые русаком спешили поживиться,
Но доезжачих тут остановил Соплица —
Он не дал вытоптать крестьянского посева,
Пришлось послушаться (хотя и не без гнева),
А вот теперь сиди, да и гадай, терзаясь:
Которой из борзых попался в лапы заяц!
Обеим, может быть? То так, то этак судят,
И спорам двух сторон, кажись, конца не будет.
На Войского нашел угрюмый стих молчанья,
Лишь стенам уделял он все свое вниманье,
Как будто бы ему охота надоела
И в голову взбрело совсем иное дело.
Старик задумался и мухобойкой глухо
Как хлопнет по стене — убита сразу муха!
А на пороге, здесь, Тадеуш вместе с пани
Вдали от общества устроили свиданье,
Хоть разговор их был неинтересен свету,
О чем-то горячо шептались по секрету,
Тут юноша узнал, что тетушка богата
И что в Судье она привыкла видеть брата,
Но, если говорить по правде, откровенно,
Сродни ль племянник ей — не знает Телимена.
Сестрой Судьи ее родители прозвали,
Но кровное родство меж ними есть едва ли!
Намного старше он. Жила она в столице
И услужить могла десятки раз Соплице,
Приобрела за то его расположенье,
Судья зовет ее сестрой в знак уваженья!
По дружбе с ним она на это согласилась,
От этих слов гора с плеч юноши свалилась:
Серьезный разговор, хотя и очень краткий,
Сомненья прояснил и разрешил загадки.
Дразня Асессора, Нотариус лукавил:
«Я говорил вчера, охота против правил!
Не будет толка в ней: для травли рановато,
Ведь рожь крестьянская еще не всюду сжата,
Не убрана еще и панская пшеница.
Поэтому и Граф не пожелал явиться.
Граф истинный знаток охотничьего дела
И в знании его поспорит с нами смело!
Он рос в чужих краях, видал людей без счету
И варварством зовет литовскую охоту.
Охотятся у нас, как и во время оно,
Не соблюдают здесь ни правил, ни закона;
Границ и полос мы совсем не уважаем
И по чужой земле свободно разъезжаем.
Запретов никаких охотники не знают,
Бесстыдно бьют лисиц, когда они линяют!
И не дают стрелки уйти зайчихам котным, —
Натравливают псов расправиться с животным!
Дичь переводится! У москалей найдете
Цивилизацию — законы об охоте!
Там для охотников указы есть царевы,
И нарушителей ждет приговор суровый».
Батистовым платком обмахивая плечи,
Сказала тетушка вдобавок к этой речи:
«Клянусь я маменькой! Все правда, что ни слово!
Россию знаю я, и это мне не ново!
Я повторяю вам, хоть верить вы не склонны,
Достойны похвалы там строгие законы!
О Петербурге я до сей поры жалею,
Воспоминания, что может быть милее?
А город! Кто-нибудь из вас бывал в столице?
План в столике моем до сей поры хранится!
Там летом высший свет всегда живет на даче,
Конечно, во дворцах, а где ж еще иначе?
Жила я во дворце, он был на возвышенье,
Насыпанном людьми, красиво — восхищенье!
Красавица Нева поблизости струится…
Ландшафт прелестен был!
План в столике хранится!
Но на мою беду, соседний домик вскоре
Чиновник мелкий снял, охотник, просто горе!
Держал он и борзых. Я натерпелась бедствий!
Жить рядом с псарнею, с чиновником в соседстве!
Бывало, с книжкою брожу в аллеях сада,
Сияньем месяца полюбоваться рада, —
Борзая тут как тут! Бежит, хвостом виляя,
Ушами шевелит, видать, собака злая!
Пугалась я не раз, и сердце билось, точно
Предчувствуя беду, все вышло как нарочно!
Однажды вывожу гулять свою болонку,
Борзая бросилась за песиком вдогонку,
Разорвала его у ног моих на части!
Дар князя Сукина! Болонка белой масти!
Собачка резвая, живая, словно птица…
Есть у меня портрет, он в столике хранится.
Погибла, бедная! Я от большой печали
Упала в обморок, тиски мне сердце сжали…
И хуже было бы, но, в лекарстве искусен,
Явился к нам Кирилл Гаврилыч Козодусин
{264}.
Тот егермейстер был с отзывчивой душою
И захотел смягчить отчаянье большое.
Велел он притащить за шиворот чинушу;
Со страха негодяй едва не отдал душу!
«Как ты осмелился под самым царским носом
Лань котную травить?» Ну, оглушил вопросом!
Чиновник побледнел, в ответ лепечет что-то;
Мол, им пока еще не начата охота,
Мол, смеет доложить, едва на то дерзая:
Болонку, а не лань разорвала борзая!
«Как… Возражаешь мне? Мне, царскому вельможе!
Еще и лжешь в лицо! На что это похоже?
Да знаешь ли, кто я? Придворный егермейстер!
Пускай рассудит нас тотчас же полицмейстер!»
Когда явился тот, защитник мой умело
Сам рассказал ему о том, как было дело:
«Вот эту лань зовет собакой дурачина,
Скажи по совести, что это за дичина?»
А тот, как водится, все понял с полуслова,
За дерзость чудака он осудил сурово,
Советовал ему по-дружески, однако,
Признать свою вину рачительный служака.
Вельможе по сердцу пришлось его решенье,
Он обещал царя просить о снисхожденье.
Борзых повесили, чиновник в каталажке
Неделю отсидел, — царь не дает поблажки!
Мы посмеялись всласть над выдумкою славной
И рассмешили свет историей забавной;
Над егермейстерским сужденьем о болонке
Смеялся государь, а он ценитель тонкий!»
Судья и бернардин, готовясь к жаркой схватке,
Открыли козыри и набирали взятки.
Соплица козырь взял — ну, ксендз, пиши пропало!
Однако же рассказ увлек Судью сначала,
Он не откозырял, а только поднял руку
И Робака обрек на медленную муку;
Дослушав до конца, не возвращался к картам.
«Пусть не нахвалятся, — воскликнул он с азартом,
Порядком москалей и просвещеньем немцев;
Пускай поучатся теперь у иноземцев
Охоте на зверей немудрые поляки
И стражников зовут, заслышав лай собаки,
Пускай хватают пса с нехитрою добычей, —
Мы ж на Литве блюдем былых времен обычай!
Зверья достаточно для нас и для соседства,
Не станем следствия чинить в кругу шляхетства.
Богаты хлебом мы, не объедят борзые,
Хотя и забегут в чужие яровые.
Не тронь крестьянских нив! — они лишь под запретом!»
Вмещался эконом: «Могу сказать об этом:
И для крестьянина невелика потеря,
Пан платит дорого за этакого зверя!
За десять колосков мой щедрый паи, бывало,
Копною плачивал, и то казалось мало!
Он талер прибавлял. От щедрости подобной
Крестьяне портятся, я расскажу подробней…»
Но дальше продолжать не дали эконому.
Шумело общество, и каждый по-иному
Доказывал свое; посыпались остроты,
Но вскоре спор прервал смешки и анекдоты.
Тадеуша вдвоем с прекрасной Телименой,
На радость парочке, забыли несомненно.
В восторге юноша был от любезной пани,
Одной ей уделял он все свое вниманье.
Беседа их велась все тише, замирая…
Тадеуш, точно слов ее не разбирая,
Склонился близко к ней и вдруг, лишась покоя,
Тепло щеки ее почувствовал щекою.
Глазами он вбирал очей очарованье,
Дыханье затая, впивал ее дыханье.
Вдруг муха меж их уст, а вслед за мухой бойкой
Пан Войский тотчас же ударил мухобойкой.
Обилье мух в Литве, особые меж ними
Слывут шляхетскими, по праву носят имя.
Шляхтянка черная, черны все мухи в мире,
Но эта покрупней, и грудь чуть-чуть пошире,
А на лету гудит, жужжит протяжно, глухо
И паутину рвет — видать, всем мухам муха!
Уже запутавшись, три дня с жужжаньем бьется
И может с пауком успешно побороться.
Все это Войский знал и уверял застянок,
Что мухи род ведут от этих вот шляхтянок,
Что муха крупная сродни пчелиной матке,
Что с гибелью ее погибнут их остатки.
Однако ни плебан, ни экономка пана
Ему не верили. По мнению плебана,
Не от шляхетских мух шли мухи-невелички!
Пан Войский все-таки не оставлял привычки:
Бил мухобойкой он по всем шляхетским мухам, —
И вдруг такая вот гудит над самым ухом!
Ударил Войский — хлоп! Нет, не попал — оплошка!
Захлопал вновь и вновь, чуть не разбил окошка…
Шляхтянка, одурев, из комнаты метнулась,
Но подле выхода на парочку наткнулась
И меж их лицами с жужжаньем пролетела,
Гречеха хлопнул вслед, — не забывал он дела, —
И отшатнулись вдруг две головы пугливо,
Как будто надвое расколотая ива.
Врасплох застигнуты, как робкие воришки,
О притолоку тут они набили шишки.
Никто их не видал, затем что в разговоры,
Еще негромкие, хотя кипели споры,
Вдруг крики ворвались: бывает так в дубраве,
Когда безмолвно ждут лисицу на облаве;
Вдали трещат кусты, чуть слышен лай собачий,
Но поднял кабана ретивый доезжачий —
И зашумело все, залаяли собаки,
И содрогнулся лес в прохладном полумраке.
Так и с беседою: неторопливо льется,
Покуда с «кабаном» теченье не столкнется.
«Кабан» — давнишний спор борзятников отменных
О качествах борзых, столь необыкновенных.
Он краток был, но вмиг нарушил весь порядок,
Так много колкостей, обидных слов, нападок
Обрушил, что смешал в одно три фазы спора:
Гнев, вызов, колкости, дойдет до драки скоро!
В другую комнату все бросились толпою,
И на порог они нахлынули волною,
Тут смыло парочку бушующею кликой.
Была та парочка как Янус, бог двуликий.
Едва оправились Тадеуш с Телименой,
Как смолкли окрики и спор утих мгновенно.
Вновь говор слышится, и смех звенит повсюду,
Л это ксендз пришел и дал явиться чуду.
Был он немолодым, но крепким и плечистым,
Услышав жаркий спор Асессора с Юристом,
Решил не допустить друзей до рукопашной,
Схватив за шиворот борзятников бесстрашно,
Так лбами стукнул их, как на святой неделе
Яйцом бьют о яйцо, аж искры полетели!
Ксендз руки распростер, швырнув обоих сразу,
Мгновенье постоял, напрягшись до отказу
(Сравниться мог бы он с недвижным обелиском),
«Мир вам!» — провозгласил и «Pax, pax, рах vobiscum!»
Расхохотались все уже без всякой злобы, —
Ведь уважаются духовные особы!
Браниться не могли, а после этой пробы
Не смели в спор вступать: все рвение пропало,
Меж тем достойный ксендз, не возгордись нимало,
Триумфа не искал, на спорщиков не цыкнул,
Не погрозился им и даже не окликнул,
Поправив капюшон, стянул веревку туже
И двери затворил.
Едва он вышел, тут же
Уселись меж сторон Судья и Подкоморий.
От размышления очнулся Войский вскоре,
И, выступив вперед, он стал перед гостями,
Оглядывая всех блестящими глазами,
Махнул хлопушкою, как машет ксендз кропилом,
На тех, чей разговор шел с наибольшим пылом,
И, с важностью подняв ее над головою,
Собранью подал знак, как гетман булавою,
Призвав к молчанию. Заговорил он строго:
«Уймитесь, шляхтичи! Подумайте немного,
Не вы ли первые стрелки во всем повете?
Да знаете ль, к чему приводят ссоры эти?
Вот наша молодежь — надежда и опора,
Чья слава прогреметь должна под сенью бора;
Но юноши — увы! — не тянутся к охоте,
А вы какой пример им нынче подаете?
Стыдитесь! На глазах зеленой молодежи
Едва не подрались, вот до чего я дожил!
Подумали бы вы хоть о моих сединах;
Я знал получше вас охотников старинных
И, как судья, меж них известен был в округе.
Кто равен Рейтану в стрельбе? Скажите, други!
Схватиться с кабаном, напасть на след медвежий
Всех лучше мог у нас Бялопетрович Ежий!
Бил зайца на бегу не раз из пистолета
Жегота молодой, кому по силам это?
А Тераевич пан? Охотник был великий!
Ходил на кабана, бывало, только с пикой!
Будревич, не страшась, вступал с медведем в схватку…
А спор затеется, тогда мы для порядку,
Вернувшись из лесу, как подобает людям,
Заклады ставили и доверяли судьям!
Огинскому барсук немалых стоил денег,
А Неселовскому волчица — деревенек.
Вот так же поступить и вам, панове, надо —
Решите этот спор при помощи заклада!
Слова срываются, а ветер их уносит,
Да что там говорить? Язык покоя просит!
Пусть полюбовный суд обоих вас рассудит,
Никто решения оспаривать не будет.
Я упрошу Судью помочь вам в незадаче:
Пусть забирается в пшеницу доезжачий,
Судья уступит мне, не оттолкнет молений!»
С покорной просьбою он сжал Судье колени.
«Коня! — вскричал Юрист. — В заклад коня и сбрую!
Фамильный перстенек впиши в статью вторую,
Его в salarium арбитру дать готов я,
Как доказательство, что выполню условья!»
Асессор отвечал: «А я поставлю разом
Ошейник золотой и мой смычок
{265} с алмазом,
Работа красотой поспорит с камнем этим!
Признаться, я хотел его оставить детям,
Ведь я женюсь еще… От князя Радзивилла
Достался мне смычок, на травле это было:
Сангушко, Мейен, он и я; с их кобелями
Я суку выпустил, и, посудите сами,
На травле памятной — неслыханное дело! —
Шесть русаков загнать она одна сумела!
Охотились тогда мы на Куписком поле
{266},
Князь соскочил с коня, не мог сдержаться доле,
К собаке подскочил и, горячо целуя,
Восторженно хвалил чудесную борзую:
Три раза по спине хватив ее рукою,
Торжественно нарек «Купискою княжною»!
Так сам Наполеон в князья вождей возводит
По месту подвига, где битва происходит.
Но Телимена тут, наскучив шумом свары,
Решила погулять, искала только пары.
Корзинку захватив, сказала: «Может статься,
Панове, в комнатах хотите вы остаться,
А я так по грибы! Чего сидеть напрасно?»
И, голову покрыв косынкой ярко-красной,
Дочь Подкомория взяла с собой, плутовка,
И юбку подняла над щиколоткой ловко.
Тадеуш поспешил за нею вслед украдкой.
Судья доволен был счастливою догадкой,
При помощи ее хотел избегнуть спора
И крикнул: «По грибы! А кто придет из бора
И лучший гриб найдет, тот будет за обедом
Прекраснейшей из дам счастливейшим соседом.
Когда ж за панною останется победа,
Пусть по сердцу себе найдет она соседа».
Книга третья
Любовные шалости
Посещение Графом сада. — Таинственная нимфа пасет гусей. — Сходство собирания грибов с прогулкой елисейских теней. — Сорта грибов. — Телимена во «Храме грез». — Совещание, касающееся судьбы Тадеуша. — Граф-пейзажист. — Художественные замечания Тадеуша о деревьях и облаках. — Мысли Графа об искусстве. — Звон. — Записка. — Медведь, моспане!
Граф ехал медленно, не отрывая взгляда
От зеленевшего за изгородью сада.
Почудилось ему, — таинственное платье
Блеснуло из окна, как солнце на закате,
И что-то белое слетело легким пухом,
По саду пронеслось легко, единым духом,
В зеленых огурцах сверкнуло на мгновенье,
Как вырвавшийся вдруг из тучи луч весенний,
Когда он упадет на пласт земли кремнистой
И в зеркальце воды — осколок серебристый.
Граф соскочил с коня, жокеев отпустил он,
К забору кинулся он с юношеским пылом,
Лазейку отыскал и вдруг, подобно волку,
Который крадется в ягнятник втихомолку,
Юркнул он в огород, задевши куст рукою.
Смутилась девушка: откуда, что такое?
Вот глянула туда, где ветка задрожала, —
Нет никого, и все ж паненка побежала
В другую сторону, а Граф, меж лопухами
Пополз, и за щавель хватался он руками,
Как жаба прыгая, запрятался в малине
И подивился вдруг невиданной картине.
Росло под вишнями немало всяких злаков,
Различные сорта, и вид неодинаков:
За кукурузой шел овес, ячмень усатый,
Пшеница и бобы перемешались с мятой, —
Ну, словом, этот сад с прекрасной незнакомкой
Разбит для птицы был ученой экономкой.
Мадам Кокошкина из рода
Гусь-Гусыни-Чевых — хозяюшка, каких не сыщешь ныне!
Открытие ее известно всей округе,
А раньше слышали о нем две-три подруги,
Не выдали они заветного секрета,
И все ж в Календаре прочли про средство это:
«Как нам домашних птиц беречь от хищных надо».
Граф сроду не видал еще такого сада!
В какое время бы туда ни заглянули,
Там зоркий страж — петух стоит на карауле,
Задравши голову, поста не покидая,
Не шелохнется он, за небом наблюдая.
Завидев ястреба, висящего высоко,
Закукарекает, и во мгновенье ока
Попрячутся в хлеба павлины, куры, утки
И даже голуби, — со страхом плохи шутки!
Однако в небе враг сегодня не мелькает,
Лишь солнце летнее все жарче припекает,
И птицы разбрелись, ища в тени прохлады,
Купаются в песке, в траве укрыться рады.
Среди домашних птиц, над яркими цветами —
Ребячьи головы с льняными волосами;
Девичья голова виднеется меж ними,
Чуть-чуть повыше их, с кудрями золотыми,
А позади павлин раскинул хвост красивый,
Семи цветов на нем играют переливы.
На фоне голубом, как будто на настели,
Льняные головы издалека блестели,
Как в обрамленье звезд, в венке глазков павлиньих,
В ромашках, васильках и голубых и синих;
Меж золотистою, тяжелой кукурузой,
Уже сгибавшейся от собственного груза,
И шелковой травой с серебряной полоской,
Румяной мальвою, зеленою березкой,
Цветов не перечесть, в глазах рябит от зноя.
Едва колышется все марево цветное.
Над гущею стеблей, колосьев, маков с тмином,
Поденки легкие повисли балдахином;
Прозрачны, как стекло, легки, как паутинки,
Сквозные крылышки, едва приметны спинки;
Сказал бы: над землей туман редеет тонкий —
Жужжат, но кажутся недвижными поденки.
Держала девушка из перьев опахало,
Все серебром оно на солнце отливало,
Отмахивала им от детских головенок
Звенящий, частый дождь кружащихся поденок.
Не рог ли золотой в другой руке? Но странно:
Во рты раскрытые его совала панна.
Кормила малышей, как подобает фее, —
Наверно, рог ее был рогом Амальфеи
{267}.
Поглядывала все ж она в кусты нередко,
Туда, где хрустнула предательская ветка.
Но не оттуда ей грозило нападенье!
Граф миновать успел докучные растенья,
Внезапно поднялся на огородной грядке
И поклонился ей, уж не играя в прятки.
При виде юноши, склонявшегося бойко,
Хотела улететь, как вспугнутая сойка,
Вспорхнула, понеслась, умчалась бы нежданно,
Но дети, в ужасе от появленья пана
И бегства девушки, вдруг в голос заревели.
Как быть? Не бросить же малюток, в самом деле?
Раздумывая так, боялась оглянуться.
И хоть помедлила, должна была вернуться
(Как призрак, вызванный таинственным заклятьем),
Склонилась к малышам, ну слезы утирать им,
Вот на руки взяла меньшого мальчугана,
Утешила других заботливая панна.
Под крылышко ее уткнулись, как цыплята,
Белоголовые затихшие ребята.
«Ну, что кричали вы? — сказала. — Хорошо ли?
Пан испугается, уйдет он поневоле.
Пан не старик с мешком, пришел он не за вами,
Красивый, ласковый, вы поглядите сами!»
Взглянула и она, а Граф завороженный
Глаз не сводил с нее, польщенный, восхищенный.
Тут от смущения красавица зарделась,
Пеняя на себя за собственную смелость.
А Граф и вправду был весьма хорош собою;
Румянолиц, глаза как небо голубое,
Трава запуталась в его кудрях волнистых
И несколько листков и стебельков пушистых —
Гирлянда зелени душистая, живая.
На панну он глядел, восторга не скрывая.
«Как величать тебя, волшебное виденье?
Ты нимфа или дух
{268}, небесное творенье?
Сошла на землю к нам по собственной ли воле?
Прикована ли ты судьбой к земной юдоли?
Догадываюсь я: отвергнутый влюбленный,
А может, опекун суровый, непреклонный
Здесь стережет тебя — страдаешь ты невинно…
Достойная, во мне отыщешь паладина!
Не героиня ли ты повести печальной?
Открой мне горести своей судьбины тайной!
Увидя образ твой, лишился я покоя,
Как сердцем властвуешь, так властвуй и рукою!»
Он руку протянул.
И заиграл румянец
На девичьих щеках; нисколько не жеманясь,
С восторгом слушала паненка речи эти,
На золото монет так радуются дети,
Не зная им цены. Вот и она внимала
Возвышенным словам, хоть их не понимала.
Спросила наконец, запутавшись в догадках:
«Откуда взялся пан? Что ищет он на грядках?»
Тут Графа обдало холодною водою,
Невольно сбавил тон, смущенный простотою:
«Прошу прощения, я помешал забаве,
Паненка на меня теперь сердиться вправе.
Спешил я к завтраку, кружить не захотелось,
И мимо вас пройти я на себя взял смелость.
Тропинка через сад короче и прямее…»
«Пан, вот она, тропа, ступайте же скорее, —
Сказала девушка, — но грядок не топчите!»
«В какую сторону идти мне, покажите!»
Казалось, девушка не поняла, в чем дело,
И с любопытством вдруг на Графа поглядела:
Как на ладони дом, видна к нему дорога,
Чего ж расспрашивать? А Граф искал предлога
Продолжить разговор, допытывался снова:
«Паненка здесь живет, в именье Соплицово?
Как вышло, что еще мы не встречались с нею,
А может быть, она приехала позднее?
Паненкино окно не там ли, за листвою?»
Но девушка в ответ качала головою.
Он думал: «Хоть она не моего романа,
Но как же хороша молоденькая панна!
Высокая мечта, порыв души великой
Невидимо цветут, как роза, в чаще дикой,
Но если вынести ее на свет оттуда,
То явится глазам невиданное чудо!»
Меж тем садовница тихонько встала снова,
Ребенка подняла, взяв за руку другого,
И прочих погнала перед собой, как стадо
Гогочущих гусят, из молодого сада.
А Графу, уходя, сказала: «Пан, быть может,
Птиц разбежавшихся загнать в хлеба поможет?»
«Мне, птицу загонять?» — Граф крикнул в изумленье,
Но девушка уже исчезла в отдаленье;
Лишь увидал в листве, поникнувшей от зноя,
Глаза, блеснувшие живой голубизною.
Но Граф не уходил и вдаль глядел уныло,
Остыл он, как земля, когда зайдет светило
И все погаснет вдруг, утратив очертанья…
В мечтах забылся Граф, — не помогли мечтанья;
От грядок, от кустов свои глаза отвел он:
«Нет! Мало я нашел, а был надежды полон,
Когда по грядкам полз, плененный незнакомкой,
Горела голова, стучало сердце громко,
Манила девушка несбыточной мечтою,
Я столько ждал чудес, увлекшись красотою,
Все вышло иначе — убого, неприглядно:
Прекрасное лицо, зато сама нескладна.
Округлость туежных щек, румянец ярко-алый
Здоровье выдают и простоту, пожалуй.
Но мысли спят еще в душе неискушенной.
Не светский разговор, учтивости лишенный…
Воскликнул наконец, в сердцах кляня простушку:
«За нимфу принял я гусятницу, пастушку!»
А с нимфою ушло и все очарованье,
Прозрачность воздуха и красок сочетанье.
Увы! За золото он принимал солому!
Теперь, однако, Граф все видит по-другому,
Глядит на пук травы, обвязанный метлицей,
Что перьями считал, и сам себе дивится!
Рог позолоченный, сиявший красотою,
В действительности был морковкою простою!
Мальчишка грыз ее с завидным аппетитом,
Разочарованным казался Граф, сердитым…
Так одуванчиком прельщается ребенок,
Не выпустит цветка из пухленьких ручонок,
Захочет приласкать, дохнет — от дуновенья
Пухразлетается в единое мгновенье.
На голый стебелек, совсем неаппетитный,
С отчаяньем глядит ботаник любопытный.
Тут, шляпу на глаза надвинув, без оглядки,
Граф поспешил назад, и наступал на грядки,
И огурцы топтал с цветами без пощады,
Пока не миновал затейливой ограды.
«Зачем я спрашивал, как ближе выйти к дому,
А что, как передаст слова мои другому?
Пойдут искать меня и не найдут… о боже!
Подумают — бежал! На что это похоже?
Не воротиться ли?» Граф колесил по саду,
На бедных огурцах срывал свою досаду,
Пока не увидал кратчайшую дорогу,
Которая вела к знакомому порогу.
По ней он и пошел и, как воришка ловкий,
Что, заметая след, уходит из кладовки,
Назад не поглядел и не убавил хода
(Хоть не следил за ним никто из огорода).
Закинув голову, хитрец глядел направо,
А там раскинулась зеленая дубрава.
Там, словно по ковру с узорными цветами,
Под бархатистыми, нависшими ветвями
Фигуры странные сновали в отдаленье,
Как будто под луной кружились привиденья:
Мелькали призраки в одеждах узких, странных,
В накидках и плащах, широких полотняных,
Простоволосые и в тюлевой повязке,
Подобно облаку причудливой окраски,
Под ветром полосы цветного шарфа вьются
И, как хвосты комет, за духами несутся.
Иные призраки, уставясь вдаль куда-то,
Бредут, как будто бы лунатики, со ската,
Другие замерли, впились в траву глазами,
Сказал бы: приросли к поляне этой сами,
Те смотрят в сторону, ленивы, полусонны,
Те наклоняются, как будто бьют поклоны.
Вот сходятся они, не обменявшись словом,
Опять расходятся в молчании суровом.
Граф объяснить себе не мог немых движений,
Не елисейские ль расхаживают тени?
Те, что не ведают ни боли, ни страданья,
Ни радостей любви — бесплотные созданья…
Кто мог бы угадать в тех духах невесомых
Гостивших у Судьи приятелей, знакомых?
А между тем они подзакусили плотно
И по грибы пошли в тенистый лес охотно.
Как люди умные, толк понимая в деле,
Они заранее все рассчитать сумели
И следом за Судьей не сразу поспешили,
Но подготовиться как следует решили,
И занялись они серьезно туалетом,
Косынки и плащи накинули при этом,
И шляпы круглые напялили пастушьи —
Покрыв холстиною сукманы и кунтуши,
Белели шляхтичи, как призрачные души.
Преобразились так все, кроме Телимены
И нескольких юнцов.
Но живописной сцены
Граф разгадать не мог, обычаев не зная,
И бросился к теням, пути не разбирая.
Не счесть грибов! Юнцам дороже всех лисички,
Прослыли на Литве лисички-невелички
Эмблемой чистоты, их червь точить не станет,
И насекомое к их шляпкам не пристанет!
Паненки боровик разыскивают с жаром,
Грибным полковником зовется он недаром!
Все жаждут рыжиков, на вид они скромнее,
Не так прославлены, но все ж их нет вкуснее!
В рассоле хороши зимою либо в осень.
Гречеха мухомор нашел под тенью сосен.
А сколько есть грибов невкусных, ядовитых,
Никто не зарится на аппетитный вид их,
Однако ж их едят и волки и зайчата,
Лесную глушь они украсили богато!
На скатерти полян, как винная посуда, —
Грибов серебряных, червонных, желтых груда.
Не сыроежки ли, как чарочки лесные
С искрящимся вином, цветные, расписные?
Бычки, похожие на брошенные кружки,
Как рюмочки, блестят в сырой траве горькушки,
И, словно молоком наполненные чашки,
Белянки круглые скрываются в овражке;
Поодаль дождевик разбух от черной пыли,
Не перечница ль он? В траве поганки были,
Хоть безыменные, а все же ходят толки,
Что дали имена им русаки и волки.
К тем заячьим грибам никто не прикоснется,
А если, ошибись, в лесу на них наткнется,
То, растоптав ногой досадную поганку,
Посадит он пятно на светлую полянку.
Что было до грибов полезных или волчьих
Сестре хозяина? Она вдали от прочих
Шла, голову задрав. Юрист сказал в насмешку,
Что, верно, на ветвях искала сыроежку.
Асессор же сравнил ее поядовитей —
С голубкой, ищущей, где гнездышко бы свить ей.
К уединению стремилась Телимена
И, отдаляясь так от прочих постепенно,
На холмик поднялась, пологий и зеленый, —
Уютный уголок, ветвями затененный.
Там камень высился, ручей оттуда прядал
И, сыпля брызгами, с журчаньем легким падал
И душистую траву; ища приют от зноя,
Запенясь, пролагал он русло вырезное,
На ложе из листвы, травою перевитой,
Проказник тотчас же смирял свой нрав сердитый:
Невидимый для глаз, струился еле-еле,
Мурлыча, как малыш в уютной колыбели,
Когда задернет мать над ней кисейный полог,
Чтоб сон младенческий и сладок был и долог.
Тенистый уголок, укромный, сокровенный,
Недаром «Храмом грез» был назван Телименой.
Здесь, у ручья, она с лилейных плеч спустила
Коралловую шаль, небрежно расстелила
И, как купальщица, боясь воды холодной,
Нее не решается коснуться глади водной,
Помедлила еще, но вот склонилась боком
И, точно схвачена коралловым потоком,
Упала, оперлась на локти и лениво
На шали улеглась под серебристой ивой,
Потом загрезила с поникшей головою,
Обложка желтая мелькнула над травою,
Над белизной страниц, шуршащих еле-еле,
Чернели локоны и ленты розовели.
В смарагде буйных трав алели складки шали,
Кругом красавицу кораллы украшали,
И кудри черные ей придавали прелесть,
И туфли черные заманчиво виднелись.
Цветная, яркая, в нарядном одеянье
На гусеницу тут была похожа пани,
Заползшую на лист.
Увы! Душа страдала —
Такая красота напрасно пропадала!
Никто красавицу не пожирал глазами,
Все были заняты презренными грибами!
Тадеуш на нее поглядывал украдкой,
Но пробирался к ней опасливо, с оглядкой,
С охотником на дроф, пожалуй, мог сравниться,
Который на возу с ветвями едет к птице,
Не то на стрепетов идет неторопливо,
Конь впереди бежит, ружье укрыто гривой.
Прикинется стрелок, что смотрит на дорогу,
И приближается к добыче понемногу, —
Так крался юноша.
Но помешал затее
Судья, который шел племянника быстрее.
Вихрь нагонял его и, развевая полы,
С платком на поясе заигрывал, веселый,
И шляпа летняя от бурного порыва
Качалась, как лопух, и то на шею криво,
То на глаза ему назойливо съезжала,
Однако же идти Соплице не мешала.
Вот, руки сполоснув в ручье, белевшем пеной,
На камень рядом сел он с пани Телименой,
На палку оперся потом рукою влажной
И приготовился к беседе очень важной.
«Сестрица, с той поры как к нам приехал Тадя,
Задумываюсь я, на будущее глядя,
Бездетен я и стар, сказать по правде надо:
Племянник для меня — единая отрада!
К тому ж — наследник мой, а я, по воле неба,
Оставлю юноше кусок шляхетский хлеба!
Должна его судьба в имении решиться,
Я за нее несу ответственность, сестрица!
Отец Тадеуша, признаться надо, странный,
И непонятны мне дела его и планы.
Сказался умершим, сам притаился где-то,
Не хочет между тем, чтоб сын узнал про это.
Меня тревожит брат: то в легион
{269} вначале
Он Тадю направлял, я был в большой печали…
Потом согласье дал, чтоб пожил он в поместье,
Женился поскорей… А я уж о невесте
Подумал для него отнюдь не мимоходом:
Здесь с Подкоморием никто не равен родом,
Как раз на выданье его дочурка Анна,
Богата и знатна, собой прекрасна панна,
Хочу сосватать их». Тут пани побледнела
И книжку бросила, вскочила, снова села:
«Помилуй, братец мой, да веришь ли ты в бога?
Зачем его женить? Подумай хоть немного!
Как в голову взбрела подобная затея?
Не стыдно ль превратить красавца в гречкосея!
{270}Тебя он проклянет впоследствии за это!
Зарыть такой талант в глухой тиши повета!
Поверь словам моим: есть разум у дитяти,
Пусть наберется он и лоска и понятий,
Для воспитания нужна ему Варшава…
Ах, милый братец мой! Придумала я, право…
Пошли Тадеуша в столицу за судьбою.
Там зиму проведу, и порешим с тобою,
Как лучше поступить. Принять смогу я меры,
Ну, словом, сделаю все для его карьеры!
С моею помощью он всюду будет принят
И вес приобретет, ведь связям там цены нет!
Чины получит он, а дальше почему ж бы
Не бросить Петербург и не уйти со службы,
С большими связями и с орденом в придачу?
Ну, что ответишь мне?» — «Вот задала задачу! —
Ответил ей Судья. — Тадеушу по свету
Не плохо побродить, об этом спора нету!
Я в юности моей пространствовал немало
И в Дубно побывал
{271} с делами трибунала,
И в Петрокове был
{272}, свет повидал на славу!
Однажды посетил я даже и Варшаву!
Теперь Тадеуша отправил бы я смело
В далекие края поездить так, без дела,
Попутешествовать и свет увидеть, пани,
Поездкой завершить свое образованье.
Не ради орденов, — готов просить прощенья,
Российские чины, какое в них значенье? —
Никто из шляхтичей простых и именитых
Не ищет орденов российских и не чтит их.
Приобретается почтение народа
За имя доброе, еще за древность рода,
За должность, данную доверием шляхетским,
А не протекцией и не знакомством светским».
«Когда согласен ты, — вскричала Телимена, —
Пошли Тадеуша в столицу непременно!»
Затылок почесав, сказал Судья, вздыхая:
«Послать бы я послал, затея неплохая!
Но брата своего ослушаться не смею,
Монаха мне теперь он навязал на шею, —
Ты знаешь, бернардин приехал из-за Вислы;
Мой брат открыл ему намеренья и мысли:
Тадеуша женить на Зосе дал приказ он,
И хорошо бы нам уладить дело разом!
Не скрою от тебя: при браке столь желанном,
Мой брат наделит их значительным приданым.
Достался капитал изрядный мне от брата,
По милости его живу теперь богато,
И вправе он решать, — подумай-ка об этом
И помоги, сестра, мне делом и советом!
Мы познакомим их. Сознаюсь я, не споря,
Что Зося молода, но в том не вижу горя.
Давным-давно пора ей показаться в свете,
Хотя и в небольшом, хотя б у нас в повете!»
С волненьем слушала Соплицу Телимена,
Вскочила на ноги и села вновь мгновенно.
Как будто своему не доверяя слуху,
Гнала слова его, как прогоняют муху,
Отталкивала их в уста ему обратно
И разразилась вдруг:
«Мне это непонятно!
Как быть с племянником, вы разбирайтесь сами!
Об этом, добрый брат, не буду спорить с вами!
Вы с Яцеком вдвоем решайте, как хотите, —
Хоть и в корчму его за стойку посадите,
Пусть носит из лесу вам кабанов и лосей…
Но права нет у вас распоряжаться Зосей!
Что вам до Зосеньки? Ее ращу я с детства,
Пускай твой старший брат давал на это средства
И пенсию платил сиротке ежегодно.
Он не купил ее, и девушка свободна:
Пускай приданое назначил — деньги эти,
Как ведомо тебе и всем другим в повете,
Не без причины ей дает, чего дивиться?
Перед Горешками в большом долгу Соплица!»
Судья внимал речам со скорбным выраженьем,
И с неохотою и с тайным сожаленьем,
Обидные слова задели за живое,
Он вспыхнул и поник печально головою.
А пани кончила: «Я Зоею воспитала,
Я родственница ей, и мне решать пристало,
И не позволю я, чтоб вмешивался всякий…»
«А если Зосенька отыщет счастье в браке? —
Прервал ее Судья. — И влюбится в Тадюшу?»
Но пани крикнула: «Ищи на вербе грушу!
Полюбит или нет — подумаешь, событье!
Питомица моя, всем стану говорить я,
Хоть не богатая, да не простого рода:
Отцом сиротки был вельможа-воевода!
Жених отыщется, за ним не станет дело,
А Зосенька, что мной воспитана умело,
Здесь одичала бы!» Казалось, что отказом
Судья не огорчен, он не повел и глазом,
А молвил весело: «Не гневайся на свата.
Бог видит, я хотел исполнить волю брата,
Хотел и твоего согласия добиться,
Но вправе ты решать, любезная сестрица,
И если Зосеньку отдать не хочешь Таде,
То будь по-твоему, не злись же, бога ради!
Я брату отпишу, что панну Зоею сыну
Не хочешь отдавать, и объясню причину,
А сам договорюсь я с паном Подкоморьем,
С ним сладим сватовство, наверно, не поспорим!»
Но Телимена вмиг ответила: «Помилуй!
Не отказала я тебе, мой братец милый!
Паненка молода, ты сам заметил это,
Посудим, поглядим, не дам еще ответа.
Мы познакомим их, как водится у шляхты,
Нельзя судьбу других решать с бухты-барахты!
И ты не заставляй племянника жениться,
Когда не по сердцу окажется девица!
Ведь сердце не слуга, не знает господина,
Не заковать его в оковы все едино!»
Судья, задумавшись, пошел своей дорогой,
Тадеуш тотчас же приблизился немного,
Хотя и делал вид, что увлечен грибами,
Сюда же крался Граф неслышными шагами.
Он видел спор Судьи с прекрасной Телименой
И живописною залюбовался сценой.
Вмиг вынул карандаш с бумагой из кармана,
Которые носил с собою постоянно,
И, положив на пень, сказал себе: «Вот случай!
Никто бы выдумать не мог картины лучшей!
Тут он, а там — она! Контрастные фигуры,
И позы смелые, — сейчас пиши с натуры!»
Граф протирал лорнет средь сумрака лесного,
Глаза зажмуривал, и вглядывался снова,
И приговаривал: «Чудесней полотна нет,
Но стоит подойти — и что ж глазам предстанет?
Не бархат-изумруд — травы зеленой кромка,
И не дриада, нет! А только экономка!»
Граф с Телименою в дому Судьи встречался,
Но красотой ее тогда не восхищался,
Вниманьем не дарил своей знакомки давней
И удивился вдруг, модель мечты узнав в ней.
Он не сводил с нее восторженного взгляда.
Так красили ее и красота наряда,
И не затихшее еще волненье спора,
И освежающий, душистый ветер бора,
И юношей приход, приятный и нежданный, —
Все делало ее красивой и желанной.
Тут Граф заговорил: «Прошу у вас прощенья,
Дань благодарности принес и восхищенья!
Сознаться должен вам, что, стоя за березой,
Я подглядеть успел, как тешились вы грезой;
И как же я теперь виновен перед вами,
Пером не описать, не рассказать словами!
За вдохновение обязан вам навеки,
Суди художника, забыв о человеке!
Рисунок удостой вниманьем благосклонным».
И подал ей пейзаж с почтительным поклоном.
Набросок юноши судила Телимена,
Как судят знатоки, с умом, проникновенно,
Скупа на похвалы, щедра на поощренье:
«У пана есть талант, достойный восхищенья!
Работать вы должны, но в поисках натуры
Не льститься на леса и небосвод наш хмурый…
Италия! О, рай! О, чудеса природы!
Тибура дивного классические воды!
{273}Ты, Позилипский грот
{274}, покрытый древней славой…
Земля художников! У нас, о боже правый!
Питомец муз у нас зачах бы в детстве раннем…
Пускай останется эскиз воспоминаньем!
Я сохраню его среди страниц альбома,
Что в столике моем всегда хранится дома».
Речь повели они о дуновеньях нежных,
О скалах голубых, о шуме волн прибрежных
И, отдавая дань своих восторгов югу,
Хулили родину и вторили друг другу.
А между тем кругом, налево и направо,
Литовские леса темнели величаво.
Кудрявый хмель обвил черемуху багрянцем,
Рябина расцвела пастушеским румянцем,
А рядом с жезлами орешины — менады
Орехов жемчуга вплели в свои наряды,
И тут же детвора — шиповник и калина,
Устами спелыми к ним тянется малина,
Дубы с кустарником переплелись ветвями,
И каждый кавалер уже склонился к даме,
А сбоку парочка, ну, впрямь молодожены!
Всех выше, всех стройней, всех зеленее кроны,
От всех отличные осанкой и нарядом —
Береза белая и граб влюбленный рядом.
Вдали безмолвные ряды высоких буков,
Они, как старики, любуются на внуков,
Седые тополи, за ними бородатый
Пятисотлетний дуб, от старости горбатый,
На предков оперся сухих, окаменелых,
Как на кресты могил, давным-давно замшелых.
Тадеуш нервничал, вертясь как на иголках,
Принять участия не мог он в праздных толках,
Когда же принялись они друг перед другом
Деревья восхвалять, взлелеянные югом:
Алоэ, кактусы, оливы и лимоны,
Агавы, апельсин, миндаль и цииамоны,
Орехи грецкие, смоковницы густые,
Хвалили их плоды, все солнцем налитые, —
Тадеуш хмурился, молчал он поневоле
И вдруг заговорил, не сдерживаясь доле.
Он горячо любил литовскую природу
И чувству своему дал полную свободу:
«В оранжерее я видал деревья ваши,
Да только наши мне в сто раз милей и краше!
Какое же из них сравнится с нашим кленом,
С березой, елкою и ясенем зеленым?
Быть может, кактусы? А может быть, алоэ?
Растенье хоть куда — колючее и злое!
Видать, что вы хвалить добро чужое склонны,
По вкусу вам пришлись дурацкие лимоны,
Шары из золота в листве одутловатой,
Да их не отличить от карлицы богатой!
Не знаю, чем хорош ваш кипарис хваленый,
Лакей немецкий он, в ливрею облаченный,
Он, мол, незаменим, как траур на кладбище,
Но веет от него не скорбью, а скучищей!
Стоит навытяжку, блюститель этикета,
И не шелохнется, куда как скучно это!
Ей-богу, краше их кудрявые березы,
Они, как матери тоскуя, точат слезы,
Как вдовы горькие, заламывают руки
И косы до земли склоняют в смертной муке.
Как выразительны их скорбные фигуры!
Так отчего ты, Граф, не пишешь их с натуры?
Не пишешь тех берез, среди которых дышишь?
Не сетуй, коли так, насмешки ты услышишь:
«Живет, мол, на Литве, живет, мол, на равнине,
А пишет только лишь ущелья да пустыни»,
«Приятель, — Граф сказал, — природы совершенство —
Канва искусства, фон; удел души — блаженство,
Она всегда парит на крыльях вдохновенья,
Все совершенствуясь, дарит нам упоенье,
Природы мало нам и вдохновенья мало,
Манит художника обитель идеала!
Не все прекрасное пригодно для искусства,
Из книг узнает пан, что развивает чувство.
Для вдохновения искали пейзажисты
Ансамбль и колорит лучистый, золотистый,
Цвета Италии, вот почему, конечно,
Землей художников ей называться вечно!
Двух-трех художников сочтем и мы: Брейгеля,
Конечно старшего, отнюдь не Ван дер Хелля.
Поговорить могли б еще о Рюисдале,
На севере других артистов не видали!
Что ж, небеса не те!» — «Художник пан Орловский
{275},
Артист, а вкус имел сугубо соплицовский, —
Так пани прервала (Соплицам всем на свете
Милее прочих мест леса-дубравы эти). —
Орловский славился, гордилась им столица, —
Эскиз есть у меня, он в столике хранится!
Клянусь я маменькой, что в этой райской жизни
Орловский тосковал о брошенной отчизне,
С годами, кажется, любил ее все больше
И вечно рисовал природу милой Польши!»
«Конечно, прав он был! — сказал Тадеуш с жаром, —
Небес Италии не надо мне и даром!
Замерзшая вода — вся прелесть их лазури,
Но лучше во сто крат родных просторов бури!
Поднимешь голову — и над тобою прямо
Раскроется вверху цветная панорама:
Все тучи разные — осенняя ленива,
Дождем набухшая, ползет неторопливо
И по земле метет распущенной косою —
Струящихся дождей сплошною полосою.
А градовая вдаль летит, как шар, по сини,
Она кругла, темна, желта посередине.
А сколько в облаках сегодня непрерывной,
Таинственной игры, изменчивой и дивной:
То облака летят станицей лебединой,
Их, точно сокол, вихрь сгоняет воедино;
То разрастаются быстрее и быстрее
И, гривы распустив, вытягивают шеи,
Взмахнут копытами, — и вот уже над нами
Проносятся они лихими табунами,
Белы, как серебро, стремительны, красивы…
И что же? В паруса вдруг превратились гривы!
Исчезли табуны, и, словно на картине,
Несутся корабли по голубой равнине».
Граф с Телименою разглядывали тучи,
Старался описать Тадеуш их получше,
А между тем рукой жал ручку Телимены, —
Так несколько минут промчалось тихой сцены.
Граф вынул карандаш с бумагой из кармана,
Он рисовать хотел, но резкий звон нежданно
Раздался вдалеке, и тотчас же из бора
Донесся громкий смех и отголоски спора.
Граф, головой качнув, промолвил важным тоном:
«Так все на свете рок кончает медным звоном —
Полет фантазии, утехи бранной славы,
И дружбу тихую, и детские забавы.
Чувствительных сердец живые излиянья,
Вдруг погребальный звон — и меркнут упованья!
Что ж остается нам? Ответьте откровенно!»
«Воспоминание!» — сказала Телимена.
Желая обратить слова печали в шутку,
С улыбкой подала красавцу незабудку.
Поцеловав цветок, Граф вдел его в петлицу.
Тадеуш между тем, срывая медуницу,
Увидел, что скользит к нему, в тени белея,
Рука прелестная, как нежная лилея.
Схватил и удержал он ручку без усилий,
Тонули губы в ней, как пчелы в чашах лилий.
Вдруг холод на губах: то ключик и записка.
В карман засунул их Тадеуш к сердцу близко;
И хоть не понимал, что означает ключик,
Но рад был получить его из милых ручек.
За громким звоном вслед летели, словно эхо,
Людские голоса, и крик, и взрывы смеха.
Был этот медный звон настойчив, беспокоен —
Веселых грибников звал из лесу домой он.
Но не печален был звенящий голос меди,
Напротив, говорил о лакомом обеде.
Шел из-под крыши звон, и в полдень постоянно
Сзывал он на обед гостей в усадьбе пана, —
Обычай заведен со времени былого,
И соблюдался он доныне в Соплицово.
Вернулись грибники веселою гурьбою,
Кошелки, кузовки несли они с собою,
Как веер, сложенный в руках у каждой панны, —
Дородный боровик, особенно желанный,
Лисички желтые и мелкие волнушки —
В тени, под елками собрали их подружки.
Нес Войский мухомор, лишь юноши и пани
Вернулись без грибов, не поддержав компаньи.
Столпилось общество в столовой в полном сборе;
Вот к месту главному проходит Подкоморий,
Он, самый старший здесь и возрастом и чином,
Шагает, кланяясь и дамам и мужчинам,
Ксендз и Судья за ним. Как водится доныне,
Вначале ксендз прочел молитву по-латыни,
Мужчины выпили, на скамьи гости сели,
Литовский холодец в молчанье дружном ели.
Царила тишина за праздничным обедом,
И за столом сосед не говорил с соседом,
Сторонники борзых задумались в молчанье, —
Тревожили умы заклад и состязанье,
Ведут к молчанию заботы неизменно.
Смеясь, с Тадеушем болтала Телимена,
И с Графом легкую беседу затевала,
И об Асессоре отнюдь не забывала:
Переняла она повадку птицелова,
Что заманил щегла и метит на другого.
Меж тем соперники счастливые сидели
Неразговорчивы, не пили и не ели.
Граф трогал с нежностью подарок — незабудку,
Тадеуш нервничал, боялся не на шутку,
Что ключик пропадет, он нагибался низко
И проверял: цела ль заветная записка?
Судья венгерское цедил неторопливо
И Подкоморию колено жал учтиво,
Но разговаривать он не имел охоты:
Смущали ум его хозяйские заботы.
Не клеилась у них и за жарким беседа,
Прервал сонливое течение обеда
Гость неожиданный, а это был лесничий,
Нарушил смело он обеденный обычай.
К Соплице подскочил, не мог стоять на месте, —
Наверное, принес отличное известье!
Все замерли на миг, он перевел дыханье
И громко закричал: «Медведь! Медведь, моспане!»
Расспрашивать его охотники не стали,
Что зверь занеманский, и сами угадали.
Одна и та же мысль — не потерять бы время —
Сверкнула в головах и завладела всеми.
По кратким возгласам, по жестам торопливым
Видать, что все одним охвачены порывом.
Все разом поднялись, приказы полетели,
Хоть много было их — вели к единой цели.
Соплица закричал: «В село лететь галопом,
Чтоб на облаву шли, пусть сотский скажет хлопам!
Пусть не забудет он всем объявить заране:
Неделю барщины скощу я за старанье!»
Пан Подкоморий вслед: «Скачите-ка на сивой!
Пиявок из дому сюда доставьте живо!
Известны всем они, погладь — откусят руку.
Пса Справником зовут. Стряпчиною звать суку!
Надев намордники, в мешки их завяжите!
Гоните сивую! Собак скорей тащите!»
Асессор закричал по-русски: «Эй ты, Ванька!
Тесак — дар княжеский — из сундука достань-ка!
(Асессор хвастался перед слугою даже.)
Проверить не забудь и пули в патронташе!»
Нотариус взывал: «Свинца! Свинца! Панове!
А форма для литья
{276} в подсумке наготове!»
Судья командовал: «Оповестить плебана,
Чтоб мессу отслужил он завтра утром рано.
Святого Губерта нужна нам будет месса,
А соберемся мы в часовенке у леса».
Замолкли возгласы, затихли приказанья,
Все призадумались средь общего молчанья.
И каждый, поводя внимательно глазами,
Искал начальника облавы меж гостями.
Взглянув на Войского, уж не искали боле,
Он дружно избран был для этой важной роли.
Ничуть не оробев пред почестью такою,
Он стукнул по столу могучею рукою,
Достал свои часы, похожие на грушу.
И, поглядев на них, вновь пристегнул к кунтушу.
«Панове, на заре сойдемся мы в каплице,
Перед облавою не грех бы помолиться».
Гречеха тотчас же ушел с лесничим вместе —
Им надо обсудить облаву честь по чести,
Как доблестным вождям перед великим боем,
Наметить общий план приходится обоим.
Солдаты спят давно, им грезится атака,
Но бодрствуют вожди у сонного бивака.
Обед не шел на ум! Все к делу приступили,
Те ружья чистили, те лошадей кормили.
Да и за ужином все были не речисты,
Не заводили ссор куцисты, соколисты.
Асессор об руку, как с другом и соседом,
Отправился искать свинец с Законоведом,
Другие, утомясь, скорей легли в постели,
Перед облавою все выспаться хотели.

«Дзяды» часть III
Книга четвертая
Дипломатия и охота
Видение в папильотках будит Тадеуша. — Ошибка, замеченная слишком поздно. — Корчма. — Эмиссар. — Умелое пользование табакеркой дает надлежащее направление спору. — Крепь. — Медведь. — Тадеуш и Граф в опасности. — Три выстрела. — Спор Сагаласовки с Сангушовкой, решенный в пользу горешковской одностволки. — Бигос. — Рассказ Войского о поединке Довейки с Домейкой, прерванный травлей зайца. — Окончание рассказа о Довейке и Домейке.
Деревья, сверстники, друзья князей литовских,
Краса понарских пущ и гордость кушелевских!
Любили отдыхать в глуши чащобы дикой
Витенес
{277}, и Миндовг, и Гедимин великий!
Однажды Гедимин охотился в Понарах,
На шкуру он прилег в тени деревьев старых
И песней тешился искусного Лиздейки
{278},
Пока не задремал под говорок Вилейки;
Железный волк ему явился в сновиденье,
И понял Гедимин ночное откровенье:
Он Вильно основал, и, словно волк огромный
В кругу других зверей, встал город в чаще темной.
И Вильно вырастил, как римская волчица,
Ольгерда с Кейстутом, чья слава не затмится,
Князей-охотников, могучих, величавых,
Удачливых в боях, на травлях и облавах.
Так было вещим сном грядущее открыто:
Железо и леса — литовская защита.
Леса литовские! В глуши дубов и кленов
Охотился не раз наследник Ягеллонов!
Последний Ягеллон
{279}, он предков был достоин,
Последний на Литве король — охотник, воин.
Деревья милые! Увижу ли вас снова —
Друзей-приятелей далекого былого?
А как Баублис-дуб? В стволе его зияло
Огромное дупло; сходилось в нем, бывало,
Двенадцать рыцарей на пиршестве веселом.
Шумит ли рощица Миндовга за костелом?
И липа старая размеров исполинских
Стоит ли над рекой у дома Головинских?
{280}Плясало вкруг нее, в тени ветвей зеленых,
Сто молодых людей, сто девушек влюбленных.
Деревья старые, вас меньше год от году,
И вырубают вас стяжательству в угоду!
Не петь лесным певцам в густой листве весенней,
Поэтам не мечтать под шелколистой сенью.
Ян отклик находил у липы в Чернолесье
{281},
Дуб, старый говорун, разросся в поднебесье,
Нашептывал певцу
{282} сказания не раз он!
А скольким, скольким я, деревья, вам обязан!
Бывало, упустив добычу, уязвленный
Насмешками друзей, я уходил под клены…
И сколько образов дарила глушь лесная!
Садился я на холм, охоту забывая.
Седобородый мох на том холме высоком
Черника залила иссиня-черным соком;
Цветущим вереском отсвечивали дали,
И ягоды в листве, как бусины, сверкали;
А ветви наверху темнели, словно тучи,
И застилали высь завесою дремучей.
Порою вихрь шумел над неподвижным сводом,
Стонал и грохотал, подобно бурным водам,
Он опьянял меня. Казалось мне, бывало,
Что небо надо мной, как море, бушевало!
Внизу развалины, — там, словно стены сруба,
Торчал корнями вверх огромный остов дуба,
Валились на него колонна за колонной
Тяжелые стволы с листвой еще зеленой.
Трава сплела вкруг них подобие забора.
В чащобу не ходи! Там властелины бора —
Медведи, кабаны; кой-где белеют кости
Зверьков, забредших к ним неосторожно в гости.
Взметнутся в зелени и канут в отдаленье
Две светлые струи, — нет! то рога оленьи!
И зверь, блеснув в кустах полоской золотою,
Исчезнет, словно луч, за порослью густою.
И снова тишина. Лишь дятел еле-еле
Постукивал в лесу, перебирая ели,
Тук-тук, — и улетит, умчится без оглядки,
Как будто мальчуган, что заигрался в прятки.
Да белочка грызет орешки торопливо,
Над головою хвост раскинув горделиво,
Как пышное перо на шишаке улана;
Насторожится вдруг, заслышав шум нежданно,
И, гостя увидав, лесная танцовщица,
Быстра, как молния, по гибким веткам мчится
И прячется в дупле, не видимом для взгляда,
Как быстроногая, пугливая дриада.
И снова тишина.
Вдруг из глухой ложбины
Послышались шаги, качнулись две рябины;
Затмив чету рябин, как зорька-заряница,
Выходит с туеском красавица девица,
Протянет туесок с малиною румяной,
Такой же, как ее уста, благоуханной.
А рядом парень гнет орешины густые,
И рвет красавица орехи молодые.
Чу! Грянули рога, залаяли собаки, —
Охота близится в прохладном полумраке,
И, ветви выпустив, в смятенье и тревоге,
Исчезнет парочка, — как исчезают боги.
Хоть в Соплицове шум, ни суета, ни ржанье,
Ни громогласный лай, ни бричек дребезжанье,
Ни трубы звонкие — глашатаи охоты, —
Ничто не вывело сонливца из дремоты;
Тадеуш, как сурок, одетый спал в постели,
Разыскивать его по дому не хотели.
Все на своих местах уже с зарею были
И о Тадеуше не вспомнили, забыли.
Он спал, а солнышко сквозь ставенные щели,
Сквозь прорезь прорвалось, и пробралось к постели,
И огненным столбом в лицо ему глядело.
Не просыпаясь, он вертелся то и дело,
Как вдруг раздался стук, и он в одно мгновенье
Проснулся: радостно такое пробужденье!
Тадеуш счастлив был, беспечен, словно птица,
Все улыбался он, и как не веселиться?
Ночные радости припоминал сначала,
Краснел он и вздыхал, а сердце трепетало…
На ставни глянул он, на прорезь: что за чудо?
Пытливые глаза в упор глядят оттуда!
Раскрыты широко: всегда бывает это,
Когда во мрак ночной хотят взглянуть со света,
И нежная ладонь — от солнышка защита —
Над белоснежным лбом щитком была раскрыта,
Л пальцы тонкие, пронизанные светом,
Рубины яркие напоминали цветом…
Увидел юноша коралловые губы,
Меж них, как жемчуга, поблескивали зубы.
От солнца спрятаться красотка не сумела,
И тонкое лицо, как роза, розовело.
Тадеуш предался невольно упоенью,
Дивясь и радуясь волшебному виденью;
Откуда бы ему внезапно появиться?
Подумал с трепетом: быть может, снова снится
Одно из милых лиц, что снились в детстве раннем
И с той поры в дуйте живут воспоминаньем?
Склонилось личико — и он узнал в смятенье
И в горькой радости волшебное виденье!
Узнал он завитки густых волос коротких,
Накрученных с утра на белых папильотках,
Струивших тихий блеск сиянья золотого,
Как золотистый нимб на образе святого.
Едва он поднялся, красавица умчалась;
Как видно, шум вспугнул, она не возвращалась!
Но юноша слыхал, как постучался кто-то,
И уловил слова: «Вставать пора! Охота!»
Тадеуш тотчас же опять вскочил с постели,
Так распахнул окно, что ставни отлетели
И дважды хлопнули, о стены громыхая;
Он выскочил в окно и постоял, вздыхая, —
Паненки след простыл, но не ушла от взгляда
Примятая трава за изгородью сада.
Зеленокудрый хмель и пестрые левкои
Качались, может быть задетые рукою,
А может, ветерком? Манила вдаль аллея,
Но к месту он прирос и, в сад идти не смея,
Лишь палец приложил к своим губам сурово,
Чтоб с них не сорвалось нечаянное слово,
Вдруг по лбу постучал в суровости молчанья,
Как будто пробудить хотел воспоминанья,
И, палец прикусив, с мгновенною досадой
Воскликнул наконец: «Увы! Мне так и надо!»
Уже на том дворе, где было столько шума,
Как на погосте, все безмолвно и угрюмо.
Стрелков в помине нет. Ладонь приставив к уху,
Как слуховой рожок, он весь отдался слуху,
А ветер доносил охоты гул из пущи,
И отголоски труб, и окрики бегущих.
Давно оседланный, конь дожидался в стойле;
Тадеуш взял ружье, галопом через поле
Помчался к двум корчмам, к часовенке — направо,
Где мессу слушали стрелки перед облавой.
Враждуют две корчмы вблизи дороги сонной
И окнами грозят друг другу озлобленно.
За замком числится одна из них; позднее
Соплица новую поставил рядом с нею.
В одной, как в вотчине своей, царит Гервазий,
В другой командовал слуга Соплиц — Протазий.
Постройка новая была обычным зданьем,
Но стиль другой корчмы не обойдешь вниманьем.
Евреи развезли его по странам прочим,
И перешла в Литву к нам их архитектура,
Родному зодчеству чужда его натура.
Фасад корчмы — корабль, а тыл подобен храму,
Воистину ковчег! Не оберешься гаму!
Корабль похож на хлев, а сколько в нем скотины —
Коров, овец и коз — не счесть и половины!
И насекомых тьма, ну, словом, всякой твари
И даже ужаков отыщется по паре.
Напоминает храм святыню Соломона,
Которая была еще во время оно
В Сионе образцом прекраснейшего храма,
А возвели ее искусники Хирама.
Так строят хедеры евреи и поныне,
Стиль одинаковый везде: в корчме, в овине,
На крыше задранной — и доски и рогожа,
С еврейским колпаком такая крыша схожа!
Стропила над крыльцом и, может быть, штук сорок
Колонн из дерева — искуснейших подпорок,
Полупрогнившие и срубленные криво,
Красуются они, как зодческое диво.
Такого зодчества не ведала Эллада,
С Пизанской башнею искать в них сходства надо!
А над колоннами — изогнутые своды:
Наследье готики, что пощадили годы.
Порадуешься ты искусному узору,
Что вырубил топор, резцу такие впору!
Точь-в-точь еврейские подсвечники кривые,
И шарики на них нацеплены такие,
Как цицесы
{284} на лбу еврея в синагоге,
Когда в часы молитв он думает о боге;
Как набожный еврей, корчма полукривая,
Который молится, качаясь и кивая.
На грязный лапсердак походят стены дома,
На бороду — стрехи повисшая солома;
Как цицес, над крыльцом торчит узор старинный,
Разделена корчма перегородкой длинной.
Направо комнат тьма, на конуры похожих,
Они для путников проезжих и прохожих;
Налево — зал большой, там гомон постоянный.
Под каждою стеной — стол узкий деревянный,
У каждого стола теснятся, словно детки,
Похожие на стол, простые табуретки.
Крестьяне, шляхтичи садятся здесь все вместе,
И только эконом был на особом месте.
Обедню отстояв, ведь день-то был воскресным,
Все к Янкелю пришли, расселись в зале тесном,
Пред каждым из гостей уже стояла чарка,
С бутылью бегала вокруг столов шинкарка,
А Янкель с важностью поглядывал в окошки,
На нем кафтан до пят, из серебра застежки.
Он бороду свою поглаживал рукою
И пояс шелковый перебирал другою,
Приветствуя гостей, а сам хозяйским глазом
Присматривал за всем, все замечая разом.
Мирил он спорящих, знал тонкость обращенья,
Но не прислуживал — давал распоряженья.
Почтеннейший еврей известен был в округе
Своей готовностью оказывать услуги.
И жалоб на него не поступало к пану.
Что жаловаться тут? Не прибегал к обману,
Напитки добрые всегда держал за стойкой
И пить не запрещал, гнушаясь лишь попойкой.
Крестины, свадьбы — все справлялось у еврея,
Звал музыкантов он, расходов не жалея,
И по воскресным дням играла здесь скрипица,
Сзывая публику зайти, повеселиться.
К тому же обладал еврей большим талантом,
Он цимбалистом был, отменным музыкантом,
И по дворам ходил минувшею порою,
Прельщая шляхтичей искусною игрою,
И песни польские пел Янкель вдохновенно
И чисто говорил. В повет обыкновенно
Из Гданьска, Галича и даже из Варшавы
Он песни привозил, минуя все заставы.
Не знаю: правда ли, а может — небылицы,
Что первым он привез в Литву из-за границы
И первым заиграл в своем родном повете
Ту песню, славную теперь в широком свете,
Которую тогда, впервые у авзонов
{285}Играли трубачи народных легионов.
Своими песнями он заслужил по праву
Богатство и еще к нему в придачу славу!
Еврей, приобретя почет и капиталы,
Повесил на стену звенящие цимбалы,
А сам осел в корчме и стал главой общины,
Торговлей занялся и зажил без кручины,
Желанным гостем он бывал под всякой кровлей,
А так как был знаком и с хлебною торговлей,
Советы подавал, и за услуги эти
Поляком добрым он прослыл в родном повете.
В аренду взяв корчмы и страсти успокоив,
Он в них не допускал ни криков, ни побоев.
Горешки партия и партия Соплицы
Под скипетром его не смели не смириться.
Еврея уважал и богатырь Гервазий,
И спорщик, кляузник — слуга Соплиц Протазий.
Смолкал пред Янкелем длинноязыкий Возный
И воли не давал рукам Гервазий грозный.
Рубаки не было. Отправился в дубраву,
Боялся отпустить он Графа на облаву
Без верного слуги; надеялся при этом,
Что выручит его и делом и советом.
В почетном уголке, где, словно воевода,
Гервазий восседал подальше от прохода,
Сегодня квестарь был. Еврей любил монаха
И ублажал его ничуть не ради страха.
Он убыль замечал в его глубокой чарке
И тотчас же кивком приказывал шинкарке
Душистый мед подать, уважив бернардина.
Свела их с квестарем, как говорят, чужбина,
Здесь к Янкелю в корчму он хаживал ночами,
Обменивался с ним заветными речами.
Не контрабанда ли сближала их так тесно?
Но нет! Пустой поклеп! Об этом всем известно.
Ксендз Робак рассуждал вполголоса о деле,
Развесив уши все в молчании сидели.
И к табаку ксендза тянулись взять понюшки,
Чихали шляхтичи, как будто били пушки.
«Reverendissime! — сказал, чихнув, Сколуба. —
Вот это табачок! Такой проймет до чуба!
Мой нос, — погладил он свой нос рукой привычно, —
Такого не встречал, — тут он чихнул вторично, —
Монашеский табак! Небось из Ковна родом,
Который славится и табаком и медом!
Давно я не был там…» Ксендз молвил:
«На здоровье
Всем вашим милостям, почтенные панове!
А что до табака, скажу вам, безусловно,
Подальше вырос он и родом не из Ковна,
Я вам привез его, друзья, из Ченстохова,
Из Ясногорского монастыря святого,
Где чудотворная икона чистой девы,
Владычицы небес и польской королевы…
Зовут ее княжной литовской благосклонной,
И властвует она над польскою короной,
Но схизма
{286} завелась в Литве у нас, панове!»
Тут Вильбик заявил: «И я был в Ченстохове,
За индульгенцией ходил еще тогда я,
А правда ль, там француз? Прошла молва худая,
Что храмы грабит он, без уваженья к вере?
Об этом прочитать мне довелось в «Курьере»
{287}.
Ответил бернардин: «Неправда, это враки!
Католик кесарь наш такой же, как поляки,
Помазан папою, он чтит святые узы,
Заботится о том, чтоб верили французы,
И наставляет их. Пожертвовано много
В народную казну — но это воля бога! —
Для Полыни-родины! Всегда перед войною
Бывали алтари народною казною.
В Варшавском княжестве есть польских войск немало:
Сто тысяч человек довольно для начала!
Должны их содержать литвины, верьте слову!
Даете деньги вы небось в казну цареву!»
«Да, черта с два даем! У нас берут их силой! —
Так Вильбик завопил. — Ох, господи помилуй!»
Затылок почесав, сказал мужик, не споря:
«Ну, что до шляхтичей, так вам еще полгоря,
Но лыко с нас дерут!» — «Хам! — закричал Сколуба, —
Пусть лыко с вас дерут, как с молодого дуба,
Привычны вы к тому. Вам, хлопам, так и надо!)
Но к воле золотой привыкли мы измлада!
И шляхтич у себя, скажу при всем народе…»
«Да! — подхватили все, — он равен воеводе!»
«Меж тем приходится изыскивать нам средства
И документами доказывать шляхетство!
{288}»
«Да вам-то что? — спросил Юрага ядовитый, —
Подумаешь, какой вы шляхтич родовитый!
Но от князей ведут свой древний род Юраги,
И мне-то каково разыскивать бумаги!
Пускай москаль пойдет и спросит у дубравы,
Кто ей давал патент перерасти все травы?»
«Князь! — Жагель протянул. — Хоть ври, да знай же меру!
Немало митр у нас найдется здесь! К примеру:
У пана крест в гербе — и я скажу открыто,
Что выкрест был в роду! Крест — признак неофита!»
«Врешь! Крест над кораблем, я из татарской знати!» —
Так Бирбаш заорал, Мицкевич крикнул кстати:
«Мой Порай с митрою средь поля золотого,
Герб княжеский, о нем в геральдике есть слово!»
Желая спор унять, вернуться к прежней теме,
Ксендз табакерку вновь поставил перед всеми
И начал потчевать; все по щепотке взяли,
Чихнули шляхтичи, и споры смолкли в зале.
Ксендз продолжал: «Табак и вправду духовитый,
Похваливал его Домбровский знаменитый.
Он три понюшки взял из табакерки этой.
«Гляди повеселей! — сказал мне, — и не сетуй!»
«Домбровский! Правда ли?» — «Да, он! При генерале
Я в ставке был тогда, когда мы Гданьск с ним брали
{289}.
Заснуть боялся вождь, не дописав приказа,
И по плечу меня похлопал он два раза.
«Ксендз, году не пройдет, — так мне сказал Домбровский, —
Как встретимся с тобой мы на земле литовской!
Литвинам накажи: табак из Ченстохова
Пускай мне поднесут, я не терплю другого!»
Застыли шляхтичи на миг в оцепененье,
В такой восторг пришли, в такое восхищенье!
Вполголоса они все повторяли снова:
«С таким же табаком», «Он впрямь из Ченстохова!»,
«Домбровский явится!», «Он видел генерала!»
Развеселились все, и кровь в них заиграла.
Тут разом грянули, как будто по сигналу:
«Марш, марш, Домбровский, к нам!»
Рев переполнил залу.
Все тотчас обнялись, хлоп с князем, с Митрой Порай,
С татарским графом Гриф, всем было не до спора!
Забыли Робака, забыли древность рода
И загорланили: «Вина побольше! Меда!»
Казалось, бернардин доволен был весельем,
Он табакерку взял и насладился зельем,
Чиханием спугнул мелодию живую,
Не дав опомниться, повел он речь иную:
«Вы хвалите табак, а что там в табакерке?
Вам надо поглядеть, хотя бы для проверки!»
Ксендз вытер донышко, стряхнув с него пылинки,
Войска, как мошкара, чернели на картинке,
И всадник впереди, что был жука поболе,
Пришпоривал коня пред ними в чистом поле
И, натянув узду уверенной рукою,
Щепотку подносил к своим ноздрям другою.
«Ну, что же, шляхтичи, узнали, кто пред вами?»
Но шляхтичи в ответ качали головами.
«Великий государь и не москаль к тому же,
Их царь не нюхает, — пускай, ему же хуже!»
«Великий человек! Да что ж одет он просто?
Не блещет золотом и небольшого роста!»
Так Цыдзик закричал: «Москаль, скажу я панам,
Весь залит золотом, как щука под шафраном!»
«Ба! — Рымша перебил, — москаль другого рода,
Видал Костюшку я, вождя всего народа!
Великий человек ходил в простом сукмане,
В чемарке краковской!» — «В какой чемарке, пане? —
Заспорил Вильбик с ним. — Ходил он в тарататке!»
«Нет! Со шнуровкой та, а полы этой гладки!» —
Мицкевич возразил. Спор загорелся жаркий,
Все обсуждали крой кафтана и чемарки.
Ксендз Робак между тем, не говоря ни слова,
Вкруг табакерки всех объединяет снова,
Любезно потчуя. Все по щепотке взяли,
Чихнули, а монах рассказывает дале:
«Когда Наполеон за табачок берется,
Тогда врагам капут! Сдаваться остается!
Я помню, было так под солнцем Аустерлица,
Хотели москали толпою навалиться,
Французы тотчас же пальнули им навстречу —
Упали москали, сраженные картечью.
Полк падал за полком, подбитый нашей пушкой,
А кесарь брал табак понюшку за понюшкой!
Царь Александр бежал в сопровожденье братца,
Ну, по плечу ль ему с богатырем тягаться?
Его величество доволен был успехом
И, отряхнув табак, глядел им вслед со смехом.
Когда в его войска поступите, тогда вы
Припомните, друзья, примету верной славы!»
«Ах, квестарь дорогой! — заговорил Сколуба, —
Когда ж то сбудется? Вот было бы нам любо!
Французов нам сулят раз десять на неделе,
А мы все ждем да ждем, глаза уж проглядели!
Москаль как нас душил, так душит, что есть мочи,
Пока заря взойдет, роса нам выест очи!»
«Пусть ропщут женщины! — ответил ксендз на это. —
Пускай евреи ждут до окончанья света,
Чтоб дорогих гостей встречать в корчме с поклоном,
Нетрудно москалей разбить с Наполеоном!
Побил он англичан, спустил и швабам шкуру,
Пруссаков растоптал, три раза лезших сдуру!
Теперь и москалей прогонит прочь, но вы вот,
Вы понимаете ль, какой отсюда вывод?
А тот, что на коней пришла пора садиться
И сабли вынимать, чтоб не пришлось стыдиться,
Чтоб не сказали вам: «Ну, храбрые вояки!»
Ведь кулаками-то не машут после драки!
Панове, мало ждать, и суть не в приглашенье,
А надо челядь звать, готовить угощенье.
Сор надо вымести! Метите-ка почище,
Когда хотите вы гостей принять в жилище».
К монаху бросились все разом, в беспорядке:
«Что значит сор мести? Не разгадать загадки!
На все согласны мы, никто из нас не робок,
Как надо поступить, скажите нам, ксендз Робак!»
Но ксендз на шлях глядел, о чем-то беспокоясь,
Вот высунулся он в окно почти по пояс.
«Нет времени, — сказал, — зато, когда приеду,
Продолжу с вами я занятную беседу.
В уездном городе я буду гостем скорым
И к вам, друзья мои, пожалую за сбором».
«Пусть квестарь на ночлег заедет в Негримово! —
Промолвил эконом, — к приему все готово!
Напомню вам одну пословицу, Панове:
«Так счастлив человек, как квестарь в Негримове!»
Зубковский перебил: «В Зубково ехать надо,
Корову стельную отдать хозяйка рада,
С полштуки полотна, и слышать вам не внове:
Счастливей никого нет квестаря в Зубкове».
«К Сколубе просим вас!» — «К нам, — молвил Тераевич, —
Голодным бернардин не покидал Пуцевич!»
Так наделить его сулили все дарами,
Глядели вслед ксендзу, но был он за дверями.
Ксендз увидал в окно Тадеуша, который
Скакал по большаку, коню давая шпоры,
Растрепан, бледен был, глядел вперед сурово
И все нахлестывал нагайкою гнедого.
Смятенье юноши встревожило монаха,
Он кинулся за ним, не выдавая страха,
Туда, где горизонт, насколько видит око,
Затмила глушь лесов, раскинутых широко.
Кто мог бы исходить литовские чащобы?
Чье зренье острое проникнуть вглубь могло бы?
Рыбак у берега закидывает сети,
Стрелок охотится, минуя дебри эти,
Опушки знает он, прогалины, ложбины,
Но не дерзнет дойти до самой сердцевины.
Гласят предания в краю моем родимом,
Что, если лесом кто пойдет непроходимым,
Наткнется на барьер стволов, колод с ветвями,
Размытых в глубине бегущими ручьями;
Там муравейников лесных хитросплетенья,
Гадюки, пауки, слепни — столпотворенье!
Но если б удалось проникнуть в глубь завала,
Опасность новая оттуда б угрожала:
Овраги темные раскинули б тенета,
И заманили бы зеленые болота;
Наступишь — засосет! А в глубине, поверьте,
Средь всякой нечисти отыщутся и черти!
Пятнает ржавчина отравленную воду,
Тлетворный дым столбом восходит к небосводу
И губит чахлые кустарники лесные.
Деревья — карлики, плешивые, больные…
Мох сбился колтуном, скрывая жалкий остов,
А на стволах у них не счесть грибных наростов!
Над темною водой лесных уродов группа,
Как ведьмы старые над варевом из трупа!
Не перебраться нам сквозь гиблые озера,
Во веки вечные за них не бросить взора,
Скрывает облако глухую чащу бора.
Оно всегда стоит над сумрачной трясиной.
За мглою, говорят, за дивною лощиной,
Что в заповеднике от глаз людских таится, —
Деревьев и зверей заветная столица.
Хранятся в ней ростки и семена растений,
Всей зелени лесной, цветущей в день весенний.
И, словно в ноевом ковчеге, для приплода
По паре всех зверей там собрала природа.
Медведь, и зубр, и тур — владыки темной чащи,
И двор у каждого богатый и блестящий:
Рысь с росомахою бессменные министры,
Скрываются в ветвях, на все решенья быстры,
Как благородные вассалы, в темной сени
Пасутся кабаны и стройные олени,
Орлы и соколы — нахлебники монархов —
Привыкли охранять достойных патриархов.
Вот пары главные — хозяева чащобы,
Что возвеличены над прочими, — еще бы!
Ни ружей, ни ножей не надо им страшиться,
От всех злосчастий их убережет столица,
И смерть приходит к ним, когда наступит время,
Когда от старости и жизнь не в жизнь, а бремя!
Есть кладбище в глуши, туда несут пред смертью
И крылья с перьями и шкуры вместе с шерстью.
Туда бредет медведь, страдающий одышкой,
И в шубе вытертой иззябшийся зайчишка,
Дряхлеющий олень, когда изменят ноги,
И ворон-вековщик, от старости убогий,
Орел, едва в крючок орлиный клюв согнется
И погибать орлу от голода придется,
И всякое зверье, когда изменят силы,
Спешит на кладбище найти себе могилы;
Поэтому в лесных оврагах и в лощинах
Не отыскать костей и черепов звериных,
Здесь свято чтит зверье исконные уставы,
Хранит обычаи — залоги доброй славы.
Цивилизации нет в заповедной шири
И собственности нет, поссорившей всех в мире.
Нет поединков здесь, нет воинской науки,
Как жили прадеды, так поживают внуки.
Медведи с лосями встречаются друзьями,
И лисы с зайцами играют под ветвями.
Когда бы человек забрел сюда случайно,
Его бы встретило зверье необычайно:
Глядело б на него, застыв от изумленья,
Как в тот субботний день, последний день творенья,
Их праотцы в раю глядели на Адама,
До ссоры роковой, — доверчиво и прямо.
Однако человек сюда не глянет даже, —
Тревога, Труд и Смерть стоят на вечной страже!
Со следа гончие порой в глуши собьются,
В болото и в овраг нечаянно ворвутся
И, пораженные величием картины,
С безумным воем прочь несутся от трясины;
И на своем дворе дрожмя дрожат бродяги,
И у хозяйских ног еще визжат бедняги!
Ту чащу дикую во всем великолепье
Зовут охотники в своих беседах «Крепью».
О дуралей медведь! Сидел бы ты на месте,
И Войскии о тебе не получил бы вести;
Прельстила ль пасека тебя душистым медом,
Овес ли золотой увидел мимоходом?
Но ты покинул глушь, а здесь деревья реже,
И распознал лесник твои следы медвежьи!
Тотчас же выслал он шпионов за тобою,
Узнать, где кормишься, выходишь к водопою…
Гречеха в лес привел охотничью ораву —
Отрезан путь назад, и начали облаву.
Тадеуш знал уже, что в лес пустили стаю,
И думал об одном: «Я время наверстаю!»
Напрасно напрягли охотники вниманье,
Напрасно слушают тревожное молчанье,
Стоят с двустволками и выжидают срока;
Лесная музыка несется издалека,
Ныряют в чаще псы, как в озере — гагары,
На Войского глядят стрелки: что скажет старый?
А он к земле припал и ловит ухом шумы.
Как на лице врача родня читает думы,
Чтоб угадать судьбу любимого больного,
Так ждут охотники решительного слова,
Глядят на Войского с надеждой и тревогой…
«Есть! Есть!» — воскликнул он, прислушавшись немного.
Он слышал, а они услышали позднее:
Собака залилась, другая вслед за нею,
И разом буйный лай понесся, нарастая, —
То заливается, напав на след, вся стая;
Собаки мчатся вглубь, и лай их не сравнится
Со сдержанным, когда покажется лисица.
Сейчас их злобный лай отрывистей и чаще,
Как видно, гончие настигли зверя в чаще.
Внезапно лай затих; медведь поднялся хмурый,
На гончих бросился, рвет морды им и шкуры.
А лай звучит теперь как будто бы иначе.
И слышен хриплый вой, предсмертный визг собачий.
Как луки, выгнулись мужчины в нетерпенье,
Готовятся к стрельбе и напрягают зренье:
Ждать дольше невтерпеж! Не выдержали нервы,
Все бросили посты, и всяк стремится первый
Медведя повстречать, хотя поклялся Войский
С тем, кто покинет пост, разделаться по-свойски!
Пусть шляхтич или хлоп, юнец иль бородатый, —
Всех вытянет смычком, коль будут виноваты!
Ничто не помогло. Стрелки бегут без толка,
И раза три уже ударила двустволка,
Пальба пошла вразброд, но, звуки заглушая,
Топтыгин заревел — качнулась глубь лесная.
Ужасный рев! Все в нем — отчаянье, тревога;
За ним и визг, и лай, и гул победный рога.
Одни взвели курки, ждут, затаив дыханье.
Другие в лес бегут, повсюду ликованье!
Но Войский закричал, что зверя упустили,
Охотники в лесу за ним недоследили,
Они наперерез ему спешили к пуще,
А зверь, напуганный людьми, а псами пуще,
Поворотил назад, на дальнюю поляну,
Где удержать никак не удалось охрану,
Из всех охотников осталось только двое:
Тадеуш и пан Граф — мгновенье роковое!
Из глубины лесной донесся рев могучий,
И прянул вдруг медведь, как будто гром из тучи:
На лапы задние встал в бешенстве великом
И устрашил людей громоподобным рыком,
И камни вырывал, погоней разъяренный,
И во врагов швырял, и, точно вихрь зеленый,
Летел на гонщиков, потом сломал осину
И, занеся ее, как грозную дубину,
Пошел на юношей, грозя убить с размаха,
Но Граф с Тадеушем не выказали страха.
Двустволки подняты, курки на оба взвода
(Так против тучи два стоят громоотвода),
Вот разом два курка они спустили дружно.
(Неопытность! Двоим зараз стрелять не нужно!)
И — промах! Прыгнул зверь, рогатина готова,
Схватились за нее, не говоря ни слова,
И друг у друга рвут. Тут оглянулись, к счастью, —
Топтыгин рядом был с разинутою пастью,
И лапу он занес! От ярости медвежьей
Пустились наутек, туда, где чаща реже…
Медведь за ними вслед, не опускает лапу
И когти выпустил! Чуть не содрал, как шляпу,
У Графа волосы льняные с головою…
Однако не успел. В мгновенье роковое
Асессор и Юрист на помощь подоспели,
Рубака тоже был недалеко от цели,
За ними ксендз бежал, хотя и безоружный, —
В лесу раздался залп немедленный и дружный.
Медведь подпрыгнул вдруг, как заяц пред борзыми,
И рухнул. Но махал он лапами своими,
Как машет мельница крылами, жирной тушей
Он Графа придавил, а сам рычал все глуше:
Хотел еще привстать, но прокусили шею
Стряпчина первая, а Справник вслед за нею.
Гречеха рог схватил тяжелый, буйволиный,
Висевший на ремне, как змей блестящий, длинный,
Прижал к губам его обеими руками,
Потом глаза закрыл с кровавыми белками.
Вобрал тугой живот, раздул, как тыквы, щеки
И рогу передал весь выдох свой глубокий.
Он заиграл, а рог, как будто вихрь летящий,
Нес музыку лесам и отдавался в чаще.
Тут замерли стрелки в немом оцепененье,
Дивясь и чистоте, и мощной силе пенья.
Старик искусство все, прославленное пущей,
Внезапно развернул гармонией поющей,
И лес наполнился, и ожила дубрава,
Как будто вышли псы и началась облава.
Вторично псовая охота зазвучала:
Вначале резкий клич далекого сигнала,
Потом задорный лай — несутся псы гурьбою,
И, словно дальний гром, — то лес гудит пальбою.
Казалось, что трубит, еще трубит Гречеха,
А это по лесу перекликалось эхо!
И снова затрубил, волшебный рог менялся,
То расширялся он, то снова удлинялся,
Вытягивался вдруг лохматой шеей волка
И выл пронзительно и долго, без умолка;
То вырывался рев, как из медвежьей пасти,
А то мычание вихрь разрывал на части.
Казалось, что трубит, еще трубит Гречеха,
А это по лесу перекликалось эхо.
Летели далеко ликующие звуки,
Дубы им вторили, подхватывали буки.
Вновь Войский затрубил; рогов казалось много,
Смешались вместе лай, и ярость, и тревога
Стрелков, зверей и псов. Движением могучим
Рог поднял музыкант, и гимн вознесся к тучам,
Казалось, что трубит, еще трубит Гречеха,
А это по лесу перекликалось эхо.
Деревья все, как есть, рогами вдруг запели,
И песню понесли дубы, березы, ели…
Летела музыка все шире и все дале,
Все совершеннее тона ее звучали,
Пока не замерли у горнего порога.
Тут руки крепкие старик отвел от рога,
И снова рог повис на поясе крученом,
А Войский поднялся, и взором просветленным
Он долго ввысь глядел в каком-то вдохновенье,
Стараясь уловить слабеющее пенье.
Кругом на все лады виваты загремели,
От тысячи хлопков раскачивались ели.
Затихло… И в лесу как будто стало глуше,
Тут обернулись все к медвежьей жирной туше;
Громадой темною лежал медведь убитый,
Прошитый пулями и точно в землю вбитый.
Раскинул лапы зверь, как будто крест широкий,
Струились из ноздрей кровавые потоки.
Медведь еще дышал, еще водил глазами,
Но неподвижен был. Повисли за ушами
На левой стороне Стряпчина, а на правой,
Вцепившись, Справник пил из горла ток кровавый.
Гречеха приказал отнять от туши гончих,
Просунув меж зубов прута железный кончик.
Стрелки прикладами медведя повернули;
Виваты грянули и в небе утонули.
Асессор ликовал, поглаживая дула:
«Двустволочка моя! Надула! Всех надула!
Двустволочка моя! Мал золотник, да дорог,
Пословица права, без всяких оговорок!
Не любит зря стрелять, поможет взять на мушку!
За драгоценный дар благодарю Сангушку!»
Все восхищался он — искусная работа!
И находил в ружье достоинства без счета.
«Бегу за Мишкой вслед, — сказал Юрист, стирая
Со лба горячий пот. — Кричит пан Войский с края:
«Стой!» А чего стоять? Косматый жарит в поле,
Как заяц, во всю прыть. Уйти позволить, что ли?
Бегу, спирает дух, догнать надежды нету,
Гляжу, а зверь бежит прямехонько к просвету!
На мушку взял его. «Ну, Мишка, друг бедовый!» —
Подумал я, и всё! Вот он, лежит готовый!
Нельзя не похвалить моей Сагаласовки
{290},
Сагалас лондонский, хоть из Балабановки!
Тот оружейник был поляк, по всем приметам,
Но ружья украшал по-английски при этом».
Асессор закричал: «Ну, нет, уж это дудки!
Медведя я убил, пан, верно, шутит шутки!»
Но отвечал Юрист: «Не суд у нас — облава,
Здесь все свидетели, принадлежит мне слава!»
И зашумели все, заспорили речисто,
Те за Асессора, а эти за Юриста.
О Ключнике они совсем не вспоминали,
Бежали сбоку все, что дальше там — не знали!
Гречеха слово взял: «Теперь, по крайней мере,
У нас достойный спор — вопрос о крупном звере,
Не заяц, а медведь — не стыдно стать к барьеру,
И я, друзья мои, стою за эту меру!
Другого не найти решенья в спорном деле,
Вам все равно теперь не избежать дуэли!
Когда-то шляхтичи здесь жили по соседству,
Принадлежавшие к древнейшему шляхетству.
Меж их усадьбами вилась река — Вилейка,
А звали шляхтичей Домейко и Довейко.
В медведицу они пальнули как-то вместе,
Не знали, кто убил, — и вот, во имя чести,
Сквозь шкуру поклялись стреляться: дуло в дуло!
Дуэль шляхетская! А сколько шума, гула
Вокруг условий шло! О доблестной дуэли
Еще до наших дней рассказы долетели.
Я секундантом был, как все происходило,
Подробно расскажу. Давненько это было…»
Пока он говорил, уладил Ключник дело,
Он тушу обошел и оглядел умело.
Могучим тесаком по голове ударил,
Затылок разрубил, в мозгу ножом пошарил
И, пулю вытащив, отер ее ливреей
И к дулу приложил — примерить поскорее.
«Вот пуля, — произнес. Все на него взглянули. —
Панове, — продолжал, — у вас другие пули!
Ружье Горешково! — Тут он приподнял ловко
Старинное ружье, скрепленное бечевкой. —
Но выстрелил не я, хотя и был под боком,
Боялся в юношей попасть я ненароком!
Бежали юноши. Глазам своим не веря,
Над графской головой увидел лапу зверя!
Горешков родич он… Хотя бы и по прялке…
Воззвал я к господу и был услышан, жалкий!
Послали ангелы на помощь бернардина,
Он всех нас устыдил, ну, молодец ксенжина!
Покуда я дрожал, чего-то дожидался,
Он выхватил ружье, и выстрел вмиг раздался!
За сто шагов стрелял и между головами,
В пасть зверю угодил! Признаюсь перед вами,
Немало прожил я, но я стрелка такого
Лишь одного знавал и не встречал другого.
Он, славный некогда на стольких поединках,
Он, пулей каблуки срезавший на ботинках,
Он низкий человек, но храбрости отменной,
Усач по прозвищу, фамилии презренной.
Однако ни к чему теперь его отвага,
По самые усы горит в аду бродяга!
Хвала ксендзу! Двоих сегодня спас ксенжина,
А может, и троих, ну, квестарь, молодчина!
Горешково дитя, последнее на свете,
Когда б медведь задрал, и я бы не жил, дети!
Полез бы на рожон в пасть к бурому уроду,
Пойдем-ка, добрый ксендз, за Графа выпьем меду!»
Но не было уже ксендза в лесу зеленом,
Медведя застрелив, он подбежал к спасенным,
Хотел скорей унять душевную тревогу.
Узнав, что целы все, вознесся мыслью к богу,
Молитву прочитал и, широко шагая,
Пустился из лесу, как будто убегая.
Гречеха между тем распоряжался снова:
Охапки вереска и хвороста сухого
Велел бросать в костер; разросся дым сосною,
Навесив балдахин над зеленью лесною,
А над костром стрелки рогатины скрестили,
Пузатые котлы на зубья нацепили.
С возов несли уже капусту, и жаркое,
И хлеб,
а погребец всегда был под рукою.
Хранились в погребце бутыли всех калибров —
И вот, хрустальную бутыль из прочих выбрав
(Гостинец Робака, по вкусу всем полякам,
То водка Гданьская, кто до нее не лаком!),
Судья провозгласил, разлив вино по чашам:
«Здоровье Гданьска пью, он был и будет нашим!»
И чаши винные наполнил он до края,
Покуда золото не пролилось, сверкая.
А бигос греется; сказать словами трудно
О том, как вкусен он, о том, как пахнет чудно!
Слова, порядок рифм, все передашь другому,
Но сути не понять желудку городскому!
Охотник-здоровяк и деревенский житель —
Литовских кушаний единственный ценитель!
Но и без тех приправ литовский бигос вкусен,
В нем много овощей, и выбор их искусен;
Капусты квашеной насыпанные горки
Растают на устах, по польской поговорке.
Капуста тушится в котлах не меньше часа,
С ней тушатся куски отборнейшего мяса,
Покуда не проймет живые соки жаром,
Покуда через край они не прыснут паром
И воздух сладостным наполнят ароматом.
Готово кушанье, и с громовым виватом
Все с вилками бегут, в капусту их вонзают,
Звон меди, дым валит, и бигос исчезает,
Подобно камфаре. На самом дне казанов
Клокочет пар, как дым из кратеров вулканов.
Стрелки довольные напились и наелись
И, тушу привязав, на лошадей уселись.
Друг с другом завели веселую беседу,
Асессор, все еще назло Законоведу,
Хвалился перед ним своею Сапгушовкой,
А тот ему в ответ — лихой Сагаласовкой.
Лишь Граф с Тадеушем печально путь держали,
Стыдились промаха, стыдились, что бежали.
Кто зверя упустил, нарушив ход облавы,
Тот нелегко уже добьется доброй славы.
«Я взял рогатину, — воскликнул Граф со злобой, —
И не вмешайся пан, мы б не бежали оба!»
Тадеуш отвечал, что, силы соразмеря,
Он на рогатину бы лучше принял зверя.
Бросая реплики сердито и угрюмо,
Не слышали они ни болтовни, ни шума.
Гречеха посреди охотничьего круга
Был так же говорлив, как в добрый час досуга.
Но все ж, о спорщиках немного беспокоясь,
Задумал досказать не конченую повесть.
«Асессор и Юрист, вас призывал к барьеру
Ничуть не потому, что я свиреп не в меру,
Нет! Боже сохрани! Хотел представить шутку
И позабавиться в веселую минутку,
Чтоб вас уговорить не тратить время в ссорах.
Я выдумал ее тому назад лет сорок.
Ту шутку славную не знаете вы, други,
Хоть некогда она прославилась в округе!
Довейко, верно бы, с Домейкой мирно жили,
Но помешало им созвучие фамилий!
На сеймиках себе сторонников, бывало,
Довейко партия средь шляхты вербовала;
Прошепчут шляхтичу: «Свой голос дай Довейке»,
А тот, не расслыхав, отдаст его Домейке.
И на пиру когда провозгласил Рупейко:
«Виват Довейко наш!» — кто подхватил: «Домейко»,
А кто переспросить пытался у соседа:
Невразумительна за чаркою беседа.
А в Вильно было так: какой-то шляхтич пьяный
С Домейкой фехтовал и получил две раны.
Из Вильно уходя и торопясь к парому,
С Довейкой встретился он по дороге к дому.
И только лишь вдвоем поплыли по Вилейке —
«Кто он таков?» — спросил пьянчужка у Довейки;
«Довейко» услыхав, полез в свою кирейку
{291},
Клинком подрезал ус Довейке за Домейку.
А на облаве-то похуже вышел случай,
Ведь надо было же! Они в глуши дремучей
Стояли рядышком и выстрелили вместе
В одну медведицу; признаюсь вам по чести,
Упала замертво, — а все ж ходили слухи,
Что до десятка пуль она носила в брюхе.
Однокалиберных немало ружей было:
Которое ж из них медведицу убило?
«Довольно! — крикнули друзья мои с досадой. —
Бог или черт связал, но развязаться надо!
Как в небе солнцам двум, двоим нам в мире тесно!
За сабли! Чья возьмет, решим дуэлью честной!»
Старались шляхтичи мирить их, — все напрасно!
Рассвирепев, они в запальчивости страстной
Клинки отбросили, взялись за пистолеты…
Тут закричали мы, что слишком близки меты,
Но поклялись они стреляться через шкуру,
Опасность велика! Убьют друг друга сдуру!
«Гречеха — секундант!» Что ж, не моргнул я глазом:
«Пускай могильщик вам могилы роет разом,
Не кончится добром ваш вызов молодецкий,
Но вы не мясники, деритесь по-шляхетски!
И не сближайтесь так, ведь удальство не в этом,
Хотите пропороть вы брюхо пистолетом?
Свою дистанцию назначили вы сами,
Я вымерю ее шагами и глазами,
Сам шкуру растяну, и сам ее расправлю,
И вас по совести, друзья мои, расставлю:
На морде — одного, а на хвосте — другого,
Стреляйтесь досыта — позиция готова!»
«Когда и где, скажи?» — «Да в Уше на рассвете!»
Ушли они, а я Вергилия взял, дети».
Вдруг раздалось «Ату!» вслед быстрому зайчонку,
И Куцый с Соколом летят за ним вдогонку.
Борзые были здесь: по окончанье лова
Случалось лошадям в пути поднять косого;
Без сворок псы брели и, повстречавшись с серым,
Не ждали окрика, а понеслись карьером.
Юрист с Асессором за ними было гнаться,
Но Войский закричал: «Стой! С места не сниматься!
Ни шага никому я сделать не позволю,
Отсюда все видать, русак несется к полю!»
Зачуя псов, русак туда понесся, верно!
Наставил уши он, точь-в-точь как рожки серна,
И, вытянувшись весь, скакал, его как будто
Несли не лапки вдаль, несли четыре прута;
Казалось, на бегу едва земли касаясь,
Как ласточка летел неутомимый заяц,
Вдогонку пыль и псы; все ближе, воедино
Склубились, кажутся какой-то мешаниной,
Ну впрямь змея ползет, иголовой змеиной,
Конечно, был косой, а шеей — облак пыли,
Борзые позади хвостом змеиным были.
Юрист с Асессором раскрыли рты в волненье,
Вдруг побелел Юрист, как плат, как привиденье;
Асессор побледнел, поникнув головою…
Змея длинней, длинней, — да что ж это такое?
Разорвалась змея, пропала шея пыли,
У леса голова, хвосты далеко были…
Исчезла голова, и, словно шутки ради,
Мелькнул пушистый хвост, а псы остались сзади.
Обманутые псы бегут у перелеска,
Не то советуясь, не то ругаясь резко.
Вернулись наконец с поджатыми хвостами
И, уши опустив, видать, стыдятся сами,
Не могут позабыть о неудачной гонке,
Нейдут к хозяевам и держатся в сторонке.
Тут голову на грудь Нотариус повесил,
Асессор не сдавал, но тоже был невесел.
Вдвоем нашли они немало отговорок:
Мол, не привыкли псы охотиться без сворок!
Мол, заяц выскочил нежданно, нынче в поле
Хоть обувай собак — споткнутся поневоле
О камни острые, о рытвины, о кочки…
Так объясняли все борзятники до точки
(Асессор в первый раз согласен был с Юристом).
Стрелки не слушали и заливались свистом,
Перебирали вновь минувшую облаву,
А смех их оглашал зеленую дубраву.
Гречеха только раз на зайца оглянулся.
Увидя, что бежал, спокойно отвернулся
И продолжал рассказ: «О чем бишь я толкую?
Ах да, о том, как мне отвесть беду такую, —
Смягчить условия неслыханной дуэли.
Жалеют шляхтичи: «Погибнут в самом деле!»
А я им говорю с улыбкою невинной,
Что шкура иногда бывает очень длинной!
Панове, знаете, как, по словам Марона,
К ливийцам приплыла прекрасная Дидона
И там клочок земли добыла при условье,
Что он уместится под шкурою воловьей?
И вот на том клочке встал Карфаген могучий…
Я ночью изучал недаром этот случай!
Едва взошла заря на берегах Вилейки,
Довейко на коне, Домейко на линейке,
А через реку мост косматый, крепко вбитый,
Ремни из шкуры там нарезаны и сшиты.
Домейко стал на хвост, на морду стал Довейко,
Меж ними плещется шумливая Вилейка!
«Панове, — я сказал, — стреляйтесь, тешьтесь вволю,
До примирения уйти вам не позволю!»
Смеются шляхтичи, а тех терзает злоба;
Я пригласил ксендза, мы потрудились оба,
Он им — о кротости, а я им об уставе,
Так помирили их мы, к обоюдной славе!
Довейко в жены взял себе сестру Домейки,
До гробовой доски дружили их семейки.
Примернее друзей не знали мы в округе,
Домейко шурина сестру избрал в супруги.
Поставили корчму на месте их свиданья,
«Медведицей» ее прозвали в назиданье».
Книга пятая
Ссора
Охотничьи планы Телимены. — Огородница готовится к вступлению в свет и выслушивает советы наставницы. — Охотники возвращаются. — Изумление Тадеуша. — Вторая встреча в «Храме грез» и примирение, достигнутое при посредничестве муравьев. — За столом завязывается беседа об охоте. — Прерванный рассказ Войского о Рейтане и князе Денасове. — Переговоры между сторонами, также прерванные. — Явление с ключом. — Ссора. — Военный совет Графа с Гервазием.
Удачно кончилась в глухом лесу охота,
А Телимена здесь раскинула тенета;
Хотя совсем одна она сидит в алькове
И руки сложены, оружье наготове:
Преследует в мечтах двух зайцев Телимена
И хочет затравить обоих непременно.
Кого ж ей предпочесть? Граф — юноша красивый
И рода знатного, любезный, не спесивый;
Уже влюблен в нее… Сомнительно, однако,
Удастся ль довести влюбленного до брака?
Она немолода и с небольшим приданым,
А назовет ли свет такой союз желанным?
Привстав на цыпочки, стянула пояс туже,
Сказал бы, что она повыше стала тут же,
Открыла ниже грудь и повернулась боком,
Впиваясь в зеркало нетерпеливым оком,
Как будто у него совета попросила,
Вздохнув, потупилась и села вновь уныло.
Граф родовитый пан! Изменчивы магнаты…
Блондин… Блондины все в любви холодноваты…
Тадеуш простачок, к тому же славный малый
И любит в первый раз, надежней он, пожалуй!
Когда прибрать к рукам, то будет крепко связан,
А Телимене он уже кой-чем обязан!
Юнец грешит в мечтах, старик — иное дело,
Он совесть потерял, а сердце зачерствело…
В душе Тадеуша бушует сил избыток,
Он первых радостей волшебный пьет напиток
И наслажденью рад, как дружеской пирушке,
Когда зажгут огни, вином наполнив кружки.
Не то что пьяница, гуляка и кутила,
Что напивается, хотя вино постыло.
А пани толк в любви прекрасно понимала,
Она умна была и опытна немало!
Что станут говорить? Но можно в глушь зарыться,
От близких и друзей на время затаиться,
Столицу посетить, когда придет желанье, —
А это по душе честолюбивой пани.
Там познакомила бы юношу со светом
И помогла б ему, наставила советом.
Нашла бы в нем себе супруга, друга, брата,
Покуда молодость не скрылась без возврата.
Мечтая так, она прошлась беспечно, смело,
Потом нахмурилась и на диван присела.
Задумалась она и о другом вопросе,
Нельзя ли Графа ей женить на панне Зосе?
Невеста славная! Она хоть небогата,
Но дочь сенатора — вельможного магната!
Когда б их удалось сосватать Телимене,
Нашлось бы место ей в супружеском именье,
Как Зосина родня, к тому ж еще и сваха,
Могла бы наконец вперед глядеть без страха!
И вот, чтоб приступить к намеченному плану,
Окликнула она молоденькую панну.
А Зося во дворе, с головкой непокрытой,
Стоит, держа в руках приподнятое сито;
Ей в ноги катятся лохматыми клубками
Рябые курочки с лихими петушками,
Гребут, как веслами, крылами запевалы,
На шишаках у них ярчайшие кораллы
И шпоры на ногах. По грядкам, без дороги
За ними шествует индюк, надутый, строгий,
Не слушая речей дражайшей половины;
Плывут невдалеке хвостатые павлины,
Хвост помогает их движениям нескорым;
А голубь падает комочком среброперым
На бархатистый дерн приветливой лужайки.
В звонкоголосый круг теснятся птичьи стайки;
Как белой лентою, обвит он голубями,
Весь пестрый, крапчатый, сверкает, точно пламя.
Янтарь на клювиках, кораллы на уборе
Из гущи перышек, как рыбки, светят в море.
И стая пестрая у стройных ножек панны
Едва колышется, как над водой тюльпаны.
Глядит на девушку с волненьем круг стоокий,
А Зося кажется меж птицами высокой.
Вся в белом, тонкая, молоденькая панна
Легка в движениях — точь-в-точь струя фонтана!
Из сита зачерпнув, бросает им проворно
Рукой жемчужною жемчужин крупных зерна.
Перловая крупа — обычная заправа
Литовских кушаний, но девушка лукаво
Повадилась таскать перловку из буфета,
Для милых птиц своих отважилась на это!
Услышала — зовут! «О, тетя, без сомненья!»
И, птицам высыпав остатки угощенья
И сито покрутив, как бубен танцовщица,
Выстукивая такт, сама взвилась, как птица.
Помчалась радостно, домашних птиц пугая;
Взметнулась тотчас же встревоженная стая.
Ногами девушка едва земли касалась
И птицей между птиц летящею казалась!
За нею голуби летели пышной свитой,
Как за прекрасною богиней Афродитой.
Вскочила девушка в окошко к Телимене,
Любимой тетушке уселась на колени,
А тетушка своей рукою белоснежной
Погладила ее по круглой щечке нежной
И заглянула ей в глаза проникновенно
(Любила девушку сердечно Телимена).
Но вот, с дивана встав, она прошлась немного
И, пальцем погрозив, заговорила строго:
«Ты, Зося, не дитя, пора остепениться!
Тебе четырнадцать, ты взрослая девица!
И внучке Стольника, конечно, не пристало
Возиться с птицами, якшаться с кем попало!
С крестьянскими детьми ты нянчилась довольно,
Поверь, что на тебя смотреть мне даже больно!
Фи! загорела ты, как дикая цыганка,
А неуклюжа как! Ни дать ни взять крестьянка!
Забавы детские пора тебе оставить,
Сегодня обществу хочу тебя представить.
К нам гости съехались, и встретишься ты с ними.
Не осрами ж меня манерами дурными!»
Вскочила девушка, от счастья хорошея,
И тотчас кинулась наставнице на шею,
В ладоши хлопая, смеяться, плакать стала:
«Ах, тетя, как давно гостей я не видала!
Все с курами вожусь, все слышу птичьи крики,
А в гости прилетал один лишь голубь дикий!
Мне так наскучило одной сидеть в алькове!
Со скукой, говорят, приходит нездоровье!»
«Мне докучал Судья, — сказала Телимена. —
В свет вывозить тебя хотел он непременно.
Не знает, что плетет. Жил старикан в повете
И не бывал нигде. Что знает он о свете?
Известно хорошо мне, как особе светской,
Что надо в общество явиться не из детской!
Коль на глазах растешь, тогда, попомни слово,
Эффекта все равно не выйдет никакого,
Будь раскрасавицей! Зато, когда нежданно
Войдет в гостиную не девочка, а панна,
Все кинутся искать ее улыбки, взгляда,
Хвалить и тонкий вкус, и красоту наряда,
Ловить слова ее, все делать ей в угоду,
А если девушка вошла однажды в моду,
То пусть не нравится — все, несмотря на это,
Ей поклоняются, — таков обычай света.
Не беспокоюсь я: ты выросла в столице,
Я воспитанием твоим могу гордиться.
Ты помнишь Петербург, хотя живешь в повете.
Заботься, Зосенька, теперь о туалете!
Все приготовлено, чего же ждешь еще ты?
Охотники вот-вот заявятся с охоты».
Тут горничная вмиг с дворовой молодою
Ей таз серебряный наполнили водою.
Как воробей в песке, в воде плескалась панна,
А горничная ей прислуживала рьяно.
Достала тетушка столичные запасы:
Помаду, и духи, и прочие прикрасы.
Духами тонкими обрызгала девицу —
Благоухание наполнило светлицу.
Надела Зосенька чулочки-паутинки,
Обулась в белые варшавские ботинки,
И, затянув шнурки на шелковом корсаже,
Служанка пеньюар надела ей тотчас же.
Вот, папильотки сняв бумажные, крутые,
В два локона свила ей кудри золотые,
Пригладив волосы на лбу и над висками;
Потом сплела венок из руты с васильками,
А тетушка его оправила умело
И ловко девушке на голову надела,
Чтоб в золоте волос, как в спелой ржи, мелькая,
Синели васильки, головками кивая.
Снят белый пеньюар, и платьице надето,
И, споря красотой с сияньем туалета,
Как лилия бела, нежна, благоуханна,
Платочек мнет в руке молоденькая панна.
Одобрив туалет последнего фасона,
Велит ей тетушка пройтись непринужденно.
Особой светскою была недаром тетка,
И не понравилась ей Зосина походка;
Увидя реверанс, в испуге закричала:
«Ах, я несчастная! Так вот что означала
Возня с гусятами! Так ходят лишь подпаски,
Как разведенная жена, ты строишь глазки!
Меня позоришь ты подобным реверансом!»
Паненка залилась малиновым румянцем:
«Жила я взаперти, ни с кем не танцевала,
Возилась с детворой и с птицами, бывало.
Прошу у тетушки немного снисхожденья,
С гостями поведусь и наберусь уменья!»
«Возиться с птицами, конечно, лучше было,
Чем с тою шушерой, что дядю облепила! —
Сказала тетушка. — Плебан, игравший в шашки
С молитвой на устах, другие замарашки —
Чинуши с трубками! Лихие кавалеры!
Переняла бы ты завидные манеры!
Зато пришла пора тебе повеселиться
В хорошем обществе: созвал гостей Соплица,
Меж ними есть и Граф, жил за границей годы,
Воспитан хорошо и родич воеводы.
С ним полюбезней будь!»
Тут долетело ржанье:
Знать, гости съехались; и поспешила пани
С питомицей вдвоем приезжих встретить в зале.
Спустились об руку, гостей же не застали;
Они прошли к себе, переодеться надо:
Соплица не терпел небрежного наряда.
Пан Граф с Тадеушем оделись всех быстрее
И вместе в зал сошли с высокой галереи.
Приветствовала их любезно Телимена,
Свою племянницу представила степенно
Сперва Тадеушу, он родственник ей близкий;
Присела девушка; поклон отвесив низкий,
Беседу завязать Тадеуш попытался,
Но, глянув на нее, с открытым ртом остался.
Зарделся, побледнел, дрожь проняла беднягу,
Казалось, потерял он всю свою отвагу…
По росту, голосу в единое мгновенье
Узнал он в девушке волшебное виденье,
Да, этот силуэт он видел на заборе,
И этот голосок будил его на горе!
Гречеха выручил Тадеуша, на счастье,
Увидя дрожь его, он принял в нем участье
И посоветовал пойти вздремнуть немного.
Тадеуш в угол стал, подальше от порога;
Уставясь на гостей полубезумным взглядом,
Он видел тетушку с племянницею рядом.
Хозяйка поняла, что юноша взволнован,
Что замер сам не свой, как будто зачарован;
Стараясь угадать, что с ним такое стало,
Она по-прежнему с гостями щебетала,
Но, улучив момент, Тадеуша спросила:
Здоров ли, почему один стоит уныло?
О Зосе походя ему сказала что-то,
Но юноша молчал и слушал с неохотой,
Не глядя на нее. Тут пани стало жутко,
И поняла она, что это все не шутка!
Участие на гнев сменила Телимена,
Внезапно поднялась и глянула надменно,
Презреньем обдала, а он в ответ на это
Стремительно вскочил и, вспыхнув, как ракета,
Прочь кресло отпихнул решительным движеньем,
И кинулся бежать, и плюнул с раздраженьем.
Дверь хлопнула за ним, но этой бурной сцены
Не увидал никто, на счастье Телимены.
Он в поле побежал, ей что-то буркнув глухо.
Как щука с острогой, вонзившеюся в брюхо,
Ныряет в глубину, скрываясь под водою,
И тянет все-таки веревку за собою,
Так бедный юноша унес с собой досаду;
Он прыгнул через ров, перескочил ограду
И прямо полетел, куда глаза глядели,
Дороги не ища, не намечая цели.
Попал он наконец — привел, быть может, случай —
Туда, где счастлив был своей душой кипучей,
Где получить успел записку от прелестной…
Зовется «Храмом грез» то место, как известно.
Она! Но в статуе, исполненной печали,
Возлюбленной своей он не узнал вначале:
На камень опершись, укрыта шалью белой,
Казалась юноше она окаменелой,
Сквозь пальцы белые просачивались слезы…
Он, он виновник был такой метаморфозы!
И сердце юноши напрасно защищалось,
Уж он растрогался, его пронзила жалость,
Таясь в глухой листве, вздыхал он ненароком
И говорил себе с мучительным упреком:
«Ошибся, но ее винить мне нет причины».
Тут высунулся он по пояс из олышины.
Вдруг паки прыгнула с полубезумным криком,
Метаться начала в смятении великом.
Бледна, растрепана, стремглав бежала пани
И наземь бросилась, не выдержав страданий.
Пытается привстать, однако все напрасно,
И видно, что она терзается ужасно!
Хватается за грудь, за шею, за колена.
Быть может, спятила от горя Телимена?
Припадок, может быть? Но нет! Совсем иное
Случилось бедствие!
Под старою сосною,
Где муравейник был, народец муравьиный
Хозяйственно сновал вдоль по дорожке длинной.
То ль надобность была, то ль просто так, без цели,
Козявки к «Храму грез» пристрастие имели,
Но с самого утра, сквозь березняк зеленый,
Тропинку проложив, ползли их батальоны.
А пани у ручья сидела на песочке,
Польстились муравьи на белые чулочки
И поползли по ним, кусаются, щекочут…
Тут пани поднялась, стряхнуть мурашек хочет,
Но падает в траву, не удержав стенаний!
Тадеуш должен был прийти на помощь к пани!
Он платье отряхнул и, обмахнув чулочки,
Нечаянно уста приблизил к нежной щечке.
Так в позе дружеской была забыта ссора,
Беседа обошлась без сцены, без укора —
И затянулась бы, наверное, но снова
Донесся медный звон, что шел из Соплицова
И к ужину сзывал. Поторопиться надо!
Чу! хрустнул бурелом, их ищут — вот досада!
Вдвоем застанут здесь — пойдет дурная слава.
И Телимена в сад отправилась направо,
А юноша пошел налево по дороге,
Не обошлось у них обоих без тревоги:
Ей померещилась, наверное от страха,
Сутана темная приезжего монаха;
А юношу смутил вид чьей-то длинной тени,
Чьей? Он не разглядел, но чувствовал в смятенье,
Что это, верно, Граф шагал вечерним нолем
В английском сюртуке, изящном, долгополом.
А ужин в замке был. Не примирясь с запретом,
Протазий на свой страх все ж настоял на этом:
Он замок штурмом взял, едва ушел Соплица,
«Ввел во владенье» слуг, как это говорится.
В сенях все общество столпилось в полном сборе;
И к месту главному идет пан Подкоморий, —
Он, самый старший здесь и возрастом и чином,
Проходит, кланяясь и дамам и мужчинам,
Садится рядом с ним достойная супруга.
Монах не ужинал, он не имел досуга.
Вот разместились все, Судья стал посредине,
«Благословение» прочел он по-латыни.
Мужчины выпили, потом на скамьи сели,
Литовский холодец в молчанье дружном ели.
Вот поданы на стол цыплята с винегретом
В компании живой венгерского с кларетом,
Но шляхтичи молчат. Подобного скандала,
С тех пор как замок был построен, не бывало,
А шляхту принимать не привыкать палатам,
Где стены вторили ликующим виватам,
Где никогда еще так мрачен не был ужин, —
Лишь пробки хлопают да стук тарелок дружен;
Сказал бы, что злой дух сковал уста печатью,
И смолкли шляхтичи, покорные заклятью.
Молчанию стрелков причин немало было:
Вернулись весело и не растратив пыла,
Но приумолкли вдруг, припомнив ход облавы,
И поняли они, что не стяжали славы.
Ведь надо было же! Какая-то сутана,
Бог весть откуда к ним попавшая нежданно,
Вдруг превзошла в стрельбе охотников, столь рьяных.
Что станут говорить и в Лидзе и в Ошмянах,
Которые взялись тягаться с их поветом
В стрельбе и в ловкости? Все думали об этом.
Юрист с Асессором молчали, брови хмуря,
В сердцах борзятников не утихала буря,
И каждый видел вновь, досадою терзаясь,
Как серым хвостиком помахивает заяц,
Поддразнивая их. Сидели мрачно оба,
К тарелкам наклонясь, в сердцах кипела злоба.
Асессор мучился еще одной догадкой —
На Телимену он поглядывал украдкой.
С Тадеушем она ни слова не сказала,
Хоть взгляды на него смущенные бросала.
На Графа мрачного с улыбкою глядела,
Душевный разговор с ним завести хотела;
Придя с прогулки, Граф исполнен был досады
(Тадеуш знал, что он вернулся из засады).
Закинув голову, поднявши гордо плечи,
С презреньем слушал Граф приветливые речи.
И, наконец, подсел как можно ближе к Зосе,
Вино ей подавал, закуски на подносе,
Закатывал глаза, беседуя любезно,
И глубоко вздыхал, все было бесполезно!
Видать, несчастный Граф ухаживал для виду
И тем отплачивал кокетке за обиду.
Оглядывался он, как будто ненароком,
И на неверную сверкал ревнивым оком!
Но непонятна ей осталась эта сцена.
«Чудак!» — подумала о Графе Телимена.
Успехом девушки красавица гордилась
И вот к Тадеушу с улыбкой обратилась.
Тадеуш мрачен был, он слушал разговоры,
Но ничего не ел, вперив в тарелку взоры.
В изысканных речах назойливость он видел,
Зевал в ответ на них и тем ее обидел.
Не нравилось ему (какая перемена!),
Что так щедра была на ласки Телимена!
Еще досадовал на слишком низкий вырез,
А глянул ей в лицо — и горечи не вынес:
Теперь он зорче был и на лице прекрасном
Прочел секрет ее, который был ужасным
И больше не скрывал коварного обмана, —
Она румянилась!
Виновны ли румяна,
Некстати стертые? Но волшебство нежданно
Исчезло, и теперь все видел без прикрас он,
Румяна в «Храме грез» мог и стереть он часом.
Ведь разговор велся на близком расстоянье,
Как с бабочки пыльцу, их свеяло дыханье,
А пани, запоздав, — путь из лесу далекий, —
Забыла второпях вновь подрумянить щеки.
Глаза Тадеуша, как хитрые шпионы,
Открыв один обман, искать другие склонны.
Повсюду ловит он следы коварной фальши:
Веснушек несколько у самых губ, а дальше
Нет двух зубов во рту, на лбу лежат белила,
И множество морщин лицо избороздило.
Увы! Тадеуш знал — занятие пустое
И недостойное следить за красотою.
Шпионить за своей любовницей ужасно,
Но сердце, разлюбив, в любви уже не властно.
Когда не станет чувств, то в совести нет прока
И холода души не согревает око;
Не грея, светится полночное светило,
Свет поверху скользит — душа уже застыла.
Сидел, насупясь, он в молчании угрюмом
И губы искусал, предавшись черным думам.
Он Зоею ревновал к любезному соседу,
Злой дух толкал его подслушать их беседу.
А Зоею тронула учтивая манера,
Потупилась она под взглядом кавалера,
И наконец ему в ответ на красноречье
Сама напомнила о мимолетной встрече,
Каких-то огурцах, об огородных грядках…
Терзался юноша в сомненьях и догадках;
Глотал слова ее, — из домыслов несладких
Был ужин юноши. Порою так гадюка
Яд высосет из трав и — каверзная штука! —
Клубком свернется вдруг на огородной грядке,
Притихнет, но беда неосторожной пятке!
Так и Тадеуш был хотя спокоен с виду,
Но в сердце затаил ревнивую обиду.
Когда в кругу друзей один сидит угрюмо,
Он заражает всех своею мрачной думой;
Сидели хмурые одни стрелки вначале,
Взглянув на юношу, другие замолчали.
Обижен был на всех за дочек Подкоморий
И не хотел принять участья в разговоре.
Он знал, что дочери красавицы, с приданым,
Невесты первые, — чего же больше паннам?
И разве нету глаз совсем у молодежи?
Молчал, насупившись, Соплица от того же,
Гречеха, увидав, что все сидели молча,
«Ну, трапеза, сказал, не польская, а волчья!»
Молчанья не терпел речистый пан Гречеха;
Беседа для него и отдых и утеха.
Не диво! Жизнь провел со шляхтой на охотах,
На съездах, сеймиках, в хозяйственных заботах.
Привык он, чтоб ему бубнили что-то в ухо
И в тот момент, когда гонялся он за мухой,
И в тот, когда молчал, когда смыкались очи;
Беседы днем искал, не пропускал и ночи:
Молитвы слушал он и сказки вперемежку,
А трубки не терпел, говаривал в насмешку,
Что немцы завели занятие пустое
И онемечить нас желают немотою.
Болтал он целый век, под говор спал, бывало,
А просыпался он, едва лишь затихало.
Так мельник сладко спит под шум многоголосый
И просыпается, лишь замолчат колеса.
Вот Подкомория спросил Гречеха взглядом,
Потом кивнул Судье, сидевшему с ним рядом,
Мол, хочет говорить, а те взамен ответа
Склонили головы: мол, одобряем это.
«Прошу я молодежь, —
заговорил Гречеха, —
Не избегать речей и не бояться смеха!
В молчании жевать лишь капуцины рады
{292},
Молчащий, как стрелок, что бережет заряды,
И ржавеют они в ружье его без толка,
Л в старину велась беседа без умолка!
С охоты воротясь, бывало, мы в беседе
Хвалили гонщиков, судили о медведе,
А сколько споров шло охотничьих, горячих
О метких выстрелах, обидных неудачах!
Бывало, гомонит веселая орава,
Мила беседа ей, как новая облава.
Я знаю, почему молчите сокрушенно;
Беда нахлынула на вас из капюшона!
Вам стыдно промахов! Стыдиться их негоже:
Отличнейший стрелок промазывает тоже!
Бить метко, пуделять — такая наша участь,
Охочусь с детства я, а промах дав, не мучусь!
Тулощик пуделял, да и послу Рейтану
Случалось промах дать, вельможнейшему пану!
За то, что юноши нарушили порядки
И, зверя упустив, бежали без оглядки,
Забыв рогатину, за это молодежи
Хотя не похвалю, не осужу я тоже!
Кто бросится бежать, когда в руках двустволка,
Не выйдет из того, сказать по правде, толка,
А наобум палить, не подпуская зверя,
Как делает иной, прицела не проверя,
Еще позорнее! Совсем иное дело,
На мушку зверя взяв, стрелять в добычу смело!
Тут, если промах дашь, нет срама в отступленье,
Идти с рогатиной велит не долг — влеченье!
Рогатина стрелкам дана для обороны, —
От века таковы охотничьи законы.
Не стоит горевать о вашей неудаче,
И за столом молчать не следует тем паче!
Прошу вас об одном, ревнуя к вашей славе,
Когда вы вспомните о нынешней облаве,
Припомните наказ, завещанный Гречехой:
Друг другу никогда не будьте вы помехой
И не преследуйте вдвоем одной дичины».
Гречеха только лишь успел сказать «дичины»,
Асессор тотчас же пробормотал: «Девчины».
Кругом раздался смех и крики «браво, браво!»,
Как видно, рассуждал оратор очень здраво!
Одни, развеселясь, воскликнули: «Дичины»,
Другие тотчас же отозвались: «Девчины».
— «Соседки», — прошептал Нотариус. «Кокетки», —
Асессор подхватил, смяв уголок салфетки.
Гречеха между тем далек был от упреков
И оценить не мог улыбок и намеков,
Услышав выкрики, а с ними взрывы смеха,
Задумал насмешить все общество Гречеха.
И так заговорил, налив бенедиктина:
«Напрасно я ищу глазами бернардина,
Чтоб рассказать ему за нашим пиром славным
О метком выстреле, сегодняшнему равном.
Гервазий говорил, что он стрелка такого
Знавал лишь одного, и не было другого,
Но я другого знал. Был на облаве случай,
Двоих охотник спас от смерти неминучей!
Отменнейших стрелков: Денасова, Рейтана, —
Ушли они тогда от гибели нежданно!
Не позавидовав спасителю, магнаты
Кричали в честь его трикратные виваты —
И за столом стрелка вдвоем благодарили,
Кабаньей шкурою, деньгами одарили.
Я очевидцем был и нынче, как нарочно,
Пришлось мне увидать такой же выстрел точно,
Как тот, который спас магнатов именитых,
Отменнейших стрелков, доныне незабытых!»
Судья отозвался, вином наполнив чаши:
«Я пью и за ксендза и за здоровье ваше!
Хоть одарить ксендза деньгами я не смею,
Но порох оплатить с лихвой ему сумею!
Для бернардина я не пожалею туши,
Пусть кормит года два монашеские души!
Но шкуры не отдам, а если мне в продаже
Откажет добрый ксендз, прибегну к силе даже —
Десяток соболей за шкуру дам и боле,
Распорядиться ей хочу своею волей!
Во-первых, честь ксендзу, охотникам на горе,
А кто за ним идет, рассудит Подкоморий
И шкурой наградит достойного, панове!»
Пан Подкоморий тут в раздумье сдвинул брови.
И зашумели все, хвалясь друг перед другом,
И каждый требовал оценки по заслугам
Уменья своего, проявленной отваги.
Юрист с Асессором опять скрестили шпаги:
Один превозносил за меткость Сангушовку,
Другой нахваливал свою Сагаласовку.
«Ты прав, соседушка! — промолвил Подкоморий. —
Во-первых, — честь ксендзу, охотникам на горе,
Кого ж назвать за ним, я сам не знаю, други,
У каждого из вас немалые заслуги.
Все мужеством равны! И все ж из молодежи
Сегодня на двоих нам указал перст божий.
Двоих чуть не задрал Топтыгин на облаве, —
Граф и Тадеуш, вы владеть добычей вправе.
Тадеуш юн еще и сам, по доброй воле,
Как родственник Судьи, откажется от доли.
Трофей получит Граф и, как велит обычай,
Украсит кабинет охотничьей добычей.
Добыча — памятка сегодняшней забавы,
Триумф охотника, залог грядущей славы!»
Оратор замолчал, он думал сделать лучше.
Но Граф был сам не свой, сидел он туча тучей.
При слове «кабинет» он глянул в изумленье
И сразу увидал все головы оленьи,
Ветвистые рога, как будто лес лавровый,
Взращенный для сынов, — наследие отцово.
Портреты предков здесь под сводами висели,
Заветный Козерог, блестевший еле-еле.
Былого голоса — они всего дороже!
От грез очнулся Граф. В гостях он, у кого же?
Наследник Стольника, он гость в своих хоромах
С врагами за столом! Какой ужасный промах!
А пылкой ревности язвительное жало
Обиду горькую еще усугубляло.
С усмешкой Граф сказал: «Мой скромный домик тесен,
Нет места годного, и слишком дар чудесен!
Пусть лучше подождет медведь среди сохатых,
Пока не поселюсь я в родовых палатах!»
Смекнув, к чему он вел такую речь в задоре,
По табакерке тут пощелкал Подкоморий:
«Достойна похвалы заботливость соседа,
Не забывает он о деле для обеда,
Не так, как сверстники, — отъявленные моты,
Транжирить денежки — им нет другой заботы.
Хочу согласием закончить суд, но дело
В усадебной земле. Решим его умело;
Придется за нее полями откупиться». —
На объяснения привык он не скупиться
И начал излагать особенности плана.
Но изложение нарушил шум нежданно:
Кто, палец вытянув, указывал на что-то,
Кто повернулся вдруг, склонясь вполоборота,
Другие головы нагнули, брови хмуря,
Колосья спелые так пригибает буря.
Все смотрят в угол,
там Горешко на портрете
И двери темные. Раскрылись двери эти,
И показался в них какой-то призрак старый,
Он двинулся вперед, высокий, сухопарый.
Гервазий! Кто еще такой же длинноногий
И у кого еще на куртке Козероги?
Он шел, прямой, как столб, с усмешкою кривою,
Суровый и немой, качая головою,
В руке огромный ключ — подобие кинжала,
Вот растворил он шкаф, пружина завизжала.
Там в двух углах сеней, где высились колонны,
Куранты старые в шкафах дремали сонно,
С природой не в ладу старинные чудила
Показывали день, когда за полночь било.
Исправить механизм Гервазий был не в силах,
Однако всякий раз исправно заводил их,
Крутил их каждый день уже в теченье года,
И вот как раз теперь пришла пора завода.
Покуда излагал пан Подкоморий планы,
Он гирю потянул, и встрепенулись паны,
Услыша ржавый скрип и скрежет да гуденье, —
Пан Подкоморий сам закончил рассужденье:
«Работу спешную ты б отложил, любезный!»
Хотел он продолжать, но было бесполезно:
Другую гирю тут старик рванул с разгона.
Снегирь, что на часах сидел непринужденно,
Захлопал крыльями и как зальется свистом!
Да жаль! Охрип снегирь, а был он голосистым.
Сбивался и пищал, совсем заврался вскоре.
Под общий смех прервал доклад свой Подкоморий.
«Эй, Ключник, — крикнул он, — уймись ты, старый филин,
И клюв побереги, пока он не отпилен!»
Гервазий, услыхав в его словах угрозу,
Лишь подбоченился, приняв лихую позу,
И стрелки перевел он сразу на полсуток:
«Шутить изволите? Я не любитель шуток,
Хоть мал воробышек, но в гнездышке крылатый
Сильнее филина, что залетел в палаты!
Знай, пан, что филин тот, кто под стрехой чужою
Пирует по ночам, пугну его ужо я…»
«За двери Ключника! Довольно безобразий!»
«Мопанку, видите! — в слезах вскричал Гервазий. —
Да разве вы еще не запятнали чести
Тем, что с Соплицами за стол уселись вместе?
Рубаку, Ключника, Гервазия пред вами
Поносят дерзкими, обидными словами!
И не ответит пан обидчикам достойно?»
Вдруг трижды закричал Протазий им:
«Спокойно! Панове, слушайте!
Я, по отцу Брехальский,
Протазий Балтазар и возный трибунальский,
По форме нынче я обследовал именье,
Засим составил акт и вывел заключенье.
Беру в свидетели всех вас, мой список полон.
Прошу Асессора, чтоб следствие повел он
По делу славного Судьи, сиречь Соплицы,
О нарушении противником границы,
Вторженье в замок тот, владеет он которым,
Понеже в нем он ест, и здесь конец всем спорам!»
Гервазий перебил: «Ты брешешь, как собака!»
Железные ключи сняв с пояса, Рубака,
Как камень из пращи, пустил их в Балтазара,
Однако увильнул Брехальский от удара.
И голову нагнул он вовремя на счастье,
Не то б она была расколота на части!
В смятенье шляхтичи молчали миг короткий.
Судья опомнился: «Разбойника в колодки!
Гей, хлопы!» Ворвались дворовые гурьбою,
Заполнили проход меж дверью и стеною.
Но Граф загородил скамейкою дорогу,
На крепость шаткую поставив твердо ногу.
«Стоп! — крикнул он Судье. — На что это похоже,
Гнать моего слугу из дома моего же!
Мой замок, мой слуга, сам разберусь я в споре!»
Нахмурясь, поглядел на Графа Подкоморий:
«Без вашей помощи накажем грубияна,
А ваша милость, Граф, присваивает рано
Сей замок, суд еще не объявил решенья.
Не вы хозяин здесь! Не ваше угощенье!
Молчал бы лучше пан, когда седины эти
Не уважаешь ты, уважь мой сан в повете!»
Но огрызнулся Граф: «Довольно! Надоело!
Другим рассказывай, коль нет иного дела!
Напрасно с вами здесь я предавался пьянству,
Которое ведет к насилью и буянству!
Ответ дадите мне, когда вы протрезвитесь.
Ну а теперь за мной, Гервазий, верный витязь!»
Подобной выходки не ждал пан Подкоморий,
Он наливал бокал, чтоб подкрепиться в споре,
Но, лютой дерзостью сраженный точно громом,
Оперся о бокал бутылкой, полной ромом,
И, шею вытянув, ладонь приставил к уху,
Еще не доверял он собственному слуху!
Молчал, но между тем так мощно чашу стиснул,
Что лопнула она, напиток в очи прыснул
И, видимо, зажег в душе пожар жестокий —
Так очи вспыхнули, так запылали щеки.
Лишился языка от брызнувшего хмеля,
Сквозь зубы наконец промолвил: «Пустомеля!
Графишка, я тебя! Подай мне, Томаш, саблю!
Я пана вышколю, я спеси поубавлю!
Боится натрудить изнеженные уши…
Придется мне тебя дубиной оглоушить!
За сабли! Томаш, гей! С крыльца задиру сбросьте!»
Но Подкомория тут окружили гости,
И за руку его схватил судья Соплица:
«Я первый оскорблен! Мне надлежит с ним биться!
Протазий, дай палаш! Ну, забияка жалкий,
Попляшешь у меня ты, как медведь под палкой!»
Тадеуш закричал: «Вам, дядя, непригоже
Сражаться с фертиком, есть люди помоложе!
Вы предоставьте мне сразиться с забиякой.
Ты вызвал стариков, отважный пан, однако
Мы завтра поглядим, как бьешься на дуэли
И что за рыцарь ты, а нынче — прочь отселе!
Беги, покуда цел!»
Совет не спас беднягу,
И Граф и Козерог попали в передрягу.
Налево за столом кричали и свистели,
А с правого конца бутылки полетели,
Тарелки и ножи. Испуганные панны
Слезами залились. Раздался вопль нежданный,
И, закатив глаза, упала Телимена
На графское плечо. Белевшая, как пена,
Лебяжья грудь ее к груди его прижалась,
И Граф разгневанныйпочувствовал к ней жалость,
Он поддержал ее.
Зато Гервазий старый
Грудь беззащитную подставил под удары.
Уже изнемогал под натиском дворовых
И выдержать не мог он испытаний новых,
Но Зося Ключника сердечно пожалела
И, заслонив его, простерла руки смело.
Толпа отхлынула — и след простыл буяна.
Искали под столом, но не нашли. Нежданно
Гервазий вынырнул и, поводя очами,
Скамейку поднял вдруг могучими руками.
Крутясь, как мельница, всех смел перед собою
И, Графа заслонив дубовою скамьею,
Повлек его к дверям, однако у порога
Гервазий постоял, поглядывая строго.
Не безоружен он, так отступать к чему же?
Быть может, бой принять? и в ход пустить оружье?
Выпячивая грудь, уже в усердье рьяном
Взмахнул тяжелою скамьею, как тараном,
И голову нагнул, уверенный в успехе,
Но задержался он глазами на Гречехе.
А тот, прикрыв глаза, в раздумии глубоком,
Казалось, вспоминал о времени далеком.
Граф с Подкоморием едва лишь побранился
И пригрозил Судье, как Войский оживился,
Полакомился он понюшкою двойною
(Соплица Войскому был дальнею роднею,
Но у него гостил Гречеха постоянно
И озабочен был благополучьем пана).
Не мог он долее терпеть, как посторонний,
И лезвие ножа блеснуло на ладони!
А локтя правого коснулась рукоятка.
Казалось, старика не занимала схватка,
Но он раскачивал рукой вооруженной,
На Графа между тем глядел настороженно.
Метание ножей опасно в каждой драке,
Оставили его литвины и поляки.
Одни лишь старики, Гервазий между ними
И Войский, славились ударами своими.
Видать, что острый нож метнет он, не помешкав,
Что в Графа целится, наследника Горешков.
(По женской линии их родича, по прялке!)
Движенье Войского укрылось в перепалке.
Гервазий побледнел, смекнув, в чем было дело,
И Графа прочь повлек. «Держи!» — толпа ревела.
Как волк, над падалью застигнутый, с разгона
Бросается на псов и рвет их разъяренно,
Но щелкнет вдруг курок отрывисто и сухо —
Знакомый звук! И волк, настороживши ухо,
Глазами поведя, охотника находит,
Который на него ружье уже наводит,
И кажется — вот-вот он к спуску прикоснется, —
Волк поджимает хвост и с воем прочь несется;
За ним бросается с победным лаем стая,
За шерсть кудлатую бегущего хватая,
Тут огрызнется волк, ощерится клыками,
И псы отпрянут прочь трусливыми прыжками, —
Так Ключник отступал; однако, пятясь задом,
Удерживал напор скамьей и грозным взглядом,
Покуда не достиг он с Графом коридора.
«Держи!» — летело вслед. Но крики смолкли скоро.
Гервазий вынырнул из сумрака нежданно,
Уж он на хорах был у старого органа
И трубы вырывал. Гостям пришлось бы худо:
Ведь мог бы разгромить Гервазий их оттуда.
Но гости из сеней посыпали гурьбою,
И челядь в ужасе бежала с поля боя, —
Приборы захватить нужна была сноровка,
В добычу Ключнику досталась сервировка.
Однако кто ушел последним из сраженья?
Протазий Балтазар! Стоял он без движенья
За креслом у Судьи, спокойный и серьезный,
Провозглашая акт, как возглашает возный.
Окончил и ушел, торжественный и чинный,
Оставив за собой лишь трупы да руины.
Хоть из людей никто не пострадал нимало,
Но стол изранен был, скамейка захромала.
Как падает на щит солдат в бою жестоком,
На блюда стол упал и навалился боком
На залитых вином, растерзанных пулярок,
На уток жареных, шеренгу винных чарок.
Настала тишина. На замок отдаленный,
Где шло побоище, покой нисходит сонный,
Напоминает все старинные обряды
Ночного пиршества, когда справляют «дзяды».
Уже усопшие из гроба встать готовы,
И трижды ухают невидимые совы, —
Певцы-кудесники, что славят месяц белый,
А луч его скользит, дрожащий и несмелый,
Как дух в чистилище, чу! — крысы лезут в щели,
Подобно нечисти, и, празднуя веселье,
Лакают и грызут. Бах! Выстрелила глухо
Бутыль шампанского — заздравный тост за духа!
В покоях наверху, в большом зеркальном зале,
Где рамы без зеркал у голых стен стояли,
Граф вышел на балкон, к воротам обращенный,
И прохлаждается, борьбой разгоряченный;
Он, как гидальго плащ, сюртук накинул ловко,
Сложил рукав с полой, увлекшись драпировкой;
А Ключник между тем расхаживал по зале.
И невпопад они друг другу толковали.
«Палаш! — воскликнул Граф. — А может быть, рапира!»
«Помилуй! Замок твой от сотворенья мира!»
Граф перебил его: «К барьеру все их племя!»
Гервазий закричал: «Когда упустишь время,
То замка не вернешь! — и вдруг добавил смело: —
Мопанку, все бери, покуда суд да дело!
Зачем тебе процесс? Не жаль платить издержки?
Четыре сотни лет владели всем Горешки!
Земля отторгнута была при Тарговице,
И отошла потом, как знает пан, к Соплице.
Настало время нам по чести расквитаться,
Пусть платит за грехи искариота-братца!
Я пану говорил, судиться надоело,
Я пану говорил, наезд — вот это дело!
Удача смелому, так исстари ведется,
Кто битву выиграл, тот своего добьется!
Вражды с Соплицами не разрешить процессу,
А Перочинный нож послужит интересу.
И если Матек нам поможет хоть немножко,
То из Соплиц у нас получится окрошка!»
«Отлично! — Граф сказал. — Твой план сарматско-готский
Мне больше по сердцу, чем суд их идиотский!
Пусть разнесется слух по всей Литве широко.
Наездов не было уже с какого срока!
Два года здесь провел, а битвы ни единой!
Вот разве из-за меж сражаются дубиной.
Наш доблестный поход сулит пролитье крови,
Подобные дела и для меня не внове!
Когда в Сицилии гостил у князя в вилле,
Там зятя княжьего бандиты изловили
И выкуп от родни заполучить хотели,
Мы, взяв с собою слуг, вдогонку полетели:
Я двух разбойников убил своей рукою,
И пленника я сам освободил, какое
Необычайное по блеску возвращенье!
Наш рыцарский триумф, будивший восхищенье…
Заплакала княжна, склонясь в мои объятья,
И ничего не мог в волнении сказать я.
Но подвиг прогремел, и женщины, не скрою,
Все поклонялись мне, как славному герою:
Все приключение описано в романе.
Там даже назван я! Роскошное изданье,
Заглавье в памяти навеки сохранится:
«Бирбантско-Рокский Граф!» А есть ли здесь темница?
Напиться хочет Граф!» — «Здесь было чем напиться,
Да только погреб пуст, все вылакал Соплица!»
Граф перебил его: «Вооружим жокеев,
Вассалов позовем!» — «Не надобно лакеев! —
Гервазий закричал. — Идем не на злодейство,
Никто еще в наезд не брал с собой лакейства!
В наездах пан еще не может разобраться,
Нахалов позовем, те, верно, пригодятся,
Не в деревнях искать их надо, а в застянках,
В Добжине, а потом в Центычах и в Ромбанках.
Все шляхта добрая, кровь рыцарей течет в ней,
Горешкам преданы, дружины нет почетней!
Нахалов сотни три я приведу оттуда,
Увидишь, добрый пан, Соплицам будет худо!
Все на себя возьму, моя о том забота,
Нам завтра предстоит великая работа!
Пан любит почивать, а петухи пропели,
Пока на страже я, пан выспится в постели!
Я с утренней зарей в Добжин отправлюсь конный».
Граф спорить с ним не стал, порядком утомленный.
Взглянул он, уходя, в отверстия бойницы, —
И увидал огни в имении Соплицы.
«Иллюминируйте, — он закричал, — панове,
Но завтра, в этот час, мрак будет в Соплицове!»
Гервазий наземь сел, о стенку опираясь,
Склонил он голову, размыслить собираясь,
А лунный свет скользил по лысине блестящей,
Гервазий пальцами на ней чертил все чаще,
Видать, что намечал сраженья план, однако
Все реже раскрывал свои глаза Рубака.
Вот клюнул носом он. Обычаю согласно
Молиться на ночь стал, но было все напрасно!
Меж «Богородицей» и «Верую», в затменье,
Гервазий увидал скользящий рой видений —
Горешков доблестных. Прошел мороз по коже,
И он уже не мог унять сердечной дрожи,
Покручивая ус, сердито смотрят паны,
Вот саблн скрещены, взлетели буздыганы
{293}!
Но кто всех позади, и мрачный и унылый,
С кровавой раною? Ах, господи помилуй!
Пан Стольник перед ним! Все стал крестить кругом он,
Чтоб только страх унять, утишить крови гомон,
За душ в чистилище пробормотал литанью,
Глаза сомкнулись вновь. Опять мечей блистанье,
Вот мчится конница в погоне за добычей,
И Рымша во главе, наезд на Кореличе.
Увидел и себя: охваченный порывом,
С рапирой поднятой, летит верхом на сивом,
Летит, и валится со лба конфедератка,
И плещет по ветру крылами тарататка,
А он летит вперед; уже злодей Соплица
В амбаре подожжен, амбар еще дымится,
Сторонники Соплиц бегут в жестокой спешке…
И так уснул слуга последнего Горешки.
Книга шестая
Застянок
Первые военные подготовления к наезду. — Поход Протазия. — Робак и пан Судья совещаются о делах общественных. — Дальнейшие действия Протазия кончаются неудачей. — Заметки о конопле. — Шляхетский застянок Добжин. — Описание домашнего быта и личности Матвея Добжинского.
Восходит нехотя, обычного позднее
Бесцветная заря, незрячий день за нею.
Еще не брезжит свет, хоть ожила долина,
Мгла в воздухе висит, как над избой литвина
Подгнившая стреха, и только там, с востока,
По белому пятну, что движется высоко,
Видать, что солнышко идет по небосводу
И дремлет на ходу, не радуя природу.
И на земле у нас такая же картина:
Позднее побрела на пастбище скотина
И зайцам не дала наесться до отвала,
Они бежали в лес уже с зарей, бывало,
А нынче на лугу, туманами повитом,
Хрустят мокричкою с завидным аппетитом,
Резвятся, прыгают, но вот, завидя стадо,
Бегут во все концы, — спасаться зайцам надо!
В чащобе тишина. Разбуженная птаха,
Почистив перышки, нахохлилась со страха,
Не хочет щебетать, к осине прижимаясь;
У лужи затрещал трудолюбивый аист.
На копнах вымокших вороны-непоседы
Уныло повели зловещие беседы;
Предвестье слякоти крестьянам надоело,
Они давным-давно в полях взялись за дело.
Простая песня жниц разносится над нивой,
Печальная, как день бессолнечный, тоскливый;
Не вторит эхо ей; в рассветной, мглистой рани
Похрустывает рожь, несется кос жужжанье,
Запели косари, жужжанью в подражанье,
Закончив полосы, оттачивают косы,
В такт оселки звучат, как хор многоголосый,
И не видать людей, лишь звон серпов да пенье,
Как голос музыки, невидимой, осенней.
Уселся эконом на желтый сноп лениво,
Откинув голову, отворотясь от жнива,
На перекресток он глядит в недоуменье:
Необычайное на всех путях движенье!
Возы стремительно проносятся с рассвета,
Не догнала бы их почтовая карета!
И брички легкие одна вслед за другою
Несутся во всю прыть нестройной чередою.
Направо поскакал гонец, забыв усталость,
Налево лошадей десятка два промчалось,
И все торопятся проселочной дорогой.
Откуда и зачем? Встал эконом с тревогой,
Пытался расспросить, что означает это,
Но на вопросы он не получил ответа.
Как духи, всадники в тумане пролетели,
И только стук копыт донесся еле-еле,
Бряцанье палашей — еще бы не знакомо —
Все это и страшит и тешит эконома.
В те времена в Литве хотя спокойно было,
Однако о войне молва уже ходила.
Слух о Домбровском был и о Наполеоне.
Уж не французов ли несли лихие кони?
Пустился эконом бегом к судье Соплице —
Хотел вестями с ним скорее поделиться.
Печально поутру в усадьбе после ссоры,
Не раздается смех, умолкли разговоры,
Хоть панна Войская гаданье разложила
И поиграть в марьяж мужчинам предложила,
Но гости врозь сидят, молчат, не балагурят,
Шьют что-то женщины, мужчины трубки курят,
И даже мухи спят.
Не по себе Гречехе,
Пошел на кухню он послушать без помехи
Беседы челяди, и вопли экономки,
И поваренка крик, обиженный и громкий,
Но вскоре предался блаженному покою,
Любуясь на огонь, румянящий жаркое.
Судья строчил с утра, а на крылечке Возный
Нетерпеливо ждал, взволнованный, серьезный.
Судья позвал его и зачитал на месте
На Графа жалобу за оскорбленье чести,
Гервазия винил он в брани и побоях
И наказать просил за дерзость их обоих.
Еще он требовал издержек возмещенье
И в актовый реестр
{294} просил внести прошенье.
Повестку огласить еще сегодня надо.
И сердце Возного подобной спешке радо,
Бумагу выхватить из рук ему хотелось,
Он в пляс пустился бы, имей на это смелость!
Процесс предвидел он, все чувства встрепенулись,
Воспоминания в душе его проснулись
О крепких тумаках, о щедрых подношеньях, —
Так старый ветеран, проведший дни в сраженьях
И с инвалидами живущий на покое,
Заслыша зов трубы, готов мгновенно к бою.
«Бей москаля!» — кричит, бросается с постели,
Бежит на костылях, да так, что еле-еле
И молодой за ним угнаться исхитрится.
Протазий в путь спешил скорее снарядиться.
Жупана с кунтушом Брехальскому не надо,
Не для судебного готовился парада.
Куда удобнее рейтузы — путь тяжелый! —
И куртка длинная, на пуговицах полы,
Когда их отстегнешь, так будет по колено;
Ушанку надевал Протазий неизменно,
В ненастье опускал наушники Протазий.
Он палку захватил и в путь пошел по грязи.
Как прячется шпион среди врагов умело,
Так Возный прячется, покуда суд да дело!
И хорошо, что он из дома вышел рано:
Переменился план кампании у пана,
И Возный бы застрял надолго в Соплицове.
К Судье явился ксендз, сурово сдвинув брови,
С порога закричал: «Беда нам с пани теткой!
С той Телименою, кокеткой и трещоткой!
Осталась Зосенька сироткой в детстве раннем,
Соплица Яцек сам следил за воспитаньем.
Договорился он с любезной Телименой,
Особой опытной и доброты отменной,
Но завела она теперь такую моду,
Что только дел у ней — мутить в усадьбе воду:
То льнет к Тадеушу, то к Графу, а пожалуй,
Хотелось бы двоих прельстить кокетке шалой.
Пора нам положить конец ее интрижкам,
Боюсь, чтобы потом не поздно было слишком!
Тогда придет конец твоим переговорам!»
«Переговоров нет! Я кончил с этим вздором!»
«Как? — закричал монах. — В своем ли ты рассудке,
Быть может, пан Судья со мною шутит шутки?»
«То не моя вина, — сказал в сердцах Соплица, —
Граф дерзок и спесив, с ним трудно помириться!
Гервазий негодяй. Суд разберется в деле.
Когда мы в замке все за ужином сидели,
Не знаешь ты, как Граф тогда набезобразил!»
«Зачем же пан Судья сам в этот замок лазил?
По мне, пусть сгинет он, я в замок ни ногою…
Опять поссорились! Да что ж это такое!
Быть может, я еще смогу уладить дело?
На ваши глупости смотреть мне надоело!
Есть поважней дела, чем слушать дрязги эти…
Еще раз помирю!» — «Нет! Ни за что на свете!
Проваливай, монах, и скатертью дорога! —
Прервал его Судья. — Вот ксендз, каких немного!
Над добротой моей ты хочешь посмеяться!
Привыкли своего Соплицы добиваться!
Судились долго мы, чтоб всем на удивленье
Поставить на своем в четвертом поколенье!
И так уж я сглупил, последовав совету,
Созвал третейский суд на смех всему повету!
Не надо мира мне. Нет мира между нами! —
Выкрикивая так, затопал он ногами. —
Пускай попросит Граф, как следует, пардону,
А нет — за палаши! Ответит по закону!»
«А если бы о том узнал твой брат, Соплица,
Он с горя умер бы! Так делать не годится!
Не стану вспоминать ужасного событья,
О зле содеянном не стану говорить я!
Не Тарговица ли вам отдала когда-то
Горешковы поля — имущество магната?
Твой брат раскаялся в ужасном преступленье
И поклялся вернуть наследникам именье.
На Зосеньку давал он деньги, не жалея,
Просил растить ее, одну мечту лелея:
Тадеуша теперь сосватать с сиротою,
Хотел таким путем разделаться с враждою —
Наследство возвратить, но избежать позора».
«Да мне-то что? Ведь я не заслужил укора, —
Соплица закричал. — Я не встречался с Яцком,
Хоть о житье его наслышан гайдамацком,
У езуитов я учился
{295} в эти годы
И в свите состоял потом у воеводы.
Мне дали землю — взял и Зоею ради брата,
Лелеял, пестовал, растил, как дочь магната!
При чем же Граф, скажи? Все это бабье дело
Мне, признаюсь тебе, давно осточертело!
Какой же родственник Горешкам фертик жалкий?
Десятая вода на киселе! По прялке!
Смеется надо мной! Так для чего ж мириться?»
Ксендз тихо отвечал: «Есть для чего, Соплица!
Ведь Яцек в легион хотел отправить сына,
Потом оставил тут, на то была причина!
Тадеуш здесь, в краю, скажу тебе по чести,
Полезней родине! Ты, верно, слышал вести,
Которые теперь разносятся повсюду.
Пришла пора о них узнать простому люду.
Война над головой! Об этом знает всякий,
Война за Польшу, брат, а мы с тобой — поляки!
Французов сам видал, над Неманом стояли,
И долго ждать гостей придется нам едва ли…
Ведет Наполеон к нам армию такую,
Какой не видел свет, и я душой ликую!
Ведь польские полки идут в войсках французов,
С орлами белыми! Домбровский… Славный Юзеф!
По мановению руки Наполеона
Соединятся вновь отчизна и Корона».
Судья сложил очки, не говоря ни слова,
И, глядя на ксендза, все теребил их снова,
Вот наконец вздохнул и заморгал глазами,
К монаху бросился на шею со слезами.
«Мой Робак, — он сказал, — да неужели правда?
Мой Робак, — повторял, — да неужели правда?
Нам столько раз уже французов обещали:
«Наполеон идет!» Мы верили и ждали…
«Уже в Короне он, разбил пруссаков… ждите»,
Мы ждали, ну а он мир заключил в Тильзите!
Да правда ли, скажи, не обещай напрасно!»
«Все правда, как бог свят!» — ответил Робак страстно.
«Да будет на тебе небес благословенье! —
Тут руки ввысь воздел Соплица в умиленье. —
Нет, не раскаешься ты в миссии священной,
И не раскается твой монастырь смиренный!
Овец две сотни дам монастырю святому!
Приглядывался ты давно уже к гнедому
И чалого хвалил; бери обоих смело,
Ни в чем не откажу! Процесс иное дело…
Мириться не могу и за обиду эту
Я Графа привлеку немедленно к ответу!
Могу ли допустить…»
Монах пожал плечами
И глянул на Судью печальными очами:
«Когда весь мир дрожит, тебя процесс тревожит,
От мелких дрязг тебя отвлечь ничто не может?
Я передал тебе великое известье,
А ты по-прежнему все топчешься на месте?
А как ты нужен нам…» — «Зачем?» — спросил Соплица.
«Не понял ты еще, что на сердце таится?
Не прочитал в глазах? Я широко раскрыл их!
И если кровь Соплиц в твоих струится жилах,
То ты поймешь меня. Пора нам сбросить узы,
Мы с тыла нападем, а спереди — французы!
Погоня
{296} лишь заржет, взревет Медведь
{297} на Жмуди,
На зов подымутся повсюду наши люди!
Под дружным натиском не устоять солдатам,
Восстанье все сметет своим огнем крылатым!
Захватим у царя и пушки и знамена,
С победою пойдем встречать Наполеона.
Он спросит нас: «Кто вы?» — завидя наши пики.
«Повстанцы! — загремят победно наши клики. —
Мы с вашей армией пришли соединиться».
«А кто командует?» — «Командует Соплица!»
Забудется тогда лихая Тарговица.
Пока течь Неману, пока стоять Понарам,
Твой подвиг будут чтить, ты проживешь недаром!
На правнуков твоих с почтением укажут:
«Соплица! Он из тех Соплиц великих, скажут,
Которым удалось в Литве поднять восстанье!»
Соплица отвечал: «Я не ищу вниманья
И славы не ищу, но поклянусь я свято,
Хоть не причастен я к грехам родного брата,
Хотя я отроду с политикой не знался,
Хозяйству предан был, судейством занимался,
Но шляхтич я — пятно на чести мне обидно,
Поляк я, мне и смерть за родину завидна!
Бретером не был я, а все-таки не скрою,
Что приходилось мне и фехтовать порою.
В последний сеймик я двух братьев на дуэли
Изрядно потрепал, едва лишь уцелели!
Но дело прошлое… Промолви только слово,
Отправимся тотчас, оружие готово!
Стрелков набрать легко из каждой деревушки,
У настоятеля и порох есть и пушки,
Есть острия для пик у Янкеля в подполье,
Они сгодятся нам, когда мы выйдем в поле, —
Он из Крулевца их доставил под секретом, —
Мы древки смастерим, толк понимаем в этом!
Ударим конницей, поставим все на карту,
Тадеуш, рядом я — навстречу Бонапарту».
«О, сердце польское! — Монах раскрыл объятья,
И обнялись они. — Тебя могу назвать я Соплицей истинным!
Ты послан в утешенье Скитальцу Яцеку.
Ты вымолишь прощенье,
Искупишь грех его, содеянный когда-то…
Ты мне как брат теперь, а это имя свято…
Но мы должны спешить! Поговори со всеми,
Я место укажу и сам назначу время:
О мире царь послал просить Наполеона,
Еще не подняты победные знамена,
Но Юзеф наш слыхал от самого Биньона
{298},
Что кесарь отвечал решительным отказом
И наступление войска откроют разом,
А я приехал к вам из штаба войск с приказом —
Напомнить должен вам, чтоб вы готовы были
На деле доказать, что Польши не забыли,
Что вправду жаждете слияния с Короной —
С единокровною сестрой своей исконной.
А с Графом должен ты покончить мировою,
Могла бы ссора стать ошибкой роковою,
Он истинный поляк, хоть и чудак, без спора,
Но в революции нельзя без фантазера!
Годится и дурак, давно известно это,
Лишь только б слушался разумного совета.
Граф рода знатного, имеет он влиянье,
Народ пойдет за ним, когда начнем восстанье,
Все скажут, что магнат не станет зря сражаться,
Знать, дело верное! Чего же нам бояться?
Я поспешу к нему!» — «Спеши, — сказал Соплица, —
Пускай же предо мной он первый извинится,
Ведь я старик уже, в обиде он не будет,
Ну а процесс пускай третейский суд рассудит».
Ксендз двери закрывал. Судья промолвил:
«С богом! Счастливого пути!»
Монах был за порогом, —
В повозку он вскочил, и понеслась кобыла,
Пыль поднялась столбом, из глаз повозку скрыла.
Хоть не видна была уже во мгле сутана,
Как ястреб, капюшон взносился из тумана.
Протазий графский дом заметил из долины,
Побрел к нему, как лис на запах солонины.
Идет, хоть ведомы охотничьи повадки:
Присядет, поглядит, как, все ли здесь в порядке?
Принюхается вновь и спросит у дубравы,
У ветра свежего, уж нет ли тут отравы?
Протазий, избежать желая перепалки,
У дома покружил, не выпуская палки,
Как будто увидал скотину где не надо,
И, так лавируя, он выбрался из сада.
Потом изобразил охотничью ищейку
И в коноплю юркнул, найдя в плетне лазейку.
В цветущей конопле, в пахучей гуще темной
И человек и зверь найдут приют укромный:
Зайчишка, поднятый на огородной грядке,
Несется в коноплю от гончих без оглядки,
И псам не взять его на грядке конопляной, —
Собьются со следов они во мгле духмяной;
Дворовый прячется, в тени ее укрытый,
Пока не отойдет от гнева пан сердитый,
И от рекрутчины она спасала даже:
Мужик скрывался в ней, пока искали стражи;
Во время всяких смут, в пылу борьбы горячей
Считали шляхтичи решительной удачей
Позицию занять среди зеленой гущи,
До глубины двора разливом волн бегущей:
Ведь с тыла конопля за порослью хмельною
Дорогу преградит высокою стеною.
Протазий был не трус, но запах конопляный
Будил в душе его какой-то трепет странный…
Припомнились ему былые злоключенья
И как он в конопле искал от них спасенья!
Как был приперт к стене однажды Дзиндолетом,
Пан угрожал ему зловещим пистолетом,
Велел залезть под стол, еще и лаять рьяно,
Но Возный в коноплю запрятался от пана.
Как Володкевич-пан, что был предерзких правил, —
Он сеймы разгонял и в грош суды не ставил, —
Повестку изорвал, и в исступленном раже
Поставил гайдуков с дубинками на страже,
И с гневом требовал, чтоб Возный съел повестку,
Не то грозил пронзить рапирою в отместку…
Протазий сделал вид, что ест, взглянул в окошко,
Приметил коноплю и выпрыгнул, как кошка.
Хотя никто уже посланника закона
Нагайкой не встречал, ну, как во время оно,
И только брань одна была ему ответом,
Протазий ничего еще не знал об этом.
Повесток он давно не разносил в округе,
Хоть предлагал не раз Судье свои услуги;
Протазия щадя, Судья не соглашался,
На доводы его и просьбы не склонялся
Доселе.
Тишина… и, слыша сердца стуки,
Протазий в коноплю просовывает руки,
Раздвинул стебли он и, как пловец, волною
Захлестнутый, поплыл под зеленью густою.
Вот поднял голову, к окну подкрался смело —
Оттуда пустота на Возного глядела.
Он стал ни жив ни мертв, до крайности взволнован.
И что же? Замок нем, как будто зачарован?
Повестку прочитал, оправившись немного,
Вдруг услыхал шаги у самого порога,
Бежать хотел, взглянул — знакомая особа.
Да кто же? Бернардин! Тут удивились оба.
А Граф со всем двором так быстро в путь пустился,
Что даже и дверей закрыть не потрудился.
Ушли с оружием. Разбросанные в зале
Винтовки, штуцера и шомпола лежали.
Отверток, винтиков валялся целый ворох,
И для патронов был в углу насыпан порох.
Охотиться ль они помчались без оглядки,
Зачем же сабли здесь? Клинок без рукоятки?
Оружья старого тут навалили груду,
Как будто бы его сбирали отовсюду.
И в склады бегали и в погребах искали.
Ксендз Робак оглядел и сабли и пищали
И поспешил в фольварк, чтоб люди рассказали,
Куда поехал Граф (прислуга знать могла бы).
Но встретились ему лишь две каких-то бабы.
От них проведал он, что Граф, созвав дружину,
Во всеоружии отправился к Добжину.
Шляхетским мужеством и красотой шляхтянок
Добжинский род в Литве прославил свой застянок.
Он многолюден был; когда без исключенья
Всю молодежь призвал Ян Третий в ополченье,
То шляхтичей шестьсот из одного Добжина
Откликнулось на зов. Шляхетская община
С тех пор уменьшилась, а также обеднела.
В былом — на сеймиках, на сборах — то ли дело!
Жизнь беспечальная в довольстве протекала.
Теперь Добжинские работают немало
И только что сермяг, как прочие, не носят,
В холстине крашеной и жнут они и косят
Да ходят в кунтушах. Шляхтянок платья тоже
Расцветкою одной с крестьянскими не схожи:
И рядятся они в миткаль, а не в холстину,
В ботинках, не в лаптях, пасут свою скотину.
В перчатках лен прядут и на поле гнут спину.
Есть чем похвастаться перед людьми Добжинским:
И польским языком, и ростом исполинским.
По черным волосам и по носам орлиным
О польском роде их мы узнаем старинном.
Хоть лет четыреста прошло, а то и больше,
С тех пор как шляхтичи ушли в Литву из Польши,
Родным обычаям они не изменяли
И при крещении ребенка называли
Всегда по имени мазурского святого:
Варфоломея ли, Матвея — не иного.
Так сын Матвея был всегда Варфоломеем,
Варфоломеев сын крещен бывал Матвеем.
Шляхтянки были все иль Кахны, иль Марины;
И, чтоб распутаться средь этой мешанины,
Давали клички всем, заботясь о порядке,
Тем за достоинства, а тем за недостатки.
Иному молодцу, в знак большего почета,
Давались иногда и прозвища без счета.
В Добжине шляхтич слыл под кличкою одною,
А у соседей был известен под иною.
Шляхетство местное, Добжинским в подражанье,
Переняло себе и клички и прозванья,
В семейный обиход ввело их по привычке.
И позабыли все, что из Добжина клички
И были там нужны, но что в другом селенье
По глупости людской вошли в употребленье.
Родоначальника Матвея называли
Костельным петушком Добжинские вначале,
Когда ж восстание Костюшки вышло боком,
Именовался он по-новому «Забоком»,
И «Кроликом» его добжинцы звали сами,
А у литвинов слыл он Матьком над Матьками.
В застянке Кролику не находилось ровни,
Двор близ корчмы стоял и около часовни,
Хоть он запущен был, расшатаны ворота,
Из старого плетня все жерди вырвал кто-то,
В саду уже росли березки, зеленея, —
Столицей все-таки казался двор Матвея
Среди убогих изб. Стена кирпичной кладки
Воспоминанием служила о достатке.
А рядом — житницы, сарай близ сеновала,
Все в общей куче, так у шляхтичей бывало.
И крыши ветхие, как будто лет им двести,
Мерцали отблеском зеленоватой жести
От моха и травы, пробившейся сквозь щели.
По стрехам, как сады висячие, пестрели
Золотоцветы, мак, петуньи, и крапива,
И желтый курослеп, разросшийся красиво.
И много было гнезд, и голубятен много,
Под крышей ласточки, а рядом у порога
Резвились кролики. Сказать могли бы метко,
Что двор Добжинского — крольчатник либо клетка.
Меж тем он крепостью служил в года былые
И помнил бранных лет набеги удалые!
Ядро железное, покрытое травою,
Казалось круглою ребячьей головою, —
Со шведских войн
{299} еще оно в траве лежало
И вместо камня здесь ворота подпирало.
Десятка два крестов в крапиве и полыни
В глухом углу двора торчали и поныне:
Могилы древние в земле неосвященной, —
Погибших воинов глухой приют зеленый.
А если стены кто окинет острым взором,
Увидит, что пестрят они сплошным узором
И в каждом пятнышке есть пуля в середине,
Как будто бы шмели засели в серой глине.
Засовы на дверях иссечены, побиты,
В отметках сабельных крючки, запоры, плиты:
Испробована здесь закалка зыгмунтовки
{300},
Срубавшей начисто с больших гвоздей головки, —
И не тупилась сталь, и не было зазубрин.
Гербами прадедов карниза верх разубран;
На украшения насело много пыли,
И гнезда ласточек их тесно облепили.
А в комнатах жилых, от верха до подвала,
Оружье старое валялось где попало.
На ветхом чердаке — вот времени гримаса! —
Четыре шишака сынов отважных Марса,
В них вывели птенцов питомицы Венеры;
Кольчуга ржавая и пыльный панцирь серый,
Что некогда служил в сраженье знаменитом,
Кормушкой конской стал, и клевером набит он.
Рапиры лишены закалки в печке жаркой,
И в вертела они превращены кухаркой.
Трофейным бунчуком на кухне мелют зерна…
Ну, словом, изгнан Марс Церерою позорно,
И царствует она с Помоной на раздолье
В Добжине, и в дому, и на гумне, и в поле.
Но место уступить должны опять богини, —
Марс возвращается.
Уже с утра в Добжине
Гонец во все дома стучится неустанно
И как на барщину зовет. Все встали рано,
Толпа на улицах, горят в костелах свечи,
Крик из корчмы летит, слышны повсюду речи,
Расспрашивает всяк: «Что там, скажи на милость?»
А молодежь коней седлать заторопилась.
Мешают женщины, мужчины в драку рвутся,
Хотя, за что и с кем, ответить не берутся.
К плебану на совет идут они с рассвета,
Но тот не знает сам, к чему шумиха эта?
И время тратить зря охоты не имея,
Решили шляхтичи спросить отца Матвея.
И семь десятков лет Матвея не сломили,
Былой конфедерат остался в полной силе.
Запомнили враги в боях его повадку,
Дамасской сабли блеск и боевую хватку.
Он Розгой саблю звал и наподобье сечки
И пики и штыки кромсал ей без осечки.
Хоть некогда он был лихим конфедератом
{301},
Однако сделался надежнейшим солдатом;
Когда ж король на сейм приехал в Тарговицы,
От короля Матвей задумал отступиться,
Менял он партии; наверное, за это
Костельным петушком прослыл в глазах повета.
Что по ветру всегда вращается. Доныне
Причины перемен неведомы в Добжине —
Любил ли так войну, что в битвах неустанно
На стороне любой искал он славы бранной?
А может быть, хотел мечом служить отчизне
И взгляды изменял и применялся к жизни!
Кто знает? Лишь одно могли сказать правдиво,
Что не прельщался он тщеславьем и наживой.
Противник москалей, он, чуждый всякой фальши,
Едва завидя их, спешил уйти подальше.
И, чтобы москаля не встретить на дороге,
Сидел в своем дому, точь-в-точь медведь в берлоге.
Он в Вильно уходил в последний раз с Огинским
{302}И с ним ходил в бои за доблестным Ясинским,
И Розга славная там чудеса являла.
Все знали: прыгнул он один с крутого вала,
Спеша на выручку прийти к Потею-пану —
Тот получить успел семнадцатую рану.
Их гибель на Литве была уже забыта,
Когда пришли они, исколоты, как сито.
Тут пан Потей решил, что боевому другу
Оплатит щедро он великую услугу,
Дарил ему фольварк и много тысяч злотых.
Матвей бы мог забыть под старость о заботах,
Но отвечал он так: «Пусть не Матей Потея,
Потей Матея пусть почтет за добродея».
И деньги и фольварк принять не согласился,
По возвращении по-прежнему трудился,
Он ульи мастерил, и, ярый враг безделья,
Из трав приготовлял лекарственные зелья,
И дичь ловил в силки. Достаточно в Добжине
Водилось знатоков в науках и в латыни:
Учились в городе, и право изучали,
И жили без нужды, не ведая печали;
Но среди них Матвей добился большей славы,
Не только потому, что был рубака бравый,
Но как мудрец, всегда живущий по заветам
Родимой старины, знаток людей при этом.
Он сведущ был равно в хозяйстве и в законах
И все уловки знал охотников исконных.
О ведовстве его прошла молва в повете
(Хотя считал плебан пустыми сплетни эти).
Матвей предсказывал и радость и невзгоду,
Верней календаря угадывал погоду.
Не удивительно, что отправлять вицины,
Посев ли начинать, свозить ли хлеб в овины,
Затеять ли процесс, не то бросать затею —
Все за советами обычно шли к Матвею.
Влиянья на людей Матвей не добивался,
От почитателей избавиться старался
И выпроваживал порою их из дому
Иль попросту на дверь указывал иному;
В особых случаях для разрешенья спора
Высказывался он, и тем кончалась ссора.
Надеялись теперь, что он, узнавши дело,
Возьмется за него и проведет умело.
Недаром смолоду любил Матвей оружье
И недолюбливал всех москалей к тому же.
Старик по дворику бродил и на просторе
Мурлыкал песенку: «Когда восходят зори»
{303},
Довольный, что туман не собирался гуще,
Не поднималсявверх, не уплотнялся в тучи,
А ветер расстилал его рукой крылатой
По нивам и лугам, пропахшим свежей мятой.
Вот солнце разожгло бушующее пламя
И все забрызгало блестящими лучами —
Так в Слуцке мастера ткут пояса литые;
Заправив в кросна шелк, ткачихи молодые
Придерживают ткань, чтоб расстилалась глаже.
А сверху сыплет ткач волокна яркой пряжи,
И расцветает ткань, — так и с туманом было:
Вихрь расстелил его, а солнце расцветило.
На солнце погуляв и помоляся богу,
Добжинский приступил к хозяйству понемногу:
С охапкой зелени взошел он на крылечко
И свистнул кроликам, те были недалечко;
В густой траве они нарциссами белели,
Лишь уши длинные качались еле-еле,
Да красные глаза сияли, как рубины,
Тонули в зелени и лапки их и спины.
На лапки поднялись и, призванные свистом,
К Матвею катятся клубком белопушистым,
Торопятся они, почуя угощенье,
На плечи прыгают, садятся на колени.
Любил он кроликов, сам — точно кролик белый,
И гладил он зверьков рукою загрубелой.
Вот зачерпнул Матвей из старой шапки зерна
И бросил воробьям, слетевшимся проворно.
Недолго тешился кормежкой воробьиной:
Исчезли кролики, а птицы в миг единый
На крышу унеслись пред новыми гостями,
К фольварку шли они поспешными шагами.
То были шляхтичи, послы по всем приметам,
Послала шляхта их к Матвею за советом,
И кланялись они Матвею издалече,
«Пусть славится Христос!» — промолвили при встрече.
«На веки вечные, аминь!» — старик ответил.
Когда же важность всю посольства их приметил,
То пригласил зайти; послы на лавки сели,
Один в средине стал порассказать о деле.
А шляхтичей меж тем все больше прибывало.
Пришли Добжинские, да и других немало,
Те ружья принесли, а те пришли без ружей,
Повозки и возы оставили снаружи
И, привязав коней к березкам поживее,
Торопятся узнать решение Матвея.
Весь дом наполнили, потом набились в сени
И в окна головы совали в нетерпенье.
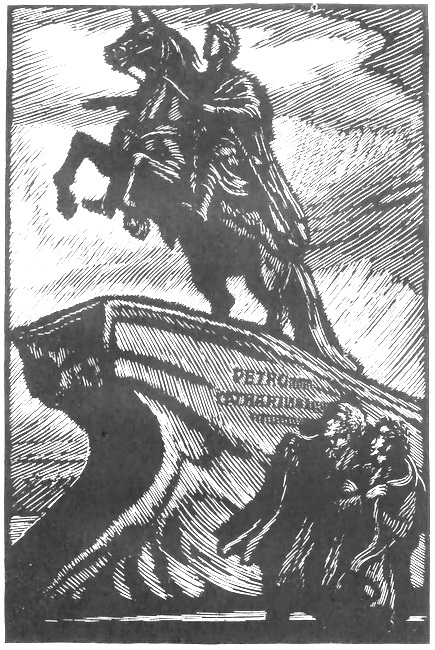
«Памятник Петру Великому»
Книга седьмая
Совет
Спасительные советы Варфоломея, прозванного Пруссаком. — Воинственная речь Матвея Кропителя. — Политическая речь пана Бухмана. — Янкель старается наладить мир, который рассекает Перочинный Ножик. — Речь Гервазия, обнаруживающая большую опытность в сеймиковском красноречии. — Протест старого Матька. — Неожиданное прибытие военного подкрепления срывает совещание. — Гей же на Соплиц!
К Матвею речь держал Варфоломей вначале,
Он с барками ходил в Крулевец и едва ли
Пруссаком не за то был назван земляками,
Что враждовал всегда ужасно с пруссаками,
Хотя поговорить любил о них, бывало.
Он был уже в летах и повидал немало;
Мастак в политике, он читывал газеты,
Порою подавал разумные советы.
Вот и теперь сказал:
«Нет, Матек, наш радетель,
Помогут нам они, отец и благодетель!
И я, как на тузов, поставлю на французов,
Недаром в их войсках и Понятовский Юзеф!
Французы — смельчаки, как ведомо шляхетству,
А после гибели Костюшки по наследству
Дар полководческий достался Бонапарту!
Я помню, перешли французы через Варту…
В ту пору давнюю я вел торговлю с Гданьском.
Меж тем семья моя жила в краю Познаньском,
И вот что расскажу теперь в собранье панском:
В Познани я встречал Грабовского Юзефа
{304} —
Литовского полка полковника и шефа.
Жил в Обезеже он, в спокойном, тихом месте,
Бывало, мы на дичь охотились с ним вместе.
Там мир царил тогда, как на земле литовской.
Внезапно получил известие Грабовский.
Его принес ему посланец от Тодвена
{305},
Грабовский, прочитав, воскликнул: «Йена! Йена!
Пруссакам всыпали!» И в это же мгновенье
Я соскочил с коня и преклонил колени.
Мы в город въехали, как будто в самом деле
Не знали новостей и разузнать хотели.
Бегут навстречу нам ландраты, и хофраты,
И сволочь прочая, все ужасом объяты;
Юлят и корчатся — не узнаем знакомых, —
Как прусаки, когда ошпарят кипятком их.
Расспрашиваем их, чем кончилось сраженье,
Не знают ли они чего-нибудь о Йене?
Смекнули, подлые, и отвечать не стали,
И дрожь их проняла… «Mein Gott!»
[106] — залопотали,
Носы повесили, да и давай бог ноги!
Пруссаками кругом запружены дороги,
Кишат, как муравьи, теснясь на перекрестке;
На мили тянутся пруссацкие повозки,
Они вагонами зовут их, все с узлами
И с трубками бредут за ними следом сами.
Совет держали мы и вот острастки ради
Решили помешать немецкой ретираде;
Ландратам по горбам, хофратам дали в шею,
А офицеров мы хватали за тупеи.
Домбровский-молодец, глядишь, уже в Познани
{306}Распоряжается — велит начать восстанье.
В неделю выгнали пруссаков всех из Польши,
Там даже днем с огнем их не разыщешь больше!
А разве москалям не задали б мы жару,
Когда бы сообща готовились к удару?
Как думаешь, отец? Слыхал, Наполеону
Перечат москали, а тот не даст пардону!
Он первый богатырь и всех сильней на свете!
Ну, Кролик, наш отец, ответь на речи эти!»
Замолк. На Матека все смотрят с ожиданьем,
Он вида не подал, что слушал со вниманьем,
И только за бок свой хватался то и дело,
Чтоб саблю выхватить, хотя с поры раздела
И безоружен был, но такова привычка;
При слове «москали» он вспыхивал, как спичка,
И руку отводил, и становился боком,
За что и прозван был добжинцами «Забоком».
Вот поднял голову в молчании глубоком,
Все ждали слов его, а он молчал сурово,
Потом нахмурился, не говоря ни слова,
И вдруг заговорил раздельно, с удареньем,
Оглядывая всех с серьезным выраженьем:
«Панове шляхтичи, скажите мне по чести:
Как далеко француз? Откуда эти вести?
Да разве начата уже война с Москвою?
Французы движутся дорогою какою?
Пехота ль, конница ль? Видали их вы сами?»
По очереди всех Забок обвел глазами.
Пруссак сказал в ответ: «Дождемся бернардина,
Он вести передал, ксендз этот молодчина!
Разведчики теперь окажут нам услугу,
И потихоньку мы вооружим округу,
Без шума лишнего, все проведем умело,
И не пронюхает москаль, чем пахнет дело!»
«Ждать, врать, сеймиковать? — Кропитель скорчил мину
И крепче сжал в руке тяжелую дубину,
Кропилом звал ее, кропил нещадно ею,
Теперь же он кричал, вытягивая шею: —
Ждать, врать, сеймиковать! Всё — бабьи тары-бары,
А что же воевать — робеем или стары?
Я знаю лишь одно, что разум крулевецкий
Хорош для немчуры, а у меня — шляхетский!
Когда на бой иду, то верю я Кропилу,
Когда умру, пускай проводит ксендз в могилу!
Рубить и жить хочу, а не трястись со страха,
Да что же мы, слепцы на поводу монаха?
Зачем разведчики? Оттяжки надоели,
Мы с вами шляхтичи — не рохли-пустомели!
Пусть квестарь квествует, а мой закон единый:
Кропить, кропить, кропить!» — Тут он взмахнул дубиной.
Как видно, призывал Кропитель не напрасно.
«Кропить, кропить, кропить!» — Все подхватили страстно.
Кричал Варфоломей, что прозывался Бритвой
За остроту клинка, прославленного битвой,
И Лейка, что ходил со штуцером широким
И поливал врагов свинцовых пуль потоком:
«Виват! Да здравствует Кропитель и Кропило!»
Пруссак хотел прервать, куда! Не тут-то было!
Кричали: «Черта нам в таком умалишенном,
А если струсил ты — накройся капюшоном!»
Седую голову приподнял Матек старый
И стал улаживать поднявшиеся свары:
«Оставьте Робака, не время для насмешек!
Монах разгрыз уже покрепче вас орешек!
Я вмиг узнал его! Он стреляная птица!
В глаза мне не глядит, не зря монах таится,
Боится, что его на исповедь возьму я…
Да мне~то что? Монах все врет напропалую!
Коль слухи от него, не ждите бернардина!
С какою целью врет, мне это все едино,
Но доверять ему не стоит — бес ксенжина!
Когда ж вы принесли одни пустые слухи,
Чего хотите вы? Не вышло бы прорухи!»
«Мы воевать хотим!» — «Да с кем же?» — «С москалями!
И гей же на царя! Распоряжайся нами!»
Варфоломей Пруссак все добивался слова,
Возвысил голос свой, довел его до рева
И, наконец, добыл и криком и мольбою:
«Коль бить, так бить! — сказал, ударив в грудь рукою. —
Хоть не кропитель я, а все ж веслом, литвины,
Устроил четырем пруссакам я крестины!
Не то б в реке меня пьянчуги утопили».
«Ты, Бартек, молодец! — все дружно завопили. —
Однако с кем война? Когда бы той загадки
Нашли разгадку мы, то было б все в порядке.
Ведь стоит кликнуть клич, народ пойдет за нами.
Ну, а куда вести? Того не знаем сами!
Без знанья этого не может выйти лада,
Порядок нужен тут, за ум нам взяться надо.
А на кого пойдем? Под чьим началом будем,
В конфедерации об этом всем рассудим.
Когда пруссацкую видали ретираду,
В Великопольше мы, не споря до упаду,
Вооружили вмиг шляхетство и громаду.
Домбровский подал знак, и по его приказу
Мы — гей же на коня! — помчались в битву сразу!»
«Вниманье!» — закричал одетый по-немецки
Пан управляющий у Радзивилла в Клецке,
Он звался Бухманом
{307}, в округе же, однако,
Все знали Бухмана как честного поляка,
А был ли шляхтичем пан Бухман, неизвестно,
Но уважаем был в округе повсеместно,
Как добрый патриот, служивший у магната,
Ученый человек, к тому ж ума палата,
Знаток политики и мастер на все руки,
Именьем управлял по правилам науки,
Бумаги составлял и слыл за краснобая.
Все смолкли, Бухману охотно уступая.
«Прошу вас!» — начал он, прочистив горло дважды,
И так заговорил, что мог услышать каждый:
«Дискуссии моих предшественников славных
Коснулись правильно решенья пунктов главных
И подняли его на высоту при этом,
Суждениями их хочу, как ярким светом,
Наглядно озарить запутанное дело,
Чтоб несогласий впредь оно бы не имело.
Дискуссия у нас распалась на две части,
Отчетливо они разделены, на счастье:
Часть первая — решить сего восстанья цели
И как бы мы теперь вести его хотели;
Какая власть нужна — вторая из загадок,
Что ж, пункты хороши, но изменю порядок.
Вопрос о власти я хочу решить сначала,
Чтобы она нам цель восстанья намечала.
Когда окинем мы историю глазами
Во всем развитии, то что увидим сами?
Когда-то дикари разрозненно селились,
Для обороны же они объединились.
Для блага общего пришлось стеснить свободу,
Тем обеспечив жизнь счастливую народу.
Вот первый был устав. Из этого устава —
Первоисточника — возникло наше право.
Законы создает правительство, и что же?
Ошибкой было бы считать их волей божьей!
Общественный контракт
{308} всему основа, так-то!
Ну, а раздел властей лишь следствие контракта».
«Ну, о контрактах речь! О киевских ли, минских, —
Матвей заговорил, — дойдет и до Бабинских
{309}.
Господь ли, сатана ль, кто навязал царя нам —
Об этом не хочу сегодня спорить с паном,
Советуй лучше, как разделаться с тираном?»
Кропитель закричал: «Эх, было б делом милым
Добраться до царя и окропить Кропилом!
Уж не вернулся б он по Киевскому тракту,
Ни по другому там безбожному контракту!
Не воскресили бы его ни слуги божьи,
Ни Вельзевуловы. Кропило мне дороже,
Чем ваша речь, хоть вы красноречивы были.
Фить-фить, и нет ее! Суть главная в Кропиле».
«Да! — Бритва запищал. — Да, правильно, ей-богу! —
Он от Кропителя перебегал к Забоку
(Свершает так челнок по кроснам путь недлинный). —
Прав Матек с Розгою и прав Матвей с Дубиной!
Побьете москалей, едва начнется битва,
Команду Розга даст, и не подгадит Бритва!»
«Команда что? — сказал Кропитель. — На параде
Нужна была она, а в Ковенской бригаде
{310}Приказ короткий был: «Страши, не зная страха,
Не дай задеть себя, а сам лупи с размаха!
Жиг-жиг!» Но Бритва тут истошно взвизгнул: «Братцы!
К чертям регламенты! Не лучше ли подраться?
Да разве вам чернил и времени не жалко?
Забок маршалок
{311} наш, а Розга — жезл маршалка!»
Кропитель подхватил: «Забок наш предводитель!»
Добжинцы грянули: «Да здравствует Кропитель!»
Шум начался в углах, нарушилось согласье,
Разбилось мнение шляхетства в одночасье.
«Согласья не терплю! Моя система это!» —
Так Бухман закричал, а кто-то крикнул: «Вето!»
Но, заглушая всех, раздался голос грубый
Вбежавшего в избу сердитого Сколубы:
«Добжинцы! Хорошо ль вы поступили с нами?
Располагаем мы такими же правами!
Созвал Рубака нас, по прозвищу «Мопанку»,
И обещался он торжественно застянку,
Что приглашает нас заняться важным делом,
Не о Добжинских речь, но о повете целом!
Он звал нас не один, вчера на эту встречу
Нам квестарь намекал витиеватой речью.
Желая оказать всем шляхтичам услугу,
Гонцов послали мы и подняли округу!
Так почему же нам не совещаться вместе?
Ведь шляхтичей пришло не менее чем двести!
На вас, Добжинские, свет не сошелся клином,
Давайте выбирать по правилам старинным!»
«Пусть равенство живет!» —
Мицкевичи вначале,
А Тераевпчи за ними закричали,
И Стыпулковские вопили: «Прав Сколуба!»
Но Бухман закричал: «Согласье мне не любо!»
Кропитель подхватил: «Мы обойдемся сами!
Виват, маршалок наш! Наш Матек над Матьками!»
«Мы просим!» — крикнули Добжинские на это,
А прочие в ответ заголосили: «Вето!»
Разбились голоса, шум поднялся великий,
Кивают головы, и «просим!» рвутся крики,
И «вето!» им в ответ, и крики «просим!» снова.
Единственный из всех Забок молчал сурово;
Сидел недвижно он с поникшей головою,
Кропитель перед ним, как лист перед травою,
Стоял и головой, подпертою дубиной,
Вертел, как тыквою, на шест надетой длинный.
Кивал он тем и тем и в чаянье событий
Выкрикивал одно: «Кропите и кропите!»
А Бритва двигался живее и живее,
Он от Кропителя перебегал к Матвею,
И Лейка семенил от шляхтичей сердитых
К Добжинским, будто бы желая примирить их.
«Брить!» и «кропить!» кругом кричали в исступленье,
Забок еще молчал, но потерял терпенье!
Пока народ шумел, как будто оглашенный,
Среди людских голов блеснул клинок саженный,
В пядь шириною был, потяжелей дубины,
И обоюдоостр, без пятен, без щербины —
Тевтонский славный меч из нюренбергской стали,
И от оружия все глаз не отрывали,
Блеснул он в чьей руке, не видели литвины,
Но дружно грянули: «Виват! Наш Перочинный!
Могучий герб его приносит честь застянку!
Виват, Рубака наш! Наш Козерог-Мопанку!»
Гервазий — то был он — протиснулся сквозь давку
И Ножиком блеснул, облокотись на лавку,
Он Розге Матека салютовал особо,
Клинок склоняя ниц пред важною особой.
«Добжинцы, шляхтичи, пришел вам рассказать я,
Зачем вас на совет созвал сегодня, братья!
Хочу я обратить внимание всей шляхты,
Что нынче поступать нельзя с бухты-барахты!
Серьезнейший вопрос решается на свете,
Вам говорил небось монах о том предмете».
Кивнули шляхтичи: «Достаточно полслова,
Для умной головы, чтоб рассудить толково,
Не правда ль?» — «Правда! Так! — И продолжал оратор: —
Там — русский царь, а там — французский император,
Воюет царь с царем, князья идут с князьями,
Все встретятся в бою, а что же будет с нами?
Что нам бездельничать? Пока большой большого
Осилит, маленький пускай побьет меньшого!
В горах и на лугах пусть малый бьется с малым,
Так русского царя мы потихоньку свалим,
Речь Посполитая вновь обретет свободу!»
«Он правду говорит! Глядит как будто в воду!»
«А я кропить готов чертовскую породу!»
«А я побрить могу! Не забывайте Бритву!»
А Лейка заклинал, точь-в-точь читал молитву:
«Кропитель, Матек, нам маршалка выбрать надо!»
Но Бухман завопил: «В согласии нет лада!
Для спора общего оно похуже яда.
Сперва послушайте, потом берите слово!
Рубака осветил вопрос с конца другого».
Гервазий заявил: «Согласен всей душою!
Большому кораблю и плаванье большое,
А с малым кораблем их путь неодинаков,
Великие дела пускай решает Краков,
Варшава вместе с ним, ну а у нас в повете
Не может речь идти о важном столь предмете!
Не мелом на плетне писать нам акты эти,
А на пергаменте с печатью! Скажем смело,
Не нашего ума, Панове, это дело!»
«А мне бы Ножичком!» — «А мне бы лишь Кропилом!» —
Кропитель перебил. «А мне кольнуть бы Шилом!» —
И Шильце шпагою своей взмахнул в экстазе.
«Вы все свидетели тому, — сказал Гервазий, —
Как Робак в прошлый раз вам говорил о соре,
Мол, вымести его отсюда надо вскоре.
Кого имел в виду он в этом разговоре?
Кто этот сор у нас? Кто лучшего поляка
Ограбил и убил? Еще не сыт, однако,
И у наследника отнять добро стремится!
Назвать ли вам его?» — «Да кто ж, как не Соплица!»
Все разом крикнули: «Он — подлый притеснитель!
Пора покончить с ним!» — «Кропить!» — сказал Кропитель,
А Бухман заявил: «О благе всех радея,
Повесить следует заядлого злодея».
Вступился за Судью один Пруссак. «Бог с вами,
Панове! — он вскричал с воздетыми руками. —
Рубака! Ты опять! Да ты ведь одержимый!
Я заклинаю вас святыней нерушимой:
По-христиански ли карать за брата брата?
Что он злодеем был, семья не виновата!
Тут Графа происки, их надобно стыдиться!
Не притесняет вас ничем судья Соплица.
Ей-богу, шляхтичи, с ним ссоритесь вы сами,
Соплица между тем лишь мира ищет с вами.
И уступает вам и платит всех дороже,
А если тяжбу он затеял с Графом — что же?
Пусть паны ссорятся, мы в их дела не вхожи!
Не притеснитель он! Сам запретил крестьянам
Склоняться до земли перед законным паном,
Сказал им, что грешно. И слышать вам не внове,
Что с хлопами за стол садится он, панове!
Налоги вносит он за них, не то что в Клецке,
Где управляешь ты, пан Бухман, по-немецки!
Он не злодей! Мы с ним за партою сидели,
Хороший малый был, такой же и доселе!
Хранит обычаи, живет, как деды жили,
Самодержавья враг, мы с ним всегда дружили!
Всегда из Пруссии спешил я в Соплицово,
Там надышаться мог любимой Польшей снова,
Душою отдохнуть у очага родного!
Добжинцы, я вам брат, что мне судья Соплица?
Однако обижать его нам не годится!
Не так, друзья мои, в Великополье было!
Согласье было там, припомнить сердцу мило!
Подобный вздор слыхать там не было оказий…»
«Казнить разбойника — не вздор!» — прервал Гервазий.
Корчмарь на лавку встал, что пустовала с краю,
И голову задрал, шляхетство озирая
(Седая борода, как вывеска торчала).
Он слова попросил, сорвав колпак сначала,
Ермолку натянул, потом расправил плечи
И руку за кушак заткнул, готовясь к речи,
Другою наклонил колпак в знак уваженья.
«Панове! Я еврей. Судья мне, без сомненья,
Ни сват, ни брат, но в нем я уважаю пана,
И ласку от него я видел постоянно.
И уважаю вас, всех Бартков и Матвеев,
Соседей дорогих и панов добродеев.
Но если учинить задумали насилье,
То пропадете все! Асессора забыли?
Убьете, а потом натерпитесь в кутузках!
В округе нашей есть солдат немало русских!
Всё больше егеря; Асессор свистнет только —
Примаршируют все, не сосчитаешь, сколько!
И что ж получится? Французов ждать нам рано,
Дорога длинная, не вышло бы обмана!
Нет дела до войны евреям, но в Белице
{312}Видал евреев я, бывавших за границей;
Передавали мне, что до весны с Лососны
{313}Французы не уйдут; хотя их ждать несносно.
А все ж приходится! Именье Соплицово —
Не будка, что на воз положишь — и готово,
Его не увезешь! Чего же торопиться?
Не арендатор-жид, а важный пан Соплица,
От вас не убежит! Ступайте же отсюда,
Панове шляхтичи, а чтоб не вышло худо,
Забудьте поскорей, о чем здесь говорилось,
А если, шляхтичи, окажете мне милость,
То нынче родила сыночка мне супруга,
Я приглашаю вас, приди хоть вся округа!
И музыканты ждут. А Матеку в угоду,
Любителю медка, поставлю вволю меду!
Мазурку новую услышите вы, паны,
Споют ее зер файн сегодня мальчуганы!»
Слова понравились. Все разом зашумели,
И захотелось всем участвовать в веселье.
Гул одобрений рос, но Ключник с грозной миной
Еврею показал свой Ножик Перочинный;
Дал Янкель стрекача, вслед загремел Рубака:
«Не о тебе тут речь! Не суй свой нос, собака!
Скажи мне, пан Пруссак, неужто за две барки,
Что дал тебе Судья, ты в спор вступаешь жаркий?
А твоему отцу дал Стольник двадцать барок,
Чтоб он торговлю вел. Вот это так подарок!
В довольстве вся семья живет у вас доныне,
Да все вы, наконец, живущие в Добжине,
Отлично знаете, я сам тому свидетель,
Что Стольник был для вас отец и благодетель!
Кто управлял всегда в его именьях Пинских?
Кто экономом был? Все тот же род Добжинских!
Кто, кроме вас, еще заведовал буфетом?
Одни Добжинские! Забыли вы об этом?
Бывало, хлопотал за вас он в трибунале,
Следил еще, чтоб вас в делах не притесняли,
Для вашей детворы магнат входил в расходы,
За обучение платил в былые годы!
Да что и говорить, его обычай ведом,
Покойный Стольник был недаром вам соседом!
Другой у вас сосед — не Стольник, а шляхтюра,
А много ли вам дал?»
— «Подумаешь, фигура!
Ничем не лучше нас, а держится как гордо,
Не дал он ни шиша! — ответил Лейка твердо. —
Однажды угощал его на свадьбе дочки,
Поил — не хочет пить, — мол, мне не выпить бочки!
Вы, мол, привыкли пить, а я уже не в силах,
Гляди какой, течет кровь голубая в жилах!
Не пил, но мы ему насильно влили в глотку,
Из «Лейки» выпьет он теперь другую водку!»
Кропитель закричал: «Злодей получит трепку!
Мой сын толковым был, а стал похож на пробку!
Так парень поглупел! Стал просто дурачиной!
Кто виноват во всем? Судья всему причиной!
Я сыну говорил: не бегай в Соплицово,
Когда поймаю там, то выдеру сурово!
Он снова к Зосе — шмыг! Но я стерег в овраге,
Хвать за уши его — и надавал бродяге!
А он все хнык да хнык. «Чего тебе, бедняге?»
«Убей, я вновь пойду!» — ответил он, рыдая.
«Зачем?» А он: «Люблю!» Ну понял все тогда я.
Бедняга извелся, а парень был не робкий,
Я попросил Судью: «Отдай, мол, Зоею Пробке!»
«Пускай три года ждет, а там, как Зося хочет!» —
Ответил мне, а сам он о другом хлопочет!
На свадьбу затешусь к нему с гостями вместе,
Кропилом поклонюсь разборчивой невесте!»
Гервазий завопил: «Ворюга на свободе!
Разгуливает он при всем честном народе,
А память Стольника изгладилась в Добжине?
Знать, благодарности здесь нету и в помине!
И если вы с царем не побоитесь биться,
Так что же вас страшит ничтожный пан Соплица?
Тюрьмы боитесь вы? Я не зову к разбою,
Стою за право я, ручаюсь головою.
Граф выиграл процесс, декретов есть немало,
Оформить надо их, как в старину бывало,
Что трибунал решал, то шляхта выполняла,
Поддерживая честь и славу трибунала!
Добжинцы, да в наезд на Мыск, не вы ли сами
Рубились доблестно с лихими москалями?
К нам русский генерал привел их, Войнилович,
И друг его — прохвост пан Волк из Логомович.
Панове, помните, как Волка мы поймали,
Повесить думали его на сеновале;
Он был слугой царю, а хлопам был тираном,
Но хлопы сжалились над бессердечным паном!
(Все ж я когда-нибудь прикончу душегуба!)
Наезды вспоминать до сей поры мне любо!
И выходили мы всегда из них со славой,
Как и пристало то могучей шляхте бравой!
Но каково теперь мне говорить про это?
Граф добивается по всем судам декрета,
Никто из вас помочь не хочет сиротине,
А Стольник некогда всем помогал в Добжине!
Что ж, у наследника остался друг единый —
Гервазий, да еще с ним Ножик Перочинный!»
Кропитель выступил: «Где Ножик, там Кропило,
Пойду и я с тобой, чтоб не обидно было!
Ей-богу ж, это так! Нож у тебя, Гервазий,
Кропило у меня для этаких оказий!
Пойдем жиг-жиг, шах-мах, без толку не болтая!»
«О Бритве не забудь, без вас пойду куда я?
Что ни намылите, я тотчас же обрею!»
И Лейка завопил: «Я поливать умею!
Когда не выбрали мы нашего маршалка,
К чему голосовать? И двух шаров мне жалко! —
При этом горстку пуль достал и ну хвалиться: —
Шары другие есть! Получит их Соплица!»
«И мы, и мы пойдем!» — прервал его Сколуба,
А шляхта крикнула: «Идти за вами любо!
Так гей же на Соплиц, и слава Козерогу!
Виват Гервазию! Не мешкая, в дорогу!»
Гервазий потянул всех за собой, еще бы!
У шляхты на Судью скопилось много злобы:
Там за потраву штраф, а тут порубка бора,
В соседстве мало ли есть поводов для спора!
И зависть тут была и ненависть, к тому же
Богатым был Судья, а им жилось похуже!
Рубаку обступив и саблями махая,
Шляхетство поднялось.
А Матек, что, вздыхая,
В молчании сидел, встал, вышел на середку
И, подбоченившись, прочистил кашлем глотку,
Потом заговорил угрюмо и сурово,
Качая головой, ронял за словом слово:
«Глупцы! Остались вы, как были, дураками,
За спор чужой теперь поплатитесь боками!
Пока вы спорили о Речи Посполитой,
О благе родины без умолку час битый,
Вы не могли ни в чем добиться соглашенья
И сообща принять хотя б одно решенье.
Вождя не выбрали! Глупцы! Стыжусь за вас я.
В домашней ссоре вмиг добились вы согласья.
Глупцы! Попомните еще слова Матвея!
Прочь! К черту, к дьяволу отсюда поскорее,
Катитесь прямо в ад!»
Поражены как громом,
Все смолкли; в тот же миг раздался крик за домом:
«Виват пан Граф!» А он въезжал во двор раскрытый
Во всеоружии, с вооруженной свитой,
Одетый в черное, на скакуне отличном,
В распахнутом плаще нарядном, заграничном.
Подбитый шелком плащ держался на застежке,
Не видывали здесь еще такой одежки! —
В берете с перышком, пылающий отвагой,
Граф горячил коня, всем салютуя шпагой.
«Да здравствует пан Граф!» — все закричали хором,
Все к окнам бросились, — теперь не время спорам, —
Рубака дверь раскрыл под бешеным напором
И вышел; а за ним рванулись остальные
И к Графу кинулись навстречу как шальные
И тотчас же его толпою окружили.
А Матек из окна кричал им: «Простофили!»
Все двинулись в корчму. Гервазий, чтя обычай,
Немедленно послал шляхетство за добычей,
На поясах они втащили торопливо
Три бочки — было в них вино, и мед, и пиво.
Затычки выбиты, и три струи фонтаном
Забили — золотым, серебряным, багряным.
Их искрометный ток, и холоден и жарок,
Наполнил сотни чаш и сотни медных чарок.
Шляхетство крикнуло: «Жить Графу многи лета!»
И «Гей же на Соплиц!» — гремел ответ на это.
Дал Янкель стрекача, за ним Пруссак, однако
Хватились шляхтичи бежавшего Пруссака;
В погоню бросились: «Предательство!», «Измена!»
Не по нутру пришлась Мицкевичу та сцена,
Он что-то замышлял, но сабли засверкали,
Он кинулся бежать, но спасся бы едва ли,
Притиснут был уже буянами к воротам,
Но подоспели тут на помощь Зан с Чечетом.
И свалка началась, и, как пристало, в драке,
Попало по шеям не одному вояке,
Меж тем как прочие, по графскому приказу,
Вскочили на коней и поскакали сразу, —
По длинной улице зацокали подковы,
И «Гей же на Соплиц!» — разнесся клич громовый.
Книга восьмая
Наезд
Астрономия Войского. — Замечания Подкомория о кометах. — Таинственная сцена в комнате Судьи. — Тадеуш, стараясь половчее выпутаться, попадает в большое затруднение. — Новая Дидона. — Наезд. — Последний протест Возного. — Граф захватывает Соплицово. — Штурм и резня. — Гервазий виночерпий. — Пиршество победителей.
Пред бурею есть миг затишья рокового,
Когда громада туч надвинется сурово,
Приостановится, застынет на мгновенье,
И землю молнией окинет в нетерпенье,
И место выберет, где разразится громом.
Миг тишины такой встал над шляхетским домом,
Как будто тень легла грядущих испытаний
И души унесла в край сумрачных мечтаний.
Едва отужинав, и гости и Соплица
Отправились во двор, прохладой насладиться.
Там, на завалинках, покрытых муравою,
Уселись и глядят на небо голубое,
А небо снизилось, как будто бы теснее
Придвинулось к земле, желая слиться с нею,
И, наконец, слились под сумрачным покровом,
И, как влюбленные, намеком, полусловом
И полушепотом вели свои признанья,
Роняя тихий смех, глухие восклицанья,
Из коих музыка слагается ночная.
Сыч открывал концерт, под крышею стеная,
И мышь летучая под окнами шуршала,
Мелодии сыча она не заглушала.
Ночная бабочка, сестра летучей мыши,
На платья белые летела из-под крыши,
То билась Зосеньке в лицо, то прямо в очи,
Приняв за свечи их во мраке летней ночи.
А в воздухе мелькал рой мелких насекомых,
Гармоникой звеня в созвучиях знакомых;
Узнала Зосенька в ноктюрне над долиной
Аккорды мошкары и тенор комариный.
Начать концерт в полях спешили музыканты,
Настройка кончена, вступили оркестранты,
И трижды коростель на скрипке вывел ноту,
И забасила выпь, шныряя по болоту,
Бекасы бекали, как будто в бубны били,
А вслед им журавли протяжно затрубили.
Гуденью мошкары и птичьим разговорам
Откликнулись пруды двойным финальным хором,
Подобно сказочным озерам выси горной,
Молчащим в свете дня, поющим ночью черной.
Из синей глубины торжественно и важно
Песчаный чистый пруд отозвался протяжно,
А пруд болотистый ему ответил стоном,
Звучащим жалобой и горем затаенным.
Так в каждом из прудов лягушек певчих орды
Согласно вознесли могучие аккорды.
Один фортиссимо, другой звучит пиано,
Тот горько сетует, тот плачет неустанно.
Весь вечер песни их будили сумрак дола,
Звенели в воздухе, как струны арф Эола.
Густел вечерний мрак, и только подле речки
Блестели в лозняках глаза волков, как свечки,
А дальше, у краев ночного небосклона,
Пастушеских костров огни мерцали сонно.
Из бора выходя, зажег фонарик месяц,
Все осветил кругом, над Соплицовом свесясь,
И с неба и с земли он скинул покрывало,
Земля в объятиях небесных почивала:
Покоились они вдвоем, как муж с женою,
И были счастливы ночною тишиною.
Вот рядом с месяцем взошла звезда, другая…
Десятки тысяч звезд уже горят, мигая.
Созвездье Близнецов зажглось над темным хмелем,
Славяне звали их когда-то Лель с Полелем
{314}.
Другие имена у них в Литве зеленой:
Одна звезда — Литва, другую звать Короной.
Невдалеке Весы сиянием одеты,
На них когда-то бог и звезды и планеты
Прилежно взвешивал, пуская по орбитам
(Преданье старины осталось незабытым).
Потом он прикрепил те чаши к небосводу,
Дав образец весов всему людскому роду.
Кружок на севере — святящееся Сито
{315},
Бывало, сквозь него создатель сеял жито,
Которое бросал Адаму с состраданьем
В те дни, когда его он покарал изгнаньем.
Повыше в небесах Давида колесница
Готова, кажется, тотчас же в путь пуститься,
Но с места тронуться не может, вот обида!
А говорят, она возила не Давида,
Возила ангелов и даже Люцифера,
Но переполнилась его дерзанью мера,
Когда посмел восстать на божии чертоги.
Сбил Михаил его, и нету ей дороги!
Валяться среди звезд обречена до срока,
Пока не снимет бог сурового зарока.
Еще другое есть преданье у литвинов
(Народ слыхал его от мудрецов раввинов),
Как будто длинное созвездие Дракона,
Что извивается по небосводу сонно,
То рыба, а не змей! Жила она вначале
В пучине, и ее Левиафаном звали.
Когда ж прошел потоп, иссякли воды в море, —
Левиафан издох, и в голубом просторе
Висит костяк его, чтоб люди не забыли
О тех чудовищах, что до потопа были.
Так кости древних рыб огромного размера
В костеле Мирском ксендз развесил для примера.
Все, что о звездах знал и слышал, паи Гречеха
Любил порассказать, хоть и была помеха;
Неважно видел он, замечу мимоходом,
Не мог и сквозь очки следить за небосводом,
Но знал он имена созвездий, очертанья
И мог их указать другому в назиданье.
Его не слушали: Весы, и Воз, и Сито,
И звезды прочие — все было позабыто!
Казалось, что теперь решался общий жребий
Глаза и мысли всех приковывала в небе
Комета яркая, что с запада всходила,
Летела к северу и всех с ума сводила!
На звездный Воз она косилась с небосферы, —
Казалось, метила комета в Люциферы!
Распущенной косой мела небес две трети,
Созвездья в волосах запутались, как в сети.
Влекла их за собой тропою лучезарной
И прямо с запада неслась к звезде Полярной!
В глухом предчувствии толпился люд повсюду,
Дивясь господнему неслыханному чуду, —
Грозила бедами хвостатая комета,
Кричало воронье — недобрая примета!
Оттачивая клюв, оно в полях летало,
Сбиралось стаями и трупов поджидало.
И замечал народ: собаки землю рыли
И, словно чуя смерть, протяжно, долго выли,
Сулили голод, мор. От страха изнывая,
Видали сторожа — шла дева Моровая
{316}Превыше всех дубов Ольгердовой дубравы,
Как жар, в руке ее светился плат кровавый.
Приказчик кое-что прибавил к тем приметам,
Пришел с отчетом он, но позабыл об этом;
Конторщик в свой черед шептался с экономом,
Но Подкоморий-пан, сидевший перед домом,
Вдруг табакерку взял, а это означало,
Что хочет говорить; шляхетство замолчало, —
Сверкнула яркими брильянтами оправа
С изображением монарха Станислава.
«Тадеуш, — он сказал, открывши табакерку, —
О звездах речь твоя, выходит на поверку, —
Лишь эхо школьных слов. Занятнее о чуде
Толкуют меж собой неграмотные люди;
Курс астрономии и я прошел когда-то,
Жил в Вильне, где женабогатого магната
Доходы отдала с имения и хлопов —
Все на покупку книг, таблиц и телескопов.
Ксендз-ректор был тогда известным астрономом,
И довелось мне быть с Почобутом
{317} знакомым;
Потом от ректорства Почобут отказался,
Вернулся в монастырь, молитвами спасался
И умер, как святой. Мне был знаком Снядецкий,
Отменнейший мудрец, хоть человек и светский;
Но каждый астроном толкует о комете,
Как мещанин какой о встреченной карете, —
Заедет ли она на царский двор в столицу
Иль от заставы прочь помчится за границу.
Ему и дела нет, что следует отсюда,
Добра ли надо ждать, а может, выйдет худо?
Я помню, как бежал Браницкий
{318} вероломный,
Увлек он за собой поток людей огромный;
Как пышный звездный хвост влачится за кометой,
Так хвост тарговичан тянулся за каретой.
Народ хотя и прост, но понял все душою,
Хвост этот означал предательство большое.
Комета названа метлой простым народом:
Мол, выметет она мильоны мимоходом».
Гречеха отвечал ему с поклоном: «Ясно —
Вельможный пан, и мне запомнилось прекрасно
Все слышанное мной, хоть было мне не боле
Чем десять лет, тогда и я учился в школе.
Гостил у нас еще Сапега, пан покойный,
Поручик, кирасир и человек достойный,
Он жил сто десять лет, был маршалом литовским
И канцлером потом; с отважным Яблоновским
{319}Участвовал в боях, в боях под самой Веной!
Вот что нам рассказал в беседе откровенной
Высокий гость, а я слова запомнил эти:
«В тот миг, когда в седло вскочил король Ян Третий,
А кардинал его благословил в дорогу
И целовал ему король австрийский ногу,
Король воскликнул вдруг: «На небо поглядите!»
Комета вещая была уже в зените.
И мы увидели — шла медленно комета
Путем, которым шли отряды Магомета!
«С Востока молния»
{320}, но о комете вещей
Поведал наш триумф и озаглавил оду
«С Востока молния», но о комете вещей
Прочесть мне довелось не только эти вещи, —
«Янину»
{321} я прочел, рассказ о жизни Яна,
Там подвиги его описаны пространно
И нарисованы знамена Магомета
И та, похожая на эту вот, комета!»
«Аминь! — сказал Судья, — я в предсказанья эти
Поверю, пусть в Литве появится Ян Третий!
На западе теперь такой же точно витязь.
Да приведет его комета к нам, — молитесь!»
Гречеха горестно вмешался в разговоры:
«Комета и войну сулит нам и раздоры,
А то, что поднялась она над Соплицовом,
Наверное, грозит нам бедствием суровым,
И на охоте ведь поссорились вчера мы,
Да и за ужином чуть не дошло до драмы,
Юрист с Асессором заспорил утром рано,
И вызвал на дуэль Тадеуш Графа-пана.
Медвежья шкура — вот причина всех несчастий!
Не помешай Судья, утишил бы я страсти,
И не пришлось бы ждать какой-нибудь напасти.
Хотел я рассказать о случае занятном,
Таком же, как вчера, почти невероятном,
В былом произошел он с лучшими стрелками,
Денасов и Рейтан прославились меж нами.
А случай был таков:
к нам из земель подольских
Приехал генерал
{322} пожить в именьях польских,
И по пути на сейм, задолго до Варшавы,
Для популярности, а может, для забавы,
Он шляхту посещал, заехал в гости к пану,
Блаженной памяти Тадеушу Рейтану —
Был в Новогрудке он послом у нас позднее,
Я вырос у него, не знал семьи роднее.
И вот по случаю приезда генерала
Рейтан созвал гостей, их собралось немало;
Он представления давал в своем театре,
Пан Кошиц фейерверк зажег в любимой Ятре,
Пан Тизенгауз
{323} прислал танцоров для веселья,
Огинский
{324} и Солтан
{325}, который жил в Дзенцели,
Оркестры дали нам, — пошли у нас забавы,
Пиры, и наконец пришел черед облавы.
Панове, слышал я, и вам известно это,
Что Чарторыйские от сотворенья света
Все не охотники, хотя и Ягеллоны
{326},
Но не по лености охотиться не склонны:
Таков французский вкус. И генерал альковы
Охотней посещал, чем скажем, бор сосновый,
Охотник был до книг, а травля не прельщала.
Денасов в свите был тогда у генерала,
Он в знойной Ливии когда-то жил годами,
Охотился не раз с туземными вождями.
И там копьем свалил он тигра в рукопашной,
С тех пор и хвастался отвагой бесшабашной.
На кабана у нас охотились — средь лова
Рейтан из штуцера подрезал матерого,
Стрелял почти в упор! Большая это смелость,
И каждому из нас почтить стрелка хотелось.
Денасов хмурился, на всех глядел он волком,
Чем восхищаться тут, не понимал он толком,
Ведь меткостью стрелок обязан только глазу,
А тигра сбить копьем не всякий может сразу!
Потом о Ливии затеял спор горячий
И вновь похвастался великою удачей!
Однако хвастовство Рейтану надоело,
Он взялся за эфес, парировал умело:
«Кто метко целится, тот метко бьет, к тому же
Тигр стоит кабана, ружье копья не хуже!»
Тут завязался спор и перешел бы в ссору,
Но положил конец сам генерал раздору.
Что говорил он им — не знаю, но не скрою,
Что тлела их вражда, как пламя под золою,
Отмстить Денасову хотел стрелок жестоко
И шутку с ним сыграл, не выжидая срока,
Да чуть и самого не погубила шутка,
Пошел на риск большой, а мне и вспомнить жутко!»
Гречеха помолчал и попросил нежданно
Понюшку табака у Подкоморья-пана,
Однако не спешил с концом повествованья.
Хотел он возбудить шляхетское вниманье.
Решился продолжать… Увы! Рассказ прервали,
Хоть любопытнее его найдешь едва ли!
По делу срочному был вызван пан Соплица,
Приезжий должен был с ним тотчас объясниться.
Соплица пожелал гостям спокойной ночи,
И гости разбрелись, видать, до сна охочи.
Недолго пан Судья готовился к приему,
Просил приезжего направить прямо к дому.
Все в доме спят давно. Тадеуш гонит дрему,
У дядиных дверей подобен часовому.
У дяди кто-то есть, а он стал больно робок,
Не смеет постучать, дверных коснуться скобок.
Дверь заперта на ключ. К замку прижавшись ухом,
Беседу уловить желает чутким слухом.
Рыданья слышит он, и вот нетерпеливо
Заглядывает в щель… Да что ж это за диво?
Судья и бернардин упали на колени
И горько плакали в сердечном умиленье;
Ксендз целовал Судью, не говоря ни слова,
И обнимал Судья монаха, как родного.
Вот первые слова неясно зазвучали,
Монах заговорил в волненье и в печали:
«Бог видит, почему я открываюсь брату,
Хотя и поклялся за тяжкий грех в расплату
Отдать всего себя лишь богу и отчизне,
Не славе суетной, не обольщеньям жизни.
Клялся и умереть смиренным бернардином,
Не выдавать себя признаньем ни единым
Ни пред тобою, брат, ни даже перед сыном.
Духовник все же мне позволил пред своими
В предсмертный час открыть мое былое имя.
Кто знает, буду ль жив? Что ждет меня в Добжине?
Мы пред великими событиями ныне!
Французы далеко, придут весной, не ране,
А шляхта, я боюсь, без них начнет восстанье.
Быть может, виноват я сам чрезмерным рвеньем?
Гервазий спутал все! Снедаем нетерпеньем,
В Добжин безумный Граф отдравился, я слышал:
Но не догнал его… Прискорбный случай вышел:
Матвей узнал меня! Лишь обо мне известье
До Ключника дойдет, я не уйду от мести!
Скажу по правде я, не смерть меня тревожит,
А то, что заговор со мной погибнуть может!
Но должен ехать я в Добжин из чувства долга, —
Ведь шляхте без меня и надурить недолго!
Прощай, любезный брат! И если суждено мне
Не встретиться с тобой — меня с любовью вспомни, —
Доверил все тебе. Когда ж война случится,
Кончай, что начал я, и помни — ты Соплица!»
Монах отер слезу, накрылся капюшоном,
И ставни растворил он с шумом приглушенным,
В окошко выпрыгнул и побежал с пригорка.
Судья один сидел и долго плакал горько.
Тадеуш постучал и, подождав немного,
С поклоном дверь раскрыл и замер у порога.
«Мой дядя! — он сказал. — Немного дней в именье
Гостил я, и они промчались как мгновенье!
Но хоть недолго я с тобою пробыл вместе,
А должен уезжать, зовет меня долг чести.
Уеду тотчас же, отсрочка ни к чему мне,
Мы Графа вызвали, и было бы разумней
К барьеру сразу стать, как мы того хотели,
Да только на Литве запрещены дуэли.
В Варшавском Княжестве такого нет порядка,
Граф — фанфарон, но он не робкого десятка!
И не захочет он избегнуть нашей встречи,
Сразимся с ним, а там — Лососна недалече, —
Переплыву ее, соседний берег рядом,
И повстречаюсь я с повстанческим отрядом!
Отец мне завещал сражаться за свободу,
Хоть завещание и кануло, как в воду!»
«Что больно прыток ты? — спросил шутливо дядя. —
Юлишь передо мной, в глаза мои не глядя,
И путаешь следы, как хитрая лисица.
Мы Графа вызвали, и надлежит с ним биться,
А только спешки нет в кровавом поединке,
Сперва приятелей отправим по старинке
Для объяснения. Граф извиниться может,
Под нами не горит. Не то тебя тревожит!
Вот разве что другой отсюда гонит овод?
К чему же хитрости? Представь правдивый довод!
С младенчества тебе отца я заменяю
И хоть не молод сам, но юность понимаю!
Мизинчик мне шепнул вчера, что не зеваешь
И с дамами уже ты шашни затеваешь!
Что делать? Молодежь влюбляться стала рано.
Тадеуш, не таись, откройся без обмана!»
Тадеуш прошептал: «Все правда, но другую
Причину, дядюшка, открыть вам не могу я.
Признаться, поступил я сам неосторожно…
Ошибка! Но ее исправить невозможно!
Не спрашивай меня, я не скажу ни слова,
Но должен сей же час покинуть Соплицово!»
«Ну, — дядюшка сказал, — любовная размолвка!
Ты чувствовал себя вчера не очень ловко,
На панну искоса глядел, она молчала.
И кислой миною твой каждый взгляд встречала.
Все это глупости! Когда полюбят дети,
То ссорам нет числа. Забавны ссоры эти!
То дети веселы, а то, глядишь, суровы,
Бог весть из-за чего друг друга грызть готовы,
Врозь по углам сидят, самим себе не рады,
И разбегаются и ссорятся с досады.
Когда произошла у вас такая ссора,
Придется потерпеть, найдется выход скоро,
Берусь уладить все любовные невзгоды,
Сам через них прошел я в молодые годы.
Во всем признайся мне, и дам я обещанье, —
Услышишь от меня ответное признанье».
Тадеуш отвечал, в глаза ему не глядя:
«Не стану я скрывать, понравилась мне, дядя,
Паненка Зосенька, ее я видел мало,
Всего два раза лишь, но в душу мне запала!
А дядя сватает мне девушку другую, —
Дочь Подкомория взять в жены не могу я.
Красавица она, но все же, ваша милость,
Как сердцу изменить, что Зосею пленилось!
С другою было бы венчаться мне нечестно.
Уеду лучше я. Надолго ль — неизвестно!»
Но дядя речь прервал: «Ого! Пример особый,
Когда любовь бежит возлюбленной особы!
Не стоит уезжать, придет на помощь дядя, —
Сам Зосеньку хочу тебе посватать, Тадя! —
Чего ж не прыгаешь? Не радуешься, верно?»
Тадеуш отвечал: «Добры вы беспримерно!
Но не поможете своею добротою,
Затея ваша все ж окажется пустою;
Ведь Зоей не отдаст мне пани Телимена!»
«Попросим, коли так».
Но юноша мгновенно
Ответил: «Знаю я, что здесь бессильны просьбы
И что без ссоры с ней у нас не обошлось бы!
У вас я, дядюшка, прошу благословенья
И с ним отправлюсь в путь тотчас, без промедленья!»
Ус закрутил Судья и отвечал сурово:
«Я вижу, ты правдив и не солгал ни слова:
То поединок был, а то любовь святая!
Отъезд и дальний путь — уловка непростая!
Ты шалопай, болтун, и лгал ты страха ради!
Где был позавчера? Ну, отвечай-ка дяде!
Зачем ты по двору в глухую темь шатался?
О хитростях твоих давно я догадался!
Тадеуш, если ты смутил сердечко Зоей
И нету совести в тебе, молокососе,
Заранее скажу — проделка не удастся,
И с Зосей прикажу тебе я обвенчаться!
Пускай под розгами, но станешь на ковре ты!
{327}О верности твердил, так выполняй обеты!
Коварству потакать, поверь мне, я не стану
И уши надеру дрянному донжуану! —
Сегодня целый день я не имел покоя,
А на ночь от тебя выслушивать такое!
Ступай-ка лучше спать! Тебе не отвертеться!»
Тут Возного позвал, чтоб он помог раздеться.
Тадеуш медленно побрел по коридору,
От мыслей тягостных заплакать было впору!
Впервые дядюшка корил его жестоко,
Тадеуш сознавал всю правоту упрека.
А если обо всем узнает Зося? Что же?
Просить руки ее? А Телимена? Боже!
Нет! Надо уезжать и все обдумать позже.
Едва он несколько шагов прошел в смятенье,
Как стало перед ним немое привиденье,
Все в белом, стройное. Откуда? Что такое?
Приблизилось к нему с протянутой рукою,
И на руку луна неверный свет бросала.
«Неблагодарный! — так виденье прошептало. —
Ты глаз моих искал, теперь бежишь от взгляда,
Ловил слова мои, теперь и слов не надо!
Как зачумленную, меня обходишь ныне!..
Но так и надо мне! Доверилась мужчине!
Не мучала тебя, и вот, себе на горе,
Я предалась тебе… Увы! Постыла вскоре!
Ты победил легко — и сердце зачерствело,
Легко добытое — легко и надоело!
Но так и надо мне! Научена уроком,
Я больше твоего казню себя упреком!»
Тадеуш отвечал: «Причина есть другая,
И сердцем я не черств, тебя не избегаю…
Но что подумают о нас, давай рассудим,
Коль ночью на глаза мы попадемся людям?
Ведь это грех большой… Нельзя грешить открыто…»
«Грешить! — воскликнула красавица сердито. —
Невинное дитя! Я — женщина, но смело
Из-за любви твоей злословие презрела,
Я сплетен не боюсь! А ты, а ты — мужчина!
Ты разлюбил меня — вот скромности причина!
Десятерых люби, не встретишь нареканий!
Меня бросаешь ты…» Тут зарыдала пани.
Тадеуш закричал: «Уймись ты, ради бога!
Что станут говорить, подумай хоть немного,
Когда останусь здесь, здоровый, неженатый,
Любовью тешиться? Понять сама должна ты!
Повсюду молодежь уходит под знамена,
Позор остаться мне без всякого резона!
Сражаться должен я, согласно отчей воле,
О завещании ты позабыла, что ли?
И дядя требует того же непременно,
Ей-богу, должен я уехать, Телимена!»
«Тадеуш, я тебе препятствовать не вправе,
Не заступлю пути ни к подвигам, ни к славе.
Мужчина ты, найдешь любовницу иную,
Красивее меня, богаче — не ревную!
Но на прощание хочу я быть счастливой,
Хочу поверить я, что ты любил правдиво,
Что не играл в любовь по прихоти разврата,
Но что любил меня возлюбленный мой свято!
Хочу из уст твоих «люблю» услышать снова
И в сердце сохранить навеки это слово!
Я все тебе прощу, едва лишь только вспомню,
Что ты любил меня! Хоть будет нелегко мне».
Тадеуш увидал, что грусть бедняжку точит,
Что мелочи такой она добиться хочет;
И сердце юноши пронзила боль и жалость,
Когда б он захотел узнать, что в нем скрывалось,
То, верно бы, и сам не разобрался в этом:
Любил ли? Не любил? Он поспешил с ответом:
«Пусть гром меня убьет! Не лгал я, Телимена,
А всей душой любил. Сознаюсь откровенно,
Хоть счастья нашего мгновенья были кратки,
Но для меня они так милы и так сладки,
Что сохраню о них навек воспоминанье
И не забуду я моей прекрасной пани!»
Тут юноше на грудь упала Телимена:
«Я этого ждала! Ты любишь неизменно!
Хотела жизнь пресечь я собственной рукою,
Но ты не вверг меня в отчаянье такое!
Я все отдам тебе — и сердце и поместье,
Куда бы ты ни шел — повсюду будем вместе, —
Где б ни были вдвоем, хоть и в пустыне дикой,
Мы счастье обретем в своей любви великой!»
Тадеуш вырвался из пламенных объятий:
«В уме ли ты, — сказал, — вдвоем? С какой же стати?
Не маркитантка ты, ведь я иду солдатом!»
«Мы повенчаемся! Отправишься женатым!»
Тадеуш закричал: «Нет! Ни за что на свете!
Жениться не хочу! Оставь мечтанья эти!
Все это выдумки! Дай мне покой! Ей-богу!
Прошу я об одном, пусти меня в дорогу!
Хоть благодарен я, но не хочу жениться,
Люблю, но не могу с тобой соединиться!
Уеду завтра же, остаться не могу я…
Прощай! Благодарю за ласку дорогую!»
Собрался уходить, избавясь от обузы,
Но стал как вкопанный пред головой Медузы:
На Телимену он глядел в оцепененье,
Она бледна была, застыла без движенья,
Рука ее мечом казалась занесенным,
Перст уличающий грозил глазам смущенным.
«Я этого ждала! — в отчаянье сказала. —
О, сердце изверга! Змеи коварной жало!
Я предалась тебе навеки сердцем чистым,
Пожертвовала всем: и Графом и Юристом,
Воспользовался ты невинностью сиротки, —
Платиться я должна за счастья миг короткий.
Мужскую знала фальшь, не знала одного лишь,
Как ты безумно лжешь, когда о счастье молишь!
Я все подслушала, ты девочкою скромной
Пленился, обмануть затеял вероломно!
Ты соблазнил меня и, видя, как я мучусь,
Бесстыдно для другой готовишь ту же участь.
Беги — не убежишь ты от моих проклятий,
Останься — расскажу всем о твоем разврате.
Других не соблазнишь, как соблазнил меня ты,
Прочь, подлый человек! Прочь с глаз моих, проклятый!»
Таких обидных слов не слыхивал Соплица,
Невзвидел света он, не мог пошевелиться, —
Стал бледен как мертвец, глаза потупил хмуро
И, топнувши ногой, сказал сквозь зубы: «Дура!»
Побрел он, но в ушах звенел укор жестокий.
Тадеуш знал, что им заслужены упреки,
Что горько оскорбил бедняжку Телимену,
Что не могла она простить ему измену, —
Однако от того милей она не стала,
О Зосе думал он, и сердце трепетало:
Уж так мила была! Так хороша собою!
А дядя сватал их… Сам пренебрег судьбою…
Бес искусил его, он предался утехам
И в мерзости погряз, а бес глядит со смехом.
Прошло всего два дня, и вот уже злодей он!
Погибла будущность! Ужасный грех содеян!
В смятенье чувств его мелькнула на мгновенье
О поединке мысль — единственном спасенье:
«Я Графу отомщу! Тому порукой шпага!»
По мстить за что ему — и сам не знал, бедняга,
И гнев как занялся, так и погас мгновенно.
Тадеуш размышлял с печалью сокровенной:
К чему же совершать ошибку роковую?
Быть может, к Графу я не попусту ревную?
Быть может, Зосенька дарит ему участье
И в браке с ним найдет заслуженное счастье?
И сам несчастен я и горе сею всюду, —
Чужому счастью я препятствовать не буду!
Он впал в отчаянье и помышлял уныло,
Что выход из беды единственный — могила.
Повесив голову, закрыв лицо руками, —
Он поспешил к прудам неверными шагами,
Стал над болотистой зеленою водою
И приоткрыл уста. Плененный красотою,
Он весь захвачен был восторгом упоенья,
Самоубийство ведь, без всякого сомненья,
Сродни безумию, и юношу манила
Зеленая вода — холодная могила.
Отчаянье его смутило Телимену,
Простив Тадеушу невольную измену,
Изменника она всем сердцем пожалела,
А сердце доброе красавица имела.
Хоть мучила ее любовная обида,
Хотела не губить, а наказать для вида.
Вдогонку крикнула: «Постой же, ошалелый!
Венчайся, уезжай, как хочешь, так и делай! —
Не стану я мешать!» Но он не слышал зова,
Стоял на берегу средь шороха лесного.
По воле неба Граф с жокеями своими
В то время проезжал тропинками лесными,
Он зачарован был небесной глубиною,
Подводной музыки мелодией живою,
Звенящей арфами. Ну, где ж еще на свете
Лягушки так поют, как на Литве вот эти?
Граф придержал коня, забыл он о поездке
И слушал кваканье, журчание и плески,
Глядел на землю он, на небо, на березки
И, верно, новые обдумывал наброски.
Недаром красотой прославилась округа:
Глубокие пруды глядели друг на друга,
Направо — светлый пруд своей водой прозрачной
Напоминал лицо прелестной новобрачной,
Зато налево пруд темнел под небом звездным, —
Казалось, был он схож с мужским лицом серьезным.
Вкруг правого — песок и золотой и нежный,
Как пряди светлые! Вкруг левого — прибрежный
Густой тростник с лозой, торчащею Еихрами.
Пруды все в зелени, как в бархатистой раме.
Из них текли ручьи, сплетаясь, словно руки,
И полною струей спадали на излуке,
Но не могли пропасть в глубокой тьме оврага:
От месяца была серебряною влага.
Она сбегала вниз распущенной косою,
Блеск месяца стекал за каждою струею
И, достигая дна, дробился в ней без счета,
А струи падали стремительно, с налета,
И сыпалась на них горстями позолота.
Не свитезянка
{328} ли за дымкою тумана
Струила воду в ров из призрачного жбана,
И золото ей вслед из фартучка бросала,
И тешилась, когда в воде оно мерцало?
Покинув темный ров, ручей смирял движенье,
Но по равнине все ж видать его теченье;
Недаром на его поверхности дрожащей
Лежал во всю длину луч месяца блестящий,
Точь-в-точь Гивойтос-змей
{329} голубоватый, длинный,
Что спящим кажется в кустарниках долины,
Но видно издали по ярким переливам,
Что дальше он ползет движением ленивым.
Так и ручей мелькал, таясь в густой ольшине,
Темневшей далеко в лазоревой ложбине
Неясным очерком, почти что невидимкой,
Как духи, скрытые до половины дымкой.
А мельница внизу, под стать дуэнье старой,
Что, притаясь в кустах, следит за нежной парой,
И, тайный шепот их подслушав, рассердилась,
И головой трясет, и бранью разразилась, —
Так мельница теперь крылом, поросшим мохом,
Свирепо затрясла и пальцами со вздохом
Вдруг начала грозить, в сердцах забормотала,
И замерли пруды, молчание настало.
От грез очнулся Граф.
Глядит он и дивится:
Тадеуш перед ним, — попался пан Соплица!
«К оружью!» — крикнул Граф. Тотчас же налетела
На юношу толпа. Не разобрав, в чем дело,
Уже он схвачен был. Во двор вломились в раже,
Собаки залились, и закричали стражи.
Тут выбежал Судья, чтоб дать отпор разбою,
И Графа увидал нежданно пред собою.
Граф шпагу обнажил и сделал выпад с жаром, —
Но безоружного не поразил ударом.
«Соплица! — он сказал. — Фамильный враг заклятый!
Ты много сделал зла, но пробил час расплаты!
За то, что посягнул ты на добро Горешков
И оскорбил меня, отмщу я, не помешкав!»
Судья, перекрестясь, воскликнул: «Что случилось?
Вы разве занялись разбоем, ваша милость?
И подобает ли природному магнату
Врываться ночью в дом, как вору, супостату?
Нет, я не допущу!..» Дворовые гурьбою
Бежали с палками, уже готовы к бою.
А Войский, времени напрасно не теряя,
На Графа пристально глядел, ножом играя.
Чтоб свалке помешать, пришлось Судье вмешаться;
Враг новый близился, напрасно защищаться!
Ружейный выстрел вдруг раздался из ольшины
И топот по мосту несущейся дружины,
И «Гей же на Соплиц!» — неслось уже из лога,
Затрепетал Судья, узнал он Козерога!
А Граф кричал ему: «Сдавайся, пан Соплица!
Со мной союзники, ты должен подчиниться!»
Асессор подбежал и крикнул возмущенно:
«Граф, арестую вас я именем закона!
Жандармов вызову, коль шпаги не сдадите,
За нападенье вы аресту подлежите.
Об этом говорит артикул…» Но бедняга
Не кончил, по лицу его хватила шпага.
Свалился замертво Асессор оглушенный
И не вставал уже из конопли зеленой.
Соплица закричал: «Разбойник ты великий!»
Все загорланили, но, заглушая крики,
Вопила Зосенька испуганно спросонок,
К Судье на грудь она припала, как ребенок.
Тут под ноги коня упала Телимена
И руки подняла, белевшие, как пена;
Распущенных волос откинув покрывало,
«Взываю к чести я! — пронзительно вскричала. —
Во имя господа, прошу я со слезами,
Нет, не откажешь ты в последней просьбе даме!
Жестокий, порази нас первыми скорее!»
Упала в обморок, склонился Граф над нею,
Смутила юношу трагическая сцена.
«О панна София, о пани Телимена!
Нет! Безоружных кровь не запятнает стали.
Соплицы, все теперь вы пленниками стали!
Так мне в Италии пришлось по воле рока
Бандитов окружить вблизи Бирбанте-Рокка,
С вооруженными я расправлялся тут же,
А безоружных всех велел связать потуже, —
И увеличили они триумф заветный,
Потом повесили их у подножья Этны».
Соплицам повезло, что графский конь был лучший
Из всех других коней, помог счастливый случай!
Граф отомстить хотел им собственной рукою,
Он шляхту далеко оставил за собою;
Жокеи ехали за ним шеренгой длинной,
Прославились они своею дисциплиной,
Меж тем как шляхтичи не медлили с расправой, —
В восстаньях одичал характер шляхты бравой.
Граф холодней уже расценивал событья,
И обойтись хотел он без кровопролитья.
Арестовал Соплиц, а чтоб не ускользнули, —
Жокеям приказал стоять на карауле.
Вдруг: «Гей же на Соплиц!» — и шляхта валит валом, —
Двор заняла она с усердьем небывалым
Тем легче, что в плену Судья был с гарнизоном;
Несутся шляхтичи потоком разъяренным;
Их не впускают в дом, — спешат под сень фольварка,
Все ищут, биться с кем? Но вот на кухне жаркой
Лихие шляхтичи носами потянули.
Благоухание кастрюль они вдохнули
И захотели есть; вражда была забыта,
Остыл горячий гнев во славу аппетита!
И, одержимые неистовой отвагой,
«Есть! Есть!» — воскликнули веселою ватагой,
«Пить! Пить!» — отозвались соратники ретиво, —
Два хора грянули, согласные на диво!
Крик взбудоражил всех, всем было не до шуток,
У каждого давно заговорил желудок.
Их крики перешли в громовые раскаты,
Как будто ворвались за фуражом солдаты.
Гервазия к Судье не допустили даже,
Пришлось ни с чем уйти при виде графской стражи.
Хоть отомстить не мог, — все под замком сидели, —
Рубака не забыл своей заветной цели.
Хотел формально он и на глазах шляхетства
За Графом утвердить Горешково наследство.
За Возным гнался он с уже готовой речью
И, наконец, нашел Брехальского за печью,
Схватил за шиворот и поволок за двери,
Приставив нож к груди, чтоб возбудить доверье.
«Пан Возный, просит Граф у вашей панской чести,
Чтоб огласили вы, как принято, на месте
Ту интермиссию
{330}, что вводит во владенье
И замка, и полей, и целого именья…
Да что перечислять: все cum graniciebus
Scultetis cum gais et omnibus et rebus
Et quibusdam ailis как знаете, долбите,
He пропуская слов!» — «Постойте, не спешите, —
Протазий с гордостью ответил. — Нет резону
Отказываться мне, да только по закону
Сей акт неправильный, без всякого значенья,
Понеже вынужден был силой принужденья!»
«Здесь нет насилия! — сказал Гервазий скромно. —
Прошу я вежливо, а если пану темно,
То посвечу Ножом. Вмиг от огней веселых
В глазах засветится, как в девяти костелах».
«К чему, Гервазенька, со мной такой ты грозный? —
Протазий вопросил. — Я что? Я только возный!
В округе ведомо, что дел я не решаю,
Что продиктуют мне, то я провозглашаю!
Слуга закона я, не подлежу аресту,
Зачем меня Ножом приковываешь к месту?
Пускай несут фонарь, в акт должен все вписать я,
Тогда провозглашу: «Утихомирьтесь, братья!»
К плетню он подошел, учтив и хладнокровен,
Чтоб слышно было всем, залез на груду бревен,
Сушившихся в саду, и вдруг, как ветром сдуло,
Исчез — и нет его! Белея, промелькнула,
Как голубь, белая тулья конфедератки,
Протазий к конопле помчался без оглядки.
Тут Лейка выстрелил, но не попал по цели,
Протазий в хмель залез, тычины захрустели,
Забрался в коноплю и крикнул: «Протестую!
Неправомочен акт! Стараетесь впустую!»
Протест Протазия, как залп последний, грянул,
Защита сломлена, и враг на стены прянул,
И дворня, наконец, насилью уступила.
Все шляхта грабила, что под рукою было.
Не тратя времени, забрался в хлев Кропило;
Он окропил волов и двух телят, а Бритва
Хватил их саблею. Кипела рядом битва,
Там Шило действовал, колол он под лопатки
Свиней и поросят, бегущих без оглядки.
Пришел гусиный час. Теперь пиши пропало!
Те гуси, что спасли когда-то Рим от галла,
Напрасно, гогоча, о помощи молили,
Но Маилий не пришел — гусей не пощадили!
Одних передушил, других живыми Лейка
Подвесил к поясу. Гусиная семейка
С шипеньем, гоготом сновала под ногами,
А Лейка, поднятый гусиными крылами,
Носясь по птичнику, осыпан белым пухом,
Казался Хохликом, ночным крылатым духом.
Меж тем в курятнике буянил Пробка хмурый,
И от руки его бесславно гибли куры,
С насеста он тащил железными крючками
Хохлаток-курочек совместно с петушками,
Душил их тотчас же с решимостью суровой.
Вскормила Зосенька тех кур крупой перловой!
Эх, Пробка-дуралей! За это преступленье
Не вымолить тебе у Зосеньки прощенья!
Гервазий, вспомнивши былых времен обычай,
Отправил тотчас же шляхетство за добычей,
На поясах своих, как в старину бывало,
Велел он притащить бочонки из подвала.
Бочонки шляхтичи охотно облепили,
Киша, как муравьи, их к замку покатили,
Который занят был шляхетством для ночлега, —
Хотели там они пожать плоды набега.
Вот сто костров зажглось, румянится жаркое,
И ломятся столы, вино течет рекою,
Пропить, проесть, пропеть им эту ночь охота,
Но стала шляхтичей одолевать дремота.
Меж тем идут часы, за оком гаснет око,
Кивают головы, и шляхта спит глубоко,
Кто с чаркою в руке, кто водку в кружку вылил, —
Так победителей брат смерти — сон осилил!

«Пан Тадеуш», «Ссора»
Книга девятая
Битва
Об опасностях, возникающих от беспорядка в лагере. — Неожиданная помощь. — Печальное положение шляхты. — Прибытие квестаря предвещает спасение. — Майор Плут избытком любезности навлекает на себя бурю. — Выстрел из пистолета подает сигнал к бою. — Подвиги Кропителя. — Подвиги и опасное положение Матека. — Лейка засадой спасает Соплицово. — Конное подкрепление, атака на пехоту. — Подвиги Тадеуша. — Поединок вождей, прерванный изменой. — Войский искусным маневром решает исход боя. — Кровавые подвиги Рубаки. — Великодушный победитель.
Храпящих шляхтичей не разбудить — куда там! —
С десятком фонарей ворвавшимся солдатам;
Набросились они на беззащитных спящих,
Как будто пауки на сонных мух жужжащих,
Что обвивают жертв мохнатыми ногами
И называются в народе «косарями».
Увы! Покрепче мух спьяна уснули паны
И, бездыханные, валялись, как чурбаны,
Хотя вертели их, как на току солому,
И, одного связав, шли тотчас же к другому.
Но Лейка, тот, что был кутилой самым рьяным,
И всех перепивал, не напиваясь пьяным, —
По два антала пил и даже не шатался,
Когда беседовал, язык не заплетался, —
Но Лейка-удалец, хотя уснул глубоко,
А все же приоткрыл сомкнувшееся око
И что же увидал? Страшенные две рожи
Склоняются над ним, на всех чертей похожи,
Топорщатся усы, и четырьмя руками
Страшилы шевелят, как будто бы крылами.
Вот чертовщина-то! Хотел перекреститься,
Но к боку правому пригвождена десница,
А шуйца — к левому! Тут понял он спросонок,
Что сам он перевит, спеленат, как ребенок!
Зажмурился бедняк — глаза бы не глядели!
Лежал ни жив ни мертв, вздыхая еле-еле.
Кропитель вскинулся и замер с перепуга,
Его же кушаком его связали туго.
Напрягся, подскочил рывком остервенелым —
На шляхтичей упал своим могучим телом.
Как щука на песке, метался, разъяренный,
И, как медведь, ревел — а глоткою луженой
Кропитель славился — «Насилие! Измена!».
Медвежий рев его всех разбудил мгновенно.
Пронесся эхом крик и по зеркальной зале,
Где Граф с жокеями и Козерогом спали;
Проснулся Козерог, и увидал как раз он,
Что к своему мечу был накрепко привязан!
Гервазий выглянул из-за своей рапиры,
Каскетки увидал, зеленые мундиры…
А среди них майор в мундире франтоватом —
Клинком указывал на шляхтичей солдатам,
Шепча: «Вяжи! Вяжи!» И вот уж, как бараны,
Жокеи связаны, в беду попались паны!
А Граф хоть и сидел, но рядом были стражи.
Гервазий понял все и содрогнулся даже, —
Проклятье! Москали!
Из этаких оказий,
Бывало, выходил десятки раз Гервазий,
Он опыт приобрел и разные уловки,
К тому же был силен, рвал цепи и веревки.
Представясь, что уснул, зажмурился Рубака.
Сам вытянулся он во всю длину, однако
Втянул тугой живот, что только было силы,
И сжался, — не узнать могучего верзилы!
Казалось, что удав в тугой клубок свернулся.
Гервазий воздуху набрал, как шар, раздулся
И выпрямился вдруг. Нет! Не добился цели,
Веревки скрипнули и все же уцелели.
Гервазий лег ничком, не выдержав позора,
И, как бревно, лежал, не подымая взора.
Донесся до него чуть слышный бубнов рокот,
Все разрастался он, сливаясь в дробный грохот…
Майор, узнав сигнал, оставил Графа в зале
Под стражей егерей, а шляхтичей прогнали
Во двор, где собралась уже другая рота…
Кропитель тщетно рвал проклятые тенета!
Штаб во дворе стоял; там, захватив доспехи,
Другие шляхтичи, Бирбаши и Гречехи —
Приятели Судьи, сошлись не для потехи:
Заслышав про наезд, на помощь поспешили,
Хотя с Добжинскими от века не дружили,
Кто москалей успел предупредить о бое?
Кто шляхте передал известие такое?
Асессор иль корчмарь? Рассказывают всяко,
Но правды не узнал еще никто, однако.
Вот солнце поднялось над хмурым небосклоном,
Сквозь тучу прорвалось лучом воспламененным.
Диск отуманенный отсвечивал багрово,
Как раскаленная под молотом подкова.
А в небе ледоход — неслась за льдиной льдина,
Дул ветер, но не мог собрать их воедино,
И каждая дождем холодным проливалась.
Тут ветер налетал, все вновь чередовалось:
Вслед ветру — облака и дождик с небосвода…
День переменчивый, ненастная погода!
Колодынатаскать велел майор солдатам
И дыры продолбить (он был заправским катом).
И ноги шляхтичей велел засунуть в дыры,
Сомкнув другим бревном, чтоб не ушли задиры.
Забились шляхтичи от боли и тревоги,
Казалось им, что псы впились зубами в ноги.
Злосчастным пленникам назад скрутили руки,
Распоряженье дал майор, для пущей муки,
Содрать у шляхтичей с голов конфедератки,
С плеч — кунтуши, плащи и даже тарататки.
Сидели шляхтичи с нахмуренными лбами
И выбивали дробь от холода зубами,
Хотя горячий стыд их прошибал до пота.
Кропитель тщетно рвал проклятые тенета….
Судья просил за них, и Зосенька взмолилась,
Чтоб уступил майор и гнев сменил на милость.
Рыдали женщины. От этих слез и криков
«Смягчился капитан, храбрец Никита Рыков,
Хотел он выпустить шляхетство в ту минуту,
Но подчинялся сам — увы! — майору Плуту.
Майором был поляк из городка Дзерович,
Носил он польскую фамилию Плутович,
Но изменил ее, отъявленный мошенник, —
Так поступал кой-кто из-за чинов и денег.
Он подбоченился в ответ на эти просьбы,
И без беды теперь никак не обошлось бы,
Тем более что Плут дымил неумолимо
И повернул домой, скрываясь в клубах дыма.
Но дома Рыкова уговорил Соплица,
Да и с Асессором успел договориться,
Как шляхтичей спасти от этакой напасти,
А главное, как скрыть беду от царской власти.
Майору капитан в беседе откровенной
Сказал:
«Какой нам прок от этой шляхты пленной?
Хотя военный суд накажет шляхту строго,
Майор от этого не выгадает много!
Не лучше ль из избы не выносить нам сора?
Оценит пан судья старания майора,
Отвалит золота, все выйдет шито-крыто:
И овцы целые, и волки будут сыты!
Недаром говорят: «Все можно — осторожно».
«Кто смел, тот и успел!» — На свете все возможно!
Так как нее? Выпустим шляхетство на свободу?
Да, узел завязав, концы схороним в воду!
Мы дело замолчим, не выдаст и Соплица.
«Когда дают — бери» — у русских говорится!»
Майор рассвирепел и покраснел багрово.
«Ты, Рыков, ошалел, а служба-то царева!
А служба, говорят, не дружба, Рыков старый,
Смирить бунтовщиков должны мы грозной карой!
Война предвидится. Попались мне поляки!
Я научу теперь вас бунтовать, собаки!
Добжинцы, знаю вас! Эге, как вас приперло!
Помокните! — Майор смеялся во все горло. —
Добжинский в сюртуке, что жмется там к ограде,
Сорвать с него сюртук! Стервец на маскараде
Сам приставал ко мне, проходу не давая:
Ворюгой обозвал, ведь касса полковая
Очищена была. Кем? Я не знаю даже.
Подозревал кой-кто меня, майора, в краже!
Да стервецу-то что? Иду в мазурку с панной,
А он кричит мне: «Вор!» — на радость шляхте пьяной.
А что, Добжинские, мы не играем в жмурки,
Наплачетесь еще из-за моей мазурки,
Попомните меня, ручаюсь головою!»
Потом шепнул Судье с улыбочкой кривою:
«Когда захочешь, пан, закончить мировою,
Давай по тысяче за каждого шляхтюру!
По целой тысяче, не то сдеру с них шкуру!»
Судья просил его напрасно об уступке.
По дому бегал Плут, пуская дым из трубки,
Пыхтел он, как мехи, дымился, как ракета,
И слезы женские оставил без ответа.
«Военный суд, — сказал Судья майору Плуту, —
Накажет штрафом их, но нашему статуту,
Ведь боя не было. Чего же тут лукавить?
Что шляхта съела кур — беда не велика ведь!
Я знаю, шляхтичи отделаются штрафом,
Судиться ни за что я сам не стану с Графом!»
«А «Книгу желтую» читал, судья Соплица?
Небось забыл ее? А что там говорится?
Ведь что ни слово в ней — Сибирь, петля да пытки,
Прочтите, пан Судья, не будете так прытки!
В той книге собраны военные уставы.
К чертям ваш трибунал! Теперь иные нравы!
За эту самую разбойничью проказу
Отправятся в Сибирь по царскому указу!»
«Обжалую! — сказал Судья. — Есть губернатор!»
«Обжалуй! Не спасет их даже император!
Да если только он о жалобе услышит,
Удвоит строгости, вам ижицу пропишет!
Обжалуй! Я крючок нашел уже заране
И на него могу поддеть тебя, моспане.
Что Янкель твой — шпион, давно узнали власти,
А он в корчме твоей укрылся от напасти!
Знай, если захочу, всех сразу арестую!»
«Меня? — вскричал Судья. — Бахвалишься впустую!»
Беседа б их дошла до бешеного спора,
Однако новый гость подъехал к дому скоро.
Въезд шумный, странный был: шел посреди дороги,
Как ловкий скороход, баран четырехрогий;
Два рога вдоль ушей свивались, точно кольца,
И украшали их цветные колокольца,
Другие два со лба воинственно торчали,
Бубенчики на них качались и бренчали;
И козы и волы за ним шли быстрым ходом,
Давая путь большим нагруженным подводам.
Въезд квестарский, никто не мог бы ошибиться!
Гостеприимства долг не забывал Соплица,
И поспешил к дверям с приветливым поклоном.
Ксендза узнали все, хотя он капюшоном
Прикрыл свое лицо и пригрозил воякам,
Призвав к терпению красноречивым знаком,
Узнали Матека, хоть был переодет он
И быстро промелькнул за квестарем при этом,
Все ж раздались ему вдогонку восклицанья…
«Глупцы!» — ответил он и подал знак молчанья.
За ними ехал вслед Пруссак в одежде старой,
А Зан с Мицкевичем спешили дружной парой.
Собраться во дворе тем временем успели
Бирбаши, Вильбики, Подгайские, Бергели.
Добжинских увидав, узнав, что с ними сталось,
Соседи тотчас же почувствовали жалость.
Шляхетство польское всегда готово к драке,
Зато отходчивы, не мстительны поляки.
Все кинулись теперь просить отца Матвея,
А он их у подвод расставил поскорее
И ждать велел.
Меж тем вошел монах в покои.
Как изменился он! Лицо совсем другое!
Печален прежде был, держался он смиренно,
А нынче, нос задрав, смеялся откровенно.
Молах отчаянный! Сказал он: «Ну, потеха! —
Казалось, продолжать не мог уже от смеха. —
Здорово! Ха-ха-ха! Увидел я воочью,
Что вы, друзья мои, охотитесь и ночью!
Пожива славная! Свежуйте-ка шляхтюру.
Я видел ваш улов, ну-ну, дерите шкуру!
А чтоб не фыркали — взнуздать без разговора!
Эге! Да здесь и Граф! Поздравлю с ним майора!
Граф золотом набит, он из больших магнатов,
Не выпускать его без сотен трех дукатов!
А как получишь их, пожертвуй мне немного,
Я за тебя всегда молю смиренно бога!
Все души грешные — забота бернардина.
Военных косит смерть и штатских — все едино!
Прав Бака, говоря
{331}, что смерть почище ката,
Прихлопнет бедняка, пристукнет и магната,
Ребенка унесет и поразит солдата.
В мундире москаля и в кунтуше поляка,
Все для нее равны и постник и гуляка.
Она прегорький лук! Ничем ее не купишь,
Вмиг прошибет слезу, а там покажет кукиш.
Сегодня живы мы, а завтра околели,
И наше только то, что выпили да съели.
Не время ли к столу просить нас, пан Соплица?
Уже уселся я и всех прошу садиться!
Угодно ль зраз, майор? И пунша к ним в придачу,
Пристало вспрыснуть вам как следует удачу!»
«Что ж, выпьем за Судью! — сказали офицеры. —
Докажем, что у нас хорошие манеры!»
Дивили сопличан поступки бернардина.
Откуда бы взялась веселости причина?
Но все-таки пришлось Судье распорядиться:
Пунш, сахар, зразы — все велел подать Соплица.
Майор и капитан так налегли на мясо,
Что съели тридцать зраз в теченье получаса, —
Так пуншем занялись, что ваза опустела,
Недаром ревностно взялись они за дело!
Когда ж ни капельки не оставалось в чашах,
Плут трубку запалил кредиткой — знай, мол, наших!
Потом уста свои отер концам салфетки
И весело сказал нахмуренной соседке:
«Как сладостный десерт, вас обожаю, панны,
Вы после вкусных зраз особенно желанны!
Да, после сытного, обильного обеда
Что может лучше быть, чем дамская беседа?
Хотите ли сыграть со мною робер виста?
Мазурку поплясать? Такого мазуриста
Не сыщете нигде, хоть верст пройдете триста!»
И вместе с хвастовством, ничем неудержимым,
Дам комплиментами он потчевал и дымом.
Ксендз закричал: «Плясать! От вас я не отстану.
Хотя и квестарь я, а подберу сутану!
Я тоже мазурист! Майор, мы виноваты:
Мы пьем, а во дворе продрогшие солдаты!
Не поскупись, Судья, поставь им бочку водки!
Майор не запретит, пускай промочат глотки!»
«Прошу! — сказал майор. — Согреет их сивуха!»
«Дай спирта!» — ксендз шепнул Соплице прямо в ухо,
Штаб тешился в дому беседою за ромом,
Пока у егерей попойка шла за домом.
В молчанье Рыков пил, майор иное дело:
Он пил, за дамами ухаживая смело.
Вот захотел плясать и, не сбавляя тона,
Вдруг Телимену он схватил непринужденно,
Но вырвалась она. Плут Зоею звал на танец,
Шатался и кричал, как водится у пьяниц:
«Эй, Рыков, брось дымить! Мазурку нам сыграй-ка!
В руках твоих горит любая балалайка,
Л здесь гитара есть! — Он подошел к гитаре. —
Мазурку, Рыков, шпарь! Пройдусь я в первой паре!»
Гитару Рыков снял и занялся настройкой,
Плут к Телимене вновь пристал с беседой бойкой:
«Я, пани, поклянусь! Не быть мне дворянином,
Когда я в чем солгу, а быть собачьим сыном…
Присягу дам, что нет в словах моих обмана,
Спросите в армии, и все вам скажут, панна,
Что в армии второй есть в корпусе девятом,
Второй дивизии полку пятидесятом,
Плут, егерский майор, в мазурке первый самый!
Пойдемте же со мной! Не будьте столь упрямой!
Не то вас накажу с отвагой офицерской!»
И Телимену он схватил рукою дерзкой
И чмок ее в плечо! Но в эту же минуту
В сердцах пощечину влепил Тадеуш Плуту.
За звуком новый звук последовал так скоро,
Как будто реплика на тему разговора.
Майор остолбенел. «Бунт! — крикнул он. — Измена!»
И, шпагу обнажив, хотел отмстить мгновенно.
Ксендз вынул пистолет, на эту сцену глядя,
И подал юноше: «Стреляй в майора, Тадя!»
Тадеуш выстрелил, не мешкая нимало,
Но только оглушил завзятого нахала.
«Бунт!» — Рыков закричал и бросился с гитарой
На юношу, но тут вмешался Войский старый,
Взмахнул рукою он — и нож, как птица, взвился
И заблестел тогда, когда уже вонзился
В гитару. Капитан едва ушел от смерти,
Нагнулся вовремя, не то б забрали черти!
В смятенье крикнул он: «Солдаты, бунт, ей-богу!»
И, шпагу обнажив, приблизился к порогу.
А шляхтичи сюда уже ломились кучей
С Забоком во главе и с Розгою могучей!
Плут в сени бросился, зовет, кричит: «Засада!»
Солдаты тотчас же отозвались из сада.
Мелькнули у дверей три черные фуражки
И три стальных штыка — теперь не жди поблажки.
Но Матек с Розгою укрылся за дверями
И, точно кот мышей, ждал встречи с егерями.
Три головы бы снес, так замахнулся грозно;
Но то ли поспешил, а то ль ударил поздно.
И Розга стукнула с размаху по фуражкам
И только их снесла своим ударом тяжким.
Смутила егерей внезапность нападенья,
Они бегут во двор.
А во дворе смятенье.
Сторонники Соплиц теснятся на середке
И пленным шляхтичам сбивают с ног колодки.
Несутся егеря, они уж близко, рядом…
Вот уложил сержант Подгайского прикладом
И ранил двух еще и погнался за третьим…
Кропитель ринулся за исполином этим
(Уж он свободен был) и — господи помилуй! —
Сержанту кулаком в хребет с такою силой
Так двинул, что лицо сержанта-исполина
Ударом вбил в замок его же карабина.
Осечка! Отсырел в крови сержанта порох.
Сержант упал ничком, забыв о всяких спорах.
Кропитель карабин тотчас схватил за дуло
И, над собой крутя, как бы в пылу разгула,
Устроил мельницу и намолол немало:
Свалил двух егерей и одного капрала.
Бежали егеря, а он стоял всех выше,
Шляхетство защитив вращающейся крышей.
Колодки сломаны. Добжинцы всем народом
Бегут к подъехавшим вместительным подводам.
Рапиры, палаши и косы с тесаками,
Что хочешь, — загребай обеими руками!
Нашлись и пули там в мешке, не то в коробке, —
Часть Лейка взял себе, а половину — Пробке.
Но егеря уже сбегаются толпою,
Мешая шляхтичам построиться для боя,
Неловко в тесноте стрелять из карабинов,
Сталь лязгает о сталь, противников не сдвинув.
Стучит по сабле штык, скользит по рукояти,
Вплотную борются враждующие рати.
С остатком егерей добрался Рыков скоро
До риги, оглядясь, стал около забора
И крикнул егерям, чтоб отступали дружно,
Сражаться в тесноте опасно и не нужно!
Сердился он, что сам огня открыть не может,
Боялся, что своих, а не врагов уложит!
«Построиться!» — кричал своим солдатам Рыков…
Увы! Затерян был призыв его средь криков.
Мешала теснота и старому Матвею,
Дорогу расчищал он Розгою своею,
Торчащие штыки сбивая с карабинов,
Как фитили со свеч. Так, голову откинув,
Рубил наотмашь он, вот проложил дорогу
И к полю выбрался — благодаренье богу!
Но тут столкнулся он с великим штыковедом,
Инструктором полка, за Матьком шел он следом;
Рубака доблестный! — нашла коса на камень!
Он карабин держал обеими руками,
На спуске левая, а на стволе другая,
Вертелся, как волчок, внезапно приседая,
Снял руку со ствола, чтоб целить не мешала,
И вдруг в лицо врага штык высунул, как жало!
Вот отступил на шаг и вновь с другого бока,
Вертясь, лавируя, атаковал Забока!
Проворство оценил, как должно, Матек старый,
И, на нос нацепив стальные окуляры,
Сам отступил на шаг, стал с Розгой наготове
И за ефрейтором следил, нахмуря брови.
Вот пошатнулся он, прикидываясь пьяным,
Ефрейтор поспешил расправиться с буяном,
И, в предвкушении победы вожделенной,
Он руку вытянул во всю длину мгновенно;
Но, двинув карабин, вперед так потянулся,
Что еле устоял, невольно перегнулся,
Подставил рукоять ему Забок под дуло,
Где штык привернут был, и штык как ветром сдуло!
Тут Розгой по руке Забок его ошпарил,
С размаху по щеке противника ударил.
Ефрейтор наземь пал, хоть был он кавалером
Трех боевых крестов и доблести примером!
Победа близилась, и у колодок слева Кропитель буйствовал.
Он был исполнен гнева. Врагов по головам дубиною лупил он,
А Бритва рядом брил с неугасимым пылом.
Орудуя вдвоем, они сражались пылко,
Точь-в-точь немецкая машина-молотилка:
И жнейка быстрая с соломорезкой вместе,
Что только не сожнет, смолотит здесь на месте.
Крушили егерей приятели на пару,
Один поддаст огня, другой подбавит жару!
Кропитель бросился на правый фланг скорее,
Где прапорщик лихой атаковал Матвея,
Мстя за ефрейтора, он в исступленье рьяном
Шел прямо на него с тяжелым протазаном
(И пика и топор на нем), такой найдете
С большим трудом теперь, и только лишь во флоте,
Однако в старину водился он в пехоте.
Москаль и молод был и обладал сноровкой,
От розги Матека он уклонялся ловко.
Ведь трудно старику за юношей угнаться!
Пришлось не нападать, а только защищаться!!
Сперва он пикою Матвею задал жара,
Потом занес топор для грозного удара.
Кропитель, пробежав едва лишь полдороги,
Скорей поручику швырнул ружье под ноги;
Кость хрустнула, топор рука не удержала…
И на поручика шляхетство набежало,
Кропитель впереди — всегда готовый к бою…
Но слева егеря набросились гурьбою.
Кропитель, позабыв, что был он безоружным,
Теперь изнемогал под нападеньем дружным!
Два дюжих егеря вцепились в космы разом,
Четыре пятерни притягивали наземь;
Как тянут мачту вниз упругие канаты,
Тянули Матека повисшие солдаты.
Не выдержал бы он, осталось сил немного,
Но, к счастью своему, увидел Козерога.
«На помощь! — крикнул он. — Мопанку! Перочинный!»
Тут выказал себя Гервазий молодчиной,
Над головой его блеснув мечом с размаха!
Два дюжих егеря попятились со страха,
Но вопль отчаянья послышался мгновенно, —
И пятерня одна не выбралась из плена!
Повисла в волосах, кровь хлынула багрово.
Так орлик лапой цап присевшего косого;
Чтоб удержать его, другой — в сосну вонзится.
Косой рванется вдруг и по полю помчится,
Пирата разодрав, бежит он с лапой правой,
А лапа левая торчит в сосне корявой.
Кропитель принялся разыскивать Кропило,
Однако на земле его не видно было.
Что делать? Поле он окинул быстрым взглядом, —
Сжал руку в кулаки и стал с Забоком рядом.
Вдруг Пробку увидал, что пробирался садом,
Он егерей крушил без остановки с ходу,
В руке держал ружье, другой — тащил колоду
С кремнями острыми под грубою корою, —
Один Кропитель мог орудовать такою!
Едва увидел он заветное Кропило,
Расцеловал его — так было сердцу мило!
И принялся разить с удвоенною силой.
А скольких сокрушил с дубиною в союзе, —
Того не расскажу, ведь не поверят музе,
Как богомолке той, вещавшей в Острой Браме,
Как Деев прискакал с казацкими полками,
А был он генерал, и по его приказу
Ворота растворить хотело войско сразу,
Но мещанин, какой-то Чернобацкий,
И Деева убил, и полк разбил казацкий!
Предвидел капитан, что дело выйдет плохо:
Отважных егерей сгубила суматоха.
И было наповал до двадцати убито,
А тридцать ранами тяжелыми покрыто.
Кто спрятался в саду, кто в поле конопляном,
А кое-кто пошел просить защиты к паннам.
Шляхетство, победив, взялось за водку живо:
Развеселила всех богатая пожива.
И только бернардин не пил вина и пива,
В сраженье не вступал (запрещено каноном),
И, обходя плацдарм, укрытый капюшоном,
Как полководец, он давал распоряженья,
Которые могли решить исход сраженья.
Велел он шляхтичам идти на приступ смело,
Солдат всех перебить — на том покончить дело!
А к Рыкову меж тем послал парламентера
И предложил ему оружье сдать без спора.
Помиловать его он обещал за это —
И уничтожить всех, коль он не даст ответа.
Но Рыков не хотел выпрашивать пардона;
Собрав вокруг себя остаток батальона:
«К оружью!» — дал приказ. Все карабины взяли
И, приготовившись, команды новой ждали.
«Рассеянный огонь!» — промчалось над рядами.
И тотчас же приказ исполнен егерями:
Тот целился, а тот стрелял из карабина.
Свист пуль и треск курков сливались воедино.
Казалось, что отряд — ползучий гад особый, —
Который сотню ног высовывал со злобой.
Признаться, егеря порядком пьяны были,
От этого они нередко мимо били.
И все ж им удалось свалить двоих Матвеев
И ранить нескольких лихих Варфоломеев.
В ответ им шляхтичи стреляли без порядка;
Ведь было штуцеров не более десятка.
Л сабли обнажить им старшие не дали;
И пули, как назло, хлестали и хлестали,
И двор очистили, и зазвенели в рамах.
Тадеуш должен был заботиться о дамах,
Но вытерпеть не мог, и убежал он вскоре,
За ним покинул дом отважный Подкоморий
(Принес-таки палаш ему ленивый Томаш),
И поспешил старик к сражавшимся на помощь,
Команду принял он, увлек их за собою,
Но встречен был отряд неистовой пальбою.
Тут Бритва ранен был и Вильбик с ним бок о бок,
Шляхетство удержал от наступленья Робак
И старый Матек с ним. Шляхетство отступило,
А егерям успех еще подбавил пыла,
И Рыков захотел победною атакой
Всем домом завладеть и тем покончить с дракой.
Он закричал: «В штыки!» Солдаты как шальные
Помчались, выдвинув вперед штыки стальные,
И, головы нагнув, все прибавляли шагу.
Напрасно шляхтичи удвоили отвагу.
Шеренга полдвора прошла, врагов размыкав;
Тут, шпагой указав на двери, крикнул Рыков:
«Осиное гнездо считаю сжечь нелишним!»
«Жги! — отвечал Судья. — А только сам сгоришь в нем».
Но если до сих пор хоромы уцелели
И в зелени густой белеют, как белели,
И собираются, как прежде, в час обеда
Соседи-шляхтичи у доброго соседа, —
За Лейку пьют они, затем что, право слово,
Без Лепки бы тогда погибло Соплицово!
Освободился он быстрей других, однако
Еще ничем себя не проявил вояка!
Он, правда, тотчас же нашел себе оружье,
Запасся пулями как следует к тому же.
Но биться натощак героя не прельщало,
К бочонку спирта он направился сначала:
Оттуда пригоршней он черпал, словно ложкой,
И, жажду утолив, пришел в себя немножко,
Широкогорлую проверил одностволку.
И порох тщательно насыпал он на полку.
Когда же наконец увидел пред собою,
Как гонят шляхтичей штыки волной стальною,
Наперерез волне поплыл, в траве ныряя,
Далеко забрался — трава была густая.
Залег среди двора, где разрослась крапива,
И Пробку поманил: «Поди сюда, мол, живо!»
Стоял недвижно тот с мушкетом на пороге
И к Зосе никому б не уступил дороги,
Хоть он отвергнут был, но для ее защиты
Готов был умереть, как рыцарь знаменитый.
В крапиву забралась на полном марше рота,
Тут Лейка спуск нажал, и, как из водомета,
Свинцовый дождь полил, подбавил Пробка града,
Смешались егеря, увы! Спасаться надо!
Пустились наутек, а раненных Кропилом
Кропитель добивал с неутомимым пылом.
Все видел капитан и, устрашась обхода,
Послушных егерей собрал у огорода,
Он приготовился к иному повороту
И треугольником выстраивает роту,
Клин выставил вперед — надежная опора,
Меж тем бока его пристроил у забора.
Стратегия сия изобличала опыт,
Недаром издали донесся конский топот!
Хоть Граф под стражей был, но убежали стражи,
Жокеев на коней он усадил тогда же
И поскакал вперед, блеснув клинком взнесенным.
Тут Рыков загремел: «Огонь пол-батальоном!».
Блеснуло тотчас же багряное монисто —
Из вороненых дул ударило пуль триста!
Убито четверо, а пятый окровавлен,
Граф на земле лежал, своим конем придавлен.
Гервазий кинулся, чтоб выручить из свалки
Горешкову родню, хотя бы и «по прялке»!
Но Графа бернардин успел прикрыть собою,
И, раненный в плечо, он дал команду боя:
Шляхетству приказав, чтоб не стреляли кучей,
А растянулись бы и целились получше
Из-за прикрытия иль конопли зеленой.
И Графу не спешить велел с атакой конной.
Недаром отдавал приказы полководец:
Тадеуш второпях укрылся за колодец,
Он метким был стрелком и на лету монету
Мог надвое рассечь, на удивленье свету.
Прилежно целился, по чину выбирая, —
Сперва фельдфебеля — стоял он первым с края,
Потом сержантов двух, стрелял он не без толку
И метил в галуны, подняв свою двустволку.
А бравый капитан, не могший дать отпора,
Стоял насупившись и злился на майора.
«Нельзя же так, майор! — в сердцах сказал он Плуту. —
Всех командиров черт убьет через минуту!»
Плут закричал стрелку: «Не узнаю поляка!
Стреляешь хорошо, а прячешься, однако,
Когда не трусишь ты, в бой выходи открыто!»
Тадеуш отвечал майору ядовито:
«Ты прячешься зачем, майор, за егерями?
Коль так отважен ты, сражайся не словами!
Что проливать нам кровь? Давай-ка по старинке
Спор разрешим с тобой на честном поединке!
Оружье выбирай — от палки и до пушки,
Не то всех перебью, как зайцев на опушке!»
Чтоб доказать, что нет в его словах обмана,
Поручика убил вблизи от капитана.
Майору капитан сказал, набравшись духу:
«Ответить должен ты, майор, на оплеуху!
Коль отомстишь не сам, не смоешь ты позора:
Пред целой ротою он оскорбил майора.
И надо выманить его из-за колодца,
Штыком ли, пулею прикончить — как придется!
«Штык молодец! — в бою говаривал Суворов. —
А пуля дура». Впрямь, ступай, майор, без споров,
Не то нас перебьет, как зайцев, целит ловко».
«Ах, Рыков, — Плут сказал, — есть у тебя сноровка!
Пошел бы за меня! А впрочем, можно тоже
Поручика послать из тех, кто помоложе,
Я выйти не могу, не преступив закона,
На мне ответственность за целость батальона».
Отважный капитан, махая белым флагом,
Велел пресечь огонь и вышел твердым шагом.
Согласен был избрать оружие любое, —
И шпаги выбрали противники для боя.
Пока для юноши разыскивали шпагу,
Граф выступил вперед и закричал: «Ни шагу!
Прощения прошу у дорогого пана,
Майора вызвал пан, я вызвал капитана!
Он в замке натворил немало безобразий,
А этот замок мой». — «Не ваш!» — вскричал Протазий.
Граф продолжал свое: «Он первый из злодеев, —
Я Рыкова узнал! — перевязал жокеев!
Я проучу его, как проучил жестоко
Разбойников лихих вблизи Бирбанте-Рокка!»
Замолкли выстрелы, и ждали все дуэли, —
И на противников во все глаза глядели;
Вот Граф и капитан уже идут по кругу,
И правою рукой грозят они друг другу,
А левою спешат снять шапки для привета
С улыбкой вежливой, таков обычай света:
Сперва приветствовать, потом убить жестоко.
Вот сабли скрещены, противники с наскока
Ударили клинком, припали на колено
И наступали вновь и вновь попеременно.
Меж тем, Тадеуша увидя перед фронтом,
Договорился Плут с лихим сержантом Гонтом,
Отменнейшим стрелком и воином бывалым:
«Гонт, если справишься с назойливым нахалом, —
Пробьешь в груди его отверстие пошире,
Получишь от меня за труд рубля четыре!»
Гонт поднял карабин, прельстился он наживой,
Товарищи его от пуль укрыли живо.
Он метил не в ребро, а в голову, однако
Едва лишь шапку сбил с отважного поляка.
И покачнулся тот. Раздался крик: «Измена!»
Кропитель ринулся на Рыкова мгновенно,
Тадеуш спас его, не то бы вышло худо
И Рыков бы живым не выбрался оттуда.
Добжинские с Литвой опять в согласье были,
Размолвки давние рубаки позабыли.
Сражались доблестно, друг друга поощряя.
Добжинцы видели, как шел Подгайский с края
И егерей косил палево и направо.
Кричали радостно: «Подгайский, браво, браво!
Литвины молодцы! Толк понимают в битве!»
Сколуба закричал израненному Бритве,
Который саблею махал еще живее:
«Виват Добжинские! Да здравствуют Матвеи!»
Не слушали они — ни Матька, ни монаха,
А доблестно дрались без устали и страха.
Покуда фронт еще удерживала рота,
Гречеха вышел в сад, видать, затеял что-то,
Недаром рядом с ним шел осторожный Возный,
Выслушивая план атаки грандиозной.
Стояла сырница на поле конопляном,
Где треугольник был построен капитаном.
Казалась сырница обширной ветхой клеткой
Из балок, связанных крест-накрест, — кладки редкой.
Сквозь щели кое-где круги сыров светились,
Снопы пахучих трав под крышею сушились —
Шалфей, анис, ревень, чесночные головки.
Ну, словом, здесь была аптека Соплицовки.
Диаметром она в полчетверти сажени,
Но на одном столбе держалось все строенье,
Что аиста гнездо! Подгнил и столб дубовый,
Который был всего строения основой,
И расшатался он, подточенный столетьем,
Давно уже Судья был озабочен этим.
Хотел он сырницу на новый столб поставить,
Но не сломать ее, а только лишь поправить.
Все как-то времени не находил покуда
И только столб подпер, чтобы не вышло худо.
Вот эта сырница, без прочного упора,
Над треугольником свисала у забора.
Гречеха с Возным шли к ней сквозь кустарник дикий.
Несли они шесты, как сабли или пики;
За ними ключница тащила поваренка —
Мальчишка хоть куда, есть у него силенка!
Пришли, уперлись в столб тяжелыми шестами
И всею тяжестью на них повисли сами
(Так на речной мели засевшую вицину
Толкают с берега шестом на середину).
Столб хрустнул, сырница свалилась, как лавина,
И роту егерей смешала воедино.
Где треугольник был — валялись трупы, бревна,
Сыры залитые, окрашенные словно
То кровью красною, то мозгом светло-серым.
Уже на егерей несется Граф карьером,
И Розга их сечет, орудует Кропило,
Шляхетство со двора толпою повалило.
Лишь восемь егерей с сержантом уцелело, —
И против Ключника они стояли смело,
Все девять дул ему глядели в лоб, однако
Свой Перочинный Нож уже занес Рубака.
Увидя это, ксендз перебежал дорогу
И тотчас бросился под ноги Козерогу.
Раздался дружный залп. И вот из тучи дыма
Гервазий на ноги поднялся невредимо,
Хватив двух егерей железною дубиной,
Другие прочь бегут, за ними — Перочинный..
Они по большаку — и он бежит по следу,
Влетают на гумно — и, празднуя победу,
На их плечах туда врывается Гервазий
И там свирепствует в воинственном экстазе.
Из мрака слышатся и вопли и удары,
Но вот замолкло все и вышел Ключник старый
С кровавым Ножиком.
Шляхетство ликовало —
И как не ликовать? Со славой воевало!
Отважный капитан один остался вскоре,
Но не сдавался он. Тут вышел Подкоморий
И, палашом взмахнув, промолвил важным тоном:
«Не запятнаешь ты оружия пардоном,
Дав мужества пример и выказав отвагу,
Но битву проиграл, отдать ты должен шпагу!
Никто не посягнет на жизнь и честь моспана,
Я пленником своим считаю капитана!»
И Рыков, тронутый столь благородной речью,
Со шпагою в руке шагнул ему навстречу
(Была она в крови до самой рукояти).
«Собратья ляхи, — так промолвил он. — Некстати
Без пушки были мы! Наказывал Суворов
Без пушек не ходить на ляхов, знал ваш норов!
Во всем виновен Плут, он допустил до пьянства,
Не то бы егеря перестреляли панство,
Он командир, с него и взыщет царь сурово.
Я, ляхи, вас люблю, даю вам в этом слово!
И как вас не любить? «Люби дружка как душу, —
А спуску не давай. Тряси его, как грушу!»
Сражаться рады вы и пить не прочь, камрады!
Для пленных егерей прошу у вас пощады!»
У Подкомория не встретил он отказа,
И Возиый огласил пункт нового приказа:
Всем раненым помочь, потом очистить поле,
Оставшихся в живых не истребляя боле.
Майора не нашли; бежал он с поля битвы
И на чужом дворе в траве шептал молитвы.
Узнав, что кончен бой, покинул двор соседний.
И тем окончился в Литве наезд последний.
Книга десятая
Эмиграция. Яцек
Совещание о том, как бы спасти победителей. — Переговоры с Рыковым. — Прощание. — Важное открытие. — Надежда.
На утренней заре, темнея, нарастая,
Слеталась облаков разрозненная стая;
Чуть солнце за полдень поникло головою,
Полнеба облегло их племя грозовое
Свинцовой тучею: ее несло все ближе,
Уже отяжелев, она свисала ниже,
Отстала от небес одною половиной
И распростерлась вширь над хмурою долиной,
Вбирая все ветра, раздувшись, словно парус,
На запад понесла стремительную ярость.
Настала тишина, и воздух недвижимый
Молчал, как будто бы тревогой одержимый.
Под ветром только что клонилась долу нива
И выпрямлялась вновь от бурного порыва,
Бушуя волнами, теперь оцепенела
И, ощетинившись, на небеса глядела.
Березы гибкие, что были в придорожье
Еще недавно так на плакальщиц похожи,
Что, по ветру пустив серебряные косы,
Склонялись трепетно под синие откосы,
Теперь, безмолвные, от горести слабея,
Стоят, окаменев, подобно Ниобее.
И только у осин листва дрожит пугливо.
Стада, привыкшие домой плестись лениво,
Сегодня скучились и в страшном беспорядке
Все с выгона домой пустились без оглядки.
Бык опустил рога и землю бьет копытом,
Пугает он телят мычанием сердитым.
Огромные глаза возносит ввысь корова,
Губами шлепая, вздыхает бестолково;
А сзади топчется, похрюкивая, боров,
Ворует хлеб в полях — таков зловредный норов!
И птицы прячутся в леса, под стрехи, всюду,
Одни вороны лишь усеяли запруду,
Проходят важными, надменными шагами,
Глазами черными следят за облаками
И, крылья волоча и клювы разевая,
Мечтают о дожде, от жажды изнывая,
Но в страхе и они пред бурею могучей
Метнулись в ближний лес, подобно черной туче.
И только ласточка, прорезавши стрелою
Немые небеса, окутанные мглою,
Упала пулею.
И в это же мгновенье
Победой полною закончилось сраженье.
Все бросились в дома, в овины, чтоб укрыться,
Где шло побоище, там скоро разразится
Борьба стихий.
Кой-где сквозь хмурые покровы
Еще струился свет оранжево-багровый,
Но распростерлась тень, как будто сеть густая,
Вылавливая свет и солнце настигая,
Как будто бы с небес украсть его хотела.
Тут вихрей несколько промчалось, просвистело,
И капли первые посыпались без лада —
Большие, светлые, точь-в-точь как зерна града.
Два вихря пронеслись, рванулись друг за другом;
В борьбе слились они, вертясь свистящим кругом,
Пруд взбаламутили и мглою грозовою
Помчались на луга и свищут над травою;
Трепещут лозняки, летят сухие травы,
Как пряди тонкие, уносятся в дубравы
С обрывками снопов, а вихри стонут, воют,
В нолях беснуются и борозды в них роют,
Чтоб вихрю третьему побольше дать простора,
Поднялся третий вихрь столбом земли и скоро,
Став пирамидою, понесся что есть мочи,
Лбом землю продолбил, засыпал звездам очи,
И, разрастаясь вширь, беснуясь и бушуя,
Он бурю затрубил в свою трубу большую.
И тотчас же на лес обрушились все трое
Всем хаосом воды, листвы, песка с травою
И сломанных ветвей, — уже в глубинах чащи
Медведями ревут.
А дождь все злей и чаще,
Надолго зарядил, и громы зарычали,
И капли вдруг слились; то струнами вначале,
То прядями луга вязали с небосводом,
То низвергались вдруг, подобно бурным водам.
И все темным-темно от черного покрова,
Грозой надетого на небеса сурово…
Но разрывался вдруг покров небесный, темный,
И ангел бури плыл, как солнца диск огромный,
Покажется, блеснет — и вновь во тьме дремучей
Укроет светлый лик, захлопнув громом тучи!
То буря заревет, то пронесется мимо,
И тьма нависшая почти что ощутима.
Все тише дождь шумит, и гром уснул далекий,
Проснулся, зарычал, и хлынули потоки.
Затихло наконец, и только еле-еле
Шумел последний дождь да листья шелестели.
Но было хорошо, что буря бушевала,
Гроза, свирепствуя, все мглою покрывала,
Дороги залила, смела и переправу, —
Затерянный фольварк стал крепостью на славу,
И о побоище, случившемся в поместье,
Еще до города не докатилосьвести,
Не то бы шляхтичей зацапали на месте.
Совет в усадьбе шел до самого рассвета,
Ксендз тяжко ранен был, но, несмотря на это,
Сознанья не терял, давал распоряженья,
Судья их выполнял тотчас без возраженья,
Велел он, чтоб вошли Гервазий, Подкоморий
И Рыков, дверь они держали на запоре.
Тянулась целый час их тайная беседа,
Вдруг Рыков оборвал учтивого соседа
И резко оттолкнул тугой кошель с деньгами.
«Поляки, — он сказал, — толкуют между вами,
Что воры москали, скажите же хоть вы-то,
Что знали москаля по имени Никита
Из рода Рыковых, имел медалей восемь,
И трех крестов еще не забывать попросим,
Медаль за Измаил, а эта за Очаков
И за Эйлау та — для сведенья поляков!
Я с Корсаковым был при славной ретираде:
И был под Цюрихом представлен я к награде;
И упомянут был фельдмаршалом три раза,
Сам царь хвалил меня, — известно из приказа!»
Вмешался бернардин:
«Ну что ж, на нет — суда нет,
Да только посуди, что с нами всеми станет,
Когда откажешься? Не ты ли дал нам слово
Уладить миром все!»
«И дал и дам вам снова! —
Ответил капитан. — Забудьте ваши страхи,
Я честный человек, и я люблю вас, ляхи!
Вы люди добрые и славитесь гульбою,
Вы люди смелые — всегда готовы к бою!
Кто едет на возу, у русских говорится,
Тому случается под возом очутиться,
Сегодня ты побил, назавтра — жди расплаты.
Чего ж тут гневаться? Так и живут солдаты!
Откуда бы взялось на свете столько злобы,
Чтоб поражение нас разозлить могло бы?
Вот потеряли мы под Цюрихом пехоту,
Под Аустерлицем мне всю разгромили роту,
Под Рацлавицами — вот до чего я дожил! —
Костюшко косами отряд мой уничтожил!
А что из этого? Я снова в Матьевицах
Двух шляхтичей проткнул здоровых, круглолицых!
Шли с косами на нас, и руку канониру
Один из них отсек, я проучил задиру!
Отчизна!.. Знаю вас! Вы все живете ею.
Приказывает царь, я, Рыков, вас жалею!
Москва для москаля, а Польша для поляка,
По мне, пускай и так — не хочет царь, однако!»
Соплица отвечал: «Мы знаем честность пана,
Везде, где ни жил ты, все хвалят капитана.
И предана тебе шляхетская округа.
Не гневайся за дар, прошу тебя, как друга!
Ведь не в обиду мы несли тебе дукаты,
Мы знаем, человек ты добрый, небогатый…»
«Черт! — крикнул капитан. — Вся рота перебита!
А кто виновен? Плут! Я всем скажу открыто!
Он командир, — и он перед царем в ответе.
А вы, друзья мои, возьмите деньги эти,
Ведь жалованье все ж мне платят кой-какое,
Хватает на табак, на то и на другое.
А вас я полюбил, панове хлебосолы,
За ваше удальство, да и за нрав веселый!
Когда приедет суд, свидетельствовать буду
И постоять за вас, конечно, не забуду!
Скажу, мол, что пришли, пирушка затевалась,
Мы-дружно выпили и захмелели малость,
Тут, как на грех, майор велел стрелять всей роте
И погубил ее, так укажу в отчете.
Подсуньте золота, как водится приказным,
Не устоят они перед таким соблазном!
Плут — старший командир, и я боюсь подвоха,
Поладить надо с ним, не то вам будет плохо!
Поверьте, Плут еще загнет вам заковыку,
Он — штучка хитрая! Одно спасенье — выкуп. Заткните пасть ему вы банковым билетом.
Что ж, как с большим мечом, подумал ты об этом?
Что Плут сказал тебе? Согласен взять деньжата?»
Гервазий лысину погладил виновато,
Потом махнул рукой — мол, все уже готово, —
Но Рыков не отстал, допытывался снова:
«Что, будет Плут молчать? Пообещался панам?»
Гервазий, утомясь тем следствием пространным,
Вдруг палец опустил к земле без разговора,
Потом махнул рукой в знак окончанья спора.
«Клянусь я Ножичком, напрасны страхи эти,
Ни с кем не будет Плут беседовать на свете».
Тут хрустнул пальцами в сердцах, но не случайно, —
Казалось, выпала из рук тяжелых тайна.
Смутилось общество, увидя жест угрюмый,
Охвачен каждый был тревожащею думой.
Молчанье мрачное они хранили долго,
Но капитан сказал: «Драл волк, задрали волка».
«Почиет в мире пусть!» — добавил Подкоморий.
«Увы! То божий перст! — Судья промолвил в горе. —
Но неповинен я, клянусь, в пролитье крови!»
С постели ксендз привстал, сурово сдвинув брови,
На Ключника взглянул, сказал: «Беда! К тому же
На беззащитного грешно поднять оружье!
Не разрешил Христос нам и с врагом расправы!
Ответишь господу за этот грех кровавый!
Когда ж содеян он тобой не ради мщенья,
«Pro bono publico» — простится прегрешенье».
Гервазий замигал глазами в подтвержденье
«Pro bono publico» — для общего спасенья».
И больше не было о Плуте разговора,
Напрасно поутру искали след майора,
Напрасно и за труп сулили мзду народу, —
Ничто не помогло. Плут канул точно в воду!
Что стало с ним потом, рассказывают всяко,
Но не видал его уже никто, однако!
Напрасно Ключника допытывали снова.
«Pro bono publico», — он отвечал сурово.
И дело темное от всех укрыто было,
Хоть Войский тайну знал, молчал он, как могила,
Едва успела дверь за Рыковым закрыться,
Ксендз Робак приказал сражавшимся явиться;
Сам Подкоморий речь держал к ним: «Власть господня
Оружью нашему послала мощь сегодня!
Но разразился бой совсем не в пору, братья!
Грозят нам бедствия, не должен их скрывать я!
Ошиблись мы, и всем придется быть в ответе:
Ксендз Робак новости распространял в повете,
Вы сгоряча взялись за сабли, но, поди же,
Война и до сих пор ничуть не стала ближе!
Тот, у кого в бою особые заслуги,
Тот должен нынче же Литву покинуть, други!
Кропитель, Матек, ты, Тадеуш, Лейка с Бритвой,
Могу поздравить вас с сегодняшнею битвой,
Но вы должны бежать: коль дорога свобода,
Ступайте в Польшу вы к защитникам народа.
Возложим всю вину на вас мы и на Плута,
Тогда никто другой не пострадает люто.
Расстанемся теперь с надеждою одною:
Свободная заря взойдет для нас весною!
Уходите от нас скитальцами, друзья, вы,
Зато вернетесь к нам во всеоружье славы!
Судья припасами снабдит вас на дорогу,
А я вам денег дам, панове, на подмогу!»
Правдивые слова, нахмурясь, слушал каждый,
Все знали: кто с царем поссорится однажды,
Тому вовеки с ним жить не придется в мире,
И надо бой принять, а нет, так гнить в Сибири!
Вздохнули шляхтичи и, обменявшись взором,
Склонили головы пред этим приговором.
Хотя прославились на целый мир поляки
Любовью к родине, — об этом знает всякий, —
Но радостно поляк отправится в изгнанье,
И годы долгие он проведет в скитанье,
В борьбе со злой судьбой, покуда в бурной жизни
Надежда светится, что служит он отчизне!
Хотели шляхтичи тотчас же распроститься!
Но Бухман возразил, не мог он согласиться!
Хоть не участвовал в сражении, а все же
Дискуссия ему была всего дороже.
Одобрил в целом план, кой-что переиначить
Шляхетству предложил, комиссию назначить
И форму соблюсти, как то пристало в деле,
Чтоб эмиграции точней наметить цели.
Желал он продолжать еще в таком же роде,
Но, так как ночь была почти что на исходе,
Внимания ему не уделили много,
Простились шляхтичи, ведь их ждала дорога.
Соплица воротил Тадеуша с порога
И так сказал ксендзу: «Хорошее известье
Я получил вчера, порадуемся вместе:
Узнай, что Тадя наш души не чает в Зосе,
Перед отъездом пусть руки ее попросит.
Поскольку не чинит препятствий Телимена,
Свое согласье даст и Зося несомненно.
Конечно, свадьбы их не справим втихомолку,
Но можем объявить сегодня же помолвку.
Тадеуш в ней найдет большое утешенье,
В разлуке разные бывают искушенья.
На перстень поглядев, припомнит всякий раз он,
Что обручен уже, святым обетом связан,
И не потянется он за плодом запретным, —
Есть сила дивная в том перстеньке заветном!
Сам тридцать лет назад любил я крепко панну
И ею был любим; вот, думал, счастлив стану!
И нас помолвили, но счастье молодое
Мне не сулил господь, оставил сиротою!
Невесту милую к себе призвал спаситель,
Вошла красавица в небесную обитель…
И, словно памятка любви моей печальной,
Остался у меня мой перстень обручальный.
С тех пор я на него не мог глядеть без боли,
Все вспоминал о ней и так, по божьей воле,
Не связывал себя вовек обетом новым,
Женатым не был я, хотя остался вдовым,
Хотя у Войского другая дочка тоже
Красавица, к тому ж и сестры были схожи!»
Судья на перстенек взглянул с немой тоскою,
Невольную слезу тайком смахнув рукою,
Спросил: «Что ж, обручим? К чему тянуть напрасно?
Он любит девушку, и девушка согласна!»
Воскликнул юноша, в слезах Судью целуя:
«Ах, дядя! Как тебя за все благодарю я!
Ты о моем добре печешься неустанно,
Ах, если б Зосенька, что сердцу так желанна,
Обручена была сегодня же со мною,
Ах, если бы я мог назвать ее женою!
Но не могу теперь я обручиться с нею,
Не спрашивай меня! Открыться не посмею!
Вот если подождать она бы согласилась,
То, может быть, еще я заслужил бы милость
И, может быть, любовь делами боевыми
Мне б удалось снискать, украсив славой имя:
Кто знает, может быть, домой вернемся вскоре,
Припомните тогда об этом разговоре,
Сам перед Зосенькой я преклоню колено,
И сам ее руки я попрошу смиренно.
Надолго, может быть, уеду я из дома,
И сердце девушки достанется другому:
Не стану связывать ее помолвкой скорой
И ждать взаимности, не заслужил которой».
Едва он высказал заветнейшие мысли,
Как на ресницах две жемчужины повисли,
И ясные глаза заволокли туманом,
И по щекам сползли, по-девичьи румяным.
А Зося слушала из глубины алькова
Беседу тайную от слова и до слова;
Когда же юноша так просто и так смело
Открыл свою любовь, то Зося не стерпела;
Слезами девушка растрогалась немало,
Хотя причины их совсем не понимала:
За что он полюбил? Что ждет его в дороге?
Не знала Зосенька, была она в тревоге;
Впервые девушка услышала нежданно
Волшебные слова — любима и желанна!
Метнулась к алтарю за ладанкой святою,
Достала образок дрожащею рукою —
Глядела с образка святая Геновефа,
А в ладанке зашит клочок плаща Юзефа,
Патрона любящих; с подарками святыми
К мужчинам подошла и стала перед ними.
«Пап покидает нас? Я на дорогу пану
Подарок принесла, просить покорно стану:
Пусть эту ладанку он с шеи не снимает,
Молясь на образок, о Зосе вспоминает…
Пусть пана бог хранит счастливым и здоровым,
Чтоб свидеться опять пришлось под этим кровом!»
Умолкла и глаза потупила в печали,
А слезы щедрые ручьями побежали.
Подарки подала стыдливо и несмело
И на Тадеуша в смущенье не глядела.
Подарки принял он, поцеловав ей руку:
«Решиться должен я с тобою на разлуку,
Ты за меня молись и будь сама здорова…»
И больше он не мог произнести ни слова.
Граф с Телименою, вошедшие нежданно,
Слыхали все слова прощавшегося пана.
И Грал, растроганный, промолвил Телимене:
«Ах, сколько прелести таится в этой сцене!
То воина душа с душой пастушки юной,
Как лодка с кораблем, расстались ночью бурной!
Нет в мире ничего достойней состраданья,
Чем нежные сердца в минуту расставанья…
Но время, точно вихрь, задует лишь огарок,
Зато пожар горит под ветром, зол и ярок,
Вот и моя душа сильней к любви стремится…
Соперником тебя считал я, пан Соплица,
И оттого с тобой поссорился вчера я,
И драться бы готов, от ревности сгорая,
Но нет у нас причин сердиться друг на дружку:
Я нимфу полюбил, а ты — свою пастушку.
Пускай в крови врагов потонут оскорбленья,
Не станем драться мы друг с другом в ослепленье,
И ссору разрешим не шпагою могучей, —
Посмотрим, кто из нас любить умеет лучше!
Возлюбленных своих оставим мы недаром,
Возьмемся за мечи, двойным пылая жаром;
Сразимся верностью, любовью и тоскою
И поразим врагов бестрепетной рукою!»
На Телимену Граф уставил взор влюбленный,
Та ж не ответила, казалась удивленной.
Судья прервал его: «Торопишься к чему ты?
В имениях своих укроешься от смуты.
Поверь мне, что тебя юстиция не тронет,
Лишь бедных шляхтичей она со света сгонит,
Страшны приказные для тех, кто не богаты,
А что тебе до них? Есть у тебя дукаты!»
«Нет! Это не по мне, — ответил Граф сердито, —
Когда не сжалилась над сердцем Афродита,
То Марс поможет мне прославиться пред строем,
Не став возлюбленным, я сделаюсь героем!»
Тут пани, не стерпев, его переспросила:
«Кто ж не дает любить?» — «Неведомая сила!
Предчувствий грозный рок своим веленьем тайным
Зовет к чужим краям, к делам необычайным!
Пред Гименеем я хотел бы с Телименой
Сегодня, сей же час возжечь огонь священный,
Но юноши пример достоин подражанья,
Ведь брачному венцу он предпочел скитанья!
И сердце испытать решил в лихих невзгодах,
В нужде, изгнании и боевых походах.
Мне те же подвиги судила воля рока,
Пускай звенит мой меч, как на Бирбанте-Рокка,
Пусть этот гордый звон по Польше разнесется…»
Тут рукоятку сжал он жестом полководца.
«Ну, если к подвигам ты чувствуешь охоту,
Ступай! — промолвил ксендз. — Да сформируй-ка роту!
И пап Потоцкий
{332} наш к французам изумленным
Пришел не налегке, а с целым миллионом!
А щедрый Радзивилл! Он заложил именье
И конных два полка привел с собой, не мене!
Дукаты захвати, людей у нас немало,
А денег в Польше лет, за ними дело стало!»
Печально повела очами Телимена.
«Я вижу, что твое решенье неизменно,
Ну что же, рыцарь мой, когда ты рвешься к бою,
Возлюбленной цвета останутся с тобою!»
Тут ленты сорвала, кокардою скрепила
И приколола их к груди ему уныло.
«Пускай цвета мои ведут на подвиг смелый,
К мечам сверкающим, под копья и под стрелы.
Когда ж прославишься делами боевыми,
Бессмертной славою свое покроешь имя,
Украсишь лаврами шишак и шлем кровавый, —
Взгляни на этот бант, что ты носил со славой,
И вспомни, как с тобой прощалась Телимена!»
Припав к ее руке, он преклонил колено.
Батистовым платком она лицо прикрыла
И взгляд из-под него герою подарила.
И так, от влажных глаз платка не отнимая,
Вздыхала Графу в тон, плечами пожимая.
Судья в сердцах сказал: «Путь предстоит вам длинный!»
«Довольно!» — бернардин воскликнул с грозной миной.
И приказанья их, подобно мрачной силе,
Двоих чувствительных влюбленных разлучили.
Вот обнял дядюшку Тадеуш на прощанье
И руку Робака поцеловал в молчанье.
Монах к груди прижал Тадеуша и в муке
На голове его скрестил с молитвой руки.
Взглянув на небеса, промолвил: «Сын мой, с богом!» —
Заплакал… Юноша уже был за порогом.
«Как! — закричал Судья. — Ушел он из-под крова,
Не зная ничего? Ты не сказал ни слова?»
Монах ответил: «Нет!» — и залился слезами,
И плакал долго он, закрыв лицо руками.
«На что бедняге знать, что жив отец, коль скоро
Таиться должен он от света хуже вора!
Все ж я хотел сказать — и лишь во искупленье
Содеянного мной осилил искушенье!»
«Подумай о себе! — молил Соплица брата, —
Ты ранен тяжело, не молод, как когда-то,
Со шляхтичами ты не можешь в путь пуститься.
Ты говорил, есть дом, где можно приютиться!
Так где же он, скажи? Не то в лесу дремучем
Заботам лесника тебя, мой брат, поручим!».
Но Робак отвечал: «Есть время до рассвета,
Плебана позови, немедля сделай это!
Пусть исповедует меня порой ночною,
Вдвоем с Гервазием останься ты со мною,
А двери затвори!»
Исполнив приказанье,
Соплица молча сел; Гервазий в ожиданье
Поставил локоть свой на Ножик Перочинный
И замер, наклонясь, торжественный и чинный.
Но ксендз не начинал с друзьями разговора,
С лица Гервазия все не сводил он взора,
Как опытный хирург рукой ведет по телу
И лишь затем с ножом он приступает к делу,
Так Робак взгляд смягчил, чтоб не ударить сразу,
На Ключника глядел, не приступал к рассказу.
И, чтобы не видать удара рокового,
Прикрыл глаза рукой, когда сказал сурово:
«Соплица Яцек я!»
Гервазий выгнул спину,
Напряг все тело он, как гибкую пружину,
Подался наперед и замер на мгновенье,
Как будто бы валун, задержанный в паденье.
И, выкатив глаза, разинув рот, зубами
Грозился острыми, зашевелил усами;
Меч, выпустив из рук, в коленях задержал он,
И, стиснув рукоять, от злобы задрожал он,
А длинный меч его, как будто бы в засаде,
Чернел, концом своим покачиваясь сзади.
На рысь похожим стал Гервазий разъяренный,
Готовую к прыжку в лесной глуши зеленой,
Когда она на миг, пред самым нападеньем,
Сжимается в клубок рассчитанным движеньем.
«Гервазий, не страшусь твоей руки сегодня,
Простерта надо мной уже рука господня,
Но именем того, кто мучился распятым
И на кресте простил мучителям проклятым,
И просьбе татя внял, — молю я: терпеливо
Рассказ мой выслушай, открою все правдиво!
Знай, с совестью моей я должен примириться,
Просить прощения, хотя не все простится!
Послушай исповедь и, как захочешь, позже
Со мною поступи. Мы все во власти божьей!»
Тут руки он сложил; в ответ на эти речи
Гервазий отступил, подняв строптиво плечи.
Ксендз рассказал, как он с Горешкой подружился,
Как панну полюбил и сам ей полюбился,
Как оттого у них с Горешкой вышла ссора;
Бессвязно говорил и утомлялся скоро.
И жалобами речь больного прерывалась.
И вновь он говорил, преодолев усталость.
Горешковы дела знал наизусть Гервазий,
И разбирался он в запутанном рассказе,
Хоть исповедь ксендза была подчас без лада;
Не мог понять Судья всего, как было надо,
Но оба слушали, склонившись у постели,
А Яцек говорил все тише — еле-еле —
И часто замолкал.
* * *
«Он зазывал меня, встречал меня с любовью,
Слыхал ты сам не раз, как пил мое здоровье;
Бывало, на пирах он начинал хвалиться,
Что лучший друг его, конечно, пан Соплица!
Он обнимал меня! Все думали в повете,
Что были искренни высказыванья эти,
Что он дружил со мной? Нет! Знал отлично Стольник,
Что в сердце я таил…
А между тем уже шепталась вся округа,
И говорил кой-кто: «Знай, мы тебя, как друга,
Должны предостеречь: сановника пороги
Высокие, о них сломает Яцек ноги».
Я отвечал смеясь, что близостью магнатов
И дочек их не льщусь, не чту аристократов,
Что лишь по дружбе мне бывать у них приятно,
Что свататься и сам не стал бы к панне знатной.
Но задевали все ж те шутки за живое!
Я молод был, вся жизнь лежала предо мною
В краю, где могут быть увенчаны короной
И самый знатный пан, и шляхтич урожденный:
Ведь руку дочери Тенчинскому
{333} когда-то
Хотел отдать король, не предпочел магната.
Соплицы же равны с Тенчинскими, конечно,
По крови, по гербу, по службе безупречной!
* * *
Чужую жизнь разбить не трудно человеку,
Зато исправить зло порой не хватит веку!
Скажи словечко он, и мы б узнали счастье,
Быть может, до сих пор все жили бы в согласье,
Быть может, при своем возлюбленном дитяти,
При Эве милой он, при благодарном зяте
Спокойно старился, к нему б ласкались внуки!
А вышло что? Обрек обоих нас на муки,
И гибель сам нашел, и ужасы последствий…
И мой кровавый грех, и годы долгих бедствий…
Но я не жалуюсь… Себя не защищаю,
Нет… Я не жалуюсь… От всей души прощаю, —
Ведь я убил его…
* * *
Когда б он не тянул, не мучил бы, а разом
Пресек любовь мою решительным отказом,
Кто знает, может быть, все вышло бы иначе
И я, погоревав, забыл о незадаче,
Но он хитрил со мной, мол, не имел понятья,
Что в голову себе такое мог забрать я,
Мол, представлял себе совсем другого зятя!
Я нужен был ему: имел я положенье
Средь шляхты и снискал магнатов уваженье.
Он, Словно чувств моих совсем не замечая,
Все зазывал меня, по-дружески встречая.
Когда ж, бывало, с ним мы за столом сидели
И слезы горькие в глазах моих блестели,
И видел он, что я ему откроюсь скоро…
Хитрец! Переводил теченье разговора
На тяжбы, сеймики, охоты в недрах бора.
* * *
Растрогается он, бывало, за бутылкой
И станет обнимать, клянется в дружбе пылкой
(Особенно когда нужна ему услуга),
Я должен был в ответ обнять его, как друга, —
Такая злость брала! Проглатывал слюну я,
И крепко стискивал я рукоять стальную,
И саблю обнажить стремился, полон гнева.
Но непонятно, как угадывала Эва,
Что делалось со мной! Лицо ее бледнело,
С мольбою робкою в глаза мои глядела…
Она голубкою была такою милой,
И взгляд лучистый был такой исполнен силой
Небесно-ангельской, что я, забыв о боли,
Чтоб не пугать ее, смирялся поневоле.
И я, буян, в Литве прославленный когда-то,
И я, сбивавший спесь не с одного магната,
Рубака доблестный и видывавший виды,
Который бы не снес от короля обиды,
Который не прощал ни слова, ни насмешки,
Покорно умолкал пред дочерью Горешки,
Как будто бы Sanctissimum увидел…
* * *
А сколько раз хотел я перед ним открыться,
С горячею мольбой смиренно обратиться!
Но Стольник всякий раз в холодном изумленье
Глядел в глаза мои, я подавлял волненье
И разговор менял, не медля ни минутки,
О тяжбах рассуждал, переходил на шутки,
Из ложной гордости боясь Соплицы имя
Унизить хоть на миг поступками своими.
Смириться я не мог и не привык к отказу,
Какие слухи бы пошли в округе сразу,
Когда узнали бы, что Яцек я…
Соплица…
Похлебкой черною был встречен у магната…
А я держался с ним всегда запанибрата.
Что было делать мне? И сам не знал я даже.
Решил шляхетский полк сформировать тогда же,
Покинуть отчий дом, с отчизной распрощаться
И на татар пойти, не то с царем сражаться.
Поехал к Стольнику, мечтал я в эту пору,
Что как увидит он сторонника, опору,
Почти что родича, с которым крепко связан,
И вместе пировал и воевал не раз он,
И едет старый друг на край далекий света…
Быть может, Стольника растрогает хоть это?
Покажет сердце мне он, жалостью согретый,
Как робкая улитка рожки…
Ах, кто приятеля любил хотя б немного,
То искорка любви пред дальнею дорогой,
Наверно, вспышкою украсила прощанье,
Как жизни яркий луч в минуту угасанья…
Прощаясь с земляком на вечную разлуку,
И черствый человек испытывает муку.
* * *
Бедняжка! Услыхав, что я уеду вскоре,
Упала замертво — ее скосило горе!
Слезами залилась, и понял я нежданно,
Как сильно в свой черед меня любила панна.
* * *
Впервые плакал я в ответ на слезы эти,
От счастья, помнится, все позабыл на свете,
В слезах хотел обвить я Стольниковы ноги.
«Убей, — молить его в смятенье и в тревоге, —
Иль сыном назови!» Но в час последней встречи
Он обдал холодом, повел другие речи:
О свадьбе дочери, да, он просватал панну!
Гервазий, понял ты, я пояснять не стану,
Ты добрый человек!
Сказал: «Совета пана
Прошу, приехал сват от сына каштеляна,
Ведь ты приятель мой, как мне принять магната?
Сам знаешь, дочь моя красавица, богата,
А каштелян-отец из Витебска, в сенате
Хоть не из первых, но… Совет твой будет кстати!»
Что я сказал ему, не помню… Вероятно,
Невзвидел света я и ускакал обратно.
* * *
Гервазий закричал: «То это, то иное
Выдумываешь ты, но сам всему виною!
Бывало так не раз, ты это знаешь тоже:
Кто замуж взять хотел дочь знатного вельможи,
Тот увозил ее, а если мстил — так смело!
Но в сговор с москалем вступить — плохое дело!
Магната польского убить… И где же… В Польше!»
«Я не был в сговоре! — не сдерживаясь дольше,
Воскликнул бернардин. — Из-за замков, решеток
Я выкрал бы ее! Ведь целый околоток
Добжинских был со мной и прочие застянки.
Ах! Если бы она была, как все шляхтянки,
Вынослива! Могла при лязге сабель, звоне
Со мною ускакать, не думать о погоне!
Но бедная! Она, взлелеянная с детства,
Пугливая была, — как ей пускаться в бегство!
Весенний мотылек! Рукой вооруженной
Схватить ее не мог: упала бы сраженной.
И я не мог… Не мог…
Открыто отомстить, разрушить замок сразу?
Нельзя, — узнали бы, что не стерпел отказу!
Душа твоя чиста, Гервазий, ты доныне
Не знаешь горьких мук отравленной гордыни!
Гордыня привела меня к иному плану:
Не выдавать себя, готовить мщенье пану,
Убить свою любовь, не поддаваться гневу,
Жениться на другой, предать забвенью Эву.
Потом, потом найти, к чему придраться,
И отомстить…
И показалось мне, что я достиг покоя.
Обрадовался я и в брак вступил с другою:
Соединился я с убогою девицей;
Я плохо поступил — наказан был сторицей!
Я не берег ее и не жалел нимало,
А мать Тадеуша любила и страдала!
Но Эву я любил, и злость меня душила,
Ходил я как в чаду, все было мне немило,
Не мог я проявить к хозяйству интереса,
Напрасно было все! По наущенью беса
Сердился я на всех, ни в чем не знал утехи
И от греха к греху катился без помехи…
И запил наконец.
Недолго прожила жена моя на свете
И мне оставила дитя и муки эти.
* * *
Зато как сильно я всегда любил другую!
Хоть много лет прошло, забыть все не могу я!
Когда, измученный, глаза я закрываю,
Встает передо мной бедняжка, как живая. …
Я пил, но памяти не мог залить вином я,
Не забывал ее, хоть был в краю ином я.
Теперь в сутане я, слуга покорный божий,
Израненный, в крови… О ней тоскую все же!
Об Эве! В смертный час!.. Но я хочу, чтоб знали,
В каких мучениях неслыханной печали
Злодейство совершил.
Отпраздновал тогда Горешко обрученье,
Повсюду толки шли об этом обрученье,
Лишь только ей кольцо надел сын каштеляна, —
Упала в обморок и заболела панна,
И чахла с той поры от горя и печали.
Шептались — влюблена… Но кто любим, не знали…
А Стольник весел был и пировал с друзьями,
Он задавал балы, и дни сменялись днями,
Шла за пирушкою разгульная пирушка,
На что был нужен я — ничтожество, пьянчужка?
Обрек меня порок на посмеянье света,
Меня, который был грозой всего повета,
Меня, которого звал Радзивилл
{334} «коханку»,
Который проезжал, бывало, по застянку
Со свитой пышною, под стать и Радзивиллу,
А саблю вынимал — пять тысяч их светило
Вокруг моей одной, внушая страх магнатам, —
И стать пьянчужкою, посмешищем ребятам!
Таким ничтожеством стал грозный пан Соплица,
А я ведь гордым был и вправе был гордиться…»
Тут Яцек, ослабев, опять упал на ложе,
А Ключник произнес: «Правдив твой суд, о боже!
Ты ль это Яцек тот? Соплица — и в сутане,
Проводишь жизнь свою в лишеньях и в скитанье!
А шляхтич был какой! Здоровый и румяный!
Я помню, пред тобой заискивали паны!
Усач! Гонялись все шляхтянки за тобою!
Ты с горя поседел, наказанный судьбою.
И как по выстрелу не смог позавчера я
Узнать первейшего стрелка родного края?
А как рубился ты! Я утверждать посмею,
Что ты не уступал на саблях и Матвею!
Певали про тебя влюбленные шляхтянки:
«Закрутит Яцек ус, и задрожат застянки,
Завяжет узелок на усе пан Соплица —
Хоть Радзивиллом будь, всяк перед ним смирится!»
Такой же узелок ты завязал и пану,
Но как ты сам надел смиренную сутану?
Усач Соплица — ксендз! Суд справедливый, боже!
Ты не уйдешь теперь от наказанья тоже.
Я клялся: кто прольет Горешков кровь, того я…»
Но Робак продолжал: «Нет, я не знал покоя…
Все дьяволы меня у замка искушали,
А сколько было их! Не слушал я вначале!
Но Стольник в мыслях был, ему желал я смерти.
«он дочку загубил, — нашептывали черти. —
Взгляни, пирует он, и замок полон света,
И музыка гремит, а ты потерпишь это?
И не покончишь с ним теперь же, здесь, на месте.
Черт подает ружье тому, кто жаждет мести!»
О мщенье думал я… Тут москали явились…
Глядел я, как тогда вы с недругами бились.
* * *
Неправда, не вступал я в сговор с москалями…
О смерти думал я и вдруг увидел пламя,
Глядел я на пожар сперва с восторгом детским,
Почувствовал себя потом злодеем дерзким,
Который ждет, чтоб все скорей в огне сгорело;
Хотел спасти ее. Бежать на помощь смело
И Стольника спасти…
* * *
Ты знаешь, как тогда вы доблестно сражались,
Валились москали, на приступ не решались…
Хотели отступать, палили без разбора.
Тут злость меня взяла: так победит он скоро!
Во всем везет ему, все с рук удачно сходит,
Он вместо гибели триумф себе находит!
Редели москали. Был ясный час рассвета.
Он вышел на балкон, и я увидел это!
Вот бриллиант его на солнце загорелся,
Он гордо ус крутил и гордо огляделся;
И показалось мне — узнал меня Горешко
И пальцем погрозил с презрительной усмешкой.
Я вырвал карабин у москаля и сразу,
Не целясь, выстрелил… Поверишь ты рассказу?
Все знаешь сам!
Проклятый карабин! Коль обнажаешь шпагу,
Ты можешь нападать и отступать по шагу,
Оружие отнять, не поразить сурово.
А карабин… На спуск нажал ты — и готово!
Мгновенье, искорка…
* * *
Гервазий! Отчего не целился ты лучше?
Я на ружье глядел, ждал смерти неминучей…
На месте замер я, стоял — не шелохнулся…
Так отчего же ты, Гервазий, промахнулся?
Добро бы сделал мне… Видать, так надо было…»
Рубака, стиснув меч, сказал ему уныло:
«Клянусь! Убить хотел я собственной рукою,
За выстрелом твоим кровь пролилась рекою,
Все беды начали на головы валиться,
А все по чьей вине? Да по твоей, Соплица!
Но в битве нынешней, — как вспомню, холодею…
Горешков родича убили бы злодеи, —
Ты защитил его и спас меня от смерти,
Свалил меня, когда стреляли эти черти…
Ты — нищий бернардин, и в сердце больше зла нет,
Защитой от меня тебе сутана станет.
Вовек не подойду я к твоему порогу,
С тобою квиты мы, а суд оставим богу!»
Ксендз руку протянул, но отступил Рубака:
«Твоей руки принять я не могу, однако;
Ты запятнал ее, убив не во спасенье,
«Pro Ьопо publico», а в гневе, ради мщеиья!»
Тут Яцек снова лег и на Судью с постели
Встревоженно глядел, глаза его горели,
И с беспокойством он просил позвать плебана
И Ключника молил: «Я заклинаю пана Остаться!
Может, мне позволит власть господня
Закончить исповедь, ведь я умру сегодня…»
«Как, брат, — сказал Судья, — ведь не смертельна рана,
Я осмотрел ее, зачем же звать плебана?
За лекарем пошлем, коль сбилась перевязка…»
Но ксендз прервал его: «Близка уже развязка!
Открылась рана та, что получил под Йеной,
И никаким врачам не справиться с гангреной!
Я в ранах знаю толк, взгляни, как почернела!
Бессилен лекарь тут. За смертью стало дело!
От смерти не уйти. Останься же, Гервазий,
Немного досказать осталось мне в рассказе.
* * *
Я счастлив, что не стал предателем отчизны
И столько вытерпел народной укоризны,
Хотя я грешен был, не превозмог гордыни.
«Предатель!» — кличка та мне слышится доныне.
При встрече земляки в глаза мне не глядели,
Приятели со мной встречаться не хотели,
Кто потрусливей был, тот уходил скорее;
Здоровались со мной лишь хлопы да евреи,
И те глядели вслед с ехидным громким смехом:
«Предатель!» — сотни раз раскатывалось эхом.
И в поле и в дому — повсюду это слово
Мелькало, будто бы круги в глазах больного.
А я… Я никогда не предавал отчизны.
Сторонники царя меня своим считали,
Богатства Стольника они Соплицам дали.
Таршвичане чин присвоить мне хотели,
Но совести моей они не одолели.
Бес искушал меня: я мог бы стать магнатом,
Вельможным паном стать, и знатным и богатым,
Вся шляхта гнулась бы перед своим собратом!
А чернь прощает все счастливому, Гервазий,
Коль взыскан милостью, коль у него есть связи.
Я это знал, и все ж… не мог!
* * *
Покинул край родной…
Где ни был, как страдал я!
* * *
Всевышний указал единый путь к спасенью:
Раскаяться, отдать всего себя служенью
Отчизне… Господу…
* * *
А дочка Стольника не справилась с бедою…
В Сибири умерла, скончалась молодою;
Оставила у нас в краю малютку Зосю.
Просил растить ее…
* * *
На злодеяние пошел я из гордыни,
Но не узнать теперь в смиренном бернардине
Былого гордеца. Вовек я не был робок,
Но голову согнул и принял имя: Робак —
Хотел я искупить содеянное мною,
Загладить тяжкий грех смирения ценою,
И подвигом, и собственною кровью…
Отчизну защищал, не ради бранной славы
Ходил под пулями, бросался в бой кровавый…
Милее ратных дел мне подвиги смиренья.
Те подвиги добра, страданья и терпенья,
Которых никогда…
На родине не раз бывал переодетым,
Приказы тайные переносил при этом,
Порой в Галиции я оставался дольше,
Мой капюшон мелькал по всей Великополыне.
На прусской каторге я к тачке был прикован,
Плетями москалей насквозь исполосован,
В Сибири бедствовал и спасся еле-еле…
Нещадно голодал в Шпильбергской цитадели
{336}.
Избавила меня от мук рука господня
И умереть дает в кругу своих сегодня.
И причаститься тайн…
Свосстанием теперь я согрешил, пожалуй,
Кто знает, может быть, содеял грех немалый,
Мечта, что первым стяг поднимет Соплицово,
Что будет первое к восстанию готово,
Как будто бы чиста…
Ты отомстить хотел и стал орудьем мщенья,
Господь мечом твоим рассек без сожаленья
Все замыслы мои, а годы улетели!
Я посвятил всю жизнь одной великой цели
И полон был всегда надеждою одною,
Ее лелеял я, как детище родное,
А ты убил ее. И я прощаю все же!
А ты?..»
Гервазий отвечал: «Прости обоих, боже!
Ты ждешь причастия, и ты смертельно ранен,
Но не схизматик я, и я не лютеранин!
Я знаю, что грешно мне упиваться местью,
И сам хочу тебя утешить доброй вестью:
Когда покойный пан упал, тобой сраженный,
Я отомстить клялся коленопреклоненный,
И Нож смочил в крови, лились ее потоки…
Пан головой кивнул, крест начертал широкий
В знак, что простил тебя, — сказать уж был не в силах.
Простил тебя… Но кровь в моих кипела жилах,
Решил не говорить об этом я до срока,
Пока не отомщу сурово и жестоко».
Впал Яцек в забытье, не выдержав страданья,
И в комнате настал час долгого молчанья,
Плебана ждали все. Зацокали копыта,
И кто-то постучал, вмиг дверь была открыта.
Вошел еврей с письмом, в нем Яцку порученья,
А Яцек брату дал бумагу для прочтенья,
Письмо от Фишера
{337}, что был назначен шефом
При штабе польских войск, возглавленных Юзефом.
Соплица вслух прочел, что кесарским советом
Объявлена война, молва гремит об этом,
Что созван общий сейм, как водится в Варшаве,
Что постановлено к их обоюдной славе
Соединить Литву с возлюбленной Короной.
Страдалец отходил с душою примиренной,
Громницу крепко сжал, заколебалось пламя,
Творил молитву он с поднятыми глазами,
И светлой радостью сменилась горечь муки;
«О боже, предаю свой дух тебе я в руки!»
Звон колокольчика раздался за дверями,
И в комнату вошел старик плебан с дарами.
А ночь прошла уже, и первый луч рассвета
Прорезал небеса опалового цвета,
Брильянтовой стрелой проник он сквозь окошко,
К постели побежал светящейся дорожкой,
Струящей тихий блеск сиянья золотого,
Как золотистый нимб на образе святого.

«Пан Тадеуш», «Битва»
Книга одиннадцатая
Год 1812
Весенние предзнаменования. — Вступление войск. — Богослужение. — Официальная реабилитация блаженной памяти Яцека Соплицы. — Из разговора Гервазия и Протазия можно предвидеть скорое окончание процесса. — Объяснения улана с девушкой. — Разрешается спор о Куцем и Соколе. — После этого гости собираются на пиру. — Представление обрученных пар вождям.
О незабвенный год, ты памятен для края!
Ты для народа был порою урожая,
Войной — для воинов, для песни — вдохновеньем,
И старцы о тебе толкуют с умиленьем.
Ты был предшествуем народною молвою
И возвещен Литве кометой роковою,
Литовские сердца, как пред концом вселенной,
Забились по весне надеждой сокровенной
В глухом предчувствии и радости и боли.
Когда впервые скот весной погнали в поле,
Голодный и худой, то люди примечали:
Стада не шли на луг, а жалобно мычали,
Ложились, головы к земле склонив уныло,
И зелень свежая их вовсе не манила.
Устало пахари в поля тащили плуги,
И песни звонкие не слышались в округе;
Не радуясь весне, не думая про жниво,
Волов и лошадей вели они лениво.
Не отводили глаз от Запада, — оттуда,
Казалось им, вот-вот должно явиться чудо.
Крестьяне, лошадей остановив без цели,
На перелетных птиц встревоженно глядели.
Вернулся аист вновь к родной сосновой сени
И крылья развернул, как белый флаг весенний;
Полками ласточки надвинулись шумливо,
Кружились над землей, и в клювах хлопотливо
Таскали грязь они для гнездышек проворно,
Тянули кулики вдоль заросли озерной,
И гуси дикие носились над землею
И с шумом падали, настигнутые мглою.
А в небе журавлей курлычет вереница,
И ночью сторожам от криков их не снится:
Так рано почему вернулась птичья стая?..
Пригнала буря птиц, наверно, не простая!
И снова косяки прорезали туманы,
Скворцы и чибисы, знамена и султаны
Белеют по холмам, проносятся по чащам, —
То кавалерия с оружием звенящим!
Меж них, как талый снег, плывущий с гор весною,
Шеренги хлынули, покрытые бронею.
В темнеющих лесах блестят штыки стальные,
Пехота движется, как муравьи лесные.
На Север! Кажется, за птицами вдогонку
И люди бросились в родимую сторонку,
Гонимые сюда таинственною волей.
Пехота, конница и днем и ночью в поле,
Багровы небеса от зарева пожаров,
Дрожмя дрожит земля от громовых ударов!
Война! Война! В Литве нет ни угла, ни чащи,
Куда бы не проник язык ее гремящий.
Лесные жители, чьи предки-старожилы
Не покидали чащ с рожденья до могилы,
Кто в небе слышал гром да вихрь неугомонный,
А на земле — зверей рычание и стоны,
А из людей — одних лесничих, — увидали,
Как зарево встает, окрашивая дали,
И услыхали свист летящего снаряда,
Что заблудился вдруг, попал куда не надо
И все крушит в пути. Страшило бородатый —
Зубр ощетинился, сминая мох косматый,
Тревожно поднялся близ векового клена,
И бородой трясет, и смотрит изумленно
На языки огня, — на черном пепелище
Граната кружится, как бешеная, свищет
И лопается вдруг. Испуганный впервые,
Зубр в ужасе бежит в чащобы вековые.
Война! И юноши тотчас же рвутся в битвы,
А женщины творят с надеждою молитвы,
И повторяют все с восторгом умиленным:
«С Наполеоном бог, и мы с Наполеоном!»
Весна! Навеки ты останешься для края
Весною воинов, весною урожая.
Весна! Я не забыл, как ты цвела, богата
Хлебами, травами, надеждами солдата!
Полна предчувствия грядущих испытаний,
Я не забыл тебя, весна моих мечтаний.
Рожден в неволе я, с младенчества тоскую,
И в жизни только раз я знал весну такую!
У войска на пути лежало Соплицово,
Вожди вели солдат дорогою суровой.
Король Вестфалии
{338} и Юзеф благородный
Прошли уже Литву от Слонима до Гродна.
Теперь они войскам трехдневный отдых дали,
Но польским воинам, хотя они устали,
Обидным все-таки казалось промедленье,
Хотелось перейти на марше в наступленье.
Штаб князя в городе нашел себе квартиры,
А в Соплицово шел обоз и командиры,
Явился за полночь сам генерал Домбровский,
Князевич и Гедройц, Грабовский, Малаховский.
Устали до смерти, едва дойти успели,
Как на ночлег пошли и улеглись в постели.
Приказы отданы, расставлены патрули,
И славные вожди спокойным сном уснули.
Затихло все кругом; как тени неживые,
Бродили по двору одни лишь часовые,
Бивачные костры кой-где светились в поле,
Да слышались в ответ на оклики пароли.
Хозяин и вожди — все спят во мраке ночи,
И только Войскому сон не смыкает очи;
Обдумывает он приготовленье пира,
Прославить хочет им Соплиц на зависть мира.
Пир этот должен быть достоин приглашенных
И соответствовать триумфу нареченных.
Ведь завтра день святой и в доме и в костеле,
Двойное торжество отпраздновать легко ли?
Домбровский с вечера упомянул пред Войским,
Что предпочтение дает он блюдам польским!
Соседних поваров созвали ради спеха —
Их было пятеро: придворный шеф — Гречеха.
И он, как повара, ходил в халате белом
И руки обнажил, чтоб заниматься делом,
Держал хлопушку он своей рукою правой
И ею мух гонял, жужжащих над приправой,
Рукою левою очки на нос надвинул,
А из-за пазухи тотчас же книгу вынул.
«Отличным поваром» звалась она недаром,
Перечислялись в ней с красноречивым жаром
Все блюда польские. Отсюда брал советы
И Оссолинский
{339}-граф, что задавал банкеты
На удивление святейшему Урбану.
Пришлось читать ее и Радзивиллу-пану,
Когда он принимал в Несвиже
{340} Станислава.
Банкетов княжеских живет доныне слава
Повсюду на Литве, в повете и в округе.
Что Войский ни прочтет, то выполняют слуги:
Кипит у поваров искусная работа,
За пятьдесят ножей взялись они в два счета;
Как почерневшие от сажи чертенята,
С вином и молоком шныряют поварята
И выливают их в кипящие кастрюли;
А двое поварят в печи огонь раздули.
Гречеха приказал, чтоб пламя не погасло,
Лить прямо на него растопленное масло
(Избыток позволял роскошество такое).
А повара меж тем готовили жаркое:
Оленей, кабанов на вертела сажали,
Еще и специи для соуса мешали.
В углу щипали птиц, и пух летал повсюду,
Тетерок, глухарей наваливали груду,
Но не хватало кур; передушил их Пробка,
Пока на птичнике хозяйничал не робко!
Вконец перевелась куриная порода,
Хотя б одну из них оставил для развода!
Зияла пустота в курятнике Соплицы,
И до сих пор еще не расплодились птицы.
Но выбор туш мясных и короля достоин,
Нашлись они в дому, привезены из боен;
Из ближних, дальних мест свозились туши эти, —
Одной амброзии не будет на банкете!
Искусство дивное и полное довольство
Соединились здесь во славу хлебосольства!
Настало празднество заступницы пречистой,
Погода ясная, а воздух золотистый,
И небо светлое, сквозя голубизною,
Как море тихое, повисло над землею;
Созвездий жемчуга поблескивали в море,
Скользило облако, белея на просторе,
И погружалось вглубь спокойно, без усилья,
Как будто ангел плыл, купая в небе крылья;
Молитвами его до зорьки задержали,
И вот он улетал в светлеющие дали.
В бездонной глубине созвездья потускнели,
Уже лицо небес светилось еле-еле;
Хоть правая щека еще в тени лежала,
Но левая уже отсвечивала ало,
И, словно веко, вдруг раздвинулся широко
Небесный полукруг и показалось око.
В нем, как зрачок в глазу, зажегся луч, играя,
И небо прочертил от края и до края,
Сверкающей стрелой туманность рассекая.
Вмиг, по сигналу дня, зажглись потоки света,
И тысячи лучей взметнулись, как ракета,
А солнце выплыло лениво, утомленно,
Как будто нехотя взирая с небосклона.
Семью цветами вдруг оно блеснуло сразу,
Как яхонт алое, а то под стать топазу,
И засияло все хрустальными огнями,
Потом алмазами и, наконец, как пламя.
Мигая, как звезда, луне огромной впору,
Шло одинокое светило по простору..
Перед часовнею, задолго до восхода,
Сошлась со всех сторон тьма-тьмущая народа,
Как будто собрались на поклоненье чуду
Благочестивые крестьяне отовсюду.
И любопытство их к тому же разбирало:
Хотелось увидать в часовне генералов —
Прославленных вождей народных легионов,
Которых знали все и чтили, как патронов,
Чьи подвиги, бои, скитанья на чужбине
Служили на Литве Евангелием ныне.
И офицеры здесь, и польские солдаты!
Любуется народ, волнением объятый,
Одеты земляки в военные мундиры,
По-польски говорят солдаты, командиры!
Вот месса началась, но не вместит каплица
Всех, кто пришел сюда сегодня помолиться.
Сняв шапки, на траве остались прихожане —
Белоголовые и русые крестьяне,
Все дружно крестятся, все стали на колени
И в двери заглянуть стремятся в умиленье,
Головки девичьи красуются меж ними,
С цветными лентами, с цветами полевыми,
Сказал бы, что среди желтеющей пшеницы
Синеют васильки, светлеют медуницы…
Точь-в-точь колосья нив — под ветром своевольным
Склонились головы при звоне колокольном.
Крестьянки на алтарь заступницы пречистой
Несут дары весны — снопы травы душистой.
От утренней росы цветы еще сырые
Обвили звонницу и статую Марии,
Но ветром утренним венки разворошило,
Весенние цветы, рассыпав, закружило, —
Разнесся аромат, как сладкий дым кадила.
Вот месса отошла. За проповедью вскоре
На паперти собрал пришедших Подкоморий, —
Маршалком выбрали его конфедераты,
Едва лишь собрались сословий депутаты.
На нем цветной жупан, кунтуш горит атласом
И слуцким поясом маршалок подпоясан,
На поясе — палаш, в каменьях рукоятка,
На шее — бриллиант, бела конфедератка,
Спускается с нее плюмаж того же цвета, —
По праздникам его носила знать повета.
За каждое перо на дорогом плюмаже
Дукатом плачено, а то и больше даже!
Залюбовались все маршалком именитым.
На паперть вышел он и громко говорит им:
«Собратья, вам плебан провозгласил с амвона,
Что вольною теперь считается Корона,
И с Польшею навек Литва соединилась,
И созван общий сейм, как в старину водилось.
Уже дошла до вас объявленная милость.
Л я вам передам еще одно известье —
Касается оно восстановленья чести
Помещиков Соплиц.
Вы знаете, литвины,
Проступки Яцека, его былые вины;
Но если грех его известен всей округе,
То пусть узнают все покойного заслуги.
От генералов я узнал о них, и с вами
Тотчас же поделюсь приятными вестями.
Не умер Яцек тот, как говорилось, в Риме,
А только изменил свое былое имя.
Великой святостью и подвигом терпенья
Он искупил сполна былые прегрешенья:
У Гогенлиндена под вражеским напором
Навеки бы Ришпанс
{341} покрыл себя позором
(Не зная, что близки Князевича отряды),
Но Яцек, Робак тож, под грохот канонады,
Ришпансу передал, что близятся поляки, —
И тотчас перешли войска его к атаке.
Ходил с уланами он брать Самосиерру
{342}И дважды ранен был; скажу еще, к примеру,
Что с Козетульским там сражался он бок о бок,
Приказы тайные передавал им Робак,
Испытывал людей, налаживая связи, —
Всех подвигов его не перечтешь в рассказе!
И здесь готовил он восстание, панове,
Но после битвы сам скончался в Соплицове.
Когда об этом весть до Польши докатилась,
Уже от кесаря скитальцу вышла милость.
Покойник награжден рукой Наполеона
Отличием — крестом Почетным легиона.
Все эти сведенья примите во вниманье,
Ведь как маршалок я веду теперь собранье
(Впервые новый чин я предаю огласке),
За службу Яцека и по монаршей ласке
Пятно бесчестия с него навеки смыто,
И патриотом я зову его открыто.
А если кто из вас, хотя бы ненароком,
Теперь обмолвится о Яцеке с упреком,
Тот будет отвечать по строгости статута
За опороченье, и с ним поступят круто.
Ответит за вину и шляхтич именитый,
И мещанин простой, ничем не знаменитый,
Еврей и хлебороб, живущие в повете:
Об этом равенстве гласит артикул третий.
Пан писарь войсковой в акт занесет решенье,
А Возный сделает позднее оглашенье.
Хоть орден опоздал, герой ушел со света,
Но славы Яцека не умаляет это.
Пускай не увенчал достойного при жизни,
Но памяти его послужит он в отчизне,
Кладу его на гроб, потом снесу ex voto
Пречистой от ее слуги и патриота».
В глубокой тишине, торжественный, суровый,
Повесил орден он на скромный крест дубовый.
Бант, пышно связанный из ленточки червонной,
И звездный крест на нем под рыцарской короной, —
Блеснул на солнце он лучистою оправой,
Как отблеск дел земных, покрытых вечной славой.
В молчанье все тогда колени преклонили
И за усопшего молились на могиле.
Тут слово доброе нашел для всех Соплица,
Всех отобедать звал, потом повеселиться.,
Сидели старики на лавочке у входа,
Поставив рядышком два полных жбана меда,
Смотрели в сад они. Средь маков, майорана —
Ну впрямь подсолнечник! — блестел шишак улана.
Он золотой, перо за ремешок заткнуто,
А рядом девушка в зеленом, словно рута;
Она не высока, глаза как первоцветы.
Подруги по саду гуляют, разодеты,
И, чтобы не мешать той парочке влюбленной,
Подальше рвут цветы в густой траве зеленой.
Потягивают мед друзья, забыв раздоры,
И, нюхая табак, заводят разговоры.
«Да, да, Гервазенька», — заговорил Протазий,
«Да, да, Протазенька», — ответствовал Гервазий,
«Да, да!» — промолвили они согласно снова,
Кивая в такт речам, а Возный молвил слово:
«Что ж, кончился процесс, я не скажу худого!
Бывает всякое, запомнил я процессы,
В которых видывал и худшие эксцессы,
Но брачный договор кончал и рознь и ропот.
С Борзобогатыми так помирился Лопот,
Крепштулы с Куптями, Путраменты с Пиктурной,
Мацкевич с Одынцом, Квилецкий с паном Турно.
Что говорить! Литвы с Короною раздоры
Горешков и Соплиц превосходили ссоры.
А лишь за ум взялась Ядвига-королева —
Интрига кончилась без крови и без гнева.
Когда есть у сторон девицы или вдовы,
На примирение пойти мы все готовы.
Но тяжбы с церковью не разрешить умело,
И с кровными вражда продлится без предела,
Затем что свадьбою нельзя закончить дело!
Спор Руси с ляхами сильней был год от года,
Хотя произошли от братьев
{343} оба рода;
И с крыжаками нам тягаться надоело,
Пока не одолел в конце концов Ягелло.
С доминиканцами у Рымши бесконечно
Тянулся длинный спор, и длился бы он вечно,
Когда б не выиграть доминиканцу Дымше.
С тех пор и говорят: «Бог выше пана Рымши!»
«Мед лучше Ножичка!» — добавлю я для связи».
Тут кружку осушил за Ключника Протазий.
«Все правда! — отвечал ему старик польщенный. —
Дивит меня судьба возлюбленной Короны
И дорогой Литвы! Господь соединил их,
Да замешался черт, супругов ссорит милых!
Что ж, брат Протазенька, видать, и в самом деле
К нам из Короны вновь поляки прилетели.
Служили вместе мы в одних полках когда-то.
В поляке я ценю бойца-конфедерата!
Когда б их видеть мог покойный Стольник только!
Эх, Яцек! Яцек!.. Но… Что слезы лить без толка!
И если снова мы соединились с Польшей,
То позабыто все, грустить не надо больше!»
Протазий подхватил: «Ну, разве же не странно,
Что нашей Зосеньке, теперь невесте пана,
Вещало знаменье брак этот непреложно!»
Но Ключник оборвал: «Звать панной
Софьей должно! Не девочка она и рода не простого,
А внучка Стольника, тебе напомню снова!»
Протазий продолжал: «На этом самом месте
Явилось знаменье сегодняшней невесте!
Сидела челядь здесь и пиво попивала.
Вдруг видим: падают к нам с крыши сеновала
Два воробья лихих, не прекращая драки,
И шейка серая у одного вояки,
Другой чуть почерней; свернули оба крылья
И катятся клубком, осыпанные пылью.
Вмиг челядь прозвище дала двум кавалерам:
Горешки — черному, Соплицы — с зобом серым.
И если серая наскакивала птица,
Кричим: «Горешкам стыд! Да здравствует Соплица!»
А если черная — кричали, не помешкав:
«Соплица, не робей! Одолевай Горешков!»
Со смехом ждали мы, кто победит в сраженье,
Вдруг видим, Зосенька упала на колени,
Пернатых рыцарей рукой накрыла смело;
Но пара и в руке смириться не хотела,
Летели перышки — дрались они так лихо.
На Зоею глядючи, шептались бабы тихо,
Что, видно, неспроста, — избрал господь девицу
Навеки примирить Горешков и Соплицу.
Примета как-никак теперь осуществилась,
Хотя мы думали о Графе, ваша милость!»
Гервазий отвечал: «Немало есть на свете
Диковин, но кому постигнуть тайны эти?
Добавить кое-что и я могу к рассказу:
Хоть и не дивно так, а не поверишь сразу!
Я не терпел Соплиц, смеялся их обидам,
Перетопил бы всех, но по секрету выдам,
Что я Тадеуша всегда любил за удаль.
Как он колачивал товарищей — забуду ль!
Все в замок бегал он, и с каждым новым разом
Я подстрекал его и не к таким проказам.
Отважно приступал малыш к любому делу,
С вершины дуба он шутя срывал омелу,
Вороньи гнезда он сбивал с сосны шумливой.
Все удавалось, все! Я думал — под счастливой
Звездой он родился, и жалко, что Соплица!
Кто мог бы угадать тогда, что так случится
И с панной Софьей в брак Тадеуш вступит скоро!»
Тут кружки поднялись на смену разговора,
И слышались порой глухие восклицанья:
«Да, да, Гервазенька!» — «Да, да, Протазий, пане!»
Под кухонным окном приятели сидели,
Оттуда дым валил, да так, что еле-еле
Виднелось, как парил голубкою над дымом
Белеющий колпак на поваре незримом.
Гречеха стариков увидел из окошка,
Послушал разговор и, наклонясь немножко,
Обоим протянул на блюдечке печенье:
«Вот закусите мед, а я для развлеченья
Напомню вам одно старинное событье,
Могло бы перейти оно в кровопролитье!
Когда охотились, то, улучив минутку,
Рейтан с Денасовым сыграл плохую шутку,
И поплатился бы он жизнью за проказу,
Однако примирил соперников я сразу».
Но повар помешал рассказчику вопросом:
«Кто сервирует стол? Кого послать с подносом?»
Тут старики опять отведали хмельного,
И призадумались, и в сад взглянули снова,
Где с панной Зосею улан шептался бравый
И левою рукой жал руку ей, а правой
Не мог еще владеть, — не залечилась рана;
И слушала его внимательная панна.
«Пока с тобою мы не связаны обетом,
Скажи мне, Зосенька, что думаешь об этом?.
Ты прошлою зимой была уже готова
Произнести обет у алтаря святого,
Но я не захотел ловить тебя на слове,
Ведь я гостил тогда недолго в Соплицове,
И я не мог под стать глупцу и сердцееду
Считать, что одержал мгновенную победу,
Нет, я не фанфарон и выполненьем долга
Хотел снискать любовь, хоть ждать пришлось бы долго.
Ты повторила вновь сегодня обещанье,
Я счастлив, но скажи, чем заслужил вниманье?
Быть может, оттого мне оказала милость,
Что воле старших ты по-детски покорилась!
Но брак великий шаг, себя спросить должна ты И больше никого, здесь не помогут сваты.
И если слово мне теперь даешь из дружбы,
То не помедлить нам с тобою почему ж бы?
Спешить нам нечего, ведь доблестным Домбровским
Инструктором в полку оставлен я литовском,
Придется обождать, чтоб затянулась рана.
Что ж, Зося милая?»
И отвечала панна,
Поднявши голову и поглядев несмело:
«Не помню хорошо, давно ведь было дело,
За пана сватали меня в былую встречу,
Я воле господа и старших не перечу. —
Потом потупилась, сказав с улыбкой ясной: —
Когда скончался ксендз, когда в ночи ненастной
Пан уезжал от нас, я видела воочью,
Как слезы проливал, прощаясь с нами ночью.
Тогда в любовь его поверила впервые
И за него не раз молилась с той поры я,
Когда б ни думала о нем — перед глазами
Стоял он, как в ту ночь, с горячими слезами.
Гостила в Вильне я с женою Подкоморья,
Там зиму провела и заскучала вскоре
По родине моей, по комнатке знакомой,
Где с паном в первый раз мы повстречались дома
И где расстались мы, но памятка осталась,
Подобно озими, всю зиму укреплялась.
Недаром пану я сказала, что грустила
Зимою в городе, все было там немило,
Рвалась в деревню я, и сердце мне шептало,
Что пана встречу там, — я верно угадала!
Беседуя не раз с подругами своими,
О пане думала, его твердила имя.
Влюбленною меня дразнили непрестанно,
Что ж, если влюблена, то разве только в пана!»
Тадеуш, радуясь признанию такому,
Взял Зоею под руку и поспешил с ней к дому,
В ту комнату пошли, в которой повстречались,
В которой детские года его промчались.
Меж тем Нотариус, счастливый и довольный,
Услуживал своей невесте своевольной,
Послушно поднося ей мушки и флаконы,
Перчатки, брошечки, цепочки, медальоны;
С триумфом на нее поглядывал при этом.
Но занята была невеста туалетом!
И, глядя в зеркало, Венеру вопрошала;
Меж тем прислужница щипцы в руках держала,
Чтоб локоны подвить, а девушки другие
В оборки кружева вшивали дорогие.
Пока влюбленные так время проводили,
В окошко стукнули: мол, зайца уследили!
Бежал из лозняков он через луг украдкой,
На огород шмыгнул, а там капустной грядкой
Прельстился и засел. Нетрудно из рассады
Его вспугнуть и взять. Борзых готовить надо.
Вот тащит Сокола Асессор, ну, а следом
И Куцый шествует с лихим Законоведом.
Поставил Войский их на страже у забора,
А сам хлопушкою пошел тревожить вора.
Захлопал, засвистал; сердца у них забились,
В ошейники борзых борзятники вцепились,
Указывают псам, откуда ждать косого,
Насторожились псы перед началом лова,
И выгнулись они, предчувствуя охоту,
Как будто две стрелы, готовые к полету.
Зайчишка выпрыгнул и прочь, без передышки.
«Ату! Ату!» — кричит Гречеха вслед зайчишке.
Псы ринулись за ним и сразу, без усилья,
По сторонам его мелькнули, точно крылья,
И в заячий хребет вцепились; пригвожденный
Косой заверещал — точь-в-точь новорожденный! —
И смолк. Охотники бегут к нему, борзые
На брюхе шерстку рвут, довольные и злые.
Дождались наконец борзятники успеха!
Тут лапки отрубил косому пан Гречеха.
«Награду равную, — сказал старик, — по праву
Снискали оба пса, работая на славу!
Искусство их могло лишь резвости равняться —
«Достоин Пац
{344} дворца, дворец достоин Паца!»
Достойны вы борзых, борзые вас достойны,
Закончен долгий спор, и мир сменяет войны!
А что касается до вашего заклада —
Никто не проиграл, и вам платить не надо!
Должны тотчас же вы друг с другом помириться!
И вот у спорщиков повеселели лица,
В сердцах рассеялась и ненависть и злоба,
И руки дружески соединили оба.
Законовед сказал: «В заклад коня со сбруей
Поставил и назад заклада не беру я,
Еще я перстенек в залог Судье оставил,
Но не возьму его, чтоб не нарушить правил!
Пан Войский, перстенек приняв, меня обяжет,
Пускай он вырезать на нем свой герб прикажет.
Мой перстень золотой гордиться может пробой,
И камень — сердолик, он гладкости особой.
Конь реквизирован милицией военной,
Но сбруя у меня, зовут ее отменной
За легкость, красоту и за удобство тоже:
Седло турецкое, других оно дороже,
А на луке его огнем горят каменья,
И шелком выстлана подушка для сиденья.
Усядешься в седло и точно в самом деле
Покоишься в пуху на собственной постели,
А пустишься в галоп (нотариус Болеста
Не обошелся здесь без красочного жеста:
Привстал и показал, как на коня садятся,
Раскачиваться стал, изображал, как мчатся!),
А пустишься в галоп — на чепраке богато
Каменья заблестят, как будто каплет злато.
И сбруя золотом искрится и сверкает,
И золото стремян на солнышке играет,
На узких ремешках и на узде узорной
Жемчужных пуговок поблескивают зерна.
И на нагруднике — луна в гербе Леливы
{345},
А под луною — крест блестящий и красивый.
Добыта сбруя та в сраженье подгаецком
{346},
А конь, наверно, был под шляхтичем турецким!
Прими ее теперь, Асессор, друг старинный!»
Тот отвечал ему с сияющею миной:
«Ошейник подарил когда-то мне Сангушко,
Он яшмой выложен, нарядный, как игрушка.
Искусно сделанный, на кольцах позолота,
С ним шелковый смычок с алмазом, а работа
Поспорит красотой с бесценным камнем этим.
В наследство я его хотел оставить детям, —
Ведь нынче я женюсь, есть у меня невеста, —
Но я прошу тебя покорно, пан Болеста,
Принять мой скромный дар за княжескую сбрую
И в знак того, что спор сошел на мировую,
Почетно кончился согласием сердечным,
И мир у нас с тобой отныне будет вечным!»
Тут все пошли домой, отпраздновали пиром
Спор двух борзятников, закончившийся миром.
Однако слух прошел, что Войский сам украдкой
Зайчишку приручил и выпустил на грядку,
Желая примирить враждующих умело,
И удалось ему состряпать втайне дело,
Да так, что обманул старик все Соплицово.
Позднее казачок шепнул кому-то слово, —
Конечно, он хотел друзей поссорить снова;
Не удалось ему, хоть не жалел он сплетен:
Рассказ Гречехи был для всех авторитетен.
Вот гости вкруг стола уже столпились в зале
И, не садясь за стол, хозяев ожидали.
Тогда вошел Судья в мундире воеводы
И нареченных ввел под каменные своды.
Тадеуш отдал честь, хоть левою рукою, —
Из-за ранения не мог владеть другою;
На Зосиных щеках заполыхал румянец,
Присела девушка, нисколько не жеманясь
(У тетки приседать училась долго Зося).
На голове ее венком сплелись колосья,
В таком же платьице была она в костеле,
С охапкой свежих трав, — сама их жала в поле!
Охапку новую среди гостей делила,
Цветы дарила им и улыбалась мило,
Серпа на голове касаясь ручкой белой,
К другой руке вожди склонялись то и дело,
А Зосенька в ответ, краснея, приседала.
Князевич девушку взял на руки средь зала
И, по-отечески расцеловавши в щеки,
Поставил Зосеньку на белый стол высокий.
Тут все захлопали, повскакивали с места —
Так хороша была стыдливая невеста.
Герои на костюм литовский засмотрелись, —
Пленяла странников родного платья прелесть.
Скитались столько лет в краях далеких света,
Что им литовское простое платье это
Казалось юностью минувшею согрето,
Напоминая им былые увлеченья…
Все стали вкруг стола, не удержав волненья,
Просили девушку шагнуть и повернуться,
Головку приподнять, склониться, улыбнуться…
И Зосенька, глаза стыдливо прикрывая,
Кружилась, кланялась, улыбки раздавая.
И руки потирал Тадеуш восхищенный!
Кто так советовал одеться нареченной?
Инстинкт ли подсказал, как лучше нарядиться?
(Что больше ей к лицу, сообразит девица.)
Но утром в первый раз ее бранила тетка:
Питомица во всем повиновалась кротко,
Л тут противилась простого платья ради
И слышать не могла о городском наряде.
В зеленом фартушке и в белой юбке длинной,
С каймою розовой все на манер старинный,
Зеленый и корсаж, но с розовой шнуровкой
Сидит, как вылитый, стан облегая ловко.
Грудь, чуть расцветшая, в корсаже притаилась,
От белоснежных плеч материя светилась,
Сквозные рукава, как бабочки, взлетали,
У кистей собраны, где ленточки блистали.
На шее Зосиной, обтянутой сорочкой,
Отделан вырез был зеленой оторочкой.
Сережки смастерил из косточек вишневых
Сам Пробка ей, узор на них был не из новых:
Два сердца пламенных, пронзенные стрелою,
Для Зоей вырезал, томясь любовью злою.;
Две нити янтаря сплетались воедино,
На голове венок из веток розмарина.
Густые волосы заплетены косою,
И серп на голове, обрызганный росою,
Светился серебром в траве благоуханной,
Как месяц молодой на голове Дианы.
Тут все захлопали. Полковник бросил шпагу,
Скорей достал портфель и раздобыл бумагу,
Эскиз карандашом набрасывает смело;
Судья, лишь увидал, тотчас смекнул, в чем дело!
Узнал художника по всем его повадкам,
Хоть изменил его теперь мундир порядком,
И эполетов блеск, и весь убор уланский,
И темные усы с бородкою испанской.
Сказал Судья: «Эге! Мой Граф ясновельможный,
И в патронташе ты хранишь набор дорожный
Для рисования!» Хоть Граф простым солдатом
Отправился в поход, но, будучи богатым,
Явился в армию с полком вооруженным;
Замеченный в бою самим Наполеоном,
Он произведен был в полковники приказом.
Судья хвалил его. Граф не повел и глазом,
Картина целиком заполонила разум.
Вторая пара в зал вошла слегка смущенно,
Асессор, преданный слуга Наполеона,
Про службу царскую навек забыл отныне.
Десяток лишь часов провел он в новом чине,
Но шпорами звенел на плитах пола скользких,
Одетый в синие цвета жандармов польских.
С ним дочка Войского бок о бок шла, как пава,
Была она в шелках, держалась величаво,
Асессор неспроста покинул Телимену,
Не захотел он лезть от ревности на стену
И, чтобы наказать кокетку за измену,
Взял дочку Войского, — немолода, пожалуй,
Уж ей за пятьдесят, да капитал немалый!
Скопила денежки, что ей дарил Соплица,
И деревенька есть, все может пригодиться!
А третьей пары нет. Вот воевода новый
Послал за ней слугу, и доложил дворовый,
Что перстень потерял на травле новобрачный
И что на поиски его пустился, мрачный;
Что новобрачная доселе не одета,
Торопится она, но, несмотря на это,
Не кончен туалет, хотя им спозаранок
Бедняжка занялась, измучила служанок,
А все ж оденется не раньше, чем в четыре!
Книга двенадцатая
За братскую любовь
Последний старопольский пир. — Чудо-сервиз. — Объяснение его фигур. — Его перемены. — Домбровский получает подарок. — Еще о Перочинном Ножике. — Князевич получает подарок. — Первый поступок Тадеуша при вступлении во владение вотчинами. — Замечания Гервазия. — Концерт из концертов. — Полонез. — За братскую любовь.
Тут с треском наконец раскрылись двери шире,
Гречеха в зал вошел; он с тростью был на пире,
Не поздоровался ни с кем он, — до того ли?
Пан Войский выступал в необычайной роли
Распорядителя; не выпускал он трости,
По мановению ее садились гости
(Трость он в руке держал как символ руководства).
Вот Подкоморий-пан — маршалок воеводства,
Как первое лицо, сел на почетном месте,
Обитом бархатом, и с ним уселись вместе
По правой стороне — сам генерал Домбровский,
По левой стороне — Князевич, Малаховский,
Маршалкова жена, а с ней другие пани,
Шляхетство, воины — все пышное собранье,
Где Войский указал, там разместились чинно;
За каждой дамою ухаживал мужчина.
Почтив гостей, ушел во двор пан воевода,
А там огромный стол накрыли для народа,
За этаким столом все могут разместиться:
Плебан в одном конце, в другом конце — Соплица,
Тадеуш с Зосею, конечно, не сидели,
Но потчуя гостей, и сами с ними ели;
Так по обычаю пристало новым панам —
Сперва прислуживать самим своим крестьянам.
А гости весело беседовали в зале,
Сервизуславному вниманье уделяли:
Работа тонкая все общество дивила
(Сервиз когда-то был Сиротки-Радзивилла),
По замыслу его исполнен в польском стиле,
В Венеции его художники отлили.
Потерян был сервиз в связи с войною шведской,
Бог знает как потом попал он в дом шляхетский
И украшал теперь парадные банкеты.
А был он с колесо объемистой кареты.
За сливками поднос виднелся еле-еле,
И горы сахара на нем, как снег, белели, —
Картина зимняя, привычная для взгляда;
Посередине — бор варений, мармелада,
А по бокам его ютились, на опушке,
Селенья малые — застянки, деревушки.
И, замыкая круг роскошного прибора,
Стояли ловкие фигурки из фарфора.
Все в польских кунтушах, похожи на артистов,
Кто хмур, кто величав, кто весел, кто неистов,
У каждого свой цвет и яркий жест особый:
Вот-вот заговорят безмолвные особы!
«Что делают они?» — допытывались гости.
Гречеха объяснял, не выпуская трости
(В то время принесли бутылки и стаканы):
«Могу вам рассказать, вельможнейшие паны,
Что здесь изображен с искусством артистичным
Ход наших сеймиков в порядке их привычном:
Голосование, совет, триумф, ну, словом,
Я разгадал спектакль и расскажу его вам:
Направо — шляхтичи, как видите, панове,
На пир приглашены, и стол уж наготове,
Однако же за стол фигурки не садятся,
А совещаются: кого бы им держаться?
И в каждой группе есть свой краснобай завзятый,
По рту раскрытому и по руке подъятой
Видать, что говорит и, голоса считая,
Всех хочет убедить — задача непростая!
Хоть называет он различных кандидатов,
Но не видать, чтоб он добился результатов.
Направо, в группе той, не доверяя слуху,
Иной ладонь свою прикладывает к уху
И крутит длинный ус усердно, молчаливо, —
Еще бы! Увлечен оратором на диво!
Оратор тешится, уверенный заране,
Что голоса друзей уже в его кармане.
А в третьей группе вид досадный и унылый —
Оратор шляхтичей удерживает силой,
Схватив за пояса, а те, взгляните, рвутся!
И слушать не хотят, ну только не дерутся!
Один уже грозит ему во гневе яром
И хочет рот заткнуть решительным ударом,
Другой, под стать быку, от злости пышет жаром,
Вот, кажется, боднет оратора рогами…
Те сабли вынули, а те уж за дверями!
Тот в нерешимости: кому отдать свой голос?
Видать, что голова от мыслей раскололась,
Как поступить ему, не знает — вот в чем дело!
И полагается он на судьбу всецело!
Стоит зажмурившись и пальцем в палец метит:
Как лучше поступить, пускай судьба ответит,
Коль пальцы встретятся — подаст аффирмативу,
Ну, а не встретятся — положит негативу.
Здесь рефектариум стал выборною залой,
Уселись старики в молчанье, как пристало,
Толпятся юноши и, вытянувшись, стоя,
Глядят во все глаза — там что-то непростое!
Маршалок впереди, пред урной с голосами,
Считает он шары, их шляхта ест глазами,
Но вот последний шар — и возглашает возный
Счастливцев имена. Протестовать уж поздно!
Взгляните, шляхтич тот с решеньем не согласен,
Из кухни выглянул, рассержен он и красен
И, выпучив глаза, разинул рот широко, —
Как будто бы пожрет всех во мгновенье ока!
Не трудно угадать, что закричал он «вето!»,
Что шляхта кинулась к нему невзвидя света
И, сабли обнажив, грозит ему расправой, —
От битвы не уйти жестокой и кровавой.
Взгляните в коридор, хотя бы на мгновенье,
Увидите ксендза, идет он в облаченье
И к спорящим уже Sanctissimuin выносит,
А мальчик в стихаре всех расступиться просит,
Оружье спрятано, все на колени пали,
Лишь кое-где еще мелькает отблеск стали,
Но пред святынею смирятся все буяны…
То время доброе давно умчалось, паны,
Когда шляхетские разнузданные страсти
Обуздывать могли без полицейской власти,
И свято верили и уважали право,
Порядок с волей был, и шла с богатством слава!
Меж тем в чужих краях немало есть драбантов,
Чипов полиции, констеблей и сержантов,
Но там, где служит меч порукою охраны,
Не верю, чтобы там была свобода, паны!»
По табакерке тут прищелкнул Подкоморий:
«Пан Войский, знаете вы множество историй,
Хоть любопытные, а все ж их отложите,
Подумать вы должны о нашем аппетите».
С поклоном Войский встал, и трость к земле склонилась.
«Ясновельможный пан, мне окажите милость!
Осталось чуточку, и не закончить жалко:
Выносят на руках сторонники маршалка
Из рефектария, все чествуют собрата,
Бросают шапки вверх, хоть не слыхать вивата!
Отвергнутый в углу стоит уединенно
И шапку на глаза надвинул удрученно,
А дома ждет жена — все поняла по взгляду,
Упала в обморок, не выпила ли яду?
Ясновельможной стать красавице мечталось,
Но сгинула мечта! Вельможною осталась!»
Рассказ окончился; нарядные лакеи
По знаку Войского бульон несут скорее,
И королевский борщ еще вкусней бульона,
В который опустил Гречеха потаенно
Жемчужин несколько и крупную монету, —
Переходил рецепт бульона по секрету.
Он вкусен был, служил для очищенья крови
И силы укреплял, поддерживал здоровье.
Другие яства шли, они забыты нами:
А сколько было здесь дунайской лососины,
Икры отборнейшей! Чудесной осетрины!
И выбор крупных щук и мелких пребогатый;
Меж карпов были тут и шляхта и магнаты,
А щука-уникум струила ароматы, —
С печеной головой и жареной середкой,
Вареный хвост торчал над жаркой сковородкой!
Но гости, не спросив, как называлось блюдо,
И даже не дивясь на поварское чудо,
За яства принялись с завидным аппетитом
И запивали их венгерским знаменитым.
Сервиз меняется, там, где снега белели,
Зимы в помине нет, луга зазеленели,
От действия тепла растаял постепенно
И лед из леденца, и сахарная пена.
Представилось гостям другое время года,
Весенний, ясный день, цветущая природа:
Побеги выбились и запестрели злаки,
Как на дрожжах, взошли и васильки и маки
В пшенице золотой, окрашенной шафраном;
Засеребрилась рожь под сладким марципаном,
Гречиха зацвела (она из шоколада),
Запахли яблоки в тени густого сада.
Утехи летние вкушая восхищенно,
Все просят Войского не изменять сезона.
Увы! Круговорот извечный совершая,
Цветы меняются — уж осень золотая:
Поблекла и трава, и листья покраснели,
На сахарных ветвях держались еле-еле
И вдруг осыпались, как будто бы сорвало
Осенним вихрем их, — листвы как не бывало!
Деревья голые, в тени уж не укрыться,
Чернеет тонкими стручочками корица,
И лавра веточки, что заменяли сосны,
Являют вид глазам унылый и несносный.
Но гости рвут стручки, осыпанные тмином, —
Закуска хоть куда к сухим столовым винам!
Гречеха, радуясь, что все довольны пиром,
Почувствовал себя заправским командиром.
Домбровский наконец воскликнул в удивленье:
«Уж не китайские ли перед нами тени?
Быть может, чертенят ссудил вам пан Пинети?
Откуда на Литве взялись сервизы эти?
И хлебосольство здесь такое же всегда ли?
Откройте нам, — Литвы давно мы не видали».
Гречеха отвечал: «Нет, пан ясновельможный,
Мне бесов не ссужал на пир колдун безбожный,
Такие пиршества бывали встарь нередки,
Любили угощать на славу наши предки,
И был обильный стол явлением обычным!
Рецепты вычитал я в «Поваре отличном».
Увы! Обычаи забыты в наши годы,
И поддалась Литва влиянью новой моды, —
Скупятся и у нас: не терпят, мол, избытков,
Жалеют для гостей закусок и напитков,
Не пьют венгерского, а тешатся шампанским,
Московской модою — напитком шарлатанским!
И, деньги на пиры для шляхтичей жалея,
Спускают золото за картами, шалея!
Открою вам теперь и собственное горе, —
Пусть не обидится на это Подкоморий, —
Когда из сундука я взял сервиз старинный,
Он повстречал его насмешливою миной
И хламом называл, игрушкой старосветской,
Пригодной для забав ну разве только в детской!
Сказал, что для пиров он вовсе не годится.
Увы! Согласен был с ним и судья Соплица!
Но если мой сервиз привел вас в удивленье,
То, значит, он и впрямь хорош на загляденье!
Не знаю, будем ли еще когда, Панове,
Приветствовать гостей столь славных в Соплицове?
Знаток банкетов вы, и я просить вас стану
В дар эту книжку взять: понадобится пану,
Чтоб задавать пиры во славу легиона,
Кто знает, может быть, и в честь Наполеона!
Поможет книжечка вам не одним советом.
Как получил ее, я расскажу об этом!»
Тут шум послышался, то шляхтичи кричали:
«Пускай живет Забок, не ведая печали!»
Толпа ввалилась в зал, и Матек с нею вместе.
Судья приветствовал Добжинского по чести,
С вождями усадил на самом видном месте.
И выговаривал он ласково соседу,
Что позже всех пришел и опоздал к обеду.
«Пришел сюда не есть — обедаю я рано, —
Из любопытства я пришел на праздник пана,
Чтоб нашу армию увидеть на постое, —
Она ни то ни се, сказал бы, да не стоит!
Но шляхта не дала уйти мне от обеда,
Ты усадил за стол — благодарю соседа!»
В знак, что не хочет есть, тарелку опрокинул
И хмурым взглядом он все общество окинул.
Домбровский Матека окликнул восхищенно:
«Не ты ль с Костюшкой был еще во время оно?
Ты точно ль Матек тот? Твоей наслышан славой!
Ты свеж по-прежнему, как прежде воин бравый!
А сколько лет прошло! Не тот я, что бывало;
Князевич поседел, взгляни на генерала, —
А ты и молодым не уступил бы в силе,
И «Розгу» славную года не подкосили,
Ты москалей побил, не изменила смелость!
Где родичи твои? Безмерно мне б хотелось
Увидеть «Ножички» и «Бритвы» ваши снова,
Цвет дедовской Литвы и рыцарства былого».
Соплица отвечал: «Да, после той победы
Бежали в княжество, боясь, что грянут беды,
Легионерами вступали под знамена».
«И правда, — подтвердил начальник эскадрона, —
Во взводе у меня усатое страшило —
Вахмистр Добжинский есть, по прозвищу «Кропило»,
Медведем из Литвы прозвали мы Рубаку:
Захочешь, позову усатого вояку».
А капитан сказал: «Ходил с литвином в битву;
В отряде знают все отчаянного «Бритву».
Был в коннице у нас другой правофланговый;
Два гренадера есть у нас в полку стрелковом».
«Так, так, но встретиться хочу я с их главою,
Известен «Ножичек» отвагой боевою,
О нем пан Войский мне рассказывал пространно,
Изображал его почти как великана!»
«Хотя он не бежал, — ответил Войский, — все же
Подальше от греха Рубака скрылся тоже.
Всю зиму по лесам скитался одиноко,
И на призыв пришел он во мгновенье ока;
Гервазий полон сил и рвется в бой, однако
Годами староват испытанный Рубака! —
Гречеха указал на сени. — Ваша милость,
Да вот он!..» Дворня там с крестьянами толпилась,
И лысина одна над тьмой голов всходила,
Как в полнолуние небесное светило,
Ныряла на пути и двигалась к проходу, —
То Ключник проходил и кланялся народу.
«Пан Гетман, — так сказал Домбровскому он смело, —
А нет, так генерал, не в титулах тут дело, —
По слову твоему пришел — лишь долетело,
И Ножик свой принес, а он не за оправу —
За подвиги свои стяжал такую славу,
Что донеслась она и до тебя сегодня.
А разреши ему святая власть господня,
О старой бы руке порассказал он много:
Служила хорошо, не забывая бога,
Отчизне, а потом Горешков славных роду.
Та служба памятна и посейчас народу!
Так перья писаря не очиняют славно,
Как головы срубал мой Ножичек исправно,
А сколько ссек носов, не счесть и половины!
И ни единой нет на Ножичке щербины!
И не запятнан он, могу сказать без лести,
Рубился на войне, на поединках чести,
А безоружного он положил на месте
Лишь раз один, и то ничуть не ради мщенья —
«Pro bono publico» — для общего спасенья!»
«Отличный Ножичек! — промолвил вождь со смехом, —
Таким бы мог палач сечь головы с успехом!»
Тут взял он в руки меч, дивясь его размеру,
И передал его другому офицеру.
Испробовали все, да только бесполезно,
Никто взмахнуть не мог рапирою железной!
«Жаль, нет Дембинского
{355}, штабного командира,
Вот у него в руках плясала бы рапира!»
Лишь эскадрона шеф и богатырь Дверницкий,
Да взводный командир поручик пан Ружицкий
Могли с трудом поднять железную махину.
Меч по рукам пошел, переходя по чину.
Князевич между тем и ростом великанским,
И силой превзошел других в полку уланском.
Мечом, как шпагою, взмахнул перед собою —
И словно молния сверкнула над толпою!
Припомнил генерал сперва удар «крестовый»,
Позднее «мельницу», удар и выпад новый,
«Украденный» удар и выпады терцетом,
Какие в корпусе
{356} преподают кадетам.
Он фехтовал смеясь. Пал Ключник на колени,
И обнимал его, и плакал в умиленье.
«Чудесно! — восклицал. — Так бились мы когда-то!
Мопанку! Узнаю в тебе конфедерата!
Вот так Пулавский
{357} бил, а это — выпад Саввы.
Кто ж руку панскую тренировал для славы?
Наверно, Матек сам! Присягу дам святую,
Что этот выпад — мой! Я не хвалюсь впустую:
Сам обучил ему сородичей. «Мопанку»
Он назван в честь мою, как ведомо застянку!
Кто ж выучил тебя? Хотел бы очень знать я! —
Поднялся и схватил Князевича в объятья. —
Умру спокойно я! Век прожил не короткий,
И не останется дитя мое сироткой,
Все думал я о нем и тосковал порою,
Что он заржавеет, когда глаза закрою,
Но не заржавеет! Ясновельможный пане,
А нет, так генерал! — что толку в этой дряни,
В шпажонке узенькой — немецкой глупой штуке?
Шляхетское дитя, возьми-ка саблю в руки!
У ног твоих сложил я Ножик Перочинный:
Всем был он для меня — и счастьем и кручиной.
Ведь не женился я и не имел дитяти, —
Он заменял мне всех; ни разу из объятий
Моих не выходил; я, как зеницу ока,
Всегда берег его, и спал со мной он сбоку!
Когда ж я постарел, то осенил он ложе,
Как осеняет кров еврея слово божье!
В могилу Ножичек хотел я взять с собою, —
Владельца он нашел и снова рвется к бою!»
Ответил генерал растроганный: «Ну что там,
Я должен положить конец твоим щедротам,
Ведь ты мне отдаешь и сына и супругу,
Утратишь в старости опору и подругу!
И чем вознагражу тебя за жертвы эти,
За дар, которого дороже нет на свете?»
«Я не Цибульский-пан! — старик воскликнул пылко. —
Что проиграл жену солдату за бутылкой,
Как песня говорит. Мне и того довольно,
Что Ножик мой блеснет на белом свете вольно
В такой руке! Прошу о том лишь генерала,
Чтоб длинен был темляк, как лезвию пристало.
Тогда, как рубанешь ты недруга от уха,
Так разом рассечешь от головы до брюха!»
Князевич принял меч, но был он слишком длинный,
И слуги унесли заветный Перочинный.
Что стало с ним потом, рассказывают всяко,
Но не видал его уже никто, однако.
«А что же, Матек, ты? — спросил его Домбровский. —
Невесел и не пьешь? Ты, удалец литовский?
Не радуешься ты орлам белее снега,
Орлам серебряным и золотым, коллега?
Не рад Костюшкиной побудке молодецкой?
Как не почувствовал ты гордости шляхетской?
Я думал, если ты и сабли не отточишь,
То выпить за успех, наверное, захочешь,
За императора и за надежды Польши!»
«Слыхал, — сказал Забок. — Чего и слушать дольше?
Но двум орлам в одном гнезде не поместиться,
А милость кесаря — обманчивая птица!
Наполеон — герой, я возражать не стану!
Но о Пулавских все ж хочу напомнить пану.
Они о Дюмурье
{358} твердили меж собою,
Что Польше надобно и польского героя.
Не итальянского и не француза — Пяста
{359},
Юзефа ль, Матека, а нет, так Яна! Баста!
Про войско говорят, что польское! Саперы
И фузильеры есть, вступать не стану в споры.
Немецких прозвищ здесь побольше, чем народных,
Кто разберется в них? Усилий жаль бесплодных.
Должно быть, с вами есть и турки и татары,
Еще схизматики, — не миновать им кары!
Сам видел, как они бесчинствуют в деревне,
Бьют женщин, не щадят и веры нашей древней!
Торопятся в Москву! Далекая дорога,
Коль собрался в поход Наполеон без бога, —
Слыхал, что проклят он и отлучен костелом…»
Макая хлеб в бульон, в молчании тяжелом
Стал есть его старик, не видя проку в споре.
Уже на Матека косился Подкоморий,
Роптала молодежь, но тут о третьей паре
Соплица возвестил, и ропот смолк в разгаре,
Вошел Нотариус. Не назови он имя,
Неузнанным бы мог остаться меж своими:
Привык он к кунтушу, однако Телимена
Сменить его на фрак велела непременно.
И вот оделся он согласно новой моде,
Хотя нарядный фрак претил его природе.
он жесты обожал, а нынче прям, как спица,
Шагает, как журавль, боится оступиться;
Хоть с миной важною, а все в тяжелой муке
Не знал, куда девать, куда засунуть руки,
Заткнуть бы за пояс, нет пояса на платье;
Водил по животу, водил, и вдруг — проклятье! —
Ошибку понял он и стал краснее рака,
И руки заложил в один кармашек фрака!
И как сквозь строй прошел под ропот изумленья,
Стыдился фрака он, как будто преступленья!
Забока увидав, затрясся от боязни,
До сей поры старик с ним жил в большой приязни,
Теперь же взгляд его, беднягу, жег, как пламя,
Застегиваться стал дрожащими руками, —
Казалось, раздевал его Забок тем взглядом
И так рассержен был невиданным нарядом,
Что дурнем обозвал средь целого собранья
И вышел, не сказав ни слова на прощанье,
И, на коня вскочив, умчался прочь мгновенно.
Меж тем счастливая невеста Телимена
Сиянье красоты, улыбки расточала,
И мода грацию красавицы венчала.
Прическа и наряд — все было здесь прекрасно,
Пером не описать, рассказывать напрасно —
Брильянты, кашемир, тончайший креп вуали,
Румянец на щеках и томный вздох печали.
Граф увидал ее и стал белей бумаги,
Из-за стола вскочил, сжав рукоятку шпаги.
«Ты ль это? — возопил. — Да что ж это такое?
Другому руку жмешь бестрепетной рукою!
О вероломная! Нарушившая слово!
Как не провалишься ты со стыда такого?
Изменница! Тебе я предан был так страстно,
Носил я на груди цвета твои напрасно!
Но горе жениху! За это оскорбленье
Он, лишь убив меня, пойдет на обрученье!»
Вскричали шляхтичи: «Теперь не время ссоре».
Ревнивцев помирить старался Подкоморий,
Но Графа отвела в сторонку Телимена.
«Еще не связана, — сказала откровенно. —
И если хочешь ты… Жду твоего ответа:
Скажи мне попросту, и, если правда это,
Что любишь ты меня, я тотчас же готова
С тобою в брак вступить у алтаря святого,
Юристу откажу, коль назовешь женою…»
Но Граф ей отвечал: «Непонятая мною,
О женщина! Была ты прежде поэтичной,
А нынче кажешься вульгарной, прозаичной!
Цепями назову подобный брак, конечно,
Он руки свяжет нам, а не сердца навечно.
Порой в молчании таится вздох признаний,
Есть обязательства, помимо обещаний!
Разлука не властна над пылкими сердцами,
Они, как звездочки, беседуют лучами;
И к солнцу оттого всегда земля стремится,
А месяц на нее глядит не наглядится,
Друг к другу их ведет кратчайшая дорога,
Но не сближаются они по воле бога!»
«Довольно вздор молоть! Да я ведь не планета!
Я женщина! Пора тебе постигнуть это!
Наслушалась уже твоих дурацких бредней,
И если вздумаешь теперь, как шут последний,
Помолвке помешать, то десятью ногтями
Я расцарапаю тебя перед гостями!»
«Мешать не стану я ни счастью, ни обрядам!» —
И Граф неверную не удостоил взглядом,
Л чтоб ей отомстить и нанести обиду,
Он за другою стал ухаживать для вида.
Желая примирить поссорившихся сразу,
Гречеха приступил к искусному рассказу,
Про Налибокский лес заговорил пространно
И про Денасову обиду на Рейтана.
Но ужин кончился, десерт уже доели,
И гости вышли в сад и прохладиться сели.
Там по рукам крестьян жбан ходит вкруговую,
Играет музыка мелодию живую,
Тадеуша зовут, а он стоит на месте
И что-то на ушко твердит своей невесте.
«О важном деле я хочу спросить совета,
Согласен дядюшка, что скажешь ты на это?
Ты знаешь, я теперь вступаю во владенье
Имуществом твоим и всех твоих имений.
Крестьяне в них твои и для меня чужие,
Не смею их судьбы решать без госпожи я.
Отчизну милую мы получили снова,
А что сулит она крестьянам дорогого?
Одно-единственно — хозяина другого!
Пускай неплохо б им у нас жилось, родная,
Но если я умру, — что ждет их, я не знаю.
К тому же я — солдат, и смертны мы с тобою,
Я — человек, боюсь играть чужой судьбою;
Рабовладельцем быть позорно человеку, —
Хочу отдать крестьян под правую опеку.
Пусть счастливо живут они в краю родимом,
Подарим волю им и землю отдадим им,
Ведь родились на ней и до седьмого пота
На ней работают, — всех кормит их работа!
Но только не забудь, что с дарственною этой
Беднее станем мы, и на меня не сетуй!
Я к бережливости привык еще измлада,
Ты ж рода знатного, тебе богатства надо,
Нужды не знала ты, когда жила в столице,
Захочешь ли со мной в деревню удалиться?
Вдали от света жить?»
И Зося отвечала:
«Я женщина, самой решать мне не пристало.
Я слишком молода, советовать мне где уж,
Со всем, что скажешь ты, я соглашусь, Тадеуш.
И если от того мы обеднеем, что же?
Ты станешь для меня тогда еще дороже!
О знатности своей, — сказала Зося кротко, —
Забыла, помню я, что с бедною сироткой
Соплицы нянчились, как с детищем желанным,
И замуж выдают, и наградят приданым.
Деревню я люблю и жизнь с простым укладом,
Возню с пернатыми, уход за старым садом,
Поверь, что индюки, и куры, и фазаны
Мне во сто крат милей, чем Петербург туманный!
Скучала без людей в младенчестве порою,
Теперь мне город чужд, и я тебе открою,
Что этою зимой истосковалась в Вильне.
Не горожанка я, и свет совсем не мил мне.
И не хочу я жить вдали от Соплицова,
Работы не боюсь: я молода, здорова,
С ключами хлопотать привыкла я по дому,
Увидишь — научусь легко всему другому!»
Пока с Тадеушем невеста говорила,
Гервазий, подойдя, промолвил им уныло:
«И я уже слыхал о ваших новых планах!
Судья мне рассказал. Жалею о крестьянах!
Не оказалась бы та выдумка немецкой,
Свобода искони была у нас шляхетской!
Хотя произошли все люди от Адама,
Но хлопы, слышал я, ведут свой род от Хама
{360},
От Сима — шляхтичи, евреи — от Яфета, —
Зато и властвуем от сотворенья света!
Однако говорил не так плебан с амвона,
Мол, тот порядок был еще во время оно,
Но сам Христос не внял писаниям закона:
Он в яслях родился, хотя и царской крови,
Среди евреев рос — не различал сословий!
Пусть будет так, когда иначе невозможно,
Коль это по сердцу моей ясновельможной,
И дать согласие моя хозяйка рада,
То ей повелевать, мне — подчиняться надо!
Но, чур! Смотрите вы, чтобы не вышло худа
Из вашей вольности для крепостного люда!
Ведь вот помещик Карп
{361} дал людям отпускную,
И подать наложил на них москаль тройную.
Советую тебе шляхетство дать крестьянам,
Присвоив им гербы, как настоящим панам.
И если пани даст крестьянам «Козерога»,
А ты «Леливу», пан, тогда, по воле бога,
Сочту я мужика себе, Рубаке, равным!
И кто не склонится перед гербом столь славным?
Сейм утвердит гербы.
Поверь мне, пан Соплица,
От этой отпускной тебе не разориться,
Ведь не допустит бог, а все мы в божьей воле,
Чтоб дочке Стольника пришлось пажить мозоли.
Я знаю тайный клад, запрятанный в руинах,
Там много золота — колец, монет старинных,
Сережки ценные, цепочки, и браслеты,
И сбруя дивная, и сабли, и стилеты.
Хранил я бережно наследье родовое,
Стерег от москалей, да и от вас его я,
Но вот пришла пора, и клад мой потаенный
Я в руки передам наследнице законной!
А с ним и талеров мешок тяжеловесный,
Что заработал я всей долгой службой честной.
Хотел на замок я истратить средства эти,
Однако есть дела и поважней на свете,
И новым господам запас мой пригодится, —
Ведь поселюсь теперь я у тебя, Соплица!
И на покое мне привольно будет житься.
Горешков вынянчу я третье поколенье,
Сыночка обучу рубить на загляденье,
А родится сынок, на это есть причина:
Во время войн жена всегда приносит сына».
Едва закончил речь растроганный Гервазий,
С особой важностью к ним подошел Протазий,
В руках его была огромнейшая ода —
Произведение участника похода;
Хотел любовь почтить коротким мадригалом,
Но от обилья рифм и чувств изнемогал он.
Пиит носил мундир, но с жаром беллетриста
Пера не оставлял. Протазий строчек триста
Прочел, дойдя до слов: «О ты, чьей красотою
Я в сердце поражен и восхищен мечтою!
Когда покажешь лик ты в лагере Беллоны,
Рассыплются мечи, красой испепелены!
Ты Марса порази оружьем Гименея,
Сорви рукой с чела обвившегося змея!»
Как будто в похвалу, но чтоб не слушать дале,
Тадеуш с Зосею ему рукоплескали!
Меж тем плебан уже успел сказать крестьянам.
Что вольностью они пожалованы паном.
Едва услышали слова его крестьяне,
Как в ноги бросились Тадеушу и пани:
«Живите вечно вы!» — кричали со слезами,
Тадеуш отвечал: «Живите вечно сами!»
«Да здравствует народ!» — провозгласил Домбровский.
«Да здравствуют вожди!» — гремел ответ литовский.
«Да здравствует народ, крестьяне, все сословья!» —
На тысячу ладов звенели славословья.
Лишь Бухман весь проект хотел переиначить,
Пересмотреть его, комиссию назначить,
Чтоб уточнить ясней намеренья и цели,
Но было на уме у шляхтичей веселье,
И шляхтичи ему внимать не захотели.
Вот с дамами вожди, с солдатами — крестьянки
Попарно строятся у замка на полянке.
«Играйте полонез!» — все восклицают хором,
И войсковой оркестр идет уже к танцорам,
Но попросил Судья тихонько генерала,
Чтоб музыка его пока что не играла;
«Племянника теперь справляю обрученье,
От предков повелось у нас обыкновенье
Под музыку сельчан плясать и петь на свадьбе.
Вон музыканты ждут, они с утра в усадьбе;
Волынщик хмур, скрипач подмигивает глазом,
Мне не хотелось бы их огорчить отказом;
Ведь если откажу, то будут слезы литься
И под оркестр народ не станет веселиться.
Пускай начнут они крестьянам на забаву,
Натешимся потом оркестром мы на славу».
Знак подан.
И скрипач, взмахнув смычком коротким,
На скрипку оперся тяжелым подбородком,
Галопом свой смычок пустил по струнам скрипки.
Волынщики напев схватили без ошибки,
Плечами двигали, как будто бы крылами,
И дунули в мехи, зажглось на лицах пламя.
Казалось, улетят они в мгновенье ока,
Подобно детворе Борея краснощекой.
Жаль, цимбалистов нет.
Хоть выбор их немалый,
При Янкеле они боятся брать цимбалы.
А он со штабом войск вернулся вновь в поместье,
Хоть зиму пропадал, не подавая вести;
Известно было всем окрестным музыкантам,
Что не сравниться с ним уменьем и талантом.
Цимбалы подали почтительно еврею,
Но он не взял: «Отвык, как приступлю к игре я?
Стесняюсь панства я, рука не та уж стала».
Хотел он уходить; но Зося увидала,
И с молоточками к еврею поспешила,
Дала их старику и улыбнулась мило,
Коснулась бороды и перед ним присела.
«Сыграй, пожалуйста! — промолвила несмело. —
Отказом причинишь мне, Янкель, огорченье,
Ведь ты мне обещал играть на обрученье».
Корчмарь любил ее. Кивнул он бородою.
И тотчас же его усаживают двое,
Потом кладут ему цимбалы на колени.
Старик глядит на них с восторгом в умиленье, —
Так смотрит ветеран, которого призвали,
На старый меч, с трудом его внучата сняли,
И хоть оружия давно не брал он в руки,
Уверен, что былой не позабыл науки.
Вот, на колени став, два музыканта юных
Настройкой занялись, берут аккорд на струнах.
В глазах у Янкеля зажглись две ярких точки,
Артист зажмурился и поднял молоточки.
На струны опустил, прошел певучим ладом,
И звуки хлынули могучим водопадом!
Тут подивились все, но то была лишь проба.
И поднимает вдруг он молоточка оба,
Вновь опускает их тихонько и умело,
Не муха ли струну едва-едва задела?
И все услышали жужжанье на мгновенье…
Маэстро, глядя ввысь, ждал с неба вдохновенья,
И на цимбалы вдруг он сверху глянул гордо
И вдохновенно взял два мощные аккорда.
Все замерли на миг…
Ударил вновь маэстро,
И звуки разрослись в могучий гром оркестра,
Литавров медный звон напомнил Третье мая,
И полонез гремит, гремит, не умолкая.
Все дышат радостью, пьют эту радость слухом,
Все рвутся танцевать, воспрянувшие духом,
А старцам грезятся излюбленные даты:
Счастливый майский день, в котором депутаты
С сенатом в ратуше, не ведая печали,
Народа с королем согласие венчали.
«Виват, — кричали все с восторгом и с любовью, —
Народу, королю и каждому сословью!»
Ускорил Янкель темп — и в праздничные звуки
Ворвался диссонанс, шипение гадюки
Иль скрежет по стеклу. Тут гости побледнели,
Предчувствие беды нарушило веселье,
Встревожилась толпа, все шепчутся смущенно.
Фальшивит инструмент, артист ли сбился с тона?
Но нет! Не сбился он и продолжает дальше
Вносить в мелодию оттенок мерзкой фальши,
В гармонии тонов певучей, сладкогласной —
Все тот же диссонанс пронзительный и властный;
И гости поняли, стыдясь, закрыли лица.
Гервазий закричал: «Ах, это Тарговица!»
Вдруг лопнула струна, раздался свист зловещий…
По примам молотки забегали все резче.
Вот примы бросили, к басам перебежали,
На тысячи ладов цимбалы зазвучали.
Атаку и войну, тревогу и печали,
Плач женщин, стон детей, смятенье в польском стане
Так передал старик, что плакали крестьяне.
По песням только лишь запомнили бедняги
Резню, которая была когда-то в Праге.
Маэстро заглушил аккорды струн унылых,
И звуки замерли: он точно в землю вбил их!
Едва пришел в себя народ от изумленья,
Как снова музыка — жужжанье, шелестенье,
То струнки дрогнули и стонут с легким гудом,
Как мухи, вырвавшись из паутины чудом;
Но звуки ширятся, разрозненные тоны
Сливаются, гремят аккордов легионы,
Вступают в такт они все шире и чудесней
И переходят вдруг в напев старинной песни
О бедном воине бездомном, о скитальце,
Изнемогающем от тяжких бед страдальце,
Который наконец упал у ног коняги,
И роет верный конь могилу для бедняги.
Та песенка мила литвинам и полякам,
И по сердцу пришлась она седым служакам.
Столпились вкруг цимбал и вспоминали с мукой,
Как над могилою отчизны, пред разлукой,
Запели и пошли они бродить по свету;
Скитанья вспомнили, конца которым нету,
По суше, по морям, в жару и на морозе,
Среди людей чужих, когда они в обозе
Старинной песенкой залечивали раны…
И головы свои склонили ветераны,
Но снова подняли: артист взмахнул рукою,
И тон переменил, и заиграл другое;
На струны глянул он и вот двумя руками
Обрушился на них с размаху молотками.
Удар превосходил все прежние по силе.
Как струны медные, цимбалы зазвонили,
И песня в небесах, ликуя, зазвенела.
Победный марш летит. Нет! «Польска не сгинела!
Марш, марш, Домбровский наш!». И грянули виваты,
Запели хором все крестьяне и солдаты.
Казалось, Янкеля заворожили звуки, —
Он бросил молотки и поднял к небу руки,
Ермолка с головы сползала, не спадая,
По ветру борода раскинулась седая,
И жаром юности лицо его пылало,
И не сводил он глаз с седого генерала,
И вот, не удержав слез, хлынувших рекою,
Сказал Домбровскому, прикрыв глаза рукою:
«Тебя ждала Литва со всей тоской своею,
Как ждут пришествия Мессии иудеи,
И о тебе молва давно прошла по свету,
Недаром видели мы дивную комету.
Живи! Воюй! Ты наш! Тобой гордится всякий…»
Любил отчизну он не меньше, чем поляки!
Вождь руку дал ему, избытком чувств волнуем,
А Янкель к ней припал горячим поцелуем.
Но грянул полонез, и Подкоморий вышел,
Закинул рукава кунтуша он повыше,
Подкручивает ус, как волокита старый,
И просит Зосеньку идти с ним первой парой.
Другие строятся в ряды за ними вскоре.
Знак подан начинать, — ведет их Подкоморий.
Алеют сапоги на мураве душистой,
И сабля светится, и пояс золотистый.
Идет он медленно, с ленивым выраженьем,
Но угадать легко по всем его движеньям
И чувства и мечты искусного танцора:
Вот перед Зосей стал и словно ищет взора,
Склоняет голову, шепнуть желая что-то;
Она и не глядит, стоит вполоборота,
Конфедератку сняв, он замер в ожиданье,
Хоть глянула она, но все хранит молчанье;
Он замедляет шаг и не отводит взгляда,
Она смеется — вот поклоннику награда.
Своим соперникам грозится он украдкой,
Играя на ходу лихой конфедераткой,
Надвинет на глаза и передвинет вправо,
Наденет набекрень, закрутит ус лукаво.
Идет — соперники спешат за ним толпою,
Он рад бы ускользнуть, уйти любой тропою;
Подымет руку вдруг и так замрет мгновенно,
«Прошу вас проходить», — попросит всех степенно,
Порою в сторону захочет уклониться,
Чтоб мимо пронеслась цветная вереница, —
Однако тщетно все, вновь настигают пары,
И вьются вкруг него, и недоволен старый;
За рукоять меча берется Подкоморий,
Соперникам своим он предвещает горе,
Идет навстречу им с надменным выраженьем:
Все расступаются перед его движеньем.
Но долго ль заново построиться танцорам?
Все кинулисьза ним,
все восклицают хором:
«Взгляните! Может быть, последний он в повете,
Кто польский так ведет! Другого нет на свете!»
Беспечно пары шли, кружились друг за другом,
Развертывались, вновь закручивались кругом;
Как бесконечный змей меняет переливы,
Менялась радуга костюмов их красивых:
Мужские, дамские, блестевшие богато,
Сверкали чешуей под золотом заката.
И оттеняла их трава зеленым глянцем.
Гремела музыка, «виват» летел за танцем!
Капрал Добжинский лишь не разделял веселья,
Не слушал музыки, невесел, как с похмелья,
Сплел руки за спиной, и мрачен, и суров он!
Бедняга! До сих пор был Зосей очарован!
Он ей таскал цветы и гнезда из дубравы,
Сережки вырезал неверной для забавы.
Неблагодарная! Хоть он дарил немало,
Хотя она, его завидя, убегала,
Хотя отец его не потакал проказам,
Он все ж, чтоб увидать хотя б единым глазом,
Как возится она на огороде с грядкой,
Взбирался на забор, полз в коноплю украдкой;
Неблагодарная! Не поглядев на пляску,
Мазурку засвистал, надвинул ниже каску
И к лагерю побрел, где пили ветераны,
Пытался картами пролить бальзам на раны,
Глушил вино! Увы! Не помогло и пьянство!
Вот было каково у Пробки постоянство!
А Зося весело танцует: бал в разгаре,
Она едва видна, хотя и в первой паре;
На зелени травы она, в зеленом платье,
С венком на голове, на розовом закате
Ведет танцующих движеньем грациозным,
Как в небе светлый дух вращеньем правит звездным.
Найти ее легко — устремлены к ней взгляды,
К ней руки тянутся, все танцевать с ней рады,
Напрасно тщился с ней остаться Подкоморий.
Соперники его прочь оттеснили вскоре,
Домбровский вслед за ним добился сладкой чести,
Но уступить пришлось: и третий шел к невесте.
Однако потерпел он также пораженье,
Устала Зосенька от шума и движенья,
Попав к Тадеушу, ушла она из круга,
Не стала танцевать, чтоб не покинуть друга,
Пошли к столам они налить гостям бокалы.
Л в небе догорал заката отблеск алый,
И облаков края сквозили еле-еле —
Вверху лиловые, а снизу розовели,
Сулили облака хорошую погоду,
То как стада овец брели по небосводу,
То стайками чирков кружились, а иные
Как занавески вдруг белели кружевные,
Струились складками, из глубины сверкая
Жемчужной пронизью и позолотой с края.
В закатном отблеске они неярко тлели
И выцветали все, желтели и бледнели.
Тут солнце голову в глубь облаков уткнуло,
Теплом в последний раз дохнуло и уснуло.
А шляхта все пила на мураве зеленой
За Зоею, за вождей и за Наполеона.
Вновь чарки подняла она за обрученных,
Потом за всех гостей, на свадьбу приглашенных,
И за живых друзей, встречавшихся когда-то,
И за покойников, чью память чтили свято!
И я с гостями был, пил добрый мед и вина,
Что видел, что слыхал, собрал здесь воедино.
Эпилог
Так думал я на улицах парижских,
В шумихе, в хаосе обманов низких,
Утраченных надежд, проклятий, споров,
И сожалений поздних, и укоров.
О, горе нам, бежавшим на чужбину
В суровый час, кляня свою судьбину.
Тревога неотступно шла за нами,
Все встречные казались нам врагами.
Все туже сдавливали нас оковы,
Еще чуть-чуть — и задушить готовы.
Когда и к жалобам все были глухи,
Когда из Полыни доносились слухи,
Как похоронный звон, как плач надгробный,
Когда притворный друг и недруг злобный
Старались сжить нас поскорей со света,
И даже в небе не было просвета,
То дива нет, что нам постыло это,
Что, потеряв от долгой муки разум,
Накинулись мы друг на друга разом.
* * *
Хотел бы малой птицей пролететь я
Сквозь бури, грозы, ливни, лихолетье
И вновь вернуть безоблачность погоды,
Отцовский дом, младенческие годы.
Одна утеха в тяжкую годину —
С приятелями ближе сесть к камину,
От шума европейского замкнуться,
К счастливым временам душой вернуться,
Мечтать о родине, забыв чужбину.
Зато о крови, льющейся рекою,
О родине, охваченной тоскою,
О славе, что еще не отгремела, —
О них помыслить и душа не смела!
Народ перетерпел такие муки,
Что мужество заламывает руки!
Там в горьком трауре мои собратья,
Там воздух тяжелеет от проклятья,
В ту сферу страшную лететь боится
И буревестник — грозовая птица.
Мать-Полына! Так недавно в гроб сошла ты,
Что слов нет выразить всю боль утраты!
Ах! Чьи уста похвастаться готовы,
Что ими найдено такое слово,
Которое вернет надежды снова,
Развеет мрак отчаянья былого,
Поднимет сердца каменное веко,
Чтоб горе выплакать. Не хватит века
Такое слово отыскать на свете,
Придется ждать его тысячелетье.
Когда же наконец с рычаньем гордым
Ударят мщенья львы по вражьим ордам
И смолкший крик врагов всему народу
Вдруг возвестит желанную свободу,
Когда орлы родные с громом славы
Домчатся до границы Болеслава
{362},
Врагов в тяжелой битве уничтожат,
Упьются кровью всласть и крылья сложат, —
Тогда, увенчаны листвой дубовой,
Уже без снаряженья боевого,
Герои к песням возвратятся снова:
Им в доле их высокой и завидной
О прошлом слушать будет не обидно,
Над судьбами отцов заплачут сами
Печальными, но чистыми слезами.
Сегодня нам, непрошеным, незваным,
Во всем былом и будущем туманном
Еще остался мирный край, однако,
В котором счастье есть и для поляка:
Край детства, с нами неразрывно слитый,
Как первая любовь не позабытый.
Он не отравлен горьким заблужденьем,
Не омрачен бесплодным сожаленьем,
Не затуманен времени теченьем.
О, если б сердце улететь могло бы
Туда, где я не знал ни слез, ни злобы,
Где, как по лугу пестрому, по свету
Бродили, радовались первоцвету,
Топтали белену, а трав целебных
Не избегали на лугах волшебных.
Тот край счастливый, небогатый, скромный
Был только наш, как божий мир — огромный.
Все в том краю лишь нам принадлежало,
Все помню, что тогда нас окружало,
От липы той, что на холме росла там
И зеленью дарила тень ребятам,
До ручейка, бегущего по скатам,
Все близко было нам и все знакомо
Вплоть до границы, до другого дома.
Те земляки, покинутые нами,
Одни еще остались нам друзьями —
Союзниками верными навечно.
Кто жил там? Мать, сестра, еще, конечно,
Приятели; когда мы их теряли,
Как долго предавались мы печали!
И не было конца слезам, рассказам…
Там к пану крепче был слуга привязан,
Чем муж к жене в иных краях. Там, в Польше,
Солдат о сабле сокрушался дольше,
Чем брат о брате здесь. Там горше втрое
Оплакивали пса, чем здесь героя.
Друзья мои, лишь в руки взял перо я, —
За словом слово в песню мне бросали,
Как в сказке журавли, что услыхали
Над диким островом в стране тумана
Крик заколдованного мальчугана,
По перышку бросали, по другому, —
Он, сделав крылья, долетел до дому.
Дожить бы мне до радостного мига,
Когда войдет под стрехи эта книга,
Чтоб девушки за пряжею кудели
Не только бы родные песни пели
Про девочку, что скрипку так любила,
Что и гусей для скрипки позабыла,
Про сиротинку зорьку-заряницу,
Что на ночь глядя загоняла птицу, —
Чтоб взяли девушки ту книгу в руки,
Простую, как народных песен звуки.
Бывало, предавались мы забаве —
Под липою валялись на отаве,
Читая о Юстине и Веславе
{363}.
Садился эконом за столик рядом,
А то и пан, коль проходил он садом,
И не мешали чтению, порою
Нам объясняли то или другое,
Хваля хорошее, простив дурное.
И ревновали мы поэтов к славе,
Еще гремящей там, в лесу и в поле, —
Хотя не увенчал их Капитолий —
Но рутовый венок, сплетенный жницей,
Лаврового венка милей сторицей.
Объяснения
Во времена Речи Посполитой приведение приговоров в исполнение было очень затруднено в стране, где исполнительная власть почти не имела в своем распоряжении полиции, а магнаты содержали при своих дворах полки, а некоторые, как князья Радзивиллы, даже более чем десятитысячное войско. Истец вследствие этого, получив приговор, вынужден был за приведением его в исполнение обращаться к рыцарскому сословию, то есть к шляхте, которая также располагала исполнительной властью. Вооруженные родственники, друзья и земляки выступали в поход с приговором в руках и в сопровождении возного добывали, часто не без кровопролития, присужденное истцу имущество, которое возный согласно закону передавал истцу либо во временное пользование, либо в собственность. Такое вооруженное приведение приговора в исполнение называлось «заяздом». В прежние времена, покамест еще уважали законы, самые могущественные магнаты не смели сопротивляться приговорам, вооруженные столкновения были редки, а насилие почти никогда не оставалось безнаказанным. Известен из истории печальный конец князя Василия Сангушки
{364} и Стадницкого
{365}, прозванного Дьяволом. Порча общественных нравов в Речи Посполитой умножила число «заяздов», которые непрерывно нарушали спокойствие на Литве.
О матерь божия, ты светишь в Острой Браме, //
Твой чудотворный лик и в Ченстохове с нами… — Всем в Польше известен чудотворный образ пресвятой девы на Ясной Горе в Ченстохове. В Литве славятся чудесами образа пресвятой девы Остробрамской в Вильно, Замковой — в Новогрудке, а также Жировицкой и Борунской.
Коней не посылал к еврею пан Соплица, //
Не мог он с новшеством подобным примириться! — Царское правительство никогда не отменяет сразу в завоеванных землях законы и гражданские институты, но постепенно подрывает их и разлагает указами. В Малороссии, например, до последних лет сохранялся Литовский Статут
{366}, фактически отмененный указами. Литве оставлено все старое устройство гражданских и уголовных судов. Как и прежде, там избирают судей, земских и городских — в повятах, а также главных судей — в губерниях. Но апелляции направляются в Петербург, во множество инстанций разных степеней, и таким образом у местных судов осталась лишь тень их прежней традиционной силы.
Все ждали Войского, пока он наряжался… — Войский (tribunus) был некогда, по должности, опекуном жен и детей шляхты на время всеобщего ополчения. Давно уже эта должность, без всяких обязанностей, стала почетной. В Литве существует обычай давать видным лицам, из вежливости, какой-либо старинный титул, узаконенный благодаря постоянному употреблению. Так, например, соседи называют своего приятеля Обозным, Стольником или Подчашим сначала только в разговоре или в личной переписке, а затем даже и в официальных актах. Царское правительство запрещало подобное титулование и пыталось даже выставить его на посмешище, вводя вместо него титулование по своей иерархии чинов, к которой литвины до сих пор чувствуют глубокое отвращение.
Пан Подкоморий здесь, и дочери с ним тоже. — Звание Подкомория, некогда видного и важного сановника (Princeps Nobilitatis), стало при царской власти только титулом. Некоторое время он еще решал граничные дела, но наконец утратил и эту область давней юридической власти. Теперь он иногда еще заменяет маршалка (предводителя дворянства) и назначает «коморников», или повятовых (уездных) землемеров.
Пан Войский взял свечу и вышел с Возным в сени… — Возный, или генерал, избранный из местной шляхты постановлением трибунала или суда, разносил повестки, провозглашал ввод во владение, производил судебный осмотр на месте фактического положения вещей, объявлял о слушании судебных дел и т. п. Обычно эту должность нес кто-либо из мелкой шляхты.
Все, как за ястребом, за ним гнались, бывало… — Ястреб — хищная птица из породы ястребиных. Известно, что мелкие пташки, и особенно ласточки, целыми стайками гоняются за ястребами. Отсюда и поговорка: летать, как за ястребом.
Солдаты говорят, что Бонапарт колдует… — Среди простого русского люда кружит немало рассказов о колдовстве Бонапарта и Суворова.
Юрист доказывал Асессору… — Асессоры составляют земскую полицию повята. По указам их иногда выбирают сами граждане, а иногда они назначаются администрацией; последних зовут коронными. Судей по апелляциям тоже зовут асессорами, но здесь речь идет не о них. Нотариусы управляют канцелярией суда и составляют судебные приговоры; их назначают по указанию секретарей судов.
Ну что подумал бы пан Неселовский, други, //
Владелец лучших свор и первый пан в округе?.. — Граф Юзеф Неселовский, последний новогрудский воевода, был председателем революционного правительства во время восстания Ясинского.
Бялопетровичу и то он шлет отказы… — Ежи Бялопетрович — последний писарь Великого княжества Литовского. Принимал деятельное участие в восстании Ясинского. Он судил государственных преступников в Вильно
{367}. Муж, весьма уважаемый в Литве за доблести и патриотизм.
Брехальский сиял с него парчовый слуцкий пояс… — В Слуцке была фабрика золотого шитья и поясов, славившихся на всю Польшу; ее усовершенствовал Тизенгауз.
Реестр судебных дел… — Воканда (реестр судебных дел) — узкая продолговатая книжка, куда записывались имена тяжущихся сторон в порядке рассмотрения дел, Каждый адвокат и возный обязан был иметь подобную книжку.
Войсками польскими отбитые знамена! — Генерал Князевич, посланный итальянской армией, сложил перед Директорией добытые в боях знамена.
Мол, Яблоновский наш на острове далеком… — Князь Яблоновский, командир Наддунайского легиона, умер в Сан-Доминго, где погиб почти весь его легион. Среди эмигрантов имеется несколько ветеранов, уцелевших участников этого злополучного похода, и между ними генерал Малаховский.
На хорах музыка играла неустанно… — В старинных замках ставился на хорах орган.
.
..похлебкой чечевичной //
Однажды встречен был и не пришел вторично… — Подать паничу, домогавшемуся руки панны, черную похлебку к столу означало отказ.
У каждой свой секрет и зерен есть избыток… — [В оригинале дословно: «Или берет с ветки кофейные зерна лучшего сорта»,]
Вицины — это большие суда на Немане, которыми литвины пользуются для ведения торговли с Пруссией, отправляя на них зерно, а взамен получая бакалейные товары.
…
От князя Радзивилла //
достался мне смычок… — Князь Доминик Радзивилл, большой любитель охоты, эмигрировал в герцогство Варшавское и сформировал там на свой счет кавалерийский полк, которым и командовал. Умер во Франции. С ним угасла мужская линия Радзивиллов, князей Олыца и Несвижа, самых крупных магнатов в Польше и, должно быть, во всей Европе.
Мейен… — Мейен отличился в народной войне во времена Костюшко. Под Вильно до настоящего времени показывают мейенские окопы.
Паненки боровик разыскивают с жаром, //
Грибным полковником зовется он недаром! — На Литве широко известна народная песня о грибах, выступающих на войну под командой боровика. В этой песне описаны свойства съедобных грибов.
Художник пан Орловский — известный художник-жанрист; за несколько лет до смерти начал писать пейзажи. Умер недавно в Петербурге.
Пиявок из дому сюда доставьте живо! //
…Пса Справником зовут, Стряпчиною звать суку! — Пиявки — порода английских псов, малых, но сильных; они служат для охоты на крупного зверя, главным образом на медведя.
Справник, или капитан-исправник, — начальник уездной полиции. Стряпчий — должностное лицо вроде государственного прокурора. Эти чиновники, часто располагающие возможностью злоупотребить властью, вызывают глубокое отвращение у граждан.
Железный волк ему явился в сновиденье… — По преданию, великому князю Гедимину приснился на Понарской горе железный волк, и Гедимин, по совету вайделота Лиздейки, заложил город Вильно.
.
..Последний на Литве король — охотник, воин… — Зыгмунт-Август, по старинному обычаю, препоясался в столице Великого княжества Литовского мечом и короновался шапкой Витольда. Он очень любил охоту.
А как Баублис-дуб? — В Росенском уезде, в имении Пашкевича, земского писаря, рос дуб, прозванный Баублис, некогда, в языческие времена, считавшийся священным. В дупле этого исполина Пашкевич устроил кабинет литовских древностей.
Шумит ли рощица Миндовга за костелом? — Недалеко от приходского костела в Новогрудке росли древние липы; их много вырубили около 1812 года.
Дуб, старый говорун, разросся в поднебесье, //
Нашептывал певцу сказания не раз он! — См. поэму Гощинского «Каневский замок».
И только эконом был на особом месте. — Почетное место, где в древности ставили домашних богов, где до сих пор русские вешают образа, Туда литовский крестьянин сажает гостя, которого хочет почтить.
Орел, едва в крючок орлиный клюв согнется, //
И погибать орлу от голода придется… — Клювы больших хищных птиц, по мере того как эти птицы стареют, все более искривляются, пока наконец верхнее острие, загнувшись, не замкнет клюв, и тогда птица умирает с голоду. Это народное предание принято некоторыми орнитологами.
.
..Поэтому в лесных оврагах и лощинах // Не отыскать костей и черепов звериных… — В самом деле, не было случая, чтобы когда-нибудь был найден скелет издохшего зверя.
Двустволочка моя! Мал золотник, да дорог… — Ружье малого калибра, в которое кладется маленькая пуля. Меткий стрелок поражает из такого ружья птицу на лету.
.
..Покуда золото не пролилось, сверкая. — В бутылках гданьской водки на дне бывают листочки золота.
К ливийцам приплыла прекрасная Дидона //
И там клочок земли добыла при условье, //
Что он уместится под шкурою воловьей? — Царица Дидона приказала разрезать на полосы воловью шкуру и таким образом охватила ею обширное поле, на котором заложила Карфаген. Войский вычитал описание этого события не в «Энеиде», а, вероятно, в комментариях схоластов.
NB. Некоторые места четвертой песни принадлежат перу Стефана Витвицкого
{368}.
Застянок (заглавие шестой книги). — В Литве называют «околицей» или «застянком» шляхетское селение, чтобы отличить его от собственно деревень или сел, то есть крестьянских поселений.
Десятая вода на киселе! — Кисель — литовское кушанье, род галантира; он приготовляется из заквашенного молотого овса, отполаскиваемого водой до тех пор, пока не отделятся все мучные частицы; отсюда и поговорка.
Как Володкевич-пан… — После многих своих бесчинств Володкевич был схвачен в Минске и по приговору трибунала расстрелян.
Всю молодежь призвал Ян Третий в ополченье… — Король, объявляя созыв всеобщего ополчения, приказывал втыкать в каждом приходе высокий шест с привязанной к нему сверху метлой, то есть выставляет, веху (вицу). И это называлось «раздать вехи». Каждый взрослый мужчина рыцарского сословия обязан был тотчас же, под угрозой утраты шляхетства, стать под воеводскую хоругвь.
.
..Спеша на выручку прийти к Потею-пану… — Граф Александр Потей, возвратившись с войны в Литву, поддерживал перебегавших за границу земляков и пересылал значительные суммы денег в кассу легионов.
Повыше в небесах Давида колесница… — Воз Давида — созвездие, известное у астрономов под именем Ursa major.
Так кости древних рыб огромного размера //
В костеле Мирском ксендз развесил для примера. — Был обычай вывешивать возле костела найденные остатки ископаемых животных, которые простой народ считает костями исполинов.
.
..Комета яркая, что с запада всходила… — Памятная комета 1811 года.
…
И довелось мне быть с Почобутом знакомым… — Ксендз Почобут — бывший иезуит, известный астроном, издал труд о зодиаке в Дендерах и своими наблюдениями помог Лаланду в вычислении движения Луны. См. его биографию, составленную Яном Снядецким.
Денасов в свите был тогда у генерала… — Точнее — князь де Нассау-Зиген. Известный в то время воин и любитель приключений. Он был русским адмиралом и побил турок на Лимане, затем сам был наголову разбит шведами. Жил некоторое время в Польше, где получил индигенат
{369}. Поединок князя де Нассау с тигром гремел тогда во всей европейской прессе.
А «Книгу желтую» читал судья Соплица? — «Желтая книга», названная так по ее обложке, — варварская книга российских военных законов. Не раз в мирное время правительство объявляет целые области на военном положении и на основании «Желтой книги» отдает военачальнику всю власть над имуществом и жизнью граждан. Известно, что с 1821 года вплоть до революции вся Литва подлежала действию «Желтой книги», а проводил это в жизнь великий князь цесаревич.
В руке держал ружье, другой — тащил колоду //
С кремнями острыми под грубою корою… — Литовская дубина делается следующим способом: высмотрев подходящий молодой дуб, его обрабатывают топором снизу доверху так, чтобы только слегка поранить дерево, разрубив в нем кору и заболонь, В образовавшиеся рубцы втыкают острые кремни, которые со временем врастают в дерево в виде твердых узлов В языческие времена подобные дубины (мачуги) были основным оружием литовской пехоты; их иногда употребляют и в наше время, называя их «насеками».
.
..Спас город мещанин, какой-то Чернобацкий // Убил он Деева и полк разбил казацкий! — После восстания Ясинского, когда литовские войска отступали к Варшаве, русские подошли к Вильно. Генерал Деев со свитой въезжал в город через Острую Браму. Улицы были пусты, жители заперлись в домах. Но один из граждан города, заметив покинутую в переулке пушку, набитую картечью, прицелился в ворота и поднес фитиль, Этот выстрел спас тогда Вильно: генерал Деев с несколькими офицерами погиб, а остальные, боясь засады, отступили от города. Не могу назвать с уверенностью фамилию этого горожанина.
И тем окончился в Литве наезд последний. — Бывали еще и позже «заязды», хотя и не столь славные, но все же громкие и кровавые. Около 1817 года некий У., в Новогрудском воеводстве, побил во время «заязда» весь новогрудский гарнизон и взял в плен его командиров.
Медаль за Измаил, а эта за Очаков, // И за Эйлау та… — Конечно, за Прейсиш-Эйлау.
.
..Богатства Стольника они Соплицам дали, // Торговичане чин присвоить мне хотели… — Кажется, Стольник был убит около 1791 года, во время первой войны.
Весенние предзнаменования… — Один из русских историков именно так описывает гадания и предчувствия русского простонародья перед войной 1812 года.
«Отличным поваром» звалась она недаром… — Книга «Отличный повар», теперь чрезвычайно редкая, лет полтораста тому назад издана Станиславом Чернецким.
.
..что задавал банкеты // На удивление святейшему Урбану. — Упомянутое посольство в Рим часто описывали и изображали на картинах. См. предисловие к книге «Отличный повар»: «Это посольство вызвало изумление всего западного мира; и так замечательны были блеск и устройство стола, что один из римских князей воскликнул: «Рим счастлив, принимая ныне такого посла». Чернецкий сам был кухмистером у Оссолинского.
.
..Маршалком выбрали его конфедераты… — В Литве после вступления французских и польских войск были образованы по воеводствам конфедерации и выбраны депутаты на сейм.
.
..У Гогенлиндена под вражеским напором… — Известно, что под Гогенлинденом польский корпус под командованием генерала Князевича сыграл решающую роль в победе.
.
..Сервиз когда-то был Сиротки-Радзивилла{370}… — Радзивилл-Сирота совершил путешествие к святым местам и издал его описание.
Сервиз меняется, там, где снега белели, // Зимы в помине нет, луга зазеленели… — В XVI и в начале XVII века, в эпоху расцвета искусства, даже пиры оформлялись художниками и были полны символов и театральных сцен. На знаменитом пиру, данном в Риме в честь Лева X, был сервиз, представлявший поочередно четыре времени года и послуживший, вероятно, образцом для радзивилловского. Застольные обычаи изменились в Европе около середины XVIII века; в Польше они удержались дольше, чем в других странах.
Быть может, чертенят ссудил вам пан Пинети? — Пинети был известный всей Польше фокусник; когда он гостил у нас, не знаем.
Я не Цибульский-пан! —
старик воскликнул пылко. —
// Что проиграл жену солдату за бутылкой… — В Литве широко известна трогательная песня о пани Цибульской, которую муж проиграл москалям.
И вот оделся он согласно новой моде… — Мода на французскую одежду распространялась в польской провинции от 1800 до 1812 года. Большинство молодых мужчин меняло покрой одежды перед женитьбой, по требованию своих невест.
…И
про Деиасову обиду на Рейтана… — История спора Рейтана с князем до Нассау, не доведенная до конца, известна по устным преданиям. Чтобы удовлетворить любопытство читателей, приводим ее конец: Рейтан, задетый за живое похвальбой князя де Нассау, стал возле него на тропке. Как раз в это время огромный кабан, разъяренный ранами и травлей, мчался на эту тропу. Тогда Рейтан вырывает ружье из рук князя, швыряет свое наземь и, схватив рогатину, подает немцу другую со словами: «Ну а теперь посмотрим, кто лучше работает копьем». Кабан был уже совсем недалеко, как вдруг Войский Гречеха, стоявший поодаль, метким выстрелом повалил зверя. Те сначала сердились, а потом, помирившись между собою, щедро наградили Гречеху.
Ведь вот помещик Карп дал людям отпускную… — Российское правительство не признает вольных людей, кроме дворянства. Крестьян, освобожденных их владельцем, тотчас же записывают в «сказки» удельного ведомства, и они вместо барщины платят еще большую подать. Известно, что в 1818 году граждане Виленской губернии приняли на сеймике проект освобождения всех крестьян и с этой целью избрали делегацию к императору; но правительство приказало уничтожить проект и больше никогда не вспоминать о нем. При царской власти нет другого способа освободить человека, как включив его в состав своей семьи. И многие таким образом получали дворянство из милости или же за деньги.


Примечания
1
Как будто вижу! Где?..
В очах моей души!
Шекспир (англ.).
(обратно)
2
Существует поверье, что на берегах Свитези появляются ундины, или нимфы, которых в народе называют свитезянками.
(обратно)
3
Неприятные речи
(лат.).
(обратно)
4
Слово чести
(лат.).
(обратно)
5
Из народной песни.
(обратно)
6
Когда отчасти был другим, чем ныне, человеком.
Петрарка (итал.).
(обратно)
7
Урсын — второе имя Юлиана Немцевича.
(обратно)
8
Лира Алкея — по имени славного греческого лирика Алкея, который родился в Митиленах и жил около 604 г. до н. э.
(обратно)
9
Лета — река забвения в Элизиуме, из которой пили души умерших, чтобы забыть пережитые на земле страдания; когда, по истечении нескольких веков, они воплощались в иные тела, они снова должны были пить из нее.
(Мифология.).
(обратно)
10
Кто хочет поэта постичь,
Должен отправиться в страну поэта.
Гете (нем.).
(обратно)
11
Я воздвиг крепость прочнее бронзы…
(лат.).
(обратно)
12
Пусть читатель имеет в виду, что это речи языческие, направленные против немецкого рыцарства и объясненные в данных ниже примечаниях.
(обратно)
13
«Вскармливают они еще, словно это были бы домашние божества, каких-то жирных и четвероногих ужей черного цвета, называемых гивойтосами»
(лат.).
(обратно)
14
Перевод М. Живова.
(обратно)
15
Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы… надо поэтому быть лисицей и львом.
Макиавелли (итал.).
(обратно)
16
Перевод М. Лозинского.
(обратно)
17
Я снял все траурные погребальные покровы, возлежавшие на гробах, я заглушил величавое утешение всепрощающих речей, чтобы только вновь и вновь повторять себе: «Ах, ведь все это было не так! Тысячи радостей навеки сброшены в бездну, и вот (ты) стоишь одиноко здесь и вспоминаешь их!» Страждущий! Страждущий! Не читай сразу всей разорванной книги прошлого… Не довольно ли скорби?
Жан Поль (нем.).
(обратно)
18
Народная песня
{126}.
(обратно)
19
Из Шиллера
{127}.
(обратно)
20
Из народной песни.
(обратно)
21
Из Гете
{129}.
(обратно)
22
Шиллер
{130}.
(обратно)
23
Черт побери!
(франц.).
(обратно)
24
Заклинаю…
(лат.).
(обратно)
25
Говори со мной по-французски, мой бедный капуцин, я мог позабыть свою латынь в высшем свете, но ты, как святой, должен владеть языками
(франц.). Быть может, вы говорите по-немецки? Что вы так уныло бормочете?
(нем.) Что это такое?
(англ.) Кавалеры, я отвечу
(итал.).
(обратно)
26
Верно, в этой игре мы компаньоны: он мудрец, а я дьявол по профессии. Я был его наставником и этим горжусь. Если ты знаешь больше нас, говори — я вызываю тебя
(франц.).
(обратно)
27
Старый Фриц (
нем. — подразумевается Фридрих II, король прусский). Имя мне — Легион
(лат.).
(обратно)
28
Снова, сначала
(лат.).
(обратно)
29
Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь. Заклинаю тебя, дух нечистый
(лат.).
(обратно)
30
Простите
(франц.).
(обратно)
31
Верховный канцлер
(франц.).
(обратно)
32
Черт возьми! Что за обуза!
(франц.).
(обратно)
33
Дамы — старухи… представьте себе!
(франц.).
(обратно)
34
Гнать из-за моего стола, с их бесцеремонной болтовней и несносным тоном
(франц.).
(обратно)
35
Черт побери!
(франц.).
(обратно)
36
Его высочество
(франц.).
(обратно)
37
Я не могу больше!
(франц.).
(обратно)
38
Это легкая болезнь… это преходящие случайности
(франц.).
(обратно)
39
Господин доктор
(итал.).
(обратно)
40
Вы смеете, доктор!
(франц.).
(обратно)
41
Кстати
(франц.).
(обратно)
42
Видите
(франц.).
(обратно)
43
Поджигатель!
(франц.).
(обратно)
44
Это не твое дело
(франц.).
(обратно)
45
И что же?
(франц.).
(обратно)
46
Держу пари
(франц.).
(обратно)
47
Триста палок, и остался жив? Триста палок, вот шельма; триста палок, и не издох! Что за якобинская спина! Кожа прочнее, чем всюду… кожа, еще лучше выделанная!
(франц.).
(обратно)
48
Мой друг
(франц.).
(обратно)
49
Честный солдат умер бы от этого десять раз! Какой бунтовщик!
(франц.).
(обратно)
50
Деревянный слуга
(франц.) — приспособление для снимания высоких сапог.
(обратно)
51
Справедливо!
(франц.).
(обратно)
52
Вы не любите истории, ха-ха, сатирик сказал бы… отойти в историю (в прошлое)
(франц.).
(обратно)
53
Она пришла с письмом
(франц).
(обратно)
54
Княгиня, может быть?
(франц.).
(обратно)
55
С каким пылом!
(франц.).
(обратно)
56
Мать этого негодяя
(франц.).
(обратно)
57
Господин сенатор! О, я вас прервала!.. Сейчас будут петь хор из «Дон-Жуана», и потом…
(обратно)
58
Сердце
(нем.) хор!
(франц.). (Здесь игра слов, основанная на том, что Герц (Herz) по-немецки означает сердце, французское chœur (хор) произносится так же, как и cœur (сердце).
(обратно)
59
Вы пришли кстати, вы, прелестная, как сердце. Чувствительный момент! Здесь настоящий дождь сердец!
(франц.).
(обратно)
60
Великий князь Михаил
(франц.).
(обратно)
61
Я тотчас буду
(франц.).
(обратно)
62
Но сжальтесь над ней!
(франц.).
(обратно)
63
Черт меня возьми!
(франц.).
(обратно)
64
Это забавно!
(франц.).
(обратно)
65
Ну, ладно
(франц.).
(обратно)
66
Возможно ли?
(франц.).
(обратно)
67
Вообразите
(франц.).
(обратно)
68
Будьте покойны!
(франц.).
(обратно)
69
Прощайте
(франц.).
(обратно)
70
Я тотчас буду
(франц.).
(обратно)
71
Это уж слишком!
(франц.).
(обратно)
72
Это вредит здоровью
(франц.).
(обратно)
73
Ну, мой доктор!
(франц.).
(обратно)
74
Помогает пищеварению
(франц.).
(обратно)
75
Присутствовать при допросе
(франц.).
(обратно)
76
За чашкой кофе
(франц.).
(обратно)
77
С таким поблеклым цветом лица
(франц.).
(обратно)
78
На Капри!
(франц.).
(обратно)
79
Прекрасно
(франц.).
(обратно)
80
Что за лицо! У него вид поэта… столь глупый взгляд?
(франц.).
(обратно)
81
Что вы мне толкуете, мой дорогой?.. Невозможно!
(франц.).
(обратно)
82
Дайте вас обнять!
(франц.).
(обратно)
83
Послушайте
(франц.).
(обратно)
84
Это недостойно!
(франц.).
(обратно)
85
Ах, дорогой сенатор!
(франц.).
(обратно)
86
Поистине, это несчастье!
(франц.).
(обратно)
87
Торжественный
(франц.).
(обратно)
88
Прошу прощения, тысячи извинений, я был очень занят. Что я вижу, менуэт? Как чудесно сгруппирован! Это напомнило мне дни моей юности! — Это всего лишь сюрприз. — Вы ли это, моя богиня? Как я люблю этот танец! Сюрприз! О боги! — Вы будете танцевать, надеюсь!
(франц.).
(обратно)
89
Конечно, со всем стараньем
(франц.).
(обратно)
90
Он сейчас лопнет
(франц.).
(обратно)
91
Он сейчас лопнет
(франц.).
(обратно)
92
Ах, какая красота, какое изящество!
(франц.).
(обратно)
93
Мой генерал, что за песенка!
(франц.).
(обратно)
94
Какая честь, какое счастье! Ах, господин сенатор! Я ваш покорнейший слуга и т. д. ит. д.
(франц.).
(обратно)
95
Генерал, это ваши слова? — Да. — Я поздравляю вас — Куплеты эти, право, весьма забавны! Что за сатирический и шутливый тон!
(франц.).
(обратно)
96
За вашу несравненную музу я бы сделал вас академиком
(франц.).
(обратно)
97
Погоди, я тебе наставлю рога
(франц.).
(обратно)
98
Ах, что за красота, какое изящество!
(франц.).
(обратно)
99
Становитесь же, сударыни
(франц.).
(обратно)
100
Это непостижимо!.. Дьявольское дело!
(франц.).
(обратно)
101
Смотрите… смотрите, какой блуждающий взгляд… исключительный случай!
(франц.).
(обратно)
102
Можно было бы сказать
(франц.).
(обратно)
103
Будут слишком много болтать!..
(франц.).
(обратно)
104
Он мелет вздор…
(франц.).
(обратно)
105
«Вставай, мальчик!»
(лат.).
(обратно)
106
«Боже мой!»
(нем.).
(обратно)
Комментарии
1
Произведения Мицкевича, вошедшие в данный том «Библиотеки всемирной литературы», печатаются в том порядке, в каком они расположены в последнем из полных собраний сочинений поэта — шестнадцатитомном так называемом «Юбилейном издании», которое было осуществлено в связи со столетием со дня смерти Мицкевича варшавским издательством «Чительник» (под редакцией Ю. Кшижановского, С, Пигоня, Л, Плошевского, Г, Вольпе, К. Выки): Adam Mickiewicz. Dziela, (Wydanie Jubileuszowe)» Tt. I–XVI, Warszawa. 1955. «Czytelnik».
(обратно)
2
Стихотворения
1820–1824
Ода к молодости (стр. 23). — По цензурным соображениям Мицкевич не мог включить «Оду» в первые издания своих стихотворений. Впервые она была напечатана без ведома автора в 1827 г. во Львове (с множеством искажений). Такого же характера были издания, осуществленные в восставшей Варшаве (декабрь 1830 г. — газета «Подхорунжий», 1831 — брошюра под названием «Гимн молодости», и ряд других, до нас не дошедших). Публикации эти делались на основе списков, ходивших по рукам и доносивших революционные призывы поэта до широкого читателя, и не только польского (один из ранних списков «Оды» сохранился, например, в следственном деле декабриста М. С, Лунина). Первый русский перевод «Оды» (В. Бенедиктова) появился в 1857 г. (без упоминания имени Мицкевича); за ним последовали переводы Н, Семенова, Л. Пальмина, А, Колтоновского, П. Антокольского и др.
(обратно)
3
Кто в младенчестве гидру задушит… — Мицкевич обращается здесь к мифам о подвигах Геракла.
(обратно)
4
Песнь филаретов (стр. 25). — С текстом «Песни» Мицкевич впервые познакомил своих друзей в конце 1820 г., приехав из Ковна в Вильно на рождественские праздники. Из переписки филоматов известно, что она неоднократно распевалась на их собраниях. Фигурировала она и в ходе следствия о тайных обществах, причем признана была вольнодумной и бунтарской. Автор «Песни» обращается поочередно к членам различных филаретскнх кружков, созданных в соответствии с теми науками, которые изучались их членами.
(обратно)
5
И взор затмится Фели… — Имя это часто упоминается в стихах филоматов и принадлежит, возможно, одной из их знакомых.
(обратно)
6
Баллады и романсы
Именно к этому циклу относятся первые (прозаические и стихотворные) русские переводы стихов Мицкевича, опубликованные в 1825–1826 гг. (Неоконченные рылеевские переводы, созданные около 1822 г., увидели свет лишь в 1872 и 1954 гг.) И в дальнейшем цикл привлекал внимание видных русских поэтов: Л. А. Мея, А. А. Фета и др. (см. также вступительную статью).
(обратно)
7
Романтика (стр. 29). — Полемический характер баллады связан с литературными спорами того времени. Развитие романтизма в европейских литературах поставило перед польской критикой вопрос об отношении к новому направлению. В 1818 г. поэт и критик Казимеж Бродзинский (1791–1835) выступил со статьей «Замечания по поводу духа польской поэзии» (позднейшее название — «О классицизме и романтизме»), где, не присоединяясь ни к одному из направлений и предлагая польской поэзии иной, «средний» путь, с оговорками, все же признавал за романтизмом известные достоинства. Ему ответил статьей «О классических и романтических произведениях» (1819) известный польский ученый и философ, сторонник идей просвещения и классицизма Ян Снядецкий (1756–1830). Он ополчался не против отечественного романтизма (такого еще не было), а против перенесения на польскую почву крайностей романтизма зарубежного, прежде всего немецкого, с его философским иррационализмом, и вместе с тем предостерегал против радикальных политических тенденций, оценивая романтизм как «школу измены и заразы», как проявление «дикости и неотесанности». Снядецкий и выведен Мицкевичем в «Романтике» в облике ученого «старца».
(обратно)
8
Свитезь (стр. 31). — Озеро Свитезь расположено в окрестностях Новогрудка. Михал Верещака, которому посвящена баллада, — брат Марыли, возлюбленной поэта.
(обратно)
9
Плужины — усадьба Верещаков.
(обратно)
10
Цирин — местечко в окрестностях Новогрудка.
(обратно)
11
«Цари». — Народное название растения «царь-трава» («царь-зелье») поэт переносит на водоросли Свитези.
(обратно)
12
Князь Тцган… — Родовое имение Верещаков называлось Тугановичи; от этого названия и вывел поэт имя князя.
(обратно)
13
Мендог (Миндовг) — первый исторически засвидетельствованный князь Литвы, правивший с 30-х годов XIII в. до 1263 г. и объединивший литовские племена. Столицей его был Новогрудок. Упоминание в балладе о войне с «русским царем» — очевидный анахронизм.
(обратно)
14
Пани Твардовская (стр. 41). —
Твардовский — герой многочисленных польских народных легенд, шляхтич-чернокнижник, ради могущества и богатства продавший душу дьяволу. Образ его использован в целом ряде литературных произведений.
(обратно)
15
Истый немец… — В польском фольклоре черт очень часто изображается наряженным на немецкий лад.
(обратно)
16
Кунтуш — старопольская шляхетская одежда, состояла из длинного жупана и одевавшегося сверху контуша (кунтуша), рукава которого, разрезанные вдоль, можно было закидывать назад.
(обратно)
17
Лилии (стр. 45). — Эта баллада основана на использовании и переработке широко известной польской народной песни. Мицкевич уточнил при этом время действия, упомянув в тексте Болеслава Смелого, польского князя (с 1076 г. короля), воевавшего с Киевской Русью.
(обратно)
18
К М*** (стр 54). — Посвящено Марыле Путкамер (Верещака).
(обратно)
19
В альбом С. Б. (стр. 56). — Адресатом стихотворения является Саломея Бекю, мать польского поэта Юлиуша Словацкого (1809–1849). Она была образованной женщиной, ценила поэзию и музыку. Мицкевич бывал накануне ссылки в ее доме в Вильне.
(обратно)
20
Пловец (стр. 57). —
З. — Иоанна Залеская, жена украинского помещика. С нею и ее мужем Бонавентурой поэт познакомился в 1825 г., встречался в Одессе и Москве.
(обратно)
21
*** («Когда пролетных птиц несутся вереницы…») (стр. 57). — Посвящено Каролине Яниш (Павловой) (1807–1893), дочери профессора Московской медико-хирургической академии, немца по происхождению. Знакомство Мицкевича с нею переросло во взаимную симпатию, одно время был вероятен брак поэта с Яниш, сохранившей глубокое чувство к Мицкевичу на всю жизнь. Стихотворение вписано в альбом К. Яниш незадолго до Отъезда поэта из России. Одаренная поэтесса, К. Яниш вошла в русскую литературу как Каролина Павлова. Она переводила на французский и немецкий языки и произведения Мицкевича.
(обратно)
22
В альбом Целине Ш. (стр. 58). — Посвящено будущей жене поэта. Целине Шимановской. В момент написания стихотворения ей было семнадцать лет.
(обратно)
23
Сомнение (стр. 58). — Этим стихотворением открывается в данном сборнике цикл так называемой «одесской лирики» Мицкевича (1825), вошедший в петербургское двухтомное издание его сочинений 1829 г.
(обратно)
24
К Д. Д. («О, если б ты жила хоть день с душой моею…») (стр. 59). — Исследователи творчества Мицкевича не смогли расшифровать указанные в заглавии инициалы. Неясно даже, относятся ли они к одному адресату или к разным лицам, являясь как бы собирательным обозначением.
(обратно)
25
К Д. Д. («Когда в час веселья…») (стр. 61). — Это стихотворение имело необыкновенно богатый отзвук в музыкальной культуре. В Польше текст его был использован Ф, Шопеном. В России к нему обращались (пользуясь переводами С. Голицына, Л. Мея и т. д.) А. А. Алябьев, М. И. Глинка, П. И Чайковский, Э. Ф. Направник, Ц. А. Кюи, Н. А. Римский-Корсаков и др. (всего около двадцати композиторов).
(обратно)
26
Разговор (стр. 63). — Стихотворение это стало одним из самых популярных в России. Среди его переводчиков — Н. П. Огарев, Л. А. Мей, А. А. Фет, в новейшее время — Л. Мартынов.
(обратно)
27
Сонеты
Написанные в основном на юге, в 1825 г., сонеты разделены автором на два цикла. Первый именуют иногда «Любовными сонетами» (здесь он воспроизведен полностью, за исключением двух сонетов, VII и X, являющихся переводами из Петрарки). Второй составляют восемнадцать «Крымских сонетов».
Уже в 1827 г, прозаический русский перевод примерно половины «Сонетов» (в том числе всех «Крымских сонетов») опубликовал в «Московском телеграфе» П. А. Вяземский в своей рецензии на книгу Мицкевича, здесь же был дан и стихотворный перевод одного из сонетов, выполненный И. И. Дмитриевым. В том же году перевел три сонета лицейский товарищ Пушкина А. Илличевский. И. И. Козлов в 1829 г. опубликовал полный стихотворный перевод «Крымских сонетов», но не добился удачи; «Борьба была неравная», — отметил в позднейшей рецензии В. Г. Белинский, хотя и привел один из козловских переводов «как доказательство, что он мог усвоивать русской литературе драгоценнейшие перлы иностранных литератур». В последующие годы русские переводы из «Сонетов» появлялись в великом множестве (М. Лермонтов, А. Майков, А. Фет, И. Бунин и др.). В советское время «Крымские сонеты» переводили О. Румер, В. Левик, А, Ревич и др.
(обратно)
28
«Как ты бесхитростна! Ни в речи, ни во взоре…» (стр. 68). — Как следует из пометки на автографе, сонет посвящен Марыле Верещака.
(обратно)
29
Извинение (стр. 77). —
Вслед Урсыну… — Имеется в виду Юлиан Урсын Немцевич (1758–1841), писатель и общественный деятель, участник восстания Костюшко, после 1831 г. — эмигрант. Как поэт прославился своими «Историческими песнями», имевшими целью пробудить патриотическое самосознание и укрепить гражданский дух соотечественников. Песни эти высоко ценил К. Ф. Рылеев, видевший в них образец для своих «Дум», а в авторе их — пример поэта-гражданина.
(обратно)
30
Крымские сонеты
Поездка в Крым совершена была Мицкевичем в сентябре — октябре 1825 г. Спутниками поэта, о которых говорится в посвящении, были генерал И. О. Витт, начальник военных поселений юга России, руководивший тогда слежкой за декабристами, любовница Витта (и помощница в деле полицейского сыска) Каролина Собанская, со своим престарелым супругом, а также брат Каролины — Генрик Жевуский (1791–1866), впоследствии известный польский писатель, автор исторических романов, и агент Витта, некий Бошняк, путешествовавший под видом натуралиста. Высказано предположение, что отношения ссыльного поэта с этим кругом имели целью приобрести в глазах властей репутацию благонадежного и обезопасить себя от новых гонений.
(обратно)
31
1. Аккерманские степи (стр. 78). — Поездка в Аккерман совершена была Мицкевичем до путешествия по Крыму.
(обратно)
32
2. Штиль (стр. 79
). — Тарканкут (Тарханкут) — мыс на западном побережье Крыма.
(обратно)
33
5. Вид гор из степей Козлова (стр. 80). —
Козлов — русское название турецкой крепости и города Гёзлев, после присоединения Крыма к России переименованного в Евпаторию.
(обратно)
34
18. Аюдаг (стр. 87). —
Юный бард! — Речь идет, по-видимому, о Густаве Олизаре (1798–1865), польском поэте, жившем в то время в Крыму и встречавшемся с Мицкевичем. Олизар был связан с тайными обществами и привлекался к следствию по делу декабристов. Пушкин посвятил ему стихотворение «Графу Олизару» («Певец! издревле меж собою…»).
(обратно)
35
Объяснения (стр. 88–89). —
Побережье — старое название земель между Днестром и Южным Бугом.
(обратно)
36
Изан — от арабск. «азан» — призыв к молитве.
(обратно)
37
И. М. Мураеьев-Апостол опубликовал свое «Путешествие по Тавриде» в 1823 г.
(обратно)
38
Воевода (стр. 92). — Эта баллада (как и два следующие стихотворения) впервые напечатана была в петербургском двухтомнике 1829 г. Пушкинский перевод (вместе с балладой «Будрыс и его сыновья») был напечатан в 1834 г. в журнале «Библиотека для чтения» с подзаголовком: «Польская баллада из М-а». (Имя Мицкевича запрещено было тогда упоминать в печати.) Название «Воевода» дано Пушкиным. Подлинный заголовок «Сzаtу» переводится как «Дозор» или «Засада». Отступил Пушкин и от размера подлинника. Впрочем, имеются и другие русские переводы (например, А. Фета) с сохранением размера.
(обратно)
39
Будрыс и его сыновья (стр. 93). — В оригинале называется «Три Будрыса». Имя героя происходит от дружеского прозвища университетского товарища поэта Винцентия Будревича.
(обратно)
40
Паз (точнее Пац, литовская магнатская фамилия). — Это имя Мицкевичем не упоминается. В оригинале выступает Скиргелл (Скиргайло), сын Ольгерда.
(обратно)
41
Ольгерд и
Кейстут — князья, совместно правившие Литвой в XIV в. (Правда, Ольгерд воевал преимущественно с Русью, а Кейстут — с крестоносцами.)
(обратно)
42
Фарис (стр.
95). — Эмир Тадж-улъ-Фехр (буквально: «венец славы») — польский поэт и путешественник Вацлав Жевуский (1785–1831). Он странствовал по Востоку в 1817–1820 гг., провел некоторое время среди кочевых арабских племен, оставил путевые записки. По возвращении на родину прославился эксцентричным образом жизни, устроившись в своем поместье на Украине на бедуинский лад. Личность его привлекла также внимание другого поэта — Ю. Словацкого (неоконченный роман «Король Лядавы», «Дума о Вацлаве Жевуском»). Жевуский принял участие в восстании 1830–1831 гг. и погиб при невыясненных обстоятельствах. С русским поэтом-романтиком Иваном Ивановичем Козловым (1779–1840), которому посвящен «Фарис», Мицкевич сблизился в Петербурге под конец своего пребывания в России. Стоит отметить популярность «Фариса» в русских литературных кругах: только в год опубликования (1829) появилось три стихотворных и один прозаический перевод этого произведения.
(обратно)
43
К *** (стр. 101). — Последнее, из стихотворений, посвященных Мицкевичем Марыле Путкамер (Верещака).
(обратно)
44
Моему чичероне (стр. 102). — Стихотворение вписано в альбом Генриэтты Эвы Анквич (1810–1879), дочери богатого галицийского помещика, с семейством которого Мицкевич познакомился в 1829 г. в Риме. Любовь поэта к Генриэтте Эве запечатлена в нескольких его произведениях.
(обратно)
45
К польке-матери (стр. 103). — Написанное до восстания 1830 г., стихотворение отражает тогдашнее настроение Мицкевича и его взгляд на перспективы польского освободительного движения. В России безусловно запрещенное (первые переводы печатаются, начиная с 1906 г.)» оно было тем не менее известно передовому читателю. Текст его переписан в дневнике А. И. Герцена за 1843 г. и сопровожден замечанием: «Сколько бедствий лежит позади этой колыбельной песни!» Находясь на сибирской каторге, перевел это стихотворение в дни польского восстания 1863 г. поэт-революционер М. Л. Михайлов (1829–1865). Опубликован этот перевод был лишь в 1934 г.
(обратно)
46
Солдат под знаменем трехцветным… — то есть солдат французской революции 1789 г. Любопытно, что в окончательном тексте стихотворения сказано: «Нового мира солдаты» (имеется в виду американская революция), Но в автографе и списках встречается образ «трехцветной кокарды» или «трехцветной ленты», В таком варианте, видимо, и познакомили Михайлова со стихотворением польские повстанцы — товарищи по сибирской ссылке.
(обратно)
47
Редут Ордона (стр. 105). — Эпизод, который лег в основу стихотворения, был рассказан Мицкевичу его другом — поэтом Стефаном Горчинским (1805–1833), который участвовал в восстании, был адъютантом генерала Уминского. Поэтому автор опубликовал его в издании сочинений умершего друга (1833) и посвятил генералу Умннскому, сопроводив таким примечанием: «Стихотворение это, написанное под влиянием рассказов Гарчинского, я помещаю среди произведений друга как общее наше достояние. Я посвятил его последнему польскому полководцу, который не отчаивался в успехе нашего дела и до конца хотел сражаться». Но фактическая основа событий была несколько иной. Действительно, 6 сентября 1831 г. при взятии Варшавы царскими войсками, в редуте № 54, где командовал артиллерией Юлиан Константий Ордон, произошел взрыв склада боеприпасов, и молва приписала его самопожертвованию Ордона. Но Ордон не погиб, он эмигрировал и жил до 1886 г.
(обратно)
48
…турок еле дышит… — Речь идет о русско-турецкой войне 1828–1829 гг.
(обратно)
49
…посольство Франции… — После июля 1830 г. Луи-Филипп, заинтересованный в признании других государей, направил посольство в Петербург.
(обратно)
50
…корону — ту, в которой Казимир… правил… — Имя это носили несколько польских королей. В дни восстания польский сейм принял постановление о детронизации Николая I.
(обратно)
51
Василья сын… — Обращаясь так к Николаю I, поэт имеет в виду тот факт, что имя Василий носили московские князья.
(обратно)
52
…с гор кавказских генерал… — Речь идет о И. Ф. Паскевиче, который командовал армией на Кавказе, а затем стал во главе войск, подавивших польское восстание.
(обратно)
53
…в княжеские годы… — то есть в то время, когда великий князь Константин был командующим войсками в Королевстве Польском.
(обратно)
54
Exegi munimenlum aere perennius… (стр. 109). — Название стихотворения является шутливой парафразой начала знаменптой оды Горация (III, 30): «Я воздвиг памятник…» (На это указывает и подзаголовок.) Горациеву тему, к которой обращались виднейшие представители мировой поэзии (в России — Державин, Пушкин), Мицкевич развивает не в патетическом, а как бы в нарочито сниженном тоне. В ряде изданий стихотворение печаталось под другим названием: «Визит пана Францишка Гжималы
{55}».
(обратно)
55
Францишек Гжимала (ок. 1790–1871) — варшавский литератор, публицист, издавал в 1821–1825 гг. журнал «Астрея», где опубликовал первую рецензию на сочинения Мицкевича, после 1831 г. жил в эмиграции.
(обратно)
56
…пулавских крыш стеклом… — Речь идет о дворце в Пулавах, прославленной резиденции князей Чарторыйских, которая с конца XVIII в. по 1830 г. была центром светской и культурной жизни просвещенного
магнатского круга.
(обратно)
57
…склеп Костюшки… — то есть Вавель, замок в Кракове.
(обратно)
58
Пацов дом… — Роскошный дворец, построенный богатейшим литовским магнатом Антонием Михалом Пацем в середине XVIII в.
(обратно)
59
Виртемберг — князь Адам Виртембергский, офицер царской службы, который во время восстания произвел бомбардировку Пулав.
(обратно)
60
…от понарских гор… — Понары — гряда холмов около Вильно.
(обратно)
61
…до ближних к Ковно вод… — Имеются в виду Неман и впадающая в него около Ковно Вилия.
(обратно)
62
…переписать меня вся молодежь спешит… — Действительно, после запрета произведений Мицкевича царскими властями они распространялись в списках.
(обратно)
63
Гражина
Поэма вошла во второй виленский сборник «Поэзии» Мицкевича (1823). Сюжет ее, имена и облик главных героев вымышлены автором. Но вместе с тем «Гражина» родилась в результате тщательного изучения доступных поэту исторических источников, которые названы в обширных комментариях («объяснениях»), сопроводивших — в соответствии с обычной для романтических авторов манерой — текст поэмы, и правдиво воспроизводит историческое прошлое. Действительно, XIV в. в истории Литвы — время княжения Гедимина (1316–1341), а затем правления его сыновей Ольгерда и Кейстута — был отмечен постоянными княжескими распрями, борьбой удельных князей против укреплявшейся власти великого князя. Это мешало осуществлению первоочередной задачи государства — отражению немецкой феодальной агрессии, смертельного натиска крестоносцев (сотрудничество с ними отдельных князей действительно имело место в истории). Упоминаемый в «Гражине» Витольд (Витовт Кейстутовпч) был правителем Литвы с 1392 г. по полномочию сына Ольгерда Ягелло (Ягайла), ставшего в результате польско-литовской унии польским королем (с 1386 г,). При нем произошла знаменитая битва при Грюнвальде (1410), в которой польско-литовско-русские войска нанесли смертельное поражение силам Ордена.
Русский читатель получил возможность познакомиться с «Гражиной» в 1832 г. в прозаическом переводе М. Духовского. Лишь в 1861 г. был опубликован первый стихотворный перевод поэмы, выполненный В. Г. Бенедиктовым.
(обратно)
64
Стр. 120.
Повержен был… Гедимин… — У Мицкевича неточность: Гедимин не погиб в битве с крестоносцами.
(обратно)
65
Велона — крепость крестоносцев на Немане, к западу от Ковно.
(обратно)
66
Стр. 121.
Мазовии и Пруссии царями… — Имеются в виду князья Мазовии (Мазовша), северо-восточной части средневековой Польши, относительно долго сохранявшей удельную обособленность (только в XV–XVI вв. завершилось ее слияние с остальными польскими землями). Один из этих князей, Конрад Мазовецкий, уступил в 1226 г. крестоносцам хелминскуго землю, использованную впоследствии как база для тевтонской агрессии. Пруссия здесь упоминается как земля прусов — группы балтийских племен, родственных литовцам и латышам и покоренных Орденом в XIII в.
(обратно)
67
Стр. 122.
…через Татры… — Мицкевич, по-видимому, употребил это название просто в значении «высокие горы».
(обратно)
68
Стр. 123.
Эрдвилл (Эрдзивилл, Эдивид) — племянник Миндовга, новогрудский князь в середине XIII в.
(обратно)
69
Стр, 125,
Гражина. — Литовское «гражас» означает «красивый».
(обратно)
70
Стр. 131.
…орудья для осады… — Это анахронизм. Впервые пушки были применены крестоносцами под Грюнвальдом.
(обратно)
71
Стр. 139.
…воевать Ногая — то есть воевать с ногайской ордой, ногайскими татарами.
(обратно)
72
Стр. 143.
Стрыйковский Мацей (1547 — после 1582) — польский историк, автор «Хроники польской, литовской, жмудской и всея Руси».
(обратно)
73
Стр. 144.
Лео, Третер, Лука Давид — историки XV и XVII вв.; имеются в виду их сочинения по истории Пруссии и епископства Вармии.
(обратно)
74
Стр. 145.
Бандитка Ежи Самуэль (1768–1835) — польский историк и языковед.
(обратно)
75
Бельский Марцин (ок. 1495–1575) — польский писатель, автор «Хроники всего света» (1551).
(обратно)
76
Линде Самуэль Богумил (1771–1847) — польский ученый, автор «Словаря польского языка» (1807–1814).
(обратно)
77
Донелайтис Кристионас (1714–1780) — литовский поэт, автор поэмы «Времена года».
(обратно)
78
Свидригелло (Свидригайло, 1370–1452) — великий князь Литовский после смерти Витовта (1430–1432), младший брат Ягеллы.
(обратно)
79
Стр. 146.
Ретис (сито) — созвездие Плеяды.
(обратно)
80
Стр. 146.
Наримуид — пинский князь, сын Гедимипа.
(обратно)
81
Ласицкий Ян (1534 — после 1599) — польский историк. Но Мицкевич цитирует не его сочиненпе «О богах жмудинов», а хронику Александра Гвагнина (1534–1614).
(обратно)
82
Мацей Меховита (из Мехова, 1453 или 1457–1523) — польский историк и географ, автор трактата «О двух Сарматиях…» (1517).
(обратно)
83
Стр. 147.
Зыгмунт (Сигизмунд) Кейстутович — великий князь Литовский с 1432 г., младший брат Витовта, убитый в 1440 г. магнатами.
(обратно)
84
Богуш Ксаверий Михал — автор сочинения «О начале народа литовского и языка» (1810).
(обратно)
85
Стр. 148.
Грюнау — автор прусской хроники XVI в.
(обратно)
86
Кромер Марцин (ок. 1512–1589) — польский историк.
(обратно)
87
…песня, о коне Кейстута. — Народной песни подобного содержания не найдено. По-видимому, это сочинение самого Мицкевича.
(обратно)
88
Стр. 150.
Шютц Каспер — историк XVI в.
(обратно)
89
Онацевич Игнаций Жегота (1780–1845) — историк, профессор Виленского университета.
(обратно)
90
Конрад Валленрод
Время работы Мицкевича над «Конрадом Валлен родом» — это в основном 1826–1827 гг., хотя не исключено, что замысел произведения, сбор материалов и первые наброски относятся к более ранним годам. Поэма прошла цензуру и была отпечатана в Петербурге (обстановка в варшавской цензуре была неблагоприятной, а в Москве не нашлось цензора, владеющего польским языком); вышла в свет в начале 1828 г.
Эпоха, воспроизводимая в «Валленроде», примерно та же, что и в «Гражине». Об исторических лицах и событиях, упоминаемых в поэме, см. «Объяснения» Мицкевича (стр. 206 наст. тома). Фабульное своеобразие поэмы было, по-видимому, не только данью романтической загадочности, но и средством замаскировать патриотическое содержание произведения. Оно не укрылось, впрочем, ни от единомышленников, ни от врагов автора. Давний преследователь польской молодежи Н. Н. Новосильцев сразу же подал рапорт великому князю Константину (а тот переслал его царю), явившийся подробной и достаточно проницательной рецензией на поэму, раскрытием ее политической тенденции, которая трактовалась в доносе как «стремление согревать угасающий патриотизм, питать вражду и приготовлять будущие происшествия, учить нынешнее поколение быть ныне лисицею, чтобы со временем обратиться во льва». Дело не имело последствий для автора лишь благодаря заступничеству русских знакомых. Революционное влияние поэмы было действительно огромным. Ее с восторгом приняли не только литераторы-романтики, но и весьма широкие читательские круги, особенно студенческая молодежь. Один из участников восстания 1830 г. так говорил о роли поэмы в подготовке этого события: «Слово стало плотью, а «Валленрод» Бельведером» (нападение на Бельведерский дворец в Варшаве было сигналом к восстанию).
Не менее показателен прием, оказанный новому творению Мицкевича русской публикой, хотя он обусловлен был в первую очередь художественными достоинствами поэмы. К. А. Полевой, брат издателя «Московского телеграфа», сообщает в своих воспоминаниях: «Многочисленный круг русских почитателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка, то есть знал ее содержание, изучал подробности и красоты ее. Это едва ли не единственный в своем роде пример! Но он объясняется общим вниманием петербургской и московской публики к славному польскому поэту, и так как в Петербурге было много образованных поляков, то знакомые обращались к ним и читали новую поэму Мицкевича в буквальном переводе. Так прочел ее и Пушкин. У него был даже рукописный подстрочный перевод ее…» Подстрочник этот не привел к появлению полного перевода «Валленрода» (но свидетельству К. Полевого, Пушкин не мог «подчинить себя тяжелой работе переводчика»), но пушкинский перевод вступления к поэме («Сто лет минуло, как тевтон…») появился в 1829 г. в «Московском вестнике». Некоторые исследователи полагают, что «Полтава», над которой Пушкин тогда работал (и есть сведения, что план неизданной еще поэмы он объяснял Мицкевичу), явилась в какой-то степени ответом на «Валленрода». Поэма Мицкевича заинтересовала и В. А. Жуковского, писавшего в 1829 г. Е. П. Елагиной: «Если бы я теперь писал или имел время писать, я бы тотчас кинулся переводить эту поэму. Дышит жизнью Вальтер-Скотта». Русский прозаический перевод поэмы (С. Шевырева) появился уже в 1828 г. Тогда же публикуются переводы ряда отрывков, а в 1832 г. полный стихотворный перевод А. Шпигоцкого. Из дальнейшей истории поэмы в России стоит отметить публикацию ее перевода «Современником» в 1858 г.
Эпиграф к поэме взят из сочинения итальянского политического деятеля и историка Н. Макиавелли «Князь».
О Залеских — см. прим. к стихотворению «Пловец» (стр. 701)
(см. коммент 20 — верстальщик).
(обратно)
91
Стр. 155.
Литовский народ… — Под этим названием поэт объединяет три народа, принадлежащие к балтийскому племени: литовцев, латышей, прусов.
(обратно)
92
Стр. 156.
Ягеллоны — польская королевская династия, основанная Ягелло и правившая страной до 1572 г.
(обратно)
93
Что бессмертно… — Цитата взята из стихотворения Ф. Шиллера «Боги Греции». Здесь она дана в переводе М. Лозинского.
(обратно)
94
Стр. 157.
Сто лет прошло… — Действительно, покорение прусов тевтонский орден завершил к 1283 г., а действие поэмы начинается в 1391 г.
(обратно)
95
…земли Палемона… — Легенда о Палемоне, предке литовских князей, римлянине по происхождению, прибывшем в Литву еще при Цезаре, встречается в некоторых старых хрониках.
(обратно)
96
…братских две державы… — то есть земли литовцев и прусов.
(обратно)
97
Стр 158.
С мариенбургской башни… — Мариенбург был с 1309 г. столицей Ордена.
(обратно)
98
Стр. 163.
Был предложен // Совет магистром… — В подлиннике назван не магистр, а великий комтур — первый после магистра сановник Ордена.
(обратно)
99
…озеро раскинулось… — У Мицкевича ошибка: близ Мариенбурга нет озера.
(обратно)
100
Стр. 165.
Вилия — приток Немана, на котором расположены города Вильно и Ковно (Вильнюс и Каунас).
(обратно)
101
Стр. 167.
Витольд… пришел у Ордена просить заслона. — Действительно, в 1390 г. Витовт, боровшийся с Ягайлой за власть над Литвой, обратился за помощью к крестоносцам.
(обратно)
102
Стр. 168.
…нравам пастушеским равен. — Здесь несомненный анахронизм. Идиллическо-пастушеские мотивы проникают в польскую литературу не ранее XVII в., а для языческой Литвы вовсе не характерны.
(обратно)
103
Стр. 174.
День Патрона. — Покровителем рыцарских орденов считался святой Георгий. День его отмечался 23 апреля.
(обратно)
104
Стр. 182.
Винрих фон Книпроде — великий магистр Ордена в 1351–1382 гг.
(обратно)
105
Стр. 183.
Ты же — раб… — Этот стих был единственным, который исключил из петербургского издания поэмы цензор В, Анастасевич.
(обратно)
106
Стр. 185.
Ковно кругом обложили… — Город этот осаждался крестоносцами в 1362, 1364, 1369 гг.
(обратно)
107
Кейданы — местечко к северу от Ковно.
(обратно)
108
Стр. 187.
…Рудавская страшная битва… — Сражение на реке Рудаве недалеко от Кенигсберга (по-польски Крулевец, ныне — Калининград) произошло в 1370 г. Литовцы были разбиты, но и противнику нанесли тяжелые потери.
(обратно)
109
Стр. 190.
Альпухара — гористая местность на юге Гренады, последний оплот владычества мавров в Испании.
(обратно)
110
Альманзор, герой баллады, — лицо вымышленное.
(обратно)
111
Стр. 194,
Воззвала булла… — Папы неоднократно призывали западное рыцарство к участию в походах Ордена на земли балтийских народов.
(обратно)
112
Стр. 206.
Казимир Ягеллон — польский король в 1447–1492 гг.
(обратно)
113
Стр. 207.
Сабля-зыгмунтовка — сабля, изготовленная при короле Зыгмунте III (1587–1632).
(обратно)
114
Стр. 208.
…женился на дочери Кейстута… — У Мицкевича неточность: Стадион на дочери Кейстута не женился. Она была насильно окрещена и заключена в монастырь.
(обратно)
115
Тайный суд… — В описании этом преобладает вымысел поэта. Оно основано скорее на знакомом Мицкевичу масонском ритуале.
(обратно)
116
Стр. 210.
Гарткнох Кшиштоф (1644–1687) — польский историк.
(обратно)
117
Дзяды
Части II и IV
Поэма эта, которую историки литературы часто именуют «виленско-ковенскими» «Дзядами», писалась в 1820–1822 гг. и вошла во второй том «Поэзии» 1823 г. Нумерация ее частей носит характер в значительной степени случайный. Первая часть «Дзядов» поэтом закончена не была и дошла до нас во фрагментах. Никаких доказательств того, что в это же время писалась третья часть, мы не имеем, хотя К. Павлова-Яниш, спустя многие годы, писала о Мицкевиче сыну поэта: «На мой вопрос, почему он из четырех частей «Дзядов» опубликовал только две, он ответил мне однажды: «Потому что, перечитав две другие, я нашел их такими ничтожными и скучными, что бросил их в огонь». Стихотворение «Призрак» было написано в самый последний момент, накануне издания, и рассматривалось автором как «что-то вроде пролога», который «поможет понять остальное». Решением этим Мицкевич удовлетворен не был, «Призрак» называл «чудовищем» и «хвостом». Как целое «Дзяды» представлялись ему произведением незавершенным, и в письмах 1823 г. к Я. Чечоту он заявлял: «Когда б не прискорбное обязательство печатать их, положил бы под сукно». И далее: «Будь у меня что публиковать вместо «Дзядов», или если бы не вынуждала к печати подписка, не выпустил бы я это и без того уродливое дитя свое, да еще с выколотым глазом». Переработки поэмы Мицкевич тем не менее не предпринял и дополнений в последующие издания не внес.
Русский перевод II части «Дзядов» опубликовал в «Невском альманахе на 1829 год» М. Вронченко. В 1860 и 1861 гг. II и IV части печатает демократический журнал «Русское слово». В 1863 г. появляется полный перевод В. Бенедиктова.
(обратно)
118
Стр. 217.
…«праздником козла»… — Суть этого обряда, сохранившегося на Жмуди до XVI в., состояла в том, что осенью, после полевых работ, устраивалось пиршество и приносился в жертву козел. Остатки пиршества, предназначавшиеся духам предков и богам, зарывались в землю.
(обратно)
119
…косьляж… — Такая этимология, основанная на сближении со словом «козел», не является (в отличие от последующей: «гусьляж» от «гусли») сколько-нибудь обоснованной.
(обратно)
120
Стр. 226.
…к сохе привязан. — Старопольское слово «соха» означало «столб». Здесь имеется в виду столб, стоявший на барском дворе специально для того, чтобы привязывать к нему подвергавшихся телесному наказанию.
(обратно)
121
Стр. 231.
Из Гете. — Точнееиз стихотворения «Недоступная».
(обратно)
122
Стр. 235.
Виденье молчит. — Исследователям трудно истолковать это место драмы, ибо оно не вяжется с появлением героя в «Призраке» и в IV части, где Густав произносит монолог. Не вполне подходит к тексту и объяснение, данное автором позже (IX сцена III части «Дзядов»), согласно которому во время обряда можно было вызывать и души живых, но они — в отличие от душ мертвых — сохраняют молчание.
(обратно)
123
Стр. 238. Эпиграф к IV части взят из «Развлекательных биографических прогулок под черепной коробкой одной великанши» Жан-Поля Рихтера.
(обратно)
124
Стр. 239.
Отца не тронь! — Реплика эта и последующее упоминание об умершей супруге указывают на то, что Мицкевичем изображен православный священник (католическое духовенство обязывал обет безбрачия).
(обратно)
125
Стр. 240.
…к тому же краю — то есть в загробный мир.
(обратно)
126
Стр. 241.
Народная песня. — Действительно, эти слова встречаются в ряде произведений польского фольклора.
(обратно)
127
Из Шиллера. — Эти восемь строк являются вольной переработкой последней строфы шиллеровского стихотворения «Юноша у ручья».
(обратно)
128
Стр. 244.
Элоизы жизнь… — Это место следует истолковать как ссылку на роман Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза», хотя в черновике оно изложено как указание на переписку философа и поэта XI в. Абеляра с его возлюбленной Элоизой.
(обратно)
129
Из Гете. — На самом деле это цитата из стихотворения К.-Э. Рейтценштейна «Лотта у могилы Вертера».
(обратно)
130
Стр 251.
Шиллер. — Здесь Мицкевич вставил вольный перевод трех первых строф стихотворения «Амалия». Полный (и тоже вольный) перевод его был им сделан в 1819 г.
(обратно)
131
…не поймешь ты моего рассказа! — Дальнейшие строки свидетельствуют о непоследовательности автора, в других местах поэмы указавшего на то, что священник был женат.
(обратно)
132
…не может разогреться… — В первоначальном варианте следовали строки, содержавшие сравнение поцелуя и чувств влюбленного с религиозным экстазом, восторгом молитвы. Мицкевич снял их по цензурным соображениям. «Я разрешил, — писал он Я. Чечоту, — выбросить это сравнение поцелуя, как дозволяют выколоть глаз, дабы спасти голову».
(обратно)
133
Стр. 254.
Там, где Неман разветвленный… — Строки эти — начало баллады Мицкевича «Холмик Марыли» из цикла «Баллады и романсы».
(обратно)
134
Стр. 257.
Ты, молодость… — Далее идет цитата из «Оды к молодости», еще раз подчеркивающая автобиографический характер поэмы и свидетельствующая о духовном кризисе, через который прошел поэт при столкновении юношеских идеалов с тяжкими личными переживаниями.
(обратно)
135
…лампады римских усыпальниц! — Древние считали свет символом жизни и ставили в могильных склепах горящие светильники.
(обратно)
136
Стр. 259.
И этот старец!.. — По-видимому, возвращение к мотиву баллады «Романтика».
(обратно)
137
…пресвятой Марии // Ты молишься… — Густав произносит во сне имя возлюбленной.
(обратно)
138
Стр. 267.
…дом покойной мамы. — Барбара Мицкевич, мать поэта, умерла 9 (21) октября 1820 г. Упоминаемая здесь поездка в Новогрудок приходится на июль 1821 г.
(обратно)
139
Стр. 268.
Ян Собеский (Ян III) — польский король в 1674–1696 гг., разбил в 1683 г. осаждавшие Вену турецкие войска.
(обратно)
140
Стр. 269.
Готфрид Бульонский — герой поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», предводитель первого крестового похода (XI в.).
(обратно)
141
Стр. 273.
…клады Тахо… — В античных источниках река Тахо именовалась золотоносной.
(обратно)
142
Стр. 280.
Бороться с суеверьем… мне церковь приказала… — Интересно, что в первоначальном варианте второй части «Дзядов» обряд поминок справлялся под предводительством священника. Действительно, до конца XVIII в. духовенство участвовало в этом обряде, и лишь затем положение изменилось. У Мицкевича спор с традиционной евангельской моралью переплетен с полемикой романтика-народолюбца против определенных сторон философии Просвещения (ср. с балладой «Романтика»). Полемика эта очевидна и в последующих строках (спор с представлением о мире как о часовом механизме), направленных против деистической концепции мироздания.
(обратно)
143
Дзяды
Часть III
Нумерация этой части «Дзядов» объясняется тем, что она явилась третьей по счету частью поэмы после двух (II и IV), изданных автором ранее, в 1823 г. «Дрезденские» «Дзяды», как называют это произведение историки литературы, ни в коем случае нельзя рассматривать как заполнение пробела между II и IV частями, действие которых предшествует событиям, описанным в III части. По сравнению с «Дзядами» «виленско-конвенскими» это произведение совершенно новое, вполне самостоятельное, хотя и связанное с предыдущими частями рядом отсылок к описанным в них событиям, автобиографичностью, общностью главного героя. Так оно и воспринимается и читателем и литературоведами. Вместе с тем в момент опубликования III части поэт не оставил, по-видимому, замысел свести воедино ранее изданное, заполнить пробелы и создать грандиозное целое. Работу над «Дзядами» он возобновлял после 1832 г., но не осуществил своих намерений и ничего нового не опубликовал.
Время написания III части «Дзядов» было предметом литературоведческих споров. Некоторым показался попросту невероятным тот необычайный порыв творческой энергии, который позволил Мицкевичу за несколько весенних недель 1832 г., во время пребывания в Дрездене, создать произведение столь грандиозного масштаба. Смущала и фраза из письма поэта В. А. Жуковскому, где о событиях, предшествовавших его ссылке, он говорит (в 1829 г.) как об «Илиаде», «в которой я опишу неистовства нашего литовского Ахиллеса (Новосильцева. —
Б. С.), причинившего столько зла школьникам…». В свете исследования рукописей, переписки поэта и свидетельств современников представляется несомненным феноменальный в истории мировой литературы факт создания «Дзядов», произведения, весьма значительного по объему и сложного по содержанию, за короткое время в результате редкого по интенсивности единого художнического усилия. Между 20 марта и 5 апреля возникает большая часть драматических сцен (затем Мицкевич возобновляет перевод байроновского «Гяура»). 1 апреля поэт сообщает брату: «Замуровался в стенах дома и много пишу; правда, часть написанного нигде в Польше печатать нельзя будет», 26 апреля — Ю. Грабовскому: «Все эти несколько недель не выпускаю пера из руки». Как явствует из авторской пометки в рукописи поэмы, к 29 апреля драматические сцены были уже переписаны набело. 20 мая автор пишет И. Лслевелю: «У меня здесь подготовленные к печати поэма и несколько мелких вещиц, сочинение это считаю продолжением войны, которую теперь, когда мечи вложены в ножны, надобно вести пером».
Сложнее вопрос о времени создания «Отрывка» — эпического приложения к драматической части. Дневниковые элементы в нем, очевидное формальное отличие от остального текста «Дзядов», наконец одно из писем поэта 1827 г. («Пишу теперь новую поэму, довольно странную, обширную по замыслу, не знаю даже, будет ли она когда напечатана… пишу для самого себя, не соображаясь ни с чем…») — все это привело к предположению о создании «Отрывка» в России, чему, однако, не находится достаточного обоснования. В то же время рассмотрение исследователями сохранившейся рукописи и строго научный анализ текста убеждают в том, что «Отрывок» писался в большой своей части «единым духом», что единовременность изображенных в нем событий и процесса его создания полностью исключаются, что в нем нашли отзвук факты, относящиеся не только к 1824–1827, но и к 1828–1829 и даже 1831 гг. Правдоподобным выглядит предположение о возникновении «Отрывка» в течение первых трех недель мая 1832 г. Несколько позже было написано посвящение «Русским друзьям». Печатание третьей части «Дзядов» закончено было в ноябре 1832 г. в Париже.
В условиях самодержавной России распространение III части «Дзядов» было, разумеется, невозможно. Это не заглушило, однако, жгучего интереса нашей передовой общественности к революционному произведению Мицкевича, в особенности к «Отрывку», повествующему непосредственно о России. Одним из первых в России познакомился с ИГ частью «Дзядов» Пушкин, которому доставил ее возвратившийся в 1833 г. из-за границы С. Л. Соболевский. В бумагах поэта сохранился переписанный им текст стихотворений «Отрывка». Свое знакомство с последним он засвидетельствовал в примечаниях к «Медному всаднику». А. И. Герцен сделал в своем дневнике 1843 г. несколько замечаний о поэме Мицкевича, высоко оценив ее «дух отрицанья, сильный, истинно байроновский» и проявив особое внимание к стихотворениям «Отрывка» «Дорога в Россию» («Много прекрасного, высокохудожественного в этом плаче поэта. Боже мой, как хороша у него картина русской дороги зимой, бесконечная пустыня, белая, холодная…»), и «Памятник Петру Великому» («Замечательно в той же поэме место о памятнике Петра»).
Русские переводы из «Дзядов» на протяжении XIX в. могли воспроизводить лишь относительно «невинные» места поэмы (П. А. Вяземский в 1873 г. включил прозаический перевод «Памятника Петру Великому» в свою статью «Мицкевич о Пушкине»; к столетию со дня рождения Пушкина, в 1899 г., «Жизнь» опубликовала и стихотворный перевод) либо появляться в нелегальной печати. Н. А. Добролюбов в 1855 г. перевел «Русским друзьям» для рукописной газеты «Слухи». Н. П. Огарев печатал это стихотворение в лондонском издании «Дум» Рылеева (1860) и сборнике 1861 г. «Русская потаенная литература». И только в 1906 г. в России были опубликованы сразу четыре (!) перевода «Русским друзьям» и перевод VIII сцены «Дзядов». В 1917 г. переводится весь «Отрывок» (В. Фишер), вошедший также (в переводе С. Соловьева) в однотомник Мицкевича 1929 г. Лишь в 1952 г. русский читатель получил полный перевод III части «Дзядов» (В. Левик).
Лица, упоминаемые в посвящении, были воспитанниками Виленского университета и членами тайных кружков. Ян
Соболевский, приговоренный к солдатчине, умер в 1829 г. в Архангельске. Циприан
Дашкевич, юрист и историк, сдружился с Мицкевичем во время пребывания в Москве, где и умер в 1829 г. Феликс
Куликовский, филолог и поэт, был сослан в Казань, изучал там восточные языки, скончался в 1831 г. в Петербурге.
(обратно)
144
Стр. 287.
Новосильцев Николай Николаевич (1761–1838) — был одним из приближенных Александра I, в свое время членом так называемого «Негласного комитета». Назначенный в 1815 г. полномочным императорским делегатом при правительстве Царства Польского, проводил политику жесточайшего подавления малейших проявлений национального движения.
(обратно)
145
Стр. 288.
Цесаревич Константин (1779–1831) — великий князь Константин Павлович, занимал пост командующего войсками Царства Польского и фактически пользовался в нем всей полнотой власти.
(обратно)
146
Вильно, центр просвещения… — Вильно был в те годы не только университетским городом, но и центром учебного округа. Должность попечителя округа занимал в 1803–1824 гг. Адам Ежи
Чарторыйский (1770–1861), князь, один из богатейших польских магнатов, близкий в начале своей политической деятельности к Александру I (занимал должность министра иностранных дел), Во время восстания, в 1831 г., он возглавлял Национальное правительство, в эмиграции стоял во главе аристократической консервативной партии.
(обратно)
147
…сами прекратили свою деятельность… — Мицкевич не мог в то время рассказать всей правды о тайных молодежных организациях, ибо большинство их участников было в руках царских властей.
(обратно)
148
Стр. 289.
Зан Томаш (1796–1855) — студент физико-математического факультета, был одним из основателей в 1817 г. Общества филоматов, а позднее — филаретов. (См. вступ. статью к наст. тому.) Одновременно был членом масонской ложи в Вильне и тайного «Патриотического общества». На следствии стремился выгородить товарищей и принять большую часть обвинений на себя, что обусловило достаточно суровый приговор: год крепости и ссылка в Оренбург, длившаяся тринадцать лет (на Урале Зан выполнил ряд геологических исследований). Зан был также поэтом, популярным в филоматском кругу.
(обратно)
149
…божья кара… — Мицкевич имеет в виду внезапную смерть доктора Векю и Байкова, фигурирующих в качестве персонажей «Дзядов», и Винцентия Лаврыновича, не упомянутого в драме по имени, Виленского губернского советника, члена следственной комиссии (ум. в 1824 г.).
(обратно)
150
Стр. 295.
D. О. М. — Deo Optimo Maximo. В переводе: «Богу наилучшему, наивысшему. Густав умер 1823 года 1 ноября. — Здесь родился Конрад 1823 года 1 ноября». Надпись эта фиксирует автобиографичность героя, свершившийся в нем внутренний переворот и связь между IV и III частями «Дзядов».
(обратно)
151
Стр. 296. Все действующие лица сцены I либо являются участниками процесса филаретов, названными поименно, либо имеют реальных прототипов. О Соболевском, Кулаковском («Феликс») и Зане («Томаш») уже говорилось выше.
Якуб — учитель слуцкой гимназии, член Общества филаретов Якуб Ягелло.
Адольф — Янушкевич (1803–1857); он не был осужден по виленскому делу, с Мицкевичем сблизился уже в 1829 г. в Риме, а в Сибирь был сослан за участие в восстании 1830–1831 гг. Же
гота — Игпаций Домейко (1801–1889), член Общества филоматов, но подвергшийся за участие в нем ссылке, позднее участник восстания и эмигрант. Поселился в Чили, где стал видным ученым. Каласантии
Львович — ксендз-пиар, учитель математики в Полоцке. Антолий
Фрейенд — филарет, впоследствии повстанец, погибший в 1831 г. Адам
Сузин (1800–1874) во время следствия выделялся мужеством и твердостью, был сослан в Уфу, затем в Оренбург.
Яцек — как можно судить по тексту рукописи, имеется в виду Онуфрий Петрашкевич (1793–1863), студент естественного факультета, секретарь Общества филоматов. Он не подвергся следственному аресту, но был приговорен к ссылке в Сибирь.
Юзеф — Ковалевский (1800–1878), филолог, секретарь I отдела Общества филоматов. Высланный в Казань, он стал видным востоковедом (исследования по монгольской филологии), профессором и ректором местного университета. Ян
Янковский — филарет, давший на следствии подробные показания о деятельности общества. После процесса стал полицейским чиновником в Вологде.
Капрал. — Полагают, что его прототипом был Паневский, в прошлом офицер польских легионов, во время процесса надзиратель над заключенными, относившийся к ним благожелательно.
(обратно)
152
Стр 297.
…Она и дальше всех… — Вход в монастырское здание был расположен в правом крыле, а «келья Конрада» помещалась в самом конце левого и, чтобы попасть в нее, надо было пройти длинный извилистый коридор.
(обратно)
153
Стр. 303.
…был в городе — на следствии… — Следственная комиссия работала в другом здании — резиденции Новосильцева, куда арестованных водили на допросы через центр города, мимо тюрьмы.
(обратно)
154
Стр. 304.
…учеников из Жмуди… — Имеются в виду учащиеся гимназии в Крожах, члены общества «Черных братьев». Приговор по их делу был весьма суровым. В ссылку они были отправлены 8 марта 1824 г.
(обратно)
155
Стр. 305. Циприан
Янчевский — один из организаторов «Черных братьев», подвергся заключению в крепости и сдаче в солдаты.
(обратно)
156
Как Цезарь… — Речь идет о Наполеоне I, узнике острова Св. Елены.
(обратно)
157
Стр. 306.
Василевский. — В рукописи было: Карницкий, действительно привлекавшийся по делу филаретов.
(обратно)
158
Стр. 307. …о
Ксаверии… — В автографе была названа фамилия Каетана Пшецишевского, который застрелился, опасаясь ареста, в октябре 1823 г.
(обратно)
159
Стр. 308.
Не шляхтич сеймиковый? — Имеется в виду то обстоятельство, что царское правительство оставило шляхте западных губерний практику старых сеймиков, на которых выбирались теперь предводители (маршалки) дворянства.
(обратно)
160
Горецкий Антоний (1787–1861) — поэт-баснописец, участник наполеоновских войн и восстания 1831 г., умерший в эмиграции. Здесь пересказана его басня «Дьявол и жито».
(обратно)
161
Стр. 310.
Домбровский Ян Генрик (1755–1818) — генерал, участник восстания Костюшко. В 1797 г. создал польские легионы в Италии, сражавшиеся на стороне Франции, участвовал в ряде наполеоновских войн.
(обратно)
162
Соболевский Маций (1781–1809) — полковник, погиб во время войны в Испании.
(обратно)
163
Содалис — член Марианской содалиции в старой Польше, организации, служившей культу богоматери.
(обратно)
164
Стр. 311.
…в колонии осяду… — Мицкевич имеет здесь в виду военные поселения в России.
(обратно)
165
Стр. 314.
…громадный ворон. — Символ этот не поддается расшифровке: одни считают, что это злой дух, борющийся за душу Конрада, другие — что это предостережение, посланное герою свыше; некоторые видят в нем олицетворение грядущих трагических событий 1831 г.
(обратно)
166
Стр. 316.
…гармоники стеклянные круги… — Имеется в виду старинный музыкальный инструмент, который состоял из нанизанных на ось стеклянных полушарий, издававших при вращении мелодичные звуки. Образ этот у Мицкевича связан с древними представлениями о сферах мироздания.
(обратно)
167
Стр. 325.
…в рекруты — то есть в царскую армию.
(обратно)
168
Стр. 326.
…Под Прагой резали… — Имеется в виду штурм предместья Варшавы — Праги царскими войсками под командованием Суворова 4 ноября 1794 г.
(обратно)
169
Стр. 327.
Роллисон. — Имеется в виду Ян Моллесон (эта фамилия и значилась в автографе), ученик гимназии в Кейданах, по процессу филаретов приговоренный к смертной казни, которая была заменена пожизненной ссылкой в Нерчинск.
(обратно)
170
Лев из Иудина колена — то есть Христос.
(обратно)
171
Стр. 328.
Alter Fritz (Старый Фриц —
нем.). — Имеется в виду прусский король Фридрих II, инициатор разделов Полыни.
(обратно)
172
«Левиафан» — здесь, скорее, намек на название философского труда английского материалиста Гоббса. В подлиннике упоминался еще римский философ-материалист Лукреций Кар.
(обратно)
173
Стр. 330.
Крейсгауптман, ландрат — прусские чиновники.
(обратно)
174
Гаман (Аман) — упоминаемый в Библии гонитель еврейского племени, чье чучело сжигалось во время праздника «пурим».
(обратно)
175
Стр. 331.
В монастыре доминиканской братьи… — Моллесон действительно содержался в виленском доминиканском монастыре.
(обратно)
176
Стр. 337.
Ева. — Поэт вывел в этом образе Генриэтту Эву Анквич (см. о ней в прим. к стих. «Моему чичероне», стр. 704 наст. тома)
(см. коммент 44 — верстальщик).
(обратно)
177
Марцелина Лемпицкая (1809–1843) — родственница и подруга Генриэтты Эвы. Мицкевич ей также посвятил одно из стихотворений.
(обратно)
178
…эти песни… — Речь идет о стихотворениях Мицкевича.
(обратно)
179
Стр. 340.
Народа дивный избавитель… — Многочисленные толкования этого образа не дают исчерпывающей расшифровки, да и сам автор стремился предсказания свои выразить в достаточно туманной форме. Вполне вероятно, что здесь имелся в виду сам Мицкевич-Конрад. Действительно, сказанное в предыдущей строке («Смотри — дитя спаслось…») соответствует тому, что поэт говорит о себе в «Предисловии»: «Только одному удалось пока выбраться пз России».
(обратно)
180
А имя сорок и четыре… — В связи с этим числом, скрывающим имя «избавителя» (что основано было на обозначениях из кабалистических древнееврейских книг и встречалось в практике тайных обществ нового времени), возникла обширная, в значительной части ненаучная, литература, которая также не дает убедительного решения. Вот что писал в связи с этим об авторе «Дзядов» его современник, поэт С. Гащинский: «Черты, которыми он обрисовывал этого мужа, набрасывал он безотчетно, без всякого раздумья, не осознавал во время работы сути этого образа и ныне не может ее раскрыть. Подобно этому он назвал число 44, не зная, почему назвал это, а не другое число, назвал его, ибо оно само пришло ему в голову в минуту вдохновения, когда не было места для каких-либо рассуждений».
(обратно)
181
Галл… умывает руки… — Параллель между «галлом» и Понтием Пилатом порождена событиями 1831 г., когда правительство Луи-Филиппа, несмотря на то что во Франции много говорилось о сочувствии восставшей Польше, уклонилось от оказания помощи повстанцам.
(обратно)
182
Стр. 341.
Из трех народов крест… — Речь идет о трех монархиях, поработивших Польшу.
(обратно)
183
Царев солдат… — Этот образ основан на евангельском мифе о римском солдате Лонгине, пронзившем копьем бок Христа (Мицкевич, намекая на 1831 г., вносит деталь, отступающую от мифа: удар оказывается смертельным), но впоследствии раскаявшемся и даже вошедшем в число святых. Здесь несомненно влияние славянских симпатий поэта и его надежд на преображение России.
(обратно)
184
Стр. 346. Обстановка VII сцены создана автором по рассказам о литературном салоне Винцентия Красинского (отца поэта Зыгмунта), в прошлом наполеоновского генерала, после 1814 г. верно служившего самодержавию, оставшегося на стороне царя в 1831 г., ярого реакционера, ненавидимого польскими патриотами. Кроме хозяина салона («Генерала»), имеют сходство с реальными прототипами и некоторые другие персонажи сцены.
Церемониймейстер — Ян Жабоклицкий, один из прислужников Константина Павловича.
Первый литератор, посвятивший поэму «сеянью гороха», — по-видимому, Каетан Козьмян (1771–1856), ярый классицист, известный и политическим консерватизмом, автор писавшейся много лет длиннейшей поэмы «Земледелие». В
Четвертом литераторе есть сходство с поэтом Казимежем Бродзинским (см. о нем в прим. к балладе «Романтика», стр. 700 наст. тома)
(см. коммент 7 — верстальщик), известным своими сентиментальными идиллиями (лучшая из них, «Веслав», 1820, посвящена изображению крестьянского быта). Патриотическую молодежь в сцене представляют: Петр
Высоцкий (1799–1875), инструктор в варшавской школе подхорунжих, организатор заговора, вылившегося в нападение на Бельведерский дворец в ночь на 29 ноября 1830 г.; его сподвижники — литератор Людвик Набеляк (в автографе — полное имя, в печатном тексте — «Н ***», 1804–1833) и студент варшавского университета Зенон Немоевский, а также Адам
Гуровский (в тексте «А*** Г***»), видный демократический публицист периода восстания и первых лет эмиграции, впоследствии «раскаявшийся» и поступивший на царскую службу, и Адольф Янушкевич (см. сцену I).
(обратно)
185
Стр. 348.
Циховский Адольф (1794–1854) — член тайного Патриотического общества, находившийся в тюрьме с 1822 по 1826 г., эмигрировавший после восстания и в Дрездене встречавшийся с Мицкевичем. Первоначально в рукописи значился Казимеж Махницкий, выпущенный в 1824 г., что более соответствует времени действия «Дзядов».
(обратно)
186
Стр. 354. О
Немцевиче см. прим. к сонету «Извинение» (стр. 703 наст. тома)
(см. коммент 29 — верстальщик). Здесь имеется в виду деятельность его как историка, издателя «Сборника исторических записок о старой Польше».
(обратно)
187
Стр. 355.
…нет у нас двора… — Литератор вспоминает о временах короля Станислава-Августа, покровительствовавшего литераторам и художникам. Годы его правления действительно были временем расцвета поэзии классицизма.
(обратно)
188
Наместник. — Им был в те годы генерал Юзеф Зайончек (1752–1826), несмотря на свое прошлое участника восстания Костюшко, крайне непопулярный в польском обществе и ставший безвольным орудием в руках Константина Павловича.
(обратно)
189
Стр. 356. В сцене VIII подручные сенатора Новосильцева в проводимом им следствии по делу филаретов либо названы по именам, либо обозначены с предельной ясностью. Лев
Байков, действительный статский советник, был представителем правительства во время процесса и, как подчеркивает Мицкевич (предисловие и сцена IX), действительно в 1829 г. умер внезапно, в карете, когда ехал к своей невесте. Вацлав
Пеликан (1790–1873) — профессор хирургии в Виленском университете, сыгравший в деле фпларетов позорную роль и назначенный на должность проректора.
Доктор — Август Бекю, профессор-медик, отчим поэта Ю. Словацкого, известный как прислужник властей и доносчик; был убит молнией 26 августа 1824 г. Появление в «Дзядах» этого персонажа стало одной из причин личной неприязни Словацкого к Мицкевичу.
Советник — В. Лаврынович (см. прим. к «Предисловию», стр. 716 наст. тома)
(см. коммент 149 — верстальщик).. Губернатор. — Виленским гражданским губернатором был тогда Петр Горн.
Княгиня — Зубова, полька по рождению, любовница Новосильцева.
В числе сочувствующих филаретам также угадываются реальные исторические лица. Под сопровождающей мать Роллисона (Моллесона) пани Кмитовой имеется в виду Гуттова, жена виленского аптекаря, оказывавшая в числе других помощь заключенным. Юстин
Поль (1802–1831) — филарет, студент-юрист, в 1831 г. участник восстания в Литве. О
Бестужеве — см. во вступительной статье. На следствии по делу декабристов М. И. Муравьев-Апостол утверждал, что М. П. Бестужев-Рюмин ездил в Вильно в 1824 г. по заданию Южного общества. Бестужев признал сам факт поездки, но отрицал ее цель и назвал иное время — 1823 г.
(обратно)
190
Стр. 361.
Ботвинко Иероним — виленский губернский прокурор, проводивший следствие по делу филаретов.
(обратно)
191
Стр. 366.
Герц Генрих (1803–1888) — немецкий пианист и композитор.
(обратно)
192
Стр. 367.
…grand-duc Michel — великий князь Михаил Павлович, находившийся тогда в Литве с гвардейским корпусом.
(обратно)
193
Стр. 371.
…невеста у Байкова! — Несколько позже, в 1829 г., Байков действительно обручился с полькой Зофьей Хлопицкой.
(обратно)
194
Стр. 375.
…Чарторыйский, князь… — Одной из целей, которые преследовал Новосильцев в деле филаретов, была политическая компрометация Чарторыйского в глазах царя.
(обратно)
195
Стр. 376.
Лелевель Иоахим (1786–1861) — польский историк и демократический деятель. В Виленском университете он был в 1815–1818 и 1822–1824 гг. сперва доцентом, а затем профессором и пользовался среди молодежи огромной популярностью. Тогда и начались многолетние дружеские отношения между ним и Мицкевичем, на политические воззрения которого Лелевель оказал очень большое влияние. (На поруки Лелевеля поэт весной 1824 г. был выпущен из заключения.) В 1830–1831 гг. Лелевель стоит во главе демократического крыла в польском восстании. Деятельность его высоко ценили Маркс и Энгельс. Сторонник республики, освобождения крестьян, интернационалист и патриот, он становится в период эмиграции одним из лидеров польской демократии.
(обратно)
196
Стр. 376.
Церковное добро… — Конфискуя в Польше и Литве церковные имущества, царские власти раздавали их выслужившимся чиновникам.
(обратно)
197
Стр. 384.
…песенку Беранже. — Она называется «Сенатор», в переводе В. Курочкина — «Знатный приятель».
(обратно)
198
Стр. 394.
…много лет назад… — Точнее: три года. Речь идет о концовке II части «Дзядов».
(обратно)
199
Стр. 396.
Свежий труп — труп Доктора.
(обратно)
200
…убийца детей… — сенатор Новосильцев.
(обратно)
201
Стр. 397.
Другой барахтается… — труп Байкова.
(обратно)
202
Стр. 399.
С именем расстался старым — см. «Пролог».
(обратно)
203
…От Гедиминовых палат… — из Вильна.
(обратно)
204
Отрывок III части «Дзядов»
Дорога в Россию
Стр. 406.
Быть может, Ермолов… — Главнокомандующий войсками на Кавказе А. П. Ермолов был уволен в отставку в 1827 г.
(обратно)
205
Пригороды столицы
В стихотворении описано Царское Село.
(обратно)
206
Петербург
Ряд мотивов пушкинского «Медного всадника» (строки о Петре и основании Петербурга, описание города и т. д.) является полемической перекличкой именно с этим стихотворением «Отрывка». С другой стороны, еще Иван Франко отмечал сходство между «Петербургом» Мицкевича и поэмой «Сон» Т. Г. Шевченко.
(обратно)
207
Стр. 410.
Жоко. — Французское jocke значит орангутанг.
(обратно)
208
Динер. —
Нем. Diener — слуга, лакей.
(обратно)
209
Социниане — одно из наименований ариан, религиозной секты, весьма влиятельной в Польше XVI–XVII вв. и оставившей яркие образцы поэзии и прогрессивной публицистики.
(обратно)
210
Стр. 412.
Пилигрим — Конрад.
(обратно)
211
Стр. 413.
…стоял там и другой… — Здесь говорится о Юзефе Олешкевиче (1777–1830), польском художнике, масоне и мистике, поселившемся в Петербурге с 1810 г., сблизившемся с Мицкевичем в период ссылки поэта и оказавшем на него известное влияние. Им написан портрет Мицкевича.
(обратно)
212
Стр. 414.
Погоня — герб Литвы (рыцарь на скачущем коне). Олешкевич был уроженцем Литвы. В первоначальном тексте приветствие звучало иначе и было ссылкой на принадлежность к масонской ложе «Белого орла».
(обратно)
213
Памятник Петру Великому
Одним из выступающих в стихотворении собеседников является Конрад-Мицкевич. Другой — это, несомненно, Пушкин, что ясно уже из строк, характеризующих «русского» как поэта своего народа, прославленного «по всему Северу». Впрочем, отдельные польские литературоведы, основываясь на поверхностном представлении о Пушкине и его мировоззрении, считали отображенный Мицкевичем эпизод невозможным и предлагали во втором из юношей видеть К. Ф. Рылеева. Данное стихотворение нельзя, конечно, рассматривать как дневниковую запись и требовать от него летописной точности: это поэтическое выражение представлений Мицкевича о России и ее будущем. Но любопытно, что все-таки находится свидетель разговора между Пушкиным и Мицкевичем о памятнике Петру. П. Л. Вяземский на полях «Медного всадника» написал против строки «Россию поднял на дыбы…» следующие слова: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед». И примечательно, что как раз эту строку своей поэмы Пушкин сопроводил ссылкой на «Памятник Петру Великому»: «Смотри описание памятника в Мицкевиче…»
(обратно)
214
Стр. 415.
…Марк Аврелий в Риме не таков. — Конная статуя императора Марка Аврелия установлена на Капитолийском холме. Мицкевич основал это описание, вложенное в уста русского поэта, на собственных впечатлениях очевидца.
(обратно)
215
Пактоль — река в Малой Азии.
(обратно)
216
Смотр войска
Стр. 416.
…плац обширный… — Марсово поле.
(обратно)
217
…обескровив шаха и султана… — Имеются в виду победоносные войны России с Персией (1826–1828) и Турцией (1828–1829).
(обратно)
218
…Прирежет и сармата… — намек на подавление польского восстания.
(обратно)
219
Стр. 418.
Жомини Анри (1779–1869) — генерал русской службы, известный военный теоретик.
(обратно)
220
Стр. 421.
Красицкий Игнаций (1735–1801) — крупнейший писатель польского Просвещения, автор сатир, басен, героико-комических поэм, романов. Цитируемая строка взята из сатиры «К королю».
(обратно)
221
…царепедии забава… — Каламбур основан на переделке заглавия сочинения античного историка Ксенофонта «Киропедия» — то есть «воспитание Кира».
(обратно)
222
Стр. 424.
…как Гомер… заснуть на полуслове… — намек на выражение Горация из «Послания к Пизонам»: «Иной раз спит и добрый Гомер», то есть и у великих поэтов иногда встречаются строки не столь совершенные.
(обратно)
223
Олешкевич
Стр. 428.
Морозом лютым небо пламенело… — Ср. с прим. Пушкина к «Медному всаднику»: «Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszruewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта».
(обратно)
224
Русским друзьям
О знакомстве Мицкевича с К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым см. во вступ. статье к наст. тому. К моменту написания стихотворения Бестужев уже был переведен (1829) из Сибири рядовым на Кавказ.
(обратно)
225
Объяснения
Стр. 435. И. И.
Дибич (1785–1831) — генерал-фельдмаршал, командовал царскими войсками, направленными против восставшей Польши, и умер в ходе военных действий. М.
Храповицкий был в этот период генерал-губернатором в Литве.
(обратно)
226
Принц Вюртембергский. — Командовал в 1813 г. осаждавшими Данциг (Гданьск) русско-прусскими войсками.
(обратно)
227
Жан
Рапп командовал французским гарнизоном Данцига.
(обратно)
228
Стр. 436.
…из одного русского поэта… — Имеется в виду В. Г. Рубан (1742–1795), автор оды «Надпись к камню, назначенному для подножья статуи Петра Великого».
(обратно)
229
Стр. 437.
Он был Вателем чиновничества. — Имеется в виду рассказ о дворецком принца Конде, покончившим с собой из-за того, что не была вовремя доставлена рыба для обеда в честь короля.
(обратно)
230
Доу Джордж (1781–1829) — работал в Петербурге в 1819 г. создал галерею 1812 г. в Зимнем дворце. Здесь речь идет о портрете будущего Александра II.
(обратно)
231
См. его некролог… — Имеется в виду некролог, написанный другом Мицкевича Францишком Малевским и опубликованный в «Петербургском еженедельнике» (на польском языке) за 1831 г.
(обратно)
232
Пан Тадеуш
Время работы Мицкевича над «Паном Тадеушем» приходится на первые годы парижской эмиграции и датируется декабрем 1832 — июнем 1833 г., а затем сентябрем 1833 — февралем 1834 г. Замысел произведения, поначалу скромный (нечто вроде шляхетской идиллии, близкой по типу «Герману и Доротее» Гете), окончательно определился лишь в ходе работы, разросшись до масштабов национальной эпопеи. Не сразу определилось и название (первоначально было «Жегота»). Печатание поэмы было закончено в июле 1834 г.
Значение поэмы для национального самосознания и культуры современниками было понято далеко не сразу и не всеми. Стоит, однако, привести отзывы некоторых наиболее дальновидных читателей. Юлиуш Словацкий писал матери в декабре 1834 г.: «Прекрасная поэма, она похожа на роман Вальтера Скотта в стихах […]. Описания пейзажа, неба, прудов, лесов сделаны рукой мастера. Природа здесь живет и дышит. Поэма скорее шутливо-веселая, чем печальная, — и все-таки часто в местах как будто самых веселых читателю становится грустно. Вещь эта совсем в другом роде, чем все, что до сих пор написал Адам». Другой крупнейший романтик, Зыгмунт Красинский (1812–1859), сразу же оценил поэму как «единственное в своем роде произведение», «неоспоримое доказательство польского гения», где все «запечатлено с такой правдивостью, что страх берет», а несколькими годами позже он писал: «Ни у одного европейского народа нет ныне такой эпопеи, как «Пан Тадеуш». Я перечел его недавно. «Дон-Кихот» там слился с «Илиадой». Поэт стоит между уже исчезающим племенем людским и нами. Прежде чем они умерли, он видел их, а теперь их уж нет. Это и характерно для эпопеи. Совершил это Адам мастерски: вымершее это племя увековечил, оно уж не исчезнет. Лет шесть назад, читая «Пана Тадеуша», я не понимал всего его величия; ныне бью челом и говорю: это эпопея». Известны наконец слова Станислава Ворцеля (1799–1857), революционера-демократа, друга Герцена, о «могильном камне, положенном рукоюгения на старую Польшу, который представляет взору ее сынов столь потрясающий образ покойницы матери, что они могут не только прочесть в нем всю ее душу, но и распознать те характерные черты, которыми она их самих наделила и которые переходят от умершего поколения к живущему, соединяя таким образом прошлое с будущим и из могилы добывая зародыш нашей будущей жизни».
Цензурный запрет надолго отдалил ознакомление русского читателя с этой поэмой. Но и в России, однако, были люди, знавшие ее уже в 30-е годы. Н. В. Гоголь, например, с польским поэтом встречавшийся за границей, писал в 1838 г. одному из друзей: «Купи для меня новую поэму Мицкевича, удивительнейшую вещь: Пан Тадеуш». Русский перевод поэмы в 1862 г. опубликовал в «Отечественных записках» Н. В. Берг (ранее публиковались отрывки, первый, без упоминания автора, — в 1845 г.). Позже появились переводы В. Бенедиктова (1882), в советское время С. Мар (Аксеновой) и М. Павловой. Перевод С. Мар (Аксеновой), публикуемый в наст, томе, был, незадолго до смерти переводчицы, сверен ею с последним польским изданием, в результате чего в текст перевода были внесены некоторые уточнения.
В поэме много упоминаний о событиях польской истории последней трети XVIII — начала XIX в. Краткое их изложение будет небесполезно для лучшего понимания произведения.
Сложившееся в течение предшествующих веков государственное устройство феодальной Речи Посполитой, своеобразной шляхетской республики, не выдержало в XVIII в. выпавших на долю польского народа тяжелых политических испытаний. Характерной для него была слабость центральной власти, бессильной как во внутренних делах, так и в организации отпора внешнему врагу. Власть короля (короли в Польше избирались) стала, в сущности, номинальной. Законодательная власть оказалась парализованной. Шляхетский парламент — сейм, состоявший из двух палат: «посольской избы», куда депутаты (послы) избирались на «сеймиках», то есть на собраниях шляхты, происходивших в разных местностях страны, и сената, где заседали высшие светские и духовные сановники, — действовать не мог. Любые его решения можно было легко сорвать, ибо для принятия всякого постановления требовалось единогласие всех депутатов и любой из них обладал правом «вето», мог каждое решение объявить недействительным. Зато в практику вошли конфедерации — то есть объединения шляхты, создававшиеся ради достижения какой-либо политической цели. Они выносили определенные решения (уже большинством голосов) и приводили их в исполнение, применяя вооруженную силу. Очень часто они были направлены именно против центральной власти и в ослаблении государства сыграли существенную роль. Б стране установилось состояние анархии. Политической жизнью заправляли враждовавшие между собой группировки крупных магнатов, подкупом, силой и демагогией привлекавшие на свою сторону многочисленные партии шляхты, невежественной и зависимой от них, деморализованной и бесчинствовавшей. Вопрос об изменении государственного строя стал одним из основных в правление последнего польского короля Станислава-Августа Понятовского (с 1764 по 1795 г.), вступившего на престол при поддержке Екатерины II и магнатской партия Чарторыйских, — сотрудничавшего с патриотическими кругами, но в конечном счете капитулировавшего перед врагами Полыни. За реформы выступали часть просвещенных магнатов и передовая шляхта, шляхетская интеллигенция, горожане, против — соседние государства, которые желали, чтобы Польша оставалась по-прежнему слабой, и реакционные магнаты, хотевшие, как и раньше, верховодить в стране. Реформы были необходимы и в свете раздиравших страну противоречий — главного источника слабости Польши.
Положение крестьянства, нищего, забитого, зверски притесняемого, было ужасающим. Политических прав было лишено население городов (буржуазия, ремесленники). Ущемлены были в своих нравах шляхтичи непольских национальностей и некатолических вероисповеданий. Вопрос о «иноверцах» (диссидентах) использовался соседними монархиями для бесцеремонного вмешательства в польские дела. В то же время шляхта (пусть настроенная патриотически и против этого вмешательства выступавшая) препятствовала урегулированию этой проблемы, скатываясь подчас к крайней религиозной нетерпимости. Под этим знаменем выступила, например, Барская конфедерация 1768 г., разбитая преимущественно русскими войсками. В 1772 г. Пруссия (инициатор), Австрия и Россия произвели первый раздел польских земель.
Грозная опасность, нависшая над страной, стала очевидной. Сложившийся в этот период патриотический блок провел ряд прогрессивных реформ, венцом которых явилась Конституция 3 мая 1791 г. И она, и другие постановления так называемого «Четырехлетнего сейма» (1788–1792) предусматривали важные политические преобразования (отмена «вето» и выборности королей, предоставление некоторых прав горожанам, создание стотысячной армии и ряда центральных учреждений и т. д.). Но крестьянство, большинство населения, ничего реального не получило.
Немедленно выступила реакционная магнатерия. Главари ее, сговорившись в Петербурге с Екатериной II, провозгласили в мае 1792 г. Тарговицкую конфедерацию, требовавшую отмены реформ. В страну вступили царские войска. Война 1792 г. принесла полякам поражение. Король примкнул к тарговичанам. В 1793 г. Пруссия и Россия второй раз поделили польские земли. Ответом на это было польское национальное восстание, начавшееся 24 марта 1794 г. Во главе его стал генерал Тадеуш Костюшко (1746–1817). Помимо патриотической шляхты, восстание поддержали крестьяне, ремесленники, мелкая буржуазия, городская беднота. Радикальные, «якобинские» элементы требовали социальных реформ, решительной борьбы с захватчиками и предателями. По-революционному вмешивался в события восставший народ Варшавы и Вильна. Но до социальных преобразований дело не дошло. Шляхта саботировала даже те попытки улучшить положение крестьян, которые предприняло руководство восстания (в изданном Костюшко Поланецком универсале крестьянам были обещаны личная свобода, некоторое уменьшение феодальных повинностей, охрана закона). Успехи восстания (наиболее известна победа под Рацлавицами 4 апреля) сменились неудачами. 10 октября Костюшко был разбит под Мацейовицами. В начале ноября Варшава капитулировала перед Суворовым. В 1795 г. Россия, Пруссия, Австрия произвели третий раздел Польши. В итоге все польские земли (и часть украинских) оказались под прусским и австрийским владычеством. Россия получила земли украинские, литовские и белорусские, где и происходит действие «Пана Тадеуша».
Часть патриотов, эмигрировав на Запад, возложила надежды на Францию, воевавшую против феодальных монархий Европы. В 1797 г. в Ломбардии генерал Домбровский начал формирование легионов (преимущественно из военнопленных поляков, служивших в австрийской армии). Это было войско, воодушевленное патриотизмом, демократическим для того времени духом; песня легионов, знаменитая «мазурка Домбровского» («Еще Польша не погибла…»), стала польским национальным гимном. Но судьба польского войска сложилась трагически. Используя его, Наполеон вовсе не думал о польской независимости — и многим легионерам довелось погибнуть вдали от родины: на итальянской земле, при подавлении восстания негров на острове Гаити. В 1807 г. из части земель, захваченных Пруссией (в 1809 г. к ним были добавлены территории, отнятые у Австрии), Наполеон создал Княжество Варшавское (граница его с Россией шла по Неману и Западному Бугу). В конституции, которую дал ему Наполеон, были провозглашены равенство граждан перед законом, личная свобода крестьян и т. д. Государство это было полностью зависимым от Франции, служило плацдармом для последующего нападения на Россию. Армия Княжества, которой командовал Юзеф Понятовский (1763–1813), стоявший при Наполеоне до конца, до своей гибели под Лейпцигом, приняла участие в войнах с Австрией (1809), Испанией и в походе 1812 г. Когда началось вторжение французов в Россию, Наполеон, стремясь облегчить своим войскам действия на литовско-белорусских землях, допустил преобразование варшавского сейма в «генеральную конфедерацию Королевства Польского» и принятие манифеста об объединении Литвы с Польшей. Но и тогда он не пошел на формальное провозглашение восстановления Польского государства. А реквизиции и грабежи, чинимые «Великой армией», соответственно повлияли на отношение к ней местного населения. События эти нашли отражение в последних двух книгах «Пана Тадеуша».
Герои поэмы, как это и полагалось по обычаю, которым весьма дорожила польская шляхта, именуются в большинстве случаев разного рода титулами. Некоторые из них пояснил в своих примечаниях сам поэт. Титулы эти ко времени действия поэмы потеряли уже, как правило, всякое реальное значение, стали только почетными званиями. Но происхождение их связано с должностями и чинами, когда-то имевшими значение в феодальном Польском государстве.
Воевода, например, был старшим по рангу в администрации той или иной части страны («земли»), председательствовал на сеймике, командовал шляхетским ополчением и т. д.,
каштелян был до XIII в. представителем государя на определенной территории, имевшей центром город, а затем обладал местом в сенате,
староста исполнял обязанности наместника, управлял замком или королевскими имениями. Были титулы, ведущие происхождение от придворных должностей:
чесник когда-то надзирал над погребами,
стольник, подчаший, крайчий (кравчий) исполняли обязанности при королевском столе, а позднее почетные должности с таким названием были учреждены во всех воеводствах.
То обилие имен, которое мы встречаем в поэме, не может быть, конечно, всесторонне прокомментировано. Заметим лишь, что в большинстве случаев Мицкевич употребляет подлинные, известные на Литве имена и фамилии, как магнатские (Радзивилл, Пац, Сапега, Сангушко и др.), так и шляхетские. В последнем случае ими зачастую оказывались имена друзей юности поэта, его университетских товарищей и соседей.
(обратно)
233
Стр. 441.
…спасла от смерти в детстве… — В биографиях поэта говорится, что он ребенком выпал из окна и жизнь его была в опасности.
(обратно)
234
Стр. 442.
Чемарка (сукмана) — польская народная одежда, которую Костюшко носил в знак уважения к доблести крестьян, участвовавших в восстании.
(обратно)
235
Меч священный… — При провозглашении восстания меч Костюшко был торжественно освящен в краковском костеле.
(обратно)
236
Трех деспотов изгнать клялся он… — Клятва эта была дана 24 марта 1794 г. на площади в Кракове.
(обратно)
237
Рейтан Тадеуш (1741–1780) — депутат польского сейма, протестовавший в 1773 г. против первого раздела Полыни; впоследствии — в состоянии психического расстройства — покончил жизнь самоубийством. Платоновский диалог
«Федон» и Плутархово жизнеописание
Катона названы здесь как символ республиканских добродетелей и презрения к смерти.
(обратно)
238
Стр. 443.
Ясинский Якуб (1759–1794) — участник восстания Костюшко, «польский якобинец», организатор народного выступления в Пильне, революционный поэт, погиб при обороне Праги, предместья Варшавы. Тогда же погиб и его сотоварищ, депутат «Четырехлетнего сейма» Тадеуш
Корсак.
(обратно)
239
Стр. 445.
Пудерман — полотняный халат, который одевался во время туалета, когда посыпали пудрой парик.
(обратно)
240
…когда гремели пушки… — то есть во время войны 1792 г., в ходе которой прославился Костюшко.
(обратно)
241
Граничный суд (или «подкоморский») — выносил решения в земельных спорах между помещиками.
(обратно)
242
Стр. 448.
…погиб в восстанье… — Здесь неточность перевода. Как следует из текста, владелец замка погиб в 1792 г.
(обратно)
243
Козерог. — Герб этот выглядел так: голова осла на красном поле и как шлем над гербовым щитом — половина козы.
(обратно)
244
Ксендз. — Упоминаемый здесь ксендз Робак был монахом ордена бернардинов, собиравшим для Ордена пожертвования («квестарем»), и соответственно этому именуется в дальнейшем тексте.
(обратно)
245
…Литовский холодец… — Это студеная похлебка со свекольной ботвой, огурцами, сметаной, яйцами, рубленым мясом (или раками).
(обратно)
246
Стр. 449.
…десять лет провел у воеводы… — Старопольская шляхта имела обычай определять сыновей на службу при магнатских дворах для приобретения светского воспитания.
(обратно)
247
Стр. 451.
Тарататка — верхняя одежда с нашитыми шнурами.
(обратно)
248
Стр. 452.
Карьолка — от
франц. carriole — двуколка, повозка.
(обратно)
249
Венецианский черт… — Польская поговорка именует таким образом непоседу, искателя приключений.
(обратно)
250
Стр. 461.
…от царствованья Леха… — с незапамятных времен. Лех в древних легендах и хрониках выступает как родоначальник польского племени.
(обратно)
251
Стр. 462.
Все тяжбы старые… — Мицкевич перечисляет далее и подлинные судебные дела, и вымышленные, называя их ради шутки именами своих знакомых.
(обратно)
252
Стр. 463.
…Орлов серебряных… — Это эмблема польских войск.
Золотые орлы — эмблема наполеоновской армии.
(обратно)
253
…мундиров красных… (в оригинале: «красных воротников») — то есть полицейских.
(обратно)
254
Князевич Кароль (1762–1842) — генерал, участник восстания Костюшко и польских легионов, командовал их 1-й «легией». После взятия Рима французами, в котором участвовала его «легия», был в 1796 г. некоторое время комендантом города. В 1801 г. в знак протеста против политики Наполеона по отношению к Польше и легионам вышел в отставку.
(обратно)
255
Яблоновский Владислав — генерал легионов, был одно время, командующим Придунайской «легии», но в экспедиции на Гаити не принимал участия.
(обратно)
256
Стр. 464.
Горецкий — см. комментарий к I сцене III части «Дзядов» (стр. 718 наст. тома) (см. коммент. 160 — верстальщик). Далее также приводятся подлинные фамилии.
(обратно)
257
Застянок — см. прим. Мицкевича к поэме (стр. 693 наст. тома).
(обратно)
258
Стр. 471.
Примас — глава католической церкви в Польше.
(обратно)
259
Стр. 472.
…Конфедератам он хотел помочь.. — Здесь речь идет о сторонниках Конституции 3 мая: принявший ее сейм объявил себя конфедерацией.
(обратно)
260
Пробощ (плебан) — приходский священник.
(обратно)
261
Стр. 473.
…из Горбатович… — В этом поселении близ Новогрудка действительно жили дальние родичи поэта.
(обратно)
262
…кресла и булавы! — Это значит, что среди предков Стольника были сенаторы и гетманы, высшие военачальники Речи Посполитой.
(обратно)
263
Стр. 476.
А вот и огурцы-то! — Монаху служила поясом веревка с узлами («огурцами»).
(обратно)
264
Стр. 480.
Козодусин. — В рукописи стояла подлинная русская фамилия: Козодавлев.
(обратно)
265
Стр. 485.
Смычок — правильнее было бы перевести «поводок», «сворка».
(обратно)
266
Купиское поле — луга на Немане, к юго-востоку от Новогрудка.
(обратно)
267
Стр. 488.
…рогом Амальфеи — то есть рогом изобилия.
(обратно)
268
Стр. 489.
Ты нимфа или дух… — Граф говорит словами гомеровского Одиссея.
(обратно)
269
Стр. 496.
…в легион… — в армию Княжества Варшавского.
(обратно)
270
…в гречкосея! — Так называли в Польше провинциальных помещиков, занятых исключительно хозяйством и чуждавшихся общества.
(обратно)
271
…в Дубно побывал… — В Дубне на Волыни происходили крупные ярмарки.
(обратно)
272
…И в Петрокове был… — В Петрокове (Пётркове) заседали сессии так называемого «коронного трибунала», то есть высшего суда для польских земель.
(обратно)
273
Стр. 500.
Тибура дивного классические воды! — водопады под городом Тиволи около Рима.
(обратно)
274
Позилипский грот находится близ Неаполя. Оба эти стиха навеяны строками из описательной поэмы «Зофьювка» Станислава Трембецкого (1739–1812), видного и высоко ценимого Мицкевичем поэта польского Просвещения.
(обратно)
275
Стр. 502.
Орловский Александр (1777–1832) — польский живописец и график, жанрист. Большую часть жизни работал в Петербурге, где и познакомился с Мицкевичем. Пушкин упоминает Орловского в «Руслане и Людмиле».
(обратно)
276
Стр. 505.
…форма для литья… — Пули отливали в то время сами охотники.
(обратно)
277
Стр. 506.
Витенес — великий князь Литовский на рубеже XIII–XIV вв.
(обратно)
278
Стр. 507.
Лиздейко — по преданию, последний верховный жрец в языческой Литве.
(обратно)
279
Последний Ягеллон — король Зыгмунт-Август, правивший с 1548 по 1572 г.
(обратно)
280
…у дома Головинских? — Имеются в виду знакомые поэта, в имении которых Стеблеве на Украине он останавливался в 1825 г. по пути из Петербурга в Одессу.
(обратно)
281
Ян отклик находил у липы в Чернолесье… — Речь идет о великом поэте польского Возрождения Яне Кохановском (1530–1584). В стихах его многократно воспета липа, росшая в имении поэта — Чернолесье.
(обратно)
282
…Нашептывал певцу… — Имеется в виду поэт Северин Гощинский (1801–1876), революционный романтик, автор поэмы «Каневский замок» из времен восстания крестьян на Украине («колиивщина»). Дуб воспевается в одной из сцен этой поэмы.
(обратно)
283
Стр. 511.
Тирские зодчие (ниже:
искусники Хирама) — строители храма Соломона на Сионском холме в Иерусалиме.
(обратно)
284
Цицес — Поэт имеет в виду (допустив ошибку в названии) баночку — хранилище текста заповедей у набожных евреев.
(обратно)
285
Стр. 513.
…у авзонов… — то есть в Италии. Название древнего народа взято Мицкевичем из древнеримской поэзии.
(обратно)
286
Стр. 514.
Схизма — то есть православие.
(обратно)
287
«Курьер литовский» — газета, выходившая в Вильно.
(обратно)
288
Стр. 515.
…документами доказывать шляхетство! — Царские власти требовали от польской шляхты документального подтверждения дворянского происхождения, что поставило многих мелких шляхтичей в затруднительное положение.
(обратно)
289
…Гданьск с ним брали… — Имеются в виду военные действия 1807 г.
(обратно)
290
Стр. 525.
Сагалас… — Действительно, в Польше был известен анекдот о мастере, сделавшем столь забавную надпись («Сагалас Лондон а Балабановка») на ружье своей работы.
(обратно)
291
Стр. 529.
Кирейка — верхняя одежда, подбитая мехом.
(обратно)
292
Стр. 543.
В молчании жевать лишь капуцины рады… — В уставе ордена капуцинов был пункт, предписывавший молчание при еде.
(обратно)
293
Стр. 554.
Буздыган — оружие типа булавы, знак отличия старших офицеров в старопольском войске.
(обратно)
294
Стр. 556.
Актовый реестр (в подлиннике: «тактовый») — перечепь дел о преступлениях, задевающих суд.
(обратно)
295
Стр. 558.
У езуитов я учился… — В старой Польше иезуиты ведали большим количеством школ.
(обратно)
296
Стр. 560.
Погоня — см. прим. к «Отрывку» III части «Дзядов» (стр. 723 наст. тома)
(см. коммент. 212 — верстальщик).
(обратно)
297
Медведь — герб Жмуди.
(обратно)
298
Стр. 561.
Биньон Луи — представитель Наполеона при правительстве Княжества Варшавского.
(обратно)
299
Стр. 565.
…Со шведских войн… — со времен шведского нашествия в середине XVII в., когда шведы оккупировали почти всю Речь Посполитую.
(обратно)
300
Стр. 566.
Зыгмунтовка — см. прим. к «Конраду Валленроду» (стр. 710 наст. тома)
(см. коммент. 113 — верстальщик).
(обратно)
301
Стр. 567.
…лихим конфедератом… — участником Барской конфедерации.
(обратно)
302
Огинский Михаил Клеофас — участник восстания на Литве в 1794 г.
(обратно)
303
Стр. 568.
«Когда восходят зори» — песня, слова которой принадлежат видному поэту сентиментального направления Францишку Карпинскому (1741–1825).
(обратно)
304
Стр. 570.
Грабовский Юзеф — офицер армии Княжества Варшавского, участник похода 1812 г. Поэт гостил в его познанском имении в 1831 г.
(обратно)
305
Тодвен Тадеуш — участник наполеоновских войн, с которым Мицкевич познакомился в 1832 г. в Дрездене.
(обратно)
306
Стр. 571. …
глядишь, уже в Познани… — В ноябре 1806 г., когда в Всликопольшу вступили воевавшие против Пруссии французские войска, местное население взялось за оружие. Я.-Г. Домбровский и Юзеф Выбицкий (автор слов национального гимна) выступили тогда с обращением к соотечественникам, призывая их создавать войско.
(обратно)
307
Стр. 574.
Бухман — в переводе с немецкого «книжник». В образе этом отразилось ироническое отношение Мицкевича к идеологическим спорам среди эмиграции.
(обратно)
308
Общественный контракт… — Бухман излагал перед этим положения из «Общественного договора» Руссо. По шляхтичи не поняли его речи и решили, что речь идет о ежегодных ярмарках (в Киеве, Минске и т. д.), где помещики заключали сделки
(контракты) на поставку сельскохозяйственных продуктов.
(обратно)
309
Стр. 575.
…дойдет и до Бабинских. — Речь идет о так называемой «Бабинской республике» — шуточных собраниях, происходивших в XVI в. в Бабино около Люблина, на которых высмеивались отдельные лица и людские пороки, в насмешку раздавались должности и чины «республики», велись шуточные протоколы и т. д. Репликой подчеркивается несерьезность рассуждения Бухмана.
(обратно)
310
Стр. 575.
Ковенская бригада отличилась во время восстания в Литве в 1794 г.
(обратно)
311
Маршалок — предводитель, которого выбирала создававшая конфедерацию шляхта. Так же назывался и председательствующий в сейме.
(обратно)
312
Стр. 579.
Белица — городок на Немане.
(обратно)
313
Лососна — речка, которая была тогда частично границею Княжества Варшавского.
(обратно)
314
Стр. 585.
Лель и Полель — названия славянских богов, приводимые в старых польских хрониках.
(обратно)
315
Стр. 586.
Сито — см. прим. к «Гражине» (стр. 707 наст. тома)
(см. коммент. 79 — верстальщик).
(обратно)
316
Стр. 587. Дева Моровая — см. объяснения автора к «Конраду Валленроду» (стр. 207 наст. тома).
(обратно)
317
Марцин
Почобут Одланицкий — ректор Виленской академии в 1780–1799 гг. О его преемнике Я. Снядецком см. прим. к «Романтике» (стр. 700 наст. тома)
(см. коммент. 7 — верстальщик).
(обратно)
318
Стр. 588.
Браницкий Францишек Ксаверий (ок. 1730–1819) — гетман, один из главарей Тарговицкой конфедерации.
(обратно)
319
Яблоновский Станислав Ян — польский полководец, гетман Яна III Собеского, участник разгрома турок под Веной.
(обратно)
320
«С Востока молния» — панегирик в честь Яна III, изданный в 1684 г. ксендзом Бартоховским.
(обратно)
321
«Янина» (1739) — аналогичное по содержанию сочинение Я.-К. Рубинковского.
(обратно)
322
Стр. 589.
Генерал — Адам Казимеж Чарторыйский (1734–1823), «генеральный староста подольских земель», просвещенный магнат, нолитический деятель и писатель, сторонник прогрессивных реформ.
(обратно)
323
Тизенгауз Антоний (1733–1785) — литовский подскарбий (управляющий финансами), основатель ряда мануфактур.
(обратно)
324
Михал Казимеж
Огинский — виленский воевода, литовский гетман, большой любитель музыки.
(обратно)
325
Станислав
Солтан — литовский маршал двора, депутат «Четырехлетнего сейма».
(обратно)
326
…хотя и Ягеллоны… — Чарторыйские считались потомками одного из братьев Ягелло.
(обратно)
327
Стр. 594.
…станешь на ковре ты! — то есть женишься, станешь на венчальный ковер.
(обратно)
328
Стр. 599.
Свитезянка — русалка (см. одноименную балладу на стр. 37 наст. тома)
(см. сноску 2— верстальщик).
(обратно)
329
Гивойтос-змей — уж (см. прим. поэта к «Гражине» на стр. 146 наст. тома).
(обратно)
330
Стр. 602.
Интермиссия (у поэта: интромиссия) — формальный акт ввода во владение имуществом, выполнявшийся возным. Далее идет забавный пример старопольской судебной латыни, состоявшей из смеси польских и латинских слов.
(обратно)
331
Стр. 610.
Бака Юзеф (1707–1780) — иезуит, автор исключительно забавных в своей графоманской неуклюжести стихотворных «Рассуждений о смерти неминучей».
(обратно)
332
Стр. 633.
Потоцкий Влодзимеж — офицер армии Княжества Варшавского, снарядивший на свой счет две артиллерийские батареи.
(обратно)
333
Стр. 636.
Тенчинский Ян был женихом шведской принцессы, но по дороге в Швецию попал в плен к датчанам и умер в 1562 г. в тюрьме.
(обратно)
334
Стр. 641.
Радзивилл Кароль (1734–1790) — богатейший литовский магнат, прославившийся расточительностью и разгулом, прозванный «Пане коханку» за поговорку, которую постоянно употреблял.
(обратно)
335
Стр. 645. …во
прахе червь… — Робак по-польски означает «червь».
(обратно)
336
…в
Шпильбергской цитадели… — в австрийской тюрьме для политических заключенных, которая известна была во всей Европе своим суровым режимом.
(обратно)
337
Стр. 646.
Фишер Станислав (1769–1812) — генерал, в 1794 г. адъютант Костюшко, начальник штаба армии Княжества Варшавского.
(обратно)
338
Стр. 649.
Король Вестфалии… — Жером Бонапарт командовал в начале вторжения армиями правого крыла. Туда входил и корпус Понятовского. Домбровский и Князевич командовали в нем дивизиями, Михал
Грабовский — бригадой, Казимеж
Малаховский — полком. Ромуальд
Гедройц был генеральным инспектором формировавшихся в Литве воинских частей.
(обратно)
339
Стр. 650.
Оссолинский Ежи (1595–1650) — канцлер в правление короля Владислава IV, в 1633 г. ездил послом в Рим.
(обратно)
340
Несвиж — одна из резиденций Радзивиллов.
(обратно)
341
Стр. 653.
Ришпанс — французский генерал, командовавший одной из колонн в битве между австрийцами и французами при Гогенлиндене (1800).
(обратно)
342
…брать Самосиерру… — Во время войны в Испании эскадрон польской кавалерии под командованием полковника Яна Козетульского взял штурмом перевал Сомо-Сьерра, что открыло французам путь на Мадрид. Эпизод этот вошел в историю как символ польской воинской отваги.
(обратно)
343
Стр. 655.
…произошли от братьев… — Имеется в виду легенда, пересказанная в средневековых польских хрониках, о братьях Лехе, Чехе и Русс, родоначальниках славянских племен.
(обратно)
344
Стр. 660. Об Антонии Михале
Паце, упоминаемом в этой популярной польской пословице, см. прим. к стихотворению «Exegi munimentum…» (стр. 706 наст. тома).
(обратно)
345
Стр. 661.
Герб Леливы — изображение полумесяца на красном поле со звездой посредине.
(обратно)
346
…в сраженье подгаецком… — в битве под Подгайцами, когда Ян Собеский, тогда еще гетман, разбил турок (1665).
(обратно)
347
Стр. 668.
Фрикасы — фрикассе.
(обратно)
348
аркасы — сладкий творог.
(обратно)
349
блемасы — миндальное желе с приправами.
(обратно)
350
помухли — треска.
(обратно)
351
фигатели — разновидность галушек.
(обратно)
352
контузы — куриный или телячий бульон с протертым мясом.
(обратно)
353
пинели — кедровые орешки.
(обратно)
354
брунели — сушеные сливы.
(обратно)
355
Стр. 672.
Дембинский Генрик (1791–1864) — был впоследствии участником повстанческой экспедиции в Литву в 1831 г.; некоторое время главнокомандующий; позднее участвовал в венгерской революции. И долее из участников войны 1812 г. Мицкевич специально выделяет позднейших генералов польского восстания: Юзефа
Дверницкого (1779–1857) — командующего кавалерией, 14 февраля 1813 г. одержавшего победу в сражении под Сточком, и Самуэля
Ружицкого.
(обратно)
356
…в корпусе… — Мицкевич имеет в виду «Рыцарскую школу» (школу кадетов) в Варшаве, первое военно-учебное заведение в Польше, основанное в 1766 г. Воспитанником ее был Костюшко. Как следует из текста оригинала, ее окончил и Князевич.
(обратно)
357
Пулавский Казимеж (1747–1779) и Цалинский
Савва — участники Барской конфедерации. Пулавский позже участвовал в войне за независимость США.
(обратно)
358
Стр. 673.
Дюмурье Шарль-Франсуа — французский полковник, военный инструктор у конфедератов в 1768 г.
(обратно)
359
Стр. 674.
Пясты — польская княжеская, затем королевская династия, правившая с X по XIV в., родоначальником которой средневековые предания и хроники называют легендарного Пяста.
(обратно)
360
Стр. 677.
…ведут свой род от Хама… — В Польше такая интерпретация библейской легенды о сыновьях Ноя имела среди шляхты хождение, начиная с XVI в.
(обратно)
361
Стр. 678. Помещик Игиаций
Карп действительно дал в 1808 г. вольную своим крестьянам.
(обратно)
362
Стр. 687.
…до границы Болеслава… — Имя это носили несколько древних польских королей.
(обратно)
363
Стр. 688.
…о Юстине и Веславе. — Имеются в виду произведения упомянутых ранее поэтов Ф. Карпинского и К. Бродзинского.
(обратно)
364
Стр. 689. Димитр (у Мицкевича ошибочно: Василий)
Сангушко за увоз невесты и насильственный брак был приговорен к изгнанию.
(обратно)
365
Станислав
Стадницкий («ланьцутский дьявол») — известный авантюрист начала XVII в.
(обратно)
366
Стр. 690.
Литовский Статут — собрание законов Великого княжества Литовского XVI в.
(обратно)
367
Стр. 691. …
судил государственных преступников в Вильно. — В 1794 г. повстанческие власти казнили несколько магнатов-изменников, противников Конституции 3 мая.
(обратно)
368
Стр. 693.
Витвицкий Стефан (1802–1847) — польский поэт-романтик, сблизившийся с Мицкевичем в эмиграции.
(обратно)
369
Стр. 694.
Индигенат — присвоение шляхетского достоинства иностранцам.
(обратно)
370
Стр. 695.
Радзивилл Михал Кшиштоф (1549–1616) — литовский магнат, автор «Записок о паломничестве в Святую землю».
Б. Стахеев
(обратно)
Оглавление
Адам Мицкевич
Стихотворения
1820–1824
Ода к молодости
Перевод П. Антокольского
Песнь филаретов
Перевод Н. Асеева
Пловец
Перевод О. Румера
Из «Баллад и романсов»
Романтика
Перевод А. Ревича
Свитезь
Баллада
Перевод В. Левика
Свитезянка
Баллада
Перевод А. Фета
Пани Твардовская
Баллада
Перевод М. Голодного
Лилии
Перевод А. Ревича
К М***
Перевод М. Зенкевича
В альбом С. Б
Перевод С. Кирсанова
1825–1829
Пловец
(«Когда увидишь челн убогий…»)
Перевод М. Живова
«Когда пролетных птиц несутся вереницы…»
Перевод В. Брюсова
В альбом Целине Ш
Перевод М. Живова
Сомнение
Перевод А. Эппеля
К Д. Д
(«О, если б ты жила хоть день с душой моею…»)
Перевод М. Зенкевича
К Д. Д
(«Когда в час веселья, моя баловница…»)
Перевод М. Живова
Два слова
Перевод М. Живова
Сон
Перевод Л. Мартынова
Разговор
Перевод Л. Мартынова
Час
Перевод Е. Полонской
Размышления в день отъезда
Перевод А. Эппеля
Сонеты
К Лауре
Перевод В. Левика
«Я размышляю вслух, один бродя без цели…»
Перевод В. Левика
«Как ты бесхитростна! Ни в речи, ни во взоре…»
Перевод В. Левика
Свидание в лесу
Перевод В. Левика
«Осудит нас Тартюф и осмеет Ловлас…»
Перевод В. Левика
Утро и вечер
Перевод В. Левика
К Неману
Перевод В. Левика
Охотник
Перевод В. Левика
Резиньяция
Перевод В. Левика
К***
(«Ты смотришь мне в глаза, страшись, дитя, ихвзгляда…»)
Перевод В. Левика
«Впервые став рабом, клянусь, я рабству рад…»
Перевод В. Левика
«Мне грустно, милая! Ужели ты должна…»
Перевод В. Левика
Добрый день
Перевод В. Левика
Спокойной ночи
Перевод В. Левика
Добрый вечер
Перевод В. Левика
Визит
Перевод В. Левика
Визитерам
Перевод В. Левика
Прощание
Перевод В. Левика
Данаиды
Перевод В. Левика
Извинение
Перевод В. Левика
Крымские сонеты
1. Аккерманские степи
Перевод И. Бунина
2. Штиль
На высоте Тарканкут
Перевод В. Левика
3. Плаванье
Перевод В. Левика
4. Буря
Перевод В. Левика
5. Вид гор из степей Козлова
Перевод О. Румера
6. Бахчисарай
Перевод В. Левика
7. Бахчисарай ночью
Перевод А. Ревича
8. Гробница Потоцкой
Перевод А. Ревича
9. Могилы гарема
Перевод В. Левика
10. Байдары
Перевод А. Ревича
11. Алушта днем
Перевод А. Ревича
12. Алушта ночью
Перевод И. Бунина
13. Чатырдаг
Перевод И. Бунина
14. Пилигрим
Перевод А. Ревича
15. Дорога над пропастью в Чуфут-Кале
Перевод В. Левика
16. Гора Кикинеиз
Перевод В. Левика
17. Развалины замка в Балаклаве
Перевод В. Левика
18. Аюдаг
Перевод В. Левика
Объяснения
Воевода
Перевод А. Пушкина
Будрыс и его сыновья
Перевод А. Пушнина
Фарис
Перевод О. Румера
Объяснения
1829–1855
К *** («Нет! Не расстаться нам! Ты следуешь за мною…»)
Перевод Л. Мартынова
Моему чичероне
Перевод Л. Мартынова
К польке-матери
Перевод М. Михайлова
Одиночеству
Перевод Б. Турганова
Расцвели деревья снова
Перевод Н. Асеева
Редут Ордона
Перевод С. Кирсанова
Exegi munimentum aere perennius… [11]
Из Горация
Перевод С. Кирсанова
Над водным простором…
Перевод В. Короленко
Полились мои слезы…
Перевод В. Звягинцевой
Гражина
Литовская повесть
Перевод А. Тарковского
Эпилог издателя
Исторические объяснения
Конрад Валленрод
Историческая повесть
Перевод Н. Асеева
Предисловие
Вступление
I. Избранье
II
III
IV. Пир
V. Война
VI. Прощанье
Объяснения
Дзяды
Поэма
Части II и IV
Перевод Л. Мартынова
Призрак
Часть II
Часть IV
Дзяды
Поэма
Часть III
Перевод В. Левика
Дзяды
Часть III
Литва. Пролог
Перевод В. Левика
Акт I
Сцена I
Сцена II
Импровизация
Сцена III
Сцена IV
Сцена V
Сцена VI
Сцена VII
Сцена VIII
Сцена IX
Дзяды
Отрывок части III
Перевод В. Левика
Дорога в Россию
Пригороды столицы
Петербург
Памятник Петру Великому
Смотр войска
День перед петербургским наводнением, 1824
Олешкевич
Русским друзьям
Объяснения
К III части «Дзядов»
Пан Тадеуш
Перевод С. Мар (Аксеновой)
Книга первая
Хозяйство
Книга вторая
Замок
Книга третья
Любовные шалости
Книга четвертая
Дипломатия и охота
Книга пятая
Ссора
Книга шестая
Застянок
Книга седьмая
Совет
Книга восьмая
Наезд
Книга девятая
Битва
Книга десятая
Эмиграция. Яцек
Книга одиннадцатая
Год 1812
Книга двенадцатая
За братскую любовь
Эпилог
Объяснения
*** Примечания *** 



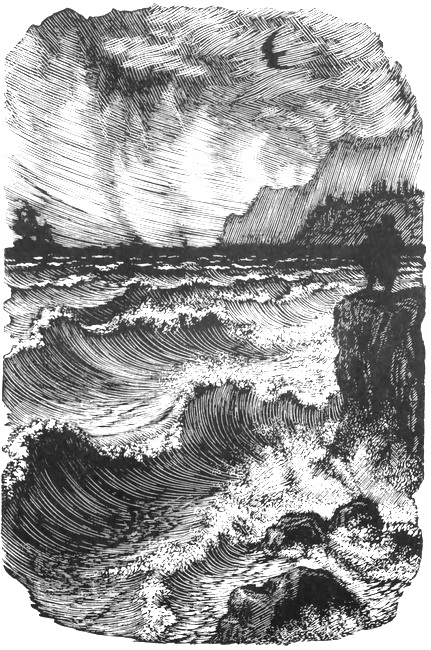
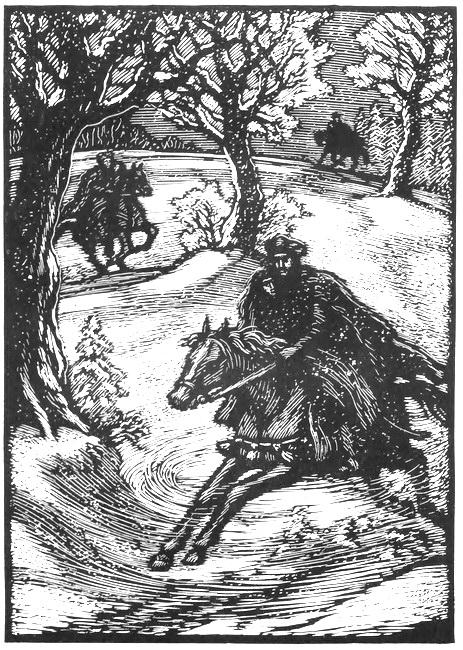





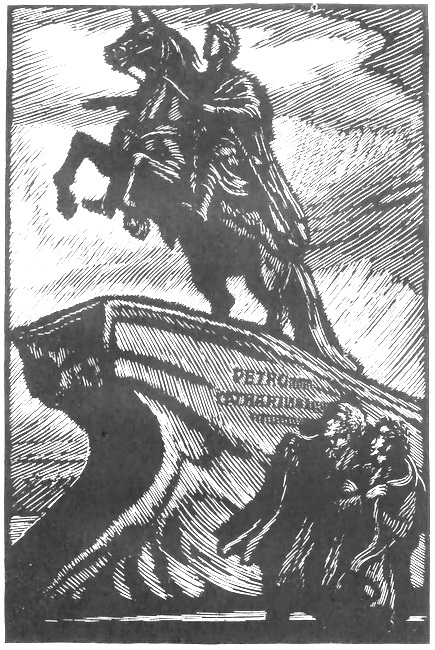




Последние комментарии
2 дней 49 минут назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 15 часов назад