Конец Дракона [Нисон Александрович Ходза] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Нисон Александрович Ходза
Конец Дракона

СЫНОК
В жаркий воскресный день я сидел на берегу Финского залива. Это, пожалуй, было единственное место на побережье, где по воскресеньям не раздавались гулкие удары по мячу и не слышался визг ребятишек. Здесь было тихо. От берега до самого шоссе тянулось тенистое кладбище, и люди берегли торжественный покой этого места. Только жадные чайки с пронзительным писком носились над водой. Автобус в город уходил через сорок минут, можно было не торопиться, и я решил побродить по кладбищу. Одна из кладбищенских тропинок привела меня к зеленой, свежеокрашенной решетке. На обелиске я увидел надпись:ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ АНТОНЕНКО Род. 21 /VIII 1927 г. Погиб 5/Х 1941 г. Разведчик отечественной войны
Буйно цветущая черемуха росла у самой могилы, как бы оберегая ее от ветров и ливней. С прикрепленного к обелиску портрета на меня пристально смотрели ясные мальчишеские глаза. «Ребенок, совсем еще ребенок! - горько подумал я. - Проклятая война!» Шаги за спиной прервали мои невеселые мысли. Я оглянулся. У решетки стоял какой-то человек. На широкие плечи незнакомца был накинут морской китель. Он молча прошел внутрь ограды, точно не замечая меня, сел на узенькую скамейку и облокотился на врытый в землю столик. Я понимал, что мне надо уйти, что я здесь лишний, но, сам не знаю почему, сказал: - Ужасно!.. Мальчик… Погиб, не успев начать жить, ничего не успев сделать… Незнакомец поднял голову, и тогда я заметил на его смуглой щеке глубокий рубец. - Ничего не успев сделать… - повторил он мою фразу. - Где вы были во время войны? - неожиданно спросил он. - В Ленинграде. А что? - Вы помните, как фрицы в сорок первом обстреливали наш город? - Еще бы! Сколько раз валялся под обстрелом! Можно сказать, чудом жив остался… - А может быть, и не чудом, - тихо проговорил моряк.- Вы не допускаете такой странной мысли… вдруг вы своей жизнью обязаны совсем неизвестному вам мальчику? - Не понимаю… - Понять нелегко… Моряк невесело улыбнулся, вздохнул и вдруг повелительным жестом указал мне на место рядом с собой. - Огородников моя фамилия, - сказал он сипло.- Петр Сергеевич Огородников. Капитан-лейтенант в отставке… Я понял, что услышу рассказ о мальчике. И не ошибся. В этот час я действительно узнал о подвиге петергофского пионера Георгия Антоненко.
* * *
Война застала Огородникова на флоте старшиной первой статьи. Однако воевать ему на море долго не пришлось. В конце июля его списали в морскую пехоту и назначили вскорости командиром полковой разведгруппы. Это были горькие дни. Немцы жали со всех сторон, и в августе докатился полк Огородникова от Пскова до Петергофа. Вот тогда он и увидел в штабе полка Георгия Антоненко. Мальчик держал в руке исписанный карандашом листок из ученической тетради. Командир полка, измотанный боями, даже не стал читать его заявление. - Война не пионерский парад, - сказал он зло.- Нам нужны солдаты, а не юные барабанщики! Расстроенный Антоненко вышел из штаба; смеркалось, и он не представлял, куда ему теперь деться. Мать - в Ораниенбауме, в Петергофе, где был их дом, немцы. Идти в Ораниенбаум Жора боялся. Он знал: оттуда эвакуируют всех подростков. А уж из тыла, конечно, не было никакой возможности попасть в действующую армию. После недолгого раздумья Жора решил заночевать в лесной сторожке, чтобы утром снова попытать счастья в другой воинской части. Едва он углубился в лес, как встретил знакомую бабку - тетю Улю. Она работала в Петергофе, в заводском общежитии. Ее знал весь Петергоф. Потому что она была единственным неграмотным человеком на весь городок. Когда ее уговаривали научиться хотя бы читать, старушка только посмеивалась. Посмеивалась и приговаривала: - Я и без грамоты, родненькие, неплохо живу. Зарплату мне платят, как грамотной. Дай бог здоровья советской власти! Это у нее присказка была такая: «Дай бог здоровья советской власти!» И вот сейчас Жора встретил ее в лесу. Мальчик не удивился. За последние дни все так изменилось, что никто ничему не удивлялся. Оказалось, что старушка бежала из Петергофа и сейчас пробирается в Ораниенбаум. - Заблудились вы, тетя Уля, - сказал Жора.- Вам в другую сторону. Он объяснил ей, как пройти в Ораниенбаум менее опасной дорогой. Старушка долго благодарила его, называла себя темной неграмотной дурой, ругала по всякому немцев, а потом вдруг спросила: - А ты, родненький, что здесь делаешь, в лесу-то? Мальчик решил не открывать свое убежище и сказал, что на опушке, в километре отсюда, у него назначена встреча с дружком - Лешкой Зайцевым. Они решили вдвоем пробираться в Ленинград. - Счастливо тебе, родненький! - старушка утерла рукавом слезу и, сгорбившись, побрела по тропинке. Когда Жора добрался до сторожки, уже стемнело. Он разостлал в углу свое пальтишко и улегся. Где-то поблизости немцы вели минометный огонь, из Кронштадта била наша тяжелая артиллерия, в черном небе гудел самолет и рвались огненными брызгами зенитки. Он ворочался с боку на бок, но сна не было. Тогда он накинул пальто и вышел из сторожки. И в этот момент в небе повисла осветительная ракета. В мертвенном тревожном свете он увидел совсем близко какую-то фигуру. Но он уже знал, как обманчиво все выглядит при зловещем свете застывшей в небе ракеты. Это мог быть человек, но мог быть и обыкновенный куст… Где-то на шоссе грохнул снаряд, и одновременно со взрывом погасла ракета. Все погрузилось в непробиваемую темь. Человек или куст? Свой или враг? Жора бросился на землю, отполз в сторону и выкрикнул: - Кто такой? Стрелять буду! - Свои, свои, батюшка, не стреляй! Заблудилась я… Женский голос показался Жоре знакомым. - Кто такая? - снова крикнул он. - Из Петергофа я… От немцев бежала… Заблудилась. .. - Тетя Уля? Это вы? - Жора вскочив с земли. - Я, родненький, я, - забормотала старушка.- А ты откуда меня знаешь? - Я вас по голосу узнал. Это опять я, Жора Антоненко. Идите сюда. Здесь можно переночевать. В сторожке тетя Уля рассказала, как по дороге в Ораниенбаум она сбилась с пути и снова попала в тот же лес. - Надо же! Второй раз встретились! Я думала, ты уже к Питеру шагаешь, а ты эва где… - Лешка не пришел, а мы условились вместе,- выкручивался Жора. Перед тем как уснуть, тетя Уля долго ругала фашистов: - Глаза им надо повыкалывать, иродам! На кусочки мелкие резать!.. Ножами тупыми!.. Наконец она затихла и уснула. А Жора никак не мог забыться. Он все думал, как сделать, чтобы его зачислили в армию. «Дорогой товарищ Буденный, - сочинял он, лежа на полу. - Мой отец был старшим лейтенантом. Он был тоже кавалерист. Он пал смертью храбрых в боях с белофиннами…» Сочинять письмо мешала старушка. Тетя Уля спала неспокойно, стонала, ворочалась, что-то невнятно бормотала. И вдруг она отчетливо проговорила: «собака… ненавижу…» Этому невозможно было поверить: безграмотная тетя Уля, которая не умела ни читать ни писать, говорила во сне по-немецки! Теперь мальчику было не до сна. Замерев, он прислушивался к прерывистому дыханию старухи, ожидая, что она снова заговорит. Но старуха не произнесла больше ни слова. На рассвете тетя Уля поднялась: - Как же нонеча в Ораниенбаум пробраться, стреляют везде? - спросила тетя Уля. - Я тоже в Ораниенбаум, у меня там мать. Пойдем вместе… В лесу было тихо, пахло прелым листом и грибами, пересвистывались беззаботные синицы. Невозможно было представить, что несколько часов назад поблизости рвались бомбы, ревели бомбардировщики и удары тяжелых снарядов заставляли содрогаться землю. Они прошли совсем немного, как вдруг старуха остановилась, начала шарить по карманам, потом всплеснула руками и запричитала: - Ах я ворона! Видать, обронила паспорт в сторожке! Куда ж я без паспорта в этакое время! Подожди, батюшка, меня. Не уходи с этого места, а то я и промеж трех сосен заблужусь. «Хочет отделаться от меня!» - решил мальчик. Маскируясь в кустах, прячась меж деревьями, он неотступно полз за старухой. Она вышла к сторожке, миновала ее и остановилась у дуплистого дуба. Какое-то время старуха стояла неподвижно, точно прислушиваясь к чему-то, потом быстро вытащила из-за пазухи конверт и сунула его в дупло… …Она застала Жору на прежнем месте. Мальчик сидел на пеньке и задумчиво грыз травинку. - Нашла, родненький, нашла, дай бог здоровья советской власти, - затараторила старуха. - Обронила у порога, ворона старая… Они вышли на дорогу, и в это время поблизости начали рваться снаряды. Жора подивился, с какой быстротой старуха скатилась в придорожную канаву. Он укрылся невдалеке и не спускал с нее глаз. Мальчишка не знал, что ему сейчас делать. Бежать к дубу? Но тогда он упустит старуху. Стеречь старуху, пока кончится обстрел? Но за это время конверт может попасть в руки фашистов. - По шоссе нам идти нельзя, - крикнул Жора.- Ползите ко мне, пойдем другой дорогой! Только скорее! Старуха на четвереньках, быстро перебирая руками и ногами, подползла к Жоре. Они вылезли из кювета, и Жора свернул с дороги в сторону Мартышкина. Теперь снаряды бухали где-то в стороне, старуха послушно семенила за Жорой, приговаривая на каждом шагу: - Спасибо тебе… Без тебя погибла бы… Дай бог здоровья советской власти…
* * *
Он вывел ее прямехонько к штабу дивизии. Часовой крикнул им, чтобы они убирались. Штатским в этом районе находиться не разрешалось. Старуха шарахнулась в сторону, но Жора вцепился в нее обеими руками и молча тянул к часовому. - Пусти! - прошипела старуха. - Не положено здесь ходить! Мальчишка так же молча продолжал тащить ее к штабу. - Эй, парень! - закричал часовой. - Оглох, что ли? Мотай отсюда! В это время из штаба вышел командир полка, тот самый, который вчера не захотел разговаривать с Жорой. - Товарищ полковник! - закричал Жора. - Арестуйте ее скорее! - Чего он вцепился, оглашенный?! - завизжала старуха. - Видать, от страха ума лишился! - Арестуйте ее скорее! Товарищ полковник! Сейчас я вам все расскажу! - Рехнулся малый! Я же тетя Уля! Меня в Петергофе все знают! Дай бог здоровья советской власти! - Почему оказались в запретной зоне? - строго спросил полковник. - Это он меня затащил сюда, сбил, старую, с дороги! Уж вы мне, батюшка, помогите, прикажите солдатику проводить убогую в безопасное место. - Не отпускайте ее! - кричал Жора. - Она, когда спит, по-немецки разговаривает! И конверт бросила в дупло! Старуха трясущимися руками совала полковнику паспорт. - Тетя Уля я! Из Петергофа! Врет он, окаянный! Глаза ему за это выколоть мало! Тупым ножом его! Чтобы на мелкие кусочки! До сих пор полковник сомневался: не напутал ли чего-нибудь мальчишка? Этому народу всюду мерещатся шпионы и диверсанты. Уж очень не походила сухонькая старушонка на немецкого лазутчика. Но едва она выкрикнула злобные свои слова, как полковник насторожился: - Вам, гражданка, о боге пора думать, а вы вон что говорите. Ступайте оба в штаб… Жору допрашивал какой-то майор. Рядом с майором сидел полковник. Когда Жора кончил рассказывать, командир полка пообещал: - Если слова твои подтвердятся, сегодня же будешь зачислен в разведку на все виды довольствия. Жоре особенно понравилось это выражение: «На все виды довольствия». Спустя час у дуба был задержан немецкий шпион. На нем была форма офицера Красной Армии. В конверте оказалась схема расположения наших зенитных батарей. В этот день пионер Георгий Антоненко был зачислен в разведгруппу Огородникова. В разведгруппе было пять разведчиков, все пять - морские пехотинцы. Это были отчаянные ребята, которых фашисты называли «черная смерть». Но все они довольно плохо знали местность. Вот тут на выручку им и пришел Антоненко. Он знал свою округу лучше, чем матрос свой корабль. Лесные тропки, овраги, болота, обходные пути, заброшенные, заросшие стежки - все здесь было исхожено. Для разведчиков такой парень оказался ценнее штабных карт.
 В свободные минуты Огородников научил Жору бросать гранаты да еще кое-каким хитростям - есть у разведчиков разные свои секреты. А из карабина мальчишка бил не хуже любого солдата.
Вскорости Огородников взял Жору на одну высотку. Выбрал подходящее место, они залегли и стали следить в бинокли за немецкой передовой. И залив был перед ними тоже как на блюдечке. Ветер разогнал туман, и они увидели буксирчик. Работяга тянул за собой три тяжелых баржи: вез из Ленинграда в Ораниенбаум боеприпасы. Залив на заре был спокойный, ясный, хоть смотрись в него. Но где-то грохнуло орудие, одно, другое, и мгновенно вокруг барж завихрились водяные смерчи, заухали разрывы. Багровое пламя и черный дым - вот и все, что видели теперь разведчики. А когда ветер унес последние клочья дыма, не было больше ни буксира ни барж. Залив же по-прежнему казался чистым, ясным, как зеркало…
Огородников оторвался от бинокля и взглянул на Жору. Лицо парнишки было мертвенно бледным.
- Откуда они бьют, откуда они бьют? - спрашивал он. - Скажи мне, откуда они бьют?
Огородников молчал. Он и сам не знал, откуда бьют фашисты, где установлена их батарея. А Жора, не подымаясь с земли, шарил по горизонту биноклем и все повторял:
- Откуда они бьют? Откуда они бьют?
Над головами разведчиков просвистал новый снаряд, за ним - второй, третий, четвертый. Разрывов разведчики не слышали.
Жора опустил бинокль и поднял на Огородникова глаза. Командир понял его молчаливый вопрос.
- Теперь бьют по Ленинграду, - объяснил он. Потому и разрывов не слышно.
- Значит, в Ленинграде сейчас рвутся снаряды?
Огородников кивнул головой.
- А мы здесь сидим и ничего не делаем! Там людей убивают, а мы… а мы…
Огородников молчал. Что он мог сказать ему?
- Надо накрыть эту батарею!-Жора вскочил на ноги и заторопился. - Пойдем к полковнику! Надо ему сказать! Надо накрыть ее!
Он был еще мальчик и не умел ждать. Ему казалось все просто: он доложит командиру полка, командир прикажет накрыть фашистскую батарею - и готово дело! Но Огородников-то знал: подавить такую батарею - тяжкий солдатский труд.
Едва они вернулись в часть, как Огородникова потребовал к себе полковник. Надо же такое совпадение: именно его разведгруппе приказано было подорвать фашистскую батарею, ту самую, что потопила сегодня баржи и обстреляла Ленинград. Штабу стало известно: батарея расположена в районе деревни Троицкой.
Огородников сообщил приказ своим «браткам». А подобрались они один к одному - рисковые матросы.
Они задали только один вопрос:
- Когда выходим?
Огородников не спешил с ответом. Многое было еще неясным. Идти на такую операцию, не зная точно, где расположена батарея, как она охраняется, - это означало не просто погибнуть, а погибнуть глупо, бессмысленно, не выполнив боевого задания.
- Это та самая батарея? - спросил Жора.
- Та самая.
- Она бьет из района Троицкой?
- Точно…
- Я знаю все подходы к Троицкой. Пойду сегодня в ночную разведку и найду эту батарею.
Огородников пытался отговорить его:
- Риск большой. Вдруг обнаружат? ..
- Не обнаружат! - сказал Жора убежденно.- У меня знакомые в Троицкой. Я лесом пойду, в обход… Через болото…
В ту же ночь Огородников проводил его до передовой, и мальчик исчез в темноте непроглядной, промозглой октябрьской ночи.
До Троицкой было около шести километров, если идти обычной дорогой. Но Жора шел лесом и только ему одному известной болотной тропкой. Это немалое искусство- отыскать дождливой октябрьской ночью узенькую тропинку на болоте. Одну-единственную. Но Жора нашел ее. Он был прирожденный разведчик и следопыт!
Вместо шести километров Жоре пришлось пройти не менее двенадцати. И почти все двенадцать - в расположении врага. Только разведчик знает, что такое преодолеть ночью двенадцать километров в районе боевых действий.
В крохотный просвет между тучами пробился лунный свет, и Жора увидел околицу деревни. Невдалеке он заметил заброшенный сеновал. Скинув с себя мокрую одежду, разведчик зарылся в сено. Его знобило, он долго не мог заснуть от холода, но в конце концов монотонные звуки дождя, однообразный шум деревьев усыпили его.
На рассвете Жору разбудил орудийный выстрел. Он приник к щели, но ничего не мог разобрать.
Новый оглушительный залп помог разведчику. Он отчетливо увидел орудийную вспышку.
Не меньше часа прождал Жора, прежде чем батарея дала еще один залп. Снова Жора увидел вспышку…
Теперь ему было почти ясно, что фрицы установили орудия в роще. Но для разведчика не существует понятия «почти ясно». Для него должно быть ясным все.
Весь день просидел Жора на сеновале, а когда наступил вечер, он покинул свой наблюдательный пост и начал пробираться к роще.
Маскируясь, Жора шел на вспышки орудийных залпов. И довольно скоро оказался чуть ли не рядом с батареей…
Ранним утром Жора вернулся в часть. Он сидел перед Огородниковым мокрый, голодный, грязный, но такой веселый, каким никто еще не видел его.
Не переодевшись, он сразу же доложил результаты разведки. Огородников поразился его памяти и наблюдательности. Он запомнил, сколько выстрелов дала батарея, сколько фрицев ее обслуживают, с какой стороны разводящий приводит смену часовых, где находится караульное помещение, где расположены блиндажи.
Доложив, он сел за дощатый стол. Перед ним поставили котелок дымящегося чечевичного супа, и он заработал ложкой. Опустошив котелок, Жора попросил добавки, но, когда ее принесли, мальчик уже спал. Он уснул сидя за столом, прижавшись лбом к шершавой неструганой доске.
Огородников поднял его на руки и перенес на койку. Жора что-то пробормотал, повернулся на бок и, совсем как маленький, положил голову на ладонь. Так он проспал более двенадцати часов…
Вечером разведгруппа двинулась к Троицкой. Саперы расчистили от мин узенький коридор, и разведчики перешли линию фронта. Каждый нес в заплечных мешках коробки с толом. Прикрывал группу замполит полка. Все были вооружены гранатами и ножами - этими неизменными спутниками разведчика.
Ночь с четвертого на пятое октября выдалась дождливой и темной. Огородников опасался, что Жора в темноте потеряет направление или собьется с единственной тропинки на болоте, но мальчик уверенно шел вперед.
Неожиданно по небу воровато забегал луч прожектора. Разведчики приникли к земле. Обшарив бурые взлохмаченные тучи, острый луч уперся в залив, чиркнул по верхушке леса и погас.
Шаг за шагом разведка приближалась к цели.
Дождь не переставая барабанил по капюшонам маскхалатов. Жоре ничего подходящего по росту не нашлось. На нем, как всегда, было серое пальтишко, перепоясанное солдатским ремнем. К ремню подвешены граната и нож.
Разведчики шли медленнее, чем предполагал Огородников. Чересчур часто приходилось бросаться на пожухлую мокрую траву и ждать, когда погаснут осветительные ракеты, перестанут тарахтеть на дороге мотоциклы, пройдет фашистский патруль. Ждать, распластавшись в канаве, ждать, укрывшись за толстым стволом дерева, ждать, сидя в овраге. Ждать… Ждать… Ждать…
И они ждали. Самым нетерпеливым оказался Жора. Его приходилось все время сдерживать. Это было непросто. Разговаривать в такой обстановке на территории врага - безумие, а жестов в октябрьской темени не различишь. В опасную минуту Огородников прижимал мальчика к земле и держал руку на его плече, чтобы он не вскочил раньше времени.
Было далеко за полночь, когда разведчики достигли цели. До батареи, по словам Жоры, оставалось не более ста метров. Огородников приказал ему отползти в лесок и ждать. Но мальчишка неожиданно отказался выполнять приказ. Он хотел сам заложить взрывчатку. Огородников схватил его за ремень с силой притянул к себе и прохрипел в ухо:
- Выполняй приказ или отчислю из полка!
Жора подчинился.
Теперь нужно было вплотную подойти к батарее. В такой темени, когда нельзя рассмотреть и собственной ладони, не так-то просто обнаружить и неслышно снять часового. Но без этого нечего было и думать о выполнении приказа - взорвать батарею.
Выручили разведчиков сами фрицы. В те времена они были наглые, чувствовали себя господами мира. Часовым надоело стоять молча. Сначала ветер донес до разведчиков обрывки немецкой речи. Потом один из фрицев начал мурлыкать какую-то песню. И наконец разведчики увидели крохотный желтый язычок пламени. Это часовые сошлись, чтобы выкурить по сигарете, хотя часовым и не полагается курить на посту. Разведчики поползли на огонек.
Это были последние сигареты в жизни двух немецких солдат…
Не много времени потребовалось разведчикам, чтобы начинить взрывчаткой стволы орудий. Затлел бикфордов шнур, и разведчики бросились к лесу, где оставался Жора. Как только они достигли леса - один за другим грохнули три взрыва.
Проклятая батарея умолкла навеки!
Но едва замерли раскаты взрывов, как раздались выстрелы, крики, свистки. Началась погоня. В небе повисла осветительная ракета. Зловещий свет ее вырвал из тьмы деревья, поляну, какую-то канаву. Разведчики бросились в канаву и выждали, когда потухнет окаянная лампада.
Где-то совсем близко протопали фрицы, стреляя наугад в темноту трассирующими пулями. Лес наполнился звуками. Стреляли отовсюду. Казалось, из-за каждого дерева строчит немецкий автоматчик. Непрерывно врезались в воздух разноцветные ракеты.
Во что бы то ни стало требовалось оторваться от погони.
Разведчики петляли по лесу, чтобы сбить противника со следа. Пока что их спасла ночь. В темноте немцы боялись перестрелять своих. И когда на востоке пробилась узенькая полоска рассвета, выстрелы и голоса фрицев раздавались далеко в стороне. Но Огородников понимал: главная опасность впереди. Предстояло перейти линию фронта. Перейти без предварительной разведки передний край противника! К тому же ночная погоня, выстрелы, ракеты, автоматные очереди - все это взбудоражило фашистов, насторожило их. Они были сейчас начеку по всему участку фронта.
И хотя полоска рассвета стала шире, разведчикам все еще помогала ночь. Они ползли по земле, стараясь не дышать. Но вдруг под одним из бойцов хрустнула сухая ветка. В ночной напряженной тишине этот хруст показался оглушительнее взрыва. В ту же секунду раздался окрик немецкого часового:
- Альберт?
Разведчики молчали.
- Альберт, ты? - выкрикнул тревожно часовой.
Разведчики продолжали молчать.
Тогда немец выстрелил из ракетницы и осветил разведчиков.
- Огонь! - крикнул Огородников, вскочив на ноги.
Отстреливаясь, бойцы отходили, веря, что пробьются к своим.
Но случилось худшее.
Немцы пустили по их следам овчарок. Вначале лай был едва различим, затем он стал приближаться. К этому времени ветер рассеял тучи, и в белесом свете предутренней луны разведчики уже отчетливо видели друг друга.
Из-за пригорка выскочил взвод немецких автоматчиков. Они спустили с поводков двух псов, сами же пытались зайти в тыл, отрезать бойцам отступление.
Пошли в ход гранаты. Первым метнул гранату Жора. Бежавший впереди длинный немец скорчился, схватился за живот и грохнулся на землю.
- Молодец, сынок! - крикнул замполит и дал очередь из автомата.
Овчарки, эти злобные твари, казались неуязвимыми. В призрачном лунном свете они выглядели чудовищно большими. Распластавшись за пнем, Огородников отстреливался из пистолета. И вдруг на спину ему прыгнула собака. Она вцепилась клыками в его правую руку и всей своей тяжестью прижала его к земле. Огородников понял: жить остались считанные секунды. И тут произошло чудо: овчарка разжала челюсти и свалилась с него. Точно сквозь пелену увидел он Жору. С ножа его капала кровь. Собачья кровь! Рядом лежала, дергаясь в предсмертных судорогах, собака. Вторую овчарку срезал выстрел замполита.
Это казалось неправдоподобным, что все разведчики были еще живы и даже не ранены. По-прежнему, отбиваясь гранатами, они держали путь к своим. И они достигли все-таки ничейной земли. Теперь самое трудное было позади. Но разве на войне знаешь, где и когда тебя ждет беда? Осколком последней вражеской гранаты был смертельно ранен Георгий Антоненко, разведчик 98-го стрелкового полка.
Двое братков подняли мальчика на руки, остальные остались прикрывать огнем их отход.
В горячке боя бойцы не заметили, как подоспел отряд нашей морской пехоты.
Через несколько минут все было кончено. Гитлеровцев постигла судьба их псов.
В свободные минуты Огородников научил Жору бросать гранаты да еще кое-каким хитростям - есть у разведчиков разные свои секреты. А из карабина мальчишка бил не хуже любого солдата.
Вскорости Огородников взял Жору на одну высотку. Выбрал подходящее место, они залегли и стали следить в бинокли за немецкой передовой. И залив был перед ними тоже как на блюдечке. Ветер разогнал туман, и они увидели буксирчик. Работяга тянул за собой три тяжелых баржи: вез из Ленинграда в Ораниенбаум боеприпасы. Залив на заре был спокойный, ясный, хоть смотрись в него. Но где-то грохнуло орудие, одно, другое, и мгновенно вокруг барж завихрились водяные смерчи, заухали разрывы. Багровое пламя и черный дым - вот и все, что видели теперь разведчики. А когда ветер унес последние клочья дыма, не было больше ни буксира ни барж. Залив же по-прежнему казался чистым, ясным, как зеркало…
Огородников оторвался от бинокля и взглянул на Жору. Лицо парнишки было мертвенно бледным.
- Откуда они бьют, откуда они бьют? - спрашивал он. - Скажи мне, откуда они бьют?
Огородников молчал. Он и сам не знал, откуда бьют фашисты, где установлена их батарея. А Жора, не подымаясь с земли, шарил по горизонту биноклем и все повторял:
- Откуда они бьют? Откуда они бьют?
Над головами разведчиков просвистал новый снаряд, за ним - второй, третий, четвертый. Разрывов разведчики не слышали.
Жора опустил бинокль и поднял на Огородникова глаза. Командир понял его молчаливый вопрос.
- Теперь бьют по Ленинграду, - объяснил он. Потому и разрывов не слышно.
- Значит, в Ленинграде сейчас рвутся снаряды?
Огородников кивнул головой.
- А мы здесь сидим и ничего не делаем! Там людей убивают, а мы… а мы…
Огородников молчал. Что он мог сказать ему?
- Надо накрыть эту батарею!-Жора вскочил на ноги и заторопился. - Пойдем к полковнику! Надо ему сказать! Надо накрыть ее!
Он был еще мальчик и не умел ждать. Ему казалось все просто: он доложит командиру полка, командир прикажет накрыть фашистскую батарею - и готово дело! Но Огородников-то знал: подавить такую батарею - тяжкий солдатский труд.
Едва они вернулись в часть, как Огородникова потребовал к себе полковник. Надо же такое совпадение: именно его разведгруппе приказано было подорвать фашистскую батарею, ту самую, что потопила сегодня баржи и обстреляла Ленинград. Штабу стало известно: батарея расположена в районе деревни Троицкой.
Огородников сообщил приказ своим «браткам». А подобрались они один к одному - рисковые матросы.
Они задали только один вопрос:
- Когда выходим?
Огородников не спешил с ответом. Многое было еще неясным. Идти на такую операцию, не зная точно, где расположена батарея, как она охраняется, - это означало не просто погибнуть, а погибнуть глупо, бессмысленно, не выполнив боевого задания.
- Это та самая батарея? - спросил Жора.
- Та самая.
- Она бьет из района Троицкой?
- Точно…
- Я знаю все подходы к Троицкой. Пойду сегодня в ночную разведку и найду эту батарею.
Огородников пытался отговорить его:
- Риск большой. Вдруг обнаружат? ..
- Не обнаружат! - сказал Жора убежденно.- У меня знакомые в Троицкой. Я лесом пойду, в обход… Через болото…
В ту же ночь Огородников проводил его до передовой, и мальчик исчез в темноте непроглядной, промозглой октябрьской ночи.
До Троицкой было около шести километров, если идти обычной дорогой. Но Жора шел лесом и только ему одному известной болотной тропкой. Это немалое искусство- отыскать дождливой октябрьской ночью узенькую тропинку на болоте. Одну-единственную. Но Жора нашел ее. Он был прирожденный разведчик и следопыт!
Вместо шести километров Жоре пришлось пройти не менее двенадцати. И почти все двенадцать - в расположении врага. Только разведчик знает, что такое преодолеть ночью двенадцать километров в районе боевых действий.
В крохотный просвет между тучами пробился лунный свет, и Жора увидел околицу деревни. Невдалеке он заметил заброшенный сеновал. Скинув с себя мокрую одежду, разведчик зарылся в сено. Его знобило, он долго не мог заснуть от холода, но в конце концов монотонные звуки дождя, однообразный шум деревьев усыпили его.
На рассвете Жору разбудил орудийный выстрел. Он приник к щели, но ничего не мог разобрать.
Новый оглушительный залп помог разведчику. Он отчетливо увидел орудийную вспышку.
Не меньше часа прождал Жора, прежде чем батарея дала еще один залп. Снова Жора увидел вспышку…
Теперь ему было почти ясно, что фрицы установили орудия в роще. Но для разведчика не существует понятия «почти ясно». Для него должно быть ясным все.
Весь день просидел Жора на сеновале, а когда наступил вечер, он покинул свой наблюдательный пост и начал пробираться к роще.
Маскируясь, Жора шел на вспышки орудийных залпов. И довольно скоро оказался чуть ли не рядом с батареей…
Ранним утром Жора вернулся в часть. Он сидел перед Огородниковым мокрый, голодный, грязный, но такой веселый, каким никто еще не видел его.
Не переодевшись, он сразу же доложил результаты разведки. Огородников поразился его памяти и наблюдательности. Он запомнил, сколько выстрелов дала батарея, сколько фрицев ее обслуживают, с какой стороны разводящий приводит смену часовых, где находится караульное помещение, где расположены блиндажи.
Доложив, он сел за дощатый стол. Перед ним поставили котелок дымящегося чечевичного супа, и он заработал ложкой. Опустошив котелок, Жора попросил добавки, но, когда ее принесли, мальчик уже спал. Он уснул сидя за столом, прижавшись лбом к шершавой неструганой доске.
Огородников поднял его на руки и перенес на койку. Жора что-то пробормотал, повернулся на бок и, совсем как маленький, положил голову на ладонь. Так он проспал более двенадцати часов…
Вечером разведгруппа двинулась к Троицкой. Саперы расчистили от мин узенький коридор, и разведчики перешли линию фронта. Каждый нес в заплечных мешках коробки с толом. Прикрывал группу замполит полка. Все были вооружены гранатами и ножами - этими неизменными спутниками разведчика.
Ночь с четвертого на пятое октября выдалась дождливой и темной. Огородников опасался, что Жора в темноте потеряет направление или собьется с единственной тропинки на болоте, но мальчик уверенно шел вперед.
Неожиданно по небу воровато забегал луч прожектора. Разведчики приникли к земле. Обшарив бурые взлохмаченные тучи, острый луч уперся в залив, чиркнул по верхушке леса и погас.
Шаг за шагом разведка приближалась к цели.
Дождь не переставая барабанил по капюшонам маскхалатов. Жоре ничего подходящего по росту не нашлось. На нем, как всегда, было серое пальтишко, перепоясанное солдатским ремнем. К ремню подвешены граната и нож.
Разведчики шли медленнее, чем предполагал Огородников. Чересчур часто приходилось бросаться на пожухлую мокрую траву и ждать, когда погаснут осветительные ракеты, перестанут тарахтеть на дороге мотоциклы, пройдет фашистский патруль. Ждать, распластавшись в канаве, ждать, укрывшись за толстым стволом дерева, ждать, сидя в овраге. Ждать… Ждать… Ждать…
И они ждали. Самым нетерпеливым оказался Жора. Его приходилось все время сдерживать. Это было непросто. Разговаривать в такой обстановке на территории врага - безумие, а жестов в октябрьской темени не различишь. В опасную минуту Огородников прижимал мальчика к земле и держал руку на его плече, чтобы он не вскочил раньше времени.
Было далеко за полночь, когда разведчики достигли цели. До батареи, по словам Жоры, оставалось не более ста метров. Огородников приказал ему отползти в лесок и ждать. Но мальчишка неожиданно отказался выполнять приказ. Он хотел сам заложить взрывчатку. Огородников схватил его за ремень с силой притянул к себе и прохрипел в ухо:
- Выполняй приказ или отчислю из полка!
Жора подчинился.
Теперь нужно было вплотную подойти к батарее. В такой темени, когда нельзя рассмотреть и собственной ладони, не так-то просто обнаружить и неслышно снять часового. Но без этого нечего было и думать о выполнении приказа - взорвать батарею.
Выручили разведчиков сами фрицы. В те времена они были наглые, чувствовали себя господами мира. Часовым надоело стоять молча. Сначала ветер донес до разведчиков обрывки немецкой речи. Потом один из фрицев начал мурлыкать какую-то песню. И наконец разведчики увидели крохотный желтый язычок пламени. Это часовые сошлись, чтобы выкурить по сигарете, хотя часовым и не полагается курить на посту. Разведчики поползли на огонек.
Это были последние сигареты в жизни двух немецких солдат…
Не много времени потребовалось разведчикам, чтобы начинить взрывчаткой стволы орудий. Затлел бикфордов шнур, и разведчики бросились к лесу, где оставался Жора. Как только они достигли леса - один за другим грохнули три взрыва.
Проклятая батарея умолкла навеки!
Но едва замерли раскаты взрывов, как раздались выстрелы, крики, свистки. Началась погоня. В небе повисла осветительная ракета. Зловещий свет ее вырвал из тьмы деревья, поляну, какую-то канаву. Разведчики бросились в канаву и выждали, когда потухнет окаянная лампада.
Где-то совсем близко протопали фрицы, стреляя наугад в темноту трассирующими пулями. Лес наполнился звуками. Стреляли отовсюду. Казалось, из-за каждого дерева строчит немецкий автоматчик. Непрерывно врезались в воздух разноцветные ракеты.
Во что бы то ни стало требовалось оторваться от погони.
Разведчики петляли по лесу, чтобы сбить противника со следа. Пока что их спасла ночь. В темноте немцы боялись перестрелять своих. И когда на востоке пробилась узенькая полоска рассвета, выстрелы и голоса фрицев раздавались далеко в стороне. Но Огородников понимал: главная опасность впереди. Предстояло перейти линию фронта. Перейти без предварительной разведки передний край противника! К тому же ночная погоня, выстрелы, ракеты, автоматные очереди - все это взбудоражило фашистов, насторожило их. Они были сейчас начеку по всему участку фронта.
И хотя полоска рассвета стала шире, разведчикам все еще помогала ночь. Они ползли по земле, стараясь не дышать. Но вдруг под одним из бойцов хрустнула сухая ветка. В ночной напряженной тишине этот хруст показался оглушительнее взрыва. В ту же секунду раздался окрик немецкого часового:
- Альберт?
Разведчики молчали.
- Альберт, ты? - выкрикнул тревожно часовой.
Разведчики продолжали молчать.
Тогда немец выстрелил из ракетницы и осветил разведчиков.
- Огонь! - крикнул Огородников, вскочив на ноги.
Отстреливаясь, бойцы отходили, веря, что пробьются к своим.
Но случилось худшее.
Немцы пустили по их следам овчарок. Вначале лай был едва различим, затем он стал приближаться. К этому времени ветер рассеял тучи, и в белесом свете предутренней луны разведчики уже отчетливо видели друг друга.
Из-за пригорка выскочил взвод немецких автоматчиков. Они спустили с поводков двух псов, сами же пытались зайти в тыл, отрезать бойцам отступление.
Пошли в ход гранаты. Первым метнул гранату Жора. Бежавший впереди длинный немец скорчился, схватился за живот и грохнулся на землю.
- Молодец, сынок! - крикнул замполит и дал очередь из автомата.
Овчарки, эти злобные твари, казались неуязвимыми. В призрачном лунном свете они выглядели чудовищно большими. Распластавшись за пнем, Огородников отстреливался из пистолета. И вдруг на спину ему прыгнула собака. Она вцепилась клыками в его правую руку и всей своей тяжестью прижала его к земле. Огородников понял: жить остались считанные секунды. И тут произошло чудо: овчарка разжала челюсти и свалилась с него. Точно сквозь пелену увидел он Жору. С ножа его капала кровь. Собачья кровь! Рядом лежала, дергаясь в предсмертных судорогах, собака. Вторую овчарку срезал выстрел замполита.
Это казалось неправдоподобным, что все разведчики были еще живы и даже не ранены. По-прежнему, отбиваясь гранатами, они держали путь к своим. И они достигли все-таки ничейной земли. Теперь самое трудное было позади. Но разве на войне знаешь, где и когда тебя ждет беда? Осколком последней вражеской гранаты был смертельно ранен Георгий Антоненко, разведчик 98-го стрелкового полка.
Двое братков подняли мальчика на руки, остальные остались прикрывать огнем их отход.
В горячке боя бойцы не заметили, как подоспел отряд нашей морской пехоты.
Через несколько минут все было кончено. Гитлеровцев постигла судьба их псов.
* * *
Огородников кончил рассказывать. Я долго молчал. Любые слова казались мне сейчас неуместными. Да и какие тут могли быть слова? Наконец я сказал: - Нельзя, чтобы о мальчике ничего не осталось в памяти людей. Моряк поднял на меня удивленные глаза. - Утром здесь были пионеры… Дружина имени Жоры Антоненко. Это они принесли цветы. Значит, неверно вы сказали, что в памяти людей о Жоре ничего не останется. И это не единственная память о нем… Да… не единственная.- Нервным движениями пальцев он стал застегивать китель. - Я пойду… Меня уже заждались. .. Мы вышли на дорожку, что вела к шоссе. - Ну вот, видите! Так я и знал! Меня ищут. Навстречу нам шагал светлоглазый, стройный, спортивного склада подросток. Ветер с залива трепал его пионерский галстук. Впервые на лице моего случайного знакомого мелькнула улыбка, и на какую-то секунду лицо его стало добрым и мягким. - Я знал, где искать тебя, отец! - Голос мальчика был звонкий и веселый. - Идем скорее, мама заждалась. .. - Это мой сынок, - сказал Огородников. - Его зовут Георгий… Жора… И, положив большую смуглую руку на плечо сына, он спросил меня: - Теперь вы знаете, какая еще осталась на земле память о Жоре Антоненко?.. Не дожидаясь ответа, он кивнул мне головой и, не снимая руки с плеча сына, зашагал к шоссе.
ЕЛКА
Обстрел застал Генку почти у самого дома. Снаряды рвались где-то совсем близко, и чистый морозный воздух наполнялся тошнотворным запахом. Запах щипал горло, ел глаза, забивался в ноздри. После первого разрыва уличные репродукторы разом со всех сторон начали торопливо выкрикивать: «…Говорит штаб местной противовоздушной обороны! Район подвергается артиллерийскому обстрелу! Движение по улицам прекратить! Населению немедленно укрыться!» Диктор умолк, и дробно застучал метроном. Он отбивал доли секунд, и все, кто слышал его стук, знали: сноба враги терзают застывший в молчании город, снова где-то рушатся дома; падают раненые и дружинники подбирают убитых. К обстрелам Генка уже привык. Он даже не ускорил шага. Правда, идти быстрее он все равно не мог. Чтобы ходить, нужна сила. Раньше ему казалось, что ноги носят людей сами. Встал и иди, куда хочешь. Можешь идти не торопясь, а можешь так шагать, что все прохожие останутся позади. Так было совсем недавно… А теперь каждый шаг требовал усилий! В отцовских валенках (до войны отец ходил в них зимой на охоту), он шел не сгибая колен, почти не отрывая ног от земли. Идти так было легче, гораздо легче… «Движение по улицам прекращается!» Генка невесело усмехнулся. Какое движение? Трамваи и троллейбусы стоят занесенные снегом, покореженные, с пробоинами, без стекол. Автобусы тоже не ходят… И людей почти не видно. Вот и сейчас на улице только он и какой-то прохожий, замотанный в женскую шаль. Идет, прижимаясь к стене дома. Во время обстрела многие прижимаются к стенам… Из ворот Генкиного дома вышла дворник тетя Дуня. В огромных валенках, в черном лохматом тулупе, она направилась к булочной. До чего же теперь все одинаково ходят! Точно передразнивают друг друга! Голод отнял у людей даже походку. До войны у каждого человека была своя походка. Не глядя, на слух, Генка мог определить каждого, кто проходил мимо его комнаты. Потому что каждый из жильцов квартиры ходил по-своему. Теперь же и старики, и молодые, и женщины, и мужчины - все ходят одинаково: не сгибая колен, медленно шаркая, оставляя за собой борозду в рыхлом слепящем снегу… Генка вошел в подъезд, поднялся на площадку и стал считать до двадцати. Двадцать секунд отдыха. Теперь он всегда так делал: останавливался на каждом этаже и считал до двадцати. Иногда Генке казалось, что ему так и не добраться до четвертого этажа. Тогда он начинал придумывать самое невероятное, самое несбыточное. Например, что отец прислал им с фронта буханку черного солдатского хлеба - ему и матери! Стоило только представить это, и путь до четвертого этажа становился гораздо короче… Но сегодня подниматься было легче. Потому что в сумке его противогаза лежала бумажная полоска с двумя отпечатанными на машинке словами: «ЗАВТРАК. ЧАИ». Не заходя домой, он постучал в соседнюю квартиру. Здесь жил его друг и одноклассник Тимка. На стук никто не отозвался. Он постучал снова и, прислонившись спиной к двери, стал ждать. Где-то рвались снаряды, из уличных репродукторов несся перестук метрономов, но Генка думал сейчас только о талончике, на котором стояло два таких прекрасных слова: «ЗАВТРАК. ЧАЙ». Замок наконец щелкнул, кто-то открыл дверь и, не спрашивая ни о чем, зашаркал прочь. После яркого уличного света Генка пробирался по длинному черному коридору ощупью, точно слепой, несколько раз он натыкался на какие-то ведра и узлы. В Тимкиной комнате оказалось не намного светлее, чем в коридоре. Вместо стекол на окнах была набита фанера, и свет проникал только через квадрат застекленной форточки. - Ты дома? - спросил Генка. Из угла, где стоял диван, послышался слабый голос: - Я здесь… Ты был в школе? - Был… - Зачем вызывали? Эвакуироваться?.. Не поеду… - Ничего не эвакуироваться. Ты почему не пришел? Глаза Генки постепенно привыкали к полумраку комнаты. Тимка лежал на диване, укрытый двумя одеялами. На голове его была шапка-ушанка, на руках - шерстяные перчатки. Должно быть, он не расслышал Генкиного ответа и повторил снова: - Я не поеду… - Заладил!.. Тебе одно, ты - другое! Генка подошел к «буржуйке», снял рукавицы и пощупал трубу. Труба была ледяная. На «буржуйке» стояла жестяная кружка с замерзшей водой и набитая снегом кастрюля. Рядом, на полу, валялись разорванные книги, несколько ножек от стульев и топор. - У тебя как на улице, - сказал Генка. - Тоже, поди, двадцать девять градусов… Почему не топишь? - Нечем… Всё уже сожгли… - А ножки от стульев? - Берегу… Последние… Придет мать, тогда и затоплю. .. Она в госпитале… у отца… - Ладно… Обойдемся без ножек, - сказал Генка. Он поднял топор и прошел за шкаф, в дальний угол комнаты. Через несколько секунд Тимка услыхал какой-то треск. - Чего делаешь? - спросил он безразличным голосом. - Что надо, то и делаю… Казалось, Тимка забыл о присутствии товарища. Он лежал с закрытыми глазами и молчал. Не заговаривал больше и Генка. Вскоре треск за шкафом прекратился, оттуда вышел Генка и швырнул к «буржуйке» охапку паркетных плашек. Тимка открыл глаза. - Управхоз заругается… - сказал он вяло. - Умер управхоз… вчера… Генка сунул паркетины в печь, вырвал из книги страницы и начал скручивать их в тугие жгуты. - Скрученные дольше горят, - сказал он. - Меня мама научила. Мы теперь всегда так кипятим чайник…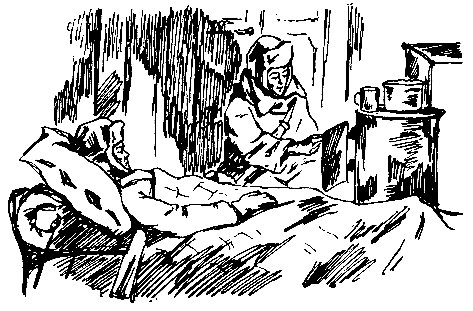 Тимка молчал. Генка только сейчас заметил, как он изменился. Отекшее лицо Тимки стало землисто-серым, губы превратились в тонкие бесцветные полоски. В начале декабря Генка видел на улице, как истощенный голодом человек упал и не мог уже подняться. Через несколько минут он умер. Лицо его было вот такое же, землисто-серое, и на лице с трудом можно было различить тонкие полоски губ…
- Сейчас тебе, Тим, будет жарко! Как в аду! -сказал наигранно веселым голосом Генка. - Вот увидишь.
Он чиркнул спичку, поджег бумажный жгут и сунул его в топку.
- Кружка с водой закипит через пять минут. Приготовьтесь, граф, хлебать наваристый кипяток.
Топка «буржуйки» была открыта, и по стенам полутемной комнаты, точно розовые облака, проносились тени. Как только жгут догорал, Генка подкладывал новый, и тогда тени суматошливо мельтешили по стенам и потолку.
Бодрый тон Генки, потрескивание сухих плашек в печурке вывели Тимку из дремотного состояния.
- Зачем вызывали в школу? - спросил он.
- Елка будет сегодня… во Дворце пионеров…
- Не пойду…
- Там котлету будут давать… с гарниром…
- Врешь! -Тимка приподнял с подушки голову.- Врешь!
- Ей-богу! Каждому дали приглашение и талончик. На талончике написано: «ЗАВТРАК. ЧАИ». Воспиталка сказала - к чаю конфету дадут…
Тимка вскочил.
- Ты почему сразу не сказал? Я пойду… сейчас пойду… пусть дадут мне тоже…
- Не надо тебе ходить… Билет в сумке… выпросил для тебя.
- Дали? Ты правду? ..
- Упросил… Сказал, что ты ушел навещать отца в госпиталь.
- Где талон? Когда идти?
- Сегодня… Через два часа начало…
- Через два часа? Надо сейчас же выходить, а то опоздаем. Давай талон!
Генка стал рыться в сумке. Тимка напряженно следил за каждым его движением.
- Где же он? Где? Куда ты его дел?!
- Сейчас… сейчас… - растерянно бормотал Генка. - Потерять я не мог…
И вдруг Тимка закричал тонким пронзительным голосом:
- Потерял! Ты потерял! Отдавай свой! - Он вскочил на ноги, но тут же в изнеможении опустился на диван и, глядя с ненавистью на Генку, едва слышно прошептал:- Нет… Ты не потерял… Ты сам хочешь все съесть… на мой талон… Отдай!.. Отдай!..
Генка испуганно смотрел на друга.
- Что ты, Тим?! Погоди… Сейчас… Я не мог потерять. Они лежали вместе…
Он стянул варежки, подошел к форточке и снова начал рыться в сумке. Тимка не спускал с него глаз.
- Вот они! Получай свой! - хрипло сказал Генка. Только теперь он понял по-настоящему, в чем заподозрил его Тимка.
- Прощай… Я пошел… - Сгорбившись, по-стариковски шаркая валенками, он направился к двери.
- Постой… Не уходи…
Генка обернулся и хмуро взглянул на друга.
- Это от голода… Не сердись… - забормотал Тимка. - Я уже давно съел хлеб… За два дня вперед… Двести пятьдесят граммов! Я вчера ничего не ел… и сегодня ничего не ел…
Генка испугался. Он знал, как страшно позволить голоду взять верх над своей волей. Суточную норму - сто двадцать пять граммов хлеба - нужно было съедать в три приема: утром, в обед и перед сном. И тот, кто не выдерживал, кто съедал сразу весь свой паек, тот умирал прежде других.
- Как же так, как же так? - испуганно повторял Генка. - Ты же знаешь… Съесть сразу двести пятьдесят граммов!
По немытому лицу Тимки текли слезы. Медленно, останавливаясь после каждых двух-трех слов, он заговорил:
- Проснулся вчера ночью… Метроном стучит часто. .. Опять бомбежка… стервятники гудят… бьют зе^ нитки… Потом бомбы завыли… рвутся где-то… Сначала далеко рвались… А потом ближе… ближе… Дом наш, как мячик, подскакивал…
- Знаю. Я в эту ночь на крыше дежурил.
- Дома никого нет… Мать в госпитале… у отца дежурит. Совсем рядом бомба разорвалась… Я подумал. .. сейчас в наш дом прямое попадание…
- Что ты мне про бомбы! Скажи, почему весь хлеб съел, балда?!
- Я же говорю… Думал, сейчас меня убьет… Меня убьет, а хлеб мой останется… А я умру голодный… А хлеб останется. И тогда я все съел… Весь кусок… Чтобы не умереть голодным.
Генка слушал друга и готов был заплакать сам. Как часто во время страшных ночных бомбежек он думал о том же: «Надо съесть весь хлеб, пока меня не убили…»
Он подошел к «буржуйке», снял жестяную кружку и подал Тимке.
- Ладно! Вставай-ка, барабанщик! Выпей - и пошли! После котлеты козлом запрыгаешь!
Тимка плотно обхватил ладонями кружку с кипятком. Кружка грела пальцы, которым было холодно даже в шерстяных перчатках. Медленно, растягивая удовольствие, он пил маленькими глоточками кипяток. Допив до конца, Тимка поднялся с дивана.
- Пойдем! - сказал он решительно. - Сейчас надену сумку - и пойдем…
Он потянулся к вешалке, где висел противогаз, и вдруг вцепился в спинку дивана.
- Голова кружится…
- Пройдет, - сказал жестко Генка. - Будешь копаться - нам ничего не останется.
- Сейчас… я сейчас… - Тимка снова потянулся к вешалке и, снова пошатнувшись, упал на диван.
- Не могу… Не могу… Я умру сегодня…
- Глупости! - крикнул Генка.- Если все умрут, кто будет защищать Ленинград? Вставай, вставай!
- Не могу… Возьми мой талон… принесешь… мне… Только ты скорее.
Он протягивал Генке талон и смотрел на него умоляющими глазами.
- Принесешь, да? Тогда я не умру… не умру…
- Ясно, не умрешь! Все принесу! И котлету, и гарнир, и хлеб, и конфету!
- Спасибо… Возьми в моем противогазе банку… из-под кофе… В нее много входит…
Генка положил в свою сумку высокую банку, подошел к печурке, сунул в нее остатки бумажных жгутов, подбросил плашек и, подняв воротник пальто, вышел из комнаты.
Тимка молчал. Генка только сейчас заметил, как он изменился. Отекшее лицо Тимки стало землисто-серым, губы превратились в тонкие бесцветные полоски. В начале декабря Генка видел на улице, как истощенный голодом человек упал и не мог уже подняться. Через несколько минут он умер. Лицо его было вот такое же, землисто-серое, и на лице с трудом можно было различить тонкие полоски губ…
- Сейчас тебе, Тим, будет жарко! Как в аду! -сказал наигранно веселым голосом Генка. - Вот увидишь.
Он чиркнул спичку, поджег бумажный жгут и сунул его в топку.
- Кружка с водой закипит через пять минут. Приготовьтесь, граф, хлебать наваристый кипяток.
Топка «буржуйки» была открыта, и по стенам полутемной комнаты, точно розовые облака, проносились тени. Как только жгут догорал, Генка подкладывал новый, и тогда тени суматошливо мельтешили по стенам и потолку.
Бодрый тон Генки, потрескивание сухих плашек в печурке вывели Тимку из дремотного состояния.
- Зачем вызывали в школу? - спросил он.
- Елка будет сегодня… во Дворце пионеров…
- Не пойду…
- Там котлету будут давать… с гарниром…
- Врешь! -Тимка приподнял с подушки голову.- Врешь!
- Ей-богу! Каждому дали приглашение и талончик. На талончике написано: «ЗАВТРАК. ЧАИ». Воспиталка сказала - к чаю конфету дадут…
Тимка вскочил.
- Ты почему сразу не сказал? Я пойду… сейчас пойду… пусть дадут мне тоже…
- Не надо тебе ходить… Билет в сумке… выпросил для тебя.
- Дали? Ты правду? ..
- Упросил… Сказал, что ты ушел навещать отца в госпиталь.
- Где талон? Когда идти?
- Сегодня… Через два часа начало…
- Через два часа? Надо сейчас же выходить, а то опоздаем. Давай талон!
Генка стал рыться в сумке. Тимка напряженно следил за каждым его движением.
- Где же он? Где? Куда ты его дел?!
- Сейчас… сейчас… - растерянно бормотал Генка. - Потерять я не мог…
И вдруг Тимка закричал тонким пронзительным голосом:
- Потерял! Ты потерял! Отдавай свой! - Он вскочил на ноги, но тут же в изнеможении опустился на диван и, глядя с ненавистью на Генку, едва слышно прошептал:- Нет… Ты не потерял… Ты сам хочешь все съесть… на мой талон… Отдай!.. Отдай!..
Генка испуганно смотрел на друга.
- Что ты, Тим?! Погоди… Сейчас… Я не мог потерять. Они лежали вместе…
Он стянул варежки, подошел к форточке и снова начал рыться в сумке. Тимка не спускал с него глаз.
- Вот они! Получай свой! - хрипло сказал Генка. Только теперь он понял по-настоящему, в чем заподозрил его Тимка.
- Прощай… Я пошел… - Сгорбившись, по-стариковски шаркая валенками, он направился к двери.
- Постой… Не уходи…
Генка обернулся и хмуро взглянул на друга.
- Это от голода… Не сердись… - забормотал Тимка. - Я уже давно съел хлеб… За два дня вперед… Двести пятьдесят граммов! Я вчера ничего не ел… и сегодня ничего не ел…
Генка испугался. Он знал, как страшно позволить голоду взять верх над своей волей. Суточную норму - сто двадцать пять граммов хлеба - нужно было съедать в три приема: утром, в обед и перед сном. И тот, кто не выдерживал, кто съедал сразу весь свой паек, тот умирал прежде других.
- Как же так, как же так? - испуганно повторял Генка. - Ты же знаешь… Съесть сразу двести пятьдесят граммов!
По немытому лицу Тимки текли слезы. Медленно, останавливаясь после каждых двух-трех слов, он заговорил:
- Проснулся вчера ночью… Метроном стучит часто. .. Опять бомбежка… стервятники гудят… бьют зе^ нитки… Потом бомбы завыли… рвутся где-то… Сначала далеко рвались… А потом ближе… ближе… Дом наш, как мячик, подскакивал…
- Знаю. Я в эту ночь на крыше дежурил.
- Дома никого нет… Мать в госпитале… у отца дежурит. Совсем рядом бомба разорвалась… Я подумал. .. сейчас в наш дом прямое попадание…
- Что ты мне про бомбы! Скажи, почему весь хлеб съел, балда?!
- Я же говорю… Думал, сейчас меня убьет… Меня убьет, а хлеб мой останется… А я умру голодный… А хлеб останется. И тогда я все съел… Весь кусок… Чтобы не умереть голодным.
Генка слушал друга и готов был заплакать сам. Как часто во время страшных ночных бомбежек он думал о том же: «Надо съесть весь хлеб, пока меня не убили…»
Он подошел к «буржуйке», снял жестяную кружку и подал Тимке.
- Ладно! Вставай-ка, барабанщик! Выпей - и пошли! После котлеты козлом запрыгаешь!
Тимка плотно обхватил ладонями кружку с кипятком. Кружка грела пальцы, которым было холодно даже в шерстяных перчатках. Медленно, растягивая удовольствие, он пил маленькими глоточками кипяток. Допив до конца, Тимка поднялся с дивана.
- Пойдем! - сказал он решительно. - Сейчас надену сумку - и пойдем…
Он потянулся к вешалке, где висел противогаз, и вдруг вцепился в спинку дивана.
- Голова кружится…
- Пройдет, - сказал жестко Генка. - Будешь копаться - нам ничего не останется.
- Сейчас… я сейчас… - Тимка снова потянулся к вешалке и, снова пошатнувшись, упал на диван.
- Не могу… Не могу… Я умру сегодня…
- Глупости! - крикнул Генка.- Если все умрут, кто будет защищать Ленинград? Вставай, вставай!
- Не могу… Возьми мой талон… принесешь… мне… Только ты скорее.
Он протягивал Генке талон и смотрел на него умоляющими глазами.
- Принесешь, да? Тогда я не умру… не умру…
- Ясно, не умрешь! Все принесу! И котлету, и гарнир, и хлеб, и конфету!
- Спасибо… Возьми в моем противогазе банку… из-под кофе… В нее много входит…
Генка положил в свою сумку высокую банку, подошел к печурке, сунул в нее остатки бумажных жгутов, подбросил плашек и, подняв воротник пальто, вышел из комнаты.
* * *
Путь от Пушкинской до Дворца пионеров занимал недавно у Генки не более восьми минут. По часам. Однажды, на спор с Тимкой, он прошел его за пять минут. Тимка проиграл ему тогда марку герцогства Люксембург. Теперь дорога казалась ему бесконечной. Чтобы легче было идти, он стал думать о елке: какой она будет сегодня? Неужели такая же, как в прошлом году? До самого потолка? На макушке - рубиновая звезда? И вся сверху донизу перевита электрическими гирляндами? Впрочем, какие теперь гирлянды? В городе же нет электричества! И елки до потолка не может быть… Кто ее установит, такую громадину? А вдруг на елке будут висеть пряники или мандарины? .. На прошлой елке в школе висели конфеты в серебряных и золотых бумажках… Едва он подумал об этом, как голод обрушился на него с необоримой силой. «Есть! Есть! Я хочу есть! - кричало все в Генке.- Не надо мандаринов! Дайте мне хлеба! Хлеба! Хлеба!» Приступ голода заставил его остановиться - ноги отказывались идти дальше. Генка испугался. Он понял, что голод его побеждает. «Не думай о еде! Не думай о еде! - приказывал он себе, шагая по снежной целине Невского. - Надо думать о другом. Почему нет писем от отца?» Последнее его письмо Генка помнит наизусть: «Все вы, ленинградцы, герои,- писал отец.- О ваших подвигах мы читаем в газетах. И ты, я уверен, герой». Совершить подвиг - была заветная мечта Генки. Он не сомневался, что отец его вернется с войны героем. Иначе и быть не может! Но совершить подвиг в бою не так трудно. А как совершить подвиг в блокадном Ленинграде? Хорошо, если удастся напасть на следы диверсанта. Но у него, у Генки, нет никакого оружия. Даже финки нет. Правда, тетя Дуня - дворничиха - назвала его героем, когда он обезвредил две «зажигалки». Но разве это подвиг - столкнуть с крыши две вонючих «зажигалки»?! Нет, видно, никогда не совершить ему настоящего подвига. Он прошел мимо горящего здания. Оно горело уже третий день, но никто не тушил его: в городе не было воды. Наконец показался Дворец пионеров. Впереди Генка заметил двух подростков. Должно быть, они шли на елку. Генка не мог понять, кто они - мальчики или девочки. А может быть, мальчик и девочка? Ничего не понять! У обоих на голове шапки-ушанки, на ногах - валенки не по росту, воротники пальто подняты, через плечо - противогазные сумки. Они отличались друг от друга только ростом. Один - коротышка, другой - долговязый. Генке казалось, что ребята идут очень медленно. Он захотел догнать их. Но, удивительное дело, как он ни старался, расстояние между ними оставалось то же. Тогда Генка понял, что он идет так же медленно, как и они. На Аничковом мосту Долговязый поскользнулся и упал на спину. Коротышка пытался поднять его, но ничего не получалось: не хватало сил. Издали можно было подумать, что ребята дурачатся. - Помоги, - сказал Коротышка, когда Генка поравнялся с ними. По голосу Генка догадался: Коротышка - девочка; вдвоем они подняли Долговязого, и тот, оказавшись на ногах, произнес только одну фразу: - Скорее. Без нас все съедят… Остаток пути они прошли молча. Лишь в холодном вестибюле Дворца пионеров Долговязый мечтательно произнес: - Котлету дадут… И чай с конфетой… … Елка стояла в зале второго этажа. Собралось уже много ребят, но никто не бегал, не шумел, не смеялся. В пальто, валенках, шапках школьники молча толпились вокруг елки. Елка была большая, но верхняя часть ее оказалась не украшенной. Только у самой вершины висела большая прозрачная сосулька. И она не таяла… В залу вошел гармонист в ватнике и перчатках. На голове его красовалась потертая папаха. - Что будем петь, красавцы-молодцы? - спросил он неестественно веселым голосом. И, не дожидаясь ответа, растянул мехи, притопнул ногой и крикнул: - И-и-и два! Начали!
* * *
Он возвращался домой. По-прежнему горел дом, по-прежнему никто не тушил его. Впрочем, Генка сейчас ничего не замечал, он все время думал о несъеденной котлете и ячневой каше. Поймав себя на этих мыслях, он рассердился: «Опять я об еде! Нельзя о ней думать! Надо о другом». Вот идет штыковой бой. И он, Генка, врывается в немецкий блиндаж. На него бросаются два эсэсовца. Генка срезает их очередью из автомата. И тут он замечает третьего фашиста. Фашист стреляет! Мимо!
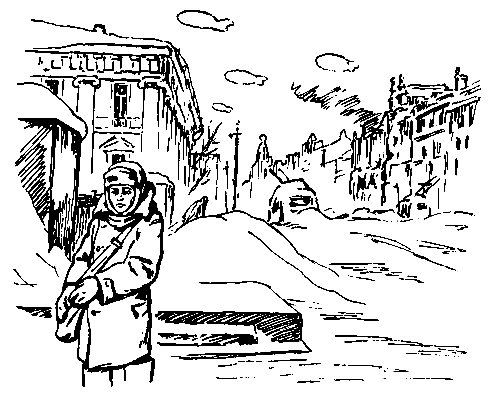 «Хенде хох!» - кричит Генка и наставляет на фашиста автомат. Гитлеровец поднимает вверх руки, и Генка благополучно приводит немца в штаб…
Когда Генка думал о подвигах, он переставал думать о еде. Но на этот раз ничего не получилось. Голод не оставлял его, а идти становилось труднее с каждым шагом. «Вдруг я не дойду до дому? - ужаснулся он.- Меня подберут и отвезут в госпиталь. А Тимка ничего не узнает. И подумает, что я съел его котлету…»
У самого дома Генка увидел дворника.
- Тетя Дуня, помогите мне подняться, - сказал он, чувствуя, как кружится голова.
- Айда, герой, под ручку! - произнесла без улыбки тетя Дуня.
Она проводила его до четвертого этажа и, ничего не сказав, тяжело ступая, медленно начала спускаться вниз.
Дверь в Тимкину квартиру оказалась открытой. Пробираясь по темному коридору, Генка с тоской подумал:
«Никогда мне не совершить подвига… никогда…»
«Хенде хох!» - кричит Генка и наставляет на фашиста автомат. Гитлеровец поднимает вверх руки, и Генка благополучно приводит немца в штаб…
Когда Генка думал о подвигах, он переставал думать о еде. Но на этот раз ничего не получилось. Голод не оставлял его, а идти становилось труднее с каждым шагом. «Вдруг я не дойду до дому? - ужаснулся он.- Меня подберут и отвезут в госпиталь. А Тимка ничего не узнает. И подумает, что я съел его котлету…»
У самого дома Генка увидел дворника.
- Тетя Дуня, помогите мне подняться, - сказал он, чувствуя, как кружится голова.
- Айда, герой, под ручку! - произнесла без улыбки тетя Дуня.
Она проводила его до четвертого этажа и, ничего не сказав, тяжело ступая, медленно начала спускаться вниз.
Дверь в Тимкину квартиру оказалась открытой. Пробираясь по темному коридору, Генка с тоской подумал:
«Никогда мне не совершить подвига… никогда…»
КОНЕЦ ДРАКОНА
Как я бежал из плена - история длинная. При случае я расскажу ее. А сейчас расскажу только о том, как свела меня судьба с дядей Иваном и что случилось с нами в октябре сорок первого года. Столько лет прошло с тех пор, но многое живет в моей памяти так ясно, точно остановилось время и снова я школьник, а не учитель рисования. Было мне тринадцать лет, когда в деревню нашу, под Лугой, с воем и грохотом ворвались немецкие мотоциклисты. В рогатых стальных касках, в огромных очках-консервах, они носились по деревне точно бешеные, поливая огнем пулеметов притихшие дома, пустынные улицы и ошалевших от грохота деревенских собак. Они умчались, сгинули в дорожной пыли, оставив нам свою «власть» - двух предателей - полицаев. Я жил в просторной избе вдвоем с дедом, потому что отец мой воевал на флоте, а мать умерла перед войной. Двадцать пятого августа - я это число запомнил - объявили нам полицаи, что Гитлер взял Ленинград. А через день на дверях бывшего клуба появилась карикатура, нарисованная красным карандашом: на адмиралтейском шпиле, проткнутый насквозь, торчал Гитлер с перекошенной рожей. Под рисунком была надпись печатными буквами: «Фюрер в Ленинграде! Хайль!» Не знаю, как чертовы полицаи разнюхали, что я рисовал разные карикатуры в колхозной стенгазете. Они нагрянули к нам с обыском, все перерыли, перевернули, нашли пионерский галстук, фотографию моего отца - мичмана Балтийского флота - и красный карандаш. Этого было достаточно, чтобы избить деда до полусмерти, а меня упрятать в концентрационный лагерь под Веной. Лагерь был огромный - целый город. Во все стороны тянулись деревянные бараки, а в центре была большая площадь. На площади стояла виселица. По перекладине ее, переваливаясь с боку на бок, частенько разгуливала ворона. Никогда не забуду, как испугался я, увидев первых заключенных. Обросшие, грязные, они были одеты в одинаковые полосатые куртки и такие же полосатые штаны. И у всех на спине большой номер. Каждый шаг заключенных сопровождался глухим монотонным стуком. На их ногах вместо ботинок были деревянные колодки. На мой рост подходящих штанов и куртки не нашлось. Я закатал рукава и штанины, а в деревянные колодки напихал травы, чтобы они не сваливались на ходу. На спине моей куртки накрепко был пришит номер: 35211. Отныне я обязан был отзываться не на свое имя, а на номер: тридцать пять тысяч двести одиннадцать! Не человек, а номер!
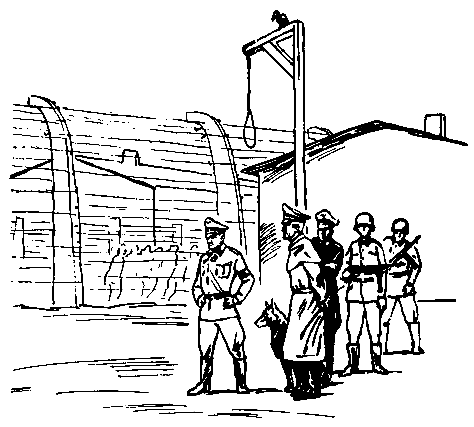
* * *
Рядом со мной на нарах оказался заключенный номер тридцать две тысячи четыреста сорок. Я не мог сразу понять, стар он или молод, но все его звали дядя Иван, и я тоже стал звать его так. Дядя Иван был совсем плох. В плен он попал раненый, по дороге в лагерь бежал, но фрицы поймали его, избили, а потом вывернули назад руки и подвесили на крюк. Он висел, а кровь из незажившей раны капала и капала на грязный дощатый пол. Его сняли с крюка, окатили холодной водой и, когда он очнулся, заставили смывать с пола кровавые пятна. Особую ненависть к дяде Ивану почему-то питал помощник коменданта лагеря - Краузе. Он посылал дядю Ивана на самые тяжелые работы, за каждый пустяк наказывал и однажды натравил на него овчарку. После этого дядя Иван две недели лежал в лазарете. Работа в лагере начиналась в пять тридцать утра. Дядя Иван с напарником возил на строительство котлована цемент. А наша бригада строила кирпичный дом для эсэсовских офицеров. Я таскал по узеньким, шатким мостикам кирпич на площадку третьего этажа. Бригадиром у нас был гамбургский уголовник Отто. Он ограбил продовольственный склад и угодил за это в концентрационный лагерь. Отто изо всех сил старался выслужиться перед начальством. Он не расставался с дубиной и, не задумываясь, пускал ее в ход. Мне было всего тринадцать лет, но Отто требовал, чтобы на моей «козе» за спиной было не меньше кирпичей, чем у остальных. К полудню у меня подгибались колени, стучало в висках, но я, точно заводной, таскал и таскал проклятые кирпичи! На пятый день этой каторги, возвращаясь с работы, я свалился от слабости у самых дверей барака. Дядя Иван помог мне подняться, посадил на нары и, когда мы улеглись, впервые спросил меня, как я попал в лагерь. Я рассказал ему обо всем не таясь. Узнав, что я умею рисовать, дядя Иван посоветовал: - Скажи в канцелярии, что ты художник. - Зачем? - спросил я. - Может, у них найдется работа по рисованию. Все легче, чем таскать кирпичи на стройке. Не знал дядя Иван, какие беды принесет нам этот совет! Я заявил, что умею рисовать, и вскоре меня вызвал Краузе. По-русски он говорил неплохо, только изредка вставлял немецкие слова. - Это есть правда, что ты умеешь рисовать? - спросил Краузе. - Умею, - ответил я и тут же получил затрещину, от которой загудело в голове. - Как отвечаешь? - подняв удивленно белесые брови, заорал Краузе.- Я есть унтерштурмфюрер СС! А ну! Я буду спрашивать тебя еще один раз! Свинячий заморыш! Это есть правда, что ты умеешь рисовать? - Умею, господин унтерштурмфюрер… немного умею… - бормотал я, чувствуя звон в ушах. - Зо! Так! Завтра, после поверки, останешься в бараке. Завтра я буду давать тебе работа сам!.. Вечером я рассказал дяде Ивану о приказе Краузе. - Вот видишь, - сказал дядя Иван. - Будешь теперь рисовать для Краузе картинки… Разных там ангелочков, птичек, цветочки всякие… Немцы, брат, птичек любят, они цветики уважают нюхать… Утром в барак пришел Краузе. Он вытащил из папки свою небольшую фотографию. Потом вынул из кармана листок бумаги и положил рядом с фотографией. На листке я увидел изображение воинского немецкого ордена- железного креста. Я смотрел на Краузе и не понимал, что ему надо. - К вечеру изображай мой портрет на бумага! Крупно! Дизе орден нарисуешь на моя грудь. Вот сюда! - Краузе ткнул пальцем в свою фотографию.- Тебе понятно? - Мне нужна бумага, господин унтерштурмфюрер… Бумага и карандаш… Оказалось, Краузе все предусмотрел. Он вытащил из планшета два листа толстой бумаги, карандаш и резинку. - Чтобы к вечеру было готово! Дас ист майн бефель! Это есть мой приказ! И он ушел. Я так соскучился по карандашу и бумаге, что, забыв обо всем, рисовал какое-то время с упоением. Но это продолжалось недолго. Чей-то крик и близкий выстрел вернули меня к действительности. Холостых выстрелов здесь не бывало. Значит, одним заключенным в лагере стало меньше. И, скорее всего, стрелял Краузе. Краузе, которого я сейчас рисовал. Больше я не испытывал радости от того, что пальцы мои сжимали карандаш. Мне стало невыносимо стыдно, что я с таким удовольствием рисовал портрет фашиста. Сейчас я жалел, что сижу в бараке, а не таскаю вместе с другими кирпичи. Но я боялся Краузе. Он мог меня избить, покалечить, отправить в карцер. И я продолжал водить карандашом по бумаге… Через какое-то время я взглянул на рисунок и ужаснулся. С бумаги на меня смотрела карикатура на Краузе. Сам того не желая, я сделал широкий ноздреватый нос фашиста еще шире, и от этого он стал сплющенным, как у павиана. Толстая нижняя губа Краузе отвисла, и потому вид у него был дурацкий. Дурацкий, и вместе с тем страшный. Страшным он казался из-за глаз. Я нарисовал их круглыми, выпученными, непомерно большими. Схватив резинку, я поспешно стер свой опасный рисунок. Нужно было начинать все сначала. Теперь я работал медленно, очень медленно, стараясь сохранить полное сходство с фотографией. К вечерней поверке я закончил рисовать только голову. Краузе был в бешенстве: - Ты есть красный свинья! - орал он. - Я должен отправлять этот портрет майнен браут - моя невеста! Завтра есть день ее рожденья! Чтоб завтра все было готово! Иначе - строгий арест! Я знал, что это такое - строгий арест. Заключенного бросали на двадцать дней в темный сырой каземат, приковывали к полу короткой цепью и давали раз в три дня кусок эрзац-хлеба и кружку холодной воды. Заключенный умирал там через шесть - семь дней. Больше никто не выдерживал. Этот каземат мы называли «бетонный гроб». Впервые в жизни я пожалел, что умею рисовать. Я представил себе, как невеста палача получит мой рисунок, как станет хвастаться всем: «Вот какой у меня храбрый жених! Немало перебил он русских, если фюрер наградил его железным крестом!» Невыносимо было думать об этом!.. Но утром я снова взялся за карандаш. Через час-полтора все было готово. Тогда я отрезал от карандаша небольшой кусочек и заточил его. Потом оторвал половинку чистого листа, а на второй половинке сделал как попало набросок с фотографии Краузе, тут же разорвал его на мелкие клочки и бросил их на стол. Чистую половину листа и карандашный огрызок я спрятал в углубление, выдолбленное в деревянной колодке. Многие заключенные хранили так недозволенные вещи: самодельные ножички, иголки, чудом уцелевшие фотографии близких… Краузе остался доволен своим бравым видом. Особенно понравилось ему, что орден нарисован крупно и сразу бросается в глаза. - Сегодня можешь не выходить на работа, - милостиво распорядился Краузе. - Давай обратно карандаш и бумага. - Господин унтерштурмфюрер, вот карандаш, но один лист бумаги я испортил, у меня сразу не получилось. .. Нижняя губа его отвисла еще больше. - Ты есть лжец! - просипел он. - Куда ты дел один лист бумага? - Вот он, господин унтерштурмфюрер… - я показал на обрывки. Краузе схватил клочки и начал рассматривать их. На одном обрывке он увидел нос, на другом - орден, на третьем - кусок уха. Это успокоило его. Он сунул карандаш в карман, положил рисунок в планшет и вышел из барака. Я остался один. Какое счастье! Целый день, свободный от работы! К тому же, у меня теперь есть карандаш и листок чистой бумаги. И я задумал сделать подарок дяде Ивану. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. На работе он отставал от других, и за это его били. Он возвращался в барак, едва волоча ноги. Выхлебав миску баланды, дядя Иван валился на нары, но боль не давала ему уснуть. Тогда он заговаривал со мной. Я узнал, что до войны он работал на Сестрорецком заводе под Ленинградом, что отец его - тоже сестрорецкий рабочий - был дружен с Емельяновым, который прятал Ленина в семнадцатом году в шалаше. И еще я узнал, что дядя Иван коммунист, но ему удалось скрыть это от фашистов. Избитый, замученный, он все реже и реже заговаривал со мной. - Забили меня, Серега, - сказал он недавно.- В случае чего, сообщишь после победы на завод, как погиб бесславно Иван Громов… Я утешал его, но видел, что мои слова не приносят ему облегчения. И вот теперь я решил сделать ему подарок. Я был уверен, что он доставит дяде Ивану радость и хоть немного отвлечет его от мрачных мыслей. На этот раз я рисовал быстро и уверенно. Я и сам не подозревал, что так отчетливо помню снимок, который воспроизводил сейчас по памяти. Рисунок был готов задолго до вечерней поверки. И у меня оставалась еще четвертинка бумаги. Тогда я сделал второй точно такой же набросок - себе. С рисунка на меня смотрел рабочий в кепке. Из-под кепки выбивались взлохмаченные волосы. Просторное поношенное пальто на рабочем было распахнуто, виднелась черная косоворотка, застегнутая на одну пуговицу. Я взглянул на рисунок через узенькое отверстие сжатого кулака, и мне показалось, что человек в кепке смотрит на меня пристально, испытующе… С каким нетерпением ожидал я возвращения дяди Ивана! Когда он вошел в барак, я сразу понял, что его опять били. Он с трудом передвигал ноги, руки его бессильно повисли, голова была низко опущена. Ничего не говоря, он с трудом влез на нары. Я не решился заговорить о своем подарке. Все равно дядя Иван не смог бы рассмотреть рисунок в темноте. Нужно было дождаться утра. - Серега, - услышал я вдруг шепот дяди Ивана,- ты спишь? Я мотнул в темноте головой, точно он мог видеть это. Он, конечно, ничего не увидел, но почему-то догадался, что я не сплю. И так же шепотом продолжал: - Нет у меня больше сил терпеть… не дам больше над собой издеваться… Завтра прикончу Штамма и брошусь на проволоку… Все равно живым не выйти… хоть с пользой погибну… Мне стало страшно.
 - Не надо так говорить, дядя Иван… Я вам подарок приготовил, а вы…
- Какой уж мне подарок?!.
- Вот увидите… я такое вам подарю… такое…
- Какое такое? ..
- Утром покажу…
- Ну спасибо. Только ни к чему мне нонче подарки. .. Он повернулся на бок и умолк.
Дядя Иван лежал так тихо, что даже его дыхания не было слышно. И поэтому я догадался, что он не спит: все мы спали беспокойно. Измученное тело и во сне продолжало болеть; заключенные стонали, вскрикивали, скрипели зубами, дышали тяжело и неровно.
Я знал, о чем думает сейчас дядя Иван. Лагерь был обнесен трехметровой колючей проволокой, а через проволоку пропущен электрический ток. Прикоснувшись к этой проволоке, человек падал мертвым.
«Скорее бы утро, - думал я. - Может быть, ему станет легче, когда он увидит…»
Наконец дядя Иван тяжело застонал и что-то невнятно пробормотал. Я понял: теперь и он спит…
Утром я сунул ему свернутый трубочкой листок:
- Посмотрите, когда рядом никого не будет…
В тот день на работе я все время думал о дяде Иване. Мне казалось, что теперь, после моего подарка, ему станет легче…
На поверке я увидел его. Голова его и теперь была опущена, но не так низко, как вчера. И походка была тверже…
По дороге в барак мы отстали от других, и он обнял меня за плечи:
- Спасибо тебе, Серега! Может, и верно… рано мне еще о смерти думать…
- Вы узнали его?
- Конечно… Только почему ты его таким нарисовал?
- Чтобы безопаснее… Если найдут при обыске… Я себе тоже такого нарисовал…
- Не надо так говорить, дядя Иван… Я вам подарок приготовил, а вы…
- Какой уж мне подарок?!.
- Вот увидите… я такое вам подарю… такое…
- Какое такое? ..
- Утром покажу…
- Ну спасибо. Только ни к чему мне нонче подарки. .. Он повернулся на бок и умолк.
Дядя Иван лежал так тихо, что даже его дыхания не было слышно. И поэтому я догадался, что он не спит: все мы спали беспокойно. Измученное тело и во сне продолжало болеть; заключенные стонали, вскрикивали, скрипели зубами, дышали тяжело и неровно.
Я знал, о чем думает сейчас дядя Иван. Лагерь был обнесен трехметровой колючей проволокой, а через проволоку пропущен электрический ток. Прикоснувшись к этой проволоке, человек падал мертвым.
«Скорее бы утро, - думал я. - Может быть, ему станет легче, когда он увидит…»
Наконец дядя Иван тяжело застонал и что-то невнятно пробормотал. Я понял: теперь и он спит…
Утром я сунул ему свернутый трубочкой листок:
- Посмотрите, когда рядом никого не будет…
В тот день на работе я все время думал о дяде Иване. Мне казалось, что теперь, после моего подарка, ему станет легче…
На поверке я увидел его. Голова его и теперь была опущена, но не так низко, как вчера. И походка была тверже…
По дороге в барак мы отстали от других, и он обнял меня за плечи:
- Спасибо тебе, Серега! Может, и верно… рано мне еще о смерти думать…
- Вы узнали его?
- Конечно… Только почему ты его таким нарисовал?
- Чтобы безопаснее… Если найдут при обыске… Я себе тоже такого нарисовал…
* * *
Беда грянула через несколько дней. Мы вернулись в барак после вечерней проверки и собрались спать, как вдруг в барак вошел верзила эсэсовец - унтер-офицер Штамм, по прозванью Дракон. Его рысьи глазки так и шныряли по сторонам. Все поняли - будет беда: Штамм ищет, к чему бы придраться. Взгляд его, остекленев, уперся в ноги дяди Ивана. На его колодках были комья грязи. Входя в барак, дядя Иван забыл вытереть ноги. Ни слова не говоря, Дракон ударил его кулаком. Дядя Иван упал. Мы бросились к нему, чтобы помочь подняться. - Назад! - заорал Штамм. - Назад! Пусть грязный русский свинья лижет языком этот грязь! Дядя Иван медленно поднялся. Втянув голову в плечи и подавшись всем телом вперед, он двинулся на Дракона. В наступившей тишине мы услышали его глухой голос: - Я тебя, погань ползучая… Я тебя… Его отделяли от Штамма всего три-четыре метра. Все замерли - сейчас он набросится на фашиста - и тот пристрелит его. Я схватил дядю Ивана за руку, но тут же получил такой удар от Штамма, что отлетел в угол. Следующим ударом Дракон опять свалил дядю Ивана. Потом он набросился снова на меня. Он сорвал с моей ноги тяжелую колодку и бил меня ею по голове, осыпая бранью, Я корчился под ударами, прокусил себе губу, чтобы не кричать, и все-таки закричал. И вдруг удары прекратились. Несколько секунд я лежал, ожидая удара, и наконец решился открыть глаза. Дракона в бараке не было. Моя колодка валялась на полу… Товарищи подняли меня и положили на нары. Я со стоном вытянулся. Рядом со мной лежал дядя Иван… Утром, преодолевая боль, я потянулся за колодками. Какой-то добрый человек поставил их к моему изголовью. Как всегда, прежде чем надеть колодки, я сунул палец в тайничок. Палец вошел в пустоту. Ни карандаша, ни бумаги там не было. Я схватил вторую колодку, но рисунка не было и там. Рисунок исчез.
* * *
Три дня избитый дядя Иван пролежал в лагерном лазарете. Лечил его пленный, доктор Козиоров. - Вот это, Серега, человек! - говорил дядя Иван о докторе. - Счастье, что в лагере есть такие… Не все еще потеряно, не все… Таинственное исчезновение рисунка не давало мне покоя. Куда же он делся? Где и когда я потерял его? Однако раздумывать над этим вопросом я особенно не мог, потому что каторжный труд выжимал из нас последние силы. Теперь мы работали вместе с дядей Иваном: его напарник умер от истощения. На невысокой отлогой горке были свалены кучи цемента. Мы перевозили его на вагонетке в другой конец лагеря. Груженая вагонетка катилась вниз по рельсам сама; для этого надо было только слегка толкнуть ее. Скрипя и шатаясь, она набирала скорость и, пробежав метров десять, останавливалась. Дальше толкали ее мы. Собственно, толкал один я… Дядя Иван совсем обессилел. На нашем участке хозяйничал Дракон. На горку, где грузили цемент, Штамм никогда не поднимался. Поэтому я сразу почувствовал недоброе, когда увидел его здесь. - Иди вниз, - приказал он дяде Ивану. - Проверь рельсы. Дядя Иван ушел, мы остались одни. Я продолжал грузить вагонетку. Штамм пристально разглядывал меня, точно видел впервые. Наконец губы его растянулись в ухмылке и он сказал: - Оказывается, ты можешь делать рисование… Я молчал, не зная, что отвечать. Все так же ухмыляясь, эсэсовец продолжал: - Ты преступно делал нарушение… Ты имеешь карандаш и бумага… За это должна быть строгий наказаний. - У меня нет ни карандаша, ни бумаги, - пробормотал я. Штамм перестал ухмыляться. - Теперь - нет! Теперь они есть здесь! - Он вытащил из нагрудного кармана мой рисунок и огрызок карандаша.- Вот! Это есть большой преступлений! Я все понял. Штамм обнаружил мой тайник, когда избивал меня колодкой. «Только бы не узнал, кого я рисовал…» - Кто есть на этот рисунок? - Отец… Мой отец… Майн фатер… - сказал я почему-то по-немецки. - Красный щенок! - прошипел эсэсовец. - Я есть не дурак! Это есть Ленин! Переодетый. Я был в Россия. Я видет там этот портрет… Тебе будет казнь! Страх сковал меня. Теперь я погиб! Только чудо могло меня спасти. Но мне шел уже четырнадцатый год, и я твердо знал: чудес на свете не бывает. - Ты должен целовать мой рука, что я есть добрый,- сказал вдруг чужим голосом Штамм. - Я буду не делать рапорт начальству. Ты меня понимаешь? - Так точно, господин унтер-офицер! - «Значит, чудеса все-таки бывают!» - пронеслось в моей голове. А Штамм продолжал: - Ты должен выполнять то, что я тебе буду приказать… Тогда все будет хорошо… Ты понимаешь? Я молчал. Но Штамм не нуждался в моем ответе. Он не сомневался, что я выполню сейчас любое его приказание. - Прекрасно! Ты есть разумный малшик. Слюшай меня. В вашем бараке есть коммунисты. Ты будешь сказать мне их номера, тогда я буду рвать твой рисований. И все будет… как это по-русски? Все будет шитомыто…
 - Я про коммунистов не знаю, - сказал я и закрыл глаза, ожидая удара.
- А ты хочешь болтаться в петля? - Теперь голос Дракона уже не урчал. - Если завтра вечером не скажешь хоть про один коммунист, будет казнь.
Он ушел. Меня трясло. Чтобы не упасть, я оперся на лопату. Назвать номера коммунистов! Я знал только одного коммунист а в нашем бараке - дядю Ивана. Надо выбирать: смерть или предательство. «Нет, нет, нет,- твердил я в ужасе. - Я не буду предателем!» Но тут же дыхание перехватывала другая мысль: «Значит, я живу последний день? И никогда больше не увижу отца… и деда не увижу… и вообще ничего, ничего никогда не увижу…» Тяжело шлепая крыльями, вблизи опустилась ворона. «Та самая, что торчит на перекладине виселицы!» - с ужасом подумал я. Ворона хрипло каркнула и полетела дальше.
Я не заметил, как подошел дядя Иван. Из-за грязных, лохматых туч выглянуло солнце и осветило его лицо. Глаза его, тусклые, глубоко запавшие, казалось, ничего не видели, синие губы были плотно сжаты.
- Я был здесь,-проговорил он медленно. - Отдыхал за кучей цемента… Я все слышал… Не отчаивайся. .. выход есть.
- Какой, дядя Иван, какой?
Тяжело вздохнув, дядя Иван взглянул почему-то на свои ладони, и мне казалось, что прошло не менее часа, прежде чем он выговорил:
- До победы мне не дожить. .. дело ясное… Одно меня гложет - умру я без всякой пользы… Слушай, Серега… Завтра после поверки скажешь Штамму, что номер тридцать две тысячи четыреста сорок - коммунист, и он отстанет от тебя. Все равно мне погибать, так хоть тебя вызволю… Тебе еще жить и жить… Может, отомстишь…
Он умолк, не спуская с меня тусклого взгляда.
- Не смейте так говорить, дядя Иван Не смейте! - крикнул я, забыв, что меня могут услышать.
Он положил мне на плечо руку и сказал после не-долгого молчания:
- Ладно, может, что и придумаем. Вытри слезы и давай работать.
Мы взялись за лопаты.
Я видел, что дядя Иван погружен в свои мысли, о чем-то упорно думает, изредка бормочет что-то вслух. Мне удалось разобрать обрывок фразы -смысл ее я понял спустя много дней: «…доктор поможет.. . посоветует…»
- Я про коммунистов не знаю, - сказал я и закрыл глаза, ожидая удара.
- А ты хочешь болтаться в петля? - Теперь голос Дракона уже не урчал. - Если завтра вечером не скажешь хоть про один коммунист, будет казнь.
Он ушел. Меня трясло. Чтобы не упасть, я оперся на лопату. Назвать номера коммунистов! Я знал только одного коммунист а в нашем бараке - дядю Ивана. Надо выбирать: смерть или предательство. «Нет, нет, нет,- твердил я в ужасе. - Я не буду предателем!» Но тут же дыхание перехватывала другая мысль: «Значит, я живу последний день? И никогда больше не увижу отца… и деда не увижу… и вообще ничего, ничего никогда не увижу…» Тяжело шлепая крыльями, вблизи опустилась ворона. «Та самая, что торчит на перекладине виселицы!» - с ужасом подумал я. Ворона хрипло каркнула и полетела дальше.
Я не заметил, как подошел дядя Иван. Из-за грязных, лохматых туч выглянуло солнце и осветило его лицо. Глаза его, тусклые, глубоко запавшие, казалось, ничего не видели, синие губы были плотно сжаты.
- Я был здесь,-проговорил он медленно. - Отдыхал за кучей цемента… Я все слышал… Не отчаивайся. .. выход есть.
- Какой, дядя Иван, какой?
Тяжело вздохнув, дядя Иван взглянул почему-то на свои ладони, и мне казалось, что прошло не менее часа, прежде чем он выговорил:
- До победы мне не дожить. .. дело ясное… Одно меня гложет - умру я без всякой пользы… Слушай, Серега… Завтра после поверки скажешь Штамму, что номер тридцать две тысячи четыреста сорок - коммунист, и он отстанет от тебя. Все равно мне погибать, так хоть тебя вызволю… Тебе еще жить и жить… Может, отомстишь…
Он умолк, не спуская с меня тусклого взгляда.
- Не смейте так говорить, дядя Иван Не смейте! - крикнул я, забыв, что меня могут услышать.
Он положил мне на плечо руку и сказал после не-долгого молчания:
- Ладно, может, что и придумаем. Вытри слезы и давай работать.
Мы взялись за лопаты.
Я видел, что дядя Иван погружен в свои мысли, о чем-то упорно думает, изредка бормочет что-то вслух. Мне удалось разобрать обрывок фразы -смысл ее я понял спустя много дней: «…доктор поможет.. . посоветует…»
* * *
И вот мы снова лежим на нарах. Я не сомневался, что это последняя ночь в моей жизни. Я не плакал, только мне все время было холодно и меня трясло. - Дядя Иван, - попросил я, - если доживешь до победы, найди отца моего… Богатова Петра Григорьевича. .. Скажи ему все… Я почувствовал на своей голове его ладонь… Он молча гладил меня по голове… И тогда я заплакал, схватил его руку и прижался к ней щекой. Утром, как всегда, мы принялись за работу. Но думал я только об одном: с каждой секундой до вечера остается все меньше и меньше, скоро меня отдадут в руки гестаповцев. Когда очередная вагонетка была нагружена, я приготовился толкнуть ее вниз. - Погоди-ка, - остановил меня дядя Иван. - Я заметил трещину на рельсах.. . внизу… Покажу Дракону, - продолжал дядя Иван. - Когда подыму руку, толкнешь вагонетку, а до этого - жди! Тяжело ступая, он стал спускаться. Я остался один. Закрыв глаза, я представил себе виселицу на лагерной площади! Вот меня ведут… Нет, не ведут… Окровавленного, меня волокут по земле… На перекладине сидит жирная ворона… Нет!.. Нет!.. Я не хочу умирать! Вскочив на ноги, я посмотрел вниз и увидел дядю Ивана и Дракона. Дядя Иван что-то объяснял Штамму, а Штамм мрачно слушал, размахивая плетью. Они подошли к подножию горки, дядя Иван ткнул пальцем в рельсы и отошел в сторону. Дракон остался стоять на месте, чуть склонившись над рельсами. Дядя Иван высоко поднял руку - я столкнул вагонетку. Она покатилась со скрипом вниз. Штамм сделал шаг в сторону. Когда вагонетка с грохотом достигла подножия, дядя Иван вдруг толкнул Дракона двумя руками в грудь и тот оказался под колесами груженой вагонетки. От слабости дядя Иван не смог удержаться на ногах и тоже упал рядом. Не помню, как я сбежал вниз. Голова Штамма была раздроблена. Дядя Иван пытался подняться, но не мог. Вагонетка задела его тоже. Лицо дяди Ивана было залито кровью.
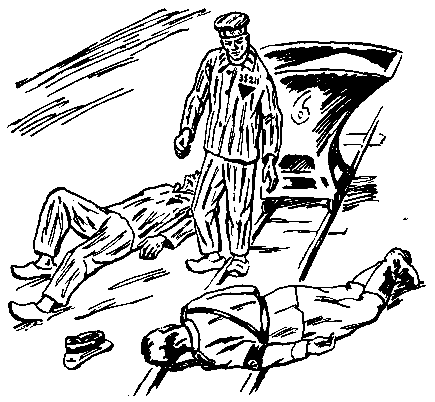 - Дракон жив? - я скорее угадал, чем услышал его вопрос.
- Убит.
- Ну, теперь ты спасен… Проберись в лазарет… Чтобы никто не видел… Доктор знает, доктор…- Дядя Иван умолк, он потерял сознание.
Мне удалось добраться до лазарета незамеченным.
Лагерный лазарет был разделен на две половины. В одной лежали заключенные, истощенные голодом, измученные непосильной работой. В эту половину часто заходили немецкие врачи. Они смотрели только за одним - чтобы больные не залеживались. «Если русский может сидеть, - значит, он может работать», - заявлял главный врач лазарета Гецке.
На второй половине лежали тифозные и дизентерийные больные. Здесь работали только пленные советские врачи. Ни один немец сюда не заходил. Они боялись заразиться. Санитарами - их было двое - работали пленные чех и поляк.
В лазарете я сразу увидел доктора Козиорова.
- Заключенный тридцать два четыреста сорок ранен, его зашибла вагонетка! - сказал я поспешно.
Доктор схватил меня за руку и втащил в соседнюю комнату.
- Имей в виду, - заговорил он быстро и тихо,- ты пришел сюда в семь утра. Я оставил тебя в лазарете. У тебя температура - больше тридцати восьми…
Теперь я начинал кое-что понимать. Дядя Иван решил убить Дракона, чтобы тот меня не выдал, и условился обо всем с доктором. Доктор скажет, что мы с утра были в лазарете, никто не заподозрит нас в убийстве эсэсовца. Но дядя Иван не предусмотрел, что немцы найдут его лежащим без сознания рядом с убитым Штаммом…
Вблизи лазарета послышались голоса. Доктор выглянул в окно и мгновенно впихнул меня за матерчатую ширму. В еле заметную щелку ширмы я увидел, как два заключенных внесли на носилках дядю Ивана.
Носилки были короткие, для переноски земли, ноги дяди Ивана волочились по полу. Едва заключенные опустили носилки на пол, как ворвался Краузе.
- Где доктор Гецке? - заорал он на весь лазарет.
- Господин оберштурмфюрер, доктор Гецке уехал вместе со своим помощником на два дня в Берлин,- отрапортовал доктор Козиоров.
От злобы Краузе прямо зашелся.
- Тогда слушай ты! Эта падаль, - он показал на лежащего без сознания дядю Ивана, - убил солдата великой Германии. Лечи его хорошо! Мы должен знать, кто помогать ему толкать сверху вагонетка. А потом ему будет такой смерть, что весь лагерь содрогается! Ему и тому, кто толкал вагонетка! Ты поняль?
- Так точно, понял, господин оберштурмфюрер! - Лицо доктора Козиорова было белее его халата.
- Завтра им займется гестапо! - Выходя, Краузе так хлопнул дверью, что зашаталась ширма.
Ушли и заключенные, принесшие дядю Ивана.
В комнате остался один доктор Козиоров. Я вышел из-за ширмы и подошел к носилкам. Дядя Иван дышал часто и тяжело.
«Что же теперь будет, что будет?! - Я не мог оторвать глаз от дяди Ивана. - Они станут пытать его… Из-за меня! Он хотел спасти меня…»
- Немедленно за ширму! - прикрикнул на меня доктор. - Не смей выходить оттуда!..
В час дня я вышел из лазарета.
В кармане моем лежала справка, что я находился в лазарете с семи часов утра до часу дня. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня схватили и привели в лагерную канцелярию. Здесь уже начала работать комиссия гестапо.
За небольшим канцелярским столом сидел тощий румяный гестаповец и перелистывал бумаги в коричневой папке. За соседним столом сидел немец в штатском, с рыжими усиками щеточкой, точь-в-точь как у Гитлера. Гестаповец поднял на меня удивленные глаза.
- Это есть номер тридцать пять двести одиннадцать? Сейчас мы будем знакомиться близко. Ты будешь говорить правда, и тогда тебе наказаний не будет, потому что ты не есть большой. Но если будешь говорить неправда, то тебе будет жалость об этом. Рассказывай бистро, как было дело?
- Какое дело, господин гауптман?
- Не притворяйся… Притворяйство есть преступлений. А за преступлений будет строгий наказаний. Ты толкал вагонетка… ты знал, что заключенный номер тридцать две тысячи четыреста сорок будет убивать унтер-офицера Штамма.
От страха сердце мое колотилось о ребра. Я собрал все свои силы, чтобы изобразить удивление, и спросил:
- Разве с господином унтер-офицером Штаммом случилось несчастье?
- Оказывается, ты есть совсем глюпый притворщик,- не повышая голоса и раскуривая сигару, сказал гауптман. - Ты работаешь вместе с заключенным номер тридцать две тысячи четыреста сорок. Ты толкал вагонетка?
Мне казалось, что гестаповец отлично слышит стук моего сердца.
- Господин гауптман, я сегодня с семи утра был в лазарете и только сейчас возвращался в барак. У меня есть вот… справка…
Гестаповец выхватил у меня справку. Он был, наверно, очень близорук и, читая, водил по бумаге носом так, точно обнюхивал ее.
Кончив читать, он молча уставился на меня. Щеки его стали еще краснее. Несколько секунд он молчал, сверля меня пронзительным взглядом, и вдруг его маленький рот растянулся в улыбку.
- Тебе не будет казнь,- сказал он наконец.- Тебя выпустят из лагерь домой. Потому что ты есть еще дитя…
Я не верил своим ушам.
- Ты будешь узнать, кто толкнул вагонетка,- продолжал гестаповец. - Это не есть трудно тебе. А потом будешь ехать домой к своей бедной муттер.
- Я постараюсь, господин гауптман… - пробормотал я. - Только не знаю, удастся ли мне…
- Если не узнаешь, будешь остаться здесь долго, пока не будешь иметь длинная седая борода. Тогда твоя бедная муттер тебя совсем не узнайт…
Секретарь, перестав писать, захохотал. Ему понравилась шутка начальника.
У меня закружилась голова, я поспешно ухватился за спинку стула.
- Завтра ты будешь иметь легкая работа, - донеслись до меня слова гауптмана. - Но помни: ты можешь ехать свой дерефня, если скажешь мне, кто толкал вагонетка…
- Дракон жив? - я скорее угадал, чем услышал его вопрос.
- Убит.
- Ну, теперь ты спасен… Проберись в лазарет… Чтобы никто не видел… Доктор знает, доктор…- Дядя Иван умолк, он потерял сознание.
Мне удалось добраться до лазарета незамеченным.
Лагерный лазарет был разделен на две половины. В одной лежали заключенные, истощенные голодом, измученные непосильной работой. В эту половину часто заходили немецкие врачи. Они смотрели только за одним - чтобы больные не залеживались. «Если русский может сидеть, - значит, он может работать», - заявлял главный врач лазарета Гецке.
На второй половине лежали тифозные и дизентерийные больные. Здесь работали только пленные советские врачи. Ни один немец сюда не заходил. Они боялись заразиться. Санитарами - их было двое - работали пленные чех и поляк.
В лазарете я сразу увидел доктора Козиорова.
- Заключенный тридцать два четыреста сорок ранен, его зашибла вагонетка! - сказал я поспешно.
Доктор схватил меня за руку и втащил в соседнюю комнату.
- Имей в виду, - заговорил он быстро и тихо,- ты пришел сюда в семь утра. Я оставил тебя в лазарете. У тебя температура - больше тридцати восьми…
Теперь я начинал кое-что понимать. Дядя Иван решил убить Дракона, чтобы тот меня не выдал, и условился обо всем с доктором. Доктор скажет, что мы с утра были в лазарете, никто не заподозрит нас в убийстве эсэсовца. Но дядя Иван не предусмотрел, что немцы найдут его лежащим без сознания рядом с убитым Штаммом…
Вблизи лазарета послышались голоса. Доктор выглянул в окно и мгновенно впихнул меня за матерчатую ширму. В еле заметную щелку ширмы я увидел, как два заключенных внесли на носилках дядю Ивана.
Носилки были короткие, для переноски земли, ноги дяди Ивана волочились по полу. Едва заключенные опустили носилки на пол, как ворвался Краузе.
- Где доктор Гецке? - заорал он на весь лазарет.
- Господин оберштурмфюрер, доктор Гецке уехал вместе со своим помощником на два дня в Берлин,- отрапортовал доктор Козиоров.
От злобы Краузе прямо зашелся.
- Тогда слушай ты! Эта падаль, - он показал на лежащего без сознания дядю Ивана, - убил солдата великой Германии. Лечи его хорошо! Мы должен знать, кто помогать ему толкать сверху вагонетка. А потом ему будет такой смерть, что весь лагерь содрогается! Ему и тому, кто толкал вагонетка! Ты поняль?
- Так точно, понял, господин оберштурмфюрер! - Лицо доктора Козиорова было белее его халата.
- Завтра им займется гестапо! - Выходя, Краузе так хлопнул дверью, что зашаталась ширма.
Ушли и заключенные, принесшие дядю Ивана.
В комнате остался один доктор Козиоров. Я вышел из-за ширмы и подошел к носилкам. Дядя Иван дышал часто и тяжело.
«Что же теперь будет, что будет?! - Я не мог оторвать глаз от дяди Ивана. - Они станут пытать его… Из-за меня! Он хотел спасти меня…»
- Немедленно за ширму! - прикрикнул на меня доктор. - Не смей выходить оттуда!..
В час дня я вышел из лазарета.
В кармане моем лежала справка, что я находился в лазарете с семи часов утра до часу дня. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня схватили и привели в лагерную канцелярию. Здесь уже начала работать комиссия гестапо.
За небольшим канцелярским столом сидел тощий румяный гестаповец и перелистывал бумаги в коричневой папке. За соседним столом сидел немец в штатском, с рыжими усиками щеточкой, точь-в-точь как у Гитлера. Гестаповец поднял на меня удивленные глаза.
- Это есть номер тридцать пять двести одиннадцать? Сейчас мы будем знакомиться близко. Ты будешь говорить правда, и тогда тебе наказаний не будет, потому что ты не есть большой. Но если будешь говорить неправда, то тебе будет жалость об этом. Рассказывай бистро, как было дело?
- Какое дело, господин гауптман?
- Не притворяйся… Притворяйство есть преступлений. А за преступлений будет строгий наказаний. Ты толкал вагонетка… ты знал, что заключенный номер тридцать две тысячи четыреста сорок будет убивать унтер-офицера Штамма.
От страха сердце мое колотилось о ребра. Я собрал все свои силы, чтобы изобразить удивление, и спросил:
- Разве с господином унтер-офицером Штаммом случилось несчастье?
- Оказывается, ты есть совсем глюпый притворщик,- не повышая голоса и раскуривая сигару, сказал гауптман. - Ты работаешь вместе с заключенным номер тридцать две тысячи четыреста сорок. Ты толкал вагонетка?
Мне казалось, что гестаповец отлично слышит стук моего сердца.
- Господин гауптман, я сегодня с семи утра был в лазарете и только сейчас возвращался в барак. У меня есть вот… справка…
Гестаповец выхватил у меня справку. Он был, наверно, очень близорук и, читая, водил по бумаге носом так, точно обнюхивал ее.
Кончив читать, он молча уставился на меня. Щеки его стали еще краснее. Несколько секунд он молчал, сверля меня пронзительным взглядом, и вдруг его маленький рот растянулся в улыбку.
- Тебе не будет казнь,- сказал он наконец.- Тебя выпустят из лагерь домой. Потому что ты есть еще дитя…
Я не верил своим ушам.
- Ты будешь узнать, кто толкнул вагонетка,- продолжал гестаповец. - Это не есть трудно тебе. А потом будешь ехать домой к своей бедной муттер.
- Я постараюсь, господин гауптман… - пробормотал я. - Только не знаю, удастся ли мне…
- Если не узнаешь, будешь остаться здесь долго, пока не будешь иметь длинная седая борода. Тогда твоя бедная муттер тебя совсем не узнайт…
Секретарь, перестав писать, захохотал. Ему понравилась шутка начальника.
У меня закружилась голова, я поспешно ухватился за спинку стула.
- Завтра ты будешь иметь легкая работа, - донеслись до меня слова гауптмана. - Но помни: ты можешь ехать свой дерефня, если скажешь мне, кто толкал вагонетка…
* * *
Гестаповец сдержал свое обещание: утром меня послали на легкую работу. Около помещения, где жили эсэсовцы, был разбит цветник. По сравнению с прежней каторгой работать в цветнике было совсем нетрудно. Но, копая землю, подрезая кусты, таская воду, я все время думал о дяде Иване. «Его мучают сейчас. Пытают за то, что он спас меня. А если бы он не убил Дракона, то пытали бы меня… меня…». Ни о чем другом я не мог думать. Бригадир-чех не очень строго следил за тем, как мы работаем. Но, заметив проходящего поблизости эсэсовца, заорал на нас: - Ленивые канальи! Шевелитесь! Он подскочил ко мне, размахнулся, палка опустилась на мою спину… но я не почувствовал удара. - Славянин бьет славянина. Это хорошо! Это есть немецкий порядок! - сказал довольный эсэсовец и пошел дальше. Перед концом работы чех подошел ко мне и, смотря в сторону, сказал еле слышно: - Иван жив… В лазарете… От удивления я уронил ведро. Как он догадался, что все время я думаю о дяде Иване? Значит, он все знает? Знает, что вагонетку толкнул я?! Не ожидая моих вопросов, чех направился к ближайшей клумбе и стал ругать заключенного за плохую работу. К концу работы чех вдруг заорал на меня: - Бери лопату, чертов лодырь! Копай здесь! Когда я подошел к нему, он сунул мне лопату и пробормотал: - У Ивана сыпной тиф. Радуйся! - и тут же снова заорал: - И чтоб все дорожки были посыпаны песком! Аккуратно! Я ничего не понял: почему я должен радоваться? Ведь это значит - конец! Тифозному из лазарета одна дорога - в могилу! На другой день, когда я подрезал засохшие ветки кустарника, чех прошел не спеша, вразвалочку мимо, не глядя на меня, отчетливо сказал: - Все хорошо! Он умер! Передай привет… Теперь я не сомневался - бригадир сошел с ума! В нашем лагере мне уже приходилось слышать, что некоторые заключенные не выдерживали издевательств и сходили с ума. Вечером, на перекличке, мне было приказано явиться утром в лагерную канцелярию. Я понял, что мне предстоит новая встреча с гестаповцем. Конечно, эту ночь я почти не спал. Засыпая на несколько минут, я сразу же просыпался с мыслью: что меня ждет утром?
* * *
Первым, кого я увидел в канцелярии, был бригадир-чех. Он разговаривал с немецким писарем. Писарь хотя и работал в канцелярии, но тоже был заключенным. Увидев меня, чех сказал что-то писарю и вышел. Писарь - маленький пожилой человек, с лицом, иссеченным морщинами, заговорил очень медленно, растягивая каждое слово, как резину: - Ты переводишься… Временно… В другой лагерь. .. Я внес тебя в список… Отправка завтра… В пять тридцать утра… Здесь… У здания канцелярии. .. Ступай работать…
* * *
Тусклый рассвет едва занимался над лагерем, когда я подошел к канцелярии. Человек двадцать заключен-вых, дрожа и ежась от утреннего холода, молча топтались на месте, пытаясь согреться. Было еще темно, и я не мог рассмотреть лица узников. Ровно в пять тридцать появился офицер-эсэсовец. По команде «смирно» мы вытянули руки по швам. Эсэсовец подошел к строю, щелкнул кнопкой фонарика и буркнул что-то переводчику. Тот сказал: - Господин унтерштурмфюрер будет сейчас называть номера заключенных. Названный номер делает два шага вперед! Унтерштурмфюрер скользнул острым лучом фонарика по списку и выкрикнул: - Зибен унд цванциг дрей хундерт цвай унд фирциг! - Двадцать семь триста сорок два! - крикнул вслед за ним переводчик. Правофланговый сделал два шага вперед. - Фюнф унд драйсиг цвай хундерт эльф! - Тридцать пять двести одиннадцать! - вызвал переводчик. Я шагнул вперед, и фонарик высветил мой номер. Лиц эсэсовец не освещал. Для него мы все были номерами, а не людьми. Проверка продолжалась не более пяти минут. Под конвоем нас вывели за ворота лагеря. Здесь уже тарахтел мотор закрытой тюремной машины. Вместе с нами сели три автоматчика. Машину закрыли изнутри и снаружи. Свет в нее проникал теперь только сквозь узенькую прорезь зарешеченного окна. - Не разговаривать, местами не меняться, руки держать за спиной! - приказал автоматчик. Машина тронулась. Поначалу в ней было еще тем-нее, чем на улице. Напрасно я пытался различить лица - все заключенные сидели, низко опустив головы, и дремали. Однообразное покачивание усыпило меня. Не знаю, долго ли я дремал, но, когда очнулся, в машине стало светлее. Я взглянул на своего соседа, он сидел ко мне боком, и я разглядел его лагерный номер: двенадцать сорок. Заключенного с таким номером я не знал. И не удивительно: в лагере находилось более тридцати тысяч узников - целый город! Сосед повернулся в мою сторону, я взглянул на него и чуть не закричал. Я решил, что тоже схожу с ума. Рядом со мной сидел дядя Иван. Он приложил палец к губам, и я понял, что должен молчать…
* * *
В новом лагере я сразу же потерял дядю Ивана. И невероятную историю «воскрешения из мертвых» мне удалось узнать много дней спустя, когда мы случайно встретились после работы. - Такое было, Серега, - начал дядя Иван, - что и сам себе до сего дня не верю. - Как меня вагонеткой стукнуло, ты видел. Очнулся в лазарете. Голова от боли разламывается. У койки человек какой-то сидит. Заметил он, что я очухался, сразу - из палаты. Он из палаты, а доктор Козиоров - в палату. Подходит к койке, говорит скороговоркой: - Имей в виду, у тебя тиф. Пока ты здесь. Тебя никто не тронет. В эту палату ни один немец не войдет. Я говорю: - Повезло мне… Лучше от тифа умереть, чем на виселице болтаться… А доктор мне отвечает: - А зачем тебе умирать? Ты у нас поправишься… Я только головой покачал. Никто еще из тифозной палаты живым не выходил. А доктор новую загадку задает: - Вылечить такого тифозного нетрудно. Труднее похоронить тебя. А еще труднее после похорон в другой лагерь переправить… Тут, Серега, у меня ум за разум зашел. Если поправлюсь, чего меня хоронить? А если помру и меня похоронят, зачем мертвяка в другой лагерь переправлять? Лежу я день, другой. Удивляюсь: какой-то у меня тиф непонятный: жару особого нет, только что голова разбитая болит. Никаких лекарств не дают. А перевязку на голове санитар-поляк аккуратно делает. Вот прошло три дня, я малость отошел, а только радости от этого - никакой. Знаю ведь: выздоровею, сразу попаду сатане в зубы! Натешатся враги надо мной вволю. И все мне покоя не дает тот разговор с доктором. Чую: что-то за теми его словами кроется, а что именно - не могу додуматься… И вдруг ночью появляется доктор Козиоров, а с ним санитар-поляк. Уложили они меня на носилки и вынесли из палаты. Там в лазарете есть такая комната с ширмой. Внесли меня за эту ширму, я смотрю - на скамье труп лежит. Доктор говорит: - Снимай куртку. Снял я свою куртку, а санитар мне другую подает. А доктор продолжает: - Если хочешь уцелеть - запомни: твоя фамилия теперь Куценко Иван Владимирович. Номер - двенадцать сорок. Запомнил? Иван Куценко. Двенадцать сорок! Санитар тем временем обрядил покойника в мою куртку. Тут я понял многое, Серега. И, прежде всего, то понял, что и за колючей проволокой бьются люди с фашистами. Без гранат, без винтовок, голодные, разутые, а бьются… Ты сообрази, Серега, и поляк, и доктор знали ведь: пронюхают гестаповцы, что вместо меня другого похоронили, такую им муку придумают, что и в аду не бывало. Но они не испугались, жизнью рисковали, чтобы спасти нас с тобой. Думаешь, они одни такие? Нет, брат Серега, настоящие люди есть везде. Есть они, ясно, и в этом лагере. И мы их найдем здесь с тобой. Разыщем… Завыла лагерная сирена. Надо было спешить в свой барак. Мы наскоро попрощались и разошлись, чтобы вскоре вместе с другими узниками начать тайную войну за колючей проволокой.
ТРУС
1
Люся умерла, не узнав моей тайны. Умерла, презирая меня, считая меня трусом. Расскажу все по порядку. На первомайском вечере в школе Люся читала стихи, а я играл на скрипке. Все ребята нашего седьмого «б» орали «браво», «бис», топали ногами и били в ладоши. Я сказал «все ребята», но это не совсем верно. Васька Пенов сидел в первом ряду, он не кричал «браво», не хлопал в ладоши. Я играл, а он смотрел на меня в упор, и зеленые кошачьи глаза его словно остекленели. Странно, но быть счастливым в тот вечер мне мешал неподвижный взгляд Васьки… Домой я возвращался с Люсей - мы жили на соседних улицах, за Сиреневой рощей. - Ты здорово играл сегодня, правда, правда, здорово! - говорила она, чуть картавя. Мне часто казалось, что Люся специально подбирает слова, в которых есть буква «эр», чтобы картавить. Откуда она знала, что мне это нравится? - И ты здорово стихи читала! - сказал я. - Ребята так топали, что пол трещал. Один только Пенов сидел как замороженный! Люся вдруг остановилась и сказала, опустив голову: - Васька вчера… признался мне… - В чем признался? - В любви… - В любви? Тебе?! - Я загоготал, точно гусь на реке: - Здорово! Вот потеха! - Не надо… сказала тихо Люся. - Над этим не смеются. - И она взяла меня под руку. Первый раз девочка взяла меня под руку. Я шел не дыша, боясь вспугнуть совсем незнакомое мне ощущение- счастливое и немного тревожное. Так, молча, мы дошли почти до Люсиного дома, когда из-за кустов сирени вдруг выскочил Васька. Я почувствовал, как испуганно дернулась Люсина рука. Коротконогий, приземистый Пенов шагал вперевалку, засунув руки в карманы, подняв широкие плечи до самых ушей. - Под ручку крендельком! - Васька преградил нам дорогу. - Милуетесь-целуетесь! Жених и невеста! На свадьбу позовете? - Не говори глупостей, Васька! Голос Люси прозвучал жалобно. - Иди, иди! - подхватил Васька. - Топай! Сейчас твой музыкант получит до-ре-ми-фа-соль! Едва Люся скрылась за кустами сирени, как мы уже схватились. Мы бились неумело, колотя друг друга куда попало. Каждый из нас побывал не раз на земле, носы у обоих были расквашены, но мы продолжали биться, разъяряясь все больше и больше. Ударом в грудь я сбил Ваську с ног, но он сразу вскочил, и кисть моей левой руки оказаласьзажатой в его широкой лапе. - Больше тебе не пиликать! - прохрипел Васька и рванул с вывертом мои пальцы. Собрав все силы, я схватил его правой рукой за горло, Васька широко раскрыл рот и мешком осел на землю…
2
Мы встретились в школе после майских праздников. Левую руку я держал в кармане - не хотел, чтобы Васька видел мои замурованные в гипс пальцы. У Васьки под глазом зеленел синячище. Люся знала, как заработал свой фонарь Пенов. Она призналась мне, что видела нашу драку. - Ты здорово бился! - сказала она. - Знаешь, я ненавижу трусов! На перемене Люся подошла к Пенову. - Бедненький! - протянула она, сочувственно вздыхая. - Кто тебя так? Темное скуластое лицо Васьки стало белым. - В долг получил… отдам… с процентами! - И, подняв плечи, он зашагал прочь. Вскоре нас распустили на каникулы. Мы разъехались по лагерям и дачам, но через несколько дней все уже были дома. Началась война. Мой отец ушел на фронт в июле, Люсин - в августе. А в начале сентября наш городок заняли немцы, и вся наша жизнь перевернулась. Как это ни странно, от голодной смерти меня и маму спасала скрипка. Я играл на рынке, и люди иногда бросали мне мелочь. Играл я с трудом: после драки с Васькой мои пальцы потеряли гибкость. Но я помнил слова доктора: «Не огорчайся, пальцы со временем станут послушными. Однако береги их! Еще одна подобная травма - и все! Драться тебе больше нельзя, иначе позабудь о скрипке…» Я не сказал об этом - ни родителям, ни Ивану Ильичу. А то бы они все время тряслись надо мной. С Люсей при немцах мы встречались редко. Она работала мойщицей посуды в аптеке. И мама ее работала там же. Из окна своего дома я видел иногда, как рано утром они шли в аптеку, - тоненькая, словно камышинка, Люся и сгорбленная, постаревшая тетя Катя…
3
Иван Ильич учил меня играть на скрипке. Старик был скуп на похвалы. Когда родители интересовались моими успехами, он усмехался и говорил: - Бывает, и веник стреляет! Поживем - увидим… С приходом фашистов я потерял его из виду. Но однажды на рынке я неожиданно увидел своего учителя. Он продавал кофейную мельницу. «Чудак, - подумал я. - Кто теперь пьет кофе? Мы и о чае забыли - пьем кипяток с морковной заваркой». Иван Ильич обрадовался мне: - Здоров? Молодец! Как твои пальцы? Ты что, не хочешь ли продать скрипку?! Я успокоил старика: - Даю здесь «концерт». Не зря вы меня учили! Он нахмурился: - Ладно, не ной! Счастье придет - и на печи найдет!- старик любил разные присказки. - Думаешь, мне приятно служить весовщиком на станции? А приходится. К тому же - платят гроши. Вот и продаю «фамильные драгоценности», - он кивнул на кофейную мельницу и, завидев проходящего мимо оборванного дядьку, забубнил, подняв над головой мельницу:- Необходимый предмет! Служит тысячу лет! Дамам, господам дешево продам! - Сколько рассчитываешь получить? - спросил дядька. - Не продаю, меняю, уважаемый, - любезно ответил Иван Ильич. - Можно и на менку. Что рассчитываешь взять? - По-божески. Кило сахара, кило масла. Дядька выкатил на старика глаза, крутанул у виска пальцем и уныло зачавкал рваными галошами по рыночной грязи. Мне стало смешно и грустно. Нет, старик, не понимал, на каком он свете! Масло! Сахар! Откуда их взять? Масло и сахар ели теперь только немцы и полицаи. .- Не покупают, - сокрушенно сказал Иван Ильич. - В воскресенье опять приду, - увидимся… А вскоре там же, на рынке, я повстречался с Васькой. Взобравшись на врытую в землю скамью, я играл «Венгерскую рапсодию» Листа. Вокруг собрались слушатели, но я старался не смотреть на них, - было стыдно. Давно уже вывелись в нашем городе нищие-музыканты. О них мне рассказывал Иван Ильич. Теперь же я сам превратился в такого музыканта. Доиграв до конца, я бросил беглый взгляд на толпу и увидел Ваську Пенова. Я невольно сунул левую руку в карман, точно спасая ее от Васькиного взгляда. Васька криво усмехнулся и смешался с толпой. В тот день я больше не играл… В воскресенье Иван Ильич оказался на старом месте. В руках его была все та же кофейная мельница. Стоя на скамье, я невольно наблюдал за ним. Время от времени Иван Ильич выкрикивал свою прибаутку: «Необходимый предмет! Служит тысячу лет!» К нему подходили любопытные, рассматривали «необходимый предмет» и шли дальше. Теперь мы виделись довольно часто. Но поговорить нам не удавалось. Иван Ильич появлялся раньше меня и уходил задолго до того, как я кончал играть. Мы только издали переглядывались и кивали друг другу головой. Поразительно, с каким упорством пытался старик сбыть свою мельницу. Ничего другого он не продавал. Не выдержав, я решил спросить, почему он вечно таскается с этой никому не нужной штуковиной. Пробираясь сквозь рыночную толпу, я еще издали услышал осточертевшую прибаутку: - Дамам, господам дешево продам! Меня опередил какой-то здоровенный тип, - я не сразу понял, что это полицай. Он подошел к Ивану Ильичу, бесцеремонно вырвал из его рук мельницу, осмотрел ее со всех сторон и приказал неожиданным для такого верзилы писклявым голосом: - Покажь документы! Побледневший Иван Ильич вытащил из кармана какую-то бумажку. - Почему не на станции? - спросил полицай, прочитав бумажку. - Сегодня в вечернюю смену… - Старая крыса! Вечно торчишь тут! Еще раз примечу- хана тебе будет! И, швырнув на землю мельницу, он ушел. Я подал Ивану Ильичу его «необходимый предмет», но не успел сказать и слова, как к нему подошла женщина в потертой стеганке. Из-под ее линялого темного платка выбивалась огненно-рыжая прядь волос. Что-то знакомое было во всей ее фигуре, мне казалось, что я видел совсем недавно и этот платок, и рыжую прядь волос, и слегка закинутую назад голову. Но где? Когда? Едва она взяла мельницу, как я вспомнил: со своей высокой скамьи я видел в прошлое воскресенье, как она так же вот держала в руках мельницу Ивана Ильича, рассматривала ее долго и дотошно. А сейчас женщина делала вид, будто впервые видит эту вещь. Я стоял рядом, женщина неприязненно покосилась на меня, словно я ей мешал. Меня злил ее взгляд, тем более, что я не сомневался, что и на этот раз она уйдет ни с чем. Где ей взять масло и сахар? Женщина выдвинула из мельницы узенький ящичек. Я увидел в нем несколько высохших пестреньких фасолин. Она задвинула обратно ящичек, поправила на голове платок и сказала звонко, нараспев: - Купила бы, да молоть нечего… И ушла. - Нахальная баба! - сказал я. - Сколько раз уже обнюхивала вашу мельницу. Делать ей нечего! - Фантазируешь! - сказал убежденно Иван Ильич.- Впервые ее вижу, а память на лица у меня, сам знаешь, отличная: один раз увижу, сто лет помню! - Вы просто не заметили… - Не болтай! - вдруг рассердился Иван Ильич.- Мне лучше знать. Пойдем домой, проводи-ка меня немного. .. Мы шли кривыми улочками; моросил октябрьский дождь, день был серый, унылый. Впрочем, теперь и солнечные дни казались мрачными. Иван Ильич нес завернутую в тряпицу мельницу и молчал. Но у меня было такое чувство, что он все время наблюдает за мной. - Хочу тебе сказать вот что… - прервал молчание Иван Ильич. - Время такое… всякое может случиться. До конца войны могу и не дожить… Мой завет тебе: не бросай скрипку. Раньше не говорил, теперь скажу: ты можешь стать большим музыкантом, настоящим артистом. Береги себя. Главное, помни о пальцах! За все пять лет обучения старик не похвалил меня и пяти раз. Слова его привели меня в смущение, я не знал, что сказать, и брякнул невпопад: - Никто не даст вам за эту мельницу ни масла ни сахара. А зачем вы держите в ней фасолины? - Что? Ах, ты про это? Завалились, верно, с мирного времени. Развернув тряпицу, он вытряхнул на мокрую землю фасолины. На нежданную добычу жадно набросились взъерошенные воробьи. - Были и нет, - усмехнулся Иван Ильич. На площади наши пути расходились. - Послушай… - начал старик и умолк. Опять я почувствовал на себе его испытующий взгляд. - Об отце имеешь сведения? - Ничего не знаем, Иван Ильич. С августа… - Надо надеяться, дорогой, надо надеяться…- Он поежился под струйками холодного дождя. - Куда ты дел свой пионерский галстук? Вопрос был неожиданный. Я растерялся. - Понимаю, - сказал Иван Ильич. - Уничтожил. Избавился. Правильно сделал. Пользы от него никакой. Наверное, все пионеры выбросили свои галстуки… - Все пионеры выбросили галстуки? Да что вы? Не знаете, а говорите! Кто выбросил, тот - трус! - Постой, не кричи. Фортиссимо здесь неуместно. Объясни все-таки, к чему тебе пионерский галстук? Если фашисты узнают, ты можешь погибнуть из-за него. А ты должен беречь себя. Тебя ждет слава, я уверен, что немцы оценят твой талант. Увидишь! - Не стану я играть для фашистов! А красный галстук мне нужен! Нужен! Пока галстук у меня, я как будто бы в засаде! Прикажут - и я брошусь в атаку! Только бы приказали! - От кого ты ждешь приказа? Кому теперь приказывать, коли немцы уже в пригородах Ленинграда и жмут на Москву. Некому здесь приказывать… - А кто приказал взорвать склад с немецким обмундированием? Кто приказывает расклеивать по ночам сводки Совинформбюро? Кто приказал у деревни Ивановской пустить под откос поезд с фашистами? Мне показалось, что Иван Ильич не слушает меня, думая о чем-то своем. - Ладно, не будем спорить,- сказал он наконец.- Приходи завтра на станцию. - Зачем? - Увидишь, какую силищу прут на восток немцы. Не устоять большевикам… - Запугали вас фашисты! - А ты не боишься? - Я их ненавижу! И не боюсь, потому что знаю, чем война кончится. Помните, что сказал Александр Невский? - Ну, что же сказал Александр Невский? - «Кто с мечом к нам придет ‹-от меча и погибнет!» - Сказать все можно. Нет, брат, плетью обуха не перешибешь. Завтра на станции сам увидишь… - Не пойду я никуда! - Мне нужно, чтобы ты пришел. Слышишь? Обязательно! В конце концов, можешь ты исполнить просьбу своего учителя?!
4
На станции было безлюдно; где-то на дальних путях маневрировал старый паровоз, оставляя за собой клубы черного дыма. Иван Ильич суетился под навесом, около больших десятичных весов. Тут же высились аккуратно перевязанные фанерные ящики. - Явился? Молодец! - сказал Иван Ильич. - Садись, сейчас я с этим делом покончу. Впрочем, помоги-ка мне. Надо взвесить все ящики и записать в накладную. Я устал укладывать ящики на весы. - Посылочки, - сказал Иван Ильич. - Маслице, сальце, сахарок, ну и вещички, конечно. Немцы посылают нах хаузе. Домой. Женам, деткам. Немцы, милый мой, очень детей любят, просто обожают… - Вы зачем меня позвали? Хвалить фашистов? «Немцы любят детей!» Забыли Ивановскую? Что там наделали немцы? - На память не жалуюсь - помню. Загнали людей в деревенскую церковь и сожгли. За связь с партизанами. .. - А вы знаете, что там были ребята, даже грудные дети?.. - Я и говорю… Они русских детей сожгли, а вещички их аккуратненько собрали. Не пропадать же добру! А теперь отправляют их своим белокурым ангелочкам. В Германию. Дескать, носите, детки, на здоровье, слушайтесь мамочку, не забывайте папочку… Иван Ильич говорил тихо, почти шепотом, но в голосе его была такая ненависть, что я мгновенно прозрел. Боже мой! Как я мог подумать, что он смирился с фашистами?! Но для чего же тогда он вел эти разговоры о немецкой мощи, об их победах? Неужели испытывал меня? Иван Ильич повернул на весах какой-то рычажок и стал выписывать накладные. - Помнишь, какое завтра число? - спросил он, не подымая головы. - Седьмое ноября… - Как ты отметишь его? - Буду играть на рынке… - Значит, станешь и в этот день пиликать вальсы Штрауса? - Нет, завтра я буду играть русский романс… Старинный. - В годовщину Октября - старинный романс? Это все, на что ты способен? - Вы сначала послушайте. - Я начал тихонько высвистывать мелодию. - Догадались, в чем дело? - Ничего не понимаю. Отметить Октябрь в тылу врага таким допотопным романсом! Ты, верно, не знаешь его слов. - Иван Ильич закатил глаза и тихонько запел противным фальцетом:
5
С вечера я долю не мог заснуть, когда же наконец забылся, мне приснилось, что я пришел на рынок без скрипки. Уже восемь часов, надо играть, а скрипки нет. А Васька стоит в толпе, строит рожи и смеется надо мной. Проснувшись, я не сразу понял, что все это мне только привиделось. Часы-ходики показывали шесть утра. Мама еще спала, пришлось все делать очень тихо: я не хотел, чтобы она видела мои сборы. Вытащив из-под матраса пионерский галстук, я повязал его вокруг шеи и надел поверх свою лучшую рубашку. Потом я достал с полки русско-немецкий словарь. В нем я спрятал календарный листок. Оккупанты запретили нам держать советские календари, и мы сожгли свой еще в сентябре. Но один листок из календаря я сохранил, и сейчас он лежал передо мной. На листке сияла большая красная цифра «7». И торжественная надпись: «24 года Великой Октябрьской социалистической революции». А внизу - рисунок: красногвардейцы и моряки штурмуют Зимний дворец. Сложив листок, я спрятал его за рваную подкладку кепки. Я не спешил: от дома до рынка пятнадцать минут ходу, успею. Со вчерашнего дня я все время думал о разговоре с Иваном Ильичом. Почему я должен играть песню в определенное время и ровно шесть раз? Конечно, за этим кроется какая-то тайна, и моя игра - не что иное, как условный сигнал. Но что означает этот сигнал, кому он адресован? Ни до чего не додумавшись, я подошел к окну, взглянуть не идет ли дождь, и увидел Люсю. На этот раз она шла одна, без тети Кати… Накинув куртку, я схватил скрипку и выбежал из дома. Я догнал ее у голых почерневших кустов сирени. - Люся! С праздником тебя! - крикнул я, обрадованный встречей. - Тише! Ты с ума сошел! - Никого же нет… - Все равно тише. Потерпи! Двадцать пятую годовщину мы встретим громко! С музыкой! Вот увидишь! - Конечно, громко! Фортиссимо! И мы снова наденем… смотри! - Я расстегнул ворот рубахи и показал ей кончик красного галстука. - Какой ты отчаянный, Андрей! Ты очень смелый! - А твой где? - Спрятан. Но через год мы их не наденем, мы уже будем комсомольцами… Мне показалось, что Люся выглядит лучше, чем в прошлую встречу. - Ты сегодня румяная, - сказал я. Люся взглянула на меня, ее синие глаза неестественно блестели. - Температура… Плохо мне чего-то… очень плохо,- заговорила она, прерывисто дыша.- Должно быть, заболела… - Тетя Катя знает, что ты больна? - Она ушла рано. Я не сказала ей… Ой, как мне холодно… - Ты лучше вернись домой, Люся, а то совсем расхвораешься. - Не могу… никак не могу. Сегодня я должна обязательно быть на месте… Мы свернули на улицу Свердлова, и я заметил на телеграфном столбе выведенную красной краской маленькую цифру: «XXIV». Под цифрой стояло слово, которое я не понял: «Дзор!». - Смотри! - сказала Люся. - Народ помнит… не забыл. И на афишной тумбе то же написано! Действительно, и на афишной тумбе кто-то вывел красным слово «дзор!». - «Дзор»? Что это значит? - Бестолковый! - Люся перешла на шепот: «Дзор… Это же сокращенно: «Да здравствует Октябрьская революция!» Да, наш город помнил, какой сегодня день. На другой улице мы увидели на заборе фашистский плакат. Неизвестный художник пририсовал вокруг шеи Гитлера удавку и написал на свастике большие буквы: «СНО!» «Смерть немецким оккупантам!» - пояснила Люся. Я огляделся. Ни одного прохожего. Еще рано. - Подержи скрипку и следи, не появится ли кто… Вытащив из кепки календарный листок, я накрепко прикол о л его кнопкой под надпись «СНО!». - Бежим скорее! - Люся явно испугалась. - Мне нельзя рисковать. - Мне тоже нельзя рисковать, - сказал я. - До десяти часов… - Что «до десяти часов»? - Нельзя рисковать. А потом, после десяти, можно… - Не понимаю, что ты говоришь… - Она облизнула пересохшие губы и спросила: - Проводишь до аптеки? - Конечно! «У меня в запасе вечность!» - Тогда пойдем через Глухой переулок. С тобой мне не страшно. - А без меня? - Без тебя я хожу другой дорогой… - Почему? - Там ведь Васька живет. Я с ним оаз встретилась. .. он грозился… - Как это - грозился? - Грозился донести, что мой папа коммунист… - У, гад! Попадись он мне! - С тобой я не боюсь… Ты сильный.. . смелый… Я взял ее за руку. Люся показалась мне такой слабенькой, такой беззащитной и одинокой, что, я и сам не знаю как, у меня вырвалось: - Люсенька! Я так тебя люблю! Мы всегда будем вместе! Она шла с полузакрытыми глазами, я услышал, как она тихо повторила: - Всегда будем вместе… Мы шли, боясь взглянуть друг на друга. Горячая ладонь Люси лежала в моей руке, и я с тоской подумал, что через несколько минут мы расстанемся до самого вечера. Я и не подозревал, что никогда больше ее не увижу. Мы свернули в Глухой переулок и сразу перед нами возник Васька Пенов. - Привет красным тимуровцам! - гаркнул он, осклабившись. - Встретились! Теперь можно и должок отдать, расплатиться! - Не дури, Пенов! - Люся хотела обойти его, но он заступил ей дорогу. - Не спеши! Сейчас твой до-ре-ми-фа-соль захрюкает. Получит сполна! Я не испугался, я чувствовал, что Ваське со мной не справиться. - Забыл про фонарь! - сказала Люся тяжело дыша. - Хочешь второй получить? Васька царапнул Люсю бешеным взглядом, и тотчас же глаза его застыли на моей левой руке. Я понял подлый замысел Васьки - сделать меня калекой, чтобы я не смог больше играть. И тут же я вспомнил приказ Ивана Ильича: сегодня от восьми до десяти играть, во что бы то ни стало. - Пойдем, Люся… - мой голос противно дрожал.- Я с ним завтра встречусь. Сейчас мне некогда, и ты опоздаешь… Люся подняла на меня воспаленные глаза. В них застыли испуг и удивление. - Ах, ему некогда! - Васька снова уставился на мою левую руку, и я невольно спрятал ее за спину. - А мне плевать, что тебе некогда! И он ткнул меня кулаком в грудь. - Отстань! - сказал я и опять услышал унизительную дрожь в своем голосе. - Чего пристал? Я тебя не трогаю… - А я трогаю! - Васька ухмылялся, и от этого стало страшно. - Я трогаю! Получай! Он ударил меня по лицу. Я отшатнулся, прикрываясь футляром, продолжая держать левую руку за спиной. - Андрей!!! - В Люсином крике были растерянность, презрение, обида. - Андрей! Новый удар Васьки свалил меня на землю. Скрипка отлетела в сторону. Васька не дал мне подняться. Ему удалось захватить в кулак пальцы моей левой руки. - Проси прощенья! - прохрипел он, сдавливая изо всех сил мои пальцы. - Ну! Я молчал. - Ну!? Будешь просить прощенья?! Мне послышался голос Ивана Ильича так отчетливо, словно он стоял рядом: «Ты должен завтра играть. Это - приказ». - Прости… - Я задыхался от стыда. - Громче! Чего шепчешь?! Пусть Люська слышит! - Прости… - сказал я громче. - Трус! - Это крикнула Люся. Отчаяние было в ее голосе. - Трус! Презираю! Васька захохотал. - Слышал? Теперь Люська видит, какой ты храбрец. Теперь хоть пойте, хоть играйте - мне плевать! Я свой должок отдал. С процентом! Он отпустил меня и, сунув руки в карманы, зашагал пингвиньей походкой в дом с флюгером. Я поднялся, не решаясь взглянуть на Люсю, и стал обтирать грязь с футляра рукавом куртки. Это было так глупо - заботиться сейчас о футляре. Но я не мог поднять голову, и все тер и тер черный футляр… Боясь оглянуться, я ждал, что Люся заговорит первая. Но она молчала. Я вдохнул в себя воздух, как перед прыжком в воду, и обернулся. Люси не было.
6
Ровно в восемь я стоял на своей рыночной скамье. Торговля и менка были в разгаре. «Катюша», как всегда, привлекла слушателей. Я старался ни на кого не смотреть. Мне казалось, что все знают о моем позоре. Я играл «Катюшу», а в ушах звенел Люсин голос: «Трус! Презираю!» «Расцветали яблони и груши», - выводил мой смычок, а мне чудились совсем другие слова. Их пел на мотив «Катюши» Люсин голос: «Презираю труса, труса, труса…»
 Я оборвал песню и заиграл «За власть Советов». «Слушай, рабочий, война началася», - подпевал я себе, чтоб заглушить Люсин голос.
Кончив играть «За власть Советов», я исполнил увертюру из «Кармен» и несколько вальсов, потом, до перерыва, сыграл еще два раза «За власть Советов». Полицаев пока что поблизости не было.
Видя, что я укладываю скрипку в фултяр, слушатели начали расходиться.
Я оборвал песню и заиграл «За власть Советов». «Слушай, рабочий, война началася», - подпевал я себе, чтоб заглушить Люсин голос.
Кончив играть «За власть Советов», я исполнил увертюру из «Кармен» и несколько вальсов, потом, до перерыва, сыграл еще два раза «За власть Советов». Полицаев пока что поблизости не было.
Видя, что я укладываю скрипку в фултяр, слушатели начали расходиться.
 Я сел на скамью, стараясь не вспоминать ни о Ваське, ни о Люсе, но я не мог сейчас думать ни о чем другом. «Я объясню ей, - успокаивал я себя. - Пойду к ней после десяти и объясню…»
На рынке в этот день все было как обычно. Людей сюда сгонял голод. Каждый пытался сменять поношенное тряпье на хлеб или картошку. Те, кому уже нечего было менять, стояли с протянутой рукой.
Поблизости, спиной ко мне, за базарным столом маячила торговка. Перед ней стояло ведро, наполненное картошкой. Отдельно на прилавке лежали три небольших картофелины. При виде их я почувствовал голод. «Если денег хватит, куплю у нее десяток», - подумал я.
Отдохнув немного, я опять заиграл «За власть Советов». Снова вокруг собрались люди. До сих пор не знаю, как случилось, что на этот раз я исполнил припев. Исполнил и сразу почувствовал, как встрепенулись слушавшие меня…
Стоявший рядом со мной инвалид на костыле вдруг тихо запел:
Я сел на скамью, стараясь не вспоминать ни о Ваське, ни о Люсе, но я не мог сейчас думать ни о чем другом. «Я объясню ей, - успокаивал я себя. - Пойду к ней после десяти и объясню…»
На рынке в этот день все было как обычно. Людей сюда сгонял голод. Каждый пытался сменять поношенное тряпье на хлеб или картошку. Те, кому уже нечего было менять, стояли с протянутой рукой.
Поблизости, спиной ко мне, за базарным столом маячила торговка. Перед ней стояло ведро, наполненное картошкой. Отдельно на прилавке лежали три небольших картофелины. При виде их я почувствовал голод. «Если денег хватит, куплю у нее десяток», - подумал я.
Отдохнув немного, я опять заиграл «За власть Советов». Снова вокруг собрались люди. До сих пор не знаю, как случилось, что на этот раз я исполнил припев. Исполнил и сразу почувствовал, как встрепенулись слушавшие меня…
Стоявший рядом со мной инвалид на костыле вдруг тихо запел:
7
Я вошел в аптеку с черного хода и увидел в тамбуре тетю Катю. Я едва узнал ее, так она изменилась. Тетя Катя стояла у притолоки, словно неживая, - неподвижная, исхудавшая, белое лицо ее окаменело. - Мне Люсю, - сказал я. - Пусть выйдет… на минутку. Губы ее дрогнули, она уткнулась лицом в стену и громко заплакала. - Увезли Люсеньку… Забрали доченьку мою… - Куда увезли? Кто? - Гестапо… - За что? - Будто она партизанам лекарства передавала. А у нее, у девочки моей, температура.. . Горит вся! Они ее в тифозный барак повезли. А разве оттуда возвращаются?! Господи! За что? Господи… Я повернулся и побрел к выходу. - Скрипку забыл, - сказала сквозь слезы тетя Катя. - Ну и пусть!.. - крикнул я и выбежал на улицу… В Глухом переулке по-прежнему не было ни души. Здесь уцелело только три небольших дома, остальные сгорели, когда шли бои с немцами. На флюгере Васькииого дома сидела стайка мокрых воробьев. Прежде чем постучать в дверь, я машинально потер пальцы левой руки, точно собирался сейчас играть на скрипке. Дверь мне открыл сам Васька. Увидев меня, он удивился. - Тебе чего? - Будет разговор, - сказал я. - Выходи..! - Какой еще разговор? - Важный… Люся должна знать… В соседней комнате кто-то зевнул, громко, надсадно, почти застонав. Васька покосился на дверь. - Папаня. Погодь за калиткой. Сейчас выйду… Он появился, держа руки в карманах, подняв плечи к ушам… - Чего ей нужно знать, твоей Люське? - Знать, что я не трус… - Брось морочить голову! Хочешь схлопотать еще? Могу! Васька сказал это как-то лениво, не глядя на меня. Подняв кусок кирпича, он запустил им в воробьев, потом снова повернулся ко мне. - А ну, топай отсюда! Взгляд его скользнул по моей руке. - Топай, если хочешь пиликать на своей шарманке! - Будем драться! - сказал я. - Кто это будет драться? - Мы. Я с гобой! Будем сейчас драться! Круглые кошачьи глаза Васьки стали прозрачными. - Ты что, мало получил? Тебе мало, да? - Будем драться, будем сейчас драться. Люся узнает… Он не дал мне договорить и ударил первым. До сих пор помню выражение его лица после моих ответных ударов. Тупое изумление застыло на Васькиной роже. Он ничего не мог понять. Три часа назад я вел себя, как последний трус, просил у него прощения, а теперь… Теперь я дрался как осатанелый. Визжа от ярости, мы катались по мокрой земле. Я чувствовал, Ваське меня не осилить. Я больше не берег свои пальцы, я знал, что обязан победить, Люся должна понять, какое мужество потребовалось мне тогда, чтобы оказаться трусом… Ошарашенный моим неистовством, Васька с каждой минутой терял уверенность в себе, удары его становились слабее, и наконец он понял: поражение неизбежно. - Ничья! - прохрипел он, отступая к забору. - Давай чтобы ничья! - Ничьей не будет! - сказал я, надвигаясь на Ваську. - Не может быть между нами ничьей! - Тогда я сломаю тебе пальцы! Ты сдохнешь с голоду. Он ринулся на меня и ударил головой в грудь. Я удержался на ногах и ответным ударом опять свалил его на землю. Но, падая, он успел вцепиться в мою руку. Я почувствовал адову боль: два пальца левой руки болтались, как чужие. Теперь я был беспомощным, одноруким. Стоя над распростертым врагом, я ждал, когда он поднимется. Бешеная ярость не оставляла места для страха.
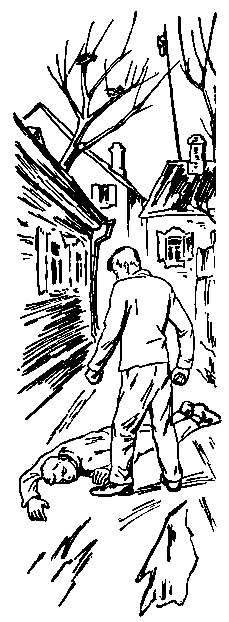 - Вставай! - приказал я. - Вставай! Будем драться насмерть!
Васька не шевельнулся. Он лежал, следя за мной прищуренными глазами. Я догадался: пока я стою над ним, он не встанет. Закон мальчишеских драк был свят: лежачего не бить. Он понимал: этого закона я не нарушу. Тогда я повернулся и пошел. Я знал, где мне найти Ивана Ильича.
За скрипкой я не зашел, было ясно: больше мне не играть. Никогда не играть! Но теперь я знал и другое: отныне я вступил в бой с врагами, вступил в него с песней, услышанной от отца:
- Вставай! - приказал я. - Вставай! Будем драться насмерть!
Васька не шевельнулся. Он лежал, следя за мной прищуренными глазами. Я догадался: пока я стою над ним, он не встанет. Закон мальчишеских драк был свят: лежачего не бить. Он понимал: этого закона я не нарушу. Тогда я повернулся и пошел. Я знал, где мне найти Ивана Ильича.
За скрипкой я не зашел, было ясно: больше мне не играть. Никогда не играть! Но теперь я знал и другое: отныне я вступил в бой с врагами, вступил в него с песней, услышанной от отца:
ЛЮБА
1
Они шли из глубокой разведки всю ночь, а до лагеря оставалось еще километров пятнадцать. - Перейдем шоссе и стоп - на отдых! - сказал Карпов. - Ноги, это само, гудят, - поморщился Федор,- особливо левая. - Шагай одной правой, - сказал без улыбки Карпов.- Устанет правая - скачи на левой. Вернешься в лагерь свеженький, как пупсик! Федор представил себе, как он скачет к лагерю на одной ноге, и засмеялся. Вот был бы номер! - Чего смеешься? - Карпов любил мальчишку, хотя и ругал нещадно за хвастовство и непослушание. - Придем в отряд, я с тебя стружку-то сниму! - За что, товарищ комиссар? - Почему не написал заголовка для стенгазеты? - Не партизанское дело - карандашиком чирикать. Пусть Любка забавляется. - Вернемся - поговорим! А сейчас - бегом через шоссе, вон в тот кустарник! Они пересекли дорогу и забрались в заросли. Стянув сапоги, перемотали портянки и блаженно растянулись в траве. Карпов свернул самокрутку, высек кресалом искру и прикурил от затлевшего трута. Федор жадными глазами проводил живую спираль голубоватого дымка. - Нет! - ответил Карпов на молчаливую просьбу Федора. - Только одну затяжечку, товарищ комиссар… - Одну можно… Только не сейчас. - Когда же, товарищ комиссар? - Вот разобьем фашиста - и дыми, сколько хочешь. - Так это же когда будет?! Вы со мной, как с маленьким. - А сколько тебе? - Пятнадцать… - неуверенно сказал мальчик и, поймав взгляд комиссара, поспешно пояснил: - Я только роста небольшого, а вообще мне как раз, это само, пятнадцать. .. недавно… - Врешь! - усмехнулся Карпов, но тут же смахнул усмешку. - Это что ж получается? Я тебя в разведку беру, полностью тебе доверяю, а ты врешь? - Четырнадцать мне, - пробормотал Федор. - Через месяц точно четырнадцать будет… - То-то! Смотри, чтоб в последний раз! Будешь врать - отправлю в хозчасть с Любой кашу варить! Дошло? - Дошло… - На том и порешим, - и без всякой видимой связи сказал вдруг: - Сволочь фашист! В твои годы - за партой сидеть, гонять мяч, шахматами увлекаться, стихи сочинять, а ты вот должен… - Он умолк, сердито сдвинув густые черные брови. - А вы, товарищ комиссар, сочиняли стихи в мои годы? - Нет, я другим увлекался. - Шахматами? - Меньше всего. - Тогда, значит, футбол.- Федор критически взглянул на впалую грудь и узкие плечи Карпова. - Нет, голубчик, у меня была другая страсть. В твоем возрасте я решил изучить все европейские языки. Готовил себя к мировой революции. Чтобы объясняться с пролетариями всех стран… - Неужели изучили? Все? Как есть все языки? - Нет, конечно. Немецкий знаю хорошо, английский, французский - через пень в колоду. Остальные - просто не знаю, - он взглянул на часы. - Семь уже. К десяти будем на месте. Тронулись! Они поднялись и тут же услышали в утренней тиши далекий дробный перестук. - Мотоцикл! - шепотом сказал Карпов, и глаза его округлились. - В кювет! Живо! Рванув из-за пояса «вальтер», Федор бросился к шоссе и с ходу влетел в кювет. Треск стремительно приближался. - Торопится на свою панихиду! - палец Карпова застыл на спусковом крючке кольта. - Без команды не стрелять! - Есть! - пистолет в руке Федора вздрагивал в такт ударам сердца. - Поперхнешься, гад! - Карпов нащупал за пазухой «лимонку». Словно в ответ, ритмичный перестук сменился беспорядочными выхлопами, потом все стихло, наступила тишина. - Мотор забарахлил… - Карпов напряженно смотрел в сторону, откуда должен был появиться мотоцикл. Снова раздались выхлопы, и наконец показался немец. Он бежал мелкими шажками, толкая мотоцикл, в надежде, что мотор снова заработает. Должно быть, фашист выбился из сил. Он остановился, вытер рукавом лоб и присел на обочине дороги. - Возьмем живьем! - Прильнув к земле, Карпов неслышно пополз к фашисту. Федор, не дыша, полз за комиссаром. Они были в нескольких шагах от немца, когда тот неторопливо поднялся, подошел к мотоциклу, расстегнул сумку и вытащил из нее гаечный ключ. - Хенде хох! Немец вздрогнул, ключ жалобно звякнул об асфальт. - Хенде хох! - снова раздался приказ. Фашист, вскинув руки, обернулся. Высокий бородатый партизан целился ему в лоб. Рядом с бородатым стоял мальчишка. Его пистолет был нацелен в живот. - Обезоружь! - приказал Карпов Федору. Федор сунул «вальтер» в карман, подошел к фашисту, снял с него автомат и вскинул себе на плечо. - Вот и я с автоматом! - сказал он. - Тащи мотоцикл в кусты! Живо! - приказал Карпов по-немецки. Пленный дрожащими руками ухватился за руль и, не спуская обезумевших глаз с «кольта», потащил мотоцикл в ольшаник. - Помоги!-бросил Карпов Федору. - Чикаться некогда! Федор уперся в багажник, толкнул мотоцикл, и вдруг мотор заработал. - Глуши! - крикнул Карпов. Немец поспешно выполнил приказ. - Приехали!-сказал Федор, когда они затащили машину в кусты. - Повернись спиной! - приказал пленному Карпов. - Расстреляете? - немца бил озноб, он не мог отвести глаз от пистолета Карпова. - Я - коммунист, а вы… хотите… - Чего он булькает, товарищ комиссар? - Старая песня. Фриц в плену сразу становится коммунистом. - Клянусь! Я - коммунист! Рабочий! Печатник! Давно задумал перейти. Ждал, когда буду на передовой! Чтобы перебежать. К партизанам боялся! Нам говорят - партизаны сразу расстреляют… - Он торопливо выпаливал слова, боясь, что ему не позволят договорить.- Поверьте! Нацистов ненавижу! Карпов напряженно вслушивался в речь пленного: - Ты как-то странно говоришь по-немецки. Акцент у тебя какой-то… - Забыл! Забыл сказать! Я словак! Не немец, нет! Словак! Из Братиславы! Чехословакия! Мобилизованный! - Ладно! Все равно! Поворачивайся! Руки назад! Губы пленного посинели, белое, без кровинки, лицо исказила гримаса. На прямых, негнущихся ногах он медленно повернулся спиной к партизанам. - Чего он кудахтает, товарищ комиссар? - Потом скажу. А сейчас свяжи ему руки за спину. Потуже! Федор сдернул со штанов кавказский ремешок и стянул пленному руки. - Пойдешь впереди, фриц посредине, я - замыкающим. За мотоциклом пришлем ночью… Они двинулись в глубь леса. Карпов смотрел в затылок пленного и наливался злобой: «Подстрижен, бандюга! Поди, одеколоном заставил себя брызгать! Завоеватель! Не придется тебе больше стричься-бриться…» В лесную тишину врезался грохот. По шоссе проходил немецкий танк. - Давай быстрее! - прикрикнул на пленного Карпов. Низко опустив голову на тонкой жилистой шее, пленный тяжело переставлял негнущиеся ноги. - Оглох? Быстрее, говорю! Пленный обернулся. Веки его были опущены, словно солнечный свет резал ему глаза. - Я забыл… Сразу не сказал… Испугался… Я могу вам доказать, что я не фашист… - Хватит болтать! Придем на место, там все скажешь и докажешь! А сейчас - шагай, не задерживай! Пленный не шевельнулся. - Я знаю, вы хотите меня расстрелять подальше от шоссе. Чтобы не слышали выстрела. Но все равно… Знайте, в сумке мотоцикла остался пакет. Мне приказано отвезти его в Ряжевск. В гестапо… - Что же ты молчал, дьявол!? Федор! Вихрем - обратно! Тащи сумку с мотоцикла! Федор исчез. «Какой же я болван! - казнил себя Карпов. - Не осмотрел мотоцикл! Не обыскал сумку! Хорош разведчик! Перед мальчишкой стыдно!» Он присел на пенек, не спуская глаз со словака. Лицо пленного по-прежнему было бледным, испуганным, чуть заметно дергалась нижняя губа. Он стоял, повернув голову в сторону шоссе. «Прислушивается к танкам»,- подумал Карпов. Точно из-под земли появился запыхавшийся Федор. - Вот, - он протянул комиссару сумку. - Садись! - приказал Карпов пленному. Словак неуклюже - мешали связанные руки - плюхнулся в траву. Федор уселся напротив и снова наставил на него пистолет. Пленный закрыл глаза. Карпов разорвал конверт, расправил сложенный вдвое лист тонкой, почти папиросной бумаги и прочел:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО N АС 635 23 августа 1943 г. Штурмбаннфюрер Гоц - Гауптштурмфюреру Лангу. Мною получено Ваше донесение, из которого явствует, что: 1. Двадцать седьмого августа с. г. в Ряжевске, по Мучной улице, в доме N 10 соберется преступная шайка во главе с секретарем так называемого подпольного обкома коммунистов. 2. В вышеуказанном доме находится замаскированный склад взрывчатых веществ. 3. Вам известно местопребывание некоторых членов подпольной банды, в том числе их вожака - секретаря подпольного обкома. ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Чтобы не вызвать у преступников подозрений и никого из них не упустить, никакой предварительной слежки за домом N 10 по Мучной улице с получением сего не вести. 2. По той же причине запрещаю производить какие-либо предварительные аресты среди заговорщиков. 3. Для проведения карательной экспедиции двадцать седьмого августа иметь в готовности двадцать эсэсманов. Руководить захватом квартиры и всего подпольного обкома буду лично я. Получение настоящего приказа немедленно подтвердите известным Вам способом. Начальник СД округа штурмбаннфюрер Ганс Гоц».
С первых же строк Карпову стало ясно, какой важный документ попал в его руки. «Немедля надо идти в лагерь, решить с командиром, как действовать дальше». Он еще раз прочел приказ штурмбаннфюрера. Нет, оказывается, все не так просто. Последняя фраза в захваченном документе осложняла и без того нелегкую задачу: «Получение настоящего приказа немедленно подтвердите известным Вам способом». Ясно, если через полтора-два часа начальник ряжевского гестапо не сообщит о получении приказа, Гоц встревожится, сам свяжется с Лангом и сразу выяснит, что никто никакого приказа не передавал. Что предпримет в таком случае Гоц, ответить было нетрудно. Гоц и Ланг поймут, что связной попал в партизанскую засаду и документ оказался в руках партизан. А партизаны, конечно, предупредят обо всем подпольщиков. Значит, гитлеровцы будут вынуждены начать аресты сегодня же и сегодня же захватят склад с оружием и взрывчаткой. Надо немедленно принимать какое-то решение. Сейчас же! Самому! Он взглянул на пленного. Тот сидел, закинув голову, глядя в безоблачное небо. Карпов невольно тоже взглянул вверх. В небе чертил широкие круги коршун. Казалось, он наслаждается, невесомо паря в мирной синеве неба, и будет так кружить, пока последний луч солнца не скроется за соснами далекого бора. Но вдруг, точно его внезапно пронзила пуля, хищник рухнул в чащу. - Стервятник! - произнес словак. - Высмотрел добычу. Подлая птица! В этом белобрысом словаке было что-то неуловимо отличающее его от других пленных. «Он мог и не сказать о пакете, - подумал Карпов, - и тогда…» От мысли, что могло бы случиться, Карпову стало страшно. С особой остротой он понял, беда надвигается с каждой секундой, а он бездействует… - Значит, утверждаешь, что ты коммунист? - обратился Карпов к пленному. - Да! Да! Коммунист! Поверьте! - Давно? - С тридцать шестого года… - Докажи, что не врешь. - Как? Как мне доказать! - словак опустил голову.- Мой партийный билет спрятан в Братиславе, в надежном месте… - Сейчас сбегаю проверю!-зло процедил Карпов. - Отвечай, кто возглавляет коммунистическую партию Словакии? - Наша партия в подполье. Но я знаю, что во главе ее стоит товарищ Вильям Широкий. - Гимн коммунистов знаешь? - «Интернационал»? - по лицу словака скользнула удивленно-радостная улыбка. - Конечно, знаю! Как же мне не знать «Интернационал»?! - Тогда пой! Пой «Интернационал». - Но я могу только по-словацки, по-чешски, а по-немецки я слов не знаю… - Пой по-чешски, но негромко, совсем тихо,- Карпов настороженно взглянул в сторону шоссе. - Да, да, понимаю! Но я хочу петь свой гимн стоя… Это же - гимн! - Не дожидаясь разрешения, он легко поднялся с земли и тихо запел. Федор, который ничего не понял из разговора комиссара с пленным, вздрогнул. - Молчать! - крикнул он, и вдруг до него дошло, что пленный поет «Интернационал». Что это? Неужели от страха немец сошел с ума? Федор взглянул на комиссара и заметил, что губы Карпова беззвучно шевелятся. «Комиссар тоже поет»,- догадался Федор. Чужие слова стали такими понятными, такими знакомыми, точно пленный пел по-русски. Это было какое-то чудо! И, сам того не замечая, Федор тоже запел неслышно:
2
В командирской землянке тускло чадила коптилка. Люба сидела на скамье, а командир легкими неслышными шагами мерил свое подземное жилище: пять шагов вперед, пять шагов назад… В полумраке лицо командира разглядеть было трудно. Любе хотелось увидеть его глаза, потому что Федор утверждал, что глаза у командира зеленые, а Люба была уверена, что зеленых глаз у людей не бывает. Но командир, не переставая, ходил из угла в угол, и в неровном свете коптилки невозможно было разглядеть заросшее бородой лицо. - Значит, сколько тебе лет? - Любу удивил его молодой голос. До сих пор ей не приходилось разговаривать с командиром. Она видела его только издали, и, оттого что лицо его заросло густой русой бородой, командир казался ей стариком. - Сколько же тебе лет? - Четырнадцать. Продолжая ходить, он вытащил кисет, свернул закрутку. - Где ты училась перед войной? - В ряжевской школе. Не в самом Ряжевске, а в слободке. - А почему не в Ясенках? Ты же пришла к нам из Ясенок. - В нашей деревне только четырехклассная школа. Я как в пятый перешла, меня и увезли в слободку. - У кого ты жила там? - У тети Клавы. У маминой сестры. Маму кулаки убили в коллективизацию. Они моему отцу мстили… - Отец в армии? - На фронте. В Ясенки я приехала на каникулы двадцатого, а двлдцать второго - война! Пять дней только и прожила с папой. В армию ушел… А мне велел обратно к тетке Клаве пробираться. От Ясенок до Ряжевска недалеко - сорок километров… - А ты не поехала? - Не поехала. Осталась у дедушки. - Почему отца ослушалась? Люба замялась. Командир, перестав мерить землянку, остановился. - Я тетю Клаву не люблю, - сказала Люба едва слышно. - Сама не знаю почему, а только не люблю, и все тут… - Это бывает, - командир снова зашагал из угла в угол. Казалось, его не удивил Любин ответ. - Ну, значит, осталась в Ясенках, а потом? - Потом, как немцы стали подходить, деда спрятал меня на пасеке… - Чего ж он тебя прятал? - Из-за папы. Мой папа - давнишний коммунист. Он богатеев в Ясенках раскулачивал и секретарем партийным был. Деда мне сказал: «Хоронись, Любаша: убьет тебя фашист за отца!» - Тебя дед к нам привел? - Ага. Боялся, что немцы про меня разнюхают. - Что же ты делаешь в отряде? - Помогаю всяко. Стираю, кашу варю… - Дело важное! Молодец! - командир остановился у коптилки, прикурил, и под низким бревенчатым потолком поплыло сизое облачко. - Ну, а про тетку Клаву твою тебе что известно? - Не-е. .. Как уехала тогда, так и все. Ничего не знаю… - А вот мы знаем. Живет на старом месте. Торгует овощами на базаре. - Огород у нее большой… - Да… - командир остановил на Любе пристальный взгляд, она увидела, что глаза у него и впрямь зеленые.- Скажи, - он сел рядом с Любой. - Скажи, а тетка знает, что ты в партизанском отряде? - Откуда? Даже в Ясенках никто не знает. Деда сказал всем, что я уехала к тетке Клаве. А тетке отписал, что я в Ясенках… - Люба тихо рассмеялась.- Только деда и знает, где я… - Это хорошо! - командир притушил о подошву сапога недокуренную цигарку. - А что, если мы отправим тебя к тетке? Люба по-своему поняла слова командира. - Я вам в обузу, да? - спросила она дрожащим голосом. - Что ты, родненькая! - он положил широкую ладонь на крепко сжатый кулачок Любы. - Ты молодец! Потому мы и хотим перебросить тебя к тетке, в Ряжевск, где стоит немецкий гарнизон, где орудует гестапо, где есть железнодорожный узел, через который немцы гонят эшелоны на восточный фронт. Понимаешь, в чем дело? Люба просияла: это совсем не то, что стоять у котла с поварешкой! Это настоящая борьба! - Спасибо вам, товарищ командир! Я не испугаюсь, увидите - не испугаюсь! Я не струшу и в немца выстрелить! Только научите меня стрелять… - Стрелять тебе не придется. Просто будешь жить у тетки. - Как это - просто жить у тетки? Не хочу! Командир с любопытством взглянул на нее. Только что девочка казалась такой покорной и слабенькой, а сейчас губы упрямо сжаты, глаза смотрят требовательно, голос звучит решительно. - Не хочу! Что мне там делать? Все воюют, а мне теткин огород поливать? - Да, будешь поливать теткин огород и торговать на базаре овощами… - Не буду! Я не торговка! - Потому ты и сидишь здесь, в партизанской землянке. С торговкой мы и говорить бы не стали. - А хотите, чтобы я торговала… - Послушай меня, Люба. Надо, чтобы ты торговала на базаре. Надо, чтобы к тебе там все привыкли - и немцы, и советские люди. Чтобы все думали, что ты жадная девчонка-торговка. Хвали фашистов, ругай партизан! И жди! Терпеливо жди! Придет час - ты получишь приказ. И от того, как ты выполнишь этот приказ, будет зависеть многое. Быть может, ты приблизишь день нашей победы. Хоть на минуту приблизишь. А ты поду-май, Люба, что значит приблизить победу на одну минуту. За минуту гитлеровцы могут сжечь сотни деревень, сбросить бомбы на головы тысяч наших людей, в эту минуту пуля может поразить твоего отца. Подумай, Люба! Если ты и теперь не хочешь торговать, забудем этот разговор. Пусть все останется как есть: кухарничай, стирай, штопай… - Нет, нет! Я не поняла! Я думала… - она вскочила, и он вдруг увидел, какая она худенькая, маленькая- совсем подросток. - Я пойду, пойду хоть сейчас! Я не догадалась!.. Думала, просто торговать… Когда мне идти? - Скоро. Завтра все обдумаем, все мелочи: что сказать тетке, как отвечать полицаям, как вести себя на базаре… У входа в землянку послышались шаги, откинулась плащпалатка, заменявшая дверь, и вошел комиссар. - Важные новости! - комиссар взглянул на Любу нетерпеливым взглядом. Она поняла, что он не хочет говорить при ней, и встала. - Мне уйти, товарищ командир? - Иди, дружок. Разговор закончим после…
* * *
Командир дважды прочел копию захваченного приказа штурмбаннфюрера Гоца. - Значит, словак вернулся? - спросил он, пряча копию в планшет. - Не обманул? Решение ты принял рискованное, но, пожалуй, единственно правильное в такой обстановке. - Признаюсь, я здорово волновался. Вдруг, думаю, не выдержит! Это ведь непросто - сыграть такую роль. Небольшая промашка - и готово. С ним бы немцы такое сделали! - Если все пройдет хорошо, сообщим о нем в Москву. А пока подумаем, как испортить немцам обедню. Твой план мне нравится, - командир по привычке мерил землянку шагами. - Но кого нам направить в Ряжевск? Завтра, как ты знаешь, Люба уйдет в слободку. От слободки до Ряжевска километров семь… - Рискованно давать ей такое задание. Все-таки девчушка. В случае чего - растеряется. Сначала испытаем ее на чем-нибудь попроще… - Кого же послать? Ясно, что вся ряжевская полиция и гестапо подняты сейчас на ноги. За домом по Мучной наблюдение они сняли, но всякий новый человек в таком маленьком городе обязательно привлечет их внимание. А на такую девчушку, как Люба, они и внимания не обратят… - Тогда уж лучше Федора послать. Он уже понюхал пороха, и смелости ему не занимать… - Тоже не шибко большой! Как он в разведке? - Держится молодцом. А главное, уже три раза был в Ряжевске, в случае чего - знает явку… - Это, конечно, важно. Он ведь ряжевский? - Да. Родители в бомбежку погибли. Он в Ряжевске все ходы и выходы знает. Прикинется нищим - сам знаешь, сколько сейчас осиротевших ребят бродит. Немцы на них внимания не обращают. Командир задумался. Ему не хотелось подвергать мальчишку лишней опасности, но чем дольше он думал, тем больше убеждался, что предложение комиссара разумно. Всякий пришлый мужчина в небольшом Ряжевске будет сегодня взят под подозрение. А старику прошагать за день сорок километров, да еще сразу обратно, не под силу. - Надо бы для верности застраховать себя. - Что ты имеешь в виду? - спросил комиссар. - Представь себе, что Федора задержат. А мы об этом и не узнаем. Тогда фашисты смогут осуществить свой дьявольский план. Это же полный разгром подпольной организации! Сотни казней! Гибель лучших людей! Мы не можем так рисковать. Надо свести риск до минимума. Надо исходить из худшего, а не из лучшего! - Согласен, но что ты предлагаешь? - Надо, чтобы Федора страховала Люба. - То есть? - Любе нужно дать то же задание, что и Федору. Но Федор не должен об этом знать… - Почему? - Нельзя же мальчишке сказать: «Если тебя схватят, не беспокойся: задание выполнит Люба». После такого разговора он только и будет думать о том, что его могут задержать. С такими мыслями любое задание провалишь… - Пожалуй, ты прав, командир. Вызывай Федора, пока он не завалился спать. Я и сам еле на ногах стою: за сутки километров пятьдесят отмеряли. А когда будем говорить с Любой? - Поговорю с ней после обеда… Разговор с Федором был короткий. - Ряжевск хорошо знаешь? - спросил командир. - Так точно! - Федор старался отвечать «по-военному». - Мучную улицу знаешь? - Так точно! - Где дом десять на Мучной находится, знаешь? - Так точно! Знаю! Напротив тюрьмы. А за углом- гестапо! Командир и комиссар переглянулись. «Место выбрано с умом. Никому и в голову не придет: тюрьма, гестапо… и рядом подпольный обком, склад оружия». Карпов продолжал: - Хватит силенок отправиться рано утром в Ряжевск? - Так точно! В разведку? - Не совсем в разведку. Оденься нищим, в какую-нибудь рвань. Найдешь в Ряжевске одного человека… Оружия при себе не иметь. - Во вражеский тыл без оружия? - от огорчения Федор забыл о военном языке. - Это как же? - А вот так же! - сердито ответил комиссар.- Слушай, что тебе говорят. Все твое оружие - перочинный ножик - хлеб резать. - А «вальтер»? - Федор чуть не заплакал. - Я же сам его раздобыл. В бою, а не как-нибудь! - «Вальтер» сдашь комвзвода, - жестко сказал командир. Федор тоскливо смотрел на свои сапоги. Карпов похлопал его по плечу. - Послужит тебе твой «вальтер» еще не раз. - Не будем терять времени, - сказал командир.- Слушай в оба уха. Придешь в Ряжевск, найдешь на хлебозаводе сторожа Семена Ильича. Скажешь ему: «Привет вам от дедушки. У него опять малярия». Семен Ильич ответит: «От малярии есть средство, не горюй». А дальше он сделает так, что вы окажетесь наедине. Вот тогда и скажешь ему три коротких фразы. Заучи их крепко-накрепко, чтобы они звенели у тебя в голове днем и ночью. Скажешь: «Вас предали. Скрывайтесь немедля. Склад взорвите двадцать седьмого в тринадцать десять». - А после сразу возвращайся в отряд, - приказал комиссар. - А ну повтори, что тебе сказано - Найду на хлебозаводе сторожа Семена Ильича, скажу ему: «Привет вам от дедушки. У него опять малярия». Семен Ильич ответит: «От малярии есть средство, не горюй». А когда мы окажемся наедине, тут я ему передам: «Вас предали. Немедля скрывайтесь. Склад взорвите двадцать седьмого в тринадцать десять». - Молодец! - похвалил командир.- С первого раза запомнил! - Быстро запомнишь - скоро забудешь! - сказал комиссар. - Сто раз повтори про себя. Перед уходом будет тебе экзамен. - Когда прикажете выходить? - Федор снова перешел на «военный язык». - Выйдешь в пять тридцать утра. До слободки с тобой пойдет Люба. - Разрешите обратиться? - Давай. - Зачем она мне? Один я быстрее дойду. - Ничего не поделаешь, - объяснил командир.- Пойдешь с Любой. Нельзя же ее одну отпускать в такой путь. Она и дороги не знает… - Чего ей в отряде не сидится? Кухарила бы - и все! - Не место девочке в партизанском отряде, - ответил комиссар. - Скоро бои начнутся, дальние переходы, ей не выдержать. Какой она боец? - Так точно, не боец, товарищ комиссар. Она и стрелять-то не умеет. Трусиха. Во время грозы - сам видел - в землянку пряталась! - Вот мы и решили отправить ее к тетке в слободу,- объяснил командир. - Завтра, на обратном пути в лагерь, обязательно пройди мимо ее дома. Она будет глядеть из окна. Только ты и виду не показывай, что знаешь ее. Сколько до Ряжевска ходу? - Моим путем - часов восемь. Я в обход пойду. Немцы тех троп не знают. Так что в городе я буду часа в три… - Отлично! - одобрил командир. - И сразу на хлебозавод. Помни, в Ряжевске и слободке установлен комендантский час. С восьми вечера до шести утра жителям ходить по улицам запрещено. Ну, а теперь иди отдыхай.
3
Они прошли половину пути, когда Федор остановился. - Передых! - решительно сказал он. - Спустимся в овражек, туда немцы, это само, носа не сунут. Люба обрадовалась: она давно устала, только стыдилась сказать об этом. Ей и сейчас не хотелось признаваться, и она равнодушно заметила: - Я ничего… не очень устала.. . Только спине от котомки жарко. А тебе от котомки не жарко? - Тоже жарко. А что делать? Без котомки нищих не бывает. После отдыха полегчает. - Я могу и без отдыха… - Запрещаю! - властно произнес Федор.- Девчонка- девчонка и есть. Не устала! Это только кажется. Пройдешь еще километр и свалишься. Возись потом с тобой! Он говорил сердито, потому что хитрил, говорил не то, что думал. Это он устал, устал так, что не мог идти дальше. И не удивительно: накануне он шел всю ночь и сегодня с Любой протопал километров двадцать. К тому же, в эту ночь он почти не спал. Должно быть, от волнения. В голову лезли разные дурацкие мысли: вдруг Семен Ильич заболел и не придет на завод? И потом - этот пароль Его можно забыть или перепутать слова. Тогда Семен Ильич и разговаривать с ним не станет! А эти три короткие фразы! Он полночи твердил их про себя, чтобы они «звенели в голове днем и ночью». Ребята спустились в овражек, по дну которого неслышно извивался узенький ручеек. - Ой, как хорошо! - Люба плеснула в лицо пригоршню студеной воды. - Так хорошо, так приятно! Федор повесил на куст котомку, снял сапоги, растянулся на траве и почувствовал, что сейчас уснет. «Если молчать, обязательно засну», - подумал он. - Любка, давай разговаривать. Расскажи что-нибудь. - А в лесу молчать надо. - Фрицев боишься? Во трусиха! Неоткуда им здесь взяться. - Фрицы тут ни при чем. В лесу молчать надо, чтобы слушать… - А чего тут слушать? - Как чего? Ты же не глухой! В лесу можно много-много чего услышать: и как шишка с ели падает, как птенец в гнезде пищит, как трепещут листочки на осине, как белка орешки лущит. Чего только не услышишь в лесу!.. - Чего тут интересного - шишка упала! Ты лучше скажи, почему из отряда ушла? - Командир приказал, - слукавила Люба. - Говорит, что скоро бои начнутся… Нельзя, чтобы в отряде были несовершеннолетние… Федор самодовольно улыбнулся. - Думаешь, потому что ты несовершеннолетняя? Как бы не так! Вот я тоже несовершеннолетний, а командир мне настрого приказал вернуться. Он тебя потому отослал, что ты девчонка, от девчонок на войне проку нету - трусихи! - А ты не боишься, когда стреляют? - Я-то? Хоть бы что! - И к немцам идти не боишься? А вдруг тебя в Ряжевске схватят? - Живым не дамся, гады свое получат! Вот! - Федор вытащил из кармана «вальтер». - Восемь пуль фашистам, девятая себе! Люба побледнела. Она представила себе, как Федор отстреливается от фашистов, как те один за другим падают замертво, как оставшиеся в живых немцы с яростным ревом окружают Федора, но раздается последний выстрел, Федор падает с простреленным сердцем, так и не выпустив из рук оружия. Федор видел, с каким испугом и восторгом смотрела на него Люба, но это не обрадовало его. Всю дорогу Федора терзала одна надсадная мысль. Пистолет! За-чем он взял с собой пистолет?! Ведь ему приказали сдать оружие командиру взвода! Федор искал оправдание своему поступку. «Как же идти в тыл врага без оружия? А вдруг - засада? Что же, сдаваться живым? Партизаны не сдаются!» Сколько раз он слышал эти гордые слова. И потом, разве он не отвечает за жизнь Любы? Она же девчонка, совсем беспомощная, в случае чего - он должен ее защищать! Но, как ни утешал себя Федор, он прекрасно понимал, что нарушил партизанскую дисциплину. И сейчас, лежа в траве, он терзался, не зная, как загладить свою вину. «Признаюсь! Вернусь с задания и сразу же признаюсь. Пусть наказывают, пусть судят - все равно признаюсь». И от того, что он принял такое решение, ему стало легче, он потянулся, закрыл глаза и мгновенно заснул.
* * *
Проснувшись, Федор не мог понять, что с ним и где он. А когда понял, рассердился: - Почему не разбудила? - Жалко было. Так крепко спал… - Ну и растяпа! Крепко спал! - он взглянул на небо. - Больше двух часов спал! Смотри, где уже солнце. За полдень перевалило! - Ну и что? - А то, что теперь нам надо шагать рысью! Иначе мы влопаемся в комендантский час! И не попадем сегодня в город. Чуешь, чем это пахнет? Они выбрались из оврага и зашагали по заросшей тропинке. Федор шел уверенно, не оглядываясь; Люба семенила за ним, боясь отстать. Ей хотелось есть; вытащив на ходу горбушку хлеба, торопливо съела ее. Постепенно лес стал редеть, они вышли на опушку, здесь Федор остановился. - Ничего не чуешь? - спросил он. - Нет. А что? Федор потянул носом: - Так и есть! Где-то лес горит… Теперь и Люба учуяла едкий запах гари. Они поспешно пересекли опушку и снова вошли в лес. Ни огня, ни дыма они еще не видели, но чувствовали, что каждый шаг приближает их к пожару. - Неужели болото горит? - тревожно сказал Федор.- Если болото, тогда нам, это само, беда! - О чем ты? - Боюсь, болото горит… - А разве болота горят? - Торфяное болото. Торф горит… - Вот и хорошо! Немцам не достанется! - Дура! - зло сказал Федор. - Через болото - самый короткий, безопасный путь. Если оно горит, надо лишних семь километров трюхать. Когда же я в Ряжевск приду? В комендантский час? - Что делать? - растерянно спросила Люба. - Посмотрим, точно ли горит болото. Айда! Они углубились в лес и вскоре увидели стелющийся по траве дым. Дым обвивал стволы деревьев, оседал на кустах, воровато подбираясь к ногам ребят. Дышать стало трудно. Люба закашлялась.
 - Стой здесь! - приказал Федор. - Надо толком разведать, - он исчез за толстыми стволами деревьев…
Люба стояла, обливаясь слезами; дым ел глаза, и она не заметила, когда вернулся Федор.
- Так и есть! Горит болото!
- Что теперь будет? - Люба с тревогой смотрела на Федора. - Семь километров - почти два часа ходу! До слободки, может, и успеем, а до Ряжевска - нет, затемно не дойти…
- Развела нюни! - сердито бросил Федор. - Пошли!
Некоторое время они шли молча. Люба понимала: Федор думает, как им быть теперь.
- Надо вот как… - Федор замедлил шаг. - Надо мне переночевать у вас… в слободке. А с утра двину в Ряжевск. Можно у вас переночевать? Тетка твоя пустит?
- Пустит, - неуверенно сказала Люба. -Я попрошу. ., Как же иначе? ..
- А что мы скажем ей про меня? Она же начнет спрашивать, кто я, почему вместе, куда иду?
Спрашивать будет… ей до всего дело..,
- Вот видишь… А что мы скажем?
- Давай вот так… Тетка ведь и про меня ничего не знает… Думает, что я всю войну в Ясенках сижу. Скажем ей, что и ты из Ясенок. Сирота… Идешь в Ряжевск к родственникам…
- Годится! - одобрил Федор. - Хоть и девчонка, но шарики у тебя, это само, вертятся. А теперь давай - полным ходом!
Они пошли быстрее, путь предстоял немалый, времени было только-только…
- Тетка-то у тебя добрая? - поинтересовался на всякий случай Федор.
- Разно бывает, - уклончиво сказала Люба и поторопилась перевести разговор на другое. - Интересно, как там ребята. Школа наша слободская знаешь какая была хорошая! И ребята такие дружные! У нас и учителя все хорошие были…
- Заливаешь! Такого не бывает, чтобы учителя - все хорошие! Хоть один да обязательной придирой окажется. ..
- Верно! - согласилась Люба.- У нас такой был-
Карл Францевич. Немецкий преподавал. Только ко мне он не придирался. К другим придирался, а ко мне нет. Даже хвалил меня. Я хорошо по немецкому училась…
Уже темнело, когда показались первые дома слободки. И хотя комендантский час еще не наступил, прохожих на улицах не было. Это испугало Федора. На безлюдной улице каждый прохожий как на юру - виден и запоминается.
- Пойдем врозь, - сказал он. - Ты впереди, я за тобой.
Прежде чем войти в дом, Люба прошлась по другой стороне улицы. Окно в теткином доме неярко светилось. В доме кто-то есть. Но кто? Вдруг у нее немцы поселились. ..
Она перешла дорогу и заглянула в окно. Тетя Клава сидела у стола в знакомой позе, приподняв слегка правую руку.
Люба вспомнила: подоив корову, поужинав, тетка всегда садилась гадать. Она долго тасовала карты и, прежде чем разложить их, суетливо крестилась и, тяжело вздыхая, скорбно шептала: «Господи, прости меня, грешную!»
Должно быть, тетка услышала тихий скрип калитки: не успела Люба постучать, как дверь раскрылась. Изумленная Клавдия Ивановна выронила из рук карты.
- Любонька! Господи! Вот и не верь картам! Мне в аккурат вчера вышла нежданная встреча! Дедка-то жив? Да что это ты с котомкой? - неожиданно всхлипнула Клавдия Ивановна. - Неужто побираешься? Дедушка-то жив, спрашиваю?
- Жив, жив, тетя Клава, Ваше как здоровье?
- Сама не знаю… Да чего мы в сенях-то?! Идем в горницу.
Не переставая всхлипывать и вздыхать, Клавдия Ивановна начала рассказывать:
- Кругом крутоверть! Кого в тюрьму, кого в лагеря, кого убили, а кого и возвысили. Учителя Карла Францевича помнишь?
- Конечно, помню. По-немецкому учил…
- Вот-вот! Теперь он в гестапе служит… А живет-то на прежней квартире, на соседней улице. Да ты его и сама увидишь, не на день ведь пришла, такую даль пешей отмахала…
- Погощу, коли не выгоните. Я, тетя Клава, не одна, - начала осторожно Люба. - Со мной мальчик один, Федя… из нашей деревни. Сирота…
- Какой такой мальчик? - глаза Клавдии Ивановны сразу стали колючими. - Чего ему делать здесь?
- Родственники у него в Ряжевске. Он к ним пробирается, а только не успеть ему засветло. Он только переночует… Вот он идет…
Клавдия Ивановна увидела в окно коренастого мальчонку. Котомка за спиной придавала ему вид горбуна.
- Здравствуйте, тетя Клава, - сказал Федор, переступив порог.
- Здрасте пожалуйста!-она бросила на мальчика недружелюбный взгляд. - Нашел себе тетю! Таких племянников с котомкой нынче не перечесть!
- И всем охота пить и есть! - Люба хотела шуткой смягчить жесткие слова тетки.
Тетка шутки не приняла.
- Ты что - с неба свалился? Новых законов не знаешь? Наперед зарегистрируйся в полиции, а потом уж просись ночевать. Мне за тебя голову терять не расчет. Может, у тебя в котомке бомба? Третева дни такой же обормот склад с немецкой амуницией поджег. На соседней улице! Сгорел как свеча. Теперь сыщики из гестапы с ног сбились, все какого-то мальчишку ищут…
- Здорово! - сказал Федор.
- Что здорово? - вскинулась Клавдия Ивановна.
- Парень этот… Такую диверсию. ..ив одиночку!
- Вона что! Одобряешь, значит! Нет, мне такой гость не с руки. Может, ты и с партизанами водишься…
- Что вы, тетя Клава! - вмешалась Люба. - С какими партизанами?! Я же его знаю… По соседству в деревне живем…
- Да нет, я не одобряю, - выкручивался Федор. - Партизан-то и в глаза не видел… От них только вред один… Из-за них немцы деревни сжигают…
- Он только переночует, тетя Клава! Утром уйдет, и все. Тетя Клава, вы же добрая, пустите его!
- Эка защитница нашлась! Тащи карту! - она протянула Федору замызганную колоду.
Удивленный Федор вытащил карту.
- Червонный валет! Ну, твое счастье. Загадала я:
если масть красная - оставлю, коли вини или крести - скатертью дорога!
- Ну вот, я же тебе говорила: она добрая! - сказала довольная Люба. - А может, покормишь нас, тетя Клава.
- Разносолов нету, а картошку сейчас поставлю. Сходи в огород, вона корзина стоит, набери полную огурчиков. Завтра снесешь с утра на базар, денег-то совсем нет… Лучку да редисочки захвати - поедим с картошечкой…
Люба вышла, а Клавдия Ивановна, тяжело вздыхая, принялась чистить картошку.
- Ты что же, и родился в Ясенках? - спросила она Федора.
- Ага, в Ясенках.
- А речка Быстрянка, поди, совсем обмелела?
- Обмелела, - сказал Федор твердо. - Даже рыба перевелась.
- А в церковь ходить немцы дозволяют?
- Это они дозволяют…
- Хорошая у вас церква, каменная… маковки золотые! За версту сияют!
- Церковь наша - что надо! - поддерживал разговор Федор, радуясь своей находчивости. - И маковки- что надо! Сияют! Аж глаза слепит!
- А священник у вас все тот же… отец Григорий?
- Ага… тот же… Григорий…
Вошла Люба с корзиной, полной огурцов.
- Такие огурчики, хорошие, крепенькие…
Навстречу ей поднялась разгневанная Клавдия Ивановна.
- Ты кого привела в мой дом? Он же в Ясенках сроду не бывал. Я ему нарочно проверку устроила. Ерунду плету, а он знай поддакивает. Речку Ушайку Быстрянкой называет. Про церкву врет! И не знает, что церква-то давным-давно сгорела и никакого попа у вас нет. Каков, а?!
- Тетя Клава, - начала Люба, - ты послушай…
- Нечего мне слушать! Пусть сейчас же проваливает!- она швырнула Федору котомку. - А с тобой,. Любка, разговор будет особый!
Подавленный Федор растерянно взглянул на Любу и направился к двери.
- Подожди! - закричала Люба. - Уйдем вместе. - Она тоже взяла котомку. - Прощайте, тетя Клава… больше вы меня не увидите! Пусть нас обоих заберут немцы!
- Ты что, ополоумела! Я тебе покажу «вместе»! Тебя заберут, так и мне несдобровать! - Клавдия Ивановна поспешно встала на пороге и раскинула руки, точно приготовила себя к распятью. - Я за тебя в ответе! Поняла?
- Тогда и Федора оставьте… А нет - я тоже уйду…
- Господи, да что же мне делать? Свалились на мою голову!-простонала Клавдия Ивановна, и лицо ее пошло красными пятнами. - Да ты чего стоишь-то?- выкрикнула она вдруг сердито. - На стол не можешь собрать! Ужинать ночью, что ли, будем?!
За ужином молчали. Федор не подымал глаз от тарелки. Он чувствовал на себе враждебный взгляд хозяйки и понимал, каково сейчас Любе. Ей, конечно, стыдно, что тетя Клава такая трусливая. Ему-то что! Утром он уйдет, только его и видели! А каково Любе жить у такой жабы?
После ужина тетка приказала ложиться спать.
- Ляжешь со мной, - сказала она Любе. - А этот, - кивнула тетка на Федора, - пусть стелется у печи на лавке… И утром чтоб духу его не было!..
Она принесла старое лоскутное одеяло и огромную подушку в розовой наволочке.
- Простыни не будет, обойдешься! - сказала она, швыряя на лавку постель.
Пощупав в кармане пистолет, Федор снял куртку, осторожно свернул и положил под подушку.
Клавдия Ивановна вскипела.
- Смотри, что делает! Грязную одежду под подушку! А стирать кто будет?! Ты?
Рванув куртку, она бросила ее в угол. Раздался тупой стук.
- Чем карманы набил, обормот непутевый? - зло уставилась на Федора Клавдия Ивановна. - Камни у тебя там, что ли?
У Любы перехватило дыхание: а ну как тетка сама посмотрит, что у Федора в кармане?
- Портсигар металлический у меня гам… Батин,- нашелся Федор. - Несу в Ряжевск… может, на хлеб сменяю…
- Врешь, поди! - Клавдия Ивановна покосилась на куртку. - Не для менки у тебя портсигар, сам куришь! По глазам вижу, что куришь! Не вздумай ночью дымить! Закуришь, среди ночи выгоню! Вот те крест - выгоню!
Она истово перекрестилась перед закопченной иконой. ..
«Скорее бы заснула, - думала Люба, лежа рядом с теткой и прислушиваясь к ее дыханию. Нет, тетка не спит, дышит ровно и тихо. Люба помнит, что во сне тетка всегда храпит. - Видно боится, что Федор ночью закурит и спалит дом. Ждет, когда мы заснем. Тогда она встанет за портсигаром».
Люба живо представила, как тетка неслышно встает с кровати, лезет в карман куртки и вытаскивает револьвер. От страха она бог знает что натворит! Побежит с револьвером к полицаям или к Карлу Францевичу. А тогда… Нет такого допустить нельзя, надо что-нибудь придумать…
Люба тихонько пошевельнулась.
- Ты чего? - мгновенно всполошилась тетка.- Клопы кусают?
- В горле пересохло. Вода в сенях?
- Ага… Ковшик над кадушкой… - отозвалась тетка и протяжно зевнула.
Люба слезла с кровати. Федор спал. Люба схватила куртку и вышла в сени. Нарочно бренча ковшом, чтобы слышала тетка, Люба вытащила пистолет, сунула его-в корзину под огурцы. Возвращаясь, она положила куртку на прежнее место и юркнула под одеяло.
- Стой здесь! - приказал Федор. - Надо толком разведать, - он исчез за толстыми стволами деревьев…
Люба стояла, обливаясь слезами; дым ел глаза, и она не заметила, когда вернулся Федор.
- Так и есть! Горит болото!
- Что теперь будет? - Люба с тревогой смотрела на Федора. - Семь километров - почти два часа ходу! До слободки, может, и успеем, а до Ряжевска - нет, затемно не дойти…
- Развела нюни! - сердито бросил Федор. - Пошли!
Некоторое время они шли молча. Люба понимала: Федор думает, как им быть теперь.
- Надо вот как… - Федор замедлил шаг. - Надо мне переночевать у вас… в слободке. А с утра двину в Ряжевск. Можно у вас переночевать? Тетка твоя пустит?
- Пустит, - неуверенно сказала Люба. -Я попрошу. ., Как же иначе? ..
- А что мы скажем ей про меня? Она же начнет спрашивать, кто я, почему вместе, куда иду?
Спрашивать будет… ей до всего дело..,
- Вот видишь… А что мы скажем?
- Давай вот так… Тетка ведь и про меня ничего не знает… Думает, что я всю войну в Ясенках сижу. Скажем ей, что и ты из Ясенок. Сирота… Идешь в Ряжевск к родственникам…
- Годится! - одобрил Федор. - Хоть и девчонка, но шарики у тебя, это само, вертятся. А теперь давай - полным ходом!
Они пошли быстрее, путь предстоял немалый, времени было только-только…
- Тетка-то у тебя добрая? - поинтересовался на всякий случай Федор.
- Разно бывает, - уклончиво сказала Люба и поторопилась перевести разговор на другое. - Интересно, как там ребята. Школа наша слободская знаешь какая была хорошая! И ребята такие дружные! У нас и учителя все хорошие были…
- Заливаешь! Такого не бывает, чтобы учителя - все хорошие! Хоть один да обязательной придирой окажется. ..
- Верно! - согласилась Люба.- У нас такой был-
Карл Францевич. Немецкий преподавал. Только ко мне он не придирался. К другим придирался, а ко мне нет. Даже хвалил меня. Я хорошо по немецкому училась…
Уже темнело, когда показались первые дома слободки. И хотя комендантский час еще не наступил, прохожих на улицах не было. Это испугало Федора. На безлюдной улице каждый прохожий как на юру - виден и запоминается.
- Пойдем врозь, - сказал он. - Ты впереди, я за тобой.
Прежде чем войти в дом, Люба прошлась по другой стороне улицы. Окно в теткином доме неярко светилось. В доме кто-то есть. Но кто? Вдруг у нее немцы поселились. ..
Она перешла дорогу и заглянула в окно. Тетя Клава сидела у стола в знакомой позе, приподняв слегка правую руку.
Люба вспомнила: подоив корову, поужинав, тетка всегда садилась гадать. Она долго тасовала карты и, прежде чем разложить их, суетливо крестилась и, тяжело вздыхая, скорбно шептала: «Господи, прости меня, грешную!»
Должно быть, тетка услышала тихий скрип калитки: не успела Люба постучать, как дверь раскрылась. Изумленная Клавдия Ивановна выронила из рук карты.
- Любонька! Господи! Вот и не верь картам! Мне в аккурат вчера вышла нежданная встреча! Дедка-то жив? Да что это ты с котомкой? - неожиданно всхлипнула Клавдия Ивановна. - Неужто побираешься? Дедушка-то жив, спрашиваю?
- Жив, жив, тетя Клава, Ваше как здоровье?
- Сама не знаю… Да чего мы в сенях-то?! Идем в горницу.
Не переставая всхлипывать и вздыхать, Клавдия Ивановна начала рассказывать:
- Кругом крутоверть! Кого в тюрьму, кого в лагеря, кого убили, а кого и возвысили. Учителя Карла Францевича помнишь?
- Конечно, помню. По-немецкому учил…
- Вот-вот! Теперь он в гестапе служит… А живет-то на прежней квартире, на соседней улице. Да ты его и сама увидишь, не на день ведь пришла, такую даль пешей отмахала…
- Погощу, коли не выгоните. Я, тетя Клава, не одна, - начала осторожно Люба. - Со мной мальчик один, Федя… из нашей деревни. Сирота…
- Какой такой мальчик? - глаза Клавдии Ивановны сразу стали колючими. - Чего ему делать здесь?
- Родственники у него в Ряжевске. Он к ним пробирается, а только не успеть ему засветло. Он только переночует… Вот он идет…
Клавдия Ивановна увидела в окно коренастого мальчонку. Котомка за спиной придавала ему вид горбуна.
- Здравствуйте, тетя Клава, - сказал Федор, переступив порог.
- Здрасте пожалуйста!-она бросила на мальчика недружелюбный взгляд. - Нашел себе тетю! Таких племянников с котомкой нынче не перечесть!
- И всем охота пить и есть! - Люба хотела шуткой смягчить жесткие слова тетки.
Тетка шутки не приняла.
- Ты что - с неба свалился? Новых законов не знаешь? Наперед зарегистрируйся в полиции, а потом уж просись ночевать. Мне за тебя голову терять не расчет. Может, у тебя в котомке бомба? Третева дни такой же обормот склад с немецкой амуницией поджег. На соседней улице! Сгорел как свеча. Теперь сыщики из гестапы с ног сбились, все какого-то мальчишку ищут…
- Здорово! - сказал Федор.
- Что здорово? - вскинулась Клавдия Ивановна.
- Парень этот… Такую диверсию. ..ив одиночку!
- Вона что! Одобряешь, значит! Нет, мне такой гость не с руки. Может, ты и с партизанами водишься…
- Что вы, тетя Клава! - вмешалась Люба. - С какими партизанами?! Я же его знаю… По соседству в деревне живем…
- Да нет, я не одобряю, - выкручивался Федор. - Партизан-то и в глаза не видел… От них только вред один… Из-за них немцы деревни сжигают…
- Он только переночует, тетя Клава! Утром уйдет, и все. Тетя Клава, вы же добрая, пустите его!
- Эка защитница нашлась! Тащи карту! - она протянула Федору замызганную колоду.
Удивленный Федор вытащил карту.
- Червонный валет! Ну, твое счастье. Загадала я:
если масть красная - оставлю, коли вини или крести - скатертью дорога!
- Ну вот, я же тебе говорила: она добрая! - сказала довольная Люба. - А может, покормишь нас, тетя Клава.
- Разносолов нету, а картошку сейчас поставлю. Сходи в огород, вона корзина стоит, набери полную огурчиков. Завтра снесешь с утра на базар, денег-то совсем нет… Лучку да редисочки захвати - поедим с картошечкой…
Люба вышла, а Клавдия Ивановна, тяжело вздыхая, принялась чистить картошку.
- Ты что же, и родился в Ясенках? - спросила она Федора.
- Ага, в Ясенках.
- А речка Быстрянка, поди, совсем обмелела?
- Обмелела, - сказал Федор твердо. - Даже рыба перевелась.
- А в церковь ходить немцы дозволяют?
- Это они дозволяют…
- Хорошая у вас церква, каменная… маковки золотые! За версту сияют!
- Церковь наша - что надо! - поддерживал разговор Федор, радуясь своей находчивости. - И маковки- что надо! Сияют! Аж глаза слепит!
- А священник у вас все тот же… отец Григорий?
- Ага… тот же… Григорий…
Вошла Люба с корзиной, полной огурцов.
- Такие огурчики, хорошие, крепенькие…
Навстречу ей поднялась разгневанная Клавдия Ивановна.
- Ты кого привела в мой дом? Он же в Ясенках сроду не бывал. Я ему нарочно проверку устроила. Ерунду плету, а он знай поддакивает. Речку Ушайку Быстрянкой называет. Про церкву врет! И не знает, что церква-то давным-давно сгорела и никакого попа у вас нет. Каков, а?!
- Тетя Клава, - начала Люба, - ты послушай…
- Нечего мне слушать! Пусть сейчас же проваливает!- она швырнула Федору котомку. - А с тобой,. Любка, разговор будет особый!
Подавленный Федор растерянно взглянул на Любу и направился к двери.
- Подожди! - закричала Люба. - Уйдем вместе. - Она тоже взяла котомку. - Прощайте, тетя Клава… больше вы меня не увидите! Пусть нас обоих заберут немцы!
- Ты что, ополоумела! Я тебе покажу «вместе»! Тебя заберут, так и мне несдобровать! - Клавдия Ивановна поспешно встала на пороге и раскинула руки, точно приготовила себя к распятью. - Я за тебя в ответе! Поняла?
- Тогда и Федора оставьте… А нет - я тоже уйду…
- Господи, да что же мне делать? Свалились на мою голову!-простонала Клавдия Ивановна, и лицо ее пошло красными пятнами. - Да ты чего стоишь-то?- выкрикнула она вдруг сердито. - На стол не можешь собрать! Ужинать ночью, что ли, будем?!
За ужином молчали. Федор не подымал глаз от тарелки. Он чувствовал на себе враждебный взгляд хозяйки и понимал, каково сейчас Любе. Ей, конечно, стыдно, что тетя Клава такая трусливая. Ему-то что! Утром он уйдет, только его и видели! А каково Любе жить у такой жабы?
После ужина тетка приказала ложиться спать.
- Ляжешь со мной, - сказала она Любе. - А этот, - кивнула тетка на Федора, - пусть стелется у печи на лавке… И утром чтоб духу его не было!..
Она принесла старое лоскутное одеяло и огромную подушку в розовой наволочке.
- Простыни не будет, обойдешься! - сказала она, швыряя на лавку постель.
Пощупав в кармане пистолет, Федор снял куртку, осторожно свернул и положил под подушку.
Клавдия Ивановна вскипела.
- Смотри, что делает! Грязную одежду под подушку! А стирать кто будет?! Ты?
Рванув куртку, она бросила ее в угол. Раздался тупой стук.
- Чем карманы набил, обормот непутевый? - зло уставилась на Федора Клавдия Ивановна. - Камни у тебя там, что ли?
У Любы перехватило дыхание: а ну как тетка сама посмотрит, что у Федора в кармане?
- Портсигар металлический у меня гам… Батин,- нашелся Федор. - Несу в Ряжевск… может, на хлеб сменяю…
- Врешь, поди! - Клавдия Ивановна покосилась на куртку. - Не для менки у тебя портсигар, сам куришь! По глазам вижу, что куришь! Не вздумай ночью дымить! Закуришь, среди ночи выгоню! Вот те крест - выгоню!
Она истово перекрестилась перед закопченной иконой. ..
«Скорее бы заснула, - думала Люба, лежа рядом с теткой и прислушиваясь к ее дыханию. Нет, тетка не спит, дышит ровно и тихо. Люба помнит, что во сне тетка всегда храпит. - Видно боится, что Федор ночью закурит и спалит дом. Ждет, когда мы заснем. Тогда она встанет за портсигаром».
Люба живо представила, как тетка неслышно встает с кровати, лезет в карман куртки и вытаскивает револьвер. От страха она бог знает что натворит! Побежит с револьвером к полицаям или к Карлу Францевичу. А тогда… Нет такого допустить нельзя, надо что-нибудь придумать…
Люба тихонько пошевельнулась.
- Ты чего? - мгновенно всполошилась тетка.- Клопы кусают?
- В горле пересохло. Вода в сенях?
- Ага… Ковшик над кадушкой… - отозвалась тетка и протяжно зевнула.
Люба слезла с кровати. Федор спал. Люба схватила куртку и вышла в сени. Нарочно бренча ковшом, чтобы слышала тетка, Люба вытащила пистолет, сунула его-в корзину под огурцы. Возвращаясь, она положила куртку на прежнее место и юркнула под одеяло.
* * *
Их разбудил громкий стук в дверь. Когда тетка и Люба выскочили из-за полога, Федор уже натягивал на себя рубаху. Тетка запричитала: - В такую рань… кого бы это? В дверь, не переставая, стучали. Клавдия Ивановна бросилась в сени. - Куртка! - прошептал Федор Любе. - Пистолет. .. В сенях послышались громкие голоса, распахнулась дверь, и в комнату вошли три гестаповца. В одном из них Люба узнала Карла Францевича. Посеревшая от страха Клавдия Ивановна прерывисто бормотала: - У меня все по закону… я приказы соблюдаю. Любоньку-то, племянницу мою, вы ведь знаете, Карл Францевич… У вас училась, девочка старательная… тихая… - Брось нудить! - прикрикнул бывший учитель немецкого языка. - Не в ней дело! Кто этот мальчишка? - Люба привела. Она за него в ответе. Я - по жалости. .. только до утра… вроде как дитя… - Дитя! А не это ли дитя подожгло склад? Покажи документы! - приказал он Федору. - Нету, дяденька, у меня документов, - плаксиво затянул Федор. - Староста сказывал, только с четырнадцати лет справки полагаются… - А тебе сколько? - Тринадцать минуло недавно… - Кто твой отец? Говори правду! - Фельдшером у меня был батя. Убило его в бомбежку. - Врешь! Мы точно знаем, что ты сын бывшего начальника ряжевской милиции. Ты поджег склад! Твоего отца повесили и тебя повесим! - Господи! - всплеснула руками Клавдия Ивановна и плюхнулась на скамью. - Что вы, господин офицер… - заныл Федор. - Я же тут никогда не бывал… В Ряжевск иду, к родственникам. .. Проверьте, коли не верите… - Мы с ним вместе пришли, Карл Францевич, - заговорила Люба. - Он в нашей деревне живет, в Ясенках. Ничего он не поджигал… - Из жалости пустила! -простонала Клавдия Ивановна. - Через доброту свою страдаю… - Собирайся! - приказал гестаповец Федору. - И ты тоже! - бросил он Любе. - Любоньку-то за что? - закричала Клавдия Ивановна. - Ничего ей не будет. Расскажет, что знает о мальчишке, и отпустим на все четыре стороны. Федор посмотрел на Любу. Она была бледна, в широко раскрытых темных глазах застыл страх. Федор ужаснулся. Конечно, она не выдержит! Расскажет про партизан. Разве может девчонка выдержать допрос в гестапо! - Долго вас ждать? - Карл Францевич взглянул на часы. - Одевайтесь! Федор потянулся было за курткой, но тут же опомнился. В гестапо его, конечно, обыщут… найдут пистолет. - Он круто повернулся к гестаповцу: - Я готов… - и шагнул к двери. - Одежку-то, одежку-то свою возьми! - всхлипывая, Клавдия Ивановна протянула ему куртку. - Какой забывчивый! - злая усмешка скривила губы Карла Францевича. Он что-то сказал по-немецки молчаливому ефрейтору, тот вырвал из рук Клавдии Ивановны куртку и зажал под мышкой. От страха у Федора пересохло в горле. - Эти хитрости нам известны, - донесся до него словно издалека голос Карла Францевича. - В одежде, конечно, зашит какой-нибудь партизанский документ. Не надейся, в гестапо находят все! Пошли! Оба немецких солдата разом поднялись со скамьи. - Курт, останешься здесь и сделаешь обыск, - приказал бывший учитель. - Арестованных отведу я и ефрейтор Шпильман. «Обыск! - Люба почувствовала, как внутри у нее все похолодело. - При обыске найдут в корзине оружие, обязательно найдут! И тогда - конец!» - Выходи! - резкий окрик гестаповца привел Любу в себя. Клавдия Ивановна завыла во весь голос. - Чего вы, тетя Клава, - заговорила Люба. - Вы же слышали, Карл Францевич меня отпустит. Я оттуда прямо на базар - с огурчиками. Позвольте мне, Карл Францевич захватить с собой корзиночку, чтобы успеть на базар. У тети и хлеба не на что купить. - Ладно, бери, и довольно разговаривать! Марш на улицу! Ефрейтор Шпильман схватил Федора за шиворот и потащил к выходу Следом Карл Францевич вывел Любу. Так они и шли по утренней безлюдной улице: впереди Шпильман тащил Федора, позади бывший учитель вел Любу. Федор шел, с трудом передвигая ноги. «Все про-пало!» - думал он в отчаянии. Пропало из-за его преступной глупости. Он нарушил приказ командира, взял с собой оружие. И теперь из-за этого - неминуемая гибель. Смерть ему, смерть Любе, смерть всем, кого он должен был спасти. И во всем виноват он, один он! Федору и в голову не приходило, что «вальтера» в куртке нет. Он живо представил себе, как гестаповец вытаскивает из кармана куртки пистолет. «Пытать! - приказывает он. - Пытать, пока не скажет, откуда оружие и где скрываются партизаны!» Люба шла позади. Корзинка с огурцами, казалось, жгла ей руку. Она думала только об одном, как избавиться от пистолета. Она верила Карлу Францевичу, что ее сразу же отпустят. Люба не сомневалась, что и Федора отпустят. Он знал, что нужно говорить. И все равно было очень страшно идти в гестапо, пряча в корзине оружие. Но как избавиться от него, если рядом шагает гестаповец и не спускает с тебя глаз?!
* * *
В гестапо им приказали сидеть в длинном полутемном коридоре и ждать Взяв у Шпильмана куртку, Карл Францевич скрылся за ближайшей дверью. Люба держала корзину на коленах и думала только об одном: как ей сказать Федору, что пистолета в куртке нет. Сидевший между ними насупленный Шпильман, казалось, не обращал на них никакого внимания. Люба решилась заговорить. - Куртку тебе вернут, - начала она. - В ней же… - Молчать! - рявкнул Шпильман и так дернул Любу за руку, что корзинка едва не свалилась на пол. От страха у Любы захлестнуло дыхание. Упади корзина с колен, пистолет будет немедленно обнаружен. Она с силой сжала ручку корзины. Напрасно пытался понять Федор, что хотела сказать Люба. Всю дорогу - от дома до полицейского управления - Федор тщетно старался придумать историю, объясняющую появление в его кармане немецкого пистолета. Все, что приходило ему в голову, выглядело нелепо и глупо. Снова и снова проклинал себя Федор за преступное легкомыслие. Еще вчера он был убежден, что его ослушание никакого вреда принести не может. Партизан с оружием-это сила, а безоружный - вроде девчонки, от него никакого толку! Только теперь он понял свою ужасную ошибку, ошибку, за которую придется расплачиваться жизнью… Дверь из кабинета начальника открылась, на пороге появился Карл Францевич. Он ткнул пальцем в сторону Федора и отрывисто приказал: - Входи! Федор, с трудом передвигая ноги, переступил через порог и увидел на столе то, во что превратилась его куртка. Она была распорота по швам, срезанные пуговицы валялись тут же, на столе. «А пистолет? - пронеслось в голове Федора, - где пистолет?» Он взглянул на человека, стоящего за столом. У немца было широкое розовое лицо, большая тяжелая голова без шеи, как бы всаженная в плечи… Немец смотрел на Федора пристально и молча, разглядывая его, точно какую вещь. Не спуская с него глаз, немец сунул руку в ящик стола. «Сейчас вытащит «вальтер»! - ужаснулся Федор. Немец не спешил. Опустив глаза, он разглядывал что-то в ящике, потом поднял глаза на Федора, снова заглянул в ящик и наконец повернулся к Карлу Францевичу: - Ничего общего, - сказал он по-немецки. И так же, как несколько секунд назад глаза его сверлили Федора, так теперь они буравили Карла Францевича. - Вы что, ослепли! Хватаете первых попавшихся сопляков, а настоящий преступник в это время уходит от нас все дальше и дальше! С чего вы взяли, что это он поджег склад? - Мне показалось, - он похож,- виновато пробормотал Карл Францевич. - На кого? - На сына начальника милиции, который поджег… Резким движением немец выхватил из ящика фотографию и швырнул ее на стол: - Смотрите, черт вас возьми! С фотографии беззаботно улыбался веселый мальчуган в пионерском галстуке. - Действительно… не похож… - испуганный Карл Францевич не заметил, что заговорил по-русски. Это привело гестаповца в ярость: - На каком языке вы со мной говорите? В отличие от вас, я не фольксдейч, а настоящий немец! Вы что, забыли об этом? Карл Францевич щелкнул каблуками и вытянул руки по швам. Гестаповец повернулся к Федору: - Откуда и куда идешь? Карл Францевич перевел вопрос. - Иду из деревни Ясенки в Ряжевск, господин офицер. - Почему ушел из деревни? Справка от старосты есть? - Матка померла… Никого у меня не осталось… Вот я, значит, и подался в Ряжевск. Дядька у меня там живет… Федор отвечал на вопросы немца гладко, как было условлено с командиром. Но, отвечая, он думал только об одном: когда же немец заговорит о пистолете. То, что фашист тянет и не упоминает о «вальтере», Федор объяснял жестокой хитростью немца: «Хочет, чтобы я мучился подольше…» - Зря теряю время! - сказал с упреком начальник.- На кой нам черт этот мальчишка?! Очередной побирушка! Вы, кажется, еще девчонку арестовали? Завидую вашей проницательности! - Я привел ее на всякий случай, как свидетельницу. .. - Мальчишка может убираться ко всем чертям! Введите девчонку… - Простите, господин гауптштурмфюрер, если мы отпускаем мальчишку, то зачем нам эта девчонка? Я ее хорошо знаю. Она местная. Агафонова. - Местная? Тем лучше - не надо проверять. Нам нужна поломойка. Уведите вашего «поджигателя», - начальник гестапо снова ехидно усмехнулся,- и давайте сюда девчонку. Федор не понимал, о чем говорят немцы, но не сомневался, что приближается развязка. - Марш за мной! - приказал Карл Францевич. Они вышли из кабинета, и Федор встретил тревожный взгляд Любы. Он шагнул к ней, но Карл Францевич дернул его в сторону. - Ступай прямо! Федор ничего не понимал: почему на допросе не спросили о пистолете? Куда его ведут? Что будет с Любой? Карл Францевич вывел его на крыльцо и приказал: - Жди Агафонову здесь. Попадешься мне еще раз - пеняй на себя! И вернулся в гестапо. Люба видела, как Карл Францевич увел Федора. Значит, Федора арестовали. За что? Конечно, он не проговорился, в этом Люба не сомневалась. Скорее всего, его задержали по подозрению в поджоге. А может быть, потому, что у него нет никаких документов и немцы не поверили, что ему тринадцать лет… Неожиданно появился Карл Францевич. - Ступай за мной! Не выпуская из рук корзины, Люба поспешно вскочила. - Куда ты с огурцами! - набросился на нее Карл Францевич. Эти русские - настоящие болваны. Идти к начальнику с огурцами! - Куда же мне девать ее, Карл Францевич? Я ведь обещала тете… - Ты есть действительно идиотка! Шпильман, она боится, что ты съешь ее огурцы! Солдат ухмыльнулся. - Оставь твои дурацкие огурцы здесь! Люба продолжала стоять, не выпуская корзины. - Да ты что! - глаза бывшего учителя налились злобой. - Не понимаешь? Под его свирепым взглядом Люба поставила корзину под скамью, на которой сидела. Карл Францевич втолкнул девочку в кабинет и захлопнул за собой дверь. Люба увидела за столом человека, у которого было розовым все лицо - щеки, лоб, уши. - Подойди ближе, - приказал Карл Францевич. Люба подошла к столу. - Сколько тебе лет? - Тринадцать… - С кем живешь? Где отец? - Сирота я… У тети живу… в слободке. Карл Францевич знают… Я у них по-немецки училась… - Ты умеешь говорить по-немецки? - Не-е, не успела выучиться… Война началась. Немного слов только знаю. - Вот что, - он навел на Любу толстый короткий палец. - Останешься здесь. Нам нужна уборщица. Приступай немедленно к работе. Вымой полы и окна. - Теперь он навел палец на Карла Францевича. - Проследите, чтобы работа была выполнена безукоризненно. За плохую работу она будет наказана.
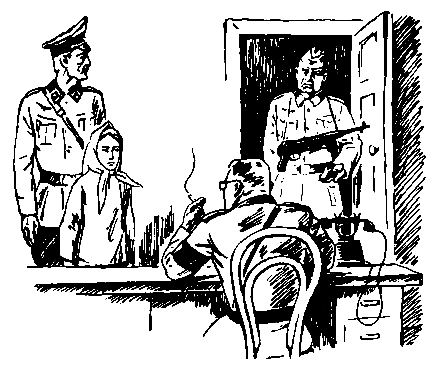 - Слушаюсь! - щелкнул каблуками Карл Францевич.
Он перевел Любе распоряжение начальника и добавил:
- Подожди в коридоре,пока я схожу за мальчишкой. Он ждет тебя на улице. Вдвоем вы уберете быстрее.
Люба не верила своим ушам: значит, Федор на свободе! Конечно, он уже по дороге к Семену Ильичу и завтра вернется в отряд. Какое счастье! И она, Люба, будет теперь работать в гестапо. Это ведь такая удача, такая удача!
Резкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. На пороге стоял Шпильман. На его ладони лежал «вальтер». ..
Сознание возвращается медленно, как бы толчками. Толчок… снова толчок… Как же все это было?
«Вальтер» на ладони немца…
- Вернуть мальчишку! - кричит гестаповец, и Карл Францевич выбегает из кабинета.
Удар по лицу валит Любу на пол. Над нею стоит гестаповец, держа в руках «вальтер». Он что-то орет по-немецки, Люба не понимает его. В ушах тонкий противный звон. Она пытается встать, но удар сапогом в грудь помутил ее сознание…
Она очнулась от крика. Гауптштурмфюрер орал на Карла Францевича. По растерянному виду бывшего учителя Люба поняла, что Федор исчез.
Заметив, что Люба открыла глаза, Карл Францевич что-то сказал гестаповцу.
- Встать! - крикнул тот, глядя с ненавистью на Любу.
Люба с трудом поднялась, но тут же пошатнулась и опустилась на стул.
- Хорошо, сиди, - разрешил Карл Францевич.- Сиди и слушай, что я тебе скажу. Ты должна говорить нам правду, только правду, и тогда тебе ничего не будет.
Мы же знаем, что ты не виновата… Ты слышишь, что я тебе говорю?
- Слышу…
- Сядь к столу. Не можешь подняться? Я помогу тебе… Вот так…
Он помог Любе дойти до стола. На столе поблескивал вороненой сталью «вальтер». Рядом лежали обойма и патроны.
- Заряди, - сказал бывший учитель. - Быстро! - он придвинул к ней пистолет и патроны.
Люба взяла пистолет, руки ее дрожали.
- Быстро, быстро! - выкрикнул теперь уже начальник.
Но Люба не знала, как заряжают «вальтер». Она вертела патроны, не понимая, что надо сделать, чтобы они оказались в пистолете… Немец пристально следил за движениями Любы и наконец ласково сказал:
- Вот видишь, девочка, пистолет не твой, ты даже не знаешь, как с ним обращаться. Ты ни в чем не виновата. Пистолет подкинул тебе мальчишка. Скажи, где его найти, и ступай домой. Ты нам не нужна.
Люба молчала.
- Ты слышала мои слова?
- Да…
- Пистолет тебе дал мальчишка?
- Нет…
- Откуда он у тебя?
- Нашла…
- Где нашла?
- На дороге…
- На какой дороге?
Опять этот противный звон в ушах. Немцы, стол и стулья - все начинает вдруг ползти к потолку…
- Открой глаза!
Жгучая боль… Это немец ткнул в ее руку дымящуюся сигарету.
- Ты знаешь, что мы делаем с теми, кто говорит неправду? Смотри!
Карл Францевич вытаскивает из папки большую фотографию и сует ее в лицо Любе.
- Смотри! С тобой будет то же!
Она видит на фотографии четыре виселицы. На каждой - труп…
- Ты будешь висеть так же! Если не скажешь правду, тебя завтра же вздернут! Откуда у тебя оружие?
- Нашла на дороге…
- Почему ты его не сдала немецким властям? Ты хотела кого-нибудь убить? Но ты не умеешь стрелять. Значит, ты его кому-то несла. Кому ты несла пистолет? Молчишь? Ну хорошо! Ты еще заговоришь! Хочешь, чтобы тебя отпустили сейчас?
- Хочу…
- Тогда говори, кто этот мальчишка? Куда он исчез? Почему он не стал дожидаться тебя и сбежал? Скажи, где его найти, и ступай домой. Мы знаем, ты хорошая девочка. Можешь идти домой, но скажи сначала, где сейчас этот мальчик!
«Привет вам от дедушки…» - вспоминает Люба.
- Ну? - это кричит гауптштурмфюрер. Он подходит к Любе, в губах его зажата сигарета. - Ну?! - он глубоко затягивается, и кончик сигареты вспыхивает злым раскаленным глазом. - Молчишь?! Сейчас я потушу сигарету о твои зрачки. Для тебя это будет луч-ше. Ты не увидишь веревки, на которой будешь болтаться!
- Не упрямься! - говорит Карл Францевич. - Мы все равно найдем его. Скажи, где он, и ступай на все четыре стороны…
«Привет вам от дедушки…»
Снова нависает над ней розовое лицо гестаповца.
Что было потом? Все путается… Сколько дней прошло с тех пор? Два? Десять? Сколько раз ее мучили? Все путается… ничего не вспомнить… Ничего… Каждый допрос начинался одинаково: «Скажи, где найти мальчишку? Куда он шел?» И каждый допрос кончался одинаково: ее втаскивали в камеру и швыряли на каменный пол.
Ночью из каждого угла камеры ей слышался голос гестаповца: «Откуда у тебя оружие? Где мальчишка? Скажи все, мы тебя отпустим…»
«Нет! Нет! Я забыла! Не помню! Не знаю! Нет!» А из черных углов камеры, заглушая все, липнет в ушах жирный голос гестаповца: «Скажи - и ты свободна. Будешь жить! Жить! Жить!»
- Нет! - выкрикивает она еще раз и проваливается в темноту.
- Слушаюсь! - щелкнул каблуками Карл Францевич.
Он перевел Любе распоряжение начальника и добавил:
- Подожди в коридоре,пока я схожу за мальчишкой. Он ждет тебя на улице. Вдвоем вы уберете быстрее.
Люба не верила своим ушам: значит, Федор на свободе! Конечно, он уже по дороге к Семену Ильичу и завтра вернется в отряд. Какое счастье! И она, Люба, будет теперь работать в гестапо. Это ведь такая удача, такая удача!
Резкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. На пороге стоял Шпильман. На его ладони лежал «вальтер». ..
Сознание возвращается медленно, как бы толчками. Толчок… снова толчок… Как же все это было?
«Вальтер» на ладони немца…
- Вернуть мальчишку! - кричит гестаповец, и Карл Францевич выбегает из кабинета.
Удар по лицу валит Любу на пол. Над нею стоит гестаповец, держа в руках «вальтер». Он что-то орет по-немецки, Люба не понимает его. В ушах тонкий противный звон. Она пытается встать, но удар сапогом в грудь помутил ее сознание…
Она очнулась от крика. Гауптштурмфюрер орал на Карла Францевича. По растерянному виду бывшего учителя Люба поняла, что Федор исчез.
Заметив, что Люба открыла глаза, Карл Францевич что-то сказал гестаповцу.
- Встать! - крикнул тот, глядя с ненавистью на Любу.
Люба с трудом поднялась, но тут же пошатнулась и опустилась на стул.
- Хорошо, сиди, - разрешил Карл Францевич.- Сиди и слушай, что я тебе скажу. Ты должна говорить нам правду, только правду, и тогда тебе ничего не будет.
Мы же знаем, что ты не виновата… Ты слышишь, что я тебе говорю?
- Слышу…
- Сядь к столу. Не можешь подняться? Я помогу тебе… Вот так…
Он помог Любе дойти до стола. На столе поблескивал вороненой сталью «вальтер». Рядом лежали обойма и патроны.
- Заряди, - сказал бывший учитель. - Быстро! - он придвинул к ней пистолет и патроны.
Люба взяла пистолет, руки ее дрожали.
- Быстро, быстро! - выкрикнул теперь уже начальник.
Но Люба не знала, как заряжают «вальтер». Она вертела патроны, не понимая, что надо сделать, чтобы они оказались в пистолете… Немец пристально следил за движениями Любы и наконец ласково сказал:
- Вот видишь, девочка, пистолет не твой, ты даже не знаешь, как с ним обращаться. Ты ни в чем не виновата. Пистолет подкинул тебе мальчишка. Скажи, где его найти, и ступай домой. Ты нам не нужна.
Люба молчала.
- Ты слышала мои слова?
- Да…
- Пистолет тебе дал мальчишка?
- Нет…
- Откуда он у тебя?
- Нашла…
- Где нашла?
- На дороге…
- На какой дороге?
Опять этот противный звон в ушах. Немцы, стол и стулья - все начинает вдруг ползти к потолку…
- Открой глаза!
Жгучая боль… Это немец ткнул в ее руку дымящуюся сигарету.
- Ты знаешь, что мы делаем с теми, кто говорит неправду? Смотри!
Карл Францевич вытаскивает из папки большую фотографию и сует ее в лицо Любе.
- Смотри! С тобой будет то же!
Она видит на фотографии четыре виселицы. На каждой - труп…
- Ты будешь висеть так же! Если не скажешь правду, тебя завтра же вздернут! Откуда у тебя оружие?
- Нашла на дороге…
- Почему ты его не сдала немецким властям? Ты хотела кого-нибудь убить? Но ты не умеешь стрелять. Значит, ты его кому-то несла. Кому ты несла пистолет? Молчишь? Ну хорошо! Ты еще заговоришь! Хочешь, чтобы тебя отпустили сейчас?
- Хочу…
- Тогда говори, кто этот мальчишка? Куда он исчез? Почему он не стал дожидаться тебя и сбежал? Скажи, где его найти, и ступай домой. Мы знаем, ты хорошая девочка. Можешь идти домой, но скажи сначала, где сейчас этот мальчик!
«Привет вам от дедушки…» - вспоминает Люба.
- Ну? - это кричит гауптштурмфюрер. Он подходит к Любе, в губах его зажата сигарета. - Ну?! - он глубоко затягивается, и кончик сигареты вспыхивает злым раскаленным глазом. - Молчишь?! Сейчас я потушу сигарету о твои зрачки. Для тебя это будет луч-ше. Ты не увидишь веревки, на которой будешь болтаться!
- Не упрямься! - говорит Карл Францевич. - Мы все равно найдем его. Скажи, где он, и ступай на все четыре стороны…
«Привет вам от дедушки…»
Снова нависает над ней розовое лицо гестаповца.
Что было потом? Все путается… Сколько дней прошло с тех пор? Два? Десять? Сколько раз ее мучили? Все путается… ничего не вспомнить… Ничего… Каждый допрос начинался одинаково: «Скажи, где найти мальчишку? Куда он шел?» И каждый допрос кончался одинаково: ее втаскивали в камеру и швыряли на каменный пол.
Ночью из каждого угла камеры ей слышался голос гестаповца: «Откуда у тебя оружие? Где мальчишка? Скажи все, мы тебя отпустим…»
«Нет! Нет! Я забыла! Не помню! Не знаю! Нет!» А из черных углов камеры, заглушая все, липнет в ушах жирный голос гестаповца: «Скажи - и ты свободна. Будешь жить! Жить! Жить!»
- Нет! - выкрикивает она еще раз и проваливается в темноту.
Звякнули ключи, заскрипела дверь камеры, и снова ожег выкрик: - На допрос!
Она очнулась от страшного грохота. Содрогнулась земля, покореженная фанера с треском вылетела из тюремного окна. В камеру хлынул слепящий свет. Превозмогая боль, Люба поползла к окну. От стены до окна - три метра… Целых четыре шага… четыре шага… Как это трудно… Она все-таки доползла до окна… Яростные гудки машин, выстрелы, вопли немцев не дали ей снова впасть в забытье. Она хотела подняться, взглянуть в окно, но ноги не слушались ее. Она упала на цементный пол и при свете, непрерывно меняющемся странном свете, увидела на полу большие бурые пятна. Люба так и не поняла, что эти пятна - ее запекшаяся кровь… Звон в ушах заглушил шум за окном. Цепляясь за стену, она все-таки поднялась, ей удалось ухватиться за решетку окна. Напротив горел взорванный дом. Немецкие солдаты выволакивали из развалин обгоревшие трупы эсэсовцев. «Один… два… три… - считала Люба, не думая, зачем она это делает. - Четыре… пять… шесть… - шевелились беззвучно ее губы, - семь… восемь… девять…» С воем выскочили из-за угла пожарные машины. Это было последнее, что услышала Люба. Пальцы ее разжались, она опустилась на пол и, не понимая, что сейчас кончается ее жизнь, почему-то вспомнила слова командира: «Быть может, ты приблизишь день нашей победы, хоть на минуту, да приблизишь…» Ей показалось, что она видит слепящий свет восходящего солнца, но это был последний отблеск пожара…
СМОТРЕТЬ ЗВЕРЮ В ГЛАЗА…
1
Я шел за ним следом, я знал, куда он идет. Сейчас он пересечет улицу Коммунаров (теперь она называется Герингштрассе), свернет в переулок и, пройдя его, окажется на базаре. Хромой, обросший бородой, он будет ходить среди торговцев барахлом, заговаривать с ними, слушать, о чем болтают бабы-спекулянтки, а потом внезапно исчезнет, точно его никогда и не было среди этого жалкого торжища. И снова я увижу его только ночью… Да, все так и было. Сначала он прицепился к старику. Старик держал на протянутой ладони желтый прозрачный мундштук и монотонно бормотал: - Янтарный мундштук… Янтарный мундштук… Янтарный мундштук… Бородач подошел к старику, взял сего ладони мундштук, понюхал, положил обратно и сказал негромко: - Люди кровь за Россию проливают, а ты что?! Мундштуками спекулируешь! Он пошел дальше, а старик, побелев от гнева, смотрел ему вслед, и на протянутой дрожащей ладони его подрагивал золотистый янтарь. Старик заметил меня и сказал: - Мальчик… мне семьдесят два года… дома у меня жена… парализованная… А человек, припадая на правую ногу, затерялся в толпе. Я поспешил за ним. Мне нельзя было терять хромого из виду, и я нашел его. Он слушал слепого скрипача, пиликавшего какой-то вальс. Слепой кончил играть, залихватски резанув смычком по струнам, и положил на землю грязную кепку без козырька. Никто не бросил ни одной марки, толпа растеклась. Я стоял за спиной музыканта и видел, как хромой приблизился к нему и сердито сказал: - Надо фашистов бить, а ты чирикаешь! Слепой, задохнувшись от ярости, замахнулся на него смычком, но хромой уже исчез в какой-то лавчонке. Теперь я мог не следить за ним. Я знал, что делать дальше. Я выбрался из базарной толпы и очень скоро оказался в парке, близ немецких казарм. После прихода немцев в наш украинский городок я еще не был в этом парке. До войны мы всем классом ходили сюда смотреть представления в цирке шапито. И в то лето, накануне войны, я тоже был в цирке. Город пестрел большими афишами: тигр прыгал на дрессировщика. А дрессировщик улыбался, потому что стоял спиной к зверю и не видел, что тот прыгает ему на спину… На аллее появился немецкий офицер. Он шел точно на параде - развернув плечи, высоко вскидывая ноги в блестящих лакированных сапогах. Офицер был красив, строен, на черном бархатном околыше его фуражки веселое солнце высвечивало белый оскаленный череп. Едва он поравнялся со мной, я вскочил со скамьи, вытянув вперед правую руку. Офицер, не останавливаясь, ответил мне фашистским приветствием. Я подо-ждал, пока он свернет в боковую аллею, сел на скамью, и снова воспоминания заслонили все, чем я жил последние дни.
 … В тот июньский вечер я был первым, кто ворвался под брезентовые своды шапито.
Свет разноцветных прожекторов заливал желтую арену цирка. На арене в золотистом блестящем трико, помахивая хлыстом, стоял дрессировщик. Перед ним на тумбе, злобно щурясь от яркого света, сидел тигр - красавец Самум. Какое это было зрелище! Тигр дрожал от ярости, фыркал, рычал и все же подчинялся человеку. Зверь становился на задние лапы, прыгал сквозь горящий обруч, позволял ездить на себе верхом, притворялся мертвым, катал по арене, точно котенок, красно-синий мяч. Наконец дрессировщик, отбросив помощнику хлыст, положил свою голову в огромную пасть зверя. Я похолодел, я представил себе, как, обливаясь кровью, человек упадет сейчас на желтый песок арены.
Этого не случилось. Но едва дрессировщик вынул из пасти свою голову, зверь издал рык, от которого все втянули головы в плечи. Была в том рыке и бессильная злоба, и бешеная ненависть, и смертельная угроза… Но артист, словно ничего не слыша, повернулся к тигру спиной и широко улыбнулся публике.
Я был зачарован этим зрелищем! Я смотрел на дрессировщика, как на божество, и мне казалось, нет на земле человека красивее и могущественнее его.
Представление кончилось, погасли разноцветные гирлянды, зрители разошлись. А я сидел на скамье в парке и ждал. Я не мог уйти, не посмотрев еще раз на него.
Он появился в потертом костюме, в кепке с пуговкой на макушке. Артист шел усталой походкой, припадая на правую ногу. Во время представления я не заметил, что он хромой.
Не понимаю, откуда у меня взялась такая смелость, но я подошел к нему и сказал:
- Возьмите меня в помощники… Я не испугаюсь…
Он вскинул на меня удивленный взгляд и остановился.
- Кого не испугаешься? - спросил он.
- Тигров…
- А что тебе известно о тиграх?
Не дожидаясь ответа, он пошел дальше. А я, не зная, что говорить, шел за ним следом и твердил каким-то деревянным голосом:
- Вы увидите… я не испугаюсь… не испугаюсь…
- Как тебя зовут?
- Андрей… Я перешел в девятый класс… скоро меня в комсомол примут…
Он посмотрел на меня внимательно:
- Что скажут твои родители, если ты бросишь школу?
- У меня нет родителей… я детдомовец…
- А ты представляешь, как опасно работать с тиграми?
- Представляю…
- Ты осмелишься положить голову в пасть тигра?
- Не знаю… Нет, не осмелюсь, - признался я.
- Тебе известно, что почти все дрессировщики искалечены хищниками?
- Вы же не искалечены, - сказал я.
- Разве ты не видишь, что я хромой?
- Это - тигр?
- Да… Тигр-людоед прыгнул мне на спину. Тигры-людоеды подлые! Они боятся человеческого взгляда и нападают со спины.
- Я не буду поворачиваться спиной к тигру, я буду смотреть зверю в глаза. Вы даже не заметите, если я испугаюсь… Я положу голову тигру в пасть… только научите меня быть дрессировщиком… Возьмите меня в помощники…
Нет, он не взял меня в помощники, но разрешил приходить к нему каждое утро и смотреть, как он дрессирует Самума. И как-то даже сказал мне:
- Не огорчайся… Кто знает… Может быть, мы и поработаем с тобой вместе когда-нибудь.
А через неделю началась война. И вот прошел почти год. Цирка нет, сгорел. И Самум погиб во время бомбежки.
Вблизи раздался выстрел. В городе теперь часто стреляли. Я услышал выстрел и рассердился на себя: нашел время вспоминать о тиграх! Разве об этом мне думать сейчас! Надо приниматься за дело!
Я вытащил из кармана карандаш, вчетверо сложенный листок бумаги, вырванный из школьной тетради, и начал писать печатными буквами, чтобы не узнали мой почерк. Когда на пожарной каланче часы пробили десять, я поставил последнюю точку и прочел написанное. Мне понравилось, как я написал. В левом верхнем углу листа я поставил дату: «14 мая 1942 года». А ниже, посредине строчки, написал крупно: «Начальнику полиции». А потом отступил на три строчки (так мы в классе писали сочинения: после заглавия пропускали три строчки) и написал главное: «Сообщает вам неизвестный. Сегодня я выследил коммуниста. Он ходил по базару, приставал к народу и стыдил, почему они не воюют с немцами. Он стыдил старика, который продавал желтый мундштук. Потом коммунист приставал к слепому скрипачу и тоже ругал его, зачем он не на фронте. Этот коммунист, видно, партизан или подпольщик. Я хотел за ним следить дальше, но он вдруг исчез.
Письмо не подписываю, потому что коммунисты-подпольщики убьют меня, если узнают, что я вам написал».
Я снова сложил вчетверо листок, сунул его в карман и пошел к своей бывшей школе. Теперь там помещалась полиция.
Чем ближе подходил я к школе, тем медленнее становился мой шаг. Еще издали я заметил у дверей школы приземистого полицая и узнал его по несуразно большой голове. До прихода немцев он был гардеробщиком в бане. Сейчас он стоял на часах и насвистывал старинную песню украинских казаков. Я знал эту песню, не раз мне певал ее покойный дед:
… В тот июньский вечер я был первым, кто ворвался под брезентовые своды шапито.
Свет разноцветных прожекторов заливал желтую арену цирка. На арене в золотистом блестящем трико, помахивая хлыстом, стоял дрессировщик. Перед ним на тумбе, злобно щурясь от яркого света, сидел тигр - красавец Самум. Какое это было зрелище! Тигр дрожал от ярости, фыркал, рычал и все же подчинялся человеку. Зверь становился на задние лапы, прыгал сквозь горящий обруч, позволял ездить на себе верхом, притворялся мертвым, катал по арене, точно котенок, красно-синий мяч. Наконец дрессировщик, отбросив помощнику хлыст, положил свою голову в огромную пасть зверя. Я похолодел, я представил себе, как, обливаясь кровью, человек упадет сейчас на желтый песок арены.
Этого не случилось. Но едва дрессировщик вынул из пасти свою голову, зверь издал рык, от которого все втянули головы в плечи. Была в том рыке и бессильная злоба, и бешеная ненависть, и смертельная угроза… Но артист, словно ничего не слыша, повернулся к тигру спиной и широко улыбнулся публике.
Я был зачарован этим зрелищем! Я смотрел на дрессировщика, как на божество, и мне казалось, нет на земле человека красивее и могущественнее его.
Представление кончилось, погасли разноцветные гирлянды, зрители разошлись. А я сидел на скамье в парке и ждал. Я не мог уйти, не посмотрев еще раз на него.
Он появился в потертом костюме, в кепке с пуговкой на макушке. Артист шел усталой походкой, припадая на правую ногу. Во время представления я не заметил, что он хромой.
Не понимаю, откуда у меня взялась такая смелость, но я подошел к нему и сказал:
- Возьмите меня в помощники… Я не испугаюсь…
Он вскинул на меня удивленный взгляд и остановился.
- Кого не испугаешься? - спросил он.
- Тигров…
- А что тебе известно о тиграх?
Не дожидаясь ответа, он пошел дальше. А я, не зная, что говорить, шел за ним следом и твердил каким-то деревянным голосом:
- Вы увидите… я не испугаюсь… не испугаюсь…
- Как тебя зовут?
- Андрей… Я перешел в девятый класс… скоро меня в комсомол примут…
Он посмотрел на меня внимательно:
- Что скажут твои родители, если ты бросишь школу?
- У меня нет родителей… я детдомовец…
- А ты представляешь, как опасно работать с тиграми?
- Представляю…
- Ты осмелишься положить голову в пасть тигра?
- Не знаю… Нет, не осмелюсь, - признался я.
- Тебе известно, что почти все дрессировщики искалечены хищниками?
- Вы же не искалечены, - сказал я.
- Разве ты не видишь, что я хромой?
- Это - тигр?
- Да… Тигр-людоед прыгнул мне на спину. Тигры-людоеды подлые! Они боятся человеческого взгляда и нападают со спины.
- Я не буду поворачиваться спиной к тигру, я буду смотреть зверю в глаза. Вы даже не заметите, если я испугаюсь… Я положу голову тигру в пасть… только научите меня быть дрессировщиком… Возьмите меня в помощники…
Нет, он не взял меня в помощники, но разрешил приходить к нему каждое утро и смотреть, как он дрессирует Самума. И как-то даже сказал мне:
- Не огорчайся… Кто знает… Может быть, мы и поработаем с тобой вместе когда-нибудь.
А через неделю началась война. И вот прошел почти год. Цирка нет, сгорел. И Самум погиб во время бомбежки.
Вблизи раздался выстрел. В городе теперь часто стреляли. Я услышал выстрел и рассердился на себя: нашел время вспоминать о тиграх! Разве об этом мне думать сейчас! Надо приниматься за дело!
Я вытащил из кармана карандаш, вчетверо сложенный листок бумаги, вырванный из школьной тетради, и начал писать печатными буквами, чтобы не узнали мой почерк. Когда на пожарной каланче часы пробили десять, я поставил последнюю точку и прочел написанное. Мне понравилось, как я написал. В левом верхнем углу листа я поставил дату: «14 мая 1942 года». А ниже, посредине строчки, написал крупно: «Начальнику полиции». А потом отступил на три строчки (так мы в классе писали сочинения: после заглавия пропускали три строчки) и написал главное: «Сообщает вам неизвестный. Сегодня я выследил коммуниста. Он ходил по базару, приставал к народу и стыдил, почему они не воюют с немцами. Он стыдил старика, который продавал желтый мундштук. Потом коммунист приставал к слепому скрипачу и тоже ругал его, зачем он не на фронте. Этот коммунист, видно, партизан или подпольщик. Я хотел за ним следить дальше, но он вдруг исчез.
Письмо не подписываю, потому что коммунисты-подпольщики убьют меня, если узнают, что я вам написал».
Я снова сложил вчетверо листок, сунул его в карман и пошел к своей бывшей школе. Теперь там помещалась полиция.
Чем ближе подходил я к школе, тем медленнее становился мой шаг. Еще издали я заметил у дверей школы приземистого полицая и узнал его по несуразно большой голове. До прихода немцев он был гардеробщиком в бане. Сейчас он стоял на часах и насвистывал старинную песню украинских казаков. Я знал эту песню, не раз мне певал ее покойный дед:
2
Начальник полиции чудовищно косил - зрачки его глаз сходились у самой переносицы, оставляя на виду белки с кровавыми прожилками. Он сидел в кресле, большой, грузный, ему было жарко, круглое бабье лицо его лоснилось от пота. - Когда это было? - спросил он, сунув мое письмо в ящик. - Сегодня, пан начальник. - Я спрашиваю, во сколько часов это было? - У меня нет часов, пан начальник. Только я помню, пан начальник, что на городских часах было начало девятого… Он взглянул на часы. - Сейчас - одиннадцатый… Делай так, Шевчук,- начальник повернулся к полицаю. - Бери пацана и дуй с ним на барахолку. Пусть укажет того старика с мундштуком и того слепца со скрипкой. Если слова его подтвердятся, вертайся с пацаном сюда. Не подтвердятся - вези сразу в лагерь, чтобы не шутковал боле с властями! Ступай, Шевчук! Мне повезло. Старик и скрипач стояли на прежних местах. Старик, как и утром, бормотал все те же два слова: «Янтарный мундштук… янтарный мундштук». Слепой пиликал свой бойкий танец. Другое играть он, видно, не умел. Без всякого труда полицай убедился, что в моем письме нет ни одного лживого слова. - Твое счастье!-сказал Шевчук. - А то бы!.. Пошли к начальнику.
3
На моей руке часы - подарок начальника полиции. Часы идут не очень хорошо,.потому что они старые. Их сняли с руки расстрелянной комсомолки. Заодно расстреляли и ее бабушку, у которой она пряталась. Перед расстрелом е комсомолки сняли часы, а со старухи - крестик серебряный. Часы начальник полиции подарил мне, а крестик повесил на шею своей маленькой дочери. Пан начальник приказал мне торчать на базаре, следить, не появится ли Бородач. Еще он приказал сообщать ему лично о всех, кто говорит против нового порядка, против немцев. Он спросил, где я живу, кто мои родители. Я сказал, что я сирота, а живу на базаре, в заброшенной лавчонке. Тогда начальник распорядился, чтобы мне дали деньги на еду, и приказал поместить меня в общежитие к пожарникам.
Начальника полиции еще не было, он являлся в девять часов. Он знал: больше всего на свете немцы ценят аккуратность. И в девять часов - минута в минуту - начальник всегда сидел за своим столом. А теперь было только восемь. Гусев, не переставая курить вонючие эрзац-сигаретки, нетерпеливо ходил из конца в конец небольшого школьного коридора. Черт возьми! Ему и на этот раз есть что сказать! Не зря его отмечают немцы, не зря платят деньги. После сегодняшней информации его опять чем-нибудь премируют. Только бы не деньгами! На эти немецкие марки ничего не купишь. Марки ему не нужны. Ему нужно другое. Начальник, конечно, согласится… Допотопные школьные часы зашипели злобным змеиным шипом - они собирались ударить девять раз. Дверь в коридор открылась. Увидев знакомую фигуру начальника, Гусев поспешно швырнул в плевательницу недокуренную сигаретку. - К вам я, пан начальник. Серьезное дело. Секретное. Начальник, не останавливаясь, молча мотнул головой в сторону своего кабинета. Они вошли в комнату. - Говори свои секреты, - начальник вытащил из папки лист бумаги и обмакнул перо в чернильницу.- Говори, пан Гусев, рассказывай. - Хочу сигнализировать… - приглушенным голосом начал Гусев. - Насчет мальчишки… - Какого мальчишки? - Колпаков ему фамилия. Андрей Колпаков… Начальник насторожился. - Откуда его знаешь? - Левый глаз начальника уперся в дверную ручку, и Гусев понял, что начальник смотрит на него в упор. - По Дому пионеров знаю. В моем кружке был. - В каком таком кружке? - Киномехаников. - Ну и что? - Я думал, он тягу дал с большевиками, а вчера смотрю - он по базару шастает… - А чего ему бежать с красными, этому Колпакову? Он что, еврей или комсомолец? - А то, что он перед самой войной заявление подавал в комсомол. И в том заявлении клялся, что готов жизнь свою отдать, если того потребует Советская Родина. Я то заявление своими глазами читал, пан начальник. - Не брешешь? - Обижаете, пан начальник. Сами знаете, моя информация завсегда в точку. - Это верно. - Начальник вытер полосатым платком вспотевшую шею. Он еще не знал, как реагировать на донос Гусева. Конечно, заявление в комсомол - это улика. Но, с другой стороны, разве не подтвердился донос мальчишки о партизане, который баламутит народ на базаре? Тут спешить нельзя, следует сначала разобраться… - Еще чего скажешь? - спросил начальник. - Следить за ним надо. Глаз не спускать. Через него мы на след можем напасть… - На какой след? - Облысеть мне на этом месте, если он не связан с красными бандюгами! Ноздрей чую - связан! Про лысину Гусев ляпнул, не подумав. На сверкающей слоновой костью голове начальника не было ни единого волоса. - Все изложил? - начальник поднялся со стула. Теперь Гусев уже не понимал, куда смотрит начальник- на него или на дверь. Больше походило, что на дверь. Собравшись с духом, Гусев сказал: - Просьба у меня к вам, пан начальник… - Излагай .. - Возьмите меня на службу. В полицию. От меня польза будет. Ей-бо! Не пожалеете! - Ступай. Подумаю. Теперь Гусев не сомневался: пан начальник смотрел на дверь. Оставшись один, начальник провел пухлой рукой по лысине и задумался. Действительно, с этим мальчишкой не все гладко. Сколько времени прошло, а толку никакого. Бородача не нашел. Ни о ком ничего не сообщает. Шастает целыми днями. А где? Никто не знает! В комсомол рвался. Не может ему быть полного доверия. Надо следить за ним. Только чтобы аккуратно. Может, и верно наведет на след…
4
… Снова я бродил по базару все утро, но Бородача, конечно, не встретил. Тогда я пошел в городской клуб. Раньше это был клуб имени Октябрьской революции, а теперь его сделали клубом для немецких офицеров. Я пошел в этот клуб, чтобы повидать киномеханика Трофима Семеновича Гусева. До войны он вел у нас в Доме пионеров кружок. Я в том кружке считался самым первым и несколько раз самостоятельно крутил для ребят картины. Когда пришли немцы, Гусева арестовали. На первом же допросе он сказал, где скрывается директор Дома пионеров. Директор был коммунист, его повесили, а Гусева выпустили из гестапо. Не зря выпустили. Потому что вскоре, он заметил на улице знакомую комсомолку, пошел за ней следом и узнал, у кого она прячется. Часы этой комсомолки теперь на моей руке… Я застал Трофима Семеновича в его кинобудке. Он наматывал на бобину кинопленку. Я поздоровался, а он вместо приветствия сказал: - Интересное кино вечером будет. «Дранг нах ост! - Путь на Восток» называется. - Вот бы посмотреть! - вздохнул я. Он даже засмеялся: - За малым дело: стань немецким офицером и смотри, сколько хочешь! Я тоже засмеялся. А потом стал свертывать цигарку из махорки. Раньше я никогда не курил - и у меня получилась очень большая и неуклюжая закрутка. - Откуда табачок? - спросил Гусев. - Опротивели мне сигаретки. Ни вкуса, ни крепости! - Тетка продает у входа в клуб. Махра - первый сорт! - Ну да? Сиди, я зараз! Он бросился вниз, а я остался в будке один… Гусев вернулся злой. Торговки внизу не оказалось. - Ладно, - сжалился я. - Будет вам табак… Я отсыпал ему махры закруток на пять и ушел… Шевчук, как всегда, сидел в дежурке. Я доложил, что того Бородача пока что не обнаружил, но заметил подозрительное в кинобудке: когда я вошел к Гусеву, он быстро сунул за кресло какую-то бумагу. При этом Гусев побледнел и у него тряслись руки. - Тут дело нечисто, - сказал я. Шевчук подергал свои жиденькие усы и обозвал меня дурнем: Гусев человек проверенный. Ему даже разрешено носить огнестрельное оружие, потому что на его жизнь уже раз покушались подпольщики. Но все-таки Шевчук доложил о моих словах пану начальнику. Пан начальник тоже сказал, что я дурень. - В комсомоле состоял? - неожиданно спросил он меня. - Заявление подавал, - признался я. - Заставили. - Кто заставил? - Директор детдома. Грозил, что выгонит на улицу, если не подам… - Ладно, - сказал начальник, тяжело дыша. - Об этом разговор впереди. Завтра мы проверим, какой ты есть сыщик. Проверим, - зловеще повторил он, и зрачки его юркнули в переносицу. Назавтра я пришел в полицейское управление ровно в девять. Шевчук сразу же потащил меня к пану начальнику, а пан начальник, как увидел меня, даже привстал со своего кресла и долго тряс мою руку. Оказывается, он на всякий случай сообщил в гестапо о моих подозрениях. Гестаповцы сделали у Гусева обыск и нашли в будке за старым креслом партизанскую листовку. Листовка кончалась словами: «Смерть немецким оккупантам!». - Гусев этот оборотнем оказался! Прикидывался, значит, своим, а сам оговаривал, под петлю подводил наших же людей. Во гадюка! - негодовал начальник. - Признался? - спросил я. - Невинным прикидывается. Дескать, ничего не знаю, я не я и лошадь не моя! Только ведь в гестапо и не таким языки развязывали! А тебе, Андрей, благодарность от меня лично. Если есть просьба какая - говори. Тогда я сказал, что у меня есть просьба: хочу работать киномехаником в офицерском клубе. Вместо Гусева. Пан начальник заверил, что завтра же уговорит штурмбаннфюрера взять меня в клуб. - По вечерам будешь картины показывать, а днем с тебя приказ не снимается. Бородач должен быть найден! Я сказал, что обшарю весь город, а Бородача найду, обязательно найду… Пан начальник улыбнулся, довольный. И хотя мне было страшно, я пересилил себя и взглянул в его белки с кровавыми прожилками…
5
Я работал в офицерском клубе уже десять дней, и мною были довольны. У меня не рвалась пленка и кадры всегда были в рамке. Накануне первого мая меня вызвали к начальнику полиции. Я вошел к нему и увидел сидящего на диване гестаповского офицера. Это был тот самый офицер, которого я приветствовал в парке. Я и сейчас, увидя его, вскинул правую руку вперед и громко сказал: - Хайль Гитлер! - Хайль! - воскликнул поспешно пан начальник. А немецкий офицер ничего не сказал, только пристально посмотрел на меня. Я стоял и ждал. А офицер не спу-скал с меня глаз, и я понял: он старается вспомнить, где меня видел. Должно быть, он не мог вспомнить, и оттого глаза его становились все злее и злее. Наконец он заговорил: - Первого мая ты покажешь одну новую картину. В клубе будет один большой вечер. Туда придут важные офицеры. На этом сеансе все должно быть отлично! Ты меня понял? Офицер говорил по-русски, и я все понял, конечно. - В твоей будке не должно быть никого постороннего. Иначе ты будешь расстрелян как заговорщик. Ты меня понял? - Так точно, господин штурмбаннфюрер, я вас понял. - Тогда ступай и помни мои строгие указания. И я ушел…
- Значит, Колпаков сегодня не ночевал в общежитии? - Не ночевал, пан начальник. - Где же он был? - Того не можу знать, пан начальник. Я за ним, как вы приказали, следил до вечера, пока он не вернулся в общежитие. - Значит, не знаешь?! - Начальник был в гневе.- В случае чего башкой ответишь! Опять бандюги ночью листовки расклеили! Таку саму, как нашли у Гусева. .. - Это как же понимать, пан начальник! Гусева нет, а листовки клеют… - Черт его знает! Голова кругом идет! Может, зря нашего Гусева того.. . поспешили, так сказать… - В гестапо завсегда торопятся… - Это ты брось! Таких разговоров чтоб я не слышал! С большевиками чикаться нечего! А только я думаю другое… Мне другое подозрительно… Шевчук молча выжидал, что скажет пан начальниц. - С чего Гусеву было связываться с подпольщиками? На что рассчитывал? Им же про него все известно. Они его убить пытались. А? - Ума не приложу, пан начальник. С чего бы ему? - Вот и мучит меня догадка… - Какая, пан начальник? - А вдруг Гусев говорил правду? Про Колпакова? Неужели мальчишка обвел нас? Подпольщикам не удалось, а ему, крысенышу, удалось! Заставил нас повесить нашего же человека! Гусева! Такого работника! Ручаюсь, ту листовку ему подбросил сам Колпаков! У Шевчука от изумления отвисла челюсть. - Господи, царица небесная! - Обвел, обвел, сукин сын! - Лицо начальника стало багровым. - Сейчас я его притащу! - Шевчук бросился к дверям.- Я из него правду коленом выдавлю! - Стой! Повремени! До ночи. А уж тогда… - До ночи? - Шевчук непонимающе смотрел на начальника,- Чего откладывать? - Сегодня праздничный концерт для господ немецких офицеров. Этот крысеныш будет вечером крутить там картину. Сам же я его устроил туда! Ручался за него господину штурмбаннфюреру! Подпольщика - в офицерский клуб! А? В гестапо из меня за такое жилы вытянут. .. И семью в распыл пустят! А? Он ждал утешающих слов от своего помощника, но Шевчук, ошеломленный предположениями начальника, тоже не знал, как теперь быть. - Безвыходное положение, - сказал он уныло. - Без паники! - сердито бросил начальник. - Слушай в оба! Немцы о наших подозрениях ничего не должны знать. Сегодня вечером мальчишка открутит свою картину, а после ты проводишь его в общежитие к пожарникам. .. И там с ним случится беда. Крысенок попадет под пожарную машину. Кумекаешь? - Эге ж! Неплохо придумано! - Плохо нам нельзя! - самодовольно сказал начальник.- Сейчас отправляюсь к господину штурмбаннфюреру. Получу на тебя пропуск в клуб. Чтобы ты находился весь вечер с ним в будке. Понял? Как только он кончит крутить, выйдешь с ним и доведешь его до общежития. Там мы его встретим, как положено… Уяснил? - Эге ж!-крякнул повеселевший Шевчук. - Будьте уверены - приведу! Не таких скручивал!
6
За час до начала в моей будке появился Шевчук. От него несло водкой. Я сказал, чтобы он немедленно уходил, потому что сегодня в будке нельзя находиться посторонним - и у меня из-за этого будут очень большие неприятности. Но Шевчук засмеялся и сказал: «Неприятностей у тебя больше не будет, об этом мы уже позаботились». И он показал мне специальный пропуск во все помещения офицерского клуба. - Послали, чтобы, в случае чего, оказать тебе помощь,- объяснил он, глядя на меня ласково… Сеанс начинался в двадцать один час, а в двадцать часов пятьдесят пять минут все уже сидели на своих местах. Я сосчитал: сто сорок три немца, из них - один генерал. Генерал в обществе двух полковников и начальника гестапо сидел в единственной ложе нашего клуба. Начальник гестапо не переставая что-то говорил, а генерал, широко открыв рот, откинувшись на спинку кресла, покатывался со смеху.
 Я смотрел, как смеется генерал, и тоже улыбался…
. Ровно в двадцать один час в зале стало темно, я запустил картину. Это был фильм о Польше. Как армия фюрера завоевывала Польшу. На экране рвались снаряды, выли пикирующие бомбардировщики, рушились с грохотом дома, полыхали пожары, падали убитые, в ужасе метались живые. В конце картины на экране появился фюрер. Все вскочили и трижды выкрикнули:
- Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!
Фильм окончился. Через десять минут должен был начаться концерт, а после концерта мне следовало показать еще один фильм - встречу Гитлера с Муссолини.
В будке было жарко. Я снял с себя куртку, рубаху и остался в одной майке.
- Распарило?- спросил весело Шевчук. - Ничего, вот выйдем на улицу - охладишься.
- Душно, - подтвердил я. - Будь ласка, пан Шевчук, помоги мне перемотать пленку.
Я вынул из коробки пленку и ахнул.
- Что стряслось? - спросил Шевчук.
- Дали рваную пленку. Ну, будет им завтра!
Я это безобразие так не оставлю! Сообщу, куда полагается!
- Чего ж теперь делать? - поинтересовался Шевчук.- Рваную, что ли, пустишь?
- Склею. Это быстро! - Я открыл дверку шкафа. И снова меня ждала неудача.
- А черт! Клей кончился! - сказал я с досадой и швырнул пустую бутылку в угол. - Хорошо, что в кладовой есть запасная. Придется бежать в кладовую.
- Где ж та кладовая? - с лица Шевчука исчезла улыбка.
- В подвале. Только бы кладовщик был на месте!
Последние мои слова Шевчук, может быть, и не разобрал: духовой оркестр немецкого гарнизона грянул военный марш. Шевчук бросил взгляд на крюк, где висели мои куртка и рубаха.
- Одеваться не стоит, - сказал я. - Только куртку накину. Здесь близко.
- Только чтобы быстро! - На лице Шевчука мелькнула ухмылка.
Я вышел в полутемный коридор. Надрывались медные трубы оркестра, ухали барабаны, взвизгивала противно флейта.
Через минуту я был уже на улице, но даже здесь был слышен этот гнусавый визг флейты.
Черная густая ночь придавила мне плечи, Я двигался почти ощупью, едва передвигая ноги. Не знаю, что со мной случилось, но мне вдруг захотелось спать, ужасно захотелось спать. Я не сомневался: стоит сейчас прислониться к чему-нибудь - и я мгновенно усну. Нет, мне нельзя было останавливаться, я шел и шел, пока не оказался на пустынной окраине города.
Я смотрел, как смеется генерал, и тоже улыбался…
. Ровно в двадцать один час в зале стало темно, я запустил картину. Это был фильм о Польше. Как армия фюрера завоевывала Польшу. На экране рвались снаряды, выли пикирующие бомбардировщики, рушились с грохотом дома, полыхали пожары, падали убитые, в ужасе метались живые. В конце картины на экране появился фюрер. Все вскочили и трижды выкрикнули:
- Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!
Фильм окончился. Через десять минут должен был начаться концерт, а после концерта мне следовало показать еще один фильм - встречу Гитлера с Муссолини.
В будке было жарко. Я снял с себя куртку, рубаху и остался в одной майке.
- Распарило?- спросил весело Шевчук. - Ничего, вот выйдем на улицу - охладишься.
- Душно, - подтвердил я. - Будь ласка, пан Шевчук, помоги мне перемотать пленку.
Я вынул из коробки пленку и ахнул.
- Что стряслось? - спросил Шевчук.
- Дали рваную пленку. Ну, будет им завтра!
Я это безобразие так не оставлю! Сообщу, куда полагается!
- Чего ж теперь делать? - поинтересовался Шевчук.- Рваную, что ли, пустишь?
- Склею. Это быстро! - Я открыл дверку шкафа. И снова меня ждала неудача.
- А черт! Клей кончился! - сказал я с досадой и швырнул пустую бутылку в угол. - Хорошо, что в кладовой есть запасная. Придется бежать в кладовую.
- Где ж та кладовая? - с лица Шевчука исчезла улыбка.
- В подвале. Только бы кладовщик был на месте!
Последние мои слова Шевчук, может быть, и не разобрал: духовой оркестр немецкого гарнизона грянул военный марш. Шевчук бросил взгляд на крюк, где висели мои куртка и рубаха.
- Одеваться не стоит, - сказал я. - Только куртку накину. Здесь близко.
- Только чтобы быстро! - На лице Шевчука мелькнула ухмылка.
Я вышел в полутемный коридор. Надрывались медные трубы оркестра, ухали барабаны, взвизгивала противно флейта.
Через минуту я был уже на улице, но даже здесь был слышен этот гнусавый визг флейты.
Черная густая ночь придавила мне плечи, Я двигался почти ощупью, едва передвигая ноги. Не знаю, что со мной случилось, но мне вдруг захотелось спать, ужасно захотелось спать. Я не сомневался: стоит сейчас прислониться к чему-нибудь - и я мгновенно усну. Нет, мне нельзя было останавливаться, я шел и шел, пока не оказался на пустынной окраине города.
 И здесь я услышал отдаленный грохот двух взрывов, один за другим! Точно такой же грохот тридцать - сорок минут назад сотрясал на экране маленькие города Польши.
И, глядя на экран, немецкие офицеры восторженно кричали: «Зиг хайль!».
Взрывы точно разбудили меня, и я побежал по кривым закоулкам пригорода. На повороте я оглянулся и увидел далеко в городе огненный столб, словно смерч, подпирающий черное небо. Багровый дым пожарища затягивал звезды и отбрасывал на землю розоватую тень. Я добежал до знакомого дома, дверь была открыта, меня ждали. Человек, лицо его в темноте нельзя было рассмотреть, сжал меня в объятиях, и я почувствовал на щеке прикосновение его шершавых губ.
- Сработали! Обе сработали!…- восторженно прошептал он. - Какой взрыв! Какой отличный первомайский салют!..
…И вот мы сидим в темноте у окна, не отрывая глаз от багровых клубов дыма.
- Ты подложил их, как условились? - спрашивает человек.
- Да… Одну в ложу, где сидел генерал, другую в свою будку, за кресло…
- За кресло?
- Да. За то самое, куда я запихал в тот раз партизанскую листовку «Смерть немецким оккупантам!»
- Я уже сообщил куда следует, что ты избавил нас от предателя Гусева… Завтра я переправлю тебя к партизанам.
- А вы?
- Останусь здесь… Я ведь не один. И сейчас я нужен здесь. Когда ты будешь у партизан, я почувствую себя в полной безопасности.
- Почему?
- Не понимаешь? Ты же единственный человек в нашем городе, кто выслеживал меня.
Он тихо смеется и касается рукой моего плеча.
- Их было сто сорок три, - говорю я. - Сто сорок три человека. Нет, сто сорок четыре - я забыл Шевчука.
Он подымается со стула и, припадая на правую ногу, ходит по комнате.
- Сто сорок четыре тигра-людоеда! - произносит он задумчиво. - Эти уже не бросятся на людей, не нападут со спины… Да… Ты не побоялся положить голову в пасть тигра… Кончится война и, как знать, пожалуй, я возьму тебя в помощники…
И здесь я услышал отдаленный грохот двух взрывов, один за другим! Точно такой же грохот тридцать - сорок минут назад сотрясал на экране маленькие города Польши.
И, глядя на экран, немецкие офицеры восторженно кричали: «Зиг хайль!».
Взрывы точно разбудили меня, и я побежал по кривым закоулкам пригорода. На повороте я оглянулся и увидел далеко в городе огненный столб, словно смерч, подпирающий черное небо. Багровый дым пожарища затягивал звезды и отбрасывал на землю розоватую тень. Я добежал до знакомого дома, дверь была открыта, меня ждали. Человек, лицо его в темноте нельзя было рассмотреть, сжал меня в объятиях, и я почувствовал на щеке прикосновение его шершавых губ.
- Сработали! Обе сработали!…- восторженно прошептал он. - Какой взрыв! Какой отличный первомайский салют!..
…И вот мы сидим в темноте у окна, не отрывая глаз от багровых клубов дыма.
- Ты подложил их, как условились? - спрашивает человек.
- Да… Одну в ложу, где сидел генерал, другую в свою будку, за кресло…
- За кресло?
- Да. За то самое, куда я запихал в тот раз партизанскую листовку «Смерть немецким оккупантам!»
- Я уже сообщил куда следует, что ты избавил нас от предателя Гусева… Завтра я переправлю тебя к партизанам.
- А вы?
- Останусь здесь… Я ведь не один. И сейчас я нужен здесь. Когда ты будешь у партизан, я почувствую себя в полной безопасности.
- Почему?
- Не понимаешь? Ты же единственный человек в нашем городе, кто выслеживал меня.
Он тихо смеется и касается рукой моего плеча.
- Их было сто сорок три, - говорю я. - Сто сорок три человека. Нет, сто сорок четыре - я забыл Шевчука.
Он подымается со стула и, припадая на правую ногу, ходит по комнате.
- Сто сорок четыре тигра-людоеда! - произносит он задумчиво. - Эти уже не бросятся на людей, не нападут со спины… Да… Ты не побоялся положить голову в пасть тигра… Кончится война и, как знать, пожалуй, я возьму тебя в помощники…
ГЕНЕРАЛЬША
Четыре женщины бережно опустили гроб в могилу. - Да будет тебе земля пухом! - сказала Аксинья.- Прощай, милая! Комья сырой земли посыпались на неумело сколоченный гроб. Последней к могиле подошла женщина в кирзовых сапогах, повязанная черным платком. Она бросила в могилу ком земли, тяжело вздохнула и отошла в сторону. Женщины взялись за лопаты. Земля быстро заполнила неглубокую яму. Когда на месте, где только что золотились ромашки и синели колокольчики, появился могильный холмик, все пошли прочь. Впереди шла женщина в кирзовых сапогах, шла легкой неслышной походкой, словно боясь вспугнуть печальное безмолвие. Вдруг она резко остановилась, и когда с ней поравнялась Аксинья, гневно заговорила: - Почему вы медлили? Приди я два дня назад, все обернулось бы иначе. Она была бы жива! Аксинья всхлипнула: - Легко ли вас найти? Пока добрались, пока ты явилась… Что у нее было-то? - Аппендицит… Нужна была срочная операция… Кончиком платка Аксинья смахнула слезу. - Выходит, зря мы тебя потревожили… Не сердись. .. - Полно тебе, Ксюша… - Ладно, не буду… Мужик-то твой где? Прокофьевна сказала - военный он. - Военный… - Надо ж такое, чтоб ты в наш край попала! Как это ты исхитрилась? - Объяснила командованию, кто я, откуда, вот и все. Они вышли на пригорок. Внизу виднелись дома. - Немцы к вам не заглядывают? - Бог миловал. Да что им и делать у нас? Они, проклятущие, свое уже сделали! Сама видишь… Женщины спустились к деревне. У околицы Аксинья сказала: - Прокофьевна аж помолодела с твоего прихода. Неужли у матери родной не погостюешь? У нас безопасно, полицаев нет, староста - сама знаешь… - Нельзя! - сказала резко женщина. - Гостевать приеду после войны. Прощай, Ксюша. К ночи уйду… Она толкнула калитку и той же легкой, неслышной походкой поднялась на трухлявое крылечко…1. Рассказ обер-лейтенанта полиции безопасности Боргмана
 В девять утра меня вызвал начальник полиции безопасности штурмбаннфюрер Кауфман и приказал арестовать жену генерала Карева.
- Имеются сведения, - сказал начальник, что жена этого бандитского генерала внезапно покинула партизанский лес и направилась в деревню Липицы. Насколько мне известно, - начальник неожиданно хихикнул,- вы в свое время навестили это местечко, господин штурмфюрер…
Черт возьми! Действительно я побывал в этой деревушке! В августе сорок первого! И оставил после себя небольшую память! Приказал расстрелять всех мужиков. Потому что вблизи Липиц нашли убитых фельдфебеля и ефрейтора. Пришлось преподать этим русским кое-ка-кой урок. После расстрела мы устроили там неплохой костер! В результате уцелела одна улица, да и та обгоревшая. Жителей в Липицах осталось всего человек сорок, бабы с детьми. С тех пор прошло два года, и эта деревня не доставляла нам никаких хлопот. Но вот сегодня штурмбаннфюрер неожиданно заговорил о ней.
- Слушайте внимательно, - продолжал начальник.- Жена генерала Карева - врач. Ее возраст и внешность нам, к сожалению, не известны. Мы даже не знаем ее имени. До сих пор она нас не интересовала, но сегодня на рассвете мы получили шифровку, из которой явствует, что она находится в данный момент в Липицах. Мы не можем упустить такой случай.
Вы согласны со мной?
- Так точно, господин штурмбаннфюрер! Ее необходимо арестовать! - ответил я.
- Возникает естественный вопрос,- продолжал начальник.- Почему жена генерала Карева оказалась в этой деревне, где, как нам известно, осталось тридцать или сорок баб? Что она там делает? - Штурмбаннфюрер был когда-то учителем и каждое свое задание сопровождал пространными рассуждениями. - Ваше мнение, господин штурмфюрер?
- Возможно, что у партизан иссякли медикаменты- и она отправилась в населенный пункт, чтобы…
- Ерунда! - перебил начальник. - Медикаменты в русской деревне! Абсурд! Нет, нет и нет! Все гораздо проще. Будем рассуждать. Уничтожив мужское население этой деревни, мы, очевидно, не смогли уничтожить все нити, связывающие эту деревню с партизанами, которыми верховодит партизанский генерал Карев. Допускаете вы подобную мысль?
- Так точно, господин штурмбаннфюрер. Партизаны не могут существовать без связи с местным населением. ..
- Логично… - одобрил мои слова шеф.
- Но не кажется ли вам странным, господин штурмбаннфюрер, что для подобной связи направляется жена самого генерала?
- Вопрос логичен. Разумеется, Карева появилась в Липицах не для связи. Спрашивается, для чего же? Отвечаем. В этой деревне кто-то опасно заболел, быть может, потребовалась операция. Карев, желая привлечь на свою сторону население, приказывает собственной жене отправиться в Липицы. Значит, найти ее там не составит труда. Староста доложит вам, кто в деревне болен. Вот и все! Обнаружив больную, вы легко доберетесь до того, кто ее лечит.
- Разрешите действовать? - спросил я.
Щетинистые брови начальника дрогнули.
- Немедленно! - начальник встал. - Помните, господин обер-лейтенант, этой операции придается исключительно важное значение. Вы должны появиться в деревне незаметно и как можно скорее. Ну, а когда вы доставите сюда Кареву, она у нас заговорит! Мы из нее выжмем все! И где расположены партизанские отряды, и из кого они состоят, какие деревни их поддерживают, кто руководит этими шайками! Жена генерала знает многое. Теперь вы понимаете, господин штурмфюрер, какая обязанность ложится на вас?
Через час я с тремя полицаями был на пути в Липицы. Мы ехали в телеге. В деревенской тишине машину слышно за несколько километров. Этого достаточно, чтобы преступник успел скрыться или замести следы. На телегу же никто не обратит внимания. Что касается машины, то я отдал надлежащие приказания. Теперь я был уверен в успехе операции.
В этот день с утра шел дождь. Очень кстати! Мы накинули на себя дождевики, и невозможно было догадаться, кто едет на старой телеге.
В девять утра меня вызвал начальник полиции безопасности штурмбаннфюрер Кауфман и приказал арестовать жену генерала Карева.
- Имеются сведения, - сказал начальник, что жена этого бандитского генерала внезапно покинула партизанский лес и направилась в деревню Липицы. Насколько мне известно, - начальник неожиданно хихикнул,- вы в свое время навестили это местечко, господин штурмфюрер…
Черт возьми! Действительно я побывал в этой деревушке! В августе сорок первого! И оставил после себя небольшую память! Приказал расстрелять всех мужиков. Потому что вблизи Липиц нашли убитых фельдфебеля и ефрейтора. Пришлось преподать этим русским кое-ка-кой урок. После расстрела мы устроили там неплохой костер! В результате уцелела одна улица, да и та обгоревшая. Жителей в Липицах осталось всего человек сорок, бабы с детьми. С тех пор прошло два года, и эта деревня не доставляла нам никаких хлопот. Но вот сегодня штурмбаннфюрер неожиданно заговорил о ней.
- Слушайте внимательно, - продолжал начальник.- Жена генерала Карева - врач. Ее возраст и внешность нам, к сожалению, не известны. Мы даже не знаем ее имени. До сих пор она нас не интересовала, но сегодня на рассвете мы получили шифровку, из которой явствует, что она находится в данный момент в Липицах. Мы не можем упустить такой случай.
Вы согласны со мной?
- Так точно, господин штурмбаннфюрер! Ее необходимо арестовать! - ответил я.
- Возникает естественный вопрос,- продолжал начальник.- Почему жена генерала Карева оказалась в этой деревне, где, как нам известно, осталось тридцать или сорок баб? Что она там делает? - Штурмбаннфюрер был когда-то учителем и каждое свое задание сопровождал пространными рассуждениями. - Ваше мнение, господин штурмфюрер?
- Возможно, что у партизан иссякли медикаменты- и она отправилась в населенный пункт, чтобы…
- Ерунда! - перебил начальник. - Медикаменты в русской деревне! Абсурд! Нет, нет и нет! Все гораздо проще. Будем рассуждать. Уничтожив мужское население этой деревни, мы, очевидно, не смогли уничтожить все нити, связывающие эту деревню с партизанами, которыми верховодит партизанский генерал Карев. Допускаете вы подобную мысль?
- Так точно, господин штурмбаннфюрер. Партизаны не могут существовать без связи с местным населением. ..
- Логично… - одобрил мои слова шеф.
- Но не кажется ли вам странным, господин штурмбаннфюрер, что для подобной связи направляется жена самого генерала?
- Вопрос логичен. Разумеется, Карева появилась в Липицах не для связи. Спрашивается, для чего же? Отвечаем. В этой деревне кто-то опасно заболел, быть может, потребовалась операция. Карев, желая привлечь на свою сторону население, приказывает собственной жене отправиться в Липицы. Значит, найти ее там не составит труда. Староста доложит вам, кто в деревне болен. Вот и все! Обнаружив больную, вы легко доберетесь до того, кто ее лечит.
- Разрешите действовать? - спросил я.
Щетинистые брови начальника дрогнули.
- Немедленно! - начальник встал. - Помните, господин обер-лейтенант, этой операции придается исключительно важное значение. Вы должны появиться в деревне незаметно и как можно скорее. Ну, а когда вы доставите сюда Кареву, она у нас заговорит! Мы из нее выжмем все! И где расположены партизанские отряды, и из кого они состоят, какие деревни их поддерживают, кто руководит этими шайками! Жена генерала знает многое. Теперь вы понимаете, господин штурмфюрер, какая обязанность ложится на вас?
Через час я с тремя полицаями был на пути в Липицы. Мы ехали в телеге. В деревенской тишине машину слышно за несколько километров. Этого достаточно, чтобы преступник успел скрыться или замести следы. На телегу же никто не обратит внимания. Что касается машины, то я отдал надлежащие приказания. Теперь я был уверен в успехе операции.
В этот день с утра шел дождь. Очень кстати! Мы накинули на себя дождевики, и невозможно было догадаться, кто едет на старой телеге.
2. Рассказ Васи Правдина
 Бабка мне сказала, чтобы я шел за грибами, я и пошел. Есть-то ведь нечего. Места грибные я знаю, скоро насобирал корзинку и - домой. По дороге, конечно, выкупался, потому что я люблю купаться, когда дождик. В дождик - вода теплее. Вот иду я домой - слышу на дороге телега поскрипывает. Интересно, думаю, кто к нам едет? Потому что эта дорога только и ведет к нам в Липицы. Я, на всякий случай, залез в малинник, гляжу оттуда. Жду, когда телега покажется. Тут и дождь перестал, солнце пробилось. И я увидел телегу, на телеге четыре мужика едут. Что за люди - не разобрать: на всех дождевики с колпаками. Вот доехали они до малинника, где я спрятался, вдруг тот дядька, что лошадью правил, как заорет: «Тпру, стой, проклятущая!» Я гляжу из кустов, вижу, он с телеги соскочил и давай чересседельник поправлять, - видно, плохо затянули. А дождевик на дядьке по земле волочится, мешает. Он и скинул его на телегу. Тут я сразу понял, что это за люди. Вижу, у того дядьки повязка на рукаве и револьвер на боку со шнурком. Полицай это! Он дождевик сбросил, а другой мужик с телеги закричал, вроде как по-русски:
- Не смейт раздеться!
Могут увидайт!
Ясно - немец кричит. И дурак поймет, что едут к нам немцы с полицаями.
Я, конечно, сразу домой. Им-то по дороге минут сорок трюхать, а мне напрямки, по тропке, если изо всех сил, - минут десять!
Прибежал домой - сказать ничего не могу, задыхаюсь прямо.
Бабка даже испугалась.
- Что с тобой? - спрашивает.
Я говорю:
- Немцы к нам на телеге едут… и полицаи… Сам видел!
Бабка накинула платок - и вон из избы!
Бабка мне сказала, чтобы я шел за грибами, я и пошел. Есть-то ведь нечего. Места грибные я знаю, скоро насобирал корзинку и - домой. По дороге, конечно, выкупался, потому что я люблю купаться, когда дождик. В дождик - вода теплее. Вот иду я домой - слышу на дороге телега поскрипывает. Интересно, думаю, кто к нам едет? Потому что эта дорога только и ведет к нам в Липицы. Я, на всякий случай, залез в малинник, гляжу оттуда. Жду, когда телега покажется. Тут и дождь перестал, солнце пробилось. И я увидел телегу, на телеге четыре мужика едут. Что за люди - не разобрать: на всех дождевики с колпаками. Вот доехали они до малинника, где я спрятался, вдруг тот дядька, что лошадью правил, как заорет: «Тпру, стой, проклятущая!» Я гляжу из кустов, вижу, он с телеги соскочил и давай чересседельник поправлять, - видно, плохо затянули. А дождевик на дядьке по земле волочится, мешает. Он и скинул его на телегу. Тут я сразу понял, что это за люди. Вижу, у того дядьки повязка на рукаве и револьвер на боку со шнурком. Полицай это! Он дождевик сбросил, а другой мужик с телеги закричал, вроде как по-русски:
- Не смейт раздеться!
Могут увидайт!
Ясно - немец кричит. И дурак поймет, что едут к нам немцы с полицаями.
Я, конечно, сразу домой. Им-то по дороге минут сорок трюхать, а мне напрямки, по тропке, если изо всех сил, - минут десять!
Прибежал домой - сказать ничего не могу, задыхаюсь прямо.
Бабка даже испугалась.
- Что с тобой? - спрашивает.
Я говорю:
- Немцы к нам на телеге едут… и полицаи… Сам видел!
Бабка накинула платок - и вон из избы!
3. Рассказ старосты
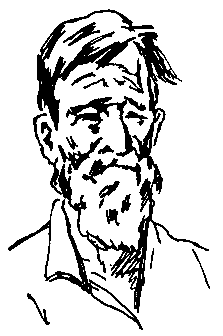 Телега остановилась у моего дома. Я в окошко глянул - с телеги один спрыгнул - и прямо в избу. Вошел- ни здрасте, ничего такогоприветного, а сразу дождевик скинул. Увидал я, кого бог принес: обер-лейтенанта немецкой полиции. Я, конечно, с приветом: «Чем, - говорю, - могу служить?» Он через стеклышки глазами по избе шарит, отвечать не торопится. Он молчит, и я молчу. Однако соображаю, что он меня молчанием хочет в испуг вогнать. Оно и верно, от такой молчанки пупырышки меж лопаток бегают. Память-то у меня не отшибло. Август сорок первого хорошо помню. Тогда немцы всех наших мужиков постреляли и деревню сожгли. А командовал немцами, говорят, тоже какой-то в очках. Я-то чудом жив остался. Потому как был в ту пору на пчельнике. Слышал тогда и выстрелы и дым черный видел.
Мой гость, значит, молчанкой забавлялся. Молчит, а глаз с меня не спускает, пугает, значит. Наконец бровь одну рыжеватую вверх поднял, заговорил.
Хоть и не чисто по-русски, однако понять можно.
- Ты есть староста? - спрашивает.
Отвечаю, как положено:
- Точно так, господин офицер. Я есть староста, по фамилии Андрей Петрович Правдин.
- Сообщай, староста, кто есть опасно больной в вашей деревня.
- Слава богу, - отвечаю, - все здоровы, только малость с голоду отощали.
А он:
- Думай хорошо. Говори скоро. Сколько есть в ваша деревня баба унд киндер - дети?
Отвечаю по-военному:
- В нашей деревне на сегодняшний день числится тридцать четыре бабы женского пола и девять ребятишек несовершеннолетнего возраста. Сейчас представлю список наличных жителей.
Встал я на скамью, достал из-за иконы лист с печатью, на листе все наши жители переписаны.
- Вот, - говорю, - пожалуйста.
Немец список взял - и опять за свое.
- Кто из бабы или дети есть сильно болен, кому надо делать операций?
А я свое:
- Все живы-здоровы, операций не требуется.
Тогда он губами этак, вроде улыбки, изобразил на
своем щекастом лице и новый вопрос задает:
- Кто в деревня есть посторонний?
- Нету, - отвечаю, - посторонних. У меня все по закону, все в соответствии!
Тут он погладил свою кобуру, вроде как приласкал, и снова:
- Нет посторонних? А доктор? В какой изба находится фрау доктор? Даю предупреждений: за обман тебе будет повешение. В какой изба есть доктор, кто есть болен?
Вижу, дело невеселое! Крещусь на икону и сам слышу, как голос мой дрожит:
- Господь правду видит! Не знаю, про что говорите, господин офицер. У нас кто заболеет - сам травкой лечится. Очень даже помогает…
Он губами пожевал, что-то бормотнул по-немецки, потом говорит:
- Выходи из дом вон!
Вышли мы из дома - телега на старом месте. К оглобле сено привязано, и лошадка то сено не спеша хрумкает. Телега, значит, на месте, а полицаев нет. Я глазами в одну сторону, в другую - и все понял. С того проклятого дня августа сорок первого года в Липицах наших после пожара только на единственной улице избы остались, да и то - по одной стороне. Сейчас это для полицаев куда как хорошо было! Один стал в начале улицы, другой в конце. И все! На запоре улица! «А где ж, - гадаю, - третий полицай?» Смекнул: на задах караулит, чтобы кто из баб огородами не ушел.
«Что, - думаю, - дальше будет?» А дальше - слышу грузовик где-то фурчит. Оглянуться не успел - подкатил грузовик к телеге. Полна машина солдат. Тут очкастый гаркнул им что-то по-своему, все солдаты с машины попрыгали и - по избам! Опять меж лопаток пупырышки у меня забегали да и ноги вроде как без костей стали - подгибаются.
Чтоб долго не тянуть, скажу-прочесали немцы все избы: и на чердаки заглянули, и в сараи, и в подпол лазали, и на сеновалах- все вилами истыкали, а потом выгнали всех баб из домов и построили в одну шеренгу перед телегой. А у телеги - полицаи и сам господин обер-лейтенант, список в руках держит и опять вроде улыбки губами изображает. Потом оперся на телегу и кобуру поглаживает. Это, видать, у него привычка такая.
Телега остановилась у моего дома. Я в окошко глянул - с телеги один спрыгнул - и прямо в избу. Вошел- ни здрасте, ничего такогоприветного, а сразу дождевик скинул. Увидал я, кого бог принес: обер-лейтенанта немецкой полиции. Я, конечно, с приветом: «Чем, - говорю, - могу служить?» Он через стеклышки глазами по избе шарит, отвечать не торопится. Он молчит, и я молчу. Однако соображаю, что он меня молчанием хочет в испуг вогнать. Оно и верно, от такой молчанки пупырышки меж лопаток бегают. Память-то у меня не отшибло. Август сорок первого хорошо помню. Тогда немцы всех наших мужиков постреляли и деревню сожгли. А командовал немцами, говорят, тоже какой-то в очках. Я-то чудом жив остался. Потому как был в ту пору на пчельнике. Слышал тогда и выстрелы и дым черный видел.
Мой гость, значит, молчанкой забавлялся. Молчит, а глаз с меня не спускает, пугает, значит. Наконец бровь одну рыжеватую вверх поднял, заговорил.
Хоть и не чисто по-русски, однако понять можно.
- Ты есть староста? - спрашивает.
Отвечаю, как положено:
- Точно так, господин офицер. Я есть староста, по фамилии Андрей Петрович Правдин.
- Сообщай, староста, кто есть опасно больной в вашей деревня.
- Слава богу, - отвечаю, - все здоровы, только малость с голоду отощали.
А он:
- Думай хорошо. Говори скоро. Сколько есть в ваша деревня баба унд киндер - дети?
Отвечаю по-военному:
- В нашей деревне на сегодняшний день числится тридцать четыре бабы женского пола и девять ребятишек несовершеннолетнего возраста. Сейчас представлю список наличных жителей.
Встал я на скамью, достал из-за иконы лист с печатью, на листе все наши жители переписаны.
- Вот, - говорю, - пожалуйста.
Немец список взял - и опять за свое.
- Кто из бабы или дети есть сильно болен, кому надо делать операций?
А я свое:
- Все живы-здоровы, операций не требуется.
Тогда он губами этак, вроде улыбки, изобразил на
своем щекастом лице и новый вопрос задает:
- Кто в деревня есть посторонний?
- Нету, - отвечаю, - посторонних. У меня все по закону, все в соответствии!
Тут он погладил свою кобуру, вроде как приласкал, и снова:
- Нет посторонних? А доктор? В какой изба находится фрау доктор? Даю предупреждений: за обман тебе будет повешение. В какой изба есть доктор, кто есть болен?
Вижу, дело невеселое! Крещусь на икону и сам слышу, как голос мой дрожит:
- Господь правду видит! Не знаю, про что говорите, господин офицер. У нас кто заболеет - сам травкой лечится. Очень даже помогает…
Он губами пожевал, что-то бормотнул по-немецки, потом говорит:
- Выходи из дом вон!
Вышли мы из дома - телега на старом месте. К оглобле сено привязано, и лошадка то сено не спеша хрумкает. Телега, значит, на месте, а полицаев нет. Я глазами в одну сторону, в другую - и все понял. С того проклятого дня августа сорок первого года в Липицах наших после пожара только на единственной улице избы остались, да и то - по одной стороне. Сейчас это для полицаев куда как хорошо было! Один стал в начале улицы, другой в конце. И все! На запоре улица! «А где ж, - гадаю, - третий полицай?» Смекнул: на задах караулит, чтобы кто из баб огородами не ушел.
«Что, - думаю, - дальше будет?» А дальше - слышу грузовик где-то фурчит. Оглянуться не успел - подкатил грузовик к телеге. Полна машина солдат. Тут очкастый гаркнул им что-то по-своему, все солдаты с машины попрыгали и - по избам! Опять меж лопаток пупырышки у меня забегали да и ноги вроде как без костей стали - подгибаются.
Чтоб долго не тянуть, скажу-прочесали немцы все избы: и на чердаки заглянули, и в сараи, и в подпол лазали, и на сеновалах- все вилами истыкали, а потом выгнали всех баб из домов и построили в одну шеренгу перед телегой. А у телеги - полицаи и сам господин обер-лейтенант, список в руках держит и опять вроде улыбки губами изображает. Потом оперся на телегу и кобуру поглаживает. Это, видать, у него привычка такая.
4. Снова рассказывает обер-лейтенант Боргман
Все шло по намеченному плану, я все точно рассчитал. Машина с зондеркомандой прибыла минута в минуту. И вот предо мною стоят все бабы из этой деревни. Я пересчитал их. Итог сошелся со списком. Налицо тридцать четыре бабы. Я рассуждал логично, как учил меня мой шеф. Передо мною стоят тридцать четыре бабы. Но мне известно, что здесь в Липицах находится жена генерала Карева. Значит, их должно быть тридцать пять. Напрашивается вывод: либо Карева успела скрыться, либо одна из липецких баб ушла рано утром в соседнюю деревню или в лес за грибами, а генеральша Карева преспокойно стоит передо мной, изображая деревенскую бабу. Я был склонен принять этот вариант. У Каревой не было возможности скрыться: мы появились в деревне неожиданно, полицаи немедленно замкнули улицу с обеих сторон, когда и как она могла скрыться? Нет, Карева стоит сейчас в этой шеренге, и моя задача ясна: обнаружить ее среди тридцати четырех грязных русских баб. Я посмотрел на старосту и сразу заметил, что он испуган. Мне даже стало весело: неужели этот старик надеется меня провести? Он-то отлично знает, что Карева здесь. Что ж, он получит то, что заслужил, - будет болтаться на перекладине собственных ворот! Я начал с того, что приказал каждой бабе пройти мимо меня, ведь походка может сказать о человеке много. Интеллигентная женщина, не знающая физического труда, ходит совсем не так, как деревенская баба. Я не сомневался, что походка выдаст Кареву. Они прошли передо мною -все тридцать четыре. Но, дьявол забери, резкого различия в их походке я не заметил. Они прошли, тупо глядя куда-то перед собой, точно меня здесь и не было. Я приказал им еще раз совершить эту прогулку. Очень хотелось подойти к Каревой и небрежно сказать: - Рад с вами познакомиться, фрау генеральша! Машина подана, прошу вас оказать мне честь - разделить мое общество! Снова прошли они передо мной, и снова я ничего не обнаружил. Неужели эта генеральша настолько хитра, что поняла мой замысел и подделалась под походку остальных? Ну что ж, с хитрым противником бороться интереснее! Тем более, если заранее знаешь, что останешься победителем. Я размышлял недолго: походку подделать легко, а руки? Руки крестьянки и руки женщины-врача? Что общего? Ничего! Придется рассмотреть шестьдесят восемь ладоней, но зато генеральша будет сегодня же доставлена в кабинет штурмбаннфюрера, а я получу право на дополнительную посылку родным в Штеттин. - Пусть каждая из этих баб подойдет ко мне! - приказал я.
б. Рассказ старой колхозницы Анны Правдиной
 А немецкий-то офицер приказал нам по очереди подходить к нему. Стали бабы к нему подходить, а он каждую за руки хватает и носом своим близоруким в них тычется, чего-то высматривает.
Я, конечно, рядом с дочкой стою. Она мне шепотком:
- Чего трясетесь, маманя? Не первый снег на голову…
А как не трястись, когда такое дело…
С краю Наталья Филиппова стояла. Ей первой и пришлось подходить. Смелая была баба! Из себя видная, статная. Идет к фрицу не спеша, на него не глядит, будто о чем-то своем думает. Подошла, остановилась, мы все ждем, что дальше будет.
- Руку! - приказывает немец.
Протягивает ему Наталья руку, ладонь лодочкой, будто здороваться собралась. Фриц очкастый руку схватил, ладонь наружу вывернул, через очки рассматривает. Некоторые бабы не выдержали, хохотнули, - дескать, смотри, какая цыганка приехала, по ладошке гадает. Фриц того смешка не заметил, а Петрович заметил, бо-роденкой взметнул: не до смеха, мол, плакать не пришлось бы!
Позыркал фриц на Натальину ладошку, потом приказывает ногу на колесо поставить. Поставила Наталья ногу на ступицу, говорит с усмешкой:
- Не взыщите, ноги-то не шибко чистые: обувку всю сносила, мыла тоже не купишь…
Не знаю, разобрал ли фриц, что она сказала, а только приказал ей отойти в сторону. Вторая, третья баба подходят к нему, и с ними такая же комедь. Мы стоим, никак не поймем, чего он там на руках-ногах такое выискивает.
Тут как раз и настал мой черед. Подошла я к немцу, сую руку ладонью вверх - на, смотри, гадай!
Немец повернулся к Петровичу, спрашивает:
- Кто такая?
- Правдина Анна. До войны телятницей в колхозе работала.
Стал фриц ладонь мою рассматривать. Недолго рассматривал. Провел, пес рыжий, пальцем, пощупал мозоли, глянул на мои ноги, что исполосовали синие жилы, и сразу головой мотнул - отходи, значит.
И надо же, тут как раз из двора Татьяны корова вышла-Красуля. На всю деревню только одна корова уцелела. Вышла - и прямым ходом к телеге, к оглобле, значит, где сено для лошади привязано. Подошла и давай сено хрупать, своя-то солома надоела.
Я от немца отошла, стала где положено, сама глаз с дочки не спускаю. Ее черед подходить. А немец - он уже уставился на нее, гадюка.
- Следующий! - кричит. Й стал протирать очки свои квадратные.
А немецкий-то офицер приказал нам по очереди подходить к нему. Стали бабы к нему подходить, а он каждую за руки хватает и носом своим близоруким в них тычется, чего-то высматривает.
Я, конечно, рядом с дочкой стою. Она мне шепотком:
- Чего трясетесь, маманя? Не первый снег на голову…
А как не трястись, когда такое дело…
С краю Наталья Филиппова стояла. Ей первой и пришлось подходить. Смелая была баба! Из себя видная, статная. Идет к фрицу не спеша, на него не глядит, будто о чем-то своем думает. Подошла, остановилась, мы все ждем, что дальше будет.
- Руку! - приказывает немец.
Протягивает ему Наталья руку, ладонь лодочкой, будто здороваться собралась. Фриц очкастый руку схватил, ладонь наружу вывернул, через очки рассматривает. Некоторые бабы не выдержали, хохотнули, - дескать, смотри, какая цыганка приехала, по ладошке гадает. Фриц того смешка не заметил, а Петрович заметил, бо-роденкой взметнул: не до смеха, мол, плакать не пришлось бы!
Позыркал фриц на Натальину ладошку, потом приказывает ногу на колесо поставить. Поставила Наталья ногу на ступицу, говорит с усмешкой:
- Не взыщите, ноги-то не шибко чистые: обувку всю сносила, мыла тоже не купишь…
Не знаю, разобрал ли фриц, что она сказала, а только приказал ей отойти в сторону. Вторая, третья баба подходят к нему, и с ними такая же комедь. Мы стоим, никак не поймем, чего он там на руках-ногах такое выискивает.
Тут как раз и настал мой черед. Подошла я к немцу, сую руку ладонью вверх - на, смотри, гадай!
Немец повернулся к Петровичу, спрашивает:
- Кто такая?
- Правдина Анна. До войны телятницей в колхозе работала.
Стал фриц ладонь мою рассматривать. Недолго рассматривал. Провел, пес рыжий, пальцем, пощупал мозоли, глянул на мои ноги, что исполосовали синие жилы, и сразу головой мотнул - отходи, значит.
И надо же, тут как раз из двора Татьяны корова вышла-Красуля. На всю деревню только одна корова уцелела. Вышла - и прямым ходом к телеге, к оглобле, значит, где сено для лошади привязано. Подошла и давай сено хрупать, своя-то солома надоела.
Я от немца отошла, стала где положено, сама глаз с дочки не спускаю. Ее черед подходить. А немец - он уже уставился на нее, гадюка.
- Следующий! - кричит. Й стал протирать очки свои квадратные.
6. Рассказ дочери Анны Правдиной
- Следующий! - крикнул обер-лейтенант и стал протирать свои очки. Я подошла к нему, он прямо впился в меня своими белесыми глазами. - Кто? - спрашивает старосту. - Правдина Дарья. В колхозе дояркой работала. - Руки! Я вытянула руки вперед, точно на уроке гимнастики. Не знаю, долго ли фашист рассматривал и ощупывал мою ладонь. Наверно, три-четыре секунды. Но мне они показались бесконечными. Руки у меня задрожали. Немец заметил это, усмехнулся, его глаза стали еще светлее. - Дрожишь! - сказал он. - Зо! Делай ладони наоборот! - Как это? - спросила я, потому что не поняла, чего он хочет. Стоявший рядом Петрович пояснил: - Господин офицер приказует тебе держать руки ладонями вниз. Я выполнила приказ и, впервые за долгое время, сама взглянула на свои руки. Какие они стали грубые, некрасивые! Немец разглядывал сквозь очки мои пальцы и вдруг стиснул их с такой силой, что я едва удержалась от крика. - Ноготь! - сказал он и ощерился. - Что «ноготь»? - спросила я и заметила, что от боли ногти мои побелели. - Ноготь! Ноготь!- твердил он, продолжая сжимать мою руку. А я ничего не понимала. - Грязь? Где грязь под твои ногти? Ты не имеешь грязь под ногти! Все бабы имеют грязь, а ты - нет! Ты не есть деревенская баба! Отвечай, кто ты есть?
 - Я - Дарья Правдина. В колхозе дояркой работала. Нам строго-настрого приказано было завсегда руки в чистоте держать. Я и привыкла. Теперь уже и коров не осталось, а все одно смотрю, чтобы руки чистые были, под ногтями чищу аккуратно…
- Я - Дарья Правдина. В колхозе дояркой работала. Нам строго-настрого приказано было завсегда руки в чистоте держать. Я и привыкла. Теперь уже и коров не осталось, а все одно смотрю, чтобы руки чистые были, под ногтями чищу аккуратно…
 - Стой на месте! - приказал он, не выпуская моей руки. - А ты подойди сюда! - это он приказал подружке моей - Аксинье Крупиной. Ксюша Крупа - звали мы ее в школе. Ксюша подошла и встала рядом со мной.
- Слушай мой слова! - сказал немец так тихо, что, кроме меня и Ксюши, никто не мог их расслышать.- Сейчас я буду задать тебе один вопрос. Если будешь отвечать неправда, тебе смерть! Ты понимай мой слова?
- Очень даже понимаю, - сказала Аксинья.
- Тогда отвечай, - немец говорил шепотом. - Отвечай, кто есть больной, кого лечит эта доктор?
- Какой доктор? Разве к нам кто приехал? - Она отвечала тоже шепотом. Можно было подумать, что разговаривают два заговорщика.
- К вам приехал вот эта доктор! Признавайс!
- Это вы Дашку доктором зовете! - вдруг громко закричала Ксюшка. - Нечего сказать, доктор!
- Перестать кричать! - прошипел немец.
Но Ксюша продолжала кричать еще громче, чтобы все слышали.
- Это же Дашка Правдина, доярка наша колхозная. Вдовая она. Муж ейный аккурат перед войной помер!
- Ступай на место! - рявкнул злобно немец.- Я сделала шаг назад, но он не выпустил моей руки. - Не ты на место, она!
Он смотрел в спину Ксюши злобным, неподвижным взглядом.
Когда она встала в шеренгу, он выпустил мою руку и коротко приказал:
- Покажи ноги!
Я поставила ногу на спицу колеса.
- Ты имеешь белый нога. Ты доила корова ногами тоже? Нога тебе тоже приказ давали держать чисто?
- Стояла в реке по колено, - белье полоскала. Вот грязь и смылась, - сказала я.
- Врешь! А загар на нога? Его тоже смыл вода? Я знаю, ты не есть деревенская баба, ты носишь ботинок! Сапог! Староста! Ты есть укрыватель преступных лиц! Какой дом живет эта доярка? Води в ее дом мой зольдат.
Обер сказал что-то фельдфебелю, и тот толкнул старика автоматом в спину. Опустив голову, Петрович повел фельдфебеля и двух солдат к нашему дому.
А обер продолжал свое:
- Ты имеешь очень белый нога! Это есть удивительно. Такой белый нога имеет только жена генерала! Только жена генерала! - повторил он, глядя мне прямо в лицо. - Фрау будет мне рассказать, почему она имеет такая белая ножка.
Он смотрел мне в лицо, а я смотрела на свои ноги и не знала, кого я больше ненавидела в эти минуты, немца или свои белые ступни.
- Ко мне загар не пристает, господин офицер. У меня и лицо плохо загорает. Просто обидно: у всех загорает, у меня - нет.
Немец стал поглаживать кобуру пистолета.
- Загар не пристает? А почему? Этому есть медицинский объяснений? Говори! Ты должен знать медицинский объяснений.
- Не знаю, господин офицер. А только не пристает, вот и все…
- Не знаешь! А я знаю! Твой нога белый, потому что не ходишь без ботинка. Все баба ходят здесь без ботинка, а ты - нет. Потому что без ботинка в лесу ходить больно…
- Я в лес, господин офицер, не хожу. Нам староста начисто запретил. Ребятишки ходят, а мы - нет. За это расстрел от властей может быть. Мы приказы сполняем…
- Староста будет повешен за преступный укрывательств! Сейчас мои зольдатен найдут в та изба твой медикамент унд инструмент для лечений. Они найдут твой сапог…
Он еще продолжал на меня кричать, когда вернулся Петрович с фрицами. Я, конечно, не поняла, что сказал фельдфебель, но я и так знала, что ничего они в нашей избе не найдут: ни лекарств, ни сапог…
Обер был в бешенстве. Он не хотел признать, что ошибся. Схватив Петровича за плечи, немец зарычал:
- Ваш деревня укрыл партизанский доктор! Гене* ральш! За это будет суд! Всем!
- Никого мы не укрывали! - хрипел в страхе Петрович.- Это Дашка, што ли, генеральша? Дашка? Докторша? Смехота!
- Ты будешь сильно смеяться в петля. Ты будешь висеть на свой ворота!
Петрович от страха забыл о всякой почтительности:
- Кого хошь спроси! - кричал он в отчаянии.- Дашку Правдину все знают! Знаменитая доярка! Навесь район - первая! Кого хошь спроси.
- Спрошу! - сказал обер. - Сейчас мы увидим метаморфоз: как коровий доярка станет генеральш. - Он сделал три шага вперед и обратился к женщинам.
- Вы есть шестный русский женщин. У вас есть маленький ребенки, и им без мама будет плохо, и им будет нехорошо видеть, как их мама будут здесь стреляйть. Мы будем вас стреляйть, если вы нас будете обманывайть. Кто говорить будет правда, тот будет получайть три метр мануфактур унд пять литр керосин.
Все, как по команде, уставились в землю, чтобы не встретиться взглядом с фашистом.
- Смотреть прямо в мой глаза! - немец подошел ближе к женщинам. - Мы знаем, что она есть жена генерал. И она есть доктор. Спрашиваю, как есть ее имя? Кто привел ее ваша деревня? Кто тот больной? Ну, отвечай первый ты! - Он ткнул пальцем на нашу соседку- Валю Липову.
Валя подняла глаза и четко проговорила:
- Дарья Правдина она. В деревне нашей всю жизнь живет. Я с ней на одной парте семь лет сидела…
- Следующий - отвечай!
- Доярка это наша… В бывшие времена…
- Следующий!
- Дашка это! До генеральши нос ейный не дорос!
Катя - дочка Петровича - скривила бледные губы и сердито сказала:
- Правдина это… Дарья! За пастухом покойным была замужем. Она у нас коровья генеральша!
Фашист переводил взгляд с одной бабы на другую.
- Значит, коровя генеральша? - переспросил он.
- Коровья! - подтвердила дочка Петровича. - Доярка!
Обер-лейтенант побагровел.
- Вы не говориль мне правды! Вы будет все иметь сильный наказаний. - Он круто повернулся ко мне…- Рад делать с вами знакомство, фрау генеральш, - сказал он, улыбаясь одними губами. - Машина подана, прошу вас делать мне честь…
Он подал знак фельдфебелю, тот схватил меня за руку и потащил к машине. И в ту же минуту раздался истошный крик:
- Доченька моя! Доченька!
Я еще не поняла, что случилось, как маманя схватила за рукав фельдфебеля. Фельдфебель остановился, заломив мне руки за спину. Маманя бросилась к оберу:
- Это моя доченька! Кого хошь спроси!
Офицер растерялся. Откуда у жены генерала, у доктора, здесь мать, какая-то темная, замызганная старуха. .. И неужели ни одна из баб не испугалась расстрела и все, решительно все готовы умереть, лишь бы не выдать чужого, не знакомого им человека. Этого не может быть!
Насупив брови, обер смотрел на мою маманю, потом переводил взгляд на меня, потом опять на маманю. Видно, он хотел убедиться, есть ли у нас в лицах что-нибудь схожее. Это не трудно было заметить: уж очень я похожа на мать. Даже родинки у нас над губой одинаковые. Немец, конечно, заметил сходство.
- Старуха тоже брать? - спросил фельдфебель.
- Подожди! - распорядился обер и облизнул свои тонкие губы. - Подожди!
Все молча ждали, что будет дальше. Фельдфебель продолжал держать меня за руки.
В этой напряженной тишине вдруг громко и тоскливо замычала Красуля. Обер вздрогнул, фельдфебель от неожиданности выпустил мою руку.
- Пристрели корову! - крикнул офицер.
Фельдфебель поспешно расстегнул кобуру.
Тут я услышала робкий голос Петровича:
- Недоеная она, господин офицер. Потому и мычит. Прикажите подоить, молочком парным солдатики побалуются.
Обер повернул голову к старосте. Он, должно быть, не сразу понял, что сказал Петрович.
- Недоеная она, - медленно повторил немец слова старосты. - Недоеная… Так… Сейчас будет интересный зрелищ. А ну иди сюда! - приказал он мне. - Значит, ты не есть жена генераль Карев?
- Смеетесь надо мной, господин офицер! Генералы на деревенских не женятся. Правдина я. Доярка бывшая.
- Сейчас я буду открывать твой глюпый обман. Подойди к корова.
Я подошла к Красуле. Она смотрела на меня скорбными фиолетовыми глазами.
- Начинай, - сказал немец.
Я не поняла, что он хочет.
- Я даль тебе приказаний доить эта корова! - сказал обер и склонил голову набок. Злорадная усмешка скривила его щекастое лицо.- Вы не выполняйт мой приказ, фрау генеральш. Вы умеете доить, как петух петь золовьем. Перед вами - коров. Ее мычание действует на мой нерв. Начинайте ее доить, или вы видайт последний раз эти изба. - Он простер руку в сторону замершей неподвижной толпы. - Ваша судьба не есть в моей власть. Я вас должен доставляйт в надлежащее место, абер судьба этих укрывателей есть в моя полной власть. Им всем будет страшный наказаний.
- За что вы так, господин офицер? Они говорили вам правду.
- Они обманывайт меня. Они называйт вас доярка.
- Так это же правда! Я и есть доярка!
Он опять по-петушиному склонил голову на сторону и скрипуче рассмеялся:
- Почему же вы боитесь доить? Выдойте эта корова. Мне есть интерес смотреть на это. Вы видаль корова только в кино. Начинайте делать доение, а я буду делать смех.
- Бабоньки, мне бы ведро абы подойник, - сказала я в толпу и погладила шелковистую морду Красу-ли. Корова перестала жевать, прикрыла свои большие выпуклые глаза и тихонько мыкнула.
- Сейчас, сейчас, - сказала я. - Потерпи минутку…
- Стой на месте! - приказал он, не выпуская моей руки. - А ты подойди сюда! - это он приказал подружке моей - Аксинье Крупиной. Ксюша Крупа - звали мы ее в школе. Ксюша подошла и встала рядом со мной.
- Слушай мой слова! - сказал немец так тихо, что, кроме меня и Ксюши, никто не мог их расслышать.- Сейчас я буду задать тебе один вопрос. Если будешь отвечать неправда, тебе смерть! Ты понимай мой слова?
- Очень даже понимаю, - сказала Аксинья.
- Тогда отвечай, - немец говорил шепотом. - Отвечай, кто есть больной, кого лечит эта доктор?
- Какой доктор? Разве к нам кто приехал? - Она отвечала тоже шепотом. Можно было подумать, что разговаривают два заговорщика.
- К вам приехал вот эта доктор! Признавайс!
- Это вы Дашку доктором зовете! - вдруг громко закричала Ксюшка. - Нечего сказать, доктор!
- Перестать кричать! - прошипел немец.
Но Ксюша продолжала кричать еще громче, чтобы все слышали.
- Это же Дашка Правдина, доярка наша колхозная. Вдовая она. Муж ейный аккурат перед войной помер!
- Ступай на место! - рявкнул злобно немец.- Я сделала шаг назад, но он не выпустил моей руки. - Не ты на место, она!
Он смотрел в спину Ксюши злобным, неподвижным взглядом.
Когда она встала в шеренгу, он выпустил мою руку и коротко приказал:
- Покажи ноги!
Я поставила ногу на спицу колеса.
- Ты имеешь белый нога. Ты доила корова ногами тоже? Нога тебе тоже приказ давали держать чисто?
- Стояла в реке по колено, - белье полоскала. Вот грязь и смылась, - сказала я.
- Врешь! А загар на нога? Его тоже смыл вода? Я знаю, ты не есть деревенская баба, ты носишь ботинок! Сапог! Староста! Ты есть укрыватель преступных лиц! Какой дом живет эта доярка? Води в ее дом мой зольдат.
Обер сказал что-то фельдфебелю, и тот толкнул старика автоматом в спину. Опустив голову, Петрович повел фельдфебеля и двух солдат к нашему дому.
А обер продолжал свое:
- Ты имеешь очень белый нога! Это есть удивительно. Такой белый нога имеет только жена генерала! Только жена генерала! - повторил он, глядя мне прямо в лицо. - Фрау будет мне рассказать, почему она имеет такая белая ножка.
Он смотрел мне в лицо, а я смотрела на свои ноги и не знала, кого я больше ненавидела в эти минуты, немца или свои белые ступни.
- Ко мне загар не пристает, господин офицер. У меня и лицо плохо загорает. Просто обидно: у всех загорает, у меня - нет.
Немец стал поглаживать кобуру пистолета.
- Загар не пристает? А почему? Этому есть медицинский объяснений? Говори! Ты должен знать медицинский объяснений.
- Не знаю, господин офицер. А только не пристает, вот и все…
- Не знаешь! А я знаю! Твой нога белый, потому что не ходишь без ботинка. Все баба ходят здесь без ботинка, а ты - нет. Потому что без ботинка в лесу ходить больно…
- Я в лес, господин офицер, не хожу. Нам староста начисто запретил. Ребятишки ходят, а мы - нет. За это расстрел от властей может быть. Мы приказы сполняем…
- Староста будет повешен за преступный укрывательств! Сейчас мои зольдатен найдут в та изба твой медикамент унд инструмент для лечений. Они найдут твой сапог…
Он еще продолжал на меня кричать, когда вернулся Петрович с фрицами. Я, конечно, не поняла, что сказал фельдфебель, но я и так знала, что ничего они в нашей избе не найдут: ни лекарств, ни сапог…
Обер был в бешенстве. Он не хотел признать, что ошибся. Схватив Петровича за плечи, немец зарычал:
- Ваш деревня укрыл партизанский доктор! Гене* ральш! За это будет суд! Всем!
- Никого мы не укрывали! - хрипел в страхе Петрович.- Это Дашка, што ли, генеральша? Дашка? Докторша? Смехота!
- Ты будешь сильно смеяться в петля. Ты будешь висеть на свой ворота!
Петрович от страха забыл о всякой почтительности:
- Кого хошь спроси! - кричал он в отчаянии.- Дашку Правдину все знают! Знаменитая доярка! Навесь район - первая! Кого хошь спроси.
- Спрошу! - сказал обер. - Сейчас мы увидим метаморфоз: как коровий доярка станет генеральш. - Он сделал три шага вперед и обратился к женщинам.
- Вы есть шестный русский женщин. У вас есть маленький ребенки, и им без мама будет плохо, и им будет нехорошо видеть, как их мама будут здесь стреляйть. Мы будем вас стреляйть, если вы нас будете обманывайть. Кто говорить будет правда, тот будет получайть три метр мануфактур унд пять литр керосин.
Все, как по команде, уставились в землю, чтобы не встретиться взглядом с фашистом.
- Смотреть прямо в мой глаза! - немец подошел ближе к женщинам. - Мы знаем, что она есть жена генерал. И она есть доктор. Спрашиваю, как есть ее имя? Кто привел ее ваша деревня? Кто тот больной? Ну, отвечай первый ты! - Он ткнул пальцем на нашу соседку- Валю Липову.
Валя подняла глаза и четко проговорила:
- Дарья Правдина она. В деревне нашей всю жизнь живет. Я с ней на одной парте семь лет сидела…
- Следующий - отвечай!
- Доярка это наша… В бывшие времена…
- Следующий!
- Дашка это! До генеральши нос ейный не дорос!
Катя - дочка Петровича - скривила бледные губы и сердито сказала:
- Правдина это… Дарья! За пастухом покойным была замужем. Она у нас коровья генеральша!
Фашист переводил взгляд с одной бабы на другую.
- Значит, коровя генеральша? - переспросил он.
- Коровья! - подтвердила дочка Петровича. - Доярка!
Обер-лейтенант побагровел.
- Вы не говориль мне правды! Вы будет все иметь сильный наказаний. - Он круто повернулся ко мне…- Рад делать с вами знакомство, фрау генеральш, - сказал он, улыбаясь одними губами. - Машина подана, прошу вас делать мне честь…
Он подал знак фельдфебелю, тот схватил меня за руку и потащил к машине. И в ту же минуту раздался истошный крик:
- Доченька моя! Доченька!
Я еще не поняла, что случилось, как маманя схватила за рукав фельдфебеля. Фельдфебель остановился, заломив мне руки за спину. Маманя бросилась к оберу:
- Это моя доченька! Кого хошь спроси!
Офицер растерялся. Откуда у жены генерала, у доктора, здесь мать, какая-то темная, замызганная старуха. .. И неужели ни одна из баб не испугалась расстрела и все, решительно все готовы умереть, лишь бы не выдать чужого, не знакомого им человека. Этого не может быть!
Насупив брови, обер смотрел на мою маманю, потом переводил взгляд на меня, потом опять на маманю. Видно, он хотел убедиться, есть ли у нас в лицах что-нибудь схожее. Это не трудно было заметить: уж очень я похожа на мать. Даже родинки у нас над губой одинаковые. Немец, конечно, заметил сходство.
- Старуха тоже брать? - спросил фельдфебель.
- Подожди! - распорядился обер и облизнул свои тонкие губы. - Подожди!
Все молча ждали, что будет дальше. Фельдфебель продолжал держать меня за руки.
В этой напряженной тишине вдруг громко и тоскливо замычала Красуля. Обер вздрогнул, фельдфебель от неожиданности выпустил мою руку.
- Пристрели корову! - крикнул офицер.
Фельдфебель поспешно расстегнул кобуру.
Тут я услышала робкий голос Петровича:
- Недоеная она, господин офицер. Потому и мычит. Прикажите подоить, молочком парным солдатики побалуются.
Обер повернул голову к старосте. Он, должно быть, не сразу понял, что сказал Петрович.
- Недоеная она, - медленно повторил немец слова старосты. - Недоеная… Так… Сейчас будет интересный зрелищ. А ну иди сюда! - приказал он мне. - Значит, ты не есть жена генераль Карев?
- Смеетесь надо мной, господин офицер! Генералы на деревенских не женятся. Правдина я. Доярка бывшая.
- Сейчас я буду открывать твой глюпый обман. Подойди к корова.
Я подошла к Красуле. Она смотрела на меня скорбными фиолетовыми глазами.
- Начинай, - сказал немец.
Я не поняла, что он хочет.
- Я даль тебе приказаний доить эта корова! - сказал обер и склонил голову набок. Злорадная усмешка скривила его щекастое лицо.- Вы не выполняйт мой приказ, фрау генеральш. Вы умеете доить, как петух петь золовьем. Перед вами - коров. Ее мычание действует на мой нерв. Начинайте ее доить, или вы видайт последний раз эти изба. - Он простер руку в сторону замершей неподвижной толпы. - Ваша судьба не есть в моей власть. Я вас должен доставляйт в надлежащее место, абер судьба этих укрывателей есть в моя полной власть. Им всем будет страшный наказаний.
- За что вы так, господин офицер? Они говорили вам правду.
- Они обманывайт меня. Они называйт вас доярка.
- Так это же правда! Я и есть доярка!
Он опять по-петушиному склонил голову на сторону и скрипуче рассмеялся:
- Почему же вы боитесь доить? Выдойте эта корова. Мне есть интерес смотреть на это. Вы видаль корова только в кино. Начинайте делать доение, а я буду делать смех.
- Бабоньки, мне бы ведро абы подойник, - сказала я в толпу и погладила шелковистую морду Красу-ли. Корова перестала жевать, прикрыла свои большие выпуклые глаза и тихонько мыкнула.
- Сейчас, сейчас, - сказала я. - Потерпи минутку…
7. Снова рассказывает староста
Подойник притащила Катька - моя дочка. Доярка села на корточки, провела ладонью по вымени и начала доить. «Дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь!» - били струйки по дну подойника. Я стоял и радовался: ай да баба! Утерла немцу нос! А немец только зенки таращит! Опять стал протирать очки, ровно глазам своим не верит. Потом не выдержал, нагнулся, стал смотреть, как наша доярка орудует, как у нее все ладно получается. И бабы повеселели, хоть и не удивились. А чего удивляться-то! На наших глазах выросла девка. Про нее и в газетах печатали, какая она передовая. Немец чего-то полицаям бормочет, спрашивает. А полицаи только руками разводят; дескать, доит баба по всем правилам… И верно, только и слышно, как струйки дзенькают в подойник. А кончила доить, поднялась, спрашивает вежливо обера: - Не желаете ли молочка парного, господин офицер? Тот на нее через очки так зырнул, что и мне не по себе стало! Убедился немец, что она и впрямь доит, как на гармони играет! Мы уж думали, что все, слава богу, обошлось, а только обер, собачья душа, не успокоился. Не хочется ему в дураках оставаться. Вот он и говорит: - Корова доить, госпожа генеральш, вы и у партизан могли научиться. Нам известно, что в партизанских лесах есть коров. - Неужели, - отвечает она, - у партизан коров доить некому, акромя генеральской жены? - Прикусай свой язык! - кричит немец. - Сейчас будет тебе еще один проверк! Раз ты есть деревенский баба, значит, должен уметь всякое! Полицаи, каиново семя, гудут в лад немцу: - Ясно, должна уметь всякое. - И чего-то ему нашептывают. Фашист говорит: - Повернись спиной! Побледнела она, - видно, решила, что фашист ей в затылок выстрелит. А тот вдруг приказует мне: - Распрягай коня! - Слушаюсь, - говорю, а сам не понимаю, чего он затеял. Распряг я того жеребца, стою, держу за узду. Полицай командует: - Разнуздай! Выводи из оглобель! Сделал, как приказано, жду новых распоряжений. - Можете вертеть себя, фрау генеральш, - говорит фашист. - Если ты есть деревенский баба, тогда запрягай этот жеребец в телега, а мы будем смотрейт. Правдина ему отвечает: - Это нам, господин офицер, дело привычное, это у нас любая колхозница может… И, слова больше не сказав, подымает с земли седёлку, подтягивает подпругу и за хомут берется. Тут офицер и полицаи шары свои выкатили, ждут, как она опростоволосится. Кто лошадь запрягал, тот знает -поначалу хомут-то надо перевернуть, чтобы узкая его сторона внизу оказалась, да так и надеть, а уж потом на шее вертануть широкой частью вниз. Сделала она все как надо. А чего ей не сделать-то, не впервой! Полицаи только крякнули да переглянулись. - Дальше! - командует полицай. - Дальше-то чего делать станешь? Этот выродок думал, что она случайно смикитила, как хомут надевать. А дальше ведь опять закавыка. Кто ту закавыку не знает, тот хоть год вертись у телеги - запряжки не получится. Незнающий, если и напялит с грехом пополам хомут, тут же обязательно станет засупонивать его. А коли хомут засупонишь, ни в жизнь потом дугу на место не приладишь. Ну, она, конечно, сделала все, как полагается: поначалу дугу приладила, опосля засупонила хомут, да не как-нибудь, а на манер заправского мужика: как засупонивать стала, ногой в хомут уперлась, чтобы до отказа сошелся. Сделала так, взнуздала коня, приладила к кольцам вожжи и обернулась к фашисту. - Пожалуйте, - говорит, - можете ехать, господин офицер… У немца аж очки с носа свалились!
8. Рассказывает снова обер-лейтенант Боргман
- Запрягла коня по всем правилам, - сказал мне полицай. Я это видел и сам. Видел, с какой уверенностью обращалась она с лошадью, с упряжью. Как все это объяснить? Я вспомнил уроки своего шефа. Надо разобраться во всем логично. Каким образом в Липицах оказалась мать генеральши? Почему интеллигентная женщина - доктор, умеет доить коров? Запрягать лошадей? Как объяснить все это? Сведения о приходе Каревой в Липицы мы получили от человека, заброшенного нами к партизанам. Он ошибиться не мог. Остается лишь одно: ошибся шифровальщик. И не удивительно: названия русских деревень все какие-то одинаковые: Лугова, Лигова, Луговая, Лаговая… Я поспешил вынуть из планшета карту района. Так и есть! В сорока километрах от деревни Липицы значилось село Лапицы. Неужели жена Карева отправилась в Лапицы - и я все время бегу по ложному следу? Нельзя было медлить ни минуты! Но было в этой чертовой доярке что-то неуловимое, отличавшее ее от других баб. И я не мог позволить себе рисковать. - Грузиться в машину! - приказал я солдатам и сказал старосте: - Эту доярку запрешь в своем доме! Выпустишь ее, когда стемнеет. Если нарушишь приказ - виселица тебе готова! Мой расчет был прост. Если Карева не обнаружится в Лапицах, я привезу шефу эту доярку. Ее пристрелят, а по начальству доложат, что Карева убита, так как при аресте оказала вооруженное сопротивление. Я сел в шоферскую кабину. - Быстро в село Лапицы! - приказал я. - Отсюда - сорок три километра…
* * *
Она сидела в командирской землянке усталая, взволнованная. - Товарищ Карев скоро освободится,- сказал начальник штаба. - Кончит допрос и придет.
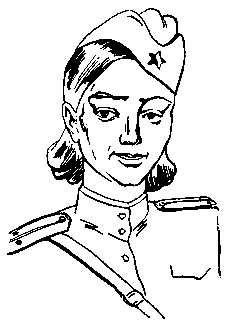 - Какой допрос?
- Ах да, вы же не знаете! Вчера наши ребята устроили засаду у Лапиц и подорвали машину с немцами. Только два фрица - шофер и обер-лейтенант - остались живы. Товарищ генерал еще вечером их допрашивал, вчера…
- Стоящие фрицы?
- Скоро вы сами их увидите. От обера мы добились неоценимых сведений!
- А именно?
- А то, что немцам удалось забросить к нам предателя. Да еще с передатчиком! Этот гад уже арестован!
- Понятно!-проговорила она, резко поднявшись со скамьи, но тут же села обратно. Натруженные ноги отказывались держать ее. - Теперь для меня кое-что прояснилось… - Она не замечала, что говорит вслух, и удивилась, когда начштаба, заинтригованный ее словами, спросил:
- Что прояснилось?
Она сняла черный платок и встряхнула головой, стараясь отогнать тяжелую, липкую сонливость.
- Чуть-чуть отдохну и расскажу…
- С вашего разрешения я пойду сменить генерала. Отдыхайте!
Он козырнул и вышел из землянки…
- Какой допрос?
- Ах да, вы же не знаете! Вчера наши ребята устроили засаду у Лапиц и подорвали машину с немцами. Только два фрица - шофер и обер-лейтенант - остались живы. Товарищ генерал еще вечером их допрашивал, вчера…
- Стоящие фрицы?
- Скоро вы сами их увидите. От обера мы добились неоценимых сведений!
- А именно?
- А то, что немцам удалось забросить к нам предателя. Да еще с передатчиком! Этот гад уже арестован!
- Понятно!-проговорила она, резко поднявшись со скамьи, но тут же села обратно. Натруженные ноги отказывались держать ее. - Теперь для меня кое-что прояснилось… - Она не замечала, что говорит вслух, и удивилась, когда начштаба, заинтригованный ее словами, спросил:
- Что прояснилось?
Она сняла черный платок и встряхнула головой, стараясь отогнать тяжелую, липкую сонливость.
- Чуть-чуть отдохну и расскажу…
- С вашего разрешения я пойду сменить генерала. Отдыхайте!
Он козырнул и вышел из землянки…
* * *
- Расскажи, расскажи подробнее! - Кареву казалось, что жена его чего-то недоговаривает. - Неужели этот немец такой простофиля? - Отнюдь! По-своему он даже хитер и находчив… - Так почему же он не распознал тебя? У него, как я сейчас выяснил, были точные сведения. - Потому что я говорила ему правду. Только когда «представлялась», позволила себе назваться именем покойной подруги. И все мои земляки тоже говорили обо мне правду. - Ничего не понимаю! Какую правду? - Рассказали ему, кем я была в Липицах до поступления в медицинский институт, познакомили его с моей мамой… - Так почему же он решил, что ты - не ты? - По неоспоримым фактам. Он убедился, что я умею доить коров и запрягать лошадей… - Не возьму в толк! При чем тут коровы и лошади? - Да при том же! У этого выродка свои незыблемые понятия. Он видел многих генералов - немецких, английских, итальянских, французских. Видел их жен. И он не может, понимаешь, не может представить, что жена генерала еще недавно была обычной крестьянкой. Жила в деревне, доила коров, жала рожь и даже косила. Для него это непостижимо! Немыслимо! Так же, как нам немыслимо представить жену Рокфеллера, моющую в кухне пол. Понял теперь, почему я сижу с тобой, вместо того чтобы сидеть в гестапо? - Да… - задумчиво отозвался генерал. - Очевидно, такое выше их понимания. Интересно, что за столько лет ты ничего не забыла, смогла все это проделать без всякого труда. - Должно быть, это на всю жизнь… - А знаешь, я, пожалуй, тоже смог бы, - продолжал так же задумчиво Карев. Она подняла на мужа недоумевающий взгляд: - Что бы ты смог? - Сработать на токарном станке любую деталь. Подумаешь, всего двадцать один год, как оставил цех..
Последние комментарии
2 часов 22 минут назад
6 часов 37 минут назад
6 часов 47 минут назад
6 часов 52 минут назад
7 часов 12 минут назад
7 часов 21 минут назад